Пиратская вольница. Компиляция. Книги 1-14 [Феликс В Крес] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Роберт Штильмарк Наследник из Калькутты
Вступление Джентльмен и слуга
Горькая услада воспоминаний…Два человека осторожно шли каменистой тропою к небольшой бухте между скалами. Высокий горбоносый джентльмен в темно-зеленом плаще и треугольной шляпе шагал впереди. Из-под шляпы блестела серебром косица парика, туго перехваченная черной лентой, чтобы не растрепал ветер. Морские сапоги с поднятыми отворотами не мешали упругой поступи человека. Эту походку вырабатывал не паркет гостиных, а шаткий настил корабельной палубы. Спутник человека в плаще, красивый юноша в кафтане грума, нес за ним подзорную трубу в черном футляре и охотничье ружье. Ствол ружья был из лучшей стали – «букетного дамаска»; гладко отполированный приклад украшали перламутровые инкрустации. Ремня и даже ременных ушек – антабок – у этого ружья не имелось: владельцу не было нужды таскать свое охотничье снаряжение на собственных плечах – он не выходил на охоту без оруженосца. Полукружие открытой бухты окаймляли серые гранитные утесы. Рыбаки прозвали ее бухтой Старого Короля: зубчатая вершина срединного утеса напоминала корону. Над серо-зеленой, пахнущей йодом водой низко носились чайки. Утро выдалось пасмурное, накрапывал дождь. Летом такая погода была обычной здесь, в Северной Англии, на побережье Ирландского моря. Первый выстрел отозвался эхом в пустынных скалах. Потревоженная стая чаек взмыла ввысь и с пронзительно резкими криками разлетелась врассыпную. Отдельными маленькими стайками птицы понеслись к соседним утесам и там, на другой стороне бухты, вновь стали снижаться. Джентльмен, очевидно, промахнулся: ни одна подстреленная птица не трепетала на вспененной воде. – Ружье перезаряжено, ваша милость! – Молоденький грум протянул своему хозяину ружье, готовое к новому выстрелу; стрелок и его спутник уже достигли вершины невысокого утеса и смотрели вниз. – Птицы сейчас успокоятся и опять слетятся. – Охота не бывает для меня удачной, если я промахнулся с первого выстрела, – отвечал джентльмен. – Пожалуй, наша прогулка нынче вообще бесполезна: ни одного паруса не видно на горизонте. Вероятно, и наш «Орион» отстаивается где-нибудь на якоре. Но все же я побуду здесь, послежу за горизонтом. Оставь ружье у себя, Антони. Подай подзорную трубу и подожди меня внизу, у лошадей. Грум вручил господину футляр с раздвижной трубой и стал спускаться на тропу. Шорох осыпающихся из-под его ног камешков и шелест кустарника вскоре стихли внизу. Джентльмен остался на утесе один. Под скалами беспокойно ворочалось море. Туча с океана, медлительно разрастаясь, кутала изломы побережья. Очертания дальних мысов и мелких островов постепенно скрывались в полосе дождя и тумана. Из-под этой низкой пелены возникали ряды бурых морских валов; берег раскрывал им навстречу каменные объятия заливов и бухт. Неторопливо взмахивая косматыми гривами, волны таранили подножие утеса. Стоявшему на вершине человеку с подзорной трубой казалось, что сам утес, словно корабль, движется навстречу океанским валам, рассекая их каменной грудью, как форштевнем судна. Порывы ветра рассеивали в воздухе тончайшую пыль соленых брызг, и она оседала на его жестких, курчавых бакенбардах. Не отрываясь глядел он на прибой и считал «девятые» валы, самые крупные и гривастые. Разбившись об утес, волна откатывалась и до тех пор волочила за собою назад, в море, валуны и гравий, пока новый кипящий вал не подхватывал эти камни, чтобы опять швырнуть их к подножию скалы… Мысли человека уже далеки от этой бухты, от серых утесов и чаек с пронзительными голосами; ничего не различает он вокруг, кроме сердитых косматых гребней. Под ним уже не скала! Ему вспоминается давно погибший корабль… Снова, как встарь, стоит он, широко расставив ноги, у бушприта накренившегося, словно летящего по волнам судна. Ветер свистит в снастях, наполняя чуть зарифленные паруса… Воды теплого моря фосфоресцируют за бортом. Над мачтами, среди глубокой черноты ночного неба, он видит не трехзвездный пояс Ориона, а мерцающее золото Южного Креста. Он верил всегда, что среди светил этих двух красивейших созвездий северного и южного небосвода находится и его счастливая звезда, звезда его удачи! Все дальше и дальше от английских берегов уносит человека призрачный корабль его воспоминаний…Альфред де Мюссе
…Третий месяц шхуна находится в плавании. После нескольких коротких остановок в незначительных портах и укромных бухтах западного побережья Африки шхуна обогнула мыс Доброй Надежды и, посетив южную часть Мадагаскара, углубилась в воды Индийского океана. Капитан шхуны, одноглазый испанец Бернардито Луис эль Горра, набрал добрых молодцов для дальнего рейса. Сорок шесть матросов, татуированных с ног до головы, понюхавших пороху и знающих толк в погоде; старик боцман, прозванный за свирепость Бобом Акулой; помощник капитана Джакомо Грелли, заслуживший в абордажных схватках кличку Леопард Грелли, и, наконец, сам Бернардито, Одноглазый Дьявол, – таков был экипаж «Черной стрелы». Уже больше двух недель прошло с того раннего утра, когда скалистое побережье с Игольным мысом*["1], где в голубой беспредельности вечно спорят друг с другом воды двух океанов, растаяло на юго-западе за кормой шхуны, но еще ни одно неохраняемое торговое судно не повстречалось со шхуной в просторах Индийского океана. – Кровь и гром! – ругался на баке Рыжий Пью, отшвырнув на палубу оловянную кружку. – Какого, спрашивается, дьявола затащил нас Бернардито на своей посудине в эту акулью преисподнюю? Испанские дублоны звенят, по-моему, не хуже, чем индийские рупии! – Вот уже третий месяц я плаваю с вами, но еще ни один фартинг не западал за подкладку моих карманов! – подхватил собеседник Рыжего Пью, тощий верзила с золотой серьгой в ухе, прозванный командой Джекобом Скелетом. – Где же они, эти веселые желтые кружочки и красивые радужные бумажки? С чем я появлюсь в таверне «Соленый пудель», где сам Господь Бог получает свой пунш только за наличные? Я спрашиваю, где наша звонкая радость? День близился к концу. Солнце стояло еще высоко, но скрывалось в туманном мареве. С утра капитан уменьшил порции воды и вина, выдаваемые команде. Томимые жаждой матросы работали вяло и хмуро. Влажный горячий воздух расслаблял людей. Легкий бриз от берегов Мадагаскара наполнял паруса, но это дуновение было таким теплым, что и оно не освежало разгоряченных лиц и тел. – Сядем, Джекоб. Здесь, под шлюпкой, прохладнее. Через полчаса начинается наша вахта, а горло сухое, точно я изжевал и проглотил Библию. Топор и виселица! Когда Черный Вудро был нашим боцманом, у него всегда находилась для меня лишняя пинта сухого арагонского. – Потише, Пью! Говорят, капитан не любит, когда поминают Вудро или Джузеппе. – Здесь нас никто не слышит. – Скажи мне, Пью, верно ли толкуют ребята, что Вудро и Джузеппе протянули лапу за кожаным мешком Бернардито? Рыжий Пью размазал жирной ладонью капли пота на медном лбу. – Если бы эти старые волки остались в нашей стае, мы сейчас не болтались бы в этой индийской лоханке, как сухая пробка, и ни в чем не терпели бы нужды. Но, Джекоб, насчет кожаного мешка Бернардито я советую тебе до поры до времени помалкивать. У Бернардито длинные руки, и он умеет быстро спускать курок… Я-то больше года хожу на «Стреле» и видел этот мешок своими глазами, но разрази меня гром, если я сболтну о нем хоть словечко! А между тем я даже смотрел однажды в окно капитанской каюты, когда Одноглазый развязывал свой мешок… Дуновение ветра качнуло шхуну, и в борт сильнее плеснула волна. Рыжий Пью умолк и огляделся вокруг. – Послушай, Пью, вчера вечером Леопард Грелли, помощник капитана, подозвал меня потолковать кое о чем, – тихо сказал Джекоб. – Сдается мне, что и он недолюбливает Одноглазого. Грелли говорит, что Вудро и Джузеппе были настоящими парнями… Расскажи-ка мне, Пью, за что Бернардито высадил их на берег? – В точности этого не знает никто, но кое-что я тебе открою. Только смотри держи язык за зубами, не то и Леопард не поможет: пошлет нас Бернардито на дно к индийскому черту да еще, пожалуй, рты позашивает! Одноглазый не знает пощады! – Пусть мне придется всю жизнь пить козье молоко вместо джина, если я проболтаюсь! – Так вот, Джекоб, перед началом этого рейса наша «Стрела» угодила в облаву… – Об этом я слыхал. Ребята хвастают, будто «Стрела» подралась чуть ли не с целой эскадрой. – Что? Хвастают? Ну, Скелет, ты, видно, еще не знаешь Одноглазого! Правда, с ним надо всегда держать ухо востро, потому что он и спит с пальцем на собачке, но уж моряк он – какого не сыщешь ни в одном королевском флоте, клянусь утробой! – Отчего ж вы удрали? – Отчего удрали? Хотел бы я посмотреть, как вот такой храбрец вроде тебя, Джекоб, подрался бы на нашей посудине с британским фрегатом и французским двухпалубным бригом! Эх и славное было дело! Только туман нас тогда и выручил. С дыркой в корме мы все-таки убрались от француза в узкую каталонскую бухту… Бернардито славно одурачил всех гончих собак от Крита до Гибралтара! Две недели они искали нас старательнее, чем трезвый матрос перед прилавком ищет затерявшийся в карманах пенс, но в зубах у них Одноглазый оставил только выбранный клок шерсти да еще напоследок выдержал бой в проклятой бухте со сторожевым испанским корветом. Воспоминания вызвали у Рыжего Пью прилив гордости. Повествуя, он размахивал руками перед лицом Джекоба. Тот невозмутимо сопел трубкой. Рассказчик заложил за щеку порцию жевательного табаку с бетелем*["2] и продолжал: – Вот тогда капитан и надумал совсем покинуть доброе Средиземное море и идти сюда, в индийские воды. А штурман Джузеппе Лорано и боцман Вудро Крейг не соглашались. Бернардито готовился ночью проскочить Гибралтар, а Вудро и Джузеппе стали подговаривать команду против него. У нас на шхуне было чем поживиться! В трюмах лежала неплохая добыча с греческого судна… И вот, когда «Стрела» бросила якорь в каталонской бухте и мы начали штопать корму, Бернардито собрал нас всех ночью на юте и сказал: «Добычу делить не будем!» – И с таким капитаном ты ходишь больше года! Сакраменто! Да я бы… – Погоди ты, храбрец! Капитан сказал, что товар нужно продать в Португалии, на эти деньги подлатать шхуну, купить припасы и оснастить «Стрелу» в дальний рейс. – Ну, а вы что же? – Да, видишь, спорить с ним открыто еще никто не пробовал. Но в ту ночь Джузеппе Лорано и Черный Вудро задумали прикончить его тайком. А штурвальный Фернандо Диас, которого Бернардито когда-то спас от виселицы, раскрыл капитану их заговор. Бернардито хотел зарезать обоих, но ему помешал помощник, Леопард Грелли. Полночь уже близилась, а главари все еще бранились в капитанской каюте. Тут-то неожиданно и подкрался этот испанский сторожевой корвет. Началась жаркая потасовка при свете факелов… – Испанец атаковал вас с кормы? – Да, и капитан послал Вудро и Джузеппе в самую кашу, защищать кормовую брешь; он приказал Фернандо Диасу не спускать глаз с обоих, а к штурвалу поставил меня вместо Фернандо. Драка была волчья! Не скоро забудут испанцы «Черную стрелу»!.. Мы выскочили из бухты, но Вудро оторвало обе ступни, Джузеппе продырявило бок, а Фернандо заработал две раны. Меня тоже порядком оглушило залпом картечи. – Эх, меня тогда не было с вами!.. Так чем же кончилось дело с теми двумя? – Чем кончилось? Шли мы в темноте. До рассвета осталось немного, а нужно было еще проскочить форты Гибралтара и сторожевые суда. На борту было четверо раненых: Вудро, Джузеппе, Фернандо и еще мулат Энрико Рой. Капитан решил высадить раненых на берег, потому что на судне они все погибли бы: наш лекарь еще в прошлом бою достался рыбам. Леопард хотел выделить раненым их долю добычи, но капитан в этом отказал. – Да будь я мертвецом – и то спросил бы с него свою долю! – Возможно, с мертвецом он был бы сговорчивее, но живым отказал. Впрочем, среди раненых в сознании были только Фернандо и мулат Энрико. Джузеппе Лорано и Вудро Крейг лежали без памяти. Бернардито велел отнести раненого Фернандо Диаса к себе в каюту, вон в ту, около рубки, видишь? Ветер приподнял занавеску в окне каюты, и я видел, как Одноглазый высыпал из мешка алмазы в замшевых футлярах, выбрал самый большой и один поменьше и дал их Диасу. Я слышал, как Бернардито сказал: «Вот этот голубой алмаз с желтым пятнышком отвези в Грецию моей матери, чтобы она не терпела нужды, если я погибну, а второй камень возьми себе, Фернандо, и делай с ним, что хочешь!» Потом всех троих снесли в шлюпку, на весла сел мулат Энрико Рой, у него рана была не тяжела… – Постой! Энрико Рой был, как говорят, дружком Леопарда? – Грелли держал его при себе вместо слуги, что ли. Он был обжора и лентяй, этот Энрико, скажу я тебе. Так вот, Грелли пошептался с ним, пока Одноглазый толковал с Фернандо, дал мулату пригоршню монет, и в кромешной тьме шлюпка пошла к испанскому берегу. Спаслись раненые или погибли, никто не знает. А нам повезло: утром, в тумане, шхуна проскочила пролив. Потом мы скрывались у берегов Португалии, чинились на Азорских, снаряжались в поход на марокканском побережье, где ты перебрался к нам с турецкой посудины, и вот плаваем третий месяц, а что толку? Стайка летучих рыб пронеслась на круглых, похожих на кружевные воротнички, крылышках над морской зыбью и с плеском снова погрузилась в пучину. – Гроб и падаль! Смотри, Джекоб: вон его одноглазая светлость высунулся из каюты. Лихорадка свалила его с ног. Он пожелтел, как луидор, и сутками валяется на койке, пока мы до крови натираем себе ладони снастями. Того и гляди, сам дождется холщового мешка и груза на грудь, а продолжает упрямиться, дьявол, не хочет уходить из этих проклятых вод, где зной – как в кузнечном горне… Но что это на горизонте? Ад и дьявол! Да там пожар! В ту же минуту крик дозорного: «Пожар на горизонте, слева по корме!» – поднял на ноги всю команду. Полуголые, разукрашенные диковинными татуировками на руках и груди, в невообразимых головных уборах из обрывков материи, пальмовых листьев и даже из книжных страниц с библейскими текстами, матросы «Черной стрелы» высыпали на палубу. На командном мостике показался Леопард Грелли с подзорной трубой. Лишь одного капитана Бернардито тропическая лихорадка приковала к его висячей койке. Временами, почти теряя сознание от внутреннего жара, он, захлебываясь, глотал холодную воду, а через четверть часа содрогался от озноба, выстукивал зубами и с головой укутывался в шерстяные одеяла. Леопард подал команду, и матросы, подгоняемые свистом боцмана, бросились к снастям. Шхуна, разворачиваясь под парусами, ложилась на обратный курс. Когда маневр поворота был закончен, шхуна двинулась короткими галсами к огню на горизонте и вскоре заметно приблизилась к месту пожара. Между тем над горизонтом росла черная туча, а столбик барометра в каюте капитана упал так низко, как Леопарду Грелли еще никогда не случалось видеть. Ветер стих, и паруса шхуны беспомощно обвисли. В быстро сгустившихся сумерках отчетливо и зловеще полыхал вдали пожар. Не один, а целых три гигантских костра поднимали к небу почти отвесные столбы пламени, искр и дыма. Очевидно, горели корабли недавно встреченного каравана. Вскоре команда «Черной стрелы» отчетливо разглядела на фоне зарева два корабля, отделившихся, по-видимому, от каравана и развернувшихся навстречу шхуне. Ближайший из них, небольшая бригантина, находился от шхуны всего в пяти-шести кабельтовых*["3]. Другой корабль, с оснасткой военного корвета, виднелся в полумиле*["4] позади первого. Даже издали было заметно, что мачты корвета повреждены в бою, а паруса бригантины изодраны и потрепаны*["5]. В тишине вечера доносился глухой гром артиллерийской канонады. Наступивший предгрозовой штиль заставил оба пострадавших судна, так же как и шхуну Бернардито, лечь в мертвый дрейф. Далекое зарево отбрасывало неподвижные черные тени трех кораблей на поверхность океана, а на луну уже надвинулась грозовая туча. – Леопард чует добычу! – шепнул Пью своему дружку Джекобу. – Будь я проклят, если он не ухитрится найти поживу и в чужой драке. Готовься к делу, старый кашалот! Наконец-то мы дождались настоящей работы!
Капитан Бернардито Луис эль Горра был опытным, отчаянно храбрым и беспощадно жестоким в бою пиратом. Быть может, во времена Кортеса или Писарро он вписал бы свое имя в кровавые страницы истории завоевания Мексики, Бразилии или Перу, но он родился в том веке, когда белые пятна на глобусе исчезали с быстротой тающего весной снега, а ост-индские, южноафриканские и прочие торговые компании, утвердив свою власть над захваченными заокеанскими владениями, разбойничали в них под сенью государственных законов своих стран. Бернардито нашел, что превращение крови и пота колониальных рабов в золото – дело кляузное и не очень почтенное. Прибыльнее и проще извлекать это золото непосредственно из купеческих карманов! Его шхуна с горсточкой отчаянных головорезов, которые никогда не заглядывали в будущее дальше чем на два ближайших часа, причинила в водах Средиземного и соседних морей такой ущерб купеческим судам, что за поимку корсара Бернардито одновременно взялись английские, французские, испанские и турецкие власти, не считая частных мореходных компаний и одиночных морских охотников за призами. От всех своих многочисленных преследователей, которые, несомненно, изловили бы смелого пирата, если бы могли действовать согласно друг с другом, Бернардито ловко ускользал и теперь, проскочив под самым носом шаривших рядом военных судов, вел свою шхуну в дальний индийский рейс. Но в этот раз боги удачи, казалось, лишили одноглазого капитана своих милостей. Еще перед началом рейса он впервые за свою богатую событиями жизнь обнаружил на судне заговор против себя. Кто-то действовал среди команды осторожно и настойчиво. Обезвредив заговорщиков, капитан потерял самого преданного матроса – Фернандо Диаса. Бернардито догадывался, что тайной пружиной неудавшегося заговора был не кто иной, как его помощник Леопард Грелли, человек, принятый на борт «Черной стрелы» года три назад. Теперь, пользуясь болезнью капитана, Джакомо Грелли, по-видимому, выжидал только удобного случая, чтобы самому стать главарем шайки и капитаном «Стрелы». Очнувшись в своей каюте от тяжелого забытья, Бернардито приподнялся на локте. В каюте никого не было. За окном виднелась лишь спина матроса у штурвального колеса. Бернардито нажал кнопку в стене. Из открывшегося тайничка он вынул кожаный мешок и выложил на одеяло более двух десятков замшевых футляров с драгоценными камнями. Пересчитав их, он убрал камни в мешок, закрыл тайник и позвал своего слугу. Никто не откликнулся. – Грязные канальи! – пробормотал Бернардито сквозь зубы. – Педро! Где ты, Педро, сын свиньи и монаха! Ну погоди, я научу тебя орать «сакраменто»! Но и великан Педро, телохранитель и слуга капитана, торчал на палубе, силясь разглядеть подробности сражения. Штурвальный тоже следил не за курсом, а глазел в сторону. – Я приучу вас к порядку на корабле! – со злобой произнес Бернардито. Он дотянулся до пистолета, висевшего у него в изголовье, и, не целясь, сбил выстрелом плетеный соломенный щиток с головы штурвального. На звук выстрела в каюту вбежал Леопард Грелли. Вместе с Педро он помог Одноглазому выбраться из каюты и подняться на мостик. Выбранившись, капитан подкрепил себя глотком неразведенного ямайского рома и взял у Грелли трубу. От его единственного, но зоркого глаза не ускользнула ни одна подробность. События развернувшегося вдали боя, еще не понятые всей остальной командой, были им быстро разгаданы. Он догадался, что суда, замыкавшие англо-голландский караван, подверглись внезапному нападению двух вражеских – очевидно, французских или испанских – корветов, подкравшихся к ним под покровом низких предгрозовых туч. Однако пушки сторожевых судов каравана успели открыть огонь и поджечь один из нападавших корветов. В завязавшейся затем артиллерийской дуэли запылали и два купеческих судна. Наконец уцелевшему корвету противника удалось все же отрезать от каравана одну английскую бригантину, которой пришлось изменить курс и спасаться бегством. Двигалась она как раз навстречу пиратской шхуне. Потрепанный корвет, выйдя из боя, пустился преследовать добычу, но потерял скорость из-за поврежденных парусов. Когда мертвый предгрозовой штиль остановил оба судна, бригантина оказалась чуть ли не под боком у «Черной стрелы», но корвет далеко отстал от своей жертвы. – Каррамба! Проваляйся я еще час – и добыча, которая сама идет нам в руки, была бы потеряна! – заорал Бернардито. – Где были твои глаза, Грелли? Чего ждет чертов боцман, помесь старой обезьяны с кашалотом! Эй, люди! Спустить обе шлюпки! Посадить в каждую по двенадцать чертей – через полчаса они должны быть на бригантине. Грелли и Акула поведут эти шлюпки в бой. Остальным – убрать паруса и хорошенько закрепить пушки на палубе! Близится шторм, сто залпов боцману в поясницу! Торопитесь, дети горя! Через несколько минут две шлюпки с вооруженными до зубов пиратами отвалили от шхуны и полетели к бригантине. В это время Бернардито разглядел в трубу, что на корвете тоже спускают на воду три шлюпки. Очевидно, и капитан корвета решил атаковать бригантину. Но преимущество было на стороне людей Бернардито. Шлюпки «Черной стрелы», следуя в кильватере друг другу, уже прошли половину расстояния до бригантины. Предгрозовой штиль, ровно катящиеся валы океанской мертвой зыби и далекое зарево, светившее нападающим, благоприятствовали атаке. Между тем шлюпки корвета еще только отвалили от борта своего корабля. На бригантине, носившей имя «Офейра», заметили опасность, надвигавшуюся сразу с двух сторон. Две небольшие пушки, носовая и кормовая, составляли все вооружение этого корабля, пустившегося в далекое плавание под надежным конвоем. Когда шлюпка Грелли приблизилась к бригантине на один кабельтов, грянул орудийный выстрел, и чугунное ядро зарылось в воду позади шлюпки. Грелли повернул к центру правого борта судна, а боцман Боб Акула приготовился атаковать бригантину слева. Обе шлюпки оказались вне обстрела корабельных пушек; залп из ружей и пистолетов, произведенный защитниками бригантины, убил одного и ранил двух матросов Леопарда Грелли. У самого Леопарда пулей сорвало шляпу. Вот и борт корабля! Абордажные крючья вонзились в дерево обшивки. По свисающим снастям порванного в бою такелажа*["6] пираты Грелли мигом очутились на палубе. В то же мгновение через левый фальшборт, орудуя крючьями и веревочными лестницами, на «Офейру» ворвалась шайка Боба Акулы. В короткой схватке первыми пали капитан и другие офицеры «Офейры». Команда, лишившись начальников, разбежалась под натиском свирепых головорезов. Матросы искали спасения в тайниках судна, ломились в запертые двери, падали под выстрелами и ударами ножей. Тем временем три шлюпки с корвета приближались к захваченному пиратами судну. Робкий рассвет уже позволял различить, что их командир одет в форму французского офицера. Грелли, стоя на мостике «Офейры», готовил пиратов к новому бою. По его приказанию они перетащили обе пушки на правый борт бригантины и зарядили их картечью. Когда ближайшая шлюпка французов подошла на полкабельтова, не ожидая встретить бортового пушечного огня, грянул залп, точно накрывший цель. Шлюпка мгновенно затонула. Повторный залп произвел страшное опустошение на второй шлюпке: стоявший на корме офицер и половина матросов были убиты. Экипажу третьей шлюпки осталось лишь подобрать из воды раненых товарищей и отступить под градом ружейных и пистолетных пуль, которыми пираты осыпали французов. Грелли и боцман с пистолетами в руках преградили своим матросам доступ к дверям кают и салона: нужно было сначала отбуксировать «Офейру» к шхуне, так как французы – противник, несомненно, более сильный, чем кучка пиратов, овладевших бригантиной, – могли возобновить нападение. Но буксировать бригантину с помощью шлюпок уже не было нужды: подувший утренний ветер принес первые капли грозового ливня и вместе с тем наполнил паруса бригантины. Матросы бросились к реям, сам Грелли взялся за штурвал, наступив на спину убитому штурвальному. Через четверть часа бригантина под торжествующие крики пиратов, забывших и о корвете, и о надвигающейся грозе, была пришвартована к грязному борту «Черной стрелы». Морские разбойники, отбросив все предосторожности, ринулись с топорами к трюмам и каютам захваченного корабля…
Кают на бригантине было две: небольшая верхняя, рядом с помещением капитана, и просторная нижняя, расположенная в соседстве с маленьким, уютно обставленным салоном. «Офейра», очевидно, была оборудована для богатых пассажиров. В верхней каюте, взломанной Бобом Акулой, не оказалось никого, зато нашлось много дорогой посуды, объемистых чемоданов и мужского платья. В помещении салона пираты нашли только четырех раненых матросов-индусов, которые тут же и были добиты. Но когда Грелли, Рыжий Пью и Джекоб Скелет ударами топоров высадили дверь нижней каюты, из глубины ее грянул пистолетный выстрел. Пуля, оцарапав плечо Грелли, угодила в грудь Джекобу Скелету. Загораживая вход, он ничком свалился внутрь каюты. Грелли выстрелил из двух пистолетов сразу и, переступив через труп, бросился в глубину каюты, наполнившейся едким пороховым дымом. Навстречу пирату шагнул небольшого роста старик в завитом парике и старомодном камзоле с кружевным жабо и широкими брабантскими*["7] манжетами. Старик отбросил дымящийся пистолет и, выхватив из ножен шпагу, направил ее в грудь пирату. Грелли был бы неминуемо проколот насквозь, если бы Рыжий Пью с порога каюты не разрядил своего тяжелого пистолета в голову старика. Старый джентльмен рухнул на пол. Подхватив его шпагу, Грелли отдернул ею парчовую занавеску, отделявшую заднюю часть каюты, и… замер в изумлении: на кружевном покрывале постели лежала без чувств красивая молодая девушка. Преграждая доступ к ее ложу, у постели стоял высокий молодой человек с орлиным носом и короткими бачками у висков. Он спокойно поднял пистолет и спустил курок, но выстрела не последовало. Оружие дало осечку, и это снова спасло Грелли жизнь. Ударом шпаги Грелли пронзил молодому джентльмену плечо. Тот, отступив на шаг, сохранил равновесие и, схватив отказавший пистолет за ствол, нанес пирату сильный удар рукоятью по голове. Грелли пошатнулся и упал на руки подоспевшим ему на помощь разбойникам «Черной стрелы». – Ради бога, прекратите сопротивление, мистер Райленд, – раздался голос, исходивший, казалось, из-под кровати. И действительно, под складками полога, у ног высокого защитника юной леди, показалась голова пожилого лысого толстяка, нашедшего прибежище под кроватью, к великому удивлению не только пиратов, но и самого молодого джентльмена. – Умоляю вас, прекратите бесполезное сражение, дражайший сэр Фредрик! – Ваше поведение недостойно джентльмена, мистер Томас Мортон! – гневно крикнул молодой человек, названный сэром Фредриком Райлендом. Из плеча его сочилась кровь, но он выхватил шпагу и бросился на пиратов. Однако Грелли успел уже оправиться. Кто-то сунул ему в руку заряженный пистолет. Выстрел сотряс стены каюты. Грелли увидел, как лицо джентльмена побелело и как он упал под ноги пиратам. Полдюжины подручных Леопарда, топча тело упавшего, кинулись к бесчувственной девушке, мгновенно завернули ее в одеяло и потащили в каюту Грелли на «Черной стреле». Туда же пираты поволокли насмерть перепуганного лысого толстяка… Грелли, шатаясь, вышел вслед за пиратами. На мокрой палубе он ухватился за леерную стойку и оглядел горизонт. С севера надвигалась черная стена урагана. Ветер уже рвал снасти, и страшный ливень низвергался на крыши палубных надстроек бригантины. Швартовы удерживали ее у борта пиратской шхуны. Со шхуны на бригантину был уже перекинут узкий трапик. В море, всего на расстоянии мили, виднелся французский корвет. На нем спешно убирали последние паруса…
* * *
…К джентльмену с подзорной трубой, стоявшему на вершине утеса в бухте Старого Короля, снова подошел его слуга. Пораженный странным выражением лица своего хозяина, грум не сразу решился окликнуть его. Наконец он заговорил тихо и почтительно. Джентльмен вздрогнул и обернулся к юноше. – Это ты, Антони? – пробормотал он, словно пробудившись от сна. Усилием воли он вернул себя от воспоминаний к действительности. – Сэр Фредрик Райленд, – обратился к нему грум, – дома вас давно ожидают к завтраку. Вы собирались нынче посетить верфь мистера Паттерсона. Лошади оседланы, милорд…Часть первая В добром старом Бультоне
1. Рукопись мистера Мортона
Se non e vero, e ben trovato*["8].Староитальянская поговорка
1
Эндрью Лоусон, сдававший «респектабельным приезжим» свой небольшой домик в порту, стоял в палисаднике и обрезал садовыми ножницами кусты жасмина. Старый пудель, заросший курчавой шерстью до самого кончика носа, лежал около куртины, искоса поглядывая на хозяина. Июльское солнце только что поднялось над островерхими крышами Бультона. Скрип шагов на посыпанной морской галькой дорожке потревожил сладко задремавшего пуделя. Собака заворчала на незнакомого человека в одежде уличного торговца, остановившегося перед куртиной. За спиной у него висел небольшой дорожный мешок, в руках была палка. – Могу ли я видеть мистера Лоусона? – с легким иностранным акцентом спросил пришелец. Но наружность его ничем не изобличала в нем чужеземца. – Чем могу быть вам полезен? Мне еще трудновато держаться на ногах: я был болен и только сегодня встал с постели. – Мне необходимо переговорить с глазу на глаз по чрезвычайно важному делу. Оно требует, чтобы наша встреча осталась в глубокой тайне… Лоусон насупил седые брови: – Я старый человек и не хотел бы вмешиваться ни в какие тайные дела. Кто вас направил ко мне, откуда вы сами? – Меня зовут Роджерс. Я торговец. Торговец небогатый. Вчера я был у главы здешней юридической конторы, мистера Уильяма Томпсона. Он посоветовал обратиться к вам за нужными справками… Вы, мистер Лоусон, были оценщиком драгоценных камней в бультонской фирме покойного Натаниэля Гарди, не правда ли? – Да, но с тех пор прошло почти четыре года. В конце 1768 года контора закрылась. Что же вам угодно от меня, мистер Роджерс? Вы можете говорить спокойно: кроме этого пуделя, здесь подслушивать некому! – Мистер Лоусон, меня интересуют именно события шестьдесят восьмого года. Скажите, вела ли фирма Гарди торговлю драгоценностями со странами материка? – Да, такие коммерческие операции были для нас обычными, но велись они главным образом через нашу контору в Портсмуте. Почему вас интересуют дела давно закрытой фирмы? – Видите ли, я разыскиваю следы одного камня, похищенного в 1768 году у… у моих друзей. Эти поиски привели меня в Бультон. Я подозреваю, что похитители обосновались здесь. Одного из них я даже видел… Скажите, не проходил ли через ваши руки грубо шлифованный алмаз голубой воды размером… вот с этот галечник? Здесь, на нижней грани алмаза, было небольшое желтоватое пятнышко. Он мог стоить около четырех тысяч гиней. Вы не припомните такого камня? Лоусон задумался и пристально поглядел на незнакомца: – Этот алмаз я видел и оценивал. Если бы не пятно, он стоил бы дороже. Да, такой камень действительно прошел через мои руки, но его дальнейшая судьба осталась мне неизвестной. Приобрела ли его фирма, я не знаю. Вспышка радости, озарившая было темные глаза незнакомца, погасла. – В чьих руках находился тогда алмаз? – спросил он быстро. – Этого я не имею права вам открыть. – О черт! Но если я сам назову вам имя, вы подтвердите мою правоту? Вам предложил этот камень нынешний владелец портовой таверны «Чрево кита» мистер Вудро Крейг, не так ли? Лоусон пожал плечами. – Послушайте, мистер Лоусон, я открою вам больше того, что сказал. Сначала был украден голубой алмаз, а затем похитители овладели целым сокровищем из двадцати с лишним драгоценных камней! Вместе они стоили сказочные деньги – шестьдесят тысяч фунтов стерлингов! Быть может, открыв следы алмаза, я отыщу и другие. Имейте ко мне хоть немного доверия, скажите мне, что я не ошибаюсь: камень предлагал для продажи Вудро Крейг, не правда ли? Или… быть может, это сделал некий… скрытый сообщник Крейга? О, я знаю, кто является его сообщником! Это одно важное лицо в городе! Имя его – сэр… – Эх, Роджерс, теперь послушайте-ка меня, старика. Одной ногой я уже стою в могиле и лучше других знаю, сколько грязи и крови прилипает к блестящим граням алмазов и бриллиантов. Тот камень давно прошел через мои руки, я не хочу тревожить прошлое и вмешивать живых в старые тайны. Пусть камень спокойно лежит себе на дне какого-нибудь сундука. Вам я тоже советую: забудьте его. Счастья вам этот камень не принесет! – Мистер Лоусон, не боитесь ли вы бросить тень на имя ваших прежних хозяев? Уверяю вас, оно останется незапятнанным. Скажите, неужели у покойного владельца фирмы не осталось наследников, которые дали бы вам право открыть мне все, что было известно фирме об этом камне? – У мистера Гарди осталась дочь. К ней вы можете обратиться. Живет она в двенадцати милях от Бультона, в поместье Ченсфильд, и теперь ее имя леди Эмили Райленд. На лбу у незнакомца выступил пот. Он отер его платком. При этом Лоусон разглядел, что на левой руке незнакомца нет безымянного пальца. – Заклинаю вас именем Бога, – сказал торговец тихо, – молчите о нашей беседе. Одно неосторожное слово погубит и вас и меня!2
Глава крупнейшей в Бультоне юридической конторы «Томпсон и сын», королевский адвокат и ученый сарджент*["9] мистер Уильям Томпсон сидел в своем домашнем кабинете и внимательно изучал разложенные на столе бумаги. Он так углубился в свои занятия, что не замечал, как его старый слуга время от времени подходил к столу и щипчиками снимал нагар с двух свечей, горевших в массивном шандале. Бумаги, лежавшие перед доктором прав, могли поведать любопытному историю возникновения и деятельности «Северобританской коммерческой компании». Эта фирма с недавних пор стала важнейшим клиентом юридической конторы «Томпсон и сын». Документы свидетельствовали о безупречном и блестящем состоянии дел компании. Коммерческий директор фирмы мистер Ральф Норвард издавна поддерживал с мистером Томпсоном дружеские отношения. Адвокат знал, что инициатором и главным владельцем фирмы является важное новое лицо в городе: сэр Фредрик Джонатан Райленд. Этот титулованный дворянин только четыре года назад обосновался в Бультоне. Наделенный, по-видимому, недюжинной энергией и предприимчивостью, он недавно унаследовал родовое поместье Ченсфильд и титул виконта, но был явно не склонен ограничивать свои занятия одними традиционными дворянскими утехами – войной, охотой и злословием. Он сумел увлечь своими замыслами почтенного всеми уважаемого коммерсанта Норварда. На деньги, вложенные в дело сэром Фредриком Райлендом, был пущен большой канатный завод, построена фабрика корабельной парусины, куплена и расширена «Бультонская суконная мануфактура», приобретены первые три корабля. Помещенный в эти предприятия капитал уже через четыре года принес доход и позволил сэру Фредрику расширить свое небольшое земельное владение на севере Англии. На вновь приобретенных землях он начал новое доходное дело – тонкорунное овцеводство. Все три корабля, совершая дальние рейсы, продолжали умножать доходы фирмы, а обширные цехи новых мануфактур уже поставляли тонкие сукна для офицерских мундиров королевской армии, грубую ткань для заокеанских колонистов, корабельные снасти и парусину. Выпущенные фирмой в весьма ограниченном количестве акции стояли высоко, и недавняя биржевая паника 1771–1772 годов не поколебала репутации «Северобританской компании». Старый слуга отвлек своего господина от чтения бумаг. – Мистер Сэмюэль Ленди и мистер Роберт Паттерсон, – доложил он, приоткрыв дверь. Вытерев фуляровым платком вспотевшую от трудов лысину, мистер Томпсон снял с круглой подставки старомодный парик внушительных размеров, с длинными буклями, без косицы. Перед зеркалом мистер Томпсон водрузил парик на голову, отчего она сразу стала непомерно большой по сравнению с тщедушной фигурой. Это мощное украшение на голове придавало мистеру Уильяму сходство со львом, точнее, с тем курчавым домашним животным, которого тщеславные владельцы делают с помощью ножниц похожим на царя зверей. Обоих джентльменов, прибывших для традиционной партии в карты, мистер Томпсон застал в гостиной в обществе своего сына Ричарда, совладельца конторы. Раскрытый карточный стол с не стертыми еще записями результатов последнего крибеджа*["10] на зеленом сукне, цветными мелками и круглыми щеточками, двумя нераспечатанными колодами карт и тяжелым бронзовым подсвечником посередине ожидал партнеров. Рядом, на маленьком столике у жарко пылающего камина, подогревался пунш в поместительном сосуде, напоминавшем бочонок с крышкой. В комнате уже распространялся соблазнительный аромат душистых специй. У столика хлопотал слуга, расставляя холодную говядину, сыр, устрицы и бисквиты. Место отсутствующего друга дома, пастора Редлинга, занял за карточным столом мистер Томпсон-младший, двадцативосьмилетний джентльмен с очень аккуратной прической из собственных волос, как у Чарльза Грандисона, героя знаменитого романа. Все четыре джентльмена хранили за игрой молчание. Они презирали обычные присказки и словечки, сопровождающие карточную игру в менее избранном кругу, и изъяснялись жестами и любезными улыбками. Но когда бочонок с крышкой наполовину опустел, а лица партнеров почти сравнялись с цветом напитка, беседа завязалась. От событий европейской войны, только что закончившейся разделом Речи Посполитой между Россией и Пруссией, господа перешли на темы отечественной политики. – Трудное время! Опасность растет, и нужны сильные руки, чтобы спасти кровные интересы Англии, – говорил банкир мистер Сэмюэль Ленди, человек лет пятидесяти пяти, в длиннополом, старинного покроя платье. – Мир колеблется, мы живем на вулкане. Америка – уже почти утраченная нами колония. Ее деятели, все эти Адамсы, Джефферсоны и Франклины, ведут открыто враждебную нам политику, и столкновение с драконом американской революции неизбежно. Это тем опаснее, что население Франции волнуется, ее нищие крестьяне бунтуют, города восстают, а Париж сделался столицей безбожных и возмутительных учений. Русская царица Екатерина с каждым годом расширяет свои владения и на юг и на запад. Флот ее уже разгромил могущество турок. Древняя Порта обречена. Это опасно… – Отхлебнув изрядный глоток, он продолжал: – Мировой котел кипит. Сейчас Англии нужны твердые, цепкие руки. Нужно успеть выхватить из этого котла самые жирные куски, пока их не схватили другие. Я не вижу твердости в действиях нашего правительства. Иногда приходится быть волком в овечьей шкуре, но нельзя быть овцой в шкуре волка. Это позор! Я говорю: нельзя дальше потакать американским колонистам. Мы можем окончательно потерять Америку. Сын адвоката мистер Ричард Томпсон слушал старого банкира с плохо скрытым негодованием. – Я нахожу, – произнес он решительно, – что наша политика в колониях воистину волчья. Колонисты в Америке сами желают быть хозяевами своей страны, которую наше правительство, лорды Бьютт и Гренвиль, стремятся связать по рукам и ногам. Мистер Ленди нахмурился и только было хотел веско возразить горячему противнику лордов Бьютта и Гренвиля, как новое лицо вошло в гостиную. Это был опоздавший к партии в пикет викарий бультонского собора преподобный мистер Томас Редлинг. Свое опоздание господин викарий объяснил тем, что участвовал в семейном празднике у почетного прихожанина. – Приятнейший день провел я сегодня у лорда Фредрика Райленда в его загородном доме! Два года назад Господь благословил молодую чету прекрасным первенцем. Это мой крестник, я нарек его Чарльзом. Сегодня супруги Райленд праздновали день рождения своего дитяти… Дорогой мой мистер Уильям! Сэр Фредрик просил передать вам пожелание доброго здоровья. К удивлению пастора, хозяин довольно сухо принял его слова: – Интересы «Северобританской компании», принадлежащей на девять десятых мистеру Райленду, я защищаю уже в течение трех лет, но эта деловая сторона пока не побудила ни меня, ни моего знатного клиента к личному знакомству. Отношения с компанией я поддерживаю через ее коммерческого директора, моего друга мистера Норварда. С этими словами мистер Томпсон поднял бокал, сощурил веки и стал рассматривать сквозь налитое в сосуд вино пламя углей в камине. Пастор Редлинг поперхнулся и умолк. Наступило неловкое молчание. – Мистер Томпсон! – заговорил судостроитель Паттерсон, до сих пор молчавший. – Здесь собрались старые друзья вашего дома. Быть может, вы наконец поведаете нам о тех подводных рифах между вами и сэром Фредриком, которые так заметны вашим друзьям? – Мистер Паттерсон удивительно точно предвосхитил мою мысль! – воскликнул Ленди. – Появление лорда Райленда в нашем городе вызвало много толков благодаря трагическим обстоятельствам, омрачившим его переезд из Индии в Европу. О них, помнится, писали газеты, но очень скупо. – Я знаю его не первый год, джентльмены, – продолжал Паттерсон. – Моя верфь выстроила для компании две шхуны – «Глорию» и «Доротею» – и бриг «Орион», а ныне работает над четвертым заказом. Это будет лучший корабль, когда-либо выходивший из английских верфей. Сотрудничать с этим джентльменом приятно: у него смелая натура и широкий размах. Однако сознаюсь: и для меня этот замкнутыйчеловек и его молчаливая супруга с ее печальным взглядом – до сих пор наполовину загадка! – Дорогой мистер Паттерсон и вы, мой старый друг Сэмюэль, – несколько патетически произнес мистер Томпсон, – я охотно исполню ваше желание, но для этого я должен просить разрешения Ричарда огласить одну подробность, известную пока лишь нам, родителям Ричарда. При этом Томпсон-старший бросил вопрошающий взгляд на своего наследника. Тот утвердительно кивнул и добавил: – Я надеюсь на честь наших друзей, отец. Эта семейная тайна не должна стать достоянием молвы… Джентльмены склонили головы в знак согласия, а господин викарий даже возвел руки горе. Впрочем, ему, как священнику, эта интимная подробность была уже известна. Он знал, что сэр Фредрик Райленд отбил невесту у мистера Ричарда, но как и при каких обстоятельствах совершилось это прискорбное событие, ему самому не терпелось послушать. – В таком случае, джентльмены, вы сейчас услышите одну из удивительных современных трагедий. Она сделала бы честь Друри-Лейнскому театру*["11], попадись она в старину под перо Марлоу или Шекспира. Разрешите огласить вам интересный документ, врученный мне для сохранения. Автор, предоставив документ в мое распоряжение, разрешил его огласку в тех пределах, какие я сам счел бы уместными. С этими словами королевский адвокат направился в свой кабинет и вернулся с тетрадью, переплетенной в коричневую тисненую кожу. Надев очки, старый джентльмен приступил к чтению.«Возлюбленной моей дочери Мери от ее отца, Томаса Мортона, атерни*["12] калькуттской нотариальной конторы «Ноэль-Абрагамс и Мохандас Маджарами». Моя дорогая дочь! Тетрадь эта содержит подлинные путевые записки, начатые мною в Калькутте и оконченные в Бультоне сего декабря 20-го дня года 1768-го. С неустанной мыслью о тебе и горячими молитвами о ниспослании мне радости скорее обнять мою любимую дочь приступал я перед отъездом к этим запискам и потом продолжал их в пути, глотая слезы отчаяния и горя. Сохрани эту тетрадь, где запечатлены обстоятельства гибели нашего судна, а также подробности нашего пленения и спасения. Волею всевышнего лишь я и два моих спутника пережили эти грозные события. Имена же бесчисленных погибших – ты, господи, веси! In sanct martyris sanguis – est salus tuus, Britfnnia!*["13] Томас Мортон, солиситор*["14].– Здесь, в этом месте, тетрадь несколько пострадала. В ней много подмоченных страниц, кое-где строчки почти смыты, – прервал чтение мистер Томпсон. – Мне кажется, что пострадал всего лишь услужливый панегирик мистеру Райленду. Мне эта потеря не представляется невознаградимой, – брюзгливо произнес мистер Ленди. – Просим вас читать далее, где текст отчетливее. Мистер Томпсон продолжал:
Калькутта, 19 февраля 1768 года. Решение мое оставить Калькутту и переехать навсегда в Европу побудило моих шефов, мистера Заломона Ноэль-Абрагамса и мистера Маджарами, поручить мне два дела в Англии, по исполнении которых я могу считать себя свободным от службы и жить уже без деловых забот на свои сбережения и небольшую пенсию. Я горячо надеюсь найти себе кров в родном Портсмуте, оставленном мною ровно сорок лет назад, когда я был десятилетним мальчиком. Там, в Портсмуте, ждет меня дочь Мери, отправленная в Англию двенадцать лет назад, когда я лишился своей незабвенной супруги, племянницы мистера Маджарами. Оба порученных мне дела связаны с конторой «Уильям Томпсон и сын» в Бультоне, имеющей репутацию одной из самых солидных юридических контор в метрополии. Первое поручение касается введения в наследство эсквайра Фредрика Джонатана Райленда, клиента нашей калькуттской конторы. Дальние предки мистера Райленда были выходцами из Нидерландов, состоя по женской линии в родстве с Оранским домом. При Вильгельме III Оранском*["15] мистер Френсис Райленд получил за свои заслуги перед английским престолом титул виконта и небольшое бультонское поместье Ченсфильд. Сын первого виконта Ченсфильда, Генри Райленд, поддавшись уговорам своего знатного соседа маркиза Блендхилла, яростного сторонника партии тори, принял участие в заговоре против короля Георга I и, лишенный пэрского достоинства, окончил свои дни в ченсфильдской ссылке. До недавнего времени поместьем Ченсфильд владел сын опального сэра Генри – сэр Эдуард Райленд. Младший его брат, офицер королевских войск Уильям Майкл Райленд, уехал в Индию, в Калькутту, где у него в 1742 году родился сын Фредрик Джонатан. Мистер Фредрик рано лишился своих родителей, и опекуном его стал мой отец, служивший юристом той же нотариальной конторы, куда впоследствии поступил и я. По окончании английского колледжа в Мадрасе молодой мистер Райленд совершил несколько морских экспедиций в качестве младшего помощника капитана, обнаружив хорошие познания в астрономии и навигации. В 1763 году мистер Фредрик Райленд уехал в Европу и навестил в Лондоне своего дядю, сэра Эдуарда, виконта Ченсфильда, владевшего бультонским поместьем. Бездетный вдовец, сэр Эдуард, возненавидевший Ченсфильд – место ссылки своего отца, – жил в британской столице, ведя довольно рассеянный образ жизни, беспечно предоставив управление поместьем мистеру Монтегю Уэнту. Запущенное поместье давало мало дохода. Сэр Эдуард принял племянника довольно холод но, и тот вернулся в 1767 году назад в Индию, где увлекся научными занятиями и провел несколько месяцев с исследовательскими целями в глухих индийских джунглях. В конце 1767 года мистер Эдуард скончался. Племянник его, сэр Фредрик Райленд, унаследовал небольшой капитал и разоренное бультонское поместье. К нему должен перейти и титул виконта Ченсфильда, если права на него, весьма мало интересовавшие сэра Эдуарда, не безнадежно утрачены. Бультонская контора «Томпсон и сын», клиентом коей состоял сэр Эдуард, обратилась к нашей для розыска наследника. Бумаги сэра Фредрика хранились у моих шефов, и, учитывая мое желание навсегда вернуться в Англию, они выдали мне доверенность на производство всех формальностей, связанных с введением сэра Фредрика в права наследства. Второе поручение моих шефов заключается в ликвидации дел и имущества небольшой бенгальской торговой фирмы «Гарди и Демюрье», по решению единственного ее владельца, мистера Натаниэля Гарди. Мистер Гарди родился в Бультоне, но большую часть жизни провел в Индии, где вместе с французским инженером месье Демюрье приобрел серебряный рудник в Бенгалии. От брака мистера Гарди с дочерью его компаньона родилась в 1749 году девочка, окрещенная по католическому обряду. По настоянию матери она воспитывалась в одном из аббатств во Франции, где и прожила до восемнадцати лет. В 1767 году она совершила путешествие в Калькутту к родителям, но уже не застала в живых своей матери. Лишившись супруги, а также своего компаньона, мистер Гарди, подобно мне, ощутил глубокую тоску по доброй старой Англии. Он продал рудник и решил закрыть свои небольшие конторы в Бультоне и Портсмуте. Все предварительные хлопоты по его делам приняла на себя наша контора, поручив их мне. Сейчас, когда я пишу эти строки, мистер Гарди со своей единственной дочерью Эмилией, так же как и наследник сэра Эдуарда мистер Фредрик Райленд, будущий виконт Ченсфильд, деятельно готовятся к дальнему пути. Приготовления их, равно как и мои, уже близятся к концу. Большой караван судов выходит в море из Калькутты в начале марта. Мною уже куплены две каюты на английской бригантине «Офейра»: одна предназначена для мистера Райленда и меня, вторая – для мистера Гарди и мисс Эмили. Мистер Гарди – сама доброта. Он очень любезен и называет меня своим гувернером. Увидеть его дочь мне еще не представилось случая.
Порт Калькутта, 3 марта 1768 года. Итак, оба трюма «Офейры» приняли последние тонны груза. Бригантина доставит в Европу весьма ценные товары – дорогие краски для тканей, благородные металлы в слитках, самоцветные камни для ювелиров Голландии, шелка для отечественных модниц и лекарственные средства для аптекарей Европы. Большая и самая ценная часть груза – серебро в слитках и прекрасные самоцветы – принадлежит мистеру Гарди. Пассажиры уже заняли свои места в каютах. Бригантина так мала, что нам придется обходиться услугами команды – собственную прислугу негде поместить. Мисс Эмили, дочь мистера Гарди, поистине очаровательная молодая леди! Кажется, того же мнения придерживается и мистер Райленд. Впрочем, мой клиент неразговорчив и не особенно учтив со мною. Завтра на рассвете мы снимаемся с якоря. Другие суда нашего каравана грузятся неподалеку. Вооруженные конвойные суда уже ожидают на океанском рейде. Караван состоит из восьми торговых и четырех охраняющих кораблей. Вооружены и торговые суда – на нашей бригантине я видел две медные пушки. Да хранит нас Всевышний в дальнем пути!
Бенгальский залив. Борт «Офейры», 5 марта. Сегодня мы простились с устьем священного Ганга. Второй день мы находимся в плавании, и величавая дельта реки, низменное побережье с пышной зеленью и массивными пагодами уже исчезают на горизонте. Океан спокоен, путешествие идет пока очень приятно. Караван держит курс на Мадрас. Впереди движется стопушечный трехпалубный корабль «Хемпшир», прибывший в наши воды из Вест-Индии. Он направляется в Плимут – значит, до конца рейса мы пойдем под его надежной охраной. Два легких фрегата защищают фланги каравана, один корвет замыкает строй судов. Наша бригантина следует в хвосте каравана, под охраной пушек корвета. Весь вчерашний день я провел на палубе в беседе с мистером Гарди, о котором навсегда сохраню самые приятные воспоминания. Мой собеседник обрадовал меня известием, что глава бультонской юридической конторы господин Томпсон-старший и сам мистер Гарди – не только земляки, но и школьные товарищи. Между ними существует даже дальнее родство. В течение последних тридцати лет старики поддерживали переписку, находясь в разных частях земного шара. В ней приняли участие и дети, после того как мистер Гарди прислал старому другу свой акварельный портрет, на котором он изображен вместе с дочерью. Вскоре отец и дочь получили в ответ изображение мистера Уильяма Томпсона с его сыном Ричардом. Молодые люди понравились друг другу на расстоянии, и родители считают их помолвку, официально еще не оглашенную из-за различия вероисповеданий, делом окончательно решенным. Предстоящий брак Ричарда с мисс Эмили – тоже одна из причин, побудивших мистера Гарди поторопиться с отъездом в Англию. Молодой Фредрик Райленд ухитрился достать из воды и преподнести мисс Эмили последний цветок лотоса в устье Ганга. Пока мы беседовали с мистером Гарди, сэр Фредрик и наш любезный капитан посвящали мисс Эмили в тайны мореходного искусства. Сэр Фредрик Райленд очень спокойный, уверенный в себе человек. Держится он с большим достоинством. Лицо его приветливо, черты отличаются благородством. У него красивый орлиный нос, темные волосы…»
– «…носит короткие баки. На корабле почти нет таких работ, с которыми он не мог бы справиться. В то же время его ученость и знание индийских народов с их таинственным магическим искусством делают его неоценимым собеседником, когда он изволит нарушать свою необщительность.– Дальнейший текст на протяжении нескольких страниц очень неразборчив, – поднял на слушателей глаза мистер Томпсон. – Но так как именно последующие страницы, покрытые кляксами и помарками, содержат описание наиболее драматических событий этого несчастного плавания, я приложу все усилия, чтобы все же прочитать вам эти места, ибо они делают честь лучшим чувствам автора… Френсис, добавьте еще свечей!
Бенгальский залив, 17 марта. Двое суток мы простояли на рейде в Мадрасе, не сходя на берег: в городе свирепствует оспа. Приближаемся к берегам Цейлона. Нас задерживают сложные маневры с большим количеством судов. Поэтому мы двигаемся несколько медленнее, чем одиночные корабли.
Порт Коломбо, Цейлон, 25 марта. Плавание идет благополучно. Миновали пролив и любуемся сказочными красотами Цейлона. Если бы я владел пером, как поэт, то посвятил бы Цейлону большую поэму. Меня всегда удивляло, почему люди селятся в пустынях и среди скал, когда есть такие райские места на свете, как Цейлон, где население не отличается особенной плотностью.
Борт «Офейры», безбрежный океан, 3 апреля. Ровно месяц, как мы с сэром Фредриком делим эту каюту, но я знаю его так же мало, как в день нашего знакомства. Впрочем, в присутствии мисс Гарди он не только блистательно учтив, но и становится весьма щедрым на рассказы и остроумные шутки. С наступлением темноты он развлекал вчера отца и дочь объяснениями искусства кораблевождения по небесным светилам. Лицо мисс Гарди с большими, выразительными глазами, устремленными во время его объяснений к звездному небу, было так прекрасно, что в голосе сэра Фредрика появились новые, несвойственные ему мягкие нотки. Молодая леди слушала как зачарованная, и это вдохновляло рассказчика. Она сама много путешествовала, и вопросы, которые она задавала, свидетельствовали о ее наблюдательности и живом уме.
Борт «Офейры», 6 апреля. Если бы не календарь, где я вечерами зачеркиваю дни, то я утратил бы счет совершенно одинаковым суткам. Они начинаются и кончаются однообразным перезвоном корабельных склянок*["16]; эти звуки сопровождают все события нашей корабельной жизни. Сегодня на западе исчезли очертания Мальдивских островов. Попутный ветер благоприятствует плаванию, и скорость движения удвоилась. Теперь мы делаем в среднем пять-шесть узлов*["17], что составляет в сутки до ста сорока миль. Мистер Райленд находит, что это хороший ход для большого каравана. Своего соседа я почти не вижу в каюте. Он проводит целые дни на палубе или в нижней каюте, в обществе мистера и мисс Гарди. Судя по взглядам, которыми мисс Эмили встречает каждое его появление, я боюсь, как бы мистеру Ричарду Томпсону не пришлось впоследствии жалеть о своем отсутствии на борту в эти дни!
Борт «Офейры», 10 апреля. Кругом открытое море. Через несколько суток бросим якорь у острова Иль-де-Франс, или, как его еще называют, острова Маврикия. Мы уже на широте южной оконечности Мадагаскара. Очень сильная жара.
Борт «Офейры», 12 апреля. Дни эти кажутся мне бесконечными, но мисс Эмили в моем присутствии пожаловалась отцу, что время летит со сказочной быстротой. Бедный мистер Ричард!
Борт «Офейры», 16 апреля. Вчера у острова Маврикия пополнили запас пресной воды. Ее доставили в бочках с помощью шлюпок. Суда стояли несколько часов на открытом рейде, в миле от холмистого острова. Сэр Фредрик и мисс Гарди побывали на берегу и посетили французского губернатора острова. Ночь была душная, с каким-то горячим маревом испарений, и звезды мерцали необыкновенно сильно. Сэр Фредрик говорит, что это предвещает непогоду. Мисс Гарди задержала вечером при расставании с ним свою руку в его руке. О моя молодость, как ты далека!
Борт «Офейры» 18 апреля, вечером. По предсказанию капитана, близится шторм; барометр падает. Духота нестерпима. Дует горячий северо-восточный ветер. Мистер Райленд называет его бейдевиндом по отношению к нашему курсу. От острова Маврикия и еще каких-то небольших островов того же архипелага нас отделяют уже триста миль. Держим курс на южную оконечность Африки; приближаемся к водам Мадагаскара. Час назад на горизонте замечены паруса двух неизвестных кораблей. Скоро они пропали из виду, так как видимость уменьшилась из-за туч. Утром, далеко на севере, прошла какая-то встречная шхуна. Флаг ее различить не удалось. Мисс Эмили взволнована и не замечает никого и ничего вокруг. По-видимому, ее отношение к мистеру Ричарду было наивной, почерпнутой из модных чувствительных книг «возвышенной склонностью». Встреча же с мистером Райлендом впервые разбудила в ее сердце настоящую женскую любовь. Это понимает и сам мистер Гарди, который очень смущен и сбит с толку неожиданными обстоятельствами, угрожающими спутать все его давно взлелеянные планы. Но разве нынче дети нашего плачевного века поступают согласно помыслам родителей? Впрочем, мистер Гарди не может не отдавать должное уму, талантам и безупречному поведению сэра Фредрика Райленда. Да и следует ли забывать, что он все же «сэр», а может быть, и «милорд»*["18] и имеет блестящую будущность на родине своих предков! Покамест же дай бог нам всем благополучно перенести штормы и прочие трудности пути и ступить здоровыми на землю нашей родины…»
«Борт французского военного корвета «Бургундия», 24 апреля 1768 года. О моя возлюбленная дочь! Перо не в силах описать все ужасы, пережитые твоим несчастным отцом за эти злополучные дни! Руки дрожат, и я с трудом держу плохо очиненное перо. Но я собрался с силами, чтобы запечатлеть в этой тетради страшную картину гибели нашего корабля. Боже, помилуй мою скорбящую душу и прости мне мои тяжкие прегрешения, вольные и невольные. Наверно, чистые молитвы моей дочери спасли мне жизнь, которую я отныне готов посвятить молитве за вечное упокоение погибших друзей! Аминь! Вечером 18 апреля, усыпленный мерным покачиванием судна и невыносимым зноем, я крепко уснул в каюте. В это время к хвосту нашего каравана подкрались французские призонеры*["19] и пытались отрезать два наших торговых судна. Однако сопровождавший нас корвет развернулся бортом к одному из вражеских кораблей и дал по нему залп ядрами и брандскугелями*["20] из всех своих бортовых пушек. Этот страшный залп показался мне сквозь сон оглушительным раскатом грома и заставил мигом вскочить с постели. Когда спросонок, ничего еще не понимая, я вы бежал на палубу, то увидел пороховой дым и объятый пламенем корабль противника, он шел прямо на нас! Ночь озарялась огнем пожара и поминутными вспышками пушечных залпов. Смелым маневром «Офейра» увернулась от смертоносного сближения. Тогда горящий корабль, как зверь в предсмертном прыжке, двинулся на корвет, охранявший тыл каравана и причинивший врагу столь тяжелый ущерб. Пылающий корабль с разгона протаранил ему корму; мачты и такелаж, охваченные огнем, при ударе обрушились на корвет, и он тоже вспыхнул подобно факелу. Между тем второй из нападавших кораблей, французский корвет «Бургундия», успел подбить и поджечь охранявший нас легкий фрегат и, пустившись наперерез «Офейре», стал осыпать ее пушечными ядрами, отсекая нас от каравана. Ядра со свистом проносились над палубой, рвали паруса и ломали реи. Вдруг у фальшборта упала с шипением чугунная бомба, начиненная порохом. Она вертелась, как волчок, и короткий фитиль, раздуваемый ветром, ярко тлел в темноте. Команда бросилась бежать. В эту минуту чья-то высокая фигура метнулась к бомбе. Ударив по ней орудийным банником, человек загнал бомбу в промежуток между двумя кнехтами и остановил ее вращение. Затем он наклонился, схватил страшный предмет руками и, перенеся через фальшборт, выбросил бомбу в море. Дружный вздох облегчения вырвался у всех. Когда человек повернулся к нам, я узнал в нем сэра Фредрика Райленда, опоясанного перевязью шпаги. Сэр Фредрик спокойно отыскал на палубе брошенный им пистолет, сунул его за пояс и отошел в сторону. Наша бригантина, поставив все уцелевшие паруса, стала уходить из-под обстрела в темноту ночи, рассчитывая вернуться затем под охрану пушек «Хемпшира», лишенного сейчас возможности маневрировать из-за тесно сбившихся вокруг него кораблей каравана. Они в беспорядке жались к его бортам, словно цыплята к наседке при нападении коршуна. Вражеский корвет «Бургундия», мачты которого были сильно повреждены в бою, пустился нас преследовать, но стал быстро отставать. Казалось, мы спасены. Тут я заметил и мистера Гарди, тоже вооруженного пистолетом и шпагой; он поддерживал под руку мисс Эмили, вышедшую из своей каюты, чтобы помочь перевязать раненых. Мисс Эмили с тревогой искала кого-то глазами на палубе и успокоилась, лишь когда увидела сэра Фредрика. Он, в свою очередь, сбежал с мостика, где беседовал с офицерами, и, прижимая ее руку к губам, просил девушку удалиться в каюту, пока опасность не миновала окончательно. Мистер Гарди рассказал ей про эпизод с бомбой. Она побледнела и, казалось, едва устояла на ногах, но овладела собою и одна пошла к маленькому салону, где корабельный цирюльник, исполнявший также обязанности лекаря, уже возился с ранеными. Вдруг впереди по курсу, словно зловещий призрак, вырос силуэт длинной черной шхуны. Наступило полное безветрие, корабли стояли неподвижно, вдали еще пылал пожар и раздавались орудийные выстрелы, – это сами собою стреляли раскаленные пушки, оставшиеся заряженными на брошенных горящих судах. Со шхуны спустили две шлюпки. Они быстро полетели к нам. «Пираты! – мелькнуло у меня в мозгу. – Мы попали в засаду!» Объятый ужасом, я бросился в нижнюю каюту. Оставаться одному в верхней каюте было слишком опасно. Я бежал, прижав к груди кожаный мешок с моими сбережениями и документами, и – признаюсь тебе, дочка, – решил спрятаться под широкую кровать мисс Эмили, скрытую за занавеской. Вскоре в каюту вошли мисс Гарди и сэр Фредрик Райленд, и я оказался невольным слушателем их краткого объяснения. Очень скоро слова «Эмили!», «Фред!» потонули во вздохах и поцелуях. Когда дверь каюты снова приоткрылась и впустила отца, голова девушки лежала у джентльмена на груди, и джентльмен прижимал эту голову к губам. При виде отца сэр Фредрик выпустил девушку из объятий и за руку подвел ее к мистеру Гарди. «Сэр, – взволнованно заговорил молодой человек, – сэр, мы с Эмили навсегда полюбили друг друга. Позвольте мне идти сражаться за наше общее будущее, ибо иначе мне придется искать в этом бою только смерти!» «Да благословит вас бог, дети!» – отвечал старый Гарди. Мисс Эмили сняла с груди и повесила на шею сэру Фредрику старинный золотой католический образок, и молодой человек, еще раз прижав к груди будущую жену свою, поспешил на палубу, где уже грянул первый выстрел нашей корабельной пушки. Снедаемый тревогой и страхом, я неподвижно лежал в своем тесном убежище, прислушиваясь к залпам, звериному крику злобных исчадий ада и к шуму рукопашной схватки, закипевшей над нашими головами. В наступившей затем тишине в дверь каюты тихо постучали. Вошел сэр Фредрик, камзол его был залит кровью, лицо почернело от порохового дыма. Вместе с мистером Гарди они заперли дверь, перезарядили пистолеты и попробовали шпаги. Добрый мистер Гарди осведомился о моей участи, и сэр Фредрик Райленд выразил предположение, что я укрылся где-нибудь в трюме. Судно наше, находившееся уже во власти пиратов, куда-то двигалось. Мисс Эмили, упав на свою постель за занавеской, горячо молилась. Тем временем наверху опять возобновились выстрелы, и мистер Райленд объяснил, что началось сражение между пиратами и экипажами французских шлюпок. Бой этот был коротким – пираты заставили французов отступить. Вскоре сквозь окно каюты спутники мои увидели приближающийся борт пиратской шхуны. Дикие, торжествующие крики раздались над нами. Я ощутил толчок и услышал топот ног по всему кораблю. От ужаса я был близок к обмороку и уже не питал никакой надежды! Дверь затрещала, и озверелые лица грабителей появились в дверях. Мисс Эмили вскрикнула и лишилась чувств, сэр Фредрик Райленд заслонил ее своим телом, а мистер Гарди выстрелил навстречу нападающим. Он сразил одну из этих бестий, но в тот же миг сам пал мертвым под их выстрелами…»– По-видимому, – прервал чтение мистер Томпсон, – при описании этой драматической сцены к автору вернулось чувство самообладания. Здесь, в тетради, вырвано несколько страниц, переписанных автором, очевидно, наново, так как все дальнейшее начертано довольно твердой рукой и достаточно разборчиво. Даже цвет чернил стал темнее и отчетливее. Мне уже не нужно так отчаянно напрягать зрение. Френсис, вы можете убрать лишние свечи. Итак, я продолжаю.
«Мистер Фредрик сражался, как лев, и каюта наполнилась мертвыми телами. Я выбрался из-под кровати и, воодушевленный примером такого мужества, схватил шпагу и бросился ему на помощь. Мы вытеснили нападавших из каюты и забаррикадировали дверь. Нас оставили в покое, так как французский корвет успел подойти к месту боя и открыть огонь по шхуне и пришвартованной к ней бригантине. Оба судна загорелись от брандскугелей и бомб корвета, пираты бросались в воду и гибли под выстрелами. Заслуженная кара постигла всех негодяев до единого, ни одного французы не оставили в живых. Когда пламя забушевало уже рядом с нашей каютой, мы вышли из нашего убежища и стали подавать сигналы. Последняя шлюпка французов как раз готовилась отвалить. Сэр Фредрик вынес бесчувственную Эмили из каюты, я же спас самые необходимые документы, деньги, не забыв и эту тетрадь. Через десять минут нас доставили на борт корвета «Бургундия», где отвели небольшое помещение на корме, скупо освещенное одним иллюминатором, расположенным над самой ватерлинией. Здесь мы положили мисс Эмили, еще не очнувшуюся от обморока, и вернулись на палубу, откуда экипаж корвета наблюдал за гибелью пиратской шхуны и нашей «Офейры». Наш маленький покинутый корабль стал могилой мистера Гарди: тело его, равно как и тела убитых пиратов и французов, поглотили морские волны. Тем временем разразился тропический ливень; ветер, крепчая с каждой минутой, достиг небывалой силы, и в океане разбушевался шторм, подобного которому я никогда не видывал. Судно вставало на дыбы и вдруг летело куда-то в пропасть. Сэр Фредрик привязал бесчувственную мисс Эмили к койке, иначе и ее швыряло бы о стены с такою же силой, как швыряло нас. Наконец, вцепившись в свою подвесную койку, я кое-как забрался в нее и вскоре впал в забытье. Проснувшись, или, скорее, очнувшись, я услыхал бред мисс Эмили и тихий голос сэра Фредрика. Шторм еще бушевал, хотя я проспал, как оказалось, почти целые сутки. При свете дня океан казался еще страшнее, чем ночью. Шторм утих только к вечеру 20 апреля, и капитан «Бургундии» пригласил нас к себе. Он учтиво осведомился, удобно ли наше помещение, и расспросил о нашем звании, состоянии и целях плавания. Вместе с капитаном мы вышли на палубу. Корвет представлял собою жалкое зрелище: это был уже не корабль, а лишь остов корабля, с обломками мачт, без рангоута*["21], без единой шлюпки. Для облегчения судна капитану пришлось пожертвовать несколькими пушками. Французский моряк объяснил, что корвет способен лишь с трудом двигаться по курсу. Капитан намеревался достичь побережья Африки или Мадагаскара с помощью запасного паруса и мачты, которую можно собрать из обломков. Он дал нам понять, что мы получим свободу лишь после внесения нашими родственниками довольно значительной выкупной суммы. Он предупредил нас также о недостатке запасов продовольствия на корвете. Положение наше чрезвычайно тяжелое. Единственная надежда – это бесконечное милосердие Всевышнего! Вернувшись в каюту, мы застали мисс Эмили в прежнем состоянии. Она в бреду звала сэра Фредрика, не узнавая его самого. По-прежнему он занял место сиделки у ее ложа. Корабельный врач нашел у мисс Гарди горячку, дал ей лекарство и обещал навещать. Однако добрый медик не заметил, что на лице у нее появились красные пятна и зловещая сыпь.Мистер Томпсон-старший закрыл тетрадь. Первым прервал молчание Паттерсон, владелец верфи. – Мне кажется, что мистер Уильям и мистер Ричард должны пожать благородную руку сэра Фредрика Райленда и предать забвению непреднамеренную обиду. Она представляется мне ничтожной в свете только что открывшейся нам истины, – сказал судостроитель торжественно. – Я присоединяюсь к этому мнению, – заявил Ленди. – Отец, я готов согласиться с джентльменами, – проговорил Ричард, глубоко тронутый прослушанной эпопеей. – Мне кажется, что после всего пережитого этими людьми разделить их было бы грешно и мелочные уколы самолюбия не должны влиять на наше отношение к этой чете. Пастор Редлинг с удовлетворением качал головой. Только старый Уильям Томпсон, откинувшись на спинку кресла, молча рассматривал тисненую кожу переплета рукописи и не поднимал глаз на собеседников. Едва джентльмены успели высказать свое суждение, раздался стук молотка у входной двери. Старый слуга, впустив кого-то в переднюю, появился на пороге гостиной. – Ваш вчерашний посетитель явился снова, – доложил он хозяину. Уильям Томпсон, решивший было, что это его супруга вернулась с заседания дамского комитета, в недоумении вышел в приемную вслед за слугою. Перед ним стоял невысокий человек, одетый в обычное платье уличных торговцев-разносчиков. Свою шляпу он держал в левой руке. Безымянный палец на этой руке отсутствовал. – Что вам угодно, мистер Роджерс? – спросил хозяин довольно сурово. – Сейчас не совсем обычное время для деловых встреч. – Приношу глубокие извинения, – прошептал незнакомец, отвешивая поклон, – но ваша помощь и совет нужны мне немедленно. Прошу вас еще раз уделить мне несколько минут. Сегодня утром я беседовал с Эндрью Лоусоном и с точностью установил, что стою на верном пути. Как только вы дадите мне обещанные дополнительные сведения о катастрофе «Черной стрелы», я временно покину Бультон. Мне небезопасно оставаться здесь… Мистер Томпсон пригласил посетителя в свой кабинет и приказал слуге предупредить гостей, что он занят с клиентом, прибывшим по срочному делу. Джентльмены откланялись, и вскоре шум их экипажей замер вдали на бультонских мостовых.
Борт «Бургундии», 26 апреля. Нам предоставлено право свободно передвигаться по всему судну. Матросы соорудили подобие двух мачт и поставили кливер и грот. Судно даже при свежем ветре делает не более четырех узлов. Нас кормят отвратительной бурдой из подмоченного риса. Запаса пресной воды должно хватить на десять-двенадцать суток. Дисциплина среди команды заметно падает. Но самое страшное – это болезнь мисс Гарди. Я уже не сомневаюсь, что она больна оспой. Скоро эту страшную новость нельзя будет держать в тайне от капитана. Боже, что станется с нами!
Борт «Бургундии», 28 апреля. Наступила влажная тропическая жара. Мисс Эмили не поправляется, но сознание временами возвращается к ней. Ей уже известна судьба ее несчастного отца. Боюсь, что вскоре нам всем придется разделить с ним ту же бездонную могилу.
Борт «Бургундии», 30 апреля. На борту вспыхнула эпидемия оспы. Я уверен, что кто-то из матросов-индусов принес ее на борт «Офейры» в Мадрасе, а мисс Эмили заразилась ею, когда перевязывала раненых. Теперь заболело несколько человек из экипажа. Ни мне, ни сэру Фредрику оспа не страшна – я перенес ее в детстве, и следы ее остались на лице. Сэр Фредрик тоже болел оспой в Индии и, вероятно, излечился с помощью средств, неизвестных нашей европейской медицине, самодовольной и невежественной. Черты его лица остались не обезображенными. Мисс Гарди страдает терпеливо и молча. Нас покинули все, и появляться на палубе нам теперь запрещено под страхом смерти. Один раз в день приносят скудную пищу и бросают в каюту через окошечко в дверях, как диким животным. Над кораблем поднят флаг бедствия. Часть команды намерена бежать с корабля и занята сооружением плота. Плот уже спущен на воду. На корвете останутся капитан, несколько уцелевших офицеров и кучка преданных им матросов. Завтра утром непокорная часть команды покинет судно. Все эти новости с горечью сообщил нам врач. Он продолжает навещать мисс Эмили и пока не затронут гибельной болезнью. Над мачтой развевается желтый флаг, означающий, что корабль – во власти самого грозного корсара: черной индийской оспы.
Борт фрегата «Крестоносец», 3 мая 1768 года. Благодарение Богу, мы спасены! Но какой страшной ценой! Третьего дня, поздним вечером, по уходе врача дверь нашей каюты забыли запереть. Сэр Фредрик тихо выбрался в коридор и проник на палубу. Его орлиные глаза даже при лунном свете разглядели на горизонте парус. Через минуту он прокрался на корму, под которой на волнах покачивался привязанный плот. Инструменты, служившие для его постройки, еще валялись на палубе. Тут же находились два длинных весла. Захватив с собой пилу и топор, сэр Фредрик спустился по канату на плот. Судно лежало в дрейфе, океан был спокоен, ветер почти не надувал безжизненных парусов. Сэр Фредрик увидел, что плот состоит из четырех частей, скрепленных друг с другом дощатым настилом. Распилив обвязку настила, можно было отделить длинный узкий плотик, управлять которым смогли бы без труда два человека. Сэр Фредрик принялся пилить. К счастью, никто не обратил внимания на этот звук за кормой; матросы, вероятно, полагали, что плотники кончают свою работу. Доска была вскоре перепилена, плотик стал разворачиваться и оказался отделенным от остальной части сооружения. Сэр Райленд зацепил плотик багром, быстро обрубил весла до нужного ему размера, вбил в бревна два толстых корабельных гвоздя в качестве уключин и одним взмахом топора разрубил швартов, удерживавший весь плот. Перескочив на свой плотик, он, стоя во весь рост и действуя одним веслом, стал направлять свое суденышко вдоль левого борта корабля к иллюминатору нашей каюты. Обо всех этих приготовлениях я, разумеется, ничего не знал, но сильно тревожился из-за столь продолжительного отсутствия нашего спутника. Каково же было мое изумление, когда в иллюминатор просунулась рука с концом каната и голос сэра Фредрика Райленда приказал мне удержать канат. Я помог сэру Фредрику забраться в каюту и стал вместе с ним спешно собирать самые необходимые предметы, документы и одежду. Наконец он предложил мне первому спускаться на плот. Прошептав молитву, я полез в узкое отверстие иллюминатора и с трудом ступил на шаткое сооружение. Затем из иллюминатора показалась голова спеленатой, подобно ребенку, мисс Гарди. Я осторожно принял ее на руки и положил на настил. Сэр Фредрик бросил мне связку одеял и еще раз вернулся в каюту. В этот момент до нас донеслись злобные крики и выстрелы. Возгласы: «Предательство!», «Смерть офицерам!», «Плот обрублен офицерами!», «К восстанию!» – перемежались с глухими ударами, стонами, выстрелами. Сэр Фредрик тихо спрыгнул на плотик. Я взял одно весло, сэр Фредрик – другое, и мы принялись с силой грести, удаляясь от корабля, охваченного безумием бунта. Вскоре до нас долетели крики: «Огонь на корабле!» Обернувшись назад, мы увидели на корме корабля длинный язык пламени. В этот же момент с корабля заметили наше бегство. «Гребите быстрее!» – крикнул мне мистер Райленд, и мы снова налегли на весла. С грохотом распахнулся один из пушечных портов левого борта. Канонир с дымящимся фитилем показался за орудием. Выстрел грянул, и ядро, не долетев до нашего суденышка, с шипением ушло в воду. Внезапно все небо озарилось словно багровой молнией. Я выронил свое весло и ничком упал на плотик. Послышался взрыв, от которого, казалось, небо разверзлось и океан расступился, как в Священном Писании. На несколько мгновений я потерял сознание, оглушенный ужасным сотрясением воздуха. Затем вокруг со свистом стали падать в воду обломки дерева и куски металла; клочья черного праха оседали подобно туче. Взглянув в сторону корвета, я увидел лишь задранный кверху нос корабля, быстро погружающийся в кипящий водоворот. «Очевидно, кто-то из офицеров решил ценою собственной жизни положить конец недостойному поведению бунтовщиков, – сказал мистер Райленд и, обнажив голову, сотворил короткую молитву по мужественному врагу, взорвавшему крюйт-камеру*["22] непокорного корабля. – С корвета я видел вдали парус. Будем надеяться, что нас заметят». И действительно, в первых проблесках рассвета мы увидели в трех милях большой фрегат, двигавшийся к нам. На ровной глади моря плавали обломки погибшего корабля и качался плот. Ни одного человека, ни одного уцелевшего члена экипажа не было видно! Взмахами белой простыни мы обратили на себя внимание. С фрегата спустили шлюпки. Через несколько минут нас окликнул по-английски мичман с первой шлюпки. Мы назвали наши имена. Каково же было мое удивление, когда этот молодой человек, услыхав мое скромное имя, испустил радостный возглас и чуть не прыгнул в воду, чтобы скорее добраться до нашего плота. «Мистер Мортон, сэр Фредрик Райленд, – кричал юноша, охваченный энтузиазмом, – скорее на борт нашего корабля! Ура, ребята!» Гребцы, к которым относилось последнее восклицание, подвели шлюпку, но сэр Фредрик предложил им отплыть на некоторое расстояние и потребовал врача для освидетельствования важного, опасного груза. Юноша дал команду, шлюпка полетела к фрегату, и вскоре юный мичман вернулся с врачом на борту. Полный джентльмен в парике и с лорнетом спросил нас, какой груз нужно осмотреть, но, взглянув на лежащее, укрытое одеялами тело больной, догадался, в чем дело. Мистер Райленд, перейдя на французский язык, чтобы не быть понятым командой, объяснил, что больную оспой необходимо положить на корабле в отдельное помещение, где мы, ее спутники, сможем оказать ей помощь, разделяя ее карантин. Почтенный доктор, пробормотав нечто неопределенное, удалился на фрегат. Там долго совещались. Эти минуты ожидания были ужасны, и мне ясно представилась картина гибели на жалком плотике среди океана. С тревогой я наблюдал, как одна из спущенных шлюпок подошла к большому плоту и подожгла сооружение мятежных матросов. Очевидно, таково было приказание командира фрегата. Наконец шлюпка с нашим другом мичманом снова приблизилась. Мичман держал в руках буксирный канат. Шлюпка прибуксировала наш плотик к трапу корабля. Уже через десять минут мисс Гарди лежала на койке, а мы удобно поместились в другой части больничной каюты, разделенной перегородкой на две половины. Прислуживать нам остался матрос фрегата, негр Сэм, с обезображенным оспой лицом. Наш юный спаситель подошел вскоре к дверям и рассказал нам, каким образом фрегат «Крестоносец» оказался в этих водах и откуда ему, мичману королевского флота мистеру Эдуарду Уэнту, известны наши имена. Оказалось, что фрегат, направлявшийся в индийские воды в качестве британского морского охотника за призами, встретил у берегов Мадагаскара наш поредевший караван и пустился на розыски «Офейры» и пиратов. Ураган далеко отклонил и его от взятого курса. Потеряв надежду найти исчезнувший корабль, фрегат взял направление на Капштадт*["23]. В этот момент с корабля заметили взрыв, и он подоспел к месту крушения «Бургундии». Судьбе было угодно, чтобы на фрегате совершал свое первое плавание в качестве мичмана мистер Эдуард Уэнт, сын мистера Монтегю Уэнта, управляющего бультонским поместьем Честерфилд. Эдуард Уэнт окончил мореходные классы в Портсмуте, моем родном городе, где воспитывалась у своей тетки моя дорогая Мери. И что же оказалось? Оказалось, что этот сорванец, этот восемнадцатилетний мистер Уэнт, самонадеянный мичманок, носит в своем бумажнике миниатюрный портрет моей Мери и склонен уже считать меня своим будущим тестем! О, моя маленькая шалунья, дай бог мне благополучно вернуться домой, в наш старый Портсмут, и я постараюсь исторгнуть из твоей милой головки всякую мысль о мичманах и морских офицерах!
Борт фрегата «Крестоносец», 17 мая. Фрегат приблизился к африканским берегам. Мисс Эмили оправилась от своей болезни, но как она переменилась! Лицо ее потеряло нежный румянец, несколько небольших рубцов осталось на висках и на подбородке, глаза утратили свой блеск, волосы – свою пышность, но она, конечно, остается привлекательной молодой леди. Через две-три недели кончится наш карантин, мы сможем выходить на палубу. Мисс Гарди глубоко удручена горем: потеря отца, так и не увидевшего родной Бультон, болезнь, ужасные переживания – все эти жестокие удары судьбы она переносит стойко. Но прежнюю жизнерадостную Эмили трудно узнать в этой подавленной женщине.
Борт фрегата «Крестоносец», 22 мая. Порт Капштадт. О радость! Мы следуем в Англию на «Крестоносце»! В Капштадте, куда мы прибыли 20 мая, мы застали весь состав нашего каравана, который будет следовать к берегам Англии в сопровождении нашего фрегата. Жаль, что карантин удерживает нас в каюте: в Капштадте у меня имеются дальние родственники и старые друзья. Мисс Эмили подолгу беседует с сэром Фредриком и выглядит уже несколько лучше. Благодаря соблюдению карантина зараза не проникла на корабль, и к 1 июня врач разрешил нам появиться в кают-компании. Пока единственным моим развлечением служит эта тетрадка, которая поможет сохранить в памяти подробности трагических переживаний, выпавших мне уже на закате моих лет.
Атлантический океан, борт «Крестоносца», 1 июня 1768 года. Уже пятые сутки находимся в плавании. Прошли в виду пустынного острова Святой Елены. Сегодня мы были представлены командиру и офицерам корабля. С большим достоинством сэр Фредрик поблагодарил джентльменов за помощь и просил принять от себя лично чек на пятьсот фунтов для украшения судна и раздачи наград членам экипажа. Когда команда узнала об этом, мистер Райленд стал любимцем на корабле, а знание морского дела увеличило его популярность настолько, что старший офицер «Крестоносца» мистер Дональд Блеквуд шутливо предложил ему купить офицерский патент и принять командование судном. Сэр Фредрик отвечал, что если бы судьба сделала его судовладельцем, то он доверил бы свой лучший корабль мистеру Блеквуду. Мисс Эмили держится замкнуто и мало показывается в обществе. Вероятно, причиной этому служит, в частности, и столь ощутимая для всякой дамы перемена во внешности. Слезы навернулись у нее на глаза, когда ей представился, с изъявлениями восторга по адресу сэра Фредрика, юный мистер Уэнт, сын старого служащего дома Райлендов… Теперь у нас уже отдельные каюты, со всеми удобствами.
Порт Плимут, борт «Крестоносца», 2 августа 1768 года. Записываю эти строки дрожащей рукой в каюте, сквозь иллюминатор которой мне виден военный порт моей родины. Слышу грохот якорных цепей и команду: «На месте!» Да здравствует старая Англия! Боже! Храни нашего короля!
Бультон, 20 декабря 1768 года. Чтобы закончить эту тетрадь, приписываю еще несколько строк. Поручения, полученные мною от конторы «Ноэль-Абрагамс и Мохандас Маджарами», целиком выполнены. Мистер Райленд вступил в права наследства и уже поселился в своем поместье Ченсфильд близ Бультона. Лишь с большими хлопотами он добился прав на восстановление виконтского титула, столь легкомысленно утраченных его недальновидными предками. Эти хлопоты стоили немалых затрат, но у сэра Фредрика – весьма широкие планы. Со временем он надеется вернуть своему опальному роду даже пэрские права и от крыть себе дорогу в самые высокие сферы. Бог ему в помощь в этих начинаниях! С искренним прискорбием он узнал о недавней смерти отца мичмана Эдуарда, достойного мистера Монтегю Уэнта, управляющего поместьем Ченсфильд. Сэр Фредрик предложил занять эту должность мне. Глубоко удовлетворенный оказанной честью, я принял предложение и с 1 января 1769 года приступаю к обязанностям управляющего поместьем. Мисс Эмили до окончания траура живет в Бультоне, в частном пансионе Эндрью Лоусона, бывшего служащего своего отца. Она взяла себе в услужение негра Сэмюэля Гопкинса, помогавшего нам во время путешествия на «Крестоносце»; этот черный слуга необыкновенно привязался к мисс Эмили. Все дела, связанные с закрытием фирмы мистера Гарди, исполнены мною строго по желанию этого добрейшего из моих клиентов. Небольшой капитал, оставшийся после ликвидации обеих английских контор фирмы Гарди, положен в «Бультонс-банк» на имя мисс Эмили. Свадьба сэра Фредрика и мисс Эмили назначена на весну будущего, 1769 года. По желанию мисс Гарди венчание будет происходить за границей, во Франции илиИталии. На этом я заканчиваю свои записки. Свою дочь я прижал к сердцу еще в Портсмуте, где сейчас она заканчивает свое образование. Мери переедет тотчас по окончании частного пансиона ко мне в Ченсфильд. Записки эти будут сохраняться в конторе мистера Томпсона до совершеннолетия дочери. Аминь».
2. Люди, нужные королевству
1
На бультонской корабельной верфи заканчивался рабочий день, но грохот кузнечных молотов, удары топоров, шарканье пил и рубанков – весь этот шум, заглушающий здесь человеческий голос, еще раздавался в доках. Изредка над колыбелью кораблей проносились чайки. Испуганные гулом и лязгом, они торопились подняться выше, где ветер развеивал чад разогретой смолы и дым кузнечных горнов. Окруженные лебедками, блоками, строительными лесами и стремянками, высились на наклонных помостах корпуса морских кораблей. С одного из них уже убирали леса; лишь узкие мостки еще опоясывали высокие борта судна. Несколько трапов поднималось от мостков к фальшборту, другие вели вниз, к килю. Спуск этого корабля, самого крупного из заложенных на верфи, был назначен на завтра. Пожилой корабельный мастер Джекоб Гарвей, коренастый человек с огненно-рыжими бакенбардами, в низко нахлобученной на лоб фуражке с длинным козырьком, проверял последние приготовления к спуску. Он держал в зубах короткую трубку и негромко отдавал приказания, не разжимая зубов и выпуская клубы дыма вслед за каждым словом команды. Уже были смазаны китовым жиром ходовые доски настила, по которым судно соскальзывает с помоста в воду. Корпус корабля удерживали на месте только мощные бревенчатые упоры. Остов судна напоминал туловище неведомого морского животного: под обшивкой угадывался «скелет» с чудовищными ребрами-шпангоутами; высокий острый нос и плавно выгнутые линии бортов придавали корпусу сходство с диковинной рыбой, а круглая корма походила на голову кита. Корабль не имел еще ни мачт, ни палубных над строек – все это предстояло поставить на плаву, – но в стройных линиях длинного корпуса опытный глаз мог уже угадать отличные мореходные качества будущего «пенителя океанов». Владелец верфи мистер Паттерсон, сопровождавший своего заказчика, сэра Фредрика Райленда, шагал по горам стружки, щепы и опилок, лавируя между штабелями бревен и бухтами канатов. Закончив осмотр корабля, они уже собирались уходить с верфи. Вдруг совсем близко кто-то громко вскрикнул от боли. Хозяин и заказчик обернулись. Несколько плотников, побросав топоры и долота, бегом бросились к противоположному борту. – Гарвей, узнайте, что там произошло, – приказал хозяин. – Плотник Паткинс отрубил себе три пальца на левой руке, сэр, – доложил мастер, лишь на мгновение вынув трубку изо рта. – Это весьма досадно, Гарвей: плотник этот очень нужен нам сейчас. Сможет ли он завтра продолжать работу? – Нет, сэр, нужен врач… – Хорошо, я вызову доктора Грейсвелла, этого чудака из госпиталя Cвятого Христофора. Пошлите за доктором моих лошадей. Грейсвелл должен поставить его на ноги, хотя бы на один завтрашний день. Кстати, оштрафуйте вон тех двух молодцов, чтобы впредь не бросали инструментов и не смотрели по десяти минут на человека, которому перевязывают царапину. Гарвей, плату доктору вы удержите из жалованья Паткинса. А к следующей неделе найдите на его место другого опытного плотника. Мистер Райленд, прошу вас к себе в кабинет. Усадив гостя за свой рабочий стол в кабинете, где все стены были уставлены и увешаны моделями, чертежами и рисунками кораблей, мистер Паттерсон принялся расхаживать из угла в угол. Гость молча рассматривал модель парусного брига, стоявшую на дубовой подставке. – Любуетесь моделью своего «Ориона»? – спросил судостроитель. – «Окрыленный» будет еще лучшим кораблем. Он уже причинил нам с Гарвеем немало хлопот! Корабль большой, пятимачтовый, вытянутый в длину, с двухъярусными батарейными палубами. Борта опоясаны слоем каменного дуба в пол-ярда толщиной! Они непроницаемы для пушечных ядер; им мало опасен даже огонь зажигательных бомб. Корабль будет вооружен тридцатью шестью тяжелыми каронадами и таким же количеством средних морских пушек, стреляющих двадцатифунтовыми ядрами. При водоизмещении в три тысячи тонн «Окрыленный» разовьет ход до пятнадцати узлов на полной оснастке и при хорошем ветре. Мне еще никогда не приходилось выполнять столь сложные и противоречивые требования заказчика. Легко сказать: при таком ходе и такой вооруженности трюмы «Окрыленного» должны вместить груз по меньшей мере двух торговых шхун! Выполняя этот заказ с такой тщательностью, с какой еще ни одно судно не строилось на нашей верфи, я скорее руководствуюсь чувством личной симпатии к заказчику, нежели соображениями выгоды. Расходы столь велики, что постройка «Окрыленного» не обещает мне особенной прибыли… Мистер Райленд выразил свою признательность легким поклоном, но по-прежнему сохранял молчание. – Четвертый год, сэр, мы успешно сотрудничаем, – продолжал владелец верфи. – Корабли, построенные мною, благополучно плавают под вашим флагом. Они доставили и для моей верфи несколько ценных грузов, подчас даже, так сказать, в обход некоторых таможенных формальностей. Мне кажется, сэр, что для нас наступила пора стать более откровенными друг с другом. Мореходные и боевые качества «Окрыленного» не оставляют сомнений; подобное судно может служить только капером*["24], сударь!.. – Не вижу причин, почему вам понадобилось такое большое предисловие, чтобы высказать очевидную истину, мистер Паттерсон! Лицо сэра Фредрика сохраняло самое невозмутимое выражение. – Очевидную истину? – воскликнул пораженный владелец верфи. – С каких это пор знатный английский дворянин и землевладелец, отец прекрасного и почтенного семейства, считает для себя естественным переменить образ жизни помещика и делового человека на неверный, хотя и заманчивый жребий «пенителя морей» – корсара? Ибо капер – не что иное, как корсар, узаконенный правительством! – Во-первых, каперство поощряется британским законом и дает крупную прибыль королевской казне. Во-вторых, почему вы полагаете, что владелец корабля-капера непременно должен сам пуститься в погоню за призами? – О, мистер Райленд, недавно мне представилась возможность прослушать несколько страниц вашей изумительной биографии, запечатленной в тетради Мортона. Человек с вашим знанием моря, вашей отвагой и мужеством, владея «Окрыленным», не усидит дома! Сэр Фредрик Райленд рассмеялся. – Не могу же я, в самом деле, быть одновременно капитаном всех кораблей моей компании, управляющим всеми предприятиями, добрым хозяином имения и вдобавок командиром своего капера! Впрочем, – добавил он улыбаясь, – я не отказываюсь от мысли совершить когда-нибудь и самостоятельный рейс на «Окрыленном». Приглашаю вас разделить тогда со мной и риск и удачу, если только миссис Паттерсон не удержит вас около себя. Паттерсон задумался. Ему представились дальние моря, штормы, пороховой дым сражений, окутывающий мачты «Окрыленного», груды золота в трюмах… Риск и удача, хм! Решительный мужчина этот виконт Ченсфильд, черт возьми! – Разосланы ли приглашения всем гостям нашего маленького праздника – спуска на воду нового корабля? – спросил Райленд. – Все именитые люди города и графства охотно приняли приглашение. Даже леди Стенфорд. – Леди Эллен Стенфорд? Мы с ней соседи по имениям, но мне до сих пор не представлялось случая лично с ней познакомиться. – О, леди Стенфорд не только очаровательная, но и весьма дальновидная дама. Она овдовела два года назад и недавно, говорят, дала согласие молодому мистеру Ричарду Томпсону объявить об их помолвке. – Вот как? – Сэр Фредрик слушал собеседника весьма внимательно. – Что же побуждает знатную, состоятельную вдову к этому мезальянсу?*["25] – Вероятно, убедительное красноречие мистера Ричарда. Впрочем, это весьма достойный молодой человек и, кстати, сын моего старого друга, мистера Томпсона, доктора прав. – Что ж, я буду рад познакомиться с этой леди на борту «Окрыленного». Я слышал, что она поощряла деловые начинания своего покойного супруга, сэра Джорджа Стенфорда, и, кроме того… – Доктор Рандольф Грейсвелл, врач госпиталя святого Христофора, – прервал виконта корабельный мастер Джекоб Гарвей, входя в кабинет. Вслед за ним вошел невысокий человек в очках, щуря близорукие, добрые глаза. Джентльмены раскланялись, и мистер Райленд направился к своему гигу*["26]. «Рандольф Грейсвелл, – вспоминал он. – От кого же мне случалось уже слышать это имя? Кажется, это было очень, очень давно…»2
Почтенный бультонский банкир мистер Сэмюэль Ленди, тяжело припадая на подагрическую ногу, поднимался по ступеням серого здания, где помещалась юридическая контора «Томпсон и сын». Коляска, запряженная парой раскормленных лошадей, осталась ждать у подъезда. Тяжело дыша и прихрамывая, джентльмен прошел коридор, скупо освещенный единственным стрельчатым окном, и, отдышавшись, открыл дверь в тесную комнату. Два клерка, не поднимая глаз на вошедшего, скрипели гусиными перьями, макая их в огромные чернильницы. Третий сосредоточенно занимался извлечением мухи из подобного же сосуда. Высокие шкафы, доверху наполненные пожелтевшими свитками документов и стопами бумаг, от одного вида которых на сердце делалось тоскливо, толстые фолианты с кожаными корешками, лежащие на полу, столы, покрытые пыльным сукном, испещренные кляксами черного, красного и зеленого цветов, – все это оставляло весьма узкий проход к двери, что вела в соседние апартаменты. Мистер Ленди одолел этот проход и оказался в следующей, большой и грязной комнате. Узрев посетителя, целая дюжина сидевших здесь клерков разного возраста сразу схватилась за перья с видом неутомимого трудолюбия. В конце комнаты, за нагромождением шкафов, столов и бумаг, виднелось небольшое пространство, отделенное деревянным барьером и предназначенное для посетителей. К их услугам стояли две черные скамьи с высокими прямыми спинками. Тут же, перед массивной дверью, восседал за высокой конторкой, заложив перо за ухо, очень тощий клерк в черном фраке. На двери, полускрытой портьерой, красовались две медные дощечки. На верхней значилось: «Уильям Томпсон, королевский адвокат, доктор прав». Нижняя дощечка возвещала, что за этой же дверью священнодействует также и барристер*["27] Ричард Томпсон. Оказавшись за барьером, мистер Ленди увидел себя в обществе пожилой женщины, державшей за руки двух мальчиков. Тощий клерк впустил женщину и ее сыновей в кабинет главы конторы и принял из рук мистера Ленди его карточку. Узнав в посетителе почтенного друга обоих принципалов, клерк согнулся в неуклюжем поклоне и пригласил мистера Ленди проследовать в кабинет. Мистер Томпсон-старший сидел в высоком кресле за старинным голландским бюро. Тяжелая портьера с бахромой и кистями отделяла дальнюю часть кабинета, где мистер Ленди увидел пустующий стол и жесткое кресло, на котором спала кошка, воспользовавшаяся отсутствием младшего совладельца конторы. Шкафы, внушающие благоговение своими размерами, были заперты и прикрыты занавесями. К услугам клиентов стояло несколько стульев, обитых бахромой. Мраморная фигура бога коммерции Меркурия в крылатых сандалиях и с жезлом в руке дополняла обстановку. Владелец конторы пригласил гостя присесть и продолжал разговор с женщиной, державшей за руки мальчиков. – Так что же вам угодно от меня, миссис Бингль? – спросил он. – Милорд, – отвечала та, глядя на адвоката с почти молитвенным благоговением, – я пришла попросить вашего совета. Мой покойный муж служил мастером в «Северобританской компании». Когда для бультонской мануфактуры выстроили новое здание и туда стали переносить станки, с потолка упала какая-то балка. Моего Джона придавило насмерть… – Постойте, постойте, миссис Бингль, я знаю об этом прискорбном случае! Эта… как ее… балка сломала новый ткацкий станок, новую машину! Вероятно, тут не обошлось без злого умысла, и сам Господь покарал вашего мужа! – Но, сэр, несчастье произошло поздно вечером, уже в темноте. Усталых людей заставили после двенадцати часов труда еще переносить в цех эти изделия Вельзевула, эти богопротивные, мерзкие станки… – Если вдова мастера рассуждает столь безнравственно, то чего же ожидать от остальных фабричных! Вы забываете Бога, миссис Бингль!.. Что повелел нам Всевышний в бесконечной мудрости своей, я спрашиваю вас, миссис Бингль? Женщина испуганно всхлипнула и вытерла глаза концом своей шали: – Он повелел нам трудиться, милорд. Голос юриста смягчился. – Да, миссис Бингль, от зари дотемна и в поте лица своего, вот так, как тружусь я уже более сорока лет… Поэтому не сетуйте на хозяина, который дает вам возможность трудиться по божьей воле, не сетуйте на вашего кормильца. Итак, вы лишились мужа, который пострадал, вероятно, как жертва собственного злого умысла против имущества хозяев? – Сэр, видит бог, мой Джон был совсем не виноват в поломке машины, хотя и впрямь многие у нас только о том и толкуют, как бы поскорее поломать проклятые станки. Ведь от них и пошли все наши несчастья! Вот в Спитфильде, сказывают, мастеровые давно разбили и машины, и даже стены проклятой фабрики… – И были за это повешены! Упаси вас боже, миссис Бингль, повторять эти безнравственные рассуждения. Неблагодарные мастеровые забывают, что своим куском хлеба они обязаны только предпринимателю. Ведь благодаря вашему хозяину, почтенному мистеру Райленду, неимущие жители нашего дорогого Бультона имеют постоянную работу в новых цехах. Я подавлен людской неблагодарностью! Разве так пристало говорить вдове цехового мастера? Зачем вы пришли ко мне с подобными мыслями и речами? – Но, милорд, я погибаю с детьми от нужды! Пожалейте нас, ваша милость! У нас нет хлеба, мы задолжали лавочнику, управляющий грозит завтра выгнать нас из дому. Смилуйтесь над нашими несчастьями, добрый сэр! Ведь мальчики мои еще такие юные, совсем дети! – Ваши мальчики находятся передо мною, и я не нахожу их столь юными. Вероятно, они ленятся, если нужда ваша так велика при двух больших сыновьях. Как их зовут и каковы их занятия? – Поклонитесь милорду, дети! Подойдите ближе к господину адвокату. Вот, сэр, это мой старший, Джордж, четырнадцати лет, а это – Томас, ему еще только девять. – Они оба, конечно, давно работают в цехах? – спросил мистер Томпсон, взглянув на красные, потрескавшиеся пальцы младшего мальчика. – Они уволены, милорд: Том – после несчастья с их отцом, а Джордж – еще раньше. Я стираю белье на соседей, и это пока наш единственный заработок. – Что они делали на фабрике и за что их уволили? – Том не имел никаких замечаний, сэр, никаких! Он у меня прилежный мальчик. Уже три года он разбирал шерсть в суконном цехе. Но, когда нашего отца задавило и сломался этот прокля… этот новый станок… Тому отказали в выплате жалованья: мистер Норвард приказал покрыть стоимость сломанной машины за счет нашей семьи. Тогда Томми… ведь ему только девять лет… немного дерзко поспорил, его прогнали… – А ваш старший сын, чем он сейчас занят? – О, сэр, Джорджи разбил мое материнское сердце! Его уволили с фабрики еще в прошлом году, он теперь… иногда зарабатывает в порту на погрузке кораблей и приносит в неделю не больше двух-трех шиллингов! – За что же его выгнали с фабрики, где он имел верный заработок? – Он хотел… Он очень хотел учиться рисовать, милорд… Старший мастер невзлюбил его… – Позвольте, не этот ли молодой человек в прошлом году нарисовал ткацкий станок в виде чудовища, пожирающего людей? – Он самый, милорд… – Я помню, миссис Бингль, о, я все помню. Значит, это и есть тот сорванец, который нарисовал на стене цеха ужасную, безнравственную карикатуру на мистера Норварда и новые машины? И его выгнали с позором? Поделом ему, поделом! В таком возрасте – и такое легкомыслие, такие вредные затеи! Что же вы для них хотите? – Милорд, помогите мне испросить прощение у мистера Норварда, чтобы он приказал выплатить нам хоть часть заработка моего покойного Джона… Добрый милорд, замолвите словечко, чтобы сыновей моих опять взяли на фабрику, иначе мы умрем с голоду, милорд! – Вы сами знаете, что ваши требования к мистеру Райленду и мистеру Норварду незаконны. О выплате вам жалованья мистера Джона Бингля, вашего покойного супруга, не может быть и речи; по его недосмотру или умыслу пострадал фабричный станок. Возвращать в столь смутное время на фабрику ваших сыновей тоже, вероятно, не следует, ибо они показали себя дерзкими и непочтительными… Женщина закрыла руками лицо, и казалось, что она вот-вот упадет от изнеможения и горя. Мистер Томпсон продолжал уже менее сухим и строгим голосом: – Но я всегда сочувствую человеческому горю и… готов оказать вам услугу, какие редко оказываю: я дам вам рекомендацию к владельцу бультонской верфи и лично попрошу его принять в доки ваших сыновей. Сейчас мы с мистером Ленди отправляемся на верфь, и я увижу там самого мистера Паттерсона. А вы возьмите эту записку и завтра явитесь с ней к владельцу верфи или корабельному мастеру Гарвею. Произнеся эти слова, он взял листок с бювара и написал на нем несколько строк. Женщина, бережно спрятав листок за корсаж и низко поклонившись ученому мужу, удалилась вместе с мальчиками. Мистер Томпсон устало откинулся в кресле. – Вот такие ходатаи целыми днями отвлекают меня от серьезных дел! Но я привык помогать своим ближним и трачу на это много сил и здоровья… Дженкинс! – крикнул он тощему клерку. – Я сегодня больше никого не принимаю. Мы уезжаем в доки, на спуск нового корабля. – Я догадываюсь, что мистер Ричард уже отправился за леди Стенфорд, – сказал Ленди. – Она ведь тоже приглашена. Но сейчас еще только полдень, а спуск назначен на два часа дня. Не выпить ли нам пива в «Белом медведе»? Джентльмены вышли на улицу и уселись в просторной коляске мистера Ленди. В полупустом зале гостиницы «Белый медведь» их встретил сам хозяин. – Как дела, Гопкинс? – приветствовал его мистер Томпсон, усаживаясь за столик в глубине зала. – Не особенно блестящие, сэр! «Чрево кита» находится ближе к порту. Все моряки и корабельные пассажиры идут в «Чрево». Я потерял много клиентов, с тех пор как этот грязный кабак с девками… – Не ворчите, Гопкинс! Старожилы города остались верными «Белому медведю». Кроме того, у вас останавливается почта, и все пассажиры дилижанса попадают к вам. – Это верно, мистер Томпсон. Чем могу служить вам и мистеру Ленди? Сделав заказ, старый адвокат обратился к своему собеседнику: – Кстати, мистер Ленди, вы когда-нибудь бывали в «Чреве кита»? Его хозяин, Вудро Крейг, очень быстро разбогател. Что представляет собою его заведение? Ленди пожал плечами: – Обыкновенная портовая таверна с номерами… На днях мне довелось там ужинать с сэром Фредриком Райлендом. – С сэром Фредриком Райлендом? Вот как? – удивился адвокат, вспомнив реплики мистера Ленди во время недавнего чтения рукописи Мортона. – Значит, в течение двух последних недель вы успели ближе познакомиться с этим джентльменом? Мистер Ленди молча кивнул. – А я, – продолжал адвокат, – был неожиданно осчастливлен приездом его супруги. Не далее как вчера она посетила мой дом вместе с мисс Мери, дочерью Томаса Мортона. Дамы попросили у меня рукопись, которую я читал вам. Она красивая особа, эта леди Эмили Райленд, и держится подкупающе просто. Адвокат вспомнил о юношеской любви своего сына и задумался. Нынешний выбор Ричарда не радовал старика: в своей будущей семье молодой барристер вряд ли мог сохранить главенство… Подкрепившись, оба почтенных джентльмена покинули гостиницу. Пара серых лошадей понесла коляску к порту и вскоре остановилась перед воротами в высоком деревянном заборе, отделявшем территорию верфи от городской окраины.3
Две длинные гирлянды из зеленых веток и живых цветов перекрещивали могучий корпус корабля, возвышавшийся над помостом. Увитый зеленью форштевень был украшен двумя искусно вырезанными из дерева лебедиными крыльями, распростертыми в плавном полете. На небольшом временном мостике в центре палубы, под натянутой на случай дождя парусиной, стоял с медным рупором в руке владелец «Окрыленного». Ветерок развевал складки его плаща, грудь камзола наискось пересекала шитая золотом перевязь шпаги, голова была не покрыта. Ранняя седина поблескивала в его густых темных, слегка курчавых волосах, заботливо уложенных парикмахером. Пренебрегая модой, он на этот раз был без своего пудреного парика с косичкой. Он стоял в центре судна один, эффектно выделяясь на голубом фоне неба. Поодаль от помоста, с которого должен был соскользнуть на воду корабль, на дощатом возвышении собрались гости, рассматривая с любопытством доки, корабль и одинокую фигуру человека на мостике. Вокруг места, отведенного для гостей, толпились празднично одетые рабочие, пришедшие с женами и детьми. Люди, занятые приготовлениями к спуску, во главе с мастером Гарвеем хлопотали у днища и бортов «Окрыленного». Голубая лента, которую предстояло разорвать кораблю, трепетала в порывах ветерка у самой воды. Оркестр из двенадцати музыкантов расположился на причальной стенке и настраивал трубы и литавры; глухо гудели удары в большой барабан. На носу и на корме судна, около якорных кабестанов*["28], выстроились двумя группами по шесть человек матросы в синих шапочках, белых блузах и черных штанах. Четырехлапые якоря блистали свежей краской. Якорные цепи уходили в черные гнезда корабельных клюзов*["29]. Пахло смолой, дегтем, пенькой, свежим деревом; люди вдыхали этот вечный, везде одинаковый и всегда волнующий запах морской пристани. Все кругом было прибрано и подметено заботливой рукой. Толпа зрителей сдержанно гудела. Сэр Фредрик, стоя на мостике, взглянул на большую луковицу карманных часов. Они показывали ровно два. – К спуску приготовьсь! – скомандовал он в рупор. Говор и смех в толпе смолкли. Зрители замерли в ожидании. К деревянным упорам, удерживавшим корабль, приблизились люди с топорами. Мистер Гарвей махнул рукой, и топоры врубились в дерево. Полетели щепки. Бревна звенели, как туго натянутые струны. Слышалось потрескивание. Корпус судна, чуть вздрагивая, стал оседать. В этот миг у крайнего спереди упора произошла какая-то заминка. Поскользнувшись на густо смазанном жиром настиле, один из рабочих упал. Не видя его, плотники продолжали дружно рубить бревна. Раздался сильный треск; подрубленные опоры стали ломаться: плотники с топорами в руках успели соскочить с помоста. Крайнее бревно, около которого еще силился вскочить на ноги упавший человек, лопнуло, как спичка, и огромная махина плавно двинулась всей своей тяжестью вперед, подмяв под себя несчастного. Невольный крик вырвался у зрителей, но корабль, все ускоряя свой ход по настилу, уже летел вниз, навстречу звукам оркестра. Затрепетал в воздухе голубой шелк разорванной ленты; большая бутылка с шампанским, метко брошенная рукой матроса, стоявшего наготове около ленточки, со звоном разбилась о стройный форштевень судна. Высоко взлетели столбы брызг; мелкие щепки, стружки, ветки, цветы всплыли на вспененной поверхности моря, и корпус «Окрыленного» закачался на легкой волне. На задымившихся, сразу почерневших досках настила среди растертого горячего жира алело еле заметное пятно. Доктор Грейсвелл, находившийся среди гостей, сделал движение, чтобы поспешить на помощь, но, увидев всю бесполезность такой попытки, остался на месте. Пастор Редлинг, осенив крестом опустевший док и судно, где уже гремели якорные цепи, прочел короткую молитву. Рабочие поливали из парусиновых шлангов настил, остужая его холодной водой и смывая следы крови. Тем временем с «Окрыленного», подтянутого канатами к причальной стенке, бросили второй якорь. Матросы спустили на причал широкий трап. Почетные гости, сопровождаемые мистером Паттерсоном, вступили на палубу, где слуги уже накрывали столы под тентом. На берегу, вдоль причальной стенки, на длинных столах, сколоченных из досок, хозяин выставил для строителей корабля несколько бочонков рома и пива. Искоса поглядывая на опустевший док, ставший безымянной могилой их товарища, рабочие взялись за оловянные кружки. «Кровавое крещение», – говорили они своим женам, понижая голос и озираясь на корабль, где гремел оркестр, сновали слуги и шумное, нарядное общество за столом уже отдавало честь искусству поваров и виноделов. Неприятное событие, чуть не омрачившее праздник, было предано забвению, и вскоре веселые тосты и винные пары окончательно изгладили следы его из памяти пировавших джентльменов. Лишь за другими, дощатыми столами время от времени какой-нибудь Том или Джек с мутными от вина глазами поднимал кружку за беднягу Майка, да в убогой каморке рабочего поселка, прижавшись к мужской шерстяной куртке, рыдала старуха, узнавшая, что ей никогда больше не услышать веселого оклика с порога: «Здравствуй, мать!»4
– Где же он назначил тебе свидание, Камилла?.. Да перестань плакать, я уже давно не сержусь на тебя. Всхлипнув и вытерев слезы платочком, молоденькая горничная леди Эмили Райленд подняла заплаканные глаза на свою госпожу. Легкий кабриолет с запряженным в него гнедым иноходцем катился по дороге в Бультон. Лошадью правил рябой негр в красном кафтане. На кожаной подушке сиденья, подобрав длинные юбки с оборками, рюшами и воланами, покачивались две молодые дамы. Рядом с негром сидел старый Эндрью Лоусон, бывший оценщик конторы Гарди. – Мадам, – отвечала по-французски заплаканная горничная, – я обещаю вам, что это никогда не повторится. Я никак не предполагала, что мое легкомыслие поведет к таким серьезным последствиям. Вначале этот человек совсем не казался мне обманщиком, и лишь потом я поняла, что это какой-то опасный тайный агент. Свидание назначено там же, где я встретилась с ним в первый раз, – вон в той роще, за поворотом дороги, на поляне, окруженной кустарником. Прошлый раз мы сидели там на скамеечке, мадам. – Хорошо, Камилла, что ты сказала мне правду, хоть и с опозданием. Теперь сойди с экипажа, ступай на поляну и жди своего друга как ни в чем не бывало. Эндрью, вы пока останетесь на опушке у лошадей; потом я позову вас. Сэм, – обратилась дама к негру, – а вы идите вслед за Камиллой, скройтесь в кустарнике возле скамьи и обязательно задержите незнакомца, если он вздумает улизнуть. Я хочу сама поговорить с ним. Лошадь и кабриолет нужно спрятать, чтобы с дороги их не было видно. Я останусь здесь, у этого дерева. Когда он должен прийти, Камилла? – В четыре часа, мадам. – Сейчас половина четвертого. У нас есть время приготовиться к встрече. Иди, Камилла, и не делай такого несчастного лица! Однако не успела Камилла скрыться за кустами, как в листве дерева, под которым заняла свою стратегическую позицию леди Райленд, что-то сильно зашумело, и, ломая мелкие ветки, с дерева спустился незнакомый человек. Негр подскочил было к незнакомцу, но тот уже склонился перед дамой в почтительном поклоне и заговорил с легким чужестранным акцентом: – Леди Райленд, ваши военные приготовления к моей встрече напрасны. Я не имею намерения избегать беседы с вами. Позвольте мне без промедления сказать вам несколько слов наедине. – Говорите, что заставило вас шпионить за мной и расспрашивать обо мне прислугу? – С этими словами леди Райленд пошла по тропинке к небольшой полянке в глубине рощи. Незнакомец последовал за нею. Леди Эмили опустилась на деревянную скамью. Ее собеседник заговорил, стоя перед дамой с непокрытой головой. – Я вижу, леди Райленд, что старый Лоусон уже нарушил свое обещание оставить в тайне мое посещение! – Да, больной старик пешком приплелся в Ченсфильд и рассказал мне все. Камилла тоже нашла в себе мужество признаться, что неделю назад она встретилась здесь с человеком, который выпытывал у нее подробности о хозяевах дома. Чего вы добиваетесь этими низкими средствами? – Вы знаете, что именно привело меня в Бультон, и должны понять, почему я искал помощника среди ваших слуг. Не мог же я, ничего о вас не зная, ожидать сочувствия от… леди Райленд! Но после всего, что я услышал от Камиллы, я готов открыть вам свое настоящее имя. Я не Роджерс и не англичанин. – Напрасно было бы вам и пытаться выдавать себя за англичанина: наружность и акцент выдают в вас итальянца или испанца. – Леди Райленд, я пришел на свидание и счел невыгодным изменять внешность. Если меня принуждает необходимость, я умею принять вид заправского англичанина. Тем не менее вы правы. Я действительно испанец, Фернандо Диас. Родом из Толедо. В прошлом плавал на пиратском судне штурвальным. Я страшусь произнести перед вами имя моего прежнего капитана, ибо оно вам хорошо известно. – Вы говорите о бесчеловечном Бернардито Луисе? – тихо спросила дама. – Да, синьора. Но Бернардито был тигром, а не гиеной. Он не пятнал себя убийством стариков и пленением женщин… – Но он не мешал творить эти злодеяния людям своей шайки! – Синьора, я вижу, что к Бернардито, который все же имел понятие о чести, вы относитесь строже, чем к другому лицу, чьи руки по самые локти обагрены кровью невинных. Леди Эмили вздрогнула. Стиснув кружева своего воротника, она встала со скамьи. – Говорите по-испански, – произнесла она побелевшими губами. – Я понимаю язык вашей родины. Чего вы хотите от меня? – Синьора, вы являетесь наследницей покойного мистера Гарди. Прикажите старому служащему вашего отца открыть мне, в чьих руках он видел похищенный камень. – Сначала скажите, синьор Фернандо, у кого он был похищен? – Этот камень вручил мне сам Бернардито, чтобы я отвез его в Грецию, старой синьоре Эстрелле Луис, его матери. Я поклялся, что любой ценой доставлю старухе подарок сына. Другой камень, меньших размеров, капитан подарил мне. Два моих врага, штурман Джузеппе Лорано и боцман Вудро Крейг, в смертельной схватке отняли у меня оба камня. Это было на испанском берегу, перед выходом «Черной стрелы» в ее последний рейс… Только через полгода, весь израненный, я добрался до Греции. К матери Бернардито я явился с пустыми руками и с вестью о гибели шхуны. Эта весть догнала меня еще в Марселе – все моряки говорили тогда о прибытии в Гибралтар британского фрегата «Крестоносец». Этот фрегат подобрал спасенных с корвета «Бургундия», утопившего шхуну Бернардито… Я нашел старуху в жестокой нужде и вдобавок с внуком на руках. Оказалось, что мальчик родился, когда его отец, Бернардито, уже ушел в море. Мать ребенка, красавица гречанка, умерла во время родов. Старуха выходила ребенка и теперь в нищете живет с маленьким Диего в Пирее. Но я дал себе клятву, что найду похитителей, и вот недавно их следы отыскались. Точнее говоря, я отыскал Вудро Крейга; о втором похитителе, Джузеппе Лорано, ничего не слышно. Мой камень достался при дележе, очевидно, ему, а большой алмаз взял себе Крейг. Старый Лоусон сказал мне, что видел этот камень в Бультоне и оценил его в четыре тысячи гиней. Теперь умоляю вас, откройте, кто предлагал фирме вашего отца эту драгоценность. – Позовите Лоусона… – приказала леди Райленд. – Эндрью, – обратилась она к старику, когда тот предстал перед нею, – прошу вас рассказать мистеру Роджерсу все, что вам известно об алмазе. Старик взирал на испанца с нескрываемым удивлением. – Ни за что не узнать в вас моего посетителя! – воскликнул он. – Вы, мистер Роджерс, помолодели лет на двадцать! Отроду не видывал таких чудес! – Заметив нетерпеливый жест испанца, старик вздохнул: – Что же сказать вам о том камне? В общем, вы идете по правильному следу. Действительно, поздней осенью 1768 года камень был принесен в нашу контору бывшим моряком Вудро Крейгом. Но контора не приобрела этого камня, так как трудно было предположить, чтобы столь ценный алмаз мог попасть к простому матросу или хотя бы боцману честным путем. – А известно ли вам что-нибудь о дальнейшей судьбе этой драгоценности? – Я не должен бы говорить об этом, но… через некоторое время меня пригласил к себе домой один скупщик драгоценностей и показал тот же камень. – Как звали этого скупщика? – Его имя Джеффри Мак-Райль. Он и сейчас живет в Бультоне. – Я знаю Мак-Райля! Раньше он был моряком, а потом занялся торговлей разными ценностями. Через него Бернардито не раз продавал награбленные товары. Для чего же он вызвал вас, мистер Лоусон? – Он спросил меня, стоит ли отдать за этот камень три тысячи гиней. Я ответил, что такая цена ниже настоящей на целую тысячу гиней. – Что же произошло потом? – А потом бывший бездомный моряк Вудро Крейг купил дом, винный погреб с виноградником и таверну «Чрево кита» около порта. Поэтому я полагаю, что именно он продал Мак-Райлю камень. – Так вот кто овладел камнем! Спасибо, Лоусон, теперь я знаю достаточно. Спасибо и вам, синьора. Но прошу вас не забывать, что вы рискуете навлечь на себя крупные неприятности, если не сохраните в тайне нашу беседу. – Я уже четыре года живу в опасности. – Не понимаю, что заставляет вас молчать, но, в конце концов, это не мое дело. Я преследую только свои цели и не собираюсь вмешиваться в чужую игру. После того как на первом свидании Камилла рассказала об отношениях между вами и вашим мужем, я твердо решил явиться к вам и поговорить. А сегодня, ожидая Камиллу, я увидел вас и понял, что откладывать нечего! Синьора, теперь мои подозрения подтверждаются, и, быть может, мне придется столкнуться в моей тайной борьбе… – Почему вы замолчали, Фернандо? – Тише! Сюда идут! Леди Эмили обернулась и увидела молодого офицера с перевязанной рукой и хорошенькую, очень молодую девушку. Они шли, держась за руки, к поляне, не замечая ни кабриолета, ни людей в роще. Фернандо раздвинул кусты орешника позади скамейки и помог леди Райленд спрятаться. Сам он уселся на скамейке. Молодые люди, увидев, что скамейка занята, замялись, постояли на полянке и направились к дороге. Вскоре они скрылись за поворотом. – Вы знаете этих людей, синьора? – Это мои добрые друзья. Молодой офицер – мистер Эдуард Уэнт, сын бывшего управляющего поместьем. После ранения, полученного этой весной, он гостит у своей матери, в Ченсфильде. Юная леди – его невеста, Мери Мортон. Я доверяю ей. Она и не подозревает, чьим орудием стал ее отец! – Я читал у мистера Томпсона лживую рукопись Мортона и понял из нее, что игра ведется гораздо крупнее, чем я мог предполагать сначала… – Фернандо! Мое отсутствие может быть замечено, я должна спешить. Итак, вы хотели сказать, что в вашей тайной войне за похищенные сокровища вам, быть может, предстоит столкновение с… убийцей Бернардито Луиса? – Вы угадали, синьора. Во-первых, не годится, чтобы добыча всей стаи досталась одному. Кроме того, почему старая мать и маленький ребенок капитана Бернардито должны оставаться нагими и нищими на чужбине, когда враги Бернардито, овладев его деньгами, купаются в роскоши? Я обязан сдержать клятву, данную капитану, и вы можете мне поверить: если бы камень вернулся в мои руки, я отвез бы его в Грецию, старой синьоре. – Стойте! На всякий случай я взяла с собой деньги. Вот здесь, в этом кошельке, сто соверенов. Возьмите их и отвезите или отошлите старухе и ее несчастному внуку… Если вам снова необходимо будет поговорить со мной или передать записку, можете прийти к негру-садовнику или известить Мери Мортон. Прощайте, синьор… Фернандо Диас низко склонился перед молодой женщиной. Протянутую ему на прощание тонкую руку он поцеловал так, как только в ранней юности целовал выточенные из кости пальцы Пресвятой Девы в старинной часовне Толедо.5
– Дорогой сэр Фредрик! – говорил вечером охмелевший кораблестроитель мистер Паттерсон, когда кареты и коляски увезли с верфи последних гостей, участников пирушки после спуска «Окрыленного». – Я восхищен вами! Я убежден, что именно такие люди, как вы, и нужны сейчас нашему королевству. И не я один восхищен! Сегодня вы одержали еще одну почетную победу: леди Стенфорд за столом без конца расспрашивала мою жену о вас и восторгалась вашей энергией. Вот моя рука в знак дружбы и расположения! Окажите мне честь вашим доверием и скажите, какие надежды возлагаете вы и ваша фирма на «Окрыленного»? – Мистер Паттерсон, вы когда-нибудь наблюдали плавучий айсберг, ледяную гору в океане? – Н-н-нет, но я… не совсем понимаю, не… улавливаю связи… – Я хочу пояснить вам, мистер Паттерсон, что подводная часть такой ледяной горы, невидимая глазу, всегда в пять-шесть раз больше ее надводной, видимой части… – Великолепно сказано, сэр! Кажется, я начинаю угадывать смысл этих слов, хотя… еще не представляю себе всего замысла. Но ваша фирма, сэр… Ее репутация, ее бумаги, вся ее коммерческая деятельность… Я не могу предположить в этом… ничего… «подводного»! – Слушайте, Паттерсон, я не деревенский лавочник, чтобы всю жизнь откладывать по фартингу в женин чулок! Моя фирма с фабриками и торговыми кораблями, поместье и фермы – все это со временем будет приносить немалый доход, но это дело… слишком медленное. А мне золото нужно сразу, понимаете, Паттерсон, сразу и… много! Стесняться и оглядываться нечего! В мире щедро рассеяны невероятные, сказочные богатства. Иногда их приходится искать в природе, а чаще – просто вырывать из чужих, слабых или неумелых рук, особенно цветных! Вырывать, чтобы прибирать к своим. Как говорят: «Кто смел, тот и съел». Вот зачем мне нужен «Окрыленный» и другие суда с добрыми экипажами. Поверьте, я не останусь с ними внакладе! – Мистер Райленд, разрешите сделать одно серьезное предложение! – Я всегда охотно принимаю дельные предложения. – Так вот, предлагаю вам уже с этого дня разделить, как вы изволили вчера выразиться, и риск и удачу со мной! – Игра… требует ставок, мистер Паттерсон. – Мои свободные средства к вашим услугам. Я хотел бы, чтобы ваши широкие замыслы стали нашими замыслами и осуществлялись сообща. – Что ж, благодарю за доверие и полагаю, что вы не раскаетесь. Мне нужны добрые компаньоны. Но должен предупредить откровенно: нервы нам понадобятся крепкие! Пусть дети наши уже не будут иметь забот. Пусть они займут кресла в парламенте, наденут мантии судей и епископов, станут министрами, лордами, графами, черт побери! А наше дело – подвести золотой фундамент под стены их будущих дворцов. Для этого хороши любые средства, лишь бы быстро давали чистоган! – Но, сэр, на пути к… столь быстрому обогащению могут возникнуть… опасные препятствия. Законы, например… – Ха, законы! Они нужны, чтобы держать в узде простолюдинов. Ни Кортес, ни Писарро*["30] не заботились о законах, а захватывали целые страны со всеми богатствами, и потомки не осуждают их. Кто они были? Просто решительные ребята… Времена святош и старинных добродетельных рыцарей миновали давно. Все, что становится поперек дороги – буква ли закона, чужая ли воля, – надо сметать или умело обходить. – Сэр Фредрик, я уже высказал свое убеждение, что именно такие люди сейчас и необходимы стране. Во мне вы нашли единомышленника! Вы могли убедиться, что я тоже не склонен к излишней осторожности. Ведь когда некоторые таможенные формальности становились нам поперек дороги, мы всегда находили способ, чтобы, так сказать, не спотыкаться… – Отлично! Перейдем к делу. Какую сумму вы готовы вложить для начала в первые операции? Паттерсон долго прикидывал что-то в уме и в раздумье отвечал, глядя мимо собеседника: – Пожалуй, тысяч шесть можно бы вложить…Но каковы, сэр, ваши ближайшие планы? – Об этом я сообщу вам после возвращения из плавания моего брига «Орион». Я уже в течение двух недель жду его со дня на день. От капитана Брентлея я ожидаю важных подробностей об одном неизвестном острове, координаты которого я сообщил капитану перед отплытием. Быть может, эти подробности откроют мне, я хочу сказать – нам, довольно заманчивые перспективы. В недалеком будущем солидную выгоду сулит мне одна экспедиция в глубь Африки. Обе мои шхуны – «Глория» и «Доротея» – уже там, у африканских берегов… – Черное дерево? Слоновая кость? Не так ли, сэр Фредрик? – Паттерсон смотрел на собеседника с любопытством и жадностью. – Нет, мистер Паттерсон, черная кость, простите мне эту шутку! Черная кость, точнее – черные руки! Хлопковым и сахарным плантаторам нужны руки, черные руки в железных браслетах. Миллионы черных рук требуют американские колонии, мистер Роберт! – О, я понял вас, сэр! Очень, очень разумное помещение капитала!.. Как только «Орион» вернется, мы поставим его в док, оборудуем на нем батарейные палубы и оснастим корабль заново. Работа над ним пойдет днем и ночью. О! Колонии и плантации с нашей помощью будут получать много этих черных рук, украшенных железными браслетами! И две белых руки, украшенные золотыми перстнями, соединились в крепком, долгом пожатии.6
Джеффри Мак-Райль, полнеющий брюнет с розовыми щеками и холеными усиками (он сохранил их в память о неудавшейся военной карьере), вернулся после спуска «Окрыленного» в свою холостую квартиру, которую делил с моряком Джозефом Лорном. Большую часть своего времени Лорн проводил в море, и потому домик на Гарденрод почти круглый год находился в распоряжении одного Мак-Райля. Квартиру эту он снимал у вдовы-немки Гертруды Таубе, боготворившей своего постояльца. Она ухаживала за ним так, как только сентиментальная немка способна ухаживать за избалованным мужчиной. Чистенькая, свежеокрашенная решетка отделяла от улицы уютный одноэтажный домик, приветливо глядевший на прохожих четырьмя окнами фасада. Окна завешивались гардинами и шторами; фрау Таубе собственноручно два раза в год красила эти занавеси в… кофейной гуще. Вокруг домика росли яблони и груши, под окнами красовались две цветочные клумбы, похожие на кондитерские торты и распространявшие по вечерам одуряющий запах цветов табака. В глубине двора, среди каштанов и грабов, виднелся крошечный флигель самой хозяйки. Вместе с Джеффри в доме жил его слуга, мулат Энрико Рой, приводивший хозяйку в отчаяние своими чересчур холостяцкими привычками, отсутствием уважительности и способности к круглосуточному ничегонеделанию. Здоровый сон был его главным времяпрепровождением. Хозяин долго стучал в запертую дверь своего жилища. Наконец он полез в глубокий карман своего камзола и извлек ключ. Отомкнув входную дверь, хозяин застал своего слугу храпящим на огромной ковровой тахте. Комната с этим восточным ложем служила в квартире Мак-Райля и будуаром и кабинетом. Довольно бесцеремонный пинок ногой сбросил Роя с тахты. – Убирайся к дьяволу, животное! – коротко приказал хозяин. – Сейчас я буду принимать здесь гостей. Мулат потянулся так, что кости в его суставах затрещали. Он широко зевнул, почесал голову и сплюнул. Эти изящные манипуляции не показались хозяину необычными. – Послушай, Мак, – обратился слуга к господину с фамильярностью, не совсем принятой для лиц его звания, – какого черта ты все еще болтаешься в Бультоне? Я слышал, что Джакомо давно гонит тебя в Голландию на подмогу Джузеппе, по делам этого старого дурака Ленди. – Во-первых, не суй своего носа в дела, которых ты не понимаешь. Во-вторых, готовь дорожный сундук, потому что на днях я уеду. В-третьих, сколько раз нужно долбить в твою глиняную башку, чтобы ты выбросил из нее слово «Джакомо», а говорил бы… – Ладно, виноват, обмолвился! Значит, ты, Мак, поедешь в Амстердам? Ах, рыбья кость тебе в глотку, славно же ты гульнешь в голландских трактирах! А что делать мне? – Валяться на этой тахте и строить куры фрау Таубе, пока не придет «Орион». Тогда сэр Фредрик найдет тебе занятие. Из Голландии я скоро вернусь вместе с Джузеппе Лорано, и тогда… – Эй, Мак, вот ты и сам проговорился: сказал «Джузеппе Лорано»!.. – А, черт! Я хочу сказать, что после моего возвращения из Голландии в обществе мистера Джозефа Лорна нам, возможно, придется совершить небольшую воскресную прогулочку по делам высокорожденного наследственного виконта Ченсфильда, сэра Фредрика Джонатана Райленда. – Какую прогулочку? Куда? – Совсем недалеко: маленький пикник к берегам Африки, Америки и в индийские воды. – Опять чертовы индийские воды! Не повезло тогда одноглазому Бернардито с этой индийской экспедицией! – Зато повезло кое-кому другому!.. – Зачем же мне тащиться вместе с вами? – Как – зачем? Не могу же я пускаться в путь без преданного и высоконравственного слуги! Довольно болтать! Проваливай в свою дыру, живо! Идут Райленд и банкир Ленди… Добро пожаловать, господа! Энрико Рой, вы свободны… Мистер Ленди, могу вас обрадовать, что от Джозефа Лорна получены сегодня из Амстердама хорошие вести по интересующему вас делу. – О, нынче день сплошных удач! Какую же сумму наличными предлагают ему ростовщики? – В английских деньгах от пятидесяти до шестидесяти тысяч фунтов*["31] за двадцать шесть камешков. – Мистер Райленд, как вы находите эту цену за ваши фамильные драгоценности? – Неплохая цена, особенно если принять во внимание одновременную продажу большого числа бриллиантов и негласный характер этой операции. – Вы мой спаситель, сэр Фредрик! Я никогда не забуду этой услуги в тяжелую для меня минуту. Вы приносите в жертву фамильные бриллианты, чтобы поддержать «Бультонс-банк» в самый критический момент. Поверьте, что отныне интересы «Северобританской компании» станут на первое место при всех операциях «Бультонс-банка». Когда же я смогу получить эти деньги, вырученные за продажу камней? Фредрик Райленд вопрошающе взглянул на Мак-Райля. Ленди переводил взгляд с одного на другого. – Полагаю, что недели через две Мак-Райль и Джозеф Лорн уже доставят вам всю эту сумму полностью. Можете готовить вексель на шестьдесят тысяч, мистер Ленди. Банкир с чувством пожал руку мистеру Райленду. – Теперь, когда с делами покончено, мы, может быть, проведем остаток вечера в «Чреве кита»? – предложил Мак-Райль. Однако банкир, сославшись на усталость, уже встал, чтобы ехать домой. Мак-Райль вышел проводить обоих гостей и наблюдал с крыльца, как джентльмены занимали места в просторной коляске владельца банка. В порту замигал маяк, и прозрачная летняя ночь зажгла над городом свои неяркие звезды. Мак-Райль вернулся в дом. Мулат уже снова спал, раскинувшись на циновке в отведенной ему каморке. – Животное! – процедил Мак-Райль и со свечой в руке отправился в свой кабинет. Здесь было душно и еще держался крепкий запах сигары Райленда. Мак-Райль чихнул, отворил окно и выглянул в садик. Свет его свечи упал на пышный куст акации, покрытый тоненькими зелеными стручками. Мак-Райль вспомнил, как в детстве он мастерил себе свистульки из этих стручков, и вздохнул. – Надо покончить с делами, найти себе жену, уехать в Америку и растить детей… Вам пора подумать о вашей старости, мальчик Джеффри! – разговаривал сам с собою постоялец фрау Таубе; при этом он уже успел стащить с себя лиловый камзол и развязать широкий узел своего галстука. Почему-то подобные мысли всегда посещали Мак-Райля перед сном. Он долго плескался у умывальника, втирал какие-то благовония в холеную кожу щек, а затем внимательно осмотрел свой парик, бережно распяленный на специальной подставке, и расчесал гребеночкой несколько локонов. Напоследок, когда ночной туалет мистера Мак-Райля был окончательно завершен, джентльмен вставил свечу в ночник, снял нагар и забрался в постель. Фрау Таубе приучила его спать на перине; он погрузился в нее, как в морскую пучину, и уже блаженно прикрыл веки, как вдруг почувствовал холодную струю ночного воздуха из открытого окна. – Рой! – крикнул он в полутьму. – Грязная свинья!.. Обязательно скажу Джакомо, чтобы убрал от меня это животное; пусть пристраивает его куда хочет или берет к себе! Рой, скотина! Попытки дозваться мулата были тщетны. Мак-Райль знал это по долголетнему опыту. Чертыхнувшись, он наклонился за ночными туфлями, но не успел еще надеть их, как услышал шорох в кустах акации под окном. Подняв голову, он увидел человека в полумаске, одним прыжком вскочившего из садика на подоконник. В следующее мгновение удар свинцовой перчатки в грудь сбросил Мак-Райля с постели. Незнакомец придавил его к полу и приставил к горлу нож. – Я пришел за своим камнем, Мак-Райль, – послышался свистящий шепот. – Ты отдашь мне мой камень, или я перережу тебе горло, собака! В комнате царил полумрак. От свечи, мерцавшей в ночнике, падал слабый свет, колеблемый ветром из окна. При каждом дуновении по стенам и потолку метались смутные тени. Мак-Райль шевельнулся. – Пусти! – прохрипел он. – Кто ты и какой камень требуешь? – Голубой алмаз с желтым пятнышком на нижней грани. Я знаю, камень у тебя. Ты взял его у Черного Вудро за три тысячи гиней. Говори, отдашь ты мне камень? – Камень я давно продал. Он не стоил таких денег! Кто ты? – Если ты продал мой камень, отдай четыре тысячи гиней, которые ты выручил за него. – Что ты, это же груда золота! Во всем доме у меня нет и десятой доли такой суммы! – Слушай меня, Мак-Райль! Я пришел либо взять камень или деньги, либо убить тебя. Даю тебе одну минуту. Я буду считать до шестидесяти. Вставай, зажги вторую свечу и не вздумай хитрить! На счете «шестьдесят» я размозжу тебе череп, если камень или деньги не будут у меня в руках. Незнакомец в полумаске поднял Мак-Райля и поставил его на ноги. Затем он отскочил к окну, задернул занавеску и, наведя в лоб Мак-Райлю пистолет, взвел курок. – Один… два… три… Когда я тебя убью, я перерою весь дом и все равно найду… десять… твой мулат спит, его умел будить один Бернардито… Двадцать. – Стой! Ты из людей Бернардито? – Тридцать… Торопись, скупщик, пощады не жди… – Послушай! Я был другом Бернардито! – Сорок… ты обманывал и его, скупщик… – Повторяю тебе, у меня нет ни камня, ни денег! – Пятьдесят… Значит, ты живешь последние секунды, Лисица Мак!.. Пятьдесят один… – Постой, я достану камень, он в другой комнате! – Тебе чертовски не повезло, Мак-Райль, в другую комнату я тебя не выпущу… пятьдесят два… Мак-Райль наклонился над плиткой паркета в углу и топнул ногой. – Да стой же! – Пятьдесят пять… Ты почти труп, Джеффри Мак-Райль!.. Пятьдесят шесть… – Брось мне нож, проклятый пират! Я должен поднять паркетную плитку! – Пятьдесят семь… Незнакомец швырнул Мак-Райлю перочинный ножик с ночного столика. Тот поймал его на лету. – Пятьдесят восемь… Мак-Райль поддел ножом дощечку паркета и отшвырнул ее в сторону. – Пятьдесят девять! Из-под дощечки появился сверток, обмотанный тряпкой. Мак-Райль швырнул его под ноги незнакомцу. – Повежливее, Мак! Разверни сверток и покажи камень. За обман – смерть без пощады! Руки плохо повиновались скупщику. Когда тряпка отлетела в сторону, незнакомец увидел маленький футляр из замши. Мак-Райль расстегнул его. В жалком свете ночника и второй свечи, зажженной Мак-Райлем, из футляра выглянула как бы огромная твердая капля утренней росы. Но едва лишь рука Мак-Райля с камнем чуть повернулась, в прозрачной глубине этой капли вдруг вспыхнула зеленая искра. В следующее мгновение от едва заметных движений руки, державшей алмаз, грани чудесного камня стали испускать в свете двух свечей то красные, то синие, то оранжевые лучи. Два человека, как завороженные, глядели на волшебную игру алмаза. Первым опомнился Мак-Райль. Зажав камень в кулак, он наклонил голову и, как бык, ринулся на человека в полумаске. Неуловимо быстрым движением свинцовой перчатки, надетой на левую руку, тот ударил атакующего в лицо, снизу вверх. Падая на колени, Мак-Райль вцепился в руку, нанесшую удар. Он ощутил, что одно гнездо свинчатки было пустым – на руке у незнакомца не хватало безымянного пальца… Потом в мозгу Мак-Райля разом вспыхнули все искры и лучи бриллианта: теряя сознание от нового удара, он выпустил руку незнакомца и тяжело грохнулся на пол. В ту же ночь из Бультона в Шербур отошел пакетбот*["32]. На борту в числе немногих пассажиров находился бедно одетый испанец. Завернувшись в плащ, он сидел среди ящиков и мешков, сваленных на корме суденышка, и, казалось, один не страдал от морской болезни, жестоко мучившей остальных путешественников. Руки его в черных перчатках опирались на палку. Свой дорожный мешок он положил себе под ноги. На груди у пассажира под плащом и грубой курткой висел маленький кожаный мешочек. Время от времени он бережно ощупывал его рукой. Измученные болезнью соседи не обращали на него никакого внимания. На рассвете, когда ветер стал свежее и пакетбот то и дело зарывался носом в пенистые воды, навстречу, шумя парусами, прошел большой торговый бриг. Испанец вгляделся в красивые очертания брига и с трудом разобрал на носу надпись, выведенную крупными белыми буквами: «Орион. Порт Бультон». В Шербуре, не теряя времени, испанец пересел на французское судно, отправлявшееся в греко-турецкий порт Пирей.3. Островитяне
1
Заря ясного летнего дня сообщает любому ландшафту несколько идиллический оттенок. Смягчает она и суровость пейзажа английского севера, где небо редко очищается от туч, а холмы и долины – от скучной пелены дождя и тумана. Известно, что в окрестностях Бультона, где расположено поместье Ченсфильд, легко схватить ревматизм и трудно отделаться от сплина*["33]. Но в конце июля, уже в преддверии сереньких осенних дождей, здесь бывают удивительные дни – ясные и светлые, превращающие Ченсфильд в прелестнейший уголок. В такой погожий июльский денек, почти на рассвете, когда пушистые облака уплывающего ввысь тумана были еще розовыми, леди Эмили Райленд шла по берегу длинного узкого озера, окруженного парковой зеленью. На светло-сером платье и голубоватой шали оседали росинки; свежий солоноватый ветерок с океана играл концами шали, а в глазах молодой женщины отражались солнечные блики, игравшие на воде. Проворные белки, цокая и щелкая, перескакивали с дерева на дерево; дятел усердно стучал где-то вверху. Совсем близко от леди Райленд на дорожку выскочила лань. Не испугавшись владелицы поместья, животное осторожно спустилось к берегу и наклонилось к самой воде. Леди Эмили остановилась, чтобы не спугнуть зверя. Внезапно лань вздрогнула, метнулась в сторону и в два прыжка исчезла в кустах парка. Кто-то быстро бежал по дорожке на другом берегу озера. Леди Эмили узнала Антони, молодого грума сэра Фредрика. Досадуя на нарушенный покой, молодая женщина направилась к дальней беседке в самом запущенном и глухом углу парка. Здесь она углубилась в чтение рукописи, полученной ею два дня назад у мистера Уильяма Томпсона. Все ставни старинного дома Райлендов были еще наглухо заперты, когда Антони, потревожив свою госпожу на ее ранней прогулке, прибежал наконец к заднему крыльцу дома. Юноша постучал в одно из нижних окон. Камердинер впустил его. Поднявшись во второй этаж, Антони оказался перед дверью верхнего кабинета. Сначала он постучал робко, потом погромче. Наконец дверь отворилась. Сэр Фредрик, в халате и без парика, впустил юношу и положил ему руку на плечо, не давая пройти в глубь кабинета. – Сэр, – торопливо сообщил Антони, запыхавшийся от быстрого бега, – паруса «Ориона» показались на горизонте. Часа через два судно войдет в порт. Я разглядел его в вашу подзорную трубу, милорд! Третьего дня, когда вы поднимались со мною на скалу в бухте Старого Короля, был шторм, а нынче безоблачный день и даль видна чуть ли не до самой Ирландии! – Тише, Антони! А не ошибся ли ты? – Я узнаю «Орион» среди тысячи других кораблей, милорд! Ведь на нем мы прибыли сюда из Италии… – Хорошо, мальчик! Вот тебе гинея за усердие… Теперь ступай отдыхать. Или у тебя есть еще новости? – Сэр! Моя сестра… Я хочу сказать, сэр, что Доротея вскоре перестанет быть няней Чарли, и тогда… – Ступай, Антони, и никогда не тревожься за судьбу своей сестры, – прервал юношу хозяин дома. Выпроводив его, мистер Райленд прошел в комнату, смежную с кабинетом. Это была его личная спальня, расположенная по соседству с комнатами его супруги, но отделенная от них стеной с наглухо забитой дверью. В своей опочивальне владелец поместья подошел к молодой черноглазой женщине, державшей на руках спящего кудрявого ребенка. Женщина сидела у постели сэра Райленда. Голос Антони испугал ее, и она в смущении прижалась к изголовью. Владелец поместья успокоил ее тихими, ласковыми словами. Осторожно, чтобы не потревожить ребенка, он поцеловал ее в розовые губы, с нежностью коснулся сжатого кулачка мальчика и вернулся в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. Затем он позвонил камердинеру, совершил с его помощью утренний туалет, надел синий камзол, похожий на офицерский морской мундир, и, взглянув на себя в зеркало, остался доволен своей внешностью. Надушенный, в тщательно завитом и напудренном парике и маленькой треугольной шляпе, он вышел в коридор и в дальнем конце его постучал в дверь покоя своей жены. В приоткрывшуюся дверь выглянула Камилла, горничная леди Эмили. Услыхав, что леди вышла на прогулку, владелец поместья, казалось, несколько встревожился. Пройдя через парк и миновав горбатый мостик, перекинутый над самой узкой частью озера, он поспешил к излюбленной беседке своей жены. С большой осторожностью он подошел к кустам, окружавшим маленькое сооружение, похожее на индийское бунгало*["34]. Увидев в окне беседки склоненную голову жены, виконт тихонько отступил назад, в чащу, быстро вышел из парка, и через несколько минут маленький гиг, запряженный гнедой кобылой, вынес его из ворот усадьбы на дорогу, ведущую к городу и порту. Усадьба вновь словно замерла. Но вот задымили трубы кухонных очагов, слуги вынесли из гостиной большой ковер и принялись палками выбивать из него пыль. Дворня просыпалась. В доме одна за другой открывались ставни. Вышла в сад черноглазая Доротея с маленьким Чарли на руках и присела с ним на краю солнечной лужайки. Помощник садовника, высокий негр с обезображенным оспой лицом, обошел оранжерею и, присев у задней стены, примыкавшей к усадебной изгороди, закурил большую черную трубку. С наслаждением затянувшись, он внимательно огляделся и заметил, что прямо через луг к усадьбе пробирается человек в одежде матроса. Негр перебрался через изгородь и поманил матроса к себе. Они обменялись несколькими фразами. Матрос сжал в кулаке монету, перешедшую из черной руки в белую, и, весело посвистывая, пустился в обратный путь. – Что вам нужно, Сэм? – спросила негра госпожа Райленд, когда помощник садовника с осторожностью приблизился к окну ее беседки. – Не Роджерс ли, наш вчерашний знакомый, появился снова в Ченсфильде? – Нет, приходил портовый матрос. Два часа назад бриг «Орион» показался на горизонте. Сейчас он, вероятно, уже на бультонском рейде. Кровь отлила от лица молодой женщины. Комкая в руках кружевной платочек, леди Райленд торопливо направилась к домику управляющего поместьем. Негр незаметно вернулся в оранжерею.2
На океанском бриге «Орион» убирали паруса. Не входя в гавань, судно бросило якорь на рейде, ожидая прибытия портовых чиновников. Гребной двенадцативесельный катер отвалил от причального пирса и полетел к бригу. Три человека стояли на корме. Двое из них, таможенные чиновники в морских мундирах, с трудом удерживали равновесие. Третий, высокий горбоносый джентльмен в плаще, накинутом поверх синего камзола, стоял неподвижно, пристально вглядываясь в очертания корабля. Катер подвалил к носовому трапу корабля. Матросы разом осушили весла. На рейде стояла такая тишина, что было слышно, как падают капли с поднятых над водою весел. Три джентльмена, встреченные капитаном, поднялись на палубу, блиставшую безупречной чистотой. – Поздравляю вас, капитан Брентлей, с благополучным возвращением на родину! – Рад приветствовать вас на вашем корабле, мистер Райленд, – ответил капитан, обменявшись рукопожатиями с владельцем «Ориона». В сопровождении капитана и боцмана Ольсена, огромного норвежца с седыми баками, чиновники уже собирались было приступить к проверке грузов и просмотру документов, но повар-китаец пригласил всех гостей в капитанскую каюту. Здесь джентльменов ждал накрытый стол. Рядом с приборами, блистающими золотом и серебром, стояли накрахмаленные салфетки. Огромная рыба с устрашающей мордой, бутылки с сухими испанскими винами, паштет из дичи, блюдо устриц, спаржа под острым соусом, редкие фрукты в серебряной вазе, горьковатое миндальное печенье и сыр четырех сортов – вся эта благодать несколько смягчила постное должностное выражение лиц обоих чиновников. Когда наконец все встали из-за опустошенного стола, таможенные чиновники, утирая огромными платками красные, залоснившиеся лица, направились к трюмам. Они выразили готовность удовольствоваться присутствием в трюмах одного боцмана и любезно оставили капитана в обществе мистера Райленда. Безгласный китаец мгновенно сменил скатерть и сервировал на столе кофе с французским коньяком и ликерами из погребов славного монастыря Святого Бенедикта. Капитан разложил между рюмками карту последнего рейса «Ориона». – Все ваши пожелания, сэр, мне, благодарение Богу, удалось выполнить. Рейс оказался на редкость удачным. Как вы, должно быть, припоминаете, мы вышли в плавание двадцать месяцев назад, в конце семидесятого года, направляясь в Чили… – Мистер Брентлей, я регулярно получал ваши отчеты по почте и знаю все, что произошло на корабле, за исключением событий последних четырех месяцев. Почему вы перестали посылать доклады? – Почта не пришла бы в Бультон раньше нас, сударь. Полный отчет вы найдете в корабельном журнале, деньги и чеки находятся здесь, в этом шкафу, а сейчас я расскажу все вкратце. – Остров, Брентлей! Сначала про остров! Нашли вы его по моим координатам? – Да, сэр, этот остров я нашел, но разрешите мне рассказать по порядку… Выйдя из Мельбурна… – Стойте! Человек на острове жив? – Да, сэр, он жив, но опоздай мы недели на две, самое большее на месяц, и ему бы уже несдобровать. Он терпел страшную нужду. Теперь он обеспечен всем необходимым и просил передать письмо… – Мне? – Нет, он просил вручить его мисс Гарди. Я хочу сказать, леди Райленд, сэр. – Вы передали ему запечатанный пакет? – Да, сэр, пакет перешел из моих собственных рук в его руки. – Поручал ли он что-нибудь сказать мне, капитан? – Нет, сэр. – Дайте мне письмо для леди Райленд. – Сэр, человек на острове поставил обязательным условием, чтобы письмо было отдано прямо в руки леди. Я обещал… – Капитан Брентлей! – Я не могу нарушить свое слово, сэр! – Хорошо… Пусть пакет пока останется у вас. Вы сами доставите его ко мне домой. Сегодня, в шесть вечера, я жду вас к обеду. Письмо вы передадите в моем присутствии, капитан! – Слушаю, сэр, и готов исполнить любое приказание, не идущее вразрез с моей совестью. – Капитан Брентлей! Уж не полагаете ли вы, что я намеревался поссорить вас с вашей чувствительной совестью? – Нет, сэр, но мне показалось… – Выбирайте впредь ваши выражения, капитан. Боюсь, что в море вы несколько отвыкли от общества, мистер Брентлей! – Возможно, сэр. Примите глубокие извинения за мою ошибку. – Карта острова? – Она здесь, среди этих бумаг. – Координаты оказались точны? – Нет, сэр. Долгота была указана вами неверно; широта почти совпала с вашими данными, но по долготе остров оказался западнее на полтора градуса. – Вероятно, приборы на моем корабле тогда утратили точность, и я ошибся в вычислениях… Хорошо, Брентлей, я весьма доволен, и вы получите вашу премию. Сегодня, отправляясь ко мне, возьмите с собою двух человек для охраны и доставьте мне кассу, журнал, карту и документы, относящиеся к острову. Не забудьте письма! Вы расскажете мне подробнее обо всем плавании. – С радостью, сэр. – Чиновники, я вижу, уже окончили осмотр. Полагаю, что ваше гостеприимство сделало их сговорчивее. Я тоже принял для этого кое-какие предварительные меры. Узнайте результаты. Капитан вышел и через минуту вернулся в каюту: – Сэр, судну разрешено беспрепятственно возвратиться на берег. – Я отправляюсь вместе с ними. До вечера, мистер Брентлей!3
Когда катер подвалил к причальной стенке пирса, сэр Фредрик увидел своего кучера, державшего под уздцы лошадь, впряженную в гиг. Рядом стоял кабриолет, в котором сидела леди Эмили Райленд с дочерью управляющего поместьем, хорошенькой Мери Мортон. Едва катер коснулся пирса, молодая дама нетерпеливо выскочила из кабриолета и одна пошла навстречу прибывшим с «Ориона». Оба чиновника почтительно ее приветствовали. Они поторопились пройти вперед и оставили леди наедине с супругом. Слабый ветерок раздувал пушистые волосы женщины. Стоя на пирсе против сэра Фредрика, она прямо и строго смотрела ему в глаза. – Что за пылкие поступки? – спросил он недовольным тоном, отводя взгляд в сторону. – Вам не следовало приезжать сюда. Прошу вас соблюдать общеизвестные условности, миссис Райленд. – А я прошу вас не называть меня этим именем, когда нас никто не слышит. Отвечайте мне прямо: он жив? По лицу ее собеседника прошла судорога. Желваки заходили под скулами. Стиснув зубы, он молчал. – Не доводите меня до отчаяния! Или вы страшитесь сказать мне правду? Я вынесу все и немедленных мер принимать не стану. Но – слышите вы! – еще минута молчания, и я брошусь сейчас вниз головой с этого пирса! – Он… жив, – процедил собеседник. – Доказательства! Где доказательства, что вы не лжете мне так же, как лжете всегда всему миру? – Сегодня вечером, дома, капитан Брентлей вручит вам его письмо. Дайте мне слово, что без меня вы его не вскроете. – Нет, такого слова я вам не дам. – Тогда письмо будет уничтожено раньше, чем вы его прочтете. – Берегитесь довести меня до отчаяния… – Чего мне опасаться? «Орион» – быстрое судно, и я еще не отвык от моря, каррамба! – произнес он свирепея. – Наконец-то я снова узнаю вас! Я уже привыкла видеть вас в маске джентльмена. Слава богу, теперь вы заговорили своим настоящим языком. Хорошо, я прочту письмо в вашем присутствии. – Этого мало: я тоже должен прочесть его. – Что ж, Фред знает, в чьих руках я нахожусь, и, вероятно, догадывается о возможном круге читателей своего письма. Я вынуждена согласиться. Но если вы обманули меня, то, клянусь, ни «Орион», ни силы самого ада, которые вам покровительствуют, не спасут вас от заслуженной участи! Пропустите меня вперед! Не прикасайтесь ко мне, я дойду до коляски одна!4
В кабинет сэра Фредрика проследовали только четыре участника торжественного обеда, сервированного в столовой на два десятка персон и продлившегося часа два. Хозяин дома плотно прикрыл дверь кабинета, когда леди Райленд, капитан Брентлей и мистер Томас Мортон разместились в креслах у стола. Капитан Брентлей достал из-за обшлага своей широкой манжеты небольшой пакет, запечатанный сургучом. Три его собеседника молча склонились над пакетом. Сургуч хранил оттиск старинного золотого католического образка, использованного автором письма вместо печатки. Леди Эмили приняла письмо дрожащей рукой и поцеловала оттиск на сургуче. От капитана это движение, впрочем, ускользнуло. Пригубливая вино из узкого венецианского стакана и покуривая длинную пенковую трубку, поставленную меж колен, капитан Брентлей начал повествование о плавании. Сумерки уже сгущались, когда он завершил описание всех грузовых операций и рейсов «Ориона» между портами Америки, Африки, Индии и Австралии за два года. Штормы, подводные рифы, корсары, суда вражеских стран и заразные болезни – все эти препятствия и опасности не помешали опытному моряку доставить в Англию тысячу гиней чистой выручки и полные трюмы товаров, принятых на борт в Индии и Австралии. Пока хозяин судна слушал рассказ капитана, два матроса, прибывшие с ним в Ченсфильд, восседая на кухне среди слуг мистера Райленда, тоже поражали воображение слушателей подробностями о плавании. Заработок команды за этот рейс был таков, рассказывали они, что на прилавке таверны «Чрево кита» нынче с самого утра звенит золото, и много веселых ночей предстоит в Бультоне морякам «Ориона»! Капитан Брентлей закончил свой доклад описанием поисков неведомого острова в Индийском океане. Координаты этого острова капитан получил от владельца судна перед самым отплытием из Бультона, в ноябре 1770 года, и обязался сохранить их в глубокой тайне. Остров этот, как пояснил тогда сэр Фредрик, был им случайно открыт в годы ранней молодости. По заданию виконта капитан Брентлей должен был обследовать эту неведомую землю и вручить пакет единственному обитателю острова, если бы тот оказался жив; в случае же, если бы экспедиция не обнаружила островитянина, пакет подлежал возвращению в руки владельца Ченсфильда. Капитан Брентлей получил также строгое указание, чтобы ни один член экипажа не вступал в общение с островитянином. Все эти поручения капитан выполнил в точности. Крейсируя в указанных ему водах, он обнаружил на четвертые сутки непрерывных поисков неизвестный, отсутствовавший на мореходных картах остров. Его внешние очертания соответствовали полученному капитаном описанию. «Орион» приблизился к нему ночью. С корабля сразу заметили сигнальный огонь, зажженный на голой вершине горы – на самой высокой точке острова. Рано утром островитянин, одетый в звериные шкуры, пытался подплыть к бригу в утлой пироге, но был предупрежден с капитанского мостика, чтобы он под страхом смерти не приближался к судну. Несмотря на столь негостеприимную встречу, островитянин показал, двигаясь на своей пироге впереди корабля, вход в единственную большую и очень удобную для стоянки судов бухту, о существовании которой капитан тоже был предварительно осведомлен. Введя корабль в бухту, капитан вечером сел в шлюпку и отправился на берег, где его ожидал островитянин. Оставив гребцов в шлюпке и пояснив им, как ему было приказано, что этот островитянин – заболевший проказой пассажир, высаженный сюда с какого-то шедшего мимо судна, капитан углубился в лес, следуя за этим странным отшельником. Зная, что моря и океаны полны всевозможных загадок и тайн, вникать в которые далеко не всегда бывает целесообразным, капитан не удивился, услышав чистую английскую речь своего необычайного спутника, и не задал ему никаких излишних вопросов. Достигнув хижины островитянина, капитан вручил ему пакет от сэра Фредрика Райленда, а также письменные принадлежности для составления ответа. Оказалось, что этот таинственный анахорет находился уже на краю гибели: у него вышло из строя единственное ружье, кончились запасы и унесло в море сплетенную им сеть для ловли рыбы. Отшельник рассказал далее, что этот безымянный остров, в отличие от других небольших островов Индийского океана с их бедным животным миром, изобилует крупными хищными зверями. В ответ на недоуменный вопрос Брентлея, откуда на далеком острове появились звери с материка, островитянин пояснил, что еще лет пятьдесят назад в водах острова разбился своего рода «Ноев ковчег» – арабское судно, имевшее на борту живой груз для королевских зверинцев Франции и Испании. Следы этого судна, экипаж которого погиб, островитянин обнаружил среди скал северного побережья острова. Дикие свиньи уничтожили огород островитянина. Он давно износил европейское платье и одевался в козьи шкуры. У него не заживала нога, раненная на охоте за горным козлом, и не было никаких лекарств. Утром следующего дня капитан прибыл за ответом и получил от островитянина пакет, запечатанный сургучом. Теперь, через одиннадцать недель после получения пакета, капитан Брентлей смог наконец вручить его адресату. Капитан закончил свой рассказ сообщением, что перед отплытием с острова матросы свезли на двух шлюпках и выгрузили на берегу все, в чем так нуждался островной житель и оба его товарища. – Оба товарища? – с недоумением переспросил владелец поместья. – Разве он не единственный человек на острове? – Он ничего не говорил о своих спутниках, но сама обстановка хижины навела на мысль, что в ней живут по меньшей мере три человека, а не один. Хозяин дома нахмурился. Леди Эмили смотрела на него с нескрываемым злорадством. – Эти люди так до конца и не обнаружили себя? – спросил он отрывисто. – Нет, перед отплытием «Ориона» на вершине прибрежного мыса открыто показались все три островитянина. Они дружелюбно махали нам на прощание и долго кричали вслед кораблю, посылая проклятия одному страшному пирату по кличке Леопард. Вероятно, он и высадил их на этом острове. Впрочем, ведь вы и сами, сэр, должны были слышать о нем: он ходил помощником на «Черной стреле» и погиб, можно сказать, на ваших глазах. – А смогли вы различить внешность этих людей? – Несомненно, они тоже европейцы. Один из них был огромного роста. Больше ничего рассмотреть не удалось. Владелец поместья с трудом удержался от проклятия. Злой, озадаченный, он встал, давая понять, что беседа окончена. – Капитан, – сказал он глухим голосом, – вы отвечаете головой вашей за то, чтобы ни координаты острова, ни сведения об островитянах не пошли дальше этого кабинета. Комната для вас приготовлена под левой башней, но утром вы должны вернуться на корабль. Он станет в док на ремонт. Нужно спешно готовить его в дальний рейс. На этот раз вместе с вами на остров отправлюсь я. Через месяц мы должны выйти в море. Сократите команду до минимума. Человек пять-шесть матросов и офицеров вы примете дополнительно по моему указанию. Оружие на корабль доставлю сам. Попутные грузы берите только до африканских портов. В обратный рейс бриг будет грузиться на острове. Все приготовления к плаванию держать в тайне. Вы свободны, капитан Брентлей!5
Капитан удалился. Вошел камердинер, отнес в угол трубку, которую курил добрый моряк, и прибавил угля в камин, топившийся несмотря на летнее время. Владелец дома движением бровей услал слугу из кабинета и присел к письменному столу, молча вертя в руках карту острова. Томас Мортон, плотный маленький человек с большой лысиной, в золотых очках, сгорбившись сидел в кресле, глядя вниз на пламя камина. У самого камина, прижав к груди запечатанный пакет, неподвижная, как статуя, стояла леди Эмили. Одни зрачки ее потемневших глаз с отраженным в них пламенем углей, казалось, искрились огоньками гнева и скрытого торжества. – Отдайте пакет, Эмили, – хрипло произнес хозяин, – пусть мистер Мортон прочтет его вслух. – Это будет не ранее, чем «Орион» подготовится к своему плаванию на остров. И прочтете вы письмо только в каюте «Ориона», которая будет приготовлена на этот рейс для меня. Я отправлюсь на остров вместе с вами. Надеюсь, вы хорошо меня поняли? – Это невозможно. Вы сами знаете, что это невозможно. Я гарантирую вам сохранение его жизни. Вы не можете, не должны участвовать в этом плавании. – В таком случае письмо как ни дорого оно мне, полетит сейчас в огонь камина, и вы не узнаете, кто из экипажа «Черной стрелы» слал проклятия Леопарду Грелли и готовится сейчас к страшной расплате с ним. – Молчите, Эмили! Если игра Леопарда будет проиграна, вы не увидите живым вашего друга! – Еще одна угроза – и письмо летит в огонь! Хозяин поместья отвернулся и задумался. Несколько минут прошло в молчании. Наконец женщина услышала хорошо знакомый ей глуховатый горловой смешок: – Ну что ж, синьора, видно, в вас самой сидит дьявол! Спорить с вами бесполезно, это я знаю. Но на упрямых пашут землю, говорят. Может быть, поданная вами мысль и недурна, ибо присутствие ваше на борту сделает кое-кого сговорчивее… Что ж, придадим нашей экспедиции характер семейной увеселительной прогулки. В пути мы задержимся только в устьях Масляных рек*["35] – там у меня есть небольшое дельце… Обязуетесь ли вы, леди, свято соблюдать наше главное условие? Помните, что от этого зависит его и ваша жизнь! – Свои обещания я не намерена нарушать. – Идет, синьора! У нас есть время обдумать состав остальных участников плавания. Быть может, там, у цели пути, нам понадобятся услуги кое-каких должностных лиц, а? Кроме того, путешествие может заинтересовать моих новых компаньонов… Нет, вы подали, ей-богу, недурную мысль, леди! Даю вам согласие проделать вместе с вами еще одно морское путешествие, вдобавок в весьма приятном маленьком обществе. Вероятно, это плавание будет комфортабельнее предыдущего… Но не забывайте, синьора: в случае малейшей хитрости с вашей стороны я не остановлюсь перед тем, чтобы пустить ко дну и бриг, и все очаровательное общество на нем. А теперь давайте нам письмо! Мортон, возьмите у леди пакет! Мортон, казалось, безучастно сидел в кресле, уставившись вниз. Но у него дрожали веки и парик сполз на потный лоб. Леди Райленд бросила на него презрительный взгляд. – Он получит письмо в моей каюте на «Орионе». Не раньше! – сказала она. – Только перед отплытием на остров вы и ваш сообщник Мортон услышите, что пишет мне человек, чье благородное имя вы с такой сатанинской хитростью присвоили себе, пират и работорговец Джакомо Грелли! В опустевший после ухода гостей кабинет вошел Антони. – Милорд, вас давно ожидает внизу какой-то человек, – доложил он. – Приведи его. Перед владельцем Ченсфильда появился мулат Энрико Рой. Сапоги его были в пыли. – Мистер Райленд, я уже три часа дожидаюсь внизу, чтобы сообщить вам важную весть. В Бультоне появился Фернандо Диас! Нынче ночью он ограбил и изувечил Мак-Райля. Ехать в Голландию Мак не сможет – он весь избит! – Антони, лошадей! – крикнул хозяин. Через десять минут три всадника во весь опор неслись к Бультону. Взмыленные лошади, пройдя галопом двенадцать миль, остановились перед таверной «Чрево кита».6
Появляясь в небесах над Англией, июльское солнышко шлет земле как бы ласковый, благодатный привет. Но несколькими часами раньше то же самое солнце плывет над пенными гребнями Индийского океана, как огромный беспощадный огненно-красный шар, ничем не напоминая приветливое светило. На затерянных в океане клочках суши оно дотла сжигает травы, иссушает ручьи, накаляет потрескавшуюся почву и навевает детям земли страшные легенды о карающей небесной колеснице. Но и здесь, на пустынном острове в отдаленных африканских водах Индийского океана, первые утренние лучи солнца еще осторожны и ласковы… В девственных лесах пронзительно кричали попугаи. Маленькие пестрые колибри перелетали в просветах чащи. Суетливая стая обезьян промчалась по вершинам, раскачиваясь на лианах, спугивая пернатых и роняя на землю плоды, листья и ветки. Черные тела крокодилов, словно каменные, застыли на песчаной отмели в бухте. Розовые пеликаны, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, заканчивали на озере ночной лов рыбы. Целое семейство диких свиней пробиралось к ручью на водопой, но вдруг стремительно повернуло обратно и с топотом бросилось назад, в гущу колючих зарослей; неподалеку раздался грозный, наводящий ужас рык. Это голодный лев, по-видимому неудачно охотившийся ночью, подкрался к водопою, высматривая себе добычу на завтрак. На мягких могучих лапах, низко опустив гривастую голову, зверь неторопливо пробирался сквозь чащу. Он был вполне уверен в своем могуществе, не опасался встретить здесь достойного соперника и великолепно знал, что прочих обитателей чащи могут спасти от его клыков только очень быстрые ноги или очень глубокие и тесные норы. Внезапно из густых зарослей бамбука грянул выстрел. Лев сделал чудовищный прыжок и, ломая высокие стволы бамбука, бросился на неведомого врага. Еще два выстрела грохнули подряд. Целая поросль молодого бамбука вдруг повалилась под тяжестью грузного тела. Короткое предсмертное рычание – и двухметровое тело зверя вытянулось и замерло. На подвернутых под тело лапах в последний раз высунулись и скрылись когти, подобные кривым турецким ятаганам. В чаще, где таились охотники, раздались громкие голоса. – Крупный экземпляр! – произнес, подходя к убитому льву, высокий человек в матросских башмаках, грубых парусиновых штанах и прочной шерстяной куртке. – Та кого льва мне еще никогда не приходилось видеть. И видимо, это последний на нашем острове. Вместе с молодыми это уже седьмой за четыре года. Следом за первым охотником из зарослей выбрался гигант с черной кудрявой бородкой. За его кожаным поясом торчал широкий матросский нож. Третий охотник, в широкополом испанском сомбреро, нагнулся над зверем. – Смотрите, вот ваша пуля, – обратился он к первому охотнику. – Она пробила льву сердце. Отличный выстрел! – Удивительно, как душа такого сильного и большого зверя могла сразу покинуть тело через такую маленькую дырку, – сказал второй охотник, указывая на сочившуюся под лопаткой небольшую ранку. – Я вырежу сердце льва и съем его – пусть в меня перейдет его сила. – Силы у тебя и так достаточно, Педро, – смеясь, заметил человек в сомбреро. – Лучше попробуй-ка мозг животного, чтобы в тебя перешли его ум и хитрость. – Сильный и храбрый не нуждается в хитрости, – возразил первый. – Хитрость и коварство нужны трусам… – Однако, синьоры, – заметил охотник в сомбреро, – сегодняшняя охота не обогатила нам кухни. Теперь пора возвращаться, и,правду сказать, живой козел на мушке обрадовал бы меня больше, чем мертвый лев у ног! Мистер Фред, это ваш трофей. Оставайтесь в его обществе, чтобы шакалы не испортили шкуру, а мы с Педро позаботимся о завтраке. Придется потревожить запасы, которые оставил нам капитан «Ориона». Идем, Педро, и устроим мистеру Фреду торжественный завтрак. А вы снимите эту шкуру, мистер Фред, выделайте ее и сделайте лучшим украшением вашего будущего дома на родине. На ней будут играть ваши дети и… – …и я буду рассказывать им, как мы спаслись с этого острова на корабле, названия которого пока никто из нас еще предугадать не может. Но в конце концов он непременно придет за нами, и тогда каждого из нас будет ожидать такая судьба, какую он приготовил себе своей прошлой жизнью, – прервал охотник в куртке разглагольствования своего товарища. – Вы, очевидно, хотите сказать, мистер Фред, что вас ожидает дом в Ченсфильде, а нас с Педро – виселица в Ньюгейте*["36], не так ли? – Я не слишком люблю такие шутки, синьор! Будем надеяться, что судьба… пожелает исправить хотя бы часть ее несправедливостей к вам! – серьезным тоном произнес первый охотник. – Я сдержу свое обещание не открывать вашего имени командованию судна, которое рано или поздно примет нас троих на борт. И уж во всяком случае не я тот человек, кто помог бы ньюгейтскому палачу подвести к петле… Бернардито Луиса. От души желаю, чтобы судьба отвратила от вас эту угрозу, капитан! – Сэр Фредрик Райленд! – произнес человек в сомбреро, и в тоне его вместе с нотами насмешки зазвучала признательность, – имея дело в течение десятилетий с одними негодяями, я не мог надеяться, что напоследок Бог сделает меня спутником истинно благородного джентльмена! Нет, Педро, оставайся с сэром Фредриком, помоги ему снять шкуру с этого льва и притащи ее домой. С кухней я постараюсь управиться один. В последних числах августа 1772 года из порта Бультон вышел в дальнее плавание, взяв направление на юг, вооруженный океанский бриг «Орион». Корабль этот, принадлежащий главному владельцу «Северобританской коммерческой компании» сэру Фредрику Джонатану Райленду, шел под командованием капитана Гая Брентлея и трех его помощников – лейтенанта Эдуарда Уэнта, мистера Джозефа Лорна и мистера Джеффри Мак-Райля. По судовым документам, на борту брига находились следующие пассажиры: владелец судна сэр Фредрик Райленд с супругой леди Эмили и малолетним сыном Чарльзом; управляющий поместьем Ченсфильд мистер Томас Мортон с дочерью Мери; младший совладелец юридической конторы «Томпсон и сын» адвокат Ричард Томпсон; владелец бультонской судостроительной верфи мистер Роберт Паттерсон; вдова покойного эсквайра Джорджа Стенфорда, леди Эллен Стенфорд; бультонский викарий преподобный Томас Редлинг; судовой врач доктор медицины мистер Рандольф Грейсвелл и, наконец, слуги упомянутых пассажиров. Как сообщил в первом сентябрьском номере бультонский еженедельник «Монитор», цели плавания мистера Райленда и его спутников – исследовательские и миссионерские. Бриг направляется в африканские воды Индийского океана. На рассвете 29 сентября «Орион» бросил якорь у марокканского побережья Берберии*["37]. В пути от Бультона до Марокко бриг, по деловым соображениям владельца, сделал заход в устье Темзы и простоял неделю в Лондонском порту.4. Крестники Нептуна
1
На низком потолке каюты, окрашенном лаковой краской, двигались зеленоватые световые пятна. Отблески солнечных лучей, дробившихся в гребнях волн, проникали в каюту через иллюминатор и веселыми зайчиками плясали на стенах и потолке. Все общество на «Орионе» закончило обед и разошлось по своим каютам. Судно держалось недалеко от берегов Африки. Сухой восточный ветер, казалось, доносил до самого океана знойное дыхание Сахары. Убаюканная слабой бортовой качкой, леди Эмили задремала, откинувшись на спинку легкого кресла. Крошечная слезинка повисла на ее длинных ресницах. На коленях у нее лежало письмо, конверт со сломанными сургучными печатями упал в ногам. Она не проснулась, когда раздался слабый стук в дверь каюты. Затем дверь тихонько приоткрылась. Мистер Ричард Томпсон заглянул внутрь каюты и, заметив отдыхающую в кресле даму, уже хотел было удалиться, но невольно залюбовался ею и замер на месте. Юношеское ли чувство к прежней нареченной шевельнулось в нем, или его просто тронул печальный вид молодой леди, похожей в этой спокойной позе на уставшего ребенка, застигнутого сном, только мистер Ричард испытывал живейшую потребность поцеловать руку этой спящей красавицы. Склонившись к ней, мистер Томпсон увидел на полу распечатанный конверт, а на коленях леди – листок со строчками письма. Тут профессиональное любопытство победило – увы! – джентльменскую скромность молодого адвоката, ибо при виде конверта он сразу вспомнил следующий маленький эпизод. Незадолго перед отплытием из Бультона, когда пассажиры «Ориона» уже разместились по своим каютам, он, обследуя корабль и выбирая себе укромное местечко для послеобеденного отдыха, решил забраться в одну из шлюпок левого борта, приветливо освещенного осенним солнышком. Устроив себе из пледа и плаща весьма уютное гнездышко в шлюпке, мистер Томпсон уже готовился погрузиться в сон, как вдруг услышал на палубе негромкий, но очень резкий разговор. Выдавать свое присутствие было поздно, и мистер Ричард слышал, как сэр Фредрик Райленд строго потребовал от своей супруги выдачи какого-то важного письма. Леди не соглашалась, тот настаивал довольно грубо. Наконец они удалились в каюту леди, а через несколько минут туда же был приглашен мистер Мортон. Сначала несколько сконфуженный своей ролью невольного соглядатая семейной размолвки, мистер Томпсон впоследствии совершенно позабыл об этом эпизоде; но теперь, увидев пакет со сломанными печатями, он не удержался от соблазна взглянуть на подпись. Брови его в недоумении поднялись, и, еще более заинтересованный, он прочитал через плечо леди Райленд все письмо. Пробежав его до конца, мистер Томпсон отступил и удалился из каюты так же тихо, как и вошел в нее. Лишь закрывая дверь, он нечаянно щелкнул запором. Эмили вздрогнула, мгновенно пробудилась и поспешно прикрыла письмо книгой, совершенно не подозревая, в какое глубочайшее душевное смятение приведен господин адвокат. Убедившись в том, что испугавший ее звук был случайным, молодая женщина вновь извлекла письмо.«Моя дорогая Эмили, – перечитывала она хорошо знакомые ей строки, – с тех пор как я очутился на острове и прочел оставленную вами записку, до самого нынешнего дня, когда после четырехлетнего перерыва я смог снова получить от вас письмо, доставленное капитаном Брентлеем, не было ни одного часа, чтобы я не терзался мыслями о вас и вашем положении. Тяжелая борьба, которую вы ведете в полном одиночестве, восхищает меня, и вся моя жизнь, если ей суждено еще продлиться, целиком принадлежит вам. Вы просите сообщить мое решение в ответ на условия, поставленные мне бесчестным пиратом Джакомо Грелли. Что ж, я вынужден вновь принять их и не делать в течение новых трех лет попыток покинуть остров и разоблачить злодея, укравшего мое имя. Пока человек этот держит вас в своей власти, у меня не остается иного выбора, но его преступления громко взывают к небесам и приближают час расплаты. Мой атерни Мортон, ставший сообщником Джакомо Грелли, неизбежно разделит и будущую судьбу пирата. Дневник Мортона, переписанный под диктовку Грелли, как всякое лжесвидетельство, не выдержит испытания светом правды. Заранее сожалею о его дочери, милой Мери. Быть может, мне удастся помочь этой молодой особе устроить ее будущность после свершения правосудия над ее преступным отцом. Всегда находящийся мысленно около вас, преданный вам до последнего вздоха, ваш Фредрик Джонатан Райленд, виконт Ченсфильд.10 мая 1772 года.Безымянный остров в Индийском океане.
P. S. За отсутствием бумаги я не мог вести дневник. Описание моих приключений я пришлю, когда появится полная уверенность, что вы окажетесь их единственной читательницей, ибо леса и ущелья этого острова хранят не только нашу тайну».Леди Эмили поцеловала строки письма, смахнула слезинку с ресниц, вложила письмо в конверт и спрятала на груди. Затем она достала тетрадь в тисненом кожаном переплете и вновь принялась ее внимательно перечитывать.
2
Выскочив на палубу, Ричард Томпсон стремительно бросился к своей каюте. Он делил ее с мистером Паттерсоном и теперь торопился отыскать соседа, однако в каюте никого не оказалось. Навстречу адвокату на палубе попался мистер Мортон. Отступив, словно перед дьяволом, Ричард с необычайной резвостью взлетел по ступенькам на спардек. Часть пассажиров наблюдала отсюда за узкой полоской Африканского материка на востоке. Не обнаружив и среди них своего соседа, адвокат в растерянности остановился у перил. Ветер растрепал его волосы и освежил разгоряченное лицо. Несколько успокоенный величавой картиной океана, он спустился вниз. В надежде встретить Паттерсона в обществе леди Стенфорд и не решив еще, следует ли открыть удивительную тайну в присутствии своей невесты, чьи быстро возраставшие симпатии к лжевиконту уже начинали тревожить адвоката, он постучал в дверь ее каюты. За дверью послышался шорох. Решив, что Бетси, горничная леди Стенфорд, занята уборкой каюты, и намереваясь узнать у нее о местонахождении ее госпожи, Ричард сильнее нажал на дверь. Язычок замка выскочил из своего паза, дверь подалась, и мистер Томпсон, споткнувшись о порог, чуть не упал внутрь каюты. Здесь царил полумрак, но то, что он успел разглядеть, было невероятно! Находившаяся в каюте Эллен торопливо освободилась из объятий владельца «Ориона»… В следующее мгновение кавалер прекрасной леди шагнул вперед, и бедный мистер Ричард ощутил прикосновение двух железных рук, приподнявших его на воздух; затем его с силой вышвырнули из каюты. Ударившись головой о противоположную стенку узкого прохода, он свалился у порога. Дверь каюты с треском захлопнулась, но адвокат не успел даже подняться, как она снова распахнулась и выпустила владельца корабля. Мнимый мистер Райленд наклонился над поверженным адвокатом, сгреб его в охапку и бегом спустился с ним в свою каюту, расположенную поблизости от места рокового происшествия. В просторном салоне, убранном с восточной роскошью, владелец, не дав своей жертве отдышаться, достал из-за спинки широкого дивана две шпаги и молча сунул одну из них Ричарду. Сам он прошел в угол и, сбросив персидский халат, остался в кружевной рубашке и заправленных в чулки панталонах. Талию его охватывал широкий шелковый пояс, какие в Испании носят тореадоры. В этом бретёрском*["38] наряде он попробовал шпагу. Гибкий стальной клинок со свистом прочертил воздух во всех направлениях. Мистер Томпсон, тяжело дыша, сидел на диване и наблюдал за приготовлениями соперника. Шпага, сунутая ему хозяином корабля, осталась зажатой между коленями. Пошевелившись, он уронил шпагу на пол и не сделал даже движения, чтобы поднять ее. – Будете ли вы драться или вы намерены тратить время на приглашение секундантов? – прошипел ему противник. – А может быть, вы вообще не склонны требовать удовлетворения? Тогда вы дадите мне честное слово, что… Мистер Томпсон был плохим бойцом. Он еще не держал в руке пистолета и некогда вызывал смех товарищей своими неумелыми выпадами рапирой в гимнастическом зале колледжа. Но, будучи плохим фехтовальщиком, Ричард Томпсон не был трусом. Он попросту не успел еще прийти в себя от растерянности и безграничного удивления всеми своими нынешними открытиями. Слова противника дошли наконец до его сознания и вернули ему самообладание. Он резко поднялся, наступив ногой на оброненную шпагу. – Требовать удовлетворения, – сказал он твердо, – или давать честное слово я мог бы, имея дело с джентльменом, а не с наглым самозванцем, присвоившим себе чужое имя. Пораженный соперник Ричарда опешил, но мгновенно овладел собой. Отбросив шпагу, он кинулся на адвоката. Ричард нанес ему встречный удар ногой. Через мгновение два сцепившихся в жестокой схватке тела покатились на ковер. В тот же миг дверь каюты распахнулась, и на пороге появился пастор Редлинг вместе с судостроителем, мистером Паттерсоном.3
Эллен Стенфорд, медлительная леди с надменной осанкой, происходила из старинного, но обедневшего дворянского рода Грэхэм. Предки ее участвовали в Крестовых походах. Но уже дед леди Эллен потерял право на титул и проиграл в карты остатки фамильного состояния. Отец леди окончательно лишился всех наследственных привилегий, заслуженных рыцарскими основателями рода, и всю жизнь именовался просто мистером Грэхэмом. Красивая, наделенная болезненным честолюбием, леди Эллен с детства мечтала о громких титулах, прекрасно разбиралась во всех тонкостях геральдики*["39] и генеалогии*["40] древнейших дворянских родов Англии. Листая пожелтевшие страницы семейной хроники, она с волнением видела своих предков в блеске королевских турниров, в дыму сражений. Она читала, как графы Грэхэм самозабвенно истребляли друг друга во славу Алой или Белой розы*["41], как, желая подняться ближе к трону, они частенько поднимались на эшафот или делили с королями в походах пусть не всегда сладость побед, зато непременно сладость пиршественной чаши!.. В 1768 году, достигнув двадцати двух лет, мисс Эллен вышла замуж за младшего отпрыска рода Стенфордов, пленившись звучностью его старинной фамилии, аристократическими манерами и успехом в ежегодном стипль-чезе*["42], где Джордж Стенфорд на огненно-рыжей кобыле завоевал кубок и звание лучшего наездника графства. Тайные надежды леди на переход к Джорджу наследственных прав и имущества рода не оправдались. Овдовев через два года и оставшись бездетной, леди Стенфорд оказалась владелицей лишь маленького разоренного имения близ Бультона и ничтожного капитала, о путях к преумножению коего она раздумывала, сидя в кабинете мужа, увешанном копиями фамильных портретов и изображениями родовитых скаковых лошадей. Дела вдовствующей леди находились на грани полного упадка, когда владелец судостроительной верфи мистер Паттерсон посоветовал ей приобрести выгодный городской земельный участок. Леди Эллен вначале оскорбилась, затем согласилась, и на ее участке скоро выросли большие жилые дома, похожие на солдатские казармы и принявшие в свои угрюмые стены сотни семейств ремесленников, мелких служащих и рабочих верфи. Управление домами было поручено мистеру Гемфри Чейзвику, совмещавшему эту должность с обязанностями педагога и руководителя школы-пансионата для мальчиков. С увлечением занявшись этими весьма прозаическими коммерческими операциями, леди Стенфорд не оставила, однако, своей мечты о титулах и богатстве. Держалась она с достоинством, водила знакомство с немногими. Однако годы шли, а долгожданный принц не появлялся! Ей было двадцать шесть лет, когда Ричард, младший владелец адвокатской конторы «Томпсон и сын», после непродолжительного знакомства на деловой почве пылко предложил ей руку и сердце. Леди Эллен сначала рассмеялась: Ричард Томпсон не мог похвалиться ни звучностью имени, ни наследственными владениями. Но, зрело поразмыслив, леди Эллен смирила свою аристократическую гордыню, тем более что молодой адвокат имел уже репутацию одного из лучших юристов графства и был единственным наследником почтенного состояния. «Что ж, – размышляла она, – времена меняются, и все эти банкиры, адвокаты и фабриканты все больше входят в моду». И хотя партия представлялась ей не блестящей и сердце сохраняло полное равнодушие к особе мистера Ричарда, молодая вдова не спешила с отказом, позволяя Ричарду вволю тратиться на подарки и развлекать ее остроумными рассказами. Но, впервые увидев при спуске «Окрыленного» своего соседа, виконта Ченсфильда, леди Стенфорд сразу почувствовала в нем не только властного человека, но и решительного единомышленника. Знакомство их, начавшееся на борту «Окрыленного», уже через несколько недель успело превратиться в дружбу. В ответ на холодное обращение леди Эмили Эллен Стенфорд стала почти открыто третировать владелицу Ченсфильда, доставляя этим, по-видимому, явное удовольствие ее супругу. Со своей стороны, наследник титула и поместья Ченсфильд, восхищенный аристократической фамилией, манерами и пренебрежительно-резким обращением с окружающими своей новой приятельницы, стал мысленно отводить ей весьма важное место в своих планах на будущее. Мистер Паттерсон помог ему в этом, и леди Стенфорд, собрав для начала около трех тысяч фунтов, подобно Паттерсону вложила их в негласные предприятия, подготовляемые главой «Северобританской компании». Таким образом, последний обрел в лице честолюбивой леди еще одного компаньона. Полностью посвященная в предстоящие дела своих друзей и нимало не смущаясь избранными ими путями к богатству, леди Стенфорд согласилась и на приглашение Райленда и Паттерсона участвовать в плавании на «Орионе». Так как руководитель этой таинственной экспедиции нуждался в услугах юриста, полуофициальный жених леди Стенфорд, мистер Ричард Томпсон, тоже оказался в числе пассажиров брига. Он весьма охотно оставил бультонскую контору под единоличным управлением своего отца, рассчитывая провести несколько многообещающих месяцев на комфортабельном судне, в обществе приятных джентльменов и прелестных леди. Неожиданные открытия, сделанные адвокатом в каютах леди Эмили и леди Стенфорд, спутали теперь все карты в начатой игре и поставили некоторых партнеров в самое затруднительное положение!Оставшись одна в каюте, леди Стенфорд оделась с помощью своей горничной и села у иллюминатора. Под ним играли и плескались зеленоватые волны. Презрительная улыбка бродила на губах у дамы, и в уме ее складывались убийственно-саркастические фразы, предназначенные для ушей несчастного адвоката. Уже темнело, когда до слуха дамы донесся нерешительный стук в дверь. Бетси, задремавшая было за своей занавеской, где она обычно находилась, пока леди не отсылала горничную в ее чуланчик, впустила в каюту мистера Паттерсона. Он был несколько взволнован, в коротких словах объяснил, что явился по поручению мистера Ричарда Томпсона, и удалился весьма поспешно, оставив на столе небольшой сверток. Леди Эллен разорвала бумагу упаковки и вынула из пакета принесенный ей предмет. Это было обручальное кольцо с ее именем. Кольцами она обменялась с Ричардом перед самым отплытием «Ориона».
4
Когда ошеломленный пастор Редлинг и мистер Паттерсон, переступив порог салона, разглядели на полу сцену единоборства двух достопочтенных бультонских джентльменов, они бросились разнимать дерущихся и успели вовремя вырвать из рук Грелли его полузадушенную жертву. Пока пастор Редлинг, брызгая водой в лицо мистера Томпсона, приводил его в чувство, Паттерсон отвел владельца судна в угол каюты. – Ради бога, сэр Фредрик, объясните, что произошло между вами? – спрашивал он тревожно, заметив валявшиеся на полу шпаги. – Что случилось? В эту минуту из носа мистера Томпсона хлынула кровь, помутневшие, с остановившимися зрачками глаза его закрылись, лицо из синего стало бледным, по телу прошла судорога. Испуганный Паттерсон бросился на помощь. Грелли запер дверь, убрал шпаги и тоже подошел к дивану, куда друзья положили пострадавшего. Смоченным в водке полотенцем Грелли сам обтер кровь с лица и шеи своего врага. Дыхание Ричарда стало ровнее. Он открыл глаза и увидел трех человек, хлопотавших у его ложа. Адвокат приподнялся на локте. – Помните, Томпсон, – быстро проговорил Грелли, – ваша жизнь была в моих руках, и я сохранил вам ее. Будьте и вы джентльменом! – Идите к черту! – пробормотал адвокат. – Господа! – продолжал он, восстановив в памяти все происшедшее. – Этот человек не тот, за кого выдает себя. Это похититель женщины и злодей, присвоивший себе чужое имя! Позовите капитана, офицеров, врача! Этого человека, – он указал на Грелли, – нужно арестовать и предать в руки закона. Грелли захохотал: – Закон остался за бортом этого корабля, на котором вы все находитесь в моей власти. Я уничтожу тебя, бумажная крыса, сующая нос в чужие дела! Если понадобится, я потоплю «Орион» со всеми, кто находится на нем. – Топить корабли с невинными жертвами – привычное занятие пирата Джакомо Грелли! – презрительно сказал адвокат. – Успокойтесь, мистер Ричард, – умоляющим голосом произнес священник. – Успокойтесь и опомнитесь! – Рассудок Ричарда Томпсона помутила оскорбленная ревность, – пролепетал перепуганный Паттерсон. – Вероятно, та невольная и… невинная дань восхищения… которую некая дама… как и все мы… неизменно приносит сэру Фредрику… – Молчите, Паттерсон! Не смейте упоминать имя этой дамы рядом с моим! Ступайте за капитаном, господа! Мы должны немедленно арестовать пирата. – Да, ступайте за капитаном, Паттерсон! – злобно прохрипел Грелли, заметив колебания своего компаньона. – Судно ремонтировалось в вашем доке, и вы не хуже моего знаете, что стоит мне из этой каюты подать тайный сигнал одним нажатием кнопки – и в пороховом погребе корабля вспыхнет подготовленный фитиль. Правда, вы не знаете, кто это выполнит из числа моих людей на корабле, но вам известно, что моя шлюпка успеет отвалить прежде, чем мачты «Ориона» скроются под водой. И вас не будет с нами на этой шлюпке, господин Паттерсон, нарушитель нашего договора! Вместе с господином адвокатом вы достанетесь в пищу акулам, а я с моими людьми через день высажусь на африканском берегу, а через полгода вернусь в Бультон. Вам должно быть ясно, что я не рискую ничем, кроме потери корабля. Выполняйте желание мистера Томпсона, ступайте за капитаном, это поможет мне быстрее покончить со всем этим клубком змей на бриге! – Стойте, стойте, дорогой сэр Фредрик! – воскликнул Паттерсон, бледный и, по-видимому, весьма ясно осознавший грозящую ему участь. – И вы, мистер Ричард, не горячитесь. Придите в себя, джентльмены! Опомнитесь, ссора завела вас слишком далеко! Здесь не зал канцлерского суда, здесь нет ни шерифов, ни констеблей. Мы живем одной большой дружной семьей на борту, и все недоразумения должны решаться на семейном совете. Присядем к столу, попросим хозяина достать со льда бутылочку и спокойно выслушаем друг друга. Не так ли, достопочтенный мистер Редлинг? Растерянный пастор недоуменно молчал, силясь осознать происшедшее. – Рад слышать слова, достойные рассудительного джентльмена, – меняя тон, сказал хозяин. – Худой мир лучше доброй ссоры. Садитесь, синьоры, и помогите мистеру Томпсону привести себя в порядок. С этими миролюбивыми словами Грелли скрылся за занавеской и через несколько минут предстал перед собравшимися в своем обычном платье, причесанный и умытый. Оправившийся тем временем мистер Ричард сумрачно сидел за столиком под пристальными, предостерегающими взглядами Паттерсона. Вызванный слуга отправился за Мортоном. На столе появилось вино и стаканы…«Семейный совет» в каюте Грелли продлился два часа. После начала совещания джентльмены пригласили леди Эмили. Она пробыла в каюте недолго и вышла с заплаканными глазами. При ней не осталось ни письма, ни тетради в тисненом переплете. Когда джентльмены разошлись, над морем уже спускалась ночь. Паттерсон по дороге в свою каюту заглянул к леди Стенфорд, чтобы выполнить поручение, возложенное на него Ричардом. Из всех намерений Ричарда, вначале столь решительных и пылких, лишь это единственное – возвращение кольца – оказалось выполнимым. После «семейного совета» адвокат почувствовал себя так, как, вероятно, чувствует себя муха, угодившая в банку с жидким клеем. В каюте он повалился на свою постель и, тупо уставившись на пламя свечи, лежал с открытыми глазами до тех пор, пока Паттерсон не потушил ее.
5
Еще одна участница плавания на «Орионе» была втайне подавлена горем и находилась в состоянии полнейшей растерянности. У колыбели спящего мальчика в чисто прибранной каюте, освещенной лампадкой, молилась перед распятием молодая черноглазая женщина. Когда в тишине наступающей ночи прозвенели три коротких сдвоенных удара корабельных склянок, ребенок пошевелился, приоткрыл сонные, такие же черные, как у женщины, глаза и, почмокав губами, снова уснул. Женщина слышала, как на палубе, почти под самым окном каюты, остановились, тихо разговаривая друг с другом, леди Райленд и молоденькая мисс Мери Мортон. Северо-восточный ветер заставил капитана делать сложные маневры; судно двигалось галсами по пять-шесть миль вдоль атлантического побережья Африки, отклоняясь от основного курса то на восток, то на запад: рулевая цепь скрежетала, и звонкий голос Эдуарда Уэнта, отдававшего приказания вахтенным, доносился с мостика. – Курс? – Зюйд-зюйд-ост, брали три румба вправо, – отвечал штурвальный. – Так держать! – Есть так держать, господин лейтенант! Через несколько минут молодой офицер подошел к беседовавшим дамам. – Противный ветер отклоняет нас к югу, – сказал он. – А разве курс наш не лежит прямо на юг? – удивились обе леди. – Нет, мистер Райленд приказал следовать к берегам острова Фернандо-По, в Гвинейском заливе. Там он рассчитывает получить сведения об африканской экспедиции двух своих кораблей. Но встречный ветер мешает… Завтра мы пересечем экватор, потом развернемся на четыре-пять румбов и пойдем курсом на восток. Если ветер не переменится, придется повторить такие маневры несколько раз. – Скажите, мистер Уэнт, надолго ли эти маневры и стоянка в Гвинейском заливе задержат наше плавание? – с беспокойством спросила старшая леди. – Трудно сказать. Быть может, недели на две, если не больше. Зато вы уже завтра увидите обряд крещения новичков, когда мы будем пересекать экватор. – Это я уже не раз наблюдала на других кораблях. Меня тоже «крестили» соленой водой, когда мне было десять лет. – Вы бывалая путешественница, леди Райленд! Наверно, вы ожидаете сейчас восхода звезд? Правда, что Южный Крест – любимое созвездие вашего супруга? – Да, мистер Уэнт, он верит, что находится под покровительством созвездий Южного Креста и Ориона… Смотрите, какие-то птицы пролетели там, за кормой! Обе женщины подошли к самому борту. За кормой расходились две длинных полосы, и в них светились зеленоватые искры, точно тысячи светлячков жили в водах океана. Неслышно шевеля упругими длинными крыльями, пронеслись над бортом корабля две большие белые птицы. – Альбатросы, – вздохнул лейтенант. – Мелькнут и исчезнут, как обманчивый призрак счастья! Поэтическая меланхолия лейтенанта рассмешила леди Эмили. – О, мистер Уэнт, – сказала она, – у вас нет препятствий для настоящего, совсем не призрачного счастья. Оно всегда лежит на очень простой дороге, его не встретишь на путях необычных! И, оставив свою юную спутницу в обществе лейтенанта любоваться четырьмя звездами Южного Креста над океаном, леди Эмили поспешила к себе. Проходя мимо одной из кают, она услышала свое имя, произнесенное тихо, с мольбой и волнением. У чуть приоткрытой двери, спрятавшись за кисеей занавески, стояла Доротея Ченни. – Умоляю вас, синьора, выслушайте меня! Я ведь ни в чем не виновата перед вами! – Приходите ко мне в каюту, – так же тихо ответила леди Эмили. – Против вас в моем сердце нет никакого зла…* * *
– Сядьте, Дороти, и успокойтесь, – приветливо встретила она молодую женщину, когда та, войдя через несколько минут в каюту, сделала движение, чтобы упасть на колени. – О синьора, я совсем перестала понимать, что творится кругом! С тех пор, как Джакомо привез нас из Италии, у меня на сердце лежит большая тяжесть, но я ждала лучшего и верила тому, что Джакомо говорил мне. Теперь я совсем перестала понимать, что он замыслил. – Едва ли я способна утешить вас, Доротея. Вы связали свою жизнь с низким негодяем. – Синьора, раньше, в Италии, когда он был простым моряком, а я едва умела писать, мы любили друг друга. Я была счастлива, когда он приходил в маленький рыбачий домик, где мы жили с матерью. Потом он ушел в море на шхуне Бернардито и привозил мне такие подарки, что все девушки на нашей улице умирали от зависти! Когда в Сорренто узнали, что Бернардито и Джакомо утонули на «Черной стреле» в далеких водах, ко мне сватались рыбаки-соседи, но я не верила в смерть Джакомо и ждала его больше года. И он пришел за мной, пришел ночью, когда вся наша деревушка близ Сорренто спала. Он был одет, как знатный синьор, и приказал называть его другим именем. Я долго не могла даже запомнить это имя и просто звала его «Фредерико». «Я увезу их – и Доротею и Антони, – сказал он моей матери, – в другую страну, но никто не должен знать мо его прошлого. Одно неосторожное слово погубит нас…» И мы приехали в Англию на его собственном большом корабле и поселились в предместье Бультона. Джакомо часто навещал нас и был со мною ласков и добр. Моего брата Антони, которому тогда исполнилось тринадцать лет, он сделал грумом и перевез в свой дом в Ченсфильде, а я одна осталась в бультонском предместье и каждый вечер ждала Фредерико. Он повторял, что любит нас, но я-то чувствовала, что мы нужны ему для чего-то; а вот для чего – не понимала!.. Антони по-прежнему оставался в Ченсфильде, а меня Джакомо увез в Париж, когда я сказала ему, что скоро стану матерью. Он тогда так обрадовался!.. Я уже раньше знала, что у него есть жена в замке, но он говорил мне, что вы – не настоящая жена. В Париже Джакомо объявил мне, что если у нас родится сын, то ради счастья ребенка нужно будет выдавать его перед людьми за сына женщины в замке, то есть за вашего сына, леди. А мне приказал называться только кормилицей собственного мальчика! Я не смела противоречить Джакомо… Ему нельзя противоречить, леди!.. Вскоре я родила Чарльза. Перед этим вы тоже приехали в Париж, и после моих родов мы втроем вернулись на пакетботе в Англию. Я поняла: поездка во Францию должна была скрыть от слуг, что не жена его, а я произвела на свет ребенка. После того как пастор Томас крестил в замке моего Чарльза, я проплакала много ночей: ведь патер и все люди называли вас его матерью, и так было записано в бумагах Чарли. А я – я только кормилица… Джакомо больше собственной жизни любит нашего мальчика. Он так много забавляется с ним и раньше так хорошо говорил мне про будущее нашего сына! Он хочет, чтобы мальчик был большим лордом, епископом или министром, и люди кланялись бы ему, сыну английского виконта, а не пирата Джакомо Грелли! – Довольно, Доротея, – устало произнесла леди Эмили. – Все эти подробности я знаю так же хорошо, как и вы. Мне тяжело и неприятно вспоминать их. Какая новая забота привела вас ко мне? – Я вас понимаю, синьора! Я давно поняла, что вы ненавидите Джакомо, а он боится вас. Но вы никогда не делали зла ни мне, ни моему бедному ребенку, и втайне я жалела вас… Когда я узнала, что у вас и у меня одна вера и видела вас на коленях перед Мадонной, я еще больше стала жалеть вас. Меня тревожит, что Джакомо переменил и веру вместе с именем. – Доротея, я уже просила вас: расскажите о ваших последних горестях! Старое я знаю и ничем не могу помочь вам. – Синьора! Когда «Орион» прибыл в Бультон, Джакомо сказал мне, что мы пойдем в плавание к дальнему острову и вернемся уже без вас. – Без меня? Какая же судьба ожидает меня в этом плавании? – Этого он не говорил мне, но обещал, что после возвращения с острова он женится на мне и Чарли будет говорить мне «мама». – Так почему же вы решили открыть мне эту тайну? Лицо Доротеи стало злым. Она положила подбородок на сжатые кулаки и зашептала со страстью и волнением: – Я вижу, что он обманывает не только вас, но и меня. Леди Стенфорд… эта злая, гордая леди – вот кто должен стать виконтессой Ченсфильд… – Откуда вы это знаете? – Ночью я подслушала их… Он целовал ее и называл… будущей леди Райленд… – Так послушайте моего совета, Доротея. Я не могу открыть вам причин, почему вынуждена молчать и даже помогать вашему Джакомо держать в заблуждении целый город, но есть высшая справедливость, и она не допустит, чтобы этот обман продолжался долго. Знайте, что Джакомо Грелли рано или поздно будет передан в руки палача. Но ребенок ни в чем не виноват. И если вы хотите, Доротея, чтобы он вырос честным человеком, то бегите с вашим ребенком из-под крова Джакомо Грелли. – Господь с вами, синьора! Нет, вы совсем не знаете Джакомо! Да он отыщет меня на дне вот этого океана! Я боюсь его, синьора… и… я… тоже привыкла мечтать о великом будущем моего Чарли… А какая судьба ждет моего бедного мальчика, если я останусь с ним одна, в нищете?.. – Тогда вы напрасно пришли ко мне за советом. Ступайте к Джакомо Грелли, просите у него снова места кормилицы в его доме, когда ваш сын будет поручен заботам леди Эллен… или решайтесь скорее и бегите прямо с этого корабля. У меня есть деньги. Я помогу вам. – Боже мой, как это страшно! Я сейчас ничего не отвечу, но буду помнить ваш совет и доброту ко мне. Прощайте, синьора, я теперь пойду к моему малютке. Когда Доротея удалилась, леди Эмили послышался слабый шорох за стенкой каюты. Не обратив на это никакого внимания, взволнованная беседой, она еще раз вышла на палубу. На горизонте ярко сиял Южный Крест. Капитан Брентлей, принявший ночную «собачью» вахту, стоял на мостике. Ветер шевелил плюмаж на большой треугольной шляпе капитана. Опираясь на рукоять шпаги, он пристально глядел вперед. От всей его крупной, мужественной фигуры так и веяло прямотой и храбростью. Он не заметил леди Эмили, а она вдруг вспомнила слова Доротеи, что корабль с той же командой, с тем же капитаном, но уже без нее должен вернуться в Англию. Что ее ждет впереди? Какой новый предательский удар готовит в темноте пиратская рука Джакомо Грелли? После сегодняшнего «семейного совета» она ясно понимала, что союзников у нее нет и помощи ей ждать неоткуда, пока не будет достигнута долгожданная цель плавания. А там? Что ждет ее там, где справедливость должна скрестить шпагу с преступлением? Между тем из узкого чуланчика, граничащего с каютой леди Эмили и обычно запертого, так как он предназначался для багажа леди Стенфорд и для ночлега ее горничной Бетси, с большой осторожностью выбралась полная немолодая особа. Она была в чепце и белой ночной кофточке. Оглядевшись по сторонам и заметив идущую с палубы леди Эмили, Бетси, несмотря на свою полноту, весьма проворно юркнула в коридор и через минуту скрылась в каюте леди Стенфорд. Не смутившись присутствием здесь в столь неурочный час мистера Райленда, эта достойнейшая из камеристок попросила свою госпожу за занавеску и там шепталась с ней несколько минут. Затем, получив приказание отправляться спать, она возвратилась к себе довольно шумно, заперлась в чуланчике, развязала кошелек, хранимый в изголовье под матрацем, и опустила туда новенькую серебряную монету.6
Перед полуднем 16 октября на «Орионе» грянул холостой пушечный выстрел и зазвонил корабельный колокол. В кают-компанию, где пассажиры еще сидели за ланчем, вошел вахтенный офицер, второй помощник капитана мистер Джеффри Мак-Райль, и пригласил все общество на палубу. Экипаж приготовился отметить переход через экватор. Корабль выглядел празднично. Все медные части, поручни и украшения, надраенные до нестерпимого для глаза блеска, казалось, плавились в лучах экваториального солнца. Флажки и вымпелы развевались на реях. Доски свежеокрашенной палубы, вымытые и просушенные, были покрыты ковровыми дорожками. Большой ковер из кают-компании устилал середину свободного пространства на баке. Гости уселись на приготовленных для них скамьях. Вся команда в праздничной одежде разместилась вдоль бортов. На ковре, под балдахином из портьер, восседал Нептун. Мочальная борода свисала до самого ковра. Мантию морского бога украшали перламутровые раковины и различные эмблемы. Бог важно потрясал трезубцем. Два сенегальских негра, обнаженные до пояса, стояли позади трона, помахивая над головой царя океанов опахалами из пальмовых ветвей. – Я вижу какой-то корабль. Позвать ко мне его капитана! – с важностью произнесло морское божество. Две хвостатые русалки (в ответственной роли морских гонцов пассажиры сразу узнали корабельных юнг) кинулись на мостик за капитаном. Гай Брентлей, в полной парадной форме, со всеми регалиями, почтительно подошел к трону. – Что за судно приближается к экватору в моем океане? – обратился Нептун к капитану. – Бриг «Орион», ваше морское величество, под командованием капитана Брентлея. – Я знаю этого капитана и его славный корабль! Привести к моему трону всех пассажиров и членов экипажа, кто впервые пересекает экватор! Два матроса уже приготовились к встрече процессии. Они стояли у противоположных бортов, держа в руках парусиновые шланги от пожарных помп. Навстречу друг другу ударили две сильных водяных струи. Не сталкиваясь в воздухе, они образовали водяную арку, под которую Нептун и повел всех гостей. Едва лишь само божество и первая пара – леди Стенфорд с Паттерсоном – «пересекли экватор», матросы опустили шланги ниже. Струи воды столкнулись в воздухе. Брызги посыпались на головы и спины проходящих. С мокрыми головами и плечами пассажиры и слуги спешили скорее миновать соленую купель. Но настоящее веселье началось, когда «экватор» пришлось «пересекать» молодым матросам. Преследуемые струями воды, матросы заметались по палубе под дружный хохот команды. Когда мокрые до нитки «крестники» спаслись наконец от водяных струй, их поставили лицом к воде: новичкам приказали разглядеть в волнах… полосу экватора! Пока матросы вглядывались в море, к ним сзади подкрался сам Нептун и опрокинул за шиворот новичкам два ведра холодной воды. Вскоре обрызганные пассажиры и мокрые матросы оказались перед столами, накрытыми на палубе. Сюда же перешли с кормы все «бывалые» мореплаватели, не участвовавшие в нынешней церемонии. На баке остались только хозяин корабля и Доротея с ребенком на руках. Нептун поспешил им навстречу. Грелли взял ребенка из рук женщины и нежно прижал его к своей груди. С сыном на руках он шел под высоко поднятыми струями водяной арки. Нептун осторожно брызнул на мальчика горстью соленой океанской воды. Команда крикнула «ура!», третий помощник капитана Джозеф Лорн махнул рукой, и пушечный салют смешался с песней моряков «Ориона», сочиненной Эдуардом Уэнтом:5. Леопард и шакалы
1
В последнее воскресенье октября, на рассвете, палуба «Ориона» была полна людей; ни одного матроса не осталось в кубрике, ни одного пассажира – в каютах: прочертив из-за встречных ветров довольно сложный зигзаг в экваториальных водах, бриг подходил наконец к проливу, отделяющему остров Фернандо-По от побережья Гвинеи. Солнце, окутанное прозрачной дымкой, поднималось из-за фиолетовых далей Африканского материка. В мареве испарений чуть виднелась на востоке коническая вершина вулкана Камерун, окруженная горными цепями. Даже без подзорных труб можно было разглядеть африканское побережье с его причудливыми рыжеватыми скалами и яркой зеленью тропических лесов. Слева по курсу судна медленно вырастали очертания гористого острова Фернандо-По. Корабль двигался вперед все осторожнее… Когда барашки волн заискрились в утренних лучах, «Орион» подошел к заливу Санта-Изабель на острове, у склонов высокой горы с тем же названием. Капитан Брентлей имел приказание поставить здесь судно на якорь. На берегу залива, среди пышной зелени масличных пальм, приютилось несколько домиков европейской постройки, принадлежавших португальской торговой фактории и каким-то забытым миссионерским семьям. Главы и родоначальники этих семей – португальские католические миссионеры и английские баптисты – переселились сюда еще в прошлом столетии и, отрезанные отродины тысячами миль океана, были вскоре совершенно позабыты как церковью, так и торговыми компаниями. Эти миссионеры уже давно покоились на крошечном христианском кладбище у подножия Пикоди-Санта-Изабель, а их потомки смешались с островными аборигенами, разводили маниоку, маис и бананы, пили пальмовое вино, торговали с островитянами и, по традиции отцов, проповедовали им христианство, без особого, впрочем, успеха… Владелец «Ориона» жадно всматривался с капитанского мостика в морскую даль. Он ловил в подзорную трубу каждый изгиб островного берега, но, по-видимому, остался недоволен своими наблюдениями, нахмурился, сердито захлопнул трубу и отрывисто приказал Брентлею поторопиться. Команда скатывала паруса, еще влажные от ночной сырости. Цепь носового якоря, гремя, побежала из клюза. Через минуту и кормовой якорь с плеском ушел в зеленоватую морскую воду, прозрачную до каменистого дна. Вдруг вдали, среди нагромождения береговых скал и утесов, показался будто бы крошечный шарик ваты. Звук пушечного выстрела, пугая птиц, гулко прокатился над водой и отдался эхом в лесистых горах. Грелли и Брентлей навели по дымку выстрела свои подзорные трубы и лишь теперь смогли различить вдали небольшую шхуну, искусно спрятанную среди скал. Над шхуной взвился флаг; капитан Брентлей пристальнее вгляделся в очертания далекого судна… и поздравил владельца «Ориона» со счастливой встречей: перед ними, всего в нескольких милях, находился другой корабль компании – шхуна «Глория». С «Ориона» грянул ответный выстрел. На грот-мачте брига в знак приветствия заполоскался личный вымпел владельца. Капитан Брентлей с Уэнтом отправились на берег, к ближайшей постройке, рядом с которой торчал шест-флагшток и расхаживал босой оборванец в соломенной шляпе, с ружьем на плече. Грелли, Паттерсон, Мак-Райль и Лорн уселись в капитанской каюте «Ориона» и с нетерпением ожидали прибытия капитана «Глории». Тем временем на палубу «Ориона» вышла Дороти Ченни, ведя за руку маленького наследника Ченсфильда. Неуверенно переступая крепкими, толстыми ножками и цепляясь за руку и юбку матери, ребенок перебрался через порог и засеменил по нагретым доскам палубного настила. Мать вынесла на палубу плетеное кресло для себя и игрушечного медведя для Чарли. Но вокруг происходили слишком интересные вещи, чтобы стоило заниматься обычными игрушками! Плюшевый медведь с задранными лапами сиротливо остался лежать на палубе, а Чарли, как завороженный, глядел на воду. К бригу уже успели подплыть две лодки с туземцами. На лодках горами лежали громадные морские раковины, коралловые бусы и ожерелья, страусовые перья, «пилы» и «мечи», некогда вооружавшие головы опасных хищных рыб, кокосовые орехи, небольшие слоновые бивни, золотистые ананасы и дыни, бананы и финики. Выкрикивая непонятные гортанные слова, голые чернокожие предлагали свои товары пассажирам брига. Туземная ладья, управляемая одним гребцом, была уже у кормового трапа корабля. Доротея подвела ребенка к трапу. Рослый туземец с курчавыми волосами, собранными на затылке в пучок, удерживаемый гребнем из рыбьей кости, стал передавать ей из лодки сочные плоды. Внезапно какая-то тень заслонила от Доротеи солнце. Подняв голову, она увидела перед собою мулата Энрико Роя, пристально наблюдавшего за ее торгом с островитянином. Желая поближе рассмотреть чудесные перламутровые раковины, Доротея хотела спуститься в лодку, но мулат осторожно удержал ее и молча покачал головой, давая понять, что сходить с трапа ей не следует. Доротея с мальчиком вернулась со своими покупками на прежнее место, и лишь теперь молодая женщина обратила внимание, что и мулат Рой выбрал себе местечко поближе от ее кресла, под уголком парусинового тента. Леди Эмили, Мери Мортон, Ричард Томпсон и пастор Редлинг попросили боцмана спустить для них шлюпку и пригласили Доротею совершить в их обществе поездку на берег. Обрадованная женщина, схватив сына на руки, заторопилась вниз. Обе леди уже сидели в шлюпке. Однако, едва Доротея приблизилась к трапу, перед нею снова выросла фигура Энрико Роя. Мулат преградил ей дорогу. – Мисс Дороти, – шепнул он, – хозяин не разрешил вам сходить с корабля! Сударыни, – обратился он к дамам в шлюпке, – мисс Доротея сказала, чтобы вы отправлялись на берег без нее. Но леди Стенфорд просит подождать ее. Сейчас она выйдет из своей каюты. Вот и миледи, господа!2
– Итак, мистер Паттерсон, сейчас мы с вами услышим, каковы первые результаты экспедиции, подготовленной мною полгода назад, – говорил Грелли, глядя из окна капитанской каюты на быстро приближающуюся шлюпку с «Глории». – Шхуна «Доротея» должна была тоже прибыть в эти воды, ее капитану было приказано торопиться к африканскому побережью с грузом из Южной Америки. Вот и капитан «Глории». Привет, мистер Вильсон! Капитан «Глории», маленький, толстый моряк с простуженным голосом, пожал руку Грелли, глядя на него снизу вверх и часто моргая белесыми ресницами. Воротник его довольно грязного мундира подпирал лоснящиеся от пота щеки, покрытые рыжей щетиной. Раскрасневшееся лицо было так густо усыпано веснушками, что казалось, будто кисть неосторожного маляра обрызгала лицо мистера Вильсона раствором желтой краски. – Знакомьтесь с джентльменами, Вильсон. Мистер Паттерсон – мой компаньон и участвует в расходах. Джозеф Лорн – помощник капитана. С мистером Мак-Райлем вы знакомы… Можете говорить совершенно свободно. Капитан достал роговую табакерку и взял добрую понюшку. Оглушительно чихнув, моряк заговорил срывающимся голосом, переходившим то в простуженный бас, то в полузадушенный шепот: – Джентльмены, я позволю себе выразить надежду, что никому из вас не придется жалеть о деньгах, вложенных в эту исключительную экспедицию. Да, исключительную, ибо, господа, ни одно европейское судно не посещало устья реки Куарры*["43] уже по меньшей мере в течение столетия. – К черту историю, Вильсон, здесь не заседание Королевского географического общества. Где вторая шхуна? Что успели разведать? Как идут дела с… вербовкой? – Но, сэр, вы не даете мне даже рта открыть! – обиженно забасил и захрипел моряк. – Ей-богу, эта экспедиция могла бы прославить нас перед учеными мужами всей Европы, если бы она преследовала… несколько иные цели. И, черт меня побери, если мы с мистером О’Хири не рисковали угодить на жертвенный алтарь какому-нибудь африканскому божеству. – Ладно, капитан, не сердитесь! – Грелли подал глазами знак. На столе капитанской каюты, словно на столике фокусника, с удивительной быстротой появились бутылки и стаканы. – Промочите горло и, ради бога, не испытывайте терпения этих джентльменов слишком длинным рассказом. Капитан Вильсон «промочил горло» двумя стаканчиками виски, и морщина обиды изгладилась с его чела. – Итак, господа, мы с капитаном «Доротеи» года полтора назад, во время рейса к Золотому Берегу, приняли к себе на службу бывшего агента одной прогоревшей бостонской работорговой фирмы, некоего мистера Сайреса Эрвина О’Хири, американца ирландского происхождения, большого мастака в торговле «черным деревом». Этот мистер О’Хири незадолго до нашего с ним знакомства побывал в таких местечках Гвинеи, в которых уже давно не бывали белые торговцы и которые сулят для предприимчивых джентльменов немалые выгоды, правда связанные и с немалым риском… Бультонский судостроитель мистер Паттерсон слушал Вильсона как завороженный. Грелли хмурился и нетерпеливо притопывал каблуком, словно желая пришпорить рассказчика. – Царство Эдо, страна Великого Бенина*["44], негритянское царство в низовьях могучей Куарры, – вот тот сундучок, к которому мистер О’Хири предложил подобрать ключик! – Признаться, мне эти слова не объясняют ничего, – разочарованно проговорил Паттерсон. – Чем оно так интересно для нас, это царство Эдо? – Еще несколько минут терпения, сэр! Принятый нами на службу мистер О’Хири разработал смелый план, как наилучшим образом использовать главное, можно сказать, природное богатство здешних мест, то есть черное население. Оно весьма многочисленно и, я бы сказал, чертовски искусно во многих полезных ремеслах, джентльмены, не говоря уж о том, что племена Эдо – на редкость рослый и здоровый народ… Свой план мистер О’Хири изложил уже в Англии мистеру Райленду и… – И вот мы здесь, Вильсон, но пока что знаем о ходе экспедиции не больше, чем при отъезде из Бультона! Паттерсон изо всех сил стремился вникнуть в смысл повествования. Его терзали сомнения. Он опасался попасть впросак и быть одураченным. Недоверие и жадность бродили в нем, как солод и ячмень в молодом пиве. – Что же особенного представляет собой этот план О’Хири? Почему он связан с риском? Если он так выгоден, как нам пытаются внушить, то почему такой план не пришел в голову еще кому-нибудь другому? Чувства, обуревавшие судостроителя, весьма ясно отражались на его физиономии. Грелли без особого труда разгадал сомнения своего компаньона. Он подмигнул Вильсону. – Видите ли, – доверительно заговорил капитан «Глории», – здесь торговля черным товаром – не такое простое дело, как вы, по-видимому, представляете себе, мистер Паттерсон. Устье Куарры – это не Золотой Берег, не страна Ашанти, не Дагомея*["45]. Там людские запасы уже сильно истощены, цены на негров возросли и выгода работорговли все уменьшается, здесь же, в нижнем течении Куарры, европейцев не было давно. Их пугает тяжелый климат, трудности плавания, а главное – могущество здешних негритянских государств, прежде всего – государства Эдо, или Бенина, как его называют по главному городу. Паттерсон удивленно вскинул брови: – Могущество? О каком могуществе вы говорите? Речь идет о грязных голых неграх, не так ли? – Гм! Грязными и голыми вы видели их на невольничьих рынках… У себя дома они искусные литейщики, ткачи, строители и земледельцы. Правитель Бенина, обба, как его называют, живет, по словам О’Хири, в настоящем дворце. В Бенине много воинов, оборотистые купцы и сильная каста жрецов… Тут, в низовьях Куарры, есть немало больших негритянских поселений разных черных племен, но самое сильное из них – Бенин, или Эдо. Еще лет двести назад португальцы и голландцы были не редкими гостями в Бенине, основали здесь фактории и неплохо заработали на торговле чернокожими. Но, увы, правители Бенина скоро поняли, что в результате своего гостеприимства они рискуют… остаться без подданных. Поэтому они, черт их побери, предпочли отказаться от христианской цивилизации и закрыли доступ европейцам. Ослушникам, а также белым пленникам грозит казнь на жертвенном алтаре. По рассказам О’Хири, тамошние жрецы очень любят устраивать человеческие жертвоприношения – это помогает держать черную паству, так сказать, «в страхе Божием»… Паттерсона передернуло. – Все это напоминает сказку для детей! – пробормотал он еще более недоверчиво. – Если же это хоть отдаленно похоже на правду, то какого черта было тащиться сюда, в эти проклятые места? – А вот теперь и послушайте, что еще в Бультоне предложил мне О’Хири, – вмешался Грелли. – Когда ему удалось пробраться из Дагомеи в Бенин, то оказалось, что это негритянское царство ослаблено непрерывными усобицами феодалов и жрецов между собою и верховным правителем – оббой. Город Бенин, окруженный рвом и стеной, пострадал в этих войнах – О’Хири видел поврежденный дворец оббы. Из-за раздоров страна находится в упадке, и этим можно выгодно воспользоваться, как правильно сообразил наш мистер О’Хири. Ему удалось вступить в тайные сношения с враждебным царю чернокожим вельможей, по имени Эзомо-Ишан. В своей борьбе против оббы этот Эзомо-Ишан, негритянский феодал или жрец, нуждается в партии огнестрельного оружия. О’Хири получил от него обещание: в обмен на партию оружия и кое-какие нехитрые подарки пропустить под охраной его воинов два наших легких судна в низовья Куарры и уступить нам полтысячи своих чернокожих подданных. В подчинении Эзомо-Ишана имеется до пяти тысяч войска да тысяч десять собственных рабов. Эта команда, так сказать, обезопасит тыл нашей экспедиции от всяких каверз со стороны бенинского оббы и любых других царьков-правителей племен йоруба, нупэ, хаусса и всех прочих… Вам ясна ситуация, мистер Паттерсон? – Н-е-нет, не вполне… Ведь требуется партия оружия? И где гарантии, что этот Эзомо-Ишан не готовит нам просто ловушку? – Партия оружия находится на «Глории», капитан которой сидит перед нами. Остальные товары – на шхуне «Доротея»: там порох, табак, ямайский ром и безделушки. Где сейчас «Доротея», Вильсон? – Хорошо спрятана неподалеку от Гато, покинутой португальской фактории в устье Куарры. Чернокожих поблизости от судна нет – для негров на эту местность предусмотрительно наложено табу*["46]… Мы ожидали только вашего прибытия, мистер Райленд: у нас все готово к обмену товара на чернокожих… – Отлично! Надо действовать немедленно, чтобы никакие чужие крысы не почуяли поживы для себя. Что касается гарантий за сохранность наших шкур, мистер Паттерсон, то вынужден огорчить вас – они не вполне надежны. Всякий выигрыш берется ценою риска. Чем риск крупнее – тем выигрыш больше… Теперь к делу, джентльмены… Бриг «Орион» на две недели задержится здесь, в уютной бухте Фернандо-По. В течение этих двух недель нам с вами, господа, предстоит проделать всю операцию. Присутствие мое на «Орионе» сейчас не нужно. Леди Стенфорд не выпустит из своего поля зрения пастора Редлинга и здешних миссионеров, Рой будет наблюдать за Доротеей, младшего Томпсона я поручаю вашим заботам, Джеффри Мак-Райль. Среди команды, Мак, вы можете полагаться на Иензена и Каррачиолу. А нам с вами, господа Паттерсон и Лорн, придется совершить веселую экскурсию, сначала на полтораста миль до устья Куарры, а затем, вероятно, мы поднимемся вверх по этой интересной речке… Я не намерен покупать полтысячи котов в мешке, я хочу сам посмотреть на мой товар, который пойдет в Америку… Джентльмены на бриге, разумеется, не должны догадаться ни о чем: им придется объяснить, что мы не могли упустить случая поохотиться на слонов и бегемотов, не так ли? Вильсон, немедленно готовьте «Глорию» к отплытию. Быстрая доставка – душа торговли, господа! Грелли был необычайно возбужден. У него блестели глаза от азарта и раздувались ноздри горбатого носа. Возбуждение охватило и Паттерсона. «Пират! Настоящий отчаянный пират! – думал Паттерсон, поглядывая на своего компаньона. – Но какая энергия, страсть, бесцеремонность в средствах! Человек этот рожден, чтобы подчинять себе других. Нет, он жизненно необходим обществу! Пожертвовать им, кем бы он ни был на самом деле, ради какой-то старомодной справедливости, просто вредно для всей нашей коммерции! А лично для меня – это почти губительно! Негодяй так быстро завладел моими средствами и так глубоко втянул в свои дела, что, случись с ним какая-нибудь беда, все мои денежки вместе с заманчивыми надеждами уйдут в неведомые воды. Ибо этот человек не будет ожидать, пока шериф положит руку ему на плечо! На своем дьявольском «Окрыленном», который я сам помог ему создать, он примет бой со всем британским флотом. Какая польза в том, что он в конце концов очутится на дне? Вместе с ним туда же погрузятся и мои шесть тысяч фунтов!» Два дня спустя, под вечер, шхуна «Глория» осторожно подошла к устью Куарры. Величественная река спокойно катила в океан свои желтоватые волны. По четырнадцати рукавам Масляных рек они врывались в зеленую морскую гладь, и мутно-коричневые полосы пресной речной воды на протяжении многих миль резко отделялись от вод океана. Туземный лоцман, посланец негритянского вельможи Эзомо-Ишана, уже стоял на капитанском мостике. Это был татуированный негр из племени кру. Он указывал путь к одному из пустынных рукавов дельты… С наступлением темноты из этого рукава навстречу шхуне вышла большая туземная ладья с двадцатью гребцами. Под покровом тропической ночи ладья приблизилась к шхуне, взяла ее на буксир и бесшумно повела «Глорию» к дельте… Весь экипаж шхуны с карабинами наготове притаился у фальшборта. Джозеф Лорн, держа в каждой руке по пистолету, наблюдал за туземцами в ладье. Паттерсон слонялся по палубе, мучительно ожидая дальнейших событий. Тихие всплески весел, односложные слова команд, произносимых шепотом, отдаленные крики каких-то ночных птиц на берегу – все эти звуки казались ему зловещими. Где-то далеко на берегу мерцали огоньки – должно быть, туземные рыбаки разводили костры, но судостроителю мерещились за этими слабыми огоньками злобные враги, в чью ловушку он неминуемо должен был угодить… Грелли тихо окликнул с мостика своего компаньона. – Вон там, – указал он рукой направление на самый западный из рукавов дельты, – совсем недалеко, в сотне миль от нас, находится столица Эдо – Великий Бенин. Небось какой-нибудь ученый-географ позавидовал бы вам, мистер Паттерсон! Быть в такой близости от заповедного царства! Может, и вы втайне мечтаете предстать завтра перед лицом его царского величества – оббы? Клянусь всеми богами Эдо, он приготовил бы вам веселую встречу! Паттерсон хотел выругаться и не успел: с мостика, к ужасу мирного бультонского джентльмена, внезапно раздался отвратительный, захлебывающийся хохот. Это негр-лоцман весьма искусно воспроизвел ночной крик гиены. Не успел Паттерсон опомниться, как с берега, уже близкого, раздался ответный хохот гиены. Это был сигнал затаившихся в береговой засаде тайных охранителей экспедиции. Он означал, что вверх по реке путь свободен.Утром судно поднялось уже на десять миль вверх по реке. В болотистой низменности, где суша зелеными языками вдавалась в широко разлившуюся водную гладь, среди зарослей мангровых лесов и непроходимой чащи ярко-зеленых прибрежных папоротников, хвощей и тростников гнездились тысячи птиц. Казалось, что корабль достиг столицы царства пернатых. Пеликаны, аисты, цапли, чайки, фламинго, бакланы, множество крылатых хищников тучами носились в воздухе, плавали у берегов или неподвижно стояли у самой воды. Путешественники разглядели, как с зеленой косы бросился с берега в воду, спугнув каких-то белых птиц, крупный гиппопотам. Грузное животное, окунувшись в воду, долго не показывалось вовсе. Затем из воды вынырнула только огромная, похожая на гитару голова с розовыми ноздрями и выпуклыми полузакрытыми глазами. Гиппопотам зевнул, широко раскрыв чудовищную пасть, и не обратил никакого внимания на судно, проплывшее от него на расстоянии полукабельтова. Наконец в подзорные трубы, переходившие из рук в руки, путешественники увидели деревни, раскинувшиеся по обеим сторонам реки, в глуши бесчисленных протоков Куарры. Среди круглых тростниковых хижин с желтыми кровлями из маисовой соломы виднелись и довольно сложные сооружения из глины и камня. Несколько полуразрушенных домиков европейской постройки, очевидно, принадлежали когда-то португальской фактории и миссионерам. Поселки терялись в густой, непривычно яркой для глаз европейцев прибрежной зелени. Позади поселков виднелись небольшие клочки возделанной земли – поля с весенними всходами маиса, ямса и маниоки*["47]. На песчаных участках у берега масличные пальмы поднимали к небу свои вечнозеленые кроны. Около пальм у хижин кучами валялась скорлупа от орехов. Много мелких судов – парусных лодок, туземных рыбацких баркасов и пирог – двигалось в разных направлениях по спокойной глади соседних рукавов Куарры. Проводники недаром выбрали именно эту тихую, безлюдную протоку: с нее можно было просматривать окружающую местность и соседние рукава на много миль вокруг, оставаясь скрытыми за разросшейся береговой зеленью. Так, без всяких происшествий, «Глория» преодолела еще много миль вверх по Куарре.
3
Судно двигалось в чернильной темноте влажной тропической ночи. На носу и на корме корабля горели фонари. Их свет выхватывал из мрака несколько ярдов черной, как омут, воды, фигуру матроса, промерявшего шестом глубину фарватера, и призрачные рои ночных мотыльков, круживших около огней. Крупные, яркие, словно мохнатые звезды величаво и загадочно мерцали в иссиня-черной мгле. Где-то на берегу кричала выпь. Вой шакалов то доносился ближе, то пропадал вдали. Откуда-то из глубины чащи ему вторили гиены. Царил глубокий мрак, луна еще не вставала. Влажная духота напоминала воздух в оранжерее. Паттерсона охватила жуть. Он достал сигару и хотел закурить, но вспомнил, что огня у него нет. В темноте он сделал несколько шагов и почти наткнулся на Грелли и Джозефа Лорна. Они разговаривали вполголоса, стоя у грот-мачты, и не слышали шагов судостроителя. Трубка в руках Грелли чертила в темноте огненные зигзаги и рассыпала искры. Паттерсон прислушался к словам лжевиконта. – Кой черт! Мне достался от этих олухов Райлендов забытый титул и нищее поместье. Милордом меня величали только собственные слуги! А соседи на первых порах и сэром-то называли меня сквозь зубы! Ничего, они еще поползут на брюхе перед виконтом Ченсфильда, когда я стану пэром Англии, черт меня побери совсем! Это даст власть, это откроет дорогу в правительство, к сундукам этих торгашей и промышленников. – Не высоко ли метишь, Джакомо? Смотри не сорвись, – услышал Паттерсон голос Лорна. – Ты рановато сбросил со счетов того, на острове. Он готов к отчаянной войне с тобой. – Чепуха, Джузеппе. Или я сделаю его сговорчивым, или… весь экипаж будет охотиться за «прокаженным» на острове. Такая война не может быть слишком долгой. – Он знает остров лучше, чем ты свой Ченсфильд. – Допустим, неделю, месяц они продержатся, ухлопают у меня пару матросов. Все равно я сверну им шеи, и тогда… можно будет вздохнуть свободнее и уже не опасаться разоблачения. Говорю тебе: мне нужно пэрское кресло, каррамба! – Хватит с тебя и твоего виконтства. Ведь ты – уже лорд, черт возьми! По мне – все это чепуха! Лорды, пэры… Не понимаю я твоих планов. Давай потолкуем лучше о деле. Какого черта ты затащил сюда Паттерсона? Ты хочешь послать его в Америку? – Паттерсона я сначала хотел послать с вами в Америку, но, пожалуй, на острове он будет мне нужнее. Руководить экспедицией в Америку придется Мак-Райлю и тебе, мой старый Джузеппе. Я не могу доверить продажу товара моим капитанам. Они неплохие моряки, но там понадобится хватка торговца. Мои условия: выручить по сорок фунтов за голову. Если сумеете поднять цену – излишки тебе и Маку. Я давно знаю Мак-Райля. Это ловкая лиса, он ухитрялся обманывать даже Бернардито. Тебе придется смотреть ему на пальцы, Джузеппе! Деньги ты доставишь мне в Бультон и сдашь в банк Ленди. Пять процентов от всей доставленной суммы я отдам тебе. Идет? – Это собачья задача, Джакомо. – Не называй меня прежним именем, Джузеппе. Почему ты колеблешься? – Во-первых, у нас еще нет на борту чернокожих; мы делим шкуру неубитого медведя, сидя в его берлоге и находясь у него в лапах. Во-вторых, сдается мне, что ты назначил слишком высокую оптовую цену. Сахарным плантаторам на Ямайке или на Кубе дешевле брать малайцев с тихоокеанских островов. – Негры стоят дороже! Они легко привыкают к работе и не так быстро дохнут, как индейцы или малайцы. У Мака есть приятели-перекупщики на невольничьих рынках Луизианы и Виргинии. Там обеспечен хороший сбыт всей партии. Ты продашь их по полсотне соверенов за штуку, слышишь? – Женщины и подростки идут дешевле, хозяин. – Плантаторы берут всех. Там, где растет хлопок, и пятилетний детеныш – работник. Тебя ли мне учить, Джузеппе? У красивых матерей ты отберешь грудных детей и продашь красавиц втрое дороже, на них покупатели есть во всех частях света. А детвору ты отдаешь некрасивым самкам и сбудешь их плантаторам со всеми детенышами: на больших плантациях их охотно берут с приплодом на вырост. Но цены не сбивай! Если, сверх ожидания, мелочь не найдет сбыта, лучше утопи ее, только не спускай за бесценок – это вредит торговле. Пока у нас еще нет своего укромного местечка, возиться с мелочью невыгодно. Потом-то я устрою на нашем острове целый питомник… Мы заведем там свои плантации и одновременно будем разводить товар для продажи, потому что ловля чернокожих или покупка их у князьков чем дальше, тем становится труднее и дороже. Следующего вопроса Лорна Паттерсон не разобрал, но понял, что речь идет о нем самом. Грелли размышлял несколько минут, пока Лорн раскуривал трубку. Вспышка огня озарила густые брови Лорна, бронзовое немолодое лицо, жесткие волосы и белый шрам, наискось пересекающий лоб этого моряка. Наконец Грелли заговорил: – Видишь ли, Паттерсон не из нашего теста, но он тоже делец. Со временем он привыкнет. Сейчас я тащу его с собой, чтобы он просто пригляделся к делу. Может быть, его верфь войдет когда-нибудь в мою компанию, но пока мне это не нужно. Дело в том, что в своей игре он поставил на меня, и, черт побери, на моем номере он должен выиграть. Мне нужны союзники! Посмотрел бы ты, как он отстегал этого молокососа Томпсона! Сообщники помолчали. Паттерсон боялся вздохнуть и пошевелиться. – Послушай, Джакомо, меня не было в Бультоне, когда Фернандо обстриг Мак-Райля. Как случилось, что твои люди проглядели это? – Я понадеялся на Вудро Крейга. Но Фернандо ловко маскировался и не попался на глаза ни одному шпиону Вудро. Сначала Фернандо снимал номер в «Белом медведе» с каким-то проповедником Элиотом Меджерсоном. Потом он поселился в частном доме под именем Роджерса. Овладев алмазом, он ускользнул… Скажи, Джузеппе, а ты знал, что камень находится у Мака? – Вудро говорил, что он по дешевке сбыл камень Мак-Райлю, но я не очень-то верил… – Почему большой камень достался тогда Вудро, а не тебе? – помолчав, спросил Грелли. – Когда Бернардито нас высадил, мы с Вудро никуда не годились. Я очнулся уже на берегу. Утром всех нас приютил один рыбак. Вудро был совсем плох, у него картечью перебило кости на обеих ногах. Кое-как мы дотащились до какой-то бухты, где стояло французское судно. Ночью, на берегу, мы втроем – Вудро, Рой и я – решили покончить с Фернандо Диасом. Вудро притворился, что потерял сознание, а мы с Роем прикинулись спящими. Фернандо все время держался настороже, но тут задремал. Вудро стал его душить, Рой помогал. Фернандо уже хрипел, но тут Вудро нащупал у него на груди мешочек с двумя камнями и сорвал его. Пока мы рассматривали камни, Фернандо очнулся. Завязалась драка. Фернандо оглушил Роя, а мне рассек лоб ножом. Я выстрелил из пистолета почти в упор, пуля сорвала ему палец на левой руке, но преследовать его мы не смогли, Фернандо ушел живым. Утром французское судно приняло нас на борт, и корабельный врач отрезал Вудро обе ступни. На корабле мы бросили жребий: голубой алмаз достался пополам Вудро и Рою, а малый алмаз – мне. Вудро напоил Роя, и тот уступил ему свою половину «голубого камня» за несколько старинных испанских дублонов. Расстались мы в Марселе… Свой камень я продал и долечивался в Италии. А потом ты, Джакомо, начал собирать нас в Бультон. Первым обосновался там Вудро… – Да, я встретил его в Плимуте, когда прибыл на «Крестоносце» в Англию, и тогда же посоветовал ему держаться поближе ко мне. В Бультоне он купил таверну, и мы с ним начали разыскивать своих: Мак-Райля, тебя, мой Джузеппе, Роя… Этот еще в Марселе попал в тюрьму, пришлось его выручать… – Послушай, но как же Фернандо разнюхал, что Вудро продал камень Маку? – Это меня и встревожило! Я стал опасаться, что Фернандо нащупал след всей партии камней, которую мы тогда решили продать голландским ростовщикам. Но, как видишь, все обошлось: ты благополучно сбыл партию. Однако Диас что-то знает… Какая-то бестия предала нас… Я подозреваю, что контора Томпсона ведет двойную игру со мной. Вудро, например, божится, что Роджерс, то есть переодетый Фернандо, дважды посещал квартиру старого Томпсона. – Зачем же ты взял его сына с собой в это плавание? – Мне удобнее наблюдать за ним на борту. Юрист в экспедиции нужен, притом юрист с хорошей репутацией. Не беспокойся, он станет у меня ручным, как собачонка, или же никогда не вернется в Бультон. С его помощью мне будет легче разделаться с Эмили и с тем, на острове, если… Грелли понизил голос до шепота, и Паттерсон не смог разобрать конца фразы. Ему стало страшно. Словно в ответ на его невеселые мысли, где-то совсем близко завыла и захохотала, захлебываясь бабьим, истерическим рыданием, полосатая гиена. Владелец бультонской верфи ощупью добрался до каюты и, заткнув уши, съежился в плетеной качалке.4
На рассвете «Глория» оказалась в нескольких милях от места стоянки «Доротеи». Ветер усилился, и еще до наступления полудня обе шхуны, некогда выстроенные в одном доке, снова стали борт о борт в экзотических водах Куарры. Грелли, Паттерсон, капитан Вильсон и Джозеф Лорн отправились завтракать к капитану «Доротеи». Долговязый, болезненного вида капитан Хетчинсон сообщил гостям последние новости: – Все идет хорошо, господа. Вы прибыли в самый раз. Наш сиятельный черномазый клиент Эзомо-Ишан с нетерпением ожидает оружия. Вчера от него были посланцы. Партия черного товара должна спуститься вниз по Куарре на трех больших плотах. Как обстоит дело с обещанным ему оружием? – Оно находится в трюме «Глории». Одновременно с погрузкой негров на борт обеих шхун мы перенесем оружие на плоты и передадим их нашему почтенному Эзомо-Ишану перед тем, как шхуна выйдет в открытое море… Сколько на каждом плоту… штук? – Около двухсот. «Глория» примет триста пятьдесят, а «Доротея» – двести пятьдесят. Дополнительно можем принять еще штук двести. Будет тесновато, но создавать комфорт этим пассажирам компания не обязывалась! – Мистер Хетчинсон хихикнул. Лицо Грелли светилось торжеством. – Когда первый выстрел попадает в цель, охота всегда бывает удачной! Покамест шестьсот штук… Из них дойдут до Америки штук пятьсот. За вычетом расходов я считаю обеспеченными десять – двенадцать, даже пятнадцать тысяч фунтов выручки чистоганом! Мистер Хетчинсон, когда вы ожидаете прибытия плотов сюда, к месту стоянки «Доротеи»? – Ждем через неделю, но готовы к погрузке хоть завтра. О’Хири с ребятами сам поднялся вверх по реке и принимал партию в Локодже, за триста или четыреста миль отсюда. Сейчас они, вероятно, уже в пути, в сопровождении наших ребят на шлюпках. Идти, конечно, им приходится с осторожностью, главным образом ночью. Впрочем, ближе к устью река достаточно широка, груз не бросается в глаза с берегов. – Превосходно, джентльмены! Мистер Паттерсон, нам придется поработать, чтобы довести операцию до конца. Бенинских воинов оббы, слава богу, не видно, Эзомо-Ишан провел нас сюда весьма осмотрительно. Обстановка благоприятна, но действовать нужно не медля ни минуты – не забывайте, где мы находимся! Вильсон, сейчас же приготовьте шлюпку! Мы с мистером Паттерсоном и Лорном выйдем на ней навстречу плотам. До заката успеем отдохнуть. Вечером два сенегальских негра снесли в большую шлюпку ружья, снаряжение и припасы. Экипаж обеих шхун, собравшийся на корме «Глории» и «Доротеи», провожал охотников. Оставляя на реке, озаренной последними лучами заката, две длинные расходящиеся борозды, шлюпка быстро пошла вверх по течению. Следы ее долго держались на оранжевой зеркально-тихой глади реки. В царившем кругом безмолвии было слышно, как мелкая волна, поднятая четырьмя парами весел, заплескалась у бортов «Глории» и достигла наконец берега, где, чуть потревоженные ею, качнулись и зашелестели листья царственно прекрасных белых лотосов. В шлюпке было восемь человек. Грелли, в высоких сапогах и просторной блузе, заправленной в шаровары, стоял на носу, уперев руки в бока. Двуствольный штуцер крупного калибра, работы славного лондонского оружейника, лежал перед ним на носовой банке. Пара пистолетов торчала из-за пояса. Упираясь коленями в шлюпочный борт, юный Антони готовил заряды для своего господина. На подостланном куске парусины Антони разложил полые медные трубки диаметром около полудюйма и длиною дюйма в три. Юноша набирал порох небольшой меркой и пересыпал его в одну половину трубки. Заткнув отверстие толстым промасленным пыжом из верблюжьей шерсти, он в другую половинку трубки всыпал дробь или вкладывал пулю и тоже забивал пыжом. Таким образом снаряженный патрон вставлялся в гнездо кожаного пояса. На охоте Антони с изумительной быстротой успевал перезаряжать хозяйское ружье, и Грелли поэтому решил взять юношу в эту поездку. На корме сидел мистер Паттерсон, в плаще и широкополой шляпе, купленной им еще в Марокко. В руках он держал ружье и полагал, что имеет весьма воинственный вид. Рядом с ним, высоко подняв колени, правил рулем и курил трубку сумрачный Джозеф Лорн. Приглядевшись к нему пристальнее, Паттерсон убедился, что мистер Лорн – конечно, не Джозеф, а Джузеппе: черные глаза, смуглая кожа, чуть курчавые, сильно поседевшие жесткие волосы выдавали в этом человеке южанина, итальянца. Сидя в затылок друг другу, четыре гребца наклонялись и двигались как один человек. На передних банках гребли два матроса-европейца. Позади них, орудуя веслами с такой легкостью, точно они были сделаны из тростника, сидели два негра-сенегальца, принятые на борт «Ориона» в Марокко, – существа неутомимые, молчаливые и свирепые. Когда коричневые от загара шеи матросов уже покрылись испариной и дыхание их участилось, кожа негров оставалась такой же матово лоснящейся, какой была в начале пути. Первую ночь экспедиция двигалась почти безостановочно. Только в самые жаркие часы следующего дня Грелли разрешил короткий отдых в мангровых зарослях у берега. Лодка шла то у самого берега, маскируясь кустами, то пересекала фарватер, сокращая расстояние на перекатах. К концу первых суток между шхунами и шлюпкой легло уже двадцать пять – тридцать миль. Пришлось позаботиться о первом ночлеге на берегу. По знаку Грелли гребцы подвели шлюпку к песчаной косе. С этого места открывался широкий вид на верхнее течение реки. Однако шесть длинных, неподвижно вытянувшихся на песке крокодилов не проявили никакого желания потесниться или уступить свое место путешественникам. Грелли прицелился в ближайшего из пистолета, но один из негров испустил предостерегающий крик и, бросив весла, вцепился руками в борта. Паттерсону тоже показалось не особенно желательным тревожить этих животных, и он попросил выбрать другое место для стоянки. Пришлось подняться еще на одну милю выше, где в пределы суши вдавалась небольшая заводь, заросшая водяными растениями и окруженная причудливым мангровым лесом. За мангровыми деревьями, уходившими корнями в воду, простиралась зеленая, поросшая папоротниками болотистая поляна, которая, сужаясь, переходила в едва заметную тропу. Местность здесь была слегка холмистой, на горизонте виднелись невысокие горы, до самых вершин покрытые лесом. С ближайших к воде деревьев можно было обозревать реку на милю вверх и вниз по течению. Лодка вошла в заводь и едва не застряла среди гигантских плоских листьев водяных растений, способных выдерживать на себе тяжесть пятилетнего ребенка. Края этих листьев загибались вверх, образуя как бы гофрированный борт вокруг всего листа. Ближе к берегу, среди высоких тростников и осоки, покачивались на потревоженной воде цветы белых лилий. Наконец путники добрались до вязкого берега, согнав с него десяток змей, убравшихся в густую осоку. Поодаль, словно лесной царь, виднелось исполинское дерево бомбакс*["48]. Оно разрослось на невысоком холме и вместе со своими побегами издали казалось целой фантастической рощей. Когда путешественники вышли на сушу, они разглядели на болотистой почве поляны и вдоль илистого русла пересохшего ручейка много следов животных – кабанов, коз и буйволов. Лодка, по-видимому, пристала к месту водопоя диких обитателей чащи. Для ночлега Грелли выбрал исполинский бомбакс. Это дерево оказалось толщиною в четыре обхвата, возвышаясь метров на двадцать над землей. Ветви толщиною с человеческое тело простирались во все стороны, образуя шатер тени на сорок метров в поперечнике. К стволу и побегам ветвей тянулись с земли лианы, покрытые нежными, маленькими цветами. Казалось, что огромное дерево, подобно многорукому лесному старцу, опирается на множество узловатых палок. Паттерсон, вконец измученный предыдущей бессонной ночью, жарой и путешествием в шлюпке, едва ступив на траву, бросил на нее плащ и одеяло и, растянувшись на них, мгновенно заснул, пока остальные хлопотали над устройством лагеря. Взобравшись с топором на дерево, матросы устроили для Грелли и Паттерсона небольшой помост. Всем остальным они приготовили места для ночлега на нижних ветвях дерева, в сплетениях лиан. Окончив приготовление воздушной спальни, Грелли и матросы спрятали шлюпку в зарослях, перенесли из нее припасы и оружие на дерево и затем безуспешно попытались разбудить разоспавшегося Паттерсона. Он промычал что-то невнятное и, укрыв плащом голову от москитов, перевернулся на другой бок. В стороне, у песчаного подножия холма, затрещал костер. Вскоре ужин поспел, но и запахи, распространяемые кухней, не смогли разбудить Паттерсона. Наконец, оставив Антони караулить лагерь и спящего джентльмена, Грелли, Лорн, оба сенегальца и матросы взяли ружья и отправились на охоту. Солнце стояло уже низко над рекой и лесами. Воздух загудел от мириадов насекомых. Становилось очень сыро. Измученный Паттерсон спал с открытым ртом и раскинутыми руками. Антони защитил его сеткой от москитов и оглянулся. Никогда еще он не был в таком лесу. Среди густо разросшихся хвощей высились пальмы раффии, похожие на огромные папоротники. Дальше от реки вздымались из лесных зарослей прямые, как мачты, тонкие и гладкие, будто отшлифованные, стволы красного и копалового деревьев. Их драгоценная древесина, твердая, как камень, по-видимому, шла на поделки туземцев, потому что ближе к воде виднелось несколько свежих пней. В глубине леса могучие кроны деревьев переплетались между собою. Ни одного сучка не было на стволах этих деревьев до самой вершины. Лес казался ненастоящим и населенным такими же сказочными животными, какими были эти сказочные деревья. Становилось все холоднее. Юноша уже начал было дремать, но изо всех сил боролся со сном, помня наставления Грелли. Чтобы стряхнуть дремоту, Антони решил изготовить смоляной факел, как советовал ему хозяин. Намотав на палку пучок пакли, он густо напитал его смолой из бадьи, найденной в шлюпочной корме; она предназначалась для осмолки бортов. Готовый факел Антони положил на ветвь дерева, выбранную им для ночлега; затем он пошевелил костер и подбросил в огонь свежих ветвей. Больше делать было решительно нечего, и Антони уселся около спящего, обхватив колени руками. Глаза слипались, мысли текли медленнее, повторялись и расплывались. Наконец голова юноши склонилась, и дремота одолела его. Теперь на поляне у заводи спало уже два человека. Так прошло больше часа. Выпала сильная роса, лесную чащу окутал мрак, и только красные угли костра, чуть потрескивая, тлели в темноте да по черным обгорелым головешкам перебегали синие язычки. Внезапно Антони вздрогнул и сразу очнулся от сна. Далеко, не ближе чем в двух милях, послышался глухой выстрел, затем треск, будто сломалось и упало дерево. В полной темноте юноша взвел курок и ощупал замок своего ружья. По какому-то необъяснимому предчувствию опасности Паттерсон, которого не могли до того разбудить ни толчки, ни окрики, тоже мгновенно пробудился и сел, озираясь вокруг. В тот же момент до него и Антони донесся сильный треск ветвей и сучьев. Где-то близко со свистом ломались и падали стволы мелких деревьев, чавкала вода в болотцах. Земля загудела от грозного топота, и на поляну вылетело какое-то громадное животное. В отуманенном сознании Паттерсона этот миг ярко запечатлелся на всю его жизнь. Прямо перед ним в мерцающем свете костра возникла из расступившейся чащи леса тупая, опущенная к земле уродливая морда с крошечными, широко расставленными глазами и торчащим на носу рогом. В следующий миг рядом с Паттерсоном сверкнул длинный язык огня и ухнул выстрел. Это Антони почти в упор послал заряд в голову носорога. Огромный зверь взметнулся на бегу вверх, вскинул голову и свалился на бок, не добежав до берега. Земля дрогнула от падения тяжелого тела, а юный стрелок, охваченный страхом и не успев даже разобрать результата своего удачного выстрела, уронил ружье и опрометью бросился бежать к лесу. Навстречу ему по звериной тропе, тяжело дыша, шел Грелли и остальные охотники. Когда они приблизились к туше убитого носорога, Паттерсон, шатаясь, встал на ноги и с чувством пожал руку шестнадцатилетнему груму из Ченсфильда. Охотники осмотрели носорога. Голова его, вся в складках и буграх, была залита кровью, пуля юноши разворотила зверю мозг. Два рога на морде были тверды, как слоновая кость, и походили на уродливые лишаи или наросты на дереве. Толстая складчатая кожа была почти непроницаема для пуль. Выстрел Антони оказался необычайно удачным: промедли он еще мгновение – и Паттерсон был бы неминуемо раздавлен грузным животным. Узкий серп ущербной луны показался над рекой. На воде задрожала длинная серебряная дорожка. Тишина объяла леса и воды. Одни цикады неумолчно звенели. Грелли, обняв юношу за плечи, повел его к дереву. Охотники взобрались на помост, и лишь теперь Паттерсон смог оценить эту предосторожность. Влажный туман и ядовитые испарения поднимались от прибрежных тростников и гигантских папоротников. Трава у берега шелестела, и казалось, что она кишит змеями. В свете луны туша носорога отчетливо выделялась на земле. Внезапно из зарослей вылетели на поляну легкие серые тени. Трудно было представить себе, что этих животных носят ноги, а не крылья, так воздушно легка была их скользящая, крадущаяся поступь. Издав короткий, захлебывающийся вой, они в одно мгновение пронеслись по поляне и скрылись подобно привидениям: это были шакалы, почуявшие добычу. Вскоре их вой и плач раздались с двух сторон, и уже две стаи этих трусливых хищников появились из леса.Они подняли грызню у тела носорога, и через полчаса их было десятка два на поляне. Еще две крадущиеся, более крупные тени вышли из чащи. Они плелись к туше носорога с низко опущенными головами, поджимая куцые хвосты. Паттерсон, сидя на помосте рядом с Грелли, наблюдал с содроганием, как оба хищника принялись раздирать внутренности убитого зверя. Это были полосатые гиены. Их отвратительные головы со злыми круглыми, близко посаженными глазами походили и на собачьи, и на свиные. Подняв измазанную в крови морду, одна из гиен потянула воздух. Шерсть поднялась у нее на загривке. Шакалы тоже насторожились и вдруг стремительно пустились наутек. За ними последовали и гиены. В следующее мгновение хриплое мяуканье раздалось в лесной чаще. Какое-то длинное гибкое тело скользнуло с ближайшего дерева к туше, и Паттерсон отчетливо разглядел крупного леопарда, вскочившего на спину носорога. Хвост пятнистого хищника извивался и бил по коже носорога, как хлыст. Леопард поднял голову и зарычал. Грелли положил ствол своего тяжелого ружья на сплетение ветвей, прицелился и выстрелил. Сноп огня ослепил Паттерсона. Помост сильно тряхнуло, послышался отчаянный крик. В тот же миг вспыхнул смоляной факел Антони, и Паттерсон, нагнувшись, разглядел под деревом извивающееся тело леопарда; зверь терзал на земле, под деревом, одного из сенегальцев. Оказалось, что леопард, раненный пулей Грелли, метнулся после выстрела к дереву с людьми. Прыгнув на негра, который устроился на одной из нижних ветвей, леопард не удержался и, падая, увлек свою жертву вниз. Антони, низко наклонившись со своей ветви, размахивал горящим факелом. Грелли выстрелил из второго ствола, но промахнулся. Антони, не ожидавший выстрела, вздрогнул, сделал неверное движение и, сорвавшись с ветви, упал к корням дерева, рядом с хищником. Факел покатился в сторону, горящая смола потекла по земле. Бросив истерзанного негра, леопард отпрянул в сторону от полыхающего огня. Залитый кровью негр вскочил на ноги и побежал. Едва лишь Антони успел приподняться, хищник ринулся на юношу и повалил его. Грелли мгновенно спрыгнул с помоста. В руке у него сверкнул кинжал. Он нанес удар прямо под лопатку зверя и, навалившись на хищника, оттащил его от тела юноши. Кинжал, погруженный по самую рукоять между ребрами зверя, так и остался в ране. Животное уже издыхало, но Грелли, измазанный в крови и сам похожий на дикого зверя из лесной чащи, продолжал душить леопарда своими железными руками. Хвост леопарда еще раз судорожно ударил по земле, лапы его сделали несколько конвульсивных движений, изодравших одежду Грелли в клочья, и зверь затих. Антони, почувствовав свободу, сел. На лбу, груди и плечах юноши леопард целыми полосами содрал кожу. Глубокая рана, нанесенная зубами зверя, зияла на левой руке. Грелли пытался подняться, но зашатался и упал на колени. Его руки и грудь тоже должны были навеки сохранить следы единоборства с грозным хищником, название которого так много лет было неразрывно связано с именем Грелли. Никто из участников экспедиции уже не смог заснуть до утра. Израненного юношу Грелли заботливо перевязал и уложил на помосте рядом с собою. Джозеф Лорн перевязал самого Грелли. Сенегалец Али спустился с дерева, взял головню из костра и, осмотрев убитого зверя, опалил ему усы. – Иначе дух этого леопарда будет всю жизнь тревожить тебя по ночам, – пояснил он Грелли. «Ну, для синьора Джакомо это еще небольшая беда!» – подумал Паттерсон. На небе уже исчезли мелкие звезды, только редкие светила утренних созвездий еще мигали в глубокой синеве; над рекой быстро разлилась оранжевая африканская заря, птицы загомонили, и ветерок зашелестел в кронах леса. Рассвет длился несколько минут – и безоблачный день пришел на смену ночным страхам и мраку. Бледный Паттерсон спустился с дерева совершенно уверенный, что Грелли скомандует возвращение на «Глорию». Но глава экспедиции еще спал на своем помосте рядом с забинтованным Антони. Паттерсон с нетерпением ожидал, когда проснется Грелли; судостроителю хотелось поскорее вернуться к шхунам, туда, где были мягкие постели и не было ни носорогов, ни леопардов. Однако пробуждение руководителя экспедиции принесло почтенному бультонскому джентльмену горькое разочарование.5
Грелли был страшен, когда, спустившись с дерева, он предстал перед остальными охотниками, уже сидевшими у костра за завтраком. Один глаз его почти закрылся от кровоподтека. Кровь запеклась в волосах. Повязки на теле сбились в сторону, обнажив глубокие рубцы и царапины. Здоровый глаз сердито сверкал из-под жестких бровей. Он пнул ногой убитого леопарда и пошел к ручью умыться. Завтрак прошел в молчании. Матросы нарезали ломтями мясо носорога и изжарили его. Оно оказалось сочным и напоминало свинину. Затем, к большому огорчению Паттерсона, Грелли приказал побыстрее собираться в дальнейший путь. У Антони начался жар. Грелли приказал уложить юношу на корме, на связке одеял. Вдоль борта была развешана свежеснятая леопардовая шкура. Молча гребцы заняли свои места. Джозеф Лорн заменил на веслах тяжело раненного негра-сенегальца, который к утру потерял сознание. Его оставили лежать в кустах на месте первого ночлега экспедиции. Перед тем как сесть в шлюпку, Джозеф Лорн вернулся к этим кустам. Через минуту оттуда раздался негромкий пистолетный выстрел… и мистер Лорн вышел из кустарника. Путешествие продолжалось. Следующая ночь, проведенная на берегу, прошла без приключений. Привал устроили в устье каменистой долины, где путники раскинули палатку, поддерживая рядом с нею огонек костра. Грелли, опасавшийся лихорадки, приказал всем своим спутникам каждый вечер выпивать стакан виски с хиной. На привале путешественников настигла первая тропическая гроза. Она смутила даже самого начальника партии: небо беспрерывно полосовали белые, оранжевые и ярко-красные молнии, а тропический ливень чуть не смыл палатку… Еще трое суток шлюпка поднималась вверх по Куарре. Экспедиция миновала несколько больших негритянских селений. Мимо них шлюпка кралась ночью, по середине реки. Изредка попадались встречные туземные ладьи. Можно было разобрать в трубу, что они гружены глиняными сосудами, очевидно, с пальмовым маслом. На старицах и в болотах близ главного русла охотники поднимали много уток и чибисов. В лесах ворковали голуби. Однажды во время вечернего привала, углубившись в лес и перевалив через гряду холмов, путники пересекли слоновью тропу и услышали вдали трубный рев вожака слоновьего стада. Антони уже поправился и участвовал в небольших охотничьих вылазках. Во время одной из них он наткнулся на высокое сооружение термитов и показал его остальным охотникам. Термитник – жилище африканских крылатых муравьев – оказался раза в два выше человеческого роста, напоминал формой утес или пористую скалу, словно высеченную из окаменевшей губки. Вечером, на четвертые сутки плавания, путники заметили недалеко от берега полоски красноватой возделанной земли и небольшой поселок. Десятка два круглых конусообразных хижин окружали небольшую площадку с длинным строением посередине. Поселок был обнесен колючей изгородью. Загон для скота, где паслись козы, охраняли два подростка. У болотистой речки, впадавшей в Куарру, лежали в грязи буйволы. На прибрежной поляне бродили три-четыре стреноженные лошади, походившие на берберийских. Скота было мало. Губительная болезнь, разносимая ядовитой мухой цеце, уничтожала здешний домашний скот. Выживали только самые устойчивые особи, поколения которых выработали невосприимчивость к укусу мухи. Лодка подошла к берегу поздно вечером и осталась незамеченной. Все население поселка уже закончило дневные работы и мирно отдыхало в хижинах. Грелли оживился, даже повеселел. «Дичь», о которой так много думал работорговец, была перед ним. Правда, открытый разбой был опасен, но близость кораблей, готовых к приему «товара», мирный вид поселка и расчет на внезапность нападения побуждали пирата отважиться на эту охоту, обещавшую большой барыш. У него было мало людей. Антони еще молод и слаб после ранений, Паттерсон – не боец и вдобавок совершенно раскис; оставалось всего пятеро, из которых один – негр. Тем не менее, еще не имея никакого плана, Грелли старательно укрыл шлюпку в кустах, замаскировал место привала под раскидистым деревом пальмы раффии в лесу и не разрешил разводить огонь. Оставив Антони и Паттерсона караулить лодку, Грелли и его спутники с оружием в руках подкрались к опушке. Тихо, чтобы не встревожить собак, охотники за людьми взобрались на высокое дерево, откуда хорошо просматривался поселок. Судя по всему, здесь жили люди из довольно бедного лесного племени. Было их, вероятно, не более двухсот человек; значит, взрослых мужчин – десятков пять или шесть. Дневная жизнь уже замерла, семьи погружались в сон. Лишь перед одной хижиной две женщины толкли что-то в большой деревянной долбленой ступе. К спине одной из женщин был привязан ребенок. Наконец и они скрылись. Все затихло, и только две темные тени – два сторожа, вооруженные дубинками, – неслышно двигались вдоль плетеной изгороди внутри крааля… Пока Грелли обдумывал способ нападения, Джозеф Лорн осматривал местность. Вдруг он заметил, что в ближних кустах к ним кто-то крадется. Вглядевшись, он узнал Антони. Через минуту юноша был у дерева и тихо вымолвил: – Плоты! Грелли, приказав остальным не покидать засады, неслышно спрыгнул с дерева и отправился вместе с мальчиком к реке. В надвигающихся сумерках он с берега ясно разглядел в подзорную трубу плоты, сопровождаемые шлюпками. На этом расстоянии вся флотилия казалась неподвижной. – Антони, – проговорил Грелли, не отрывая глаз от окуляра, – возьми лодку, надо встретить плоты как можно выше по течению. Паттерсон поможет тебе грести. Передай О’Хири, чтобы плоты спустились еще на десяток миль пониже и там причалили к берегу. Их сопровождает десяток лодок. Пусть О’Хири высадится здесь с вооруженными людьми. Скажи О’Хири, что на берегу есть работа… Приведи шлюпки к этому берегу, покажи, где можно незаметно высадиться, и веди ребят прямо к нашей засаде. Сигнал – крик выпи. Паттерсон пусть караулит шлюпки. Как только ты приведешь ко мне О’Хири с людьми, возвращайся к Паттерсону. Антони бегом бросился к кустарнику. Вдвоем с Паттерсоном они оттолкнули лодку от берега и вывели на фарватер реки. Грелли вернулся к засаде. В лесу уже царил мрак. С северо-запада надвигались грозовые тучи. Повеяло прохладой. Первые зарницы полыхнули над горизонтом. Громовые раскаты, приближаясь, делались все оглушительнее. Так прошел час. Вдали протяжно заухала выпь. Грелли соскочил с дерева, приложил руки к губам и мастерски издал такой же крик. Первые редкие капли дождя застучали по тугим пальмовым листьям, и вскоре тропический ливень прямыми, как водопад, струями обрушился на охотников. В кромешной тьме леса, непрерывно озаряемой вспышками молний, Грелли столкнулся под деревом с широкоплечим американцем. Человек протянул ему жесткую, крепкую, как доска, ладонь. – С приездом, О’Хири! – приветствовал Грелли начальника своей экспедиционной партии. – Все ли благополучно? Сколько вооруженных парней с вами? – Двадцать. Остальные спустились с плотами ниже. Что вы тут затеваете, мистер Райленд? Проклятая погода! В коротких словах Грелли объяснил американцу задачу. О’Хири взобрался на дерево вместе со своим патроном и при частых вспышках молнии разглядел поселок. Люди, приведенные им, толпились у подножия дерева. Взглянув на них, Грелли различил разбойничьи лица, заросшие бородами до самых глаз; во тьме холодно поблескивали ружейные стволы, кинжалы и серебряные насечки пистолетных рукояток. О’Хири тронул хозяина за плечо. – Строение посреди поселка – это храм предков и жилище жреца или старейшины рода, – сказал он. – Вон на столбе висит эроро – ритуальный колокол под деревянным идолом. Идол – это бог Олокун, покровитель морей и рек. Колоколом жрец созывает жителей. Полагаю, что через него нам и следует действовать. У меня есть негр-переводчик из племени йоруба, понимает по-английски. Хитрейшая бестия, тоже из жрецов, но был изгнан своим племенем за какие-то проделки. Субъект этот теперь готов мстить чернокожим братьям до конца дней своих. Вот, не угодно ли взглянуть на эту черную свинью с ожерельем? Грелли увидел жирного сутулого старика с короткими пухлыми руками и втянутой в плечи головой. Лоб его охватывал серебряный обруч. Собранные в пучок курчавые волосы были намазаны жиром и заткнуты под обруч. Негр был в тунике, достигавшей ему до колен и перехваченной на плече медной пряжкой. На плечах у него болталась пятнистая шкура пантеры, шею украшало ожерелье из зубов этого зверя. Обут он был в сандалии, в отличие от босых жителей этой местности. Выражение лица, злобное и лукавое, делало его похожим на гиену. – Зовется Урикон. Служит мне давно отменной собакой по черной дичи. Сейчас я с ним потолкую. Ну-ка, любезный Урикон, поднимись к нам и поклонись хозяину. Взобравшись на дерево с ловкостью обезьяны, бывший жрец угодливо поцеловал руку Грелли своими толстыми красными губами. Ливень между тем прекратился, но все небо оставалось обложенным тяжелыми тучами. Стало холоднее. Рассвет был уже недалек. Нужно было действовать быстрее. Пошептавшись с Уриконом, О’Хири посвятил Грелли в свой план и пошел расставлять людей вокруг изгороди. В их обязанность входило убивать каждого туземца, кто попытался бы искать спасения бегством. О’Хири и Грелли считали, что от поселка и его населения не должно остаться после облавы никаких следов. Вскоре стрелки стояли вдоль всей изгороди. О’Хири, Урикон и Грелли с его четырьмя охотниками направились прямо к жилищу жреца в середине поселка. – Мистер Райленд, Урикон спрашивает, не заметили ли вы каких-нибудь свежих охотничьих трофеев у жителей поселка? – осведомился О’Хири. – Несколько слоновых бивней… Сложены у двух или трех хижин… – Хорошо! Вы увидите презабавнейшее представление. Это лучший трюк нашего Урикона. В темноте, под неистовый лай собак, охотники подошли к центру поселка. Внезапно перед ними выросли воинственные фигуры двух сторожей, которых Грелли заприметил еще с дерева. Дубинами они преградили путь охотникам, но Урикон выступил вперед и властно приказал сторожам пасть ниц перед богами грозы, посланцами разгневанных небес. – Ступайте к колоколу, созывайте жителей на площадь; так приказываю я, жрец богов. Растерянные сторожа повиновались и, сопровождаемые сенегальцем Али, направились к столбу с колоколом. Подойдя к жилицу жреца, О’Хири поднял плетеную циновку, прикрывавшую вход, и, пропустив внутрь Урикона и Грелли, вошел в хижину последним, держа за спиною пистолет. Светильник, наполненный жиром, освещал хижину. На подстилке из звериных шкур спал старик негр, завернувшись в старое шерстяное одеяло. В углу, на подставке, стояла деревянная голова, служившая опорой слоновому бивню, покрытому искусной резьбой. Это был «алтарь предков». Урикон тронул старика за плечо и завыл тонким, пронзительным голосом, сопровождая свои завывания уродливыми корчами, как бесноватый. Старик вскочил, дико озираясь на пришельцев. – Вставай, о жрец, и внемли нам, посланцам бога рек и морей Олокуна! – вопил Урикон на межплеменном языке бини. – Внемли нам, вестникам великого горя! Собери свое племя, о жрец, ибо мы пришли возвестить ему скорбь! Одновременно снаружи, у столба, врытого рядом с хижиной, зазвучали мерные, унылые звуки колокола – эроро. Поселок ожил. Из-под циновок многих жилищ уже выглядывали головы мужчин. Детский плач раздавался по всему краалю. Урикон вывел жреца на улицу. – Кричи громче, о жрец, собирай свой народ, всех, до последнего младенца! У столба Урикон повторил свои кривляния. Глядя на него, Грелли подумал, что он и впрямь одержим бесом. – Великая беда, о жители! – исступленно вопил Урикон. – Послушайте своего жреца, который не уберег вас от несчастья! Люди вашего племени убили священного слона, сына царя богов Олокуна. У хижины убийцы стоят его священные бивни! Посланцы Олокуна, боги грозы, сами пришли к вам за искупительной жертвой! Испуганный жрец племени в тон голосу Урикона повторил ту же весть. Теперь у столба в свете разведенного костра кривлялись и плясали уже два жреца. Во время этого сеанса Урикон успел вполголоса предупредить своего коллегу: – Знай, жрец, если хоть один человек ускользнет от посланцев богов, великие несчастья падут на твою голову! Чернокожие люди подходили к огню костра с понурыми головами. Испуганные женщины с детьми на руках и за спинами становились поодаль. За ними прятались голые ребятишки с вытаращенными от любопытства и страха глазами. – Люди! Приведите сюда ваших охотников за слонами, – приказал Урикон; и, обращаясь к О’Хири и Грелли, Урикон добавил шепотом: – Отводите мужчин-охотников в загон для скота и вяжите. Это самые сильные люди племени. Вперед один за другим выступали хорошо сложенные, стройные люди. Матросы О’Хири отводили пленников в загон для скота. Здесь пленникам связывали руки и укладывали лицами вниз. Вскоре на мокрой от дождя земле лежали, крепко связанные сыромятными ремнями из буйволовой кожи, человек тридцать. Эта участь постигла и обоих сторожей, у которых сенегалец отобрал дубины. Цепь стрелков вокруг крааля поредела, так как не пришлось сделать ни одного выстрела: никто из жителей поселка и не пытался спастись бегством от небесных посланцев. Внезапно катастрофический раскат грома, грохнувший почти одновременно с оранжевой вспышкой молнии, потряс, казалось, землю и воды. Сухое высокое дерево на краю поселка треснуло сверху донизу, словно расколотое топором. Разваливаясь пополам, оно вспыхнуло ярким белым пламенем. – На колени! – заорал Урикон. – Кто-то из вас замыслил скрыться от карающего бога! Удержите его, удержите, иначе никто не останется в живых! Но бежать никто и не помышлял. Охваченные ужасом люди племени повалились на колени, положили ладони на землю и уткнули лица в траву между кистями рук. Грелли, О’Хири и матросы тут же на площади связали руки остальным мужчинам и приказали женщинам нести или вести детей следом за связанными главами семейств. Все племя, как один человек, оказалось за прочной изгородью загона. Вооруженные охотники окружили загон, где нарастал отчаянный плач детей. Стали причитать и женщины. Напуганный скот сгрудился в самом дальнем конце загона. Грелли с матросами обошли все хижины. Лишь в одной из них они нашли несколько насмерть перепуганных женщин и немедленно присоединили их к остальным пленникам. Начинался рассвет, багровый и зловещий. Отобрав десятка три молодых мужчин, О’Хири заставил их под охраной матросов валить деревья на берегу болотистой речки за поселком. Женщины и дети обрубали сучья. Четыре пары буйволов, подгоняемые погонщиками из числа пленников, оттаскивали бревна к берегу и спускали их на воду лесной речки. Еще одна группа пленников, под руководством Лорна, вязала плот. К обеду он был готов. Сделанный из бревен, перевитых гибкими растениями, плот свободно мог вместить всех пленников и даже часть скота, запас продовольствия и все слоновые бивни. Со шлюпок доставили длинные, тридцатиметровые, корабельные канаты с приделанными к ним ошейниками, свисавшими через каждые полметра. Эти канаты с подвесками матросы положили на землю и стали попарно подводить к ним мужчин племени. Под их подбородками защелкнулись металлические застежки ошейников. Люди были «запряжены». В таком же порядке матросы О’Хири «запрягали» все остальные пары. Работа эта велась с поразительной быстротой и сноровкой. Скоро свободных гнезд на канате не осталось, и четверо матросов, вооруженных пистолетами и ременными бичами, повели первую партию «товара» к берегу Куарры. Только тогда мужчины племени поняли, что они обмануты. Поднялся вой и крик. Однако плети и пистолетные выстрелы быстро восстановили порядок. Следующее общее ярмо, рассчитанное тоже на шестьдесят пленников, охватило шеи взрослых подростков, женщин и девушек. В последний канат запрягли сорок женщин и пожилых мужчин, которые показались Грелли еще пригодными в дело. Конец каната со свободными ошейниками, звякая, потащился по земле. В загоне остались только жрец племени, восемь старух и стариков с беззубыми ртами и глубоко запавшими глазами. Принесли заступы. Грелли сам вывел стариков из загона и, проводив их до края недавно засеянного маисового поля, приказал им копать длинную, неглубокую яму. Старый жрец, скрестив руки на груди, не взял заступа. Остальные неторопливо принялись рыть. Не успела еще последняя партия пленников скрыться из виду, как на поле была вырыта яма локтя в два глубиной. Грелли уже вынул из-за пояса пистолет, но обернулся, услышав громкий оклик. Паттерсон, возбужденный и взволнованный, бежал к нему. – Поразительно, сэр Фредрик! – воскликнул он, подходя к компаньону. – Сто шестьдесят человек! Пятьдесят шесть мужчин, восемьдесят женщин, двадцать четыре подростка и, сверх того, штук двадцать младенцев и маленьких ребятишек! И все это без единого выстрела, гуманно, быстро и безболезненно! Совладать с леопардом было труднее, не правда ли? Грелли, не ответив, поднял пистолет. Прогремел первый выстрел, и старый жрец с пулей в переносице упал возле готовой могилы. Одна негритянка со сморщенной грудью, испуганная выстрелом, бросила заступ и всплеснула руками. Загремели выстрелы матросов. Ударами кованых матросских сапог тела жертв были сброшены в яму. Оторопевший Паттерсон в смущении побрел назад. Через пять минут поле приняло свой обычный вид и опустело. Лишь свеженасыпанная могила на поле напоминала о пришельцах да столбы пламени поднимались над хижинами крааля. О’Хири велел пригнать на берег часть скота. Оставшиеся козы и буйволицы с блеянием и ревом носились по загону, среди пылающих изгородей и хижин. Когда солнце склонилось к закату, от деревни остались только груды тлеющих головешек, покрытых серым пеплом. Едкий запах дыма, тлеющей шерсти, горелого мяса долго держался в воздухе. В наступившей темноте из кустарника выползла на пожарище раненая собака с перебитой спиной. Тяжело волоча задние ноги, дряхлая сука втянула ноздрями воздух, пахнущий гарью, и, задрав голову к луне, завыла пронзительно, высоко и горестно.6
Матросы спустили плот вниз по лесной речке к месту привала экспедиции на Куарре. Здесь их уже ждали прикованные к канату невольники. Грелли, О’Хири и Лорн внимательно осмотрели «товар» перед погрузкой, пересортировали его и даже прикинули будущую выручку. Наконец невольников погрузили на плот вместе со скотом. «Охотники» расселись по шлюпкам, и флотилия тронулась в путь. Одна шлюпка шла под самым берегом. О’Хири осматривал с нее прибрежные заросли – искал плоты ушедшей вперед партии. Рядом с ним сидел бледный Ан тон и, потрясенный всем виденным. События этого дня навсегда остались в его памяти черным и страшным пятном… Перед рассветом следующего дня новый плот присоединился к трем остальным, и вся партия без промедления двинулась вниз по реке. Края плотов были огорожены плетнями из ветвей и хвороста. С берега невозможно было разглядеть груз, и казалось, что на плотах везут только скот, привязанный к небольшим колышкам. Еще две короткие остановки понадобились для того, чтобы напоить скот и накормить невольников; каждому в сутки давалась горсть риса, иногда добавляли и кусок вареного мяса. Среди невольников, купленных у Эзомо-Ишана, было несколько воинственных суданских туарегов, сухих, жилистых и необычайно жестоких. О’Хири сделал их надсмотрщиками. Старшим над ними был поставлен Урикон. Свирепые, вооруженные длинными кожаными бичами, туареги-надсмотрщики наводили на связанных пленников еще больший ужас, чем сами работорговцы. Восьмого ноября под сильным грозовым ливнем трюмы «Глории» и «Доротеи» освободились от груза, доставленного для Эзомо-Ишана: деревянные продолговатые ящики со старыми кремневыми мушкетами, бочонки пороха и рома и несколько легких ящиков с дешевыми безделушками перекочевали на опустевшие плоты. Затем те же трюмы приняли живой груз с четырех плотов. Паттерсон отшатнулся, заглянув через люк в эти наполненные трюмы… На другой же день обе шхуны с еще мокрыми от ливня парусами, гулко хлопавшими на ветру, миновали устье Куарры, вышли в море и взяли курс на остров Фернандо-По. В водах острова были высажены на шлюпках Грелли, мистер Паттерсон и Антони. Они вернулись на «Орион». Хозяин корабля, еще не сменив своего экспедиционного костюма на мундир, который он обычно носил на бриге, пригласил к себе пастора Редлинга. – Мой дорогой пастор, – обратился он к священнику самым задушевным и прочувствованным тоном, – я скорблю о том мраке языческих заблуждений, в коем погрязли несчастные души здешних туземцев. Сюда изредка заходят корабли, здесь трудятся миссионеры, с которыми вы познакомились за время нашего отсутствия. Вы посетовали, что на этом острове еще нет христианского храма. Я хочу, чтобы после нашего посещения он был здесь воздвигнут. Прошу вас сейчас же договориться о подробностях со здешними деятелями, ибо уже через два часа мы поднимем якоря. Вероятно, среди этих миссионеров вы найдете сильного верой христианина-проповедника, который сможет стать священником будущего скромного храма. В ином случае придется призвать пастыря из Европы. Не откажите принять от меня эту тысячу фунтов на устройство церкви для обращения язычников к истинному Богу. Благоволите распоряжаться этими деньгами всецело по вашему усмотрению, ибо я знаю, что передаю их в достойнейшие руки! Пастор Редлинг с поклоном принял подписанный чек и молча осенил зиждителя широким знамением креста… Через несколько часов бухта Санта-Изабель снова опустела: два корабля уже пенили волны, унося живой груз к невольничьим рынкам Америки, а третье судно – бриг «Орион» – на всех парусах летело к далекому острову в Индийском океане.6. Постоялец миссис Бингль
Ребенка скорее создать, чем машину. Чулки драгоценнее жизни людской, И виселиц ряд оживляет картину, Свободы расцвет знаменуя собой. Не странно ль, что, если является в гости К нам голод и слышится вопль бедняка, За ломку машины ломаются кости И ценятся жизни дешевле чулка.Байрон
Клянусь, что никогда ни одному лицу или лицам на свете не открою имен тех, кто участвует в этом тайном комитете, их действий, собраний, потайных мест, одеяния, черт лица, наружного вида или всего того, что может повести к их раскрытию… под угрозой изъятия из мира первым встретившим меня братом… Да поможет мне бог и благословит меня сохранить мою клятву ненарушимой.Клятва английских луддитов
1
Старый слуга Френсис опустил шторы, задернул занавески на окнах и принес свечи в кабинет мистера Уильяма Томпсона. Невеселый сочельник выдался в этом году! Где-то в неведомых водах, под чужими небесами, находится сын Ричард, а с ним и два верных друга дома. Может быть, им сейчас грозит опасность? Или среди чудес южных морей они подымают стаканы за удачу и недосуг им даже вспомнить об оставшихся на родине? А может быть, и они сейчас с грустью думают о зимних сумерках, тяжелых хлопьях снега, пустующем столе для пикета и старых друзьях у камелька? Миссис Томпсон, известная всему Бультону дама-благотворительница, пришла в кабинет супруга, чтобы рассеять его раздумье и пригласить к заботливо накрытому рождественскому столу. – Уильям, – сказала она мужу, – сегодня нам будет грустно за праздничным столом. Так хочется, чтобы сегодняшний сочельник был настоящим христианским Рождеством, как в добрые старые времена! Пошлите, сэр, слугу на улицу и велите привести какого-нибудь маленького бедного мальчика, чтобы посадить его за этот стол. Я уж так давно не видела детей в нашем доме! Сам мистер Томпсон вышел на поиски «святочного мальчика». Искать пришлось недолго. Достигнув ближайшего перекрестка, он заметил перед освещенным окном лавки немца-колбасника маленькую фигурку мальчика, созерцавшего рождественских поросят и окорока, украшенные кружевной бумагой. Как во всех почтенных святочных рассказах, мальчик был бедно одет, ежился от холода, дул на озябшие пальцы и не сводил глаз с поросенка в бумажном уборе. Юный джентльмен едва не дал стрекача от мистера Томпсона, но, по-видимому, тоже вспомнил святочные традиции и последовал за адвокатом. – Вот здесь сними свою куртку, мальчик, и скажи этой доброй леди, как тебя зовут, – сказал мистер Томпсон своему гостю, входя в переднюю. – Мое имя Томас Бингль, сэр, – отвечал «святочный мальчик», – мама дала мне полшиллинга на сладости и велела скорее возвращаться домой. У нас нынче тоже будет праздничное угощение. – Томас Бингль? Скажи, Томас, не ты ли вместе с твоей матерью был у меня однажды летом в конторе? Ты меня узнаешь, Том? – Да, сэр. – Вероятно, мой совет и моя помощь пошли на пользу этому семейству. Знаешь, Дэзи, в свое время я снабдил мать этого мальчика рекомендательным письмом к Паттерсону. Вероятно, ты работаешь на верфи, Том? – Нет, сэр. – Еще один прибор к столу! Дэзи, сведи мальчика к умывальнику. Френсис, зажгите праздничные свечи. Садись за стол, Томас, и скажи мне, чем же ты сейчас занимаешься. – Я учусь в школе мистера Гемфри Чейзвика, сэр. – Это весьма похвально, но откуда же у миссис Бингль берутся средства на твое образование, Томас? Она жаловалась мне на нужду… Впрочем, я не хочу отвлекать тебя от жареного гуся! Я припоминаю, что у тебя есть старший брат. Дела вашего семейства, очевидно, улучшились? Вовремя поданный мною совет… – Благодарю вас, сэр. – Дэзи, теперь приготовь своему гостю пакет. Он отнесет его домой, другим членам семьи. Расскажи мне, Томас, как поживает миссис Бингль. – Сэр, когда мама привела нас в доки мистера Паттерсона, Джорджа поставили на разгрузку леса, а меня – убирать стружки и опилки. Там, на верфи, их были целые горы. Я возил их на тачке и отбирал мелочь от больших обрезков. Большие продают на дрова подороже, а мелочь покупают бедняки. Там работает много других мальчиков. Мы с Джорджем приходили в доки к шести часам утра, а в девять вечера возвращались домой. Мне казалось, что это длится целый год, а прошло не больше месяца. Потом к нашей соседке тете Полли – знаете, к той старухе, у которой раздавило сына при спуске нового корабля, – приехала одна леди… – Очевидно, из твоего комитета, Дэзи. Продолжай, мальчик. – Нет, эта леди была не из комитета. Леди из комитета всегда долго говорят о спасении души, дают несколько пенсов и обещают прислать поношенное платье. А это была красивая, молодая, очень добрая леди. Когда тетка Полли рассказала ей о гибели своего сына Майка, молодая леди заплакала. Потом через несколько дней наш управляющий, мистер Чейзвик, позвал тетю Полли и сказал, что ей пойдет пенсия, а за квартиру уплачено вперед за целый год. – И тогда твоя мать тоже обратилась к этой леди? – Да, сэр, моя мама разузнала, кто была эта дама, и сама пошла к ней со мной – далеко, за двенадцать миль от города. Леди говорила с мамой в парковой беседке, и с тех пор у нас все переменилось. Меня отдали в школу мистера Чейзвика, и я уже умею писать и решать задачи. Джорджа взял в обучение мистер Барлет, старший чертежник на верфи. Теперь Джордж научился здорово рисовать корабли и уже зарабатывает деньги чертежами, ему ведь пятнадцать! Мистер Барлет говорит, что, если Джордж и дальше будет учиться, из него выйдет настоящий художник… А когда мама сдаст нашу вторую комнату какому-нибудь тихому жильцу, тогда мы заживем совсем хорошо. – А ты не узнал, как зовут эту даму? Видно, она очень богата, если может обеспечить благополучие двух семейств сразу? Дэзи, кто бы это мог быть из здешних благотворительниц? – Не знаю, Уильям, и впервые слышу об этой таинственной особе… – Я знаю ее имя, сэр! Она помогла и нашему старому Паткинсу, который оттяпал себе топором пальцы на левой руке. Он теперь живет у нее в Ченсфильде домашним столяром… Ее зовут леди Эмили Райленд, и… она самая красивая леди в целом графстве!..2
Прошли праздничные дни. Мистер Уильям Томпсон давно позабыл и маленького гостя, и рождественскую ветку омелы. С каждым днем у старого адвоката все больше забот. Прежде он всегда радовался, когда краснорожий почтальон слезал с дилижанса перед дверью конторы, втаскивал наверх потертый кожаный мешок и выкладывал на столе Дженкинса, старшего клерка, пачку газет, журналов, запечатанных пакетов и конвертов с деловыми и дружескими письмами. Теперь не то! Торопливые письма, хлопотные, неприятные дела, тревожные вести… Будто сама река времен изменила течение, стала быстрее, мутнее: видно, и ее заставили крутить фабричные колеса! А он, доктор прав и королевский адвокат, уже сделался стар для этого водоворота… Январским вечером, когда в желтом свете фонарей, висящих над каменными арками ворот, тихо реяли сухие снежинки, мистер Уильям Томпсон пешком возвращался из конторы домой. Как любил он прежде эту привычную, неторопливую прогулку! Сколько славных судейских речей он обдумал на этих знакомых узких улицах!.. На ходу так хорошо слагались плавные фразы, вспоминались ораторы древности, Цицерон… Ох, у Цицерона не было тех забот, которые ныне выпадают на долю юриста! При Цицероне чернь было легче держать в повиновении, чем этих, нынешних… Римская чернь бездельничала, довольствуясь крохами с патрицианского стола, жила «хлебом и зрелищами», а эти… эти создают все богатства нации: их руки должны быть проворны, а головы – покорны! Самое опасное – если они сами поймут свою силу, ибо их много, целые толпы. Собранные воедино на фабриках, они легко могут сговориться… Это страшно! …Вон за городом виден багровый отсвет. Это дальний отблеск огней над рудником. День и ночь скрипучий ворот поднимает там из-под земли огромные плетеные корзины с черным земляным углем. Над рудником всегда стоит грязно-белое, с красным отблеском облако. Это – пар, новая стихия, рожденная слиянием двух древних стихий – огня и воды. Огненные машины, громоздкие и неуклюжие, похожие на грозных идолов древности, пыхтят и тяжко вздыхают; качаются тяжелые коромысла над паровым цилиндром, и с каждым вздохом машины в небо взлетает новое облачко пара… А под землей, в ходах и штольнях бультонской шахты, живут люди, живут при тусклых свечах целыми семьями, с детьми и женами, редко-редко поднимаясь на свет божий. Это не преступники, не колодники, это просто крестьяне, «выгороженные» со своего клочка земли, или иные обездоленные бедняки. У них на шее железные обручи; на обручах выгравирована фамилия гордого владельца угольных копей – сэра Гарри Хартли графа Эльсвика. В газетах пишут, что в парламенте теперь как раз обсуждается прошение рудокопов о снятии этих шейных обручей*["49]… А вон там, вдоль реки Кельсекс, на дальних окраинах Бультона, где теряется нескончаемая Соборная улица, громоздятся новые фабрики мистера Райленда – суконные, хлопчатобумажные, канатные… Старый адвокат вспомнил, как совсем недавно в сопровождении управляющего «Северобританской компании» мистера Ральфа Норварда он осматривал эти фабрики, уже работающие и еще строящиеся… Мистеру Томпсону запомнились дети – маленькие, тщедушные фигурки, иные в деревянных башмаках, иные – на высоких колодках, чтобы детские ручонки могли дотягиваться до станков… Одна маленькая пяти-шестилетняя девочка потеряла колодку и споткнулась. Мастер сердито схватил колодку и ударил девочку по голове… А женщины-работницы!.. Худые, ко всему равнодушные, с землистыми лицами, с тощими, уродливыми руками… Придаток к машинам, что ж поделаешь! Сотнями умирают эти женщины и ребятишки от фабричной горячки, похожей на тюремный тиф. Вот так и проходит их жизнь с самого детства и до… койки в Доме общественного призрения, где супруга адвоката миссис Дэзи Томпсон жертвует пенсы на деревянные гробы… Что и говорить, это все грустно для страны, для нации, но… …Но зато за один лишь прошлый, 1772 год (мистер Томпсон уже успел подвести этот итог отечественной коммерции) новые фабрики в Англии дали более десяти миллионов фунтов годового оборота! Сколько выгод связано с этой цифрой для британских юристов вроде мистера Томпсона, сколько жалоб, споров, петиций – для британского парламента!.. Ведь эти тени с бескровными лицами, эти фабричные рабочие, они пожаловались-таки парламенту! Море скорби и нищеты не всегда остается покойным, иногда оно волнуется и бьется о каменные берега!.. Ответом на все петиции был недавний билль о правах предпринимателей… Разумеется, парламент оказал поддержку не простолюдинам, а столпам нации, предпринимателям: он узаконил труд детей с пятилетнего возраста… Да и как могло быть иначе? Фабриканты вводят новые машины, новые станки, и уже не прежний опытный ткач, прядильщик, сучильщик, а пара детских рук у станка вырабатывает пряжу и ткань в десять раз больше прежнего и… в десять раз дешевле! В памяти мистера Томпсона еще свежо то время, когда его страна, его богатеющая Англия, стала ввозить из своих американских колоний новое волокно – хлопок. Прекрасная вещь, если дать ей хорошую обработку. И ум человеческий, неистощимый на выдумку, быстро нашел новые способы, чтобы дешевле и лучше обрабатывать это волокно. Не угодно ли? Какой-то обыкновенный английский плотник, по имени Харгривс, взял да выдумал прядильный станок и назвал его «Дженни», по имени своей белокурой дочурки. Давно ли это было? Да нет еще и десяти лет, а уж по всей Англии крутятся эти прялки, и уже придуманы новые ткацкие станки, чтобы и ткачество не отставало от прядения. Разумеется, число новых фабрик с машинами будет год от года расти – спрос на товар велик, а работа на станках дешева… Но вот куда же деваться прежним добрым мастерам и подмастерьям, отцам семейств и вековечным труженикам? Это… не совсем ясно! Хм! Если подумаешь, то действительно их положение становится… Размышления адвоката были прерваны отчаянной руганью с высоты козел… Мистер Томпсон, оказавшийся в своих раздумьях как раз на середине улицы, еле-еле успел увернуться из-под копыт. Толстый кучер осыпал рассеянного джентльмена проклятиями, но седок… дружеским жестом откинул меховую полость, приглашая несколько сконфуженного адвоката занять место на сиденье: оказалось, что мистер Уильям Томпсон едва не угодил под коляску бультонского банкира мистера Сэмюэля Ленди! Старые друзья вместе доехали до адвокатского дома. В пути бультонский юрист оправился от испуга и предложил мистеру Ленди провести нынешний вечер в дружеской беседе. У господина адвоката было о чем потолковать с надежным другом дома! Оба джентльмена, хозяин и гость, уселись в креслах старинного кабинета. Кофе и ликер стояли на круглом столике. Пламя свечей рождало рубиновые искорки на маслянистой поверхности разлитого в рюмки ликера. В камине громко трещали дрова; они то вспыхивали, рассыпая искры, то покрывались серым пеплом тления, но углы кабинета оставались в полумраке, и оттуда, из зеленоватого сумрака, доносилось цвирканье неугомонного сверчка, одного из старожилов этого покоя. – Свежие новости? – спросил банкир, указывая на распечатанные конверты писем. – Где сейчас находится бриг? – Письма отправлены двенадцатого ноября и помечены так: «Гринвичский меридиан, десять градусов южной широты, Гвинейский залив». Встречный военный корабль, фрегат «Крестоносец», доставил их в Плимут очень быстро. Ричард пишет, что «Орион» зайдет с грузом в Капштадт и затем отправится дальше. Возможно, что сочельник они праздновали уже на острове Райленда. Паттерсон описывает, как он едва спасся в Африке от носорогов и леопардов. Вероятно, страшно преувеличивает!.. Гораздо более удивительные вещи происходят на самом судне. Ричард пишет о них, правда, очень скупо, но из его письма ясно, что между ним и Райлендом возникла вражда. Он намекает на какие-то темные дела главы новой компании. – Неужели Ричард, пребывая в обществе леди Стенфорд, находит время, чтобы заниматься и делами компании? – Сэмюэль, я доверю вам то, что пока скрыто даже от моей жены. Ричард расторг в пути свою помолвку с леди Эллен… – Боже мой! Какие же причины? – Понимаете, Сэмюэль, этот Райленд вторично встал между моим сыном и его избранницей. Правда, я не могу сказать, чтобы симпатизировал новому выбору Ричарда, но тем не менее его помолвка уже стала известной в городе. И вот в пути Ричард сделал открытие, не оставляющее, увы, никаких неясностей насчет отношений между леди Эллен и Фредриком Райлендом. – Позвольте! Да ведь они знакомы всего полгода! – И тем не менее факт бесспорен. Ричард в этом уверен. – Какие сенсационные вести! А… леди Эмили? – Видите ли, Мортон пишет мне, чтобы я, с соблюдением особых предосторожностей, начал готовить бракоразводный процесс. Следовательно, дело серьезно. – Уильям, старая поговорка гласит: «Пока суп варится, он всегда горячее, чем поданный к столу». Может быть, по возвращении все уладится? Вообще это плавание – странная затея для такого делового джентльмена, как Фредрик Райленд. – Ричард пишет о нем вещи еще более странные. Из его намеков следует, что Райленд не является даже законным наследником Ченсфильда! – Ну, это уже слепая оскорбленная ревность! Она сделала вашего сына явно пристрастным. – Возможно. Для меня законность вступления Райленда в права наследства не оставляет сомнений. Тем не менее Ричард прямо советует мне прекратить всякие отношения с «Северобританской компанией» и ее главой. – Чепуха! Райленд – крупный делец, быть может не всегда разборчивый в средствах, но человек широкого размаха. Я связан с ним серьезными делами. Читали вы в последнем номере «Монитора», как возросли дивиденды компании и какоймасштаб принимают заокеанские торговые операции? Кроме того, Райленд подарил городу крупные суммы на благоустройство и церкви – на богоугодные дела. – Все это так. Но где источники этих средств? Он расходует по меньшей мере в полтора раза больше суммы дивидендов, опубликованных в «Мониторе». За словами Ричарда что-то кроется, я убежден в этом! Ленди хотел возразить, но махнул рукой и вздохнул. Мистер Уильям продолжал: – Помните, Ленди, тот уютный летний вечер, когда я огласил в узком кругу друзей подробности спасения Райленда? Так вот, рукопись Мортона, по-видимому, умалчивает о существенных подробностях этих событий. Я обязался хранить в тайне один эпизод, случившийся как раз накануне этого вечера, но дела так осложнились, что я обязан быть вполне откровенным с вами. В этот день ко мне явился незнакомец. Он назвал себя Роджерсом… Старый Ленди, весь обратившись в слух, не произносил ни слова. В настороженной тишине только сухо потрескивали дрова да сверчок время от времени подавал из угла свой голосок. Мистер Томпсон перешел на полушепот. – Человек этот искал следы похищенных драгоценностей и больше всего интересовался обстоятельствами гибели «Черной стрелы» и спасения Райленда. Роджерс высказал предположение, что Райленд убил капитана Бернардито Луиса и овладел сокровищем этого пирата – драгоценными камнями, оцененными в шестьдесят тысяч фунтов стерлингов! Замолчал даже сверчок. Только Френсис шаркал в столовой подагрическими ногами в войлочных туфлях. – Скажите, мистер Томпсон, – многозначительно спросил банкир, – вам известен агент Райленда, бывший моряк Джеффри Мак-Райль? – Я слышал это имя минувшим летом… Какая-то история о нападении бандита на его квартиру… – А вы не поставили эту историю в связь с вашим загадочным посетителем Роджерсом? – Нет, это не приходило мне в голову. – Так ведь именно ваш Роджерс и был тем самым бандитом… Он ограбил Мак-Райля и чуть не убил его. – Боже мой! – Удар несомненно был нацелен в Райленда. И быть может, именно вы, Уильям, косвенно помогли нанести этот удар по интересам вашего важнейшего клиента. – Но, Ленди, если подозрения Роджерса справедливы, то он, вероятно, искал свою долю добычи в сокровище Бернардито. Мой уважаемый клиент, овладевший ворованными драгоценностями, сам навлек на себя риск встретить других претендентов на это краденое богатство. – Ваш Роджерс – просто ловкий бандит! Ему понадобилась ваша помощь, чтобы найти способ обокрасть сэра Фредрика. – Послушайте, Ленди, с каких пор сами вы превратились в такого горячего защитника Райленда? Чем вас околдовал этот человек? Что за поветрие охватило умы самых почтенных старожилов Бультона? Паттерсон стал его компаньоном. Вы вступили с ним, по вашим словам, в серьезные деловые отношения. Леди Стенфорд вверила ему все свои свободные средства. «Монитор» его превозносит, и поговаривают, что редактор даже стал акционером компании. Бультонский мэр принял от Райленда крупную сумму для нужд города. Портовые и таможенные власти оказывают ему широкую поддержку. Государственные контролеры сукон что-то подозрительно легко ставят пломбы на изделия «Бультонской мануфактуры». Даже церковь… Вы слышали, какие похвалы воздались жертвователю во время последней проповеди в соборе? Наконец, сотни мелких держателей акций… Нет, это даже не поветрие, это какая-то дьявольская паутина, черт побери! Но я могу смело утверждать, что деловые отношения с этим клиентом не лишили меня независимости. Мне выгодно вести дела компании, но я могу в любую минуту прекратить их, как того желает мой сын. Почему вы молчите, Сэмюэль? – Уильям! Откровенность за откровенность! Лучше вам узнать правду, прежде чем следовать бредовым советам вашего ослепленного сына… Вам в точности известно, что главные средства моего банка составляют вклады Паттерсона, еще нескольких фабрикантов, ваши собственные, наконец, средства страхового общества… – Боже мой, к чему это предисловие? Дела банка я знаю лучше, чем свои! Не пугайте меня, Ленди! – Так послушайте, Уильям. Во время летней паники на бирже я скупил на крупную сумму падавшие в цене бумаги – и просчитался… Подошли срочные платежи, я нуждался в немедленном займе. Я метался, как в лихорадке, ибо при малейшем признаке беспокойства вкладчиков я должен был бы объявить себя банкротом. Я тщательно скрывал положение дел даже от ближайших друзей, но Мак-Райль знал о моем просчете, ибо часть бумаг я купил через него. Он-то и познакомил меня с мистером Райлендом, и мы быстро нашли с этим джентльменом общий язык. И вот в самый критический для «Бультонс-банка» момент Райленд бегло проверил мой баланс и пошел на крупный риск, ссудив меня под вексель шестьюдесятью тысячами фунтов, правда под высокие проценты. – Дальше, Ленди, дальше! – Я вывернулся с платежами и ожил. Банк выстоял благодаря этой поддержке. Но, дорогой мой Уильям, эти шестьдесят тысяч были… не в денежных купюрах. Это были крупные бриллианты, которые агенты Райленда негласно продали в Голландии от моего имени. Райленд предложил мне камни и услуги агентов, с тем чтобы его имя не упоминалось при продаже камней. Что мне оставалось делать? Мог ли я тогда задумываться о происхождении этих камней? Да и можно ли считать несовместимым с джентльменской честью присвоение средств мертвого пирата? Мистер Томпсон тяжело дышал. – У меня дрожат колени, – простонал он. – Сэмюэль, вы не должны сердиться, но я буду вынужден перевести свои вклады… – Уильям, это, увы, невозможно. После того как банк устоял, я вложил, по настойчивому совету Паттерсона, все новые вклады в бумаги «Северобританской компании» и жду от них быстрого оборота. Свободных денег, чтобы вернуть такой крупный вклад, как ваш, у меня нет. Теперь судьба – и моя и ваша – всецело связана с процветанием компании Райленда. – Боже мой! Значит, любой удар по репутации этой фирмы или пятно на имени ее владельца… – …сделает нас нищими, мой старый друг! Наше благополучие – в чужих руках, Уильям! В глубоком молчании, воцарившемся в кабинете, из затемненного угла вновь, еще явственнее, чем прежде, зазвучало редкое, сухое и будто насмешливое: цвирк! цвирк! цвирк! И вдруг среди этой тягостной тишины старый Френсис, поправлявший оконную штору, испуганно всплеснул руками и опрокинул фарфоровую вазу. – Мистер Уильям, смотрите в окно… На Соборной улице горят новые фабрики мистера Райленда! Оба старых джентльмена бросились к окну. Над городскими крышами полыхало багровое зарево. Даже сквозь двойные стекла в кабинет проникал отдаленный звук набата и дважды донесся нестройный звук ружейных залпов.3
Вниз по Соборной улице, начинавшейся у Ольдпорт-сквер и терявшейся под конец в дымной неразберихе окраинных трущоб, двигалась серая, молчаливая толпа мужчин, женщин и детей, одетых в рабочие блузы и передники. Многие шли с непокрытыми головами. У иных на плечах виднелись ломы и молоты, кое-где над плечом идущего в толпе колыхался и ружейный ствол. Издали вся процессия походила на погребальную. Почти треть толпы составляли дети. В неуклюжих деревянных башмаках, они тяжело шагали, держась за руки старших товарищей. Некоторые, самые юные, по извечной детской привычке, еще хватались за юбки женщин, бредущих в лохмотьях, с каменными, суровыми лицами. Сбывалось предчувствие бультонского адвоката: море скорби и отчаяния выплеснулось на городскую улицу и билось о ее каменные берега! Над первой шеренгой колыхался плакат, написанный черной краской по белой полосе холста:«ПРОЧЬ МАШИНЫ!»У некоторых участников процессии на груди были прикреплены дощечки с надписями: «Я искалечен машиной», «Машина работает – я голодаю». Когда процессия, миновав два-три перекрестка, стала приближаться к окраине, высокий человек в плаще, похожий на пуританского*["50] проповедника кромвельских времен, затянул диким голосом песню, подхваченную всей толпой. Мотив звучал, как церковный хорал, однообразно и торжественно. Прохожие на улицах останавливались и провожали процессию то сочувственными, то испуганными взглядами. На самой окраине демонстрантов все чаще встречали приветственные возгласы из окон и с тротуаров. Процессия приближалась к длинной глухой ограде, за которой виднелись кирпичные здания цехов «Бультонской мануфактуры» и соседнего с нею канатного завода. В глубине, вдоль северной границы всего промышленного участка, протекала речка; незамерзшая вода ее с маслянистыми пятнами на поверхности чернела среди заснеженных берегов. Две баржи стояли у причала. На самом берегу высилось здание красильной. Выше по течению речку перегораживала плотина. Вода недовольно шумела в отводном рукаве, встречая позеленевшие склизкие лопасти больших деревянных колес, укрепленных меж кирпичных стен. Эти колеса, со скрипом ворочаясь, двигали громоздкие рычаги передаточных механизмов и крутили станки в мастерских и цехах «Бультонской мануфактуры». Впрочем, большая часть колес находилась сейчас в покое. Вода лишь чуть-чуть покачивала их и с бульканьем бежала под лопасти… Приводы, машины, станки… Плохо стало при них настоящему рабочему человеку! Хозяин не хочет платить ему, если эту работу выполняет машина. К ней можно приставить семилетнего парнишку или девчонку, и они отлично будут помогать машине по шестнадцать часов в сутки за жалкий фартинг и десяток тумаков в придачу. Стыдно сказать: господа в парламенте разрешили брать на фабрики детей с пятилетнего возраста… И все это наделали чертовы машины! Толпа глухо шумела, подходя к главным воротам. Здесь, у этих знакомых, ненавистных ворот, шествие остановилось. Обширный двор и цехи всех фабрик были как вымершие. С неба падали снежинки, постепенно превращавшие двор в ровную нехоженую целину. Ворота были заперты изнутри. Во дворе перед воротами расхаживали толстый констебль и два его помощника. Люди забарабанили в чугунные ворота. Констебль вышел из калитки на улицу и обратился к рабочим. Вместо общепринятых слов человеческой речи он издал несколько лающих звуков, означавших, что народу следует разойтись по домам и что на фабрику их сегодня не пустят. Из фабричной конторы спешил к воротам маленький человечек в парике с косицей. В руках он держал лорнет*["51] и тетрадь с какими-то списками. – Старший приказчик хозяина, – зашептали в толпе, – тот, кто хочет заменить наши руки железными машинами! Высоким, тонким голосом, приложив лорнет к глазам, приказчик закричал собравшимся: – Что за сборище? Если вы решили работать, приходите утром, по одному. Скопом я вас не пущу. А сейчас будьте благоразумны, расходитесь по домам! Внезапно перед воротами выросла фигура человека, похожего на кромвелевского проповедника. Снежинки падали на его седые всклокоченные волосы. – Люди! – закричал он пронзительно. – Не слушайте изверга! Это он вместо божьих душ ставит в цехи железные машины, эти порождения сатаны. Они питаются человеческой кровью. Жертвы их неисчислимы. Следом за машинами крадутся голод, нищета, увечье. Сокрушим изделия Вельзевула! Вперед, храбрецы, вперед, братья, за мной! Пока оратор с жаром обращался к толпе, небольшой смуглый человек в сопровождении нескольких ловких мальчишек быстро перелез через ограду и оттолкнул приказчика от ворот. Человек одним ударом лома отодвинул тяжелый засов. Констебль и его помощники были сбиты с ног толпой, ринувшейся в ворота. Несколько клерков и мастеров выскочили было из конторы на помощь констеблю и старшему приказчику, но в нерешительности остановились на полдороге. Приказчик, потерявший лорнет и тетрадь, благоразумно ретировался за их спины и теперь криками побуждал их к наступательным действиям. Помощник констебля вынырнул из толпы, вскочил на верховую лошадь и помчался галопом вверх по Соборной улице. Люди уже взламывали двери цехов. Звенели выбитые стекла, сыпалась штукатурка, трещали двери. Послышались удары по металлу и треск разрываемых тканей, еще натянутых на станочные рамы. Машины, ящики, двери, даже скамьи и табуреты – все разлеталось под ударами молотов. Тем временем смуглый человек, открывший ворота, ловко взобрался на чердак суконного цеха и, склонившись над грудой тряпья, высек огонь. Вскоре из чердачных окон вырвались красные языки огня с чадным, черным дымом. В этот миг пара взмыленных храпящих лошадей внесла в ворота легкий желтый шарабан. Не дожидаясь, пока кучер перехватит вожжи и остановит экипаж, седок соскочил на землю. Глазам его представились испуганные клерки, прижавшиеся к стене конторы, и объятые яростью женщины и дети во дворе. – Норвард! Управляющий! Смерть ему, смерть! – послышались крики. В управляющего полетели камни. Вообразив, что перед ним только эти слабые противники, Норвард ринулся со шпагой в толпу и, нанося направо и налево свистящие удары по головам, ворвался в дверь кирпичной пристройки прядильного цеха, откуда доносился треск ломаемых машин. Здесь суровые, молчаливые люди били молотами по рычагам и кривошипам передаточных механизмов. Увидев их, Норвард стал пятиться к двери. Перед ним выросла фигура длинноволосого проповедника. Управляющий выхватил пистолет… Рабочие подались вперед, прикрывая своего вожака. В дюйме от головы Норварда просвистел топор. Пронзительно завизжав, управляющий на четвереньках, с обезьяньей ловкостью выскочил из пристройки. Очутившись снова на дворе, он увидел толпу женщин, бегущих из суконного цеха, уже охваченного пламенем. По соседству пылал канатный завод. Три конные упряжки пожарной команды, подминая и расталкивая встречных, влетели в открытые ворота, а за оградой уже заблистали штыки и мундиры королевских драгун. Солдаты окружили весь участок и хватали разбегавшихся рабочих. Норвард осыпал их бранью и проклятиями. В глубине двора, у здания красильной, группа самых непримиримых разрушителей еще продолжала размахивать молотами. Заметив их, офицер подал команду своим стрелкам. Щелкнули курки. Грянул залп. Снег окрасился кровью. Отчаянно вскрикнули женщины, кто-то застонал… Солдаты перезаряжали ружья. Несколько драгун бросились преследовать последнюю группу рабочих; отстреливаясь из охотничьих ружей, они отходили к реке. Их вожак показал рукой на баржу у причала. Взбежав на нее, человек десять – двенадцать кинулись с баржи в ледяную воду. Вслед им раздался повторный ружейный залп, но беглецы уже достигли противоположного берега и скрылись в ночном мраке. Во дворе валялись части исковерканных машин, ломы, топоры, охотничьи ружья, шляпы, обрывки холста, тлеющая пряжа. Громко стонали раненые. Драгуны повели к воротам хмурую толпу арестованных – по неумолимому королевскому закону*["52], этих людей ждала виселица… Смуглый человек, успевший поджечь несколько строений «Бультонской мануфактуры», услыхал первый залп, сидя под стропилами красильного цеха. Пора было и ему подумать о спасении! Он быстро сорвал с себя тлевшую куртку и передник ремесленника. Под ними оказался нарядный камзол, перехваченный поясом с дорогим испанским кинжалом и тяжелым пистолетом. Из-за пазухи он достал бархатный берет и прикрыл им свои волнистые волосы, а на левую руку надел свинцовую перчатку. Констебль уже взбирался на чердак, где ремесленник только что закончил свое превращение в нарядного джентльмена. Три помощника констебля стояли внизу, под стремянной лестницей. Едва полицейский, нагнувшись, полез в темноте под стропила, переодетый человек нанес ему удар рукоятью пистолета. Тело полицейского неподвижно растянулось на чердачном полу. Человек в камзоле высунулся в окно. – Спешите сюда, – крикнул он вниз, – здесь еще кто-то прячется! Трое полицейских заторопились наверх. Как только последний из них взобрался по лестнице, человек в камзоле соскочил вниз и, оттолкнув лестницу, подошел прямо к Норварду. – Сэр, – указал он пистолетом на покинутый чердак, – пошлите туда солдат. Там еще прячутся эти разбойники. Пока Норвард распоряжался, незнакомец спокойно вышел из ворот, властно раздвинул цепь солдат и уже на улице обернулся. По чердачному окну залпами стреляли солдаты… Незнакомец завернул в переулок и заметил во дворе какого-то дома несколько оседланных лошадей под охраной солдата. Беглец подошел к коновязи и резко приказал солдату подвести его коня. – Вашего коня? Вы ошиблись, я вас не знаю, ваша честь! В следующее мгновение солдат лежал на земле, сбитый с ног ударом свинцовой перчатки. Незнакомец выбрал коня, подтянул спущенную подпругу и взнуздал лошадь. Выехав на темную боковую улицу, он погнал коня галопом и скакал несколько миль до гостиницы «Белый медведь». Сдав во дворе лошадь, как знатный путешественник, незнакомец не зашел в гостиницу, а отправился дальше пешком и добрался до противоположной окраины города. Он постучал в окно первого этажа большого кирпичного дома на Чарджент-стрит. – Это вы, мистер Ханслоу? – спросил его женский голос. – О, какой на вас сегодня красивый камзол! – Скажите, миссис Бингль, когда возвращается из школы ваш Томас? – В субботу он приходит в полдень, а утром в понедельник опять уходит в пансион мистера Чейзвика на целую неделю. Завтра суббота, он придет. Зачем он вам понадобился, сэр? – Хочу дать ему одно поручение. Я прошу, отпустите его завтра со мной на весь день. Кстати, если утром явится один старик, разбудите меня, пожалуйста!
4
Постоялец миссис Бингль не успел проспать и трех часов, как среди ночи раздался стук в наружную дверь. Мистер Ханслоу, по-видимому, привык спать с чуткостью лесного зверя: он сразу вскочил с постели и облачился в темноте с необычайной быстротой. Только вместо нарядного камзола он надел поношенный, выцветший и латаный костюм старьевщика и торопливо обмотал тряпкой кисть левой руки. – Проснитесь, мистер Ханслоу! – крикнула хозяйка не совсем довольным тоном. – Старик, которого вы ожидали, уже явился… Сейчас пять часов утра, – добавила она укоризненно. – Нет, меня ты не ждал, Ханслоу! – произнес уже в комнате жильца чей-то осипший голос. Вошедший прикрыл дверь и тяжело опустился на стул. – Зажги-ка свет, мистер Ханслоу, да принеси мне поесть и переодеться. – Как, это вы, Меджерсон? – удивился хозяин. Он зажег свечу и поставил ее на стол. – В хорошеньком же, однако, виде! Как вы пробрались по улицам незамеченным? Нет ли погони? – Да, мне, конечно, не следовало идти к тебе, Ханслоу, но ищеек я обманул; кажется, хвоста за мной нет. Рассвет занимается, я не мог оставаться дольше на улице в этом наряде. Кроме того, я голоден и страшно озяб. Хозяин поставил перед гостем тарелку с холодной бараниной и налил из фляжки стакан тодди*["53]. Кастрюлю с горячей водой для этого напитка он вытащил из полупотухшего камина. Гость с жадностью принялся за еду. Перед хозяином комнаты сидел изможденный, худой старик с длинными седыми волосами, падавшими на плечи. Впалые щеки были покрыты глубокими морщинами, две резкие борозды спускались от носа к подбородку. Глазницы Меджерсона были необычайно глубоки, и в суровом взгляде, горевшем из-под густых, нависших бровей, чудилась непреклонная решимость борца. – Куда вы скрылись вчера, Меджерсон? Я видел, как вы с ребятами переправились вплавь через речонку. – Благодарение Богу, с одним делом покончено! Ты, Ханслоу, хорошо помог нам вчера расправиться с извергами: проклятые машины преданы огню, и честным труженикам теперь станет легче. Люди будут спокойно трудиться в лоне семьи или в общих цехах; свои изделия, плоды искусного ремесла, они смогут продавать по прежним ценам; малые дети тружеников снова предадутся младенческим забавам и играм, ибо отцы и матери смогут сами кормить ребятишек, не продавая их безбожным фабрикантам… В Бультоне умолк шум машин, значит, в Бультоне высохнут детские слезы! Ты сделал вчера доброе дело, друг Ханслоу, Бог наградит тебя за помощь беднякам. Скажи, хочешь ли ты помогать нам и впредь? – Как, разве вы, Меджерсон, намерены остаться здесь, в Бультоне? Это слишком опасно. Если вас схватят, то… – …еще раз осудят на смерть, хочешь ты сказать? Судьба моя – бороться со злом и защищать обездоленных. Во имя сего благого дела я приму другой облик, какой подскажет мне разум, и снова, препоясавшись мечом Господним, буду сражаться с мучителями народа. Аминь! Суровый фанатизм Меджерсона, непреклонная воля и страстная ненависть, прозвучавшая в его словах, поразили мистера Ханслоу. Он глядел на собеседника с уважением. – Откуда вы родом, Меджерсон, и давно ли вы ведете эту вашу… войну со злом? – спросил он тихо. Меджерсон пристально поглядел в глаза хозяину: – Об этом не следует спрашивать, Ханслоу, но… ты честен с нами, я знаю… Родом я из Ланкашира. Мне пятьдесят лет, и двадцать из них я отдал борьбе за правду. Меня еще помнят в Ланкашире. Там бедняки оказали мне честь: я был выбран в первый стачечный комитет еще четырнадцать лет назад. За это меня приговорили к смерти, но рабочие напали на полицейский возок и вырвали нас, пятерых осужденных, из рук палачей. Потом я перебрался в Спитфильд, близ Лондона. Почти десять лет мы боролись там за наши права, за свободу детей, проданных в фабричное рабство, за уничтожение главного зла – машин. В нас стреляли солдаты – мы не сдавались. Многих схватили и повесили – мы продолжали сопротивляться и уничтожать машины. Наконец мы были побеждены, но я снова спасся от неминуемой петли и ушел сюда, в Бультон, чтобы бороться дальше. Ненависть моя к палачам, к богачам неправедным священна и неистощима. Я спрашиваю тебя: хочешь ли ты и впредь помогать нашему правому делу? – Что же вы намерены еще затеять здесь, мистер Меджерсон? – Пока в Северном графстве не сгорит последняя фабричная прялка, я не покину своих братьев по этой священной войне. – Хм! Прялки меня, правду говоря, не слишком интересуют, пусть себе крутятся! Мне нужно сделать кое-кого сговорчивым. У нас, то есть у меня и у вашего братства, есть общий враг, мистер Меджерсон. Зовут его, как вы догадываетесь… – …Фредрик Джонатан Райленд, виконт Ченсфильд, сын Вельзевула! Самое имя его проклято: он хочет машинами заменить всех людей на своих гнусных фабриках. Райленд – продавец человеческого мяса. Но его машины вчера сгинули в огненной геенне… – Можете не сомневаться, мистер Меджерсон, что он построит новые, и очень быстро. Нет, нужно нанести ему еще один удар, такой, от которого ни он, ни его друзья уж никогда бы не смогли оправиться. Бультонская верфь строит ему корабли. Вот ее и нужно уничтожить. Это убьет насмерть всю компанию Райленда и… заставит его отдать то, что принадлежит другим по праву. В глазах Меджерсона, скрытых нависшими бровями, зажглись огни. Взгляд его стал похожим на тлеющий костер в глубокой пещере, видимый ночью сквозь кусты. – Райленд и Паттерсон – оба эти негодяя заслужили ненависть и проклятие рабочих людей, – проговорил он торжественно. – Мы приняли решение: братство луддитов благословляет тебя на этот шаг, и оно поможет тебе так же, как ты вчера помог братству, синьор Фернандо Диас! Мнимый мистер Ханслоу переменился в лице и быстро прикрыл рот своему гостю: – Тише, сакраменто! Откуда, синьор, вы знаете мое настоящее имя? – Оно давно известно братству, и потому я еще в прошлый твой приезд не случайно оказался с тобой в одном гостиничном номере… У нас есть незримые союзники и тайные уши… Нам известна и цель твоей борьбы с этим Райлендом: ты ищешь драгоценности пиратского главаря… Эта цель чужда нашему братству, но ты молод, смел и честен, и мы готовы видеть в тебе союзника. Помни одно: к предателям мы беспощадны… – Что ж, коли так – ударим по рукам, синьор Меджерсон! Теперь вы должны переменить платье. На всякий случай я приобрел кое-что из гардероба покойного мастера Джона Бингля. Наденьте-ка этот темный фрак; вероятно, покойный супруг нашей домохозяйки надевал его по большим праздникам, идя в церковь… Сейчас я займусь вашей прической. Недаром я два года был бродячим актером. Волосы мы вам подстрижем… Вот так! Теперь вы – почтенный клерк какой-нибудь шотландской фирмы. Посмотрите на себя в зеркало. Пусть теперь кто-нибудь узнает в вас Элиота Меджерсона, черт побери! – Ты действительно превратил меня в клерка, Фернандо Диас. Что ж, это, видно, перст Божий! На время я сохраню обличье клерка и нынче же «приеду» дилижансом из Эдинбурга в гостиницу «Белый медведь». Там я сниму номер, пока не найду себе более удобное пристанище. – Как мы будем держать с вами тайную связь, мистер Меджерсон? – Уже не Меджерсон, Фернандо! Меджерсона ты превратил в клерка Арчибальда Стейболда. Запомни: Арчибальд Стейболд, гостиница «Белый медведь». А связь с тобой будем поддерживать по-старому. Ты не забыл тумбу для афиш на Гарденрод? Присматривайся, как и раньше, к объявлениям цирка… Сообщай о своих планах. На самый крайний случай, если придется спасаться бегством, ты найдешь приют и помощь у «ирландских братьев». Где их искать в Бультоне, тебе известно… А теперь прощай, брат Фернандо!5
Миссис Бингль, впустившая в свое жилище Элиота Меджерсона и выпустившая шотландского клерка Арчибальда Стейболда, несказанно удивилась разительному различию во внешности и костюме этих двух джентльменов. Без особого труда она опознала на клерке Стейболде под меховым плащом, еще вчера служившим ее жильцу, фрак и панталоны покойного мужа. Добрая женщина уже собралась было к своей соседке, тете Полли, чтобы с должной серьезностью обсудить это удивительное превращение весьма сомнительного оборванца в респектабельного господина, как новый стук раздался у входных дверей, но на этот раз слабый и нерешительный. Перед изумленной миссис Бингль опять предстала фигура старика, но сгорбленного, хилого и ничем не похожего на предыдущего посетителя. – Могу ли я видеть мистера Ханслоу? – спросил гость слабым, старческим голосом. Миссис Бингль видела, как старик вошел в комнату ее жильца, с трудом таща за собою два небольших ящика и клетку, прикрытую цветным платком. Уже через несколько минут жилец миссис Бингль выпустил своего второго гостя из комнаты. Уходя, тот задержался в дверях и сказал с порога: – Микси любит орехи и фрукты, но ест также молоко и белый хлеб. В холод одевайте ее в шерстяную курточку, она привыкла к здешней зиме. А за моим плащом и шляпой пришлите мальчика, я живу недалеко. Но это совсем старые, поношенные вещи, мистер Ханслоу! Снедаемая любопытством, миссис Бингль приникла к замочной скважине в дверях жильца. То, что она увидела, окончательно поразило ее. Вместо солидного мистера Ханслоу, всегда носившего парик с косицей, высокую шляпу и два теплых жилета, на стуле перед зеркалом сидел красивый молодой человек, чернобровый, с косыми баками и волнистыми, коротко подстриженными волосами. Расстегнутый воротник рубашки обнажал сильную, загорелую шею. Перед ним стояли на столе две миски с какими-то жидкостями и целая коробка с мазями, красками, волосами и бородами. В руке он держал тоненькую палочку и сидел, как художник перед мольбертом, всматриваясь в зеркало и чуть прикасаясь палочкой к своему лицу. При этих манипуляциях миссис Бингль впервые заметила, что на левой руке ее жильца нет четвертого пальца. Новые толчки в дверь заставили миссис Бингль покинуть свой наблюдательный пост. Если бы она не сделала этого, то ей пришлось бы пережить сильный испуг, так как мистер Ханслоу немедленно подскочил к окну, проверил, открывается ли оно, сунул за пояс нож, подхватил под мышку плащ и стал у подоконника, держа в каждой руке по пистолету. Но приготовлений этих миссис Бингль не видела, а сам жилец, услышав в комнате хозяйки веселый голос Бингля-младшего, отложил боевые доспехи и, усевшись опять перед зеркалом, возобновил свои занятия с кисточкой. – Томас, – крикнул он мальчику, сунув ему в дверную щель записку, – сбегай-ка по этому адресу и принеси мне плащ и шляпу. Не прошло и получаса, как мальчик вернулся со свертком, Ханслоу все еще сидел у зеркала. Голову и лицо он прикрывал полотенцем, так что мальчик видел одни глаза постояльца. – Послушай, Томас, – заговорил Ханслоу, – хотел бы ты недельку отдохнуть от своих школьных занятий, если это разрешат мама и мистер Чейзвик? – Да, мистер Ханслоу, очень хотел бы. – Так вот, я хочу предложить тебе нетрудную интересную работу на одну или две недели. – Ах, работу… Такую же, как на верфи Паттерсона, или полегче? – Что? Ты знаешь, какие работы производятся на верфи? Разве ты бывал там? – Конечно, знаю. На этой верфи я работал целый месяц, а сейчас мой брат Джордж учится и работает там в конторе. – Да ты просто находка для меня, Томас! Нет, твоя работа будет, наверно, совсем не похожей на все, что ты в своей жизни делал. Скажи, ты когда-нибудь видел шарманку? – Ну конечно видел. Дядюшка Поттер, тот самый старик, от которого я сейчас принес вещи, ходил раньше с шарманкой по дворам, а мы бегали за ним. Какая у него была умная обезьяна! Ее звали Микси… Раньше с ним ходил один мальчишка, Томми Вуд, но он поступил юнгой на корабль, и с тех пор дядюшка Поттер сидит дома. Ему одному не под силу таскать шарманку по дворам. – Так вот, одну или две недели ты будешь делать то же, что когда-то делал Томми Вуд. Если я останусь доволен тобою, то дам тебе двадцать шиллингов, большой перочинный нож, и, главное, ты получишь в полную собственность музыкальный ящик старого Поттера и обезьянку Микси. Что ж ты молчишь? Не веришь? Тогда посмотри-ка сюда! – И Фернандо сдернул с клетки покрывавший ее цветной платок. Глаза у Томаса стали круглыми, как пуговицы на его курточке. От безграничного изумления он забыл даже обрадоваться. Потом он бросился на колени перед клеткой и пытался сквозь прутья погладить маленькую мартышку в зеленом платьице, печально сгорбившуюся в глубине клетки. – Дай ей конфету, – сказал Фернандо, вынимая из кармана лакомство. Мартышка протянула мальчику маленькую коричневую ручку, так похожую на человеческую, что Фернандо испытал какое-то чувство неловкости перед этим разумным существом, посаженным в клетку. Однако зверек потянулся к Томасу не за конфеткой: вид обрадованного, взволнованного мальчика, по-видимому, возбудил в обезьянке какие-то сильные ответные чувства. Она заметалась по клетке и закричала. Томас открыл дверцу. Зверек сразу вскочил мальчику на плечо и с человеческой нежностью обнял своего освободителя за шею. Том не выдержал; он обхватил обезьянку обеими руками и, прижавшись к ней лицом, засмеялся и заплакал от сладкой радости, жалости и волнения. – Я вижу, что ты доволен, Том, и я сам рад доставить тебе удовольствие, – снова заговорил Фернандо, и голос чуть-чуть изменил ему. – Я потом все объясню: как себя держать, о чем разговаривать с людьми и чего им не надо говорить. Если тебя спросят, давно ли ты меня знаешь, ты скажешь, что очень давно. Скажи, как вы называли дедушку Поттера? – Томми Вуд и все ребята говорили ему «дядюшка Метью». – Дядюшка Метью! Очень хорошо. Меня, видишь ли, тоже зовут Метью, поэтому на улице ты и меня будешь звать дядюшкой Метью. Теперь посмотри-ка на меня! Перед мальчиком как живой стоял старый дядюшка Поттер с его насупленными бровями, седыми баками и сгорбленной фигурой, в зеленом выцветшем плаще и черной шляпе. От удивления мальчик разинул рот. Обезьянка соскочила на пол и перепрыгнула на кровать. Мальчик бросился ловить зверька и ловко надел ему ошейник и курточку. Привлеченная шумом, в комнату вошла миссис Бингль. – До свидания, мама! – крикнул Томас. – Мы сейчас уходим на бультонскую дорогу с дядюшкой Метью! Миссис Бингль, онемев от изумления, смотрела, как старик взвалил шарманку на спину; мальчик взял под мышку клетку, укутанную платком, и «ящик с сюрпризами». Уходя, мистер Ханслоу, превращенный в старого Метью Поттера, сказал хозяйке: – Миссис Бингль, все, что вы сегодня видели, возможно, несколько удивляет вас, но я очень прошу не придавать этому никакого значения и никому об этом не рассказывать. Когда жилец и его помощник удалились, миссис Бингль осталась стоять со скрещенными на животе руками перед захлопнувшейся дверью; честная женщина разрывалась от жестокой борьбы между тягостным обетом молчания и страстным желанием поделиться с соседками своими удивительными открытиями.6
Ранним утром 1 февраля на бультонском шоссе шагал старый шарманщик, сопровождаемый мальчиком с обезьянкой. Они не заходили ни в один из дворов и шли по обочине почтового тракта. Скупое февральское солнце перед полуднем стало чуть пригревать землю. Снег на дороге почернел; в колеях, оставленных дилижансами, стояла вода. – Том, все, что я рассказал тебе сейчас про пирата Бернардито Луиса, не пересказывай никому, – сказал шарманщик своему юному спутнику. – Что вы, дядюшка Метью, никто не услышит от меня ни словечка! Скажите, сколько же теперь лет сыну Бернардито? – Ему пятый год. Я совсем недавно его видел. – Да ну? Каков же он собой? – Обыкновенный мальчик… Умеешь ли ты писать, а? – Конечно, умею. И считать, и решать задачи про купцов и встречные дилижансы. – Молодец! А что делает на верфи твой брат Джордж? – Он работает рисовальщиком и чертежником. Только знаешь что, дядюшка Метью? Джордж очень умный, он читает запрещенные книги и хочет стать «сыном свободы». – Вот как! Я в его годы подумывал о другом!.. Так слушай, Том, я скажу тебе адрес сына и матери капитана Бернардито. Но если ты кому-нибудь проболтаешься, то ночью сам Бернардито придет за тобой и зашьет тебе рот, слышишь? – Слышу, – ответил мальчик упавшим голосом. – Если мы с тобой расстанемся и ты услышишь, что я погиб, то напиши сеньоре Эстрелле и маленькому Диего письмо. Запоминай адрес: «Греция, порт Пирей, предместье, дом купца Георгия Каридаса». Напиши им, что их друг из Толедо умер. А теперь скажи мне, какие поместья встречаются на этой дороге? – Вон та нарядная дача – это усадьба леди Стенфорд. Ей принадлежит дом, где мы живем. Дальше будет Ченсфильд, потом поместье, которое называется Уольвсвуд, а дальше я не знаю. – Так вот, кто бы тебя ни спросил, куда ты идешь, говори – в Уольвсвуд, понял? – Ладно. Но по дороге хорошо бы заглянуть в Ченсфильд! Вон за парком уже видны две башенки на большом доме. Там живет одна очень красивая и добрая леди. Дядюшка Метью, давайте покажем ей нашу Микси! – Как, Том, ты, оказывается, знаешь и эту леди? – воскликнул шарманщик. – Да ты какой-то всезнайка! К ней-то мы и идем, потому что нам нужно вручить ей маленький сверток. Ей ты можешь сыграть хоть все четыре песенки, что играет наша шарманка… Но там, в Ченсфильде, эта прекрасная леди живет не одна! Там, в том же старом доме, есть темная щель кровожадного паука, чью хитрейшую паутину я должен разорвать… если сам не запутаюсь в ней, – добавил он вполголоса. Усталый мальчик замолчал, недоверчиво и испуганно косясь на приближающийся парк и дом, где в глухой щели будто бы прячется от солнца и плетет свою сеть неведомый сказочно страшный паук… День уже перевалил на вторую половину, когда оба путника, не передохнув в Ченсфильде, уже брели в обратный путь. – Нам чертовски не повезло, мой мальчик, – бормотал шарманщик. – Паук затащил нашу прекрасную леди в индийские воды на своем проклятом корабле! Боюсь, что она может не вернуться из этого плавания… Что ж, придется нам еще сегодня добраться до конторы старого мистера Томпсона и оставить ему сверток, адресованный леди Райленд. Нам с тобой, Том, слишком опасно держать этот сверток при себе, ибо он стоит дороже, чем любой дом по этому унылому шоссе… По дороге в Бультон ехал какой-то добродушный фермер. Он сперва обдал наших путников грязью из-под колес своей легкой повозки, а затем сжалился над ними, уныло бредущими, мокрыми от дождя. Под вечер возница высадил голодных и полузамерзших странников перед высокой дверью дома, где помещалась юридическая контора «Томпсон и сын».7. Клинок и кольчуга
1
В субботу, первый день февраля, на бультонском внешнем рейде раздался пушечный выстрел, оповестивший портовых чиновников о прибытии судна. Выпавший с утра снег таял, но сырой, холодный ветер нагонял с моря новые тучи. Прибой ревел у портового мола, и даже в гавани волны сильно качали две шлюпки с прибывшего американского корабля. Борясь с волной, они приближались к причалу. На первой из них среди других пассажиров сидел высокий путешественник в индейской куртке, расшитой красными узорами. Из-под войлочной шляпы с загнутыми полями выбилась на его лоб седоватая прядь, прикрывшая косой шрам над переносицей. На поясе висел нож в узорчатых ножнах и два крупнокалиберных пистолета. Путешественник не спускал глаз с двух кожаных мешков, обшитых ременными полосками. Они лежали на дне шлюпки вместе с большим черным саквояжем пассажира. На мешках сидели два его спутника в матросских плащах. Группа встречающих на берегу ждала прихода шлюпок. В стороне, заложив руки в карманы, стояли с видом глубочайшего безразличия двое портовых зевак. Когда гребцы первой шлюпки пришвартовались к причалу, эта парочка удалилась за штабель ящиков. Оба субъекта стали наблюдать из-за прикрытия за высадкой пассажиров. Таможенный чиновник пригласил прибывших в длинное серое здание на берегу. Он грубо толкнул одного из матросов, вытаскивавших на берег тяжелые мешки, но путешественник в индейской куртке отвел чиновника в сторону и сказал ему вполголоса несколько слов, упомянув имя сэра Фредрика Райленда. Лицо чиновника расплылось в улыбке. Он почтительно похлопал рукой увесистые мешки и удалился, оставив путешественника, матросов и их груз на опустевшем пирсе. На зевак, укрывшихся за штабелем, слова путешественника оказали магическое действие. Один из них с поклоном подошел к приезжим, другой побежал за извозчиком. Очень скоро багаж был погружен в коляску, приезжий занял место на сиденье, а его матросы стали на подножках экипажа. Оба неожиданных помощника остались следить за высадкой пассажиров второй шлюпки. На улице Портового Маяка экипаж остановился перед каменной аркой двухэтажного дома. Над аркой красовалась вывеска с изображением очень бурного моря и тупомордого кита в продольном разрезе, позволявшем созерцать внутренности животного. В области его желудка бесстрашный живописец поместил стол с бутылками и двух пирующих матросов. Дым от десятков трубок синими полосами вился под низким потолком таверны. На столиках гремели кости, звякали монеты. Кружки с элем*["54] опорожнялись тем быстрее, чем ближе день подходил к вечеру. Когда входная дверь открывалась, с улицы врывался в зал густой клуб холодного февральского воздуха. Морозный пар смешивался с табачным дымом, и свет закопченной люстры еле пробивался сквозь эти облака. За высокой буфетной стойкой, среди бутылок, оловянных кружек и тарелок с закусками, стоял хозяин таверны, человек, известный морякам всех пяти частей света. Рукава его блузы были закатаны и обнажали сильные волосатые руки с тяжелыми, как гири, кулаками. На груди висела серебряная боцманская дудка. Коротко постриженная борода иссиня-черного цвета обрамляла бледное, без единого пятнышка румянца лицо. Глаза глядели холодно и властно из-под тяжелых век. У стойки, справа от хозяина, всегда виднелась пара черных костылей. Уже пятый год шел с тех пор, как боцман Вудро Крейг потерял в морском бою ступни обеих ног и стал за стойку в купленном им небольшом трактире. Прежний хозяин этого заведения еле сводил концы с концами, но у Крейга дело пошло. Через год после перехода к новому хозяину трактир «Чрево кита» стал самым известным на западном побережье Англии. Бультонцы осведомлялись здесь о времени прихода любых кораблей; купцы обменивались новостями из всех стран мира. Моряки при помощи смазливых девиц спускали за два-три дня все, что зарабатывали в течение месяцев океанских рейсов. Капитаны вербовали здесь экипажи, а судовладельцы находили капитанов для кораблей. В душных номерах верхнего этажа, куда вино и блюда подавались молчаливыми исполнительными слугами-неграми, совершались всевозможные сделки между купцами, моряками и владельцами судов. Нередко эти совещания кончались пиром далеко за полночь. Подчас это бывали совсем особые сделки, когда один из договаривающихся развязывал мешок с золотом, а его партнеры прятали за пазуху оружие и выходили из таверны, низко опустив поля своих шляп и прикрыв подбородки плащами… На этот раз сам хозяин таверны, знаменитый и таинственный Вудро Крейг, выбрался из-за стойки, чтобы встретить путешественника в индейской куртке и его спутников. Матросы, прибывшие с этим моряком, сразу нашли множество собеседников в общем зале; тяжеленные мешки быстро очутились в самой нарядной из верхних комнат, куда Вудро проводил и путешественника. Дверь за ними захлопнулась, и приезжий сбросил свою широкополую шляпу, накрывшую сразу чуть ли не половину стола. – Ты вернулся вовремя, Джузеппе, – говорил хозяин таверны. – У нас в Бультоне стало неспокойно с тех пор, как Фернандо нанес Мак-Райлю свой визит. Райленд приказал взять под наблюдение всех приезжающих. Ты видел моих ребят в порту? Хлопот у нас прибавилось. Раньше мои люди работали на одного Райленда, теперь же у меня целое сыскное бюро. Три десятка частных агентов, понимаешь? Для полиции я ловлю воров и фальшивомонетчиков; для ревнивцев слежу за их женами; для предпринимателей нахожу соглядатаев; приходится выполнять и особые частные поручения… Это прибыльно! А нынче ночью меня вызвал сам полковник Хауэрстон. Ты слышал о нем? – О полковнике Хауэрстоне? Начальнике тайной канцелярии при военном министре? Разве полковник сейчас в Бультоне? – Прибыл нынче ночью с двумя офицерами штаба; остановился в «Белом медведе». Они давно ловят какого-то опасного проповедника. Он появился здесь недавно, чтобы сеять смуту среди рабочих. Зовут его Элиот Меджерсон.В Бультоне он стал главою тайного братства разрушителей машин, и полковник Хауэрстон всего на несколько часов опоздал к пожару «Бультонской мануфактуры». – Как, разве сгорела «Бультонская мануфактура»? – Не далее как вчера. Весь Бультон поднят на ноги. Хауэрстон просил меня помочь изловить Меджерсона и его «братьев луддитов». У Меджерсона есть помощник, кажется, не из здешних, очень ловкий парень. Я пустил по их следу моего компаньона Линса и самую опытную из ищеек – Куницу Френка. Помнишь его? – Бывшего картежного шулера? Помню! Скажи, Вудро, удалось тебе узнать что-нибудь новое о Фернандо? Райленд требует, чтобы Фернандо Диас был уничтожен любой ценой. – Он исчез из Бультона и, по-видимому, из Англии. – Фернандо, несомненно, имел здесь сообщников. Он охотился за Леопардом Грелли и должен появиться снова. Кто мог знать, что камень был у Мака? – Об этом мог догадаться Лоусон, бывший оценщик. Только он и видел алмаз в руках Мака. – Ты не пробовал прощупать этого Лоусона? – Это нелегко: он живет в порту и знает всех моих людей в лицо. Я советую тебе, Джузеппе, поселиться у него на несколько дней. Он сдает свой домик приезжим. Под видом чужеземца ты, быть может, что-нибудь и выведаешь у него. Отправляйся к нему сегодня же, в этом наряде… Теперь рассказывай, какие новости привез ты от Леопарда. – Он выручил хорошие деньги за партию негров. Мы с Джеффри продали их в Америке, более шестисот душ… Вот они! – И моряк указал на мешки. – Сегодня я доставлю эти мешочки в банк Ленди. «Глория» и «Доротея» пошли теперь в Южную Африку ловить кафров и зулусов. Леопард не любит проторенных дорог к Золотому Берегу или Гамбии; на африканском юге он возьмет негров дешевле, и это даст ему еще тысяч двадцать. Леопарду нужны деньги, он замышляет крупные дела. Будут строиться кирпичный и литейный заводы, новая суконная, новая хлопчатобумажная фабрика; «Бультонская мануфактура» должна вырасти вдвое. Да, вероятно, и верфь Паттерсона Грелли приберет к рукам, так же как и банк Ленди… – Что ж, в добрый час! Как поживает его леди? – Она вряд ли вернется в Ченсфильд. Там, наверно, вскоре появится другая леди, более покладистая. – Как же он думает разделаться с первой? – Или она получит развод, или… в море нередки несчастные случаи! Кстати, Джакомо велел тебе не спускать глаз с конторы Томпсона. – Я наблюдаю за ней в четыре глаза. Удалось купить адвокатского кучера Флетчера и старшего клерка конторы Дженкинса. С этим Дженкинсом, боцманом Бутби и капитаном Блеквудом я набираю матросню для «Окрыленного». Ты, Джузеппе, идешь на «Окрыленном» первым помощником. Можешь сегодня познакомиться здесь с твоим будущим капитаном, которого Джакомо сманил с «Крестоносца». Толковый моряк, но боюсь, что он набит честностью, как фаршированный желудок гречневой кашей. Тебе придется заняться его воспитанием. Нынче вы должны подписать ваши контракты в конторе Томпсона; там в шесть вечера ты найдешь управляющего компанией мистера Норварда и нового капитана – Блеквуда. Эх, поплавал бы и я с вами, да проклятые костыли держат меня во «Чреве кита», как пророка Иону*["55]… Сообщив все это, хозяин таверны заковылял на своих костылях вниз. В большом зале царило в этот день не обычное оживление. Как только хозяин занял место у стойки, матросы в одиночку и целыми группами стали подходить к этому алтарю таверны. Вудро коротко отвечал на приветствия, всматривался в стоящих перед ним и записывал некоторые имена в засаленную синюю книжку. Всем, кто удостаивался чести попасть на страничку этой книжки, открывался новый кредит. Остальные смотрели на них с завистью. После полудня в таверну явился новый капитан «Окрыленного», мистер Блеквуд. В отдельном номере он беседовал с каждым из членов будущего экипажа. Одним из первых к нему подошел худой человек с запавшими глазами и землистым цветом лица. Капитан бросил взгляд на его бумаги. «Джемс Кольгрев, рисовальщик и гравер», – прочел моряк. Он с сомнением взглянул на впалые щеки и худые руки гравера. – Вы давно оставили свою профессию, Кольгрев? – осведомился капитан. – Да, сэр, уже четыре года… Два последних года я плаваю матросом. – Что же побудило вас к этому? – Ах, сэр, это печальная история. Она разбила сердце моей матери. Мистер Крейг хорошо знает мою судьбу. Вудро Крейг действительно хорошо знал историю этого человека. Нужда и лишения заставили молодого мастера принять один частный заказ на изготовление некоего брачного документа. Заказ был выполнен, причем гравер Кольгрев столь успешно конкурировал с государственными органами, что изготовленный документ вполне удовлетворил и заказчика, и британские власти. Через некоторое время Кольгрев попытал свои силы на поприще конкуренции с денежным печатным станком и при первой же довольно наивной попытке угодил за решетку бультонской крепости-тюрьмы. Смехотворность попытки, семнадцатилетний возраст злодея и вмешательство важного заступника побудили судью вынести очень мягкий приговор; через два года Кольгрев оказался на свободе и явился в порт, чтобы предложить свои услуги любому капитану, который согласился бы увезти его подальше от Англии. Вудро Крейг узнал в порту бывшего гравера и, памятуя о документе, определил Кольгрева матросом на каботажное судно. Теперь Вудро почел за благо перевести Кольгрева в состав экипажа «Окрыленного». Боцман капера Джон Бутби и старший клерк конторы Томпсон тощий мистер Дженкинс протягивали морякам листы контрактов и большое перо. Не все моряки умели подписать свое имя, многие ставили крестики и кружочки, и тогда за них расписывался Дженкинс. Затем он скрипучим голосом читал слова контракта вслух, и моряк, не пытаясь вникать в туманные юридические формулы, отправлялся с узелком под мышкой в доки Паттерсона. Когда вечерние огни города приветливо замигали в туманном воздухе, весь экипаж «Окрыленного», насчитывавший более трехсот человек, был уже на борту, а капитан Блеквуд отправился подписывать свой контракт в контору Томпсона.2
Миссис Бингль собрала в узелок свежевыглаженное белье своего давнишнего клиента Эндрью Лоусона; повесив на двери замок, она направилась в порт, к его домику. Около дома она заметила коляску. Мистер Лоусон встречал нового постояльца. Прибыл он, вероятно, издалека. На приезжем был необычный кожаный костюм, украшенный бахромой и индейским узором. Багаж его заключался в большом черном саквояже. Прачка подождала у калитки, пока суматоха в доме уляжется. Когда пустой кеб отъехал, миссис Бингль постучала в окно. Сначала в комнате залаял пудель, потом открылась задняя дверь. Слуга хозяина выглянул во двор. – Мистер Лоусон занят, – сказал он. – Присядьте, миссис Бингль, и расскажите, что новенького слышно в городе. – Ох, Грегори, вы не поверите, какие удивительные вещи произошли нынче у меня на глазах! Вы знаете, несколько дней назад у меня тоже поселился постоялец, очень спокойный одинокий жилец, из приезжих… Плотина молчания, слишком долго сдерживавшая стихию женского красноречия, наконец прорвалась, и первой жертвой хлынувшего потока оказался Грегори. Миссис Бингль повествовала вдохновенно. Лицо ее раскраснелось, а в глазах зажглись искры. Она не просто рассказывала – она изображала в лицах все, чему была свидетельницей в комнате своего жильца… В соседнем помещении мистер Лоусон беседовал с новым постояльцем. Услышав голос миссис Бингль, Лоусон прервал беседу и покинул комнату приезжего, чтобы расплатиться с прачкой. Приезжий давно уже прислушивался к художественному повествованию за стеной. Вслед за Лоусоном он шагнул в кухню, где ораторствовала прачка. В этот миг миссис Бингль изображала с помощью узла с бельем и стула, как ее жилец, превращенный в шарманщика, покидал квартиру с юным Томасом. Новый постоялец Лоусона осведомился, не является ли миссис Бингль прачкой, присовокупив, что весьма нуждается в услугах такого рода. Миссис Бингль сделала нечто вроде реверанса, и приезжий пригласил ее в свою комнату. Он вручил ей несколько пар превосходного голландского белья, извлеченного из черного саквояжа, и уплатил вперед столь щедро, что прачка рассыпалась в изъявлениях благодарности. Приезжий сделал комплимент тонкости ее манер и выразил предположение, что миссис ввергнута в свое нынешнее скромное состояние несомненно лишь в силу неожиданных жизненных невзгод. Разумеется, уже через четверть часа приезжий был посвящен в биографию мастера Джона Бингля и его супруги подробнее, чем в дела своих ближайших родственников. Гибель мастера, вмешательство леди Эмили Райленд в судьбу вдовы и ее детей, сочельник у мистера Томпсона и, наконец, все события последней ночи были изложены приезжему столь же вдохновенно, как и предыдущему слушателю. Когда повествование дошло до ночного возвращения в нарядном камзоле ее жильца, мистера Ханслоу, глаза приезжего приняли сонное и безучастное выражение. Обставляя свой рассказ все более красочными деталями, миссис Бингль передала свои впечатления от предрассветного визита угрюмого старика, который вышел из квартиры в другом платье и оставил в комнате жильца не только обледенелую куртку, но даже часть своих волос. Наконец разговорчивая особа поведала усталому слушателю о необычайной трансформации*["56] самого мистера Ханслоу сначала в красавца перед зеркалом, а затем – в старого шарманщика. – И еще я забыла сказать, что мистер Ханслоу впервые снял перед зеркалом свою перчатку с левой руки, и я увидела его кисть: на ней одного пальца не хватает, а в перчатке этот палец просто набит ватой! – Куда же он повел вашего мальчика? – спросил приезжий сонным голосом. – Этого я не знаю, сэр. Голова приезжего стала клониться на грудь. Он взглянул на свою собеседницу помутневшим взором. – Простите, миссис Бингль, – сказал он, – вы доставили мне большое удовольствие своим рассказом, но я чувствую сильное утомление. Я охотно послушаю вас еще раз, когда вы принесете белье. До свидания! Мистер Лоусон, зашедший к постояльцу, застал его уже спящим в кресле. Посетовав на женскую болтливость, утомившую гостя сильнее, чем все проделанное морское путешествие, старик прикрыл дверь. Тем временем Грегори успел запереть калитку за прачкой. Веки постояльца слегка приоткрылись. Он посмотрел в окно и подождал, пока фигура миссис Бингль совсем скроется из виду. Тогда он встал и позвал хозяина. – Какая досада! – воскликнул он. – Эта болтливая баба так заговорила меня, что я забыл отдать ей еще смену белья! Я пойду сейчас по делам и кстати занесу ей сверток. Далеко ли она живет отсюда? – Чарджент-стрит, против Дома общественного призрения, в нижнем этаже. Это совсем близко. Разрешите записать ваше имя в книгу жильцов, сэр. Постоялец протянул ему свой морской патент. «Джозеф Лорн», – прочел хозяин. Имя это было ему совершенно незнакомо.3
Выйдя из калитки, Джозеф Лорн посмотрел на часы. Был шестой час. Ровно к шести Норвард и капитан Блеквуд ждали его в конторе Томпсона. Моряк подозвал кеб и вскоре очутился перед дверью «Чрева кита». Беседа с Крейгом на заднем дворе таверны отняла у Лорна всего несколько минут, и кеб со своим седоком покатился дальше по плохо освещенным улицам. Не прошло и получаса, как во двор Дома общественного призрения, крадучись, пробрался человек с карабином. Выбрав щель в заборе, выходившую прямо на одно из окон противоположного дома, человек просунул ствол карабина в щель и положил приклад на упор из двух палок. Запахнув полы плаща, стрелок неподвижно замер в своей засаде. Одновременно другой человек тихо вошел в подъезд, где жила миссис Бингль, и, спрятавшись за дверью чулана в темном углу под лестницей; высвободил из ножен кинжал. Едва эти приготовления были закончены, два других агента постучали в дверь квартиры. Узнав у хозяйки, что мистера Ханслоу нет дома, они бесцеремонно втолкнули миссис Бингль в его комнату; тут под угрозой пистолетных дул они предложили вдове не подавать жильцу никакого знака и спокойно открыть ему дверь, как только он вернется домой. – Ваш постоялец – государственный преступник, а мы – представители полиции, – сказал ей старший из обоих гостей, рыжеусый человек в низко надвинутой шляпе. – Только помощь в его поимке смягчит вашу собственную участь как соучастницы Роджерса-Ханслоу. Миссис Бингль вскрикнула и едва не лишилась чувств. – Не вздумайте падать в обморок, – предостерег ее тот же агент. – Вы должны впустить его в дом и запереть дверь. Остальное предоставьте нам. Убедившись, что вдова уже полумертва от страха, незнакомец в низкой шляпе обратился к своему спутнику: – Помните, Френк, нашу задачу: передать полковнику Хауэрстону только труп этого Ханслоу. Безногий предупредил, чтобы ни под каким видом этот человек не попал в руки властей живым. – Об этом не тревожьтесь, мистер Линс, – отвечал рыжеусому его товарищ.4
– Капитан Дональд Блеквуд, извольте скрепить контракт подписью. Итак, с нынешнего дня вы уже не старший офицер фрегата «Крестоносец», а капитан капера «Окрыленный». Разрешите вас поздравить и пожелать… – Я не опоздал, господа? Сейчас, вероятно, ровно шесть часов? – Садитесь, мистер Джозеф Лорн… Теперь как раз ваша очередь подписывать… Благодарю вас, джентльмены, и желаю вам удачи! Старый мистер Томпсон отложил в сторону бумаги, подписанные офицерами «Окрыленного». – Познакомьтесь с вашим первым помощником, капитан Блеквуд, – сказал Норвард, управляющий компанией. – Мистер Джозеф Лорн только сегодня утром прибыл из Америки – и уже снова на корабль! Такова жизнь моряка. Сегодня ночью мы с капитаном Блеквудом на месяц уезжаем в Лондон, чтобы получить в адмиралтействе каперский патент для «Окрыленного» и покончить с делами мистера Блеквуда на «Крестоносце». Два места в почтовой карете уже заказаны, вечером я буду ожидать вас, мистер Блеквуд, в гостинице «Белый медведь». А вам, мистер Джозеф Лорн, придется наблюдать за всем, что происходит в доках, пока корабль не покинет причал. На днях моряки с «Окрыленного» охраняли доки и предотвратили до вольно подозрительную попытку поджечь верфь. Мятеж в Бультоне назревал давно, но до сих пор нам удавалось с помощью людей мистера Крейга вовремя распознавать планы рабочих создать комитет и разгромить цехи, как это не раз делали восставшие ткачи Спитфильда. Новые машины вызывают их гнев, ибо опытных мужчин-мастеровых мы теперь оставляем в цехах вдвое-втрое меньше прежнего, заменяя их бабьем и ребятней. Это выгодно и помогает легко избавляться от недовольных и смутьянов. Но у бунтовщиков недавно появился опытный вожак, который научил наших ремесленников правильным тайным действиям, или, как говорят, конспирации. Так вот, пока мятеж рабочих Бультона еще тлеет под пеплом первого разгрома и пока еще не изловлен вождь луддитов Элиот Меджерсон, вам нельзя дремать, мистер Джозеф Лорн! До свидания, мистер Томпсон! Моряки и управляющий вышли из кабинета. Контора была пуста. Мистер Томпсон отпустил уже всех своих клерков, кроме одного писца в передней, но в общей зале моряки заметили довольно странную группу, ожидавшую перед дверью кабинета: мальчишка на скамье кормил орехами небольшую мартышку в платьице, старый шарманщик дремал, откинувшись на спинку скамьи. Шарманка стояла рядом, и старик придерживал ее левой рукой. На ней не хватало безымянного пальца… Лорн шел последним. При взгляде на шарманщика он резко остановился от неожиданности, и бродячий музыкант поднял на него глаза. Два взгляда встретились, смертельная ненависть сверкнула в обоих… Не успел еще Лорн опомниться, как шарманщик одним движением сорвался с места и распахнул дверь кабинета, откуда только что вышли офицеры. Очутившись за дверью, он с силой захлопнул ее, дважды повернул ключ в замке и накинул крючок. Кошачьим прыжком шарманщик отпрыгнул в глубь кабинета, где Уильям Томпсон, стоя на корточках перед шкафом, укладывал на полку подписанные контракты. В дверь уже сыпались сильные удары. Джозеф Лорн изо всех сил налегал на нее снаружи. Норвард и Блеквуд даже не заметили, что Лорн отстал. Они не обратили внимания на его отсутствие и при посадке в экипажи. Под окнами адвоката уже застучали подковы и заскрипели по снегу железные шины. Дверь кабинета сотрясалась от толчков и ударов. – Боже мой, это вы, мистер Роджерс! – пролепетал испуганный адвокат, когда незнакомец, так неожиданно очутившийся в его кабинете, сбросил плащ и шляпу. – Тише, мистер Томпсон! Оставляю вам сверток для леди Эмили Райленд. Никому не показывайте его, слышите? В нем письмо и драгоценность в четыре тысячи гиней… Вероятно, миссис Бингль проболталась и выдала меня… Молчите о пакете, чтобы Джузеппе Лорано сейчас ничего не заметил! Удары в дверь становились все оглушительнее. Из приемной прибежал писец и стал помогать моряку. Вдвоем они высадили наконец массивную дверь. Мистер Томпсон растерянно глядел на распахнутое окно своего кабинета. Морозный зимний воздух врывался в комнату. Джозеф Лорн бросился к окну и выглянул с высоты второго этажа. Он увидел внизу свежие следы конских подков и колес, а в глубине улицы – темную фигуру бегущего человека, завернувшего в ту же минуту за угол. Моряк отскочил от окна и ринулся назад, в общую комнату, где за барьером еще сидел бледный, растерянный мальчуган. Он выпустил из рук цепочку от ошейника обезьяны, и зверек, скорчившись на спинке скамьи, с любопытством осматривал обстановку канцелярии. Джозеф Лорн схватил мальчика за руку, чтобы подвергнуть допросу. В этот миг обезьяна, словно и ей передалось царившее среди людей волнение, сделала огромный скачок и очутилась на шкафу, под которым Томас Бингль силился освободиться из рук моряка. Мистер Уильям Томпсон вбежал в канцелярию в тот момент, когда со шкафа прямо на Лорна обрушился пыльный гипсовый бюст Цицерона. Столкнув бюст, разлетевшийся вдребезги, обезьяна перескочила на люстру и, сильно раскачавшись, повисла на одной руке. Она держалась за обод люстры и прицеливалась, куда бы прыгнуть дальше. Ушибленный в плечо, Джозеф Лорн выпустил из рук мальчишку, в ярости схватил большой кусок отколовшегося гипса и запустил им в обезьяну. Снаряд угодил не в животное, а в качающуюся люстру. Зазвенел разбитый абажур, горящее масло полилось на стол. Сукно и папки на столе затлели. Обезьяна перескочила на полку. В комнате сделалось темно, но Микси схватила с полки какие-то документы и швырнула их в горящую на столе жидкость. Бумаги вспыхнули ярким пламенем и, словно факел, осветили метавшихся по комнате людей. Мистер Томпсон, клерк и Джозеф Лорн бросились тушить огонь. Им удалось заглушить пламя, набросив на него ковер и сорванные портьеры. В этой суматохе Томас Бингль ухватил наконец цепочку зверька и опрометью выбежал с ним на улицу. Когда он приплелся домой, тетя Полли, их соседка, открыла дверь. Мальчик не узнал квартиры. Все вещи в комнате были перерыты, белье из комода валялось на полу, а сама миссис Бингль стояла посреди этого хаоса, прижав руки к подбородку и неподвижно уставившись в одну точку. Увидев обезьяну в руках мальчика, она закричала диким голосом, взмахнула руками, словно защищаясь от привидения, и, как сноп, повалилась на кучу хлама, разбросанного на полу.Поздним вечером старый бультонский банкир мистер Сэмюэль Ленди заперся в подвале своего банка, где в прохладном сумраке стояли шесть грузных, как слоны, металлических шкафов. Вдвоем с казначеем банка мистер Ленди при свечах еще раз пересчитал золото и ассигнации, высыпанные из двух кожаных мешков. – Ровно десять тысяч фунтов золотом и на четырнадцать тысяч ассигнациями, – сказал казначей. – Все ли они идут на текущий счет мистера Райленда? – Нет, по его распоряжению пять процентов этой суммы зачисляется на счет мистера Джозефа Лорна, – отвечал хозяин. – Этот вклад – первые результаты экспедиции «Ориона». О, заокеанские экспедиции Райленда, по-видимому, обещают многое впереди! Мистер Ленди подсчитал что-то в своем блокноте, вздохнул и, захлопнув дверь денежного шкафа, отправился на покой.
Шотландец клерк мистер Арчибальд Стейболд за короткий срок успел надоесть всей прислуге «Белого медведя». Постоялец был сумрачен, не отличался щедростью и постоянно изъявлял желание «покинуть этот вертеп порока». В течение двух суток он сидел в одиночестве, запершись в своем тесном номере, не принимая никаких гостей и не делая никому визитов. Только один раз этот угрюмый жилец велел трактирному слуге окликнуть на улице и позвать в номер какого-то юношу, которого постоялец заметил из своего окна. Старый клерк быстро надел меховой плащ и вместе с юношей покинул гостиницу. В сопровождении своего юного спутника, которому на вид можно было дать лет пятнадцать, мистер Стейболд отправился в сторону порта. Узкими окраинными улочками они вышли к предместью, пересекли пустырь, покрытый снегом и мусором, и спустились по крутой тропинке к самому морю, где прибой ворочал каменные кругляки. Старик с привычной осторожностью огляделся по сторонам и обнял юношу за плечи: – Здесь один Бог слышит нас с тобою, мой сын! Я рад, что судьба привела тебя под мое окошко и я снова могу побеседовать с тобою. – Мне нельзя отлучаться надолго, учитель: я послан из конторы в город за покупками и должен скорее принести джентльменам их заказы… Но я, конечно, тоже очень рад снова видеть вас, мистер Меджерсон… – Тсс! У меня теперь другое имя. – Могу ли я быть чем-нибудь полезен вам и… делу свободы? – добавил юноша, краснея и смущаясь. – О мой Джордж, в нашей борьбе важна всякая помощь! Если собрать все наши слабые усилия и соединить в одно, мы можем сдвинуть горы… Прочел ли ты книги, что я тебе дал? – Да, мой учитель, я их прочел и хорошенько спрятал. Их никто не видел у меня. – Ты поступил разумно, ибо книги эти запрещенные. Они учат справедливой жизни и любви к ближнему; в руках борцов за правду они клинок, который пробьет кольчугу зла! Возмужав, ты, Джордж, должен будешь взять в руки этот клинок, потому что разум твой ясен и душа чиста. Ты – сын людей труда, не так ли? – Да, моего отца задавило на фабрике, а мы с братом Томом погибали на верфи, пока нам не помогли добрые люди… Учитель, я очень хочу скорее вступить в ваше братство. – Ты, мой сын, еще слишком юн, чтобы брать на себя столь тяжкую клятву. Но со временем, когда ты на деле докажешь свою готовность к жертве ради равенства всех людей, ты станешь не только членом братства, но, быть может, и его вожаком, заменив того, чей час пробьет! – Испытайте меня, учитель! – Одно поручение я дам тебе сейчас же: подыщи мне в городе небольшую квартиру поближе к окраине, где живут рабочие верфи и мануфактур. – Это я исполню с радостью. А мне вы дозволите приходить к вам? – Да, мой сын, там мы будем часто видеться. – Но это же слишком легкое поручение! Доверьте мне что-нибудь трудное, опасное. – Сын мой, коли хочешь знать, опасно даже говорить со мной, опасно стоять рядом со мной здесь, у этих шумных волн. Но у меня есть для тебя и еще одно, настоящее, трудное поручение. В борьбе за правду и свободу оно немаловажно. – В борьбе за правду и свободу!.. Мне кажется, я сумею умереть за это! – Жизнь – это высший Божий дар, и отдавать ее нужно подороже. Не погибель, а победа – вот наша цель… Так вот, поручаю тебе: неторопливо, настойчиво, терпеливо собирай все, что сможешь узнать о… злейшем враге тружеников Бультона, о владельце «Северобританской коммерческой компании». Его окружает какая-то важная тайна. Братству нужно проникнуть в нее, чтобы успешно бороться с этим слугою дьявола. Имя этого человека… – Я знаю. Это виконт Ченсфильд!
5
Полковник Хауэрстон отложил томик Стерна, набил трубку и пустил колечко дыма в угол комнаты. В гостинице «Белый медведь» наступила тишина. Ночной почтовый дилижанс, оттрубив под окном полковника, уже двинулся дальше и, вероятно, катился теперь по заснеженному тракту. Замерли и шаги слуг в коридоре; из нижнего этажа более не доносился стук посуды, и лишь беспокойный сосед полковника, занимавший небольшой номер рядом с просторным покоем Хауэрстона, еще брюзжал и копошился за стеной. Этот ворчливый клерк какой-то шотландской фирмы бранил слугу и проклинал офицера-моряка, занявшего вместе с управляющим «Северобританской компании» два последних свободных места в дилижансе. – Ни одного дня не останусь больше в вашем вертепе! – негодовал старик. – Я немедленно покину это блудилище, где хозяин-безбожник нарочно устраивает все так, чтобы жилец не мог вовремя уехать! Пусть он не воображает, что, продержав меня здесь лишние сутки, он выманит еще денег за постой! – Хэллоу, мистер Стейболд! – крикнул полковник, которому надоела брань за стеной. – Что привело вас в такое негодование? Зайдите ко мне и остудите свою злость глотком недурного хереса! Стейболд, в длиннополом меховом плаще, вошел в номер полковника, продолжая изливать свою досаду. Хозяин пригласил его к столу и придвинул стакан. За вином между соседями завязалась беседа, и негодование старого клерка несколько улеглось. Он сухо поблагодарил полковника и ушел к себе, отказавшись, по дружескому совету Хауэрстона, от своего намерения покинуть гостиницу. Полковник уже собирался раздеться и потушить свечу, как денщик принес письмо, только что доставленное посыльным от Вудро Крейга. Хауэрстон пробежал глазами листок, накинул халат вместо уже снятого мундира и спустился на первый этаж, где квартировали сопровождавшие его офицеры. Одного из них, капитана Бредда, полковник застал за составлением донесения министру. Офицер поднял на своего начальника усталые глаза и, уловив скрытое торжество и радость в лице Хауэрстона, спросил: – Уж не получены ли новые вести о Меджерсоне, господин полковник? – Я недаром обратил внимание на своего соседа! – отвечал тот. – Сейчас я получил подробности допроса этой дуры Бингль. Ее жилец Ханслоу, агент Меджерсона, пока ускользнул. Но не далее как вчера утром этот самый Ханслоу помог Меджерсону изменить свою внешность и превратиться в шотландского клерка. Так вот: мой сосед и друг шотландский клерк Арчибальд Стейболд – не кто иной, как вожак луддитов Элиот Меджерсон! Вы немедленно установите за ним строжайшую слежку, мы накроем одним ударом всю его шайку!Ранним утром следующего дня из ворот бультонской верфи торопливо вышел юноша лет пятнадцати в чистой куртке и синем суконном берете с пряжкой. Выпустивший его стражник ухмыльнулся, глядя вслед юноше, столь непосредственно выражалась на его лице радость свободе и возможности провести воскресный день дома. Неподалеку от ворот юношу окликнул уличный разносчик, предлагавший прохожим пирожки и булки. – Куда вы так спешите, молодой человек? Не купите ли вы себе что-нибудь на завтрак? Вы нигде не найдете товара лучше и свежее, чем мой! Юноша сдвинул берет на затылок, рассыпав по плечам золотистые кудри. Сунув руки в карманы куртки, он в раздумье остановился перед лотком. – Вот эти слоеные пирожки стоят по три пенса. Присядьте-ка на тумбу и попробуйте пирожок. Как вас зовут и что вы делаете на верфи? – Меня зовут Джордж Бингль. Я служу чертежником в конторе. – Я узнал тебя, Джордж, по сходству с твоим братом, – понижая голос, сказал разносчик. – Послушай, что я тебе скажу: у тебя дома несчастье. Юноша вздрогнул, пирожок выпал из его рук. – Ты не пугайся, твоя мать и брат здоровы. У них жил постоялец, по имени Ханслоу. Вчера вечером пришла полиция, перерыла весь дом и напугала твою мать. Они теперь по всему городу ищут вашего жильца. – А кто же он такой, этот Ханслоу? Разносчик наклонился к уху мальчика: – Он друг твоего брата Тома и скрывается от полиции, потому что он… сын свободы, понял? – Ханслоу – сын свободы? Он был вместе с луддитами, да? – Ты угадал! Ханслоу во всем доверился Тому, и Том хочет помочь ему бежать из Бультона… – Слушайте, а где сейчас Ханслоу? – Он спрятался. Вчера его чуть-чуть не поймали. Его ищут, и пока он должен на месяц скрыться из Бультона. Но он обязательно вернется. – Как же помочь ему? – Помоги ему тайком увидеться с Томом и никому не говори о нашем разговоре. – Что же передать Тому? – Скажи ему, чтобы через четыре недели, в четверг накануне первого марта, он один пришел сюда, вон в тот сад за домиком, к одиннадцати-двенадцати часам вечера. Ханслоу встретит его. – Ладно! Даю слово! Сегодня же передам об этом Тому, а больше никому не скажу ни звука.
Был уже полдень третьего февраля, когда сосед полковника Хауэрстона зашевелился в своей комнате. Совершив не спеша свой туалет, мнимый мистер Стейболд вышел из гостиницы. Он шел медленно, читая вывески и афиши, как человек, которому решительно некуда спешить. В руках он держал последний номер «Монитора». На углу улицы Святого Якова и Гарденрод начинался небольшой бульварчик. Меджерсон уселся на скамье и развернул журнал. Он увидел, что человек в сером плаще, шедший от самой гостиницы по другой стороне улицы, отвернувшись, рассматривает что-то в окне. «Шотландский клерк» пошел вниз по бульвару, ускоряя шаги. Серый плащ тоже быстрее замелькал в толпе. Старик неожиданно завернул в знакомый ему проходной двор, вышел на Гарденрод и, убедившись, что он обманул наблюдателя, приблизился к тумбе для афиш, построенной в виде гриба с конической шляпкой. Обойдя тумбу кругом, он нашел афишу местного цирка. В левом верхнем углу этой афиши синим карандашом было начертано несколько значков и цифр. Этими иероглифами Фернандо извещал своего соратника о крайней опасности. Они означали, что Меджерсон раскрыт, взят под наблюдение и должен, не теряя ни часа, спасаться бегством. Вождь луддитов окликнул кеб и с предельной скоростью, на какую только была способна извозчичья кляча, покатил по безлюдным переулкам. Остановив экипаж у ворот какого-то дома, он пересек двор, перелез через забор и вышел на другую улицу. Окончательно убедившись, что наблюдатель отстал, старик снова взял извозчика и поехал на окраину города, откуда начиналось загородное шоссе. Пешком он добрался до крайних домиков на берегу. Перед домом сушилась рыбацкая сеть. Это был тайный знак, по которому Меджерсон понял, что здесь, в последнем и наиболее тщательно скрытом убежище братьев, все обстоит благополучно. Пристанище это Меджерсон берег на случай крайней опасности. Старый рыбак-ирландец встретил Меджерсона на заднем дворе. Они молча пожали друг другу руки, и рыбак проводил гостя в крошечную каморку за печью, настолько незаметную, что даже при тщательном обыске было очень трудно обнаружить этот тайничок. Здесь Меджерсон осмотрел свои карманы, проверив, на месте ли деньги и документы. Убедившись, что, выходя из гостиницы, он не оставил в комнате ничего ценного и важного, Меджерсон скрючился в своей темной норе и проспал до самого вечера. Вечером он услышал голоса в доме. Сын хозяина, крепкий детина лет двадцати трех, вернулся из города. Оба рыбака и старуха, молчаливая, как и ее супруг, позвали Меджерсона ужинать. Ставни на окнах были закрыты. На простом некрашеном столе горела свеча и стояли миски с вареными бобами и свининой. Меджерсон попросил старика принести спрятанные припасы. Подняв половицу в углу, ирландец вытащил из-под пола плоский, довольно тяжелый ящик. – Отнеси это в тот садик у порта и спрячь в условленном тайнике. Когда Ханслоу вернется, он найдет там этот ящик; вещь эта окажет ему добрую услугу. Это подарок ему от нас за помощь. А мне придется пока перебраться в Ирландию, в Бельфаст. Там меня спрячут ваши «Дубовые сердца»*["57]. Глубокой ночью, когда над морем опустился туман, от берега отвалил небольшой рыбацкий баркас. Под сложенной на корме сетью самый внимательный глаз не смог бы различить человека. Управляемый старым рыбаком и его сыном, баркас взял курс к берегам Ирландии.
6
Накануне 1 марта, когда все ученики пансиона мистера Чейзвика уже лежали в постелях, Томас Бингль, укрывшись с головой одеялом и затаив дыхание, ожидал ночного обхода. Дортуар*["58], где спали мальчики, находился на втором этаже. В одиннадцатом часу вечера раздались шаги на скрипучей лестнице. В дортуар вошла миссис Чейзвик, сухопарая, длинноносая особа с плоской грудью. Очки ее в тонкой стальной оправе, казалось, вот-вот должны сползти с острого кончика носа. В руках у нее была свеча в бумажном колпаке. Она прошла по проходу между восемнадцатью кроватями, притронулась к двум-трем скрюченным под одеялами фигурам и, постояв у дверей, удалилась в нижние комнаты. Там рядом с двумя классными помещениями находилась квартира самого мистера Чейзвика. Едва шаги миссис, внушавшей ученикам больше страха, чем сам педагог, утихли в глубине дома, Томас Бингль поспешно натянул под одеялом свою одежду. По скрипучим ступеням лестницы и шатким половицам нижнего коридора мальчик пробрался в одних шерстяных носках, держа башмаки в руке. Внизу Томас присел на корточки перед дверью каморки, где хранилась верхняя одежда учеников. Мальчик всунул в дверной замок маленький крючок, свитый из железной проволоки, и, орудуя этим прибором, открыл дверь. Отыскав свою куртку, подбитую ватой, и напялив ша почку с пристегнутыми наушниками, мальчик добрался до дверей в кухню. Выйти наружу Томас мог лишь через квартиру мистера Чейзвика или через кухню. В тесном темном чулане спала кухарка, а рядом с выходом, у задней калитки, жил в отдельной пристройке сторож. На цыпочках мальчик миновал темную кухню и нащупал в сенях дверной крючок. Дверь скрипнула, и Томас Бингль очутился на дворе. Соборные куранты вдали дважды отзвонили свою мелодию, затем колокол ударил один раз: отбил половину двенадцатого ночи. Во дворе мальчик обулся. Озираясь на окошко сторожа, он выскочил за калитку и бегом припустил по темным задворкам и закоулкам к верфи. На территории доков было темно, но вдоль длинного забора горели на редких столбах фонари, озаряя верхний край дощатой ограды, утыканной железными шипами. По углам забора стояли часовые. У ворот прохаживался стражник. Патруль из четырех солдат со старинными алебардами вышел из ворот и отправился в обход, освещая талый снег ручным фонарем, прикрытым от ветра жестяным щитком. В темном садике одного из ближайших к верфи домов мальчика ожидал его друг, Метью Ханслоу. – Ты пришел, Том! Молодчина! Я уж начал тревожиться… Ты нужен мне нынче для важного дела! – Что я должен делать здесь, дядюшка Метью? – Не торопись. Подождем, пока патрульные вернутся с обхода. Сейчас я объясню тебе нашу задачу… Скажи, ты хорошо знаешь это место? – Еще бы не знать! За этим забором – доки мистера Паттерсона… Вон крыша кузницы, рядом с нею – чаны со смолою, дальше – склад с инструментами, а за ним – помосты, где заложены корабли… – Том, а ты знаешь, для кого Паттерсон строит эти корабли? – Для сэра Фредрика Райленда… Он главный заказчик. Джордж говорит, что на кораблях будут возить рабов в Америку. – Да, корабли эти понесут в мир много зла… Они нужны Паттерсону и Райленду для разбоя в море, для торговли живыми душами людскими… Фредрик Райленд, ченсфильдский паук, – мой злейший враг, но он враг и всем простым добрым людям… Ты лучше меня знаешь, Том, сколько их погибло на этой верфи! Помнишь беднягу Майка, раздавленного, когда спускали «Окрыленного»? А сколько калек вроде беспалого Паткинса выкинул на улицу мистер Паттерсон! Сколько бедных ребятишек вроде тебя страдает на этой проклятой верфи!.. Том, я намерен спалить ее, спалить всю к черту, как «Бультонскую мануфактуру»!.. Хочешь помочь мне? – Да! – Видишь этот ящик? Он довольно тяжел. В нем – часовой механизм с колесцовым замком*["59] и… крепкая начинка. Надо пробраться на верфь и спрятать наш гостинец под днище корабля, заложенного в среднем доке. Рядом положишь вот эту бутылку… Потом прикрой ящик и бутылку стружками, просунь под них руку и поверни вот этот рычажок на ящике. Если там затикает, как в часах, то скорее беги сюда, ко мне. Если не затикает, встряхни ящик, только легонько… Скажи, в школе никто не заметил, как ты ушел? – Нет, никто. – И ты сможешь незаметно вернуться? – Попробую. – Молодчина, Том! И еще: знаешь ли ты корабль «Окрыленный»? – Знаю. Он сейчас стоит на причале, под самой верфью… Только… на нем уже есть команда. – Да, ее-то и берегись. Смотри, чтоб тебя не заметили с этого корабля… Вон обход возвращается, теперь пора!.. Здесь, в заборе, я вынул доску. Лезь в дыру. Я просуну тебе ящик и сам буду дожидаться тебя здесь. Сквозь щель я буду следить за тобой. Когда пойдешь назад, держи направление вот на этот фонарь, дыра в заборе чуть правее его… Постарайся никому не угодить в лапы… А уж коли схватят… я тебя выручу! Только… ты не забыл адрес сына Бернардито? – Нет, не забыл. Давайте ящик, дядюшка Метью… Мальчик прополз в отверстие, проделанное в заборе. Фернандо просунул ящик, и Том, закряхтев, потащил его в темноту, где на фоне серого ночного неба слабо вырисовывались силуэты лебедок и строящихся кораблей. Припав ухом к щели в заборе, испанец не слышал ничего, кроме шороха ветра в голых ветвях садика. Где-то на причале, вероятно на борту «Окрыленного», раздался перезвон корабельных склянок, и соборные часы, словно в ответ, пробили полночь. Фернандо стоял у забора, прижавшись к столбу. Ближайший фонарь качался над забором в полусотне шагов, и тень от столба прикрывала фигуру испанца. Патруль, обойдя верфь, снова вернулся к воротам. Солдаты ушли погреться в караулку. Где-то лаяла собака. Минуты текли томительно медленно. Кругом стояла тишина, и редкие, далекие звуки собачьего лая не нарушали, а словно подчеркивали эту глухую ночную тишь. Внезапно во мраке, где над причалом вздымались мачты «Окрыленного», раздался окрик. Фернандо силился сквозь щель вглядеться в темноту. Он попытался кинжалом раздвинуть доски; крепкое дерево не поддавалось. Свет фонарей замелькал среди высоких помостов с кораблями. Послышался топот кованых сапог. Испанец уперся коленом в бревно, ухватился за шипы забора и, подтянувшись на руках, взглянул поверх ограды. Он увидел мальчишку, стремительно бежавшего к забору. Но мальчик ошибся в темноте и спешил, спотыкаясь, прямо на фонарь! За мальчиком тяжело бежал моряк в широкополой шляпе и индейской куртке; он держал в руках длинный карабин. Преследователь был еще далеко от мальчика, но тот заметался перед забором, не будучи в силах разыскать спасительную дыру. Фернандо колебался лишь мгновение. Одним прыжком он очутился внизу, под забором, на той стороне. Мальчишка отпрянул, но, узнав испанца, бросился к нему. Фернандо успел подхватить мальчика; он вскинул его на верхний край забора, и Томас Бингль, перемахнув через острые шипы, в полубеспамятстве скатился в садик и опрометью пустился бежать по задворкам. Его спаситель выстрелил из пистолета навстречу приближающемуся врагу. Тот опустился на одно колено и вскинул карабин, в то время как испанец, ухватившись за железные шипы, напрягся, чтобы перескочить через них. В тот же миг в глубине верфи что-то ухнуло и глухо прокатилось по всей округе. Багровый сноп поднялся к небесам, и десятки огненных змей заструились в темноте ночи, озаряя ее вспышками, искрами и жадными языками пламени. Порывистый ветер подхватил летящие искры.Первый мартовский рассвет еще не занимался над Бультоном, когда лондонский дилижанс приблизился к городу. Норвард откинул занавеску от окна кареты и пристально всматривался во тьму, где влево от дороги темнели заснеженные деревья и строения Ченсфильда. Остальные пассажиры дилижанса мирно похрапывали на тряских сиденьях. Вдруг встревоженный крик кучера разбудил всех пассажиров: – В Бультоне опять пожар! Горит либо в порту, либо рядом с портом! – Гоните лошадей! – свирепо проговорил Норвард, вглядываясь в неподвижное зарево, охватившее полгоризонта. Тяжелая карета покатилась быстрее. Кучер поминутно стегал бичом по конским спинам, и вскоре под железными шипами дилижанса загремели камни бультонских мостовых. Норвард и Блеквуд, предчувствуя грозную беду, выскочили из кареты при виде первого извозчичьего кеба. – В порт! – крикнул Норвард. Заря уже занималась, когда мокрая лошадь, тяжело раздувая бока, рысью примчала кеб к порту. Пламя гигантского пожара, полыхавшего рядом с портовыми строениями, превратила ночь в багровый, страшный день. В море дрожали отсветы пламени. – Верфь Паттерсона! О черт! К верфи! Но подъехать к верфи оказалось невозможным. У ворот стояла густая толпа зевак, с трудом сдерживаемая цепью полицейских. Трое прибывших, оставив экипаж, бросились к воротам. Полицейские расступились, и Норвард с Блеквудом вбежали во двор. Огненный шторм бушевал над верфью. Стапели пылали. Струи воды от пожарных помп поднимались не выше чем до половины огненных смерчей и фонтанов. Кучка людей толпилась в стороне, у забора. Под самым забором лежал, широко раскинув руки, человек с простреленной головой. Над ним, опершись на карабин, склонился Джозеф Лорн, без шляпы, в обгорелой одежде. Голова его была обмотана окровавленной тряпкой. Когда Норвард подошел к этой группе, он ясно различил в багровом отсвете пожара, что на левой руке убитого не хватает безымянного пальца. Труп лежал вниз лицом; косо срезанные баки курчавились у висков. Норвард обвел взглядом верфь. За огненным шквалом нельзя было различить ни причального пирса, ни берега. От нестерпимого жара захватывало дыхание и слезились глаза. Ветер гнал в море тучи искр, и они гасли в свинцовых водах. – Корабль? – задыхаясь, спросил Норвард, трогая Лорна за плечо. Вместо ответа, Лорн показал рукой в море. Взглянув туда, Норвард и Блеквуд не смогли различить ничего, кроме полыхающего пламени. В следующий миг резкий порыв ветра отмахнул стену багрового дыма в сторону; далеко на горизонте все трое разглядели силуэткорабля, озаренного отсветом пожара. Через два часа, когда верфь Паттерсона представляла собой огромную груду тлеющих углей, на «Окрыленном» ожидали прибытия капитана и его помощника Джозефа Лорна. Их шлюпка качалась на мелкой волне у причальной стенки в порту. Блеквуд и Джозеф Лорн, пожав руку Норварду, уже стояли в шлюпке. Норвард в молчании смотрел ей вслед, пока шлюпка не скрылась за корпусом корабля. С далекого рейда донеслись звуки выбираемых якорных цепей. Вымпел взлетел над грот-мачтой. Корабль ожил, развернулся, и паруса, словно лепестки белых цветов, один за другим стали распускаться на реях. Наконец, освещенная первыми лучами солнца, белая громада корабля, покинув свою догорающую колыбель, тронулась в путь, навстречу неведомой и неверной судьбе.
8. Костер на ветру
1
Декабрьские грозовые ливни мыли палубу «Ориона». Океанские волны длиною в полгоризонта катились навстречу бригу, переламывались с шипением и плеском и с размаху ударяли в борт. Корабль стонал. В его глубоких, темных недрах все скрипело: дерево терлось о дерево, булькала вода, набиравшаяся в трюмах. Мачты звенели под многотонным грузом влажных парусов. С брезентовых курток команды текла вода; у матросов, вязавших на ветру узлы снастей, обламывались ногти. Но по-прежнему лейтенант Уэнт ежедневно отмечал на карте десятки миль, пройденных по курсу к одинокому острову; и по-прежнему бриг «Орион», зарываясь по самый бушприт в ревущую воду, шел вперед под многозвездными небесами или под лучами летнего декабрьского солнца, от которых мокрая палуба начинала парить, а в каютах сразу делалось жарко. Приближался сочельник. В кают-компании Доротея, Паттерсон и доктор Грейсвелл готовили рождественский стол. Помещение украсили коврами. Ветка омелы*["60], сорванная для рождественского праздника еще в далекой родной Англии, стояла в серебряной вазе посреди стола. Ричард Томпсон редко показывался на палубе. С молодым адвокатом произошла разительная перемена после памятного ему «семейного совета» в каюте Грелли. С того дня состояние глубокой подавленности не покидало Ричарда. Теперь вся прежняя жизнь казалась адвокату удивительно простой, чистой и безмятежной. Как изменилось все за такой короткий срок! С неумолимой ясностью Ричард понял, какую катастрофу он вызвал бы своими разоблачениями, не сулившими притом никакого успеха благодаря железной защите, созданной его противником. С тех пор Ричард стал лишь несколько внимательнее приглядываться к экипажу корабля, стараясь распознать среди матросов и офицеров тайных приближенных Грелли. После стоянки на острове Фернандо-По владелец «Ори она» сам нес вахту на мостике, заменив Джеффри Мак-Райля. На место выбывшего Джозефа Лорна Грелли назначил некоего итальянца, Джиованни Каррачиолу, принятого на бриг в качестве второго штурмана. Этого широкоплечего разговорчивого субъекта Вудро Крейг рекомендовал судовладельцу как «надежного и ловкого малого». Два матроса всегда находились поблизости от Грелли. Один из них – Энрико Рой, развязный субъект, не боявшийся на бриге никого, кроме Грелли. Другой, молчаливый и медлительный датчанин Оге Иензен, выделялся среди экипажа своим атлетическим телосложением, исключительной физической силой и туповатой исполнительностью. Однажды марсовый матрос Дик Милльс замахнулся на Иензена железной штангой толщиною в полдюйма. Датчанин вырвал штангу, злобно согнул ее, связал в виде двойного узла и швырнул Милльсу под ноги. Когда боцман показал этот узел пассажирам «Ориона», никто не хотел поверить, что он завязан человеческими руками. Грелли знал, что этот великан у себя на родине убил в драке четырех человек сразу и бежал от правосудия. Кроме ножа, Оге носил при себе гирьку на железной цепочке. В его руках это оружие было грознее шпаги. Такова была свита владельца «Ориона». …Лежа на своей узкой корабельной койке, мистер Томпсон-младший смотрел сквозь иллюминатор на разлохмаченную воду. По стеклу ползли дождевые капли; когда гребень волны обрушивался на борт, иллюминатор заливало водой, и в каюте делалось на миг еще темнее. Надоедливо скрипели доски переборок. Из кают-компании доносились голоса. Адвокат услышал, как сошедший с мостика Грелли обратился к доктору Грейсвеллу: – Ба! Ваши приготовления к празднику просто великолепны! Остается только положить на место подарки. – Ваш наследник уже спрашивал меня, что же принесет ему Санта-Клаус. – Всей команде нужен отдых и хотя бы маленькое развлечение, – заметил Грелли нарочито громко. – Люди утомлены. Рейс нелегкий. – Когда же мы достигнем цели плавания? – По расчетам Брентлея, около Нового года. Сочельник мы отпразднуем завтра в открытом море, а наступление 1773 года отметим, вероятно, уже на острове.Рождество! Люди с непокрытыми головами теснятся в кают-компании. Звуки маленьких клавикордов разносятся по кораблю. Торжественно звучит рождественский хорал: «О блаженная, радостная, благодатная пора!» Священник в черном облачении с белыми ленточками, ниспадающими на грудь, держит в руках Библию. Серебряный крест на его груди отражает огни свечей. Священник читает слова хорала, а команда поет их, куплет за куплетом. Леди Эмили в длинном бархатном платье сидит за инструментом. Ее горничная Камилла переворачивает страницы нот. Матросы сосредоточенны и серьезны. Каждый вспоминает детство, родные могилы, меньших братьев… Но не падают за окном хлопья снега, не дрожит в воздухе звон соборного колокола. Штормовой ветер свистит в снастях, шипят пенные гребни за бортом, и пол качается под ногами поющих. …В кубрике убрали подвесные койки и накрыли столы. Свечи озарили низкое помещение в его немудреном праздничном убранстве. Юнги разносили блюда. Дамы разливали вино и пригубливали оловянные кружки. Капитан Брентлей, знавший исстари, как мало интересовали хозяина нужды экипажа, еще в Бультоне удивлялся приготовлениям к этому рейсу. Были взяты запасы лучшего продовольствия, медикаментов, вин; людям обещали после рейса щедрое вознаграждение сверх жалованья. Грелли мягко обращался с командой, и его плетеная треххвостка, прежде частенько гулявшая по матросским спинам, за весь рейс не появилась на свет божий. Затянутая в шелковое платье, леди Эллен Стенфорд, всегда глубоко равнодушная к «простолюдинам», изображала на празднике «добрую фею» корабля. Наливая кружки матросам, она шутила с ними, расспрашивала о семьях, но красивые серо-зеленые глаза ее оставались при этом холодными и презрительными. Раздав команде подарки, дамы вместе с офицерами вернулись в салон. Началась «семейная» часть празднества. Антони ввел за руку маленького Чарли. В черно-синем кителе фламандского бархата поверх туфелек с золотыми пряжками и белой горностаевой шапочке на льняных кудряшках мальчик походил на сказочного принца старинных шотландских легенд. Ребенок, приведенный из полутемной каюты, жмурился от яркого света. Корабль качнуло, и маленький принц, не удержавшись на ногах, как мягкий шарик, покатился по ковру. Отец подхватил его на руки. Черты мальчика были тоньше и красивее отцовских, но сходство их было разительно. Из-за шелкового занавеса вышел Ольсен, старый боцман, одетый Санта-Клаусом. Он извлек из мешка великолепные подарки маленькому принцу и его «пажу» – Антони Ченни. Пастор Редлинг еще в Капштадте купил для своего крестника толстую книгу с цветными картинками. На них были изображены звери и птицы, деревья, корабли, созвездия, горы, храмы, замки, большие города, воины и жители дальних стран в их красочных одеждах. Книгу эту можно было перелистывать много раз и всегда обнаруживать в ней что-нибудь новое, прежде не замеченное. Леди Стенфорд надела на шею мальчику овальный золотой медальон с двумя внутренними миниатюрами на эмали, заказанными ею проездом в Лондоне итальянскому мастеру. Одна миниатюра изображала Чарльза на третьем году жизни. На другой стороне медальона помещался портрет его отца. Подписи гласили: «Чарльз Френсис Райленд, рожденный 5 июля 1770 года» и «Сэр Фредрик Джонатан Райленд, виконт Ченсфильд, рожденный 13 ноября 1738 года». Только под лупой можно было разглядеть подпись, сделанную искусным художником вдоль овального края медальона: «Исполнил в Лондоне 19 сентября 1772 года мастер Виченце Антонио Кардозо из Милана». Длиннобородый Санта-Клаус, опорожнив свой мешок, удалился. Антони был осчастливлен охотничьим ружьем с гравированной надписью: «Охотнику за носорогами». – Теперь моя очередь сделать маленький подарок сыну, – сказал судовладелец. Услышав эти слова, адвокат Томас Мортон достал из красной сафьяновой папки большую бумагу с печатями и гербами, раскрашенную топографическую карту, пачку документов и подал все это хозяину. – Господа! – обратился руководитель экспедиции к присутствующим. – Много лет назад я открыл в водах Индийского океана необитаемый и неисследованный остров. По указанным мною координатам Брентлей весной нынешнего года отыскал, обмерил и обследовал эту землю. Форма острова несколько напоминает череп хищного зверя. В юго-западной части острова есть огнедышащая гора. Кратер ее дымится; подземные толчки наблюдаются, но признаков недавних извержений не обнаружили ни я, ни капитан Брентлей. Остров отныне включен в заокеанские владения Британии. Губернатором острова морской министр назначил меня. Его величество король, по докладу министра, предоставил роду виконтов Ченсфильд преимущественные и льготные права на приобретение островных земель в личное владение. При участии юристов, мистера Мортона и мистера Томпсона, три месяца назад в Лондоне был совершен юридический акт – приобретение мною всех удобных земель на острове и передача прав на владение ими моему сыну Чарльзу. На картах Британской империи вновь открытый остров будет отныне называться именем своего первого владельца – Чарльза Райленда, наследника титула виконтов Ченсфильд. Цель экспедиции «Ориона», остров Чарльза, – вот мой рождественский подарок наследнику! В салоне загремели рукоплескания. – Взгляни на свои владения, мой мальчик, – ласково произнес глава экспедиции, водя рукою по разостланной карте. Ребенок сразу бросил новые игрушки и обеими руками потянулся к пестрой карте на столе.
2
Еще пять суток «Орион» боролся с волнами, преодолевая последние сотни миль до острова. Вечером 29 декабря Грелли, стоявший на вахте, увидел впереди по курсу корабля белый бурун. – Подводный риф справа по носу! – раздался окрик матроса с высоты марсовой реи. В подзорную трубу владелец «Ориона» успел разглядеть, что бурун, в отличие от катящихся гребней, пенится на одном месте, словно море там непрестанно вскипает от глубоко скрытого в его недрах огня. – Убавить паруса! – приказал Грелли. Капитан Брентлей уже спешил на мостик. Грелли молча указал ему на бурун. Капитан, в свою очередь, кивнул налево. Там, совсем близко от судна, в глубокой ложбине между двумя волнами, мелькнул и скрылся второй риф, еще опаснее замеченного. Вскоре новый бурун показался прямо по курсу. – Свистать всех наверх! Зарифить паруса! – загремел голос Брентлея. Шумя парусами, «Орион» пролетел мимо предательской подводной скалы. Вершина ее, с колыхающейся бородой из водорослей, походила на голову злого морского великана. Паттерсон, выглянувший на палубу в эту минуту, схватился за сердце, но матросы уже карабкались по вантам… Ход корабля упал до двух узлов. Брентлей указал кораблевладельцу отметки, сделанные им во время прошлого рейса. – Смотрите, мистер Райленд, в мае я прошел восточнее и нанес на карту всего два рифа. На этот раз мы попали в гряду подводных скал… До острова, вероятно, остается не более восьмидесяти миль… Наступила темнота. От лунного серпа пролегла серебряная дорожка к судну. Лот показал глубину около двухсот ярдов, и два якоря с грохотом ушли на дно. Дул ровный, теплый пассат. Волны зыбились плавно и величаво. Часа через два после полуночи Грелли поднялся на мостик и долго вглядывался в тьму. – Соберите команду на правой батарейной палубе и пригласите туда пассажиров, – приказал он Каррачиоле. Через несколько минут на тесном пространстве батарейной палубы сгрудились все сто человек команды. Пассажиры уселись на пустых бочонках из-под пороха. Корабельный фонарь освещал медные стволы пушек, сводчатый потолок, лица собравшихся и артиллерийское снаряжение, развешанное по стенкам. Грелли встал на орудийный лафет. – Друзья мои! – сказал он. – Наш корабль близок к цели плавания. До берегов острова Чарльза остается менее сотни миль. На этом острове вскоре возникнут плантации, и земли его обогатят новых колонистов. Есть ли среди вас охотники начать здесь новую жизнь? Я готов всемерно помогать моим колонистам как губернатор новой земли. По толпе прошел ропот. Матросы переглядывались. Несколько пожилых моряков несмело подняли руки. – Хорошо, я уверен, что колонисты найдут здесь свое счастье. Но, друзья мои, на острове сейчас имеется несколько обитателей. Один из них – пассажир французского судна, потерпевшего кораблекрушение в водах острова. У этого человека предполагалась проказа. Не исключено, что подозрение неосновательно и что человек этот может быть возвращен обществу. Кроме него, на острове замечено еще несколько жителей. Возможно, что это преступники, высаженные на необитаемую землю. Поэтому до тех пор, пока назначенные мною лица не убедятся, что общение с островитянами безопасно для нашего экипажа, ни один человек под страхом смерти не должен сходить на землю острова. За малейшую попытку сношений с островитянами я застрелю любого ослушника. С первыми лучами солнца мы тронемся в опасный путь между рифами. Отдых – в бухте Корсара на острове Чарльза! Сереющий рассвет заглянул через пушечные порты*["61] на батарейную палубу. Желтый свет фонаря померк в утренних лучах, и не успел еще Грелли сойти с лафета, как с высоты марсовой реи раздался возглас: – Земля!В первых рассветных лучах, будто вырастая из синих волн океана, показалась далеко на горизонте остроконечная вершина, похожая на узкое розовое облако. Нежно-лиловые пятна оттеняли склоны пика. Черными морщинками змеились полоски ущелий и теснин. Земля у подножия горы была еще скрыта за горизонтом. Матросы налегли на оба кабестана. Четырехлапые якоря, словно мокрые тела морских животных, показались из воды. Грелли, в сером плаще и большой треуголке, в морском мундире и ботфортах, замер на мостике, не отрывая глаз от подзорной трубы. В течение двух часов «Орион» лавировал в проходах между подводными скалами. Положив карту на нактоуз*["62], Уэнт отмечал рифы и делал записи в корабельном журнале. Наконец буруны остались за кормою брига. Очертания соседних с пиком холмов уже стали различимы простым глазом. Показался дымок над кратером вулкана, еле видимый на фоне облаков. К трем часам пополудни весь остров с его скалистыми берегами, темной щетиной вековых лесов, обрывистыми ущельями и зелеными склонами долин, как искусный макет, выполненный рукой кропотливого мастера, открылся взорам путешественников. Стал слышен глухой грохот прибоя… Вот показались и два выдвинувшихся в море мыса, что служили как бы природной защитой подступов к бухте, получившей от пионеров этой земли название «бухта Корсара». К бухте вел пролив, образованный скалистыми берегами обоих мысов. Этот естественный канал сужался местами до двухсот метров. От кораблеводителя требовалось немалое искусство, чтобы провести судно в бухту, тем более что при океанском отливе в устье канала обнажались торчащие зубья острых подводных скал. Ветер гнал в пролив мелкую волну. На трех полуспущенных парусах «Орион» в шестом часу вечера вошел в горловину канала. Скалы с мелкими хвойными деревьями в расселинах, орлы, покинувшие свои гнезда и парящие над мачтами, темная полоса у подножия скал, обозначавшая высоту прилива, узкие теснины и горные ручьи, мутные от дождевых потоков, напоминали некоторые бухты Адриатического побережья. Сузившийся пролив изогнулся влево… Маневр парусами и рулем… Спицы штурвала замелькали быстрее… Справа осталась песчаная отмель… Просторная бухта с плавной линией берегов, окаймленных кружевом пены, приняла корабль в свои зеленоватые воды. Густой лес стоял стеной за песчаной полосой побережья. Высоко над лесистыми предгорьями и альпийскими лугами царила над островом вершина скалистого пика. Горная речка, вырывшая в течение тысячелетий глубокую теснину, впадала в бухту несколькими рукавами. Мягкий и величавый ландшафт издали скорее напоминал Грецию или Италию, чем африканский остров. Только яркая зелень прибрежных зарослей у речки, экзотическая пышность лесной чащи, исполинские стволы деревьев и внезапно налетевший грозовой шквал, скрывший бухту и окрестности, напомнили людям на корабле, что они находятся на границе субтропического пояса. Шквал миновал так же неожиданно, как и налетел… От сильного всплеска брошенных якорей, грома якорных цепей и отрывисто-резких команд стаи птиц испуганно взметнулись над утесами. Пассажиры и матросы молча столпились на палубе. Даже черный Нерон, собака, развлекавшая команду в пути, перестала лаять на по тревоженных птиц… Грелли обводил взором свои новые владения. В этот миг из дверей кают-компании вышла с непокрытой головой леди Эмили. Матросы, привыкшие видеть ее в скромных платьях, без всяких украшений, ахнули от неожиданности. В ослепительном платье из белого атласа, с жемчугами на шее и усыпанной мелкими алмазами сеткой в волосах, она прошла в носовую часть палубы. Не глядя ни на кого вокруг, она легко поднялась на массивное основание бушприта*["63]. Волосы ее, убранные в красивую прическу, падали на плечи, румянец волнения горел на щеках. Она была так хороша, что казалась ожившей греческой богиней – покровительницей корабля, сошедшей в ослепительно-белом хитоне на оберегаемое ею судно. Ричард Томпсон смотрел на нее с тревогой и восхищением. Он один понимал, что происходило сейчас в душе молодой женщины! Остальные путешественники столпились на палубе. Стояла торжественная, напряженная тишина, словно все затихло, чтобы люди на корабле могли внять голосам неизвестных жителей этой земли. Но и на острове все так же молчало. Нигде не виднелось ни лодки, ни плота. Побережье казалось безлюдным. Лишь на дальнем берегу Грелли различил растянутую на кольях рыболовную сеть. Ни один звук, ни одно движение не выдавало присутствия островитян. Уже начинало смеркаться. Фиолетовые тени поползли из лощин и ущелий. Белые полосы тумана повисли над долиной и ручьем; высокий пик, розовевший в последнем солнечном луче, померк и сделался синим, а над зубчатой стеной дальнего леса замерцала первая бледная звезда. Грелли окликнул с мостика Томаса Мортона. Тот, заметно взволнованный, стоял на спардеке*["64]. – Мистер Мортон, поднимитесь ко мне. Передайте леди, чтобы она немедленно ушла с палубы. Пусть подождет меня в своей каюте… Постойте! Чем вы объясняете молчание на острове? – Может быть, он покинут обитателями? – Нет, они здесь. Сеть… На песке видны свежие тропинки. Сдается мне, что этот молчаливый прием означает объявление нам войны. – Быть может, из глубины острова они еще не успели заметить судно? – Не болтайте чепухи! Послушайте, кто же, в конце концов, по-вашему, двое спутников… этого… Не может ли один из них быть все-таки одноглазым Бернардито Луисом? – Что вы, сэр, мертвые не воскресают! Я своими глазами наблюдал, как Бернардито плыл, спасаясь от французов, и как после вашего выстрела он пошел ко дну с пулей между лопатками. От него до песчаной косы было не менее сотни футов! – Да, он, конечно, мертв… Очевидно, спаслись двое из команды. Так вот, Мортон, готовьтесь к высадке. Я опасаюсь засады и первым пошлю на берег вас. Дорогу к хижине вам объяснит Брентлей. – Боже мой, сэр! Прошу вас, ради Создателя… – Молчать! Пока ступайте к леди и проводите ее в каюту. Но через полчаса вы должны быть на берегу!
3
– Она! Нет никакого сомнения: это она! Человек в рваной шерстяной фуфайке отвел наконец сощуренный глаз от окуляра подзорной трубы, положенной на сплетения ветвей в густых прибрежных кустах. – Понимаете, Бернардито, он привез ее сюда! Вот чем Грелли хочет сделать меня сговорчивым. Ах, негодяй! – Не нужно горячиться, мистер Фред, – сказал, всматриваясь в трубу, другой человек, с черной повязкой на глазу. – Наш час настал, но, чтобы справиться с Леопардом, нужен хороший запас хладнокровия. Да, кажется, вы правы: белое платье около бушприта – это действительно мисс Гарди. На мостике я узнаю капитана Брентлея, а рядом с ним красуется мой дорогой помощник синьор Джакомо Грелли! Осторожнее, он глядит сейчас в нашу сторону. Эй, Педро! – Я здесь, капитан Бернардито! – Не дыми своей трубкой. Стой за деревом не шевелясь. Такой верзила виден дальше, чем Эддистонский маяк, а у Леопарда острое зрение. Об одном я жалею, мистер Фред: зачем вы помешали доброму Педро снять его пулей с капитанского мостика! Педро – великолепный стрелок, и он держал Леопарда на мушке минут десять, пока судно проходило самым узким местом пролива. Если бы вы не остановили его руку, у виконта Ченсфильда сейчас не было бы двойника! – Убийство из-за угла – разбойничий прием борьбы, Бернардито! Как ни бесчестны поступки Грелли, он все же сохранил мне жизнь, когда она целиком была в его руках, – сказал первый охотник, вновь приникнув к окуляру трубы. – Этим вы всецело обязаны мужеству мисс Гарди, а не великодушию Грелли. Вы еще видите ее на палубе? – Да, она стоит на прежнем месте и, кажется, смотрит сюда. Милая! Она, должно быть, встревожена нашим молчанием. А я даже не могу подать знак и успокоить ее! – Заметное белое платье надето нарочно для вас, мистер Фред. Ах, счастливец, скоро вы прижмете к сердцу свою бесстрашную подругу! – Удалось ли ей устоять, Бернардито, выдержать борьбу до конца? Пятый год она в его руках. Сколько пришлось ей вытерпеть! Лишь бы только судьбам нашим суждено было соединиться! – Мистер Фред, а ведь присутствие нашей леди на борту отчасти разрешает сомнения. Леопард не взял бы ее с собою, если бы намеревался попросту уничтожить вас. Значит, он прибыл для переговоров. Он, конечно, не догадывается, кто делит с вами одиночество на острове, иначе держался бы поосторожнее. – Бернардито, я больше не вижу белого платья. В трубе уже все сливается. Проклятая темень! – Зато мы можем выбраться из кустов! Слышите? С борта спустили шлюпку. Кажется, наступают решительные события. Начинался прилив. Волны накатывали на светлую полосу песка, превратившуюся в узенькую каемку на границе между лесом и водами бухты. Три островитянина, осторожно раздвигая сучья, вышли из кустарника. На его темном фоне они по-прежнему оставались невидимыми с корабля. Судно стояло в полумиле от берега, на середине бухты. На мачтах горели топ-огни, но окна кают и все иллюминаторы были прикрыты темными занавесками. Палуба была затемнена, и лишь над самой водой свисали с носа и кормы сильные фонари. Они освещали вокруг судна небольшое пространство воды: предосторожность против незваных ночных гостей. – Я слышу плеск весел, – сказал охотник в вязаной фуфайке. Его одноглазый собеседник размышлял вслух: – Шлюпка держит к устью речки… Вот что, джентльмены: нам с мистером Фредом нельзя обнаруживать себя преждевременно. Фреду нужно вообще соблюдать большую осторожность, чтобы не угодить в ловушку. А мое присутствие на острове – это такой сюрприз для Леопарда, что открыть его нужно с толком! Прием гостей придется поручить Педро. Ну, Педро, ты у нас превратишься в дипломата. Ступай к месту высадки, окликни их и веди по тропе в хижину. Мистер Фред будет следовать за вами по пятам и сам решит, выходить ли ему к гостям или держаться в отдалении. А я буду наблюдать за берегом: как бы не появилась новая шлюпка и вы не угодили бы в засаду… Держись вдоль опушки, парламентер Педро, и торопись: они уже высаживаются! Чернобородый великан, согнувшись и держа в руке длинноствольное ружье, выступил вперед и пошел навстречу одинокой фигуре, только что покинувшей шлюпку. Человек этот в растерянности стоял на светлой полосе песка, не решаясь сделать и шагу в сторону зарослей на берегу. – Эдак вы простоите здесь всю ночь, мистер Мортон! – раздался грубый голос другого человека, оставшегося в шлюпке. Это был гребец, доставивший к берегу посланца Грелли. – Хозяин приказал высадить вас и возвращаться на корабль. Когда лодка вам понадобится, кричите погромче. Часовые на борту услышат. Будьте здоровы, мистер Мортон! – Ба, мистер Фред! Оказывается, к нам пожаловал ваш бывший калькуттский атерни, – прошептал Бернардито. – А шлюпка уходит! Видите, я был прав: Грелли начинает с дипломатических переговоров. Разумеется, за ними нужно ожидать тайного предательства. Однако чертовски темно! И луны не будет! – Кто здесь? – прозвучал бас Педро, шагнувшего от опушки к берегу, как только затих плеск весел. – Посланец с корабля «Орион», прибывший с письмом к жителям острова, – ответил дрожащий старческий голос. – Ступайте вперед! – приказал Педро. Но тот, словно привязанный, оставался на месте. – Друзья мои, я стар, плохо вижу и не могу идти в такой темноте. Охотник в шерстяной фуфайке, оставив Бернардито одного, тоже приблизился к посланцу Грелли. – Возьми этого человека под руку, Педро, и помоги ему следовать за мной, – раздался его спокойный голос. – Узнаете ли вы меня, Мортон? В этот миг тишину ночи прорезал короткий женский крик с корабля. Резко прозвенев над водой, он отозвался эхом в долине. Мортон почувствовал, как вздрогнул подошедший к нему человек. – Что вы сделали с нею, проклятые?! – услышал посланец грозный шепот над самым ухом. Сильные руки схватили Мортона за плечи. Он узнал склонившееся к нему бородатое лицо, съежился и попятился назад, но оступился на мокром песке. Лепеча бессвязные слова, Мортон судорожно уцепился за сапоги островитянина.Задраенный иллюминатор был завешен черным платьем владелицы каюты: руководитель экспедиции отдал строгий приказ затемнить все окна, выходящие на палубу. Обхватив руками колено и положив на него подбородок, Грелли сидел в кресле, приняв позу духа зла Мефистофеля. Леди Эмили слушала его стоя, всем своим видом подчеркивая нерасположение к продолжительному разговору. Грелли, притворяясь, что не замечает ни напряженной позы, ни нетерпеливых движений собеседницы, взглянул ей в глаза и произнес тихим, задушевным тоном: – Вы удивительно хороши сегодня, мисс Гарди! – К вашим угрозам я привыкла, но комплименты ваши для меня невыносимы. Что вам угодно? – Эмили, нам нужно побеседовать спокойно. По-моему, вы должны быть заинтересованы в этой беседе. – Ради бога, говорите скорее и оставьте меня одну! – Вы несправедливы, мисс Гарди! Разве я когда-нибудь докучал вам своим присутствием? Разве вы не пользовались неограниченной свободой? Вы даже злоупотребляли ею против меня. Поверьте мне, Эмили, за эти годы я привык находиться под одним кровом с вами и наша близкая разлука… печалит меня! Я возвращаю вас вашему жениху, как прелестный нежный цветок, во всей его утренней свежести и чистоте. Вам не в чем упрекнуть меня, мисс Гарди! – Молчите, убийца! Я ненавижу и презираю вас, слышите? Вы пришли торговаться, лицемерный барышник, и в этой торговле я должна послужить вам разменной монетой! Говорите прямо, торгаш, каковы ваши требования к Фреду Райленду и ко мне? Грелли закурил сигару. – Я хочу, чтобы вы помогли склонить вашего избранника к благоразумию. Мортон отправился к нему с письмом. Я хочу надеяться, ваш островитянин найдет условия возвращения ему свободы весьма умеренными и примет их. Если же нет, то последнюю попытку образумить его придется предпринять вам. Вы напишете письмо и объясните ему последствия упорства. Вы их знаете: я объявлю облаву на прокаженных. У меня пушки, сотня матросов и некоторый опыт в таких делах. А их трое… Чем кончится эта схватка, вам, надеюсь, ясно? – Нет, Грелли, вы ошибаетесь. У них есть четвертый союзник – правота! Они найдут способы открыть глаза всем вашим сообщникам, и, уверяю вас, в наш лагерь перешли бы многие! – Эмили, допустите на миг невозможное: эти трое выдерживают неравную войну и возвращаются в Ченсфильд, пусть настоящий Райленд восстанавливает в Англии свои права… Но что ждет вас при подобном обороте событий? Вы же опорочены навеки! Может быть, официальный суд вас и оправдает, но леди и джентльмены будут на улице показывать на вас пальцами и приговаривать: вон бывшая жена и сообщница пирата и злодея Грелли! Если тот человек женится на вас, перед вами обоими закроются все двери. Для всего мира вы останетесь матерью Чарльза, ребенка Грелли! Английское общество оттолкнет вас, как пособницу пирата. Смотрите трезво на вещи, Эмили. У вас только один путь к счастью с любимым: потребовать, чтобы он принял мои условия. Этим вы спасете ему жизнь и для себя добьетесь свободы и счастья! Собеседница Грелли закрыла лицо руками и опустилась на стул. Лже-Райленд злорадно усмехнулся. – Прочтите мне письмо, которое повез Мортон, – произнесла Эмили. У нее дрожали губы. Грелли достал из кармана черновик своего послания. Он посмотрел на склоненную голову собеседницы, на глаза, полные слез, и, приблизив листок к свече, стал сухо читать:
«Жителю острова Мои условия: 1. Вы поставите свою подпись под документом, который исключит возможность каких-либо дальнейших претензий на известные вам права. 2. Под новым именем вы навсегда поселитесь вне пределов Великобритании. 3. Вы сделаете все возможное, чтобы передать в мои руки обоих ваших спутников. В случае согласия вы получите место на корабле и вместе с известной вам особой покинете его в любом порту между островом и Бультоном. Согласие сигнализируйте завтра, 31 декабря, с наступлением темноты, огнем костра на берегу.Ф. Д. Райленд.30 декабря 1772 года».
Плечи Эмили затряслись от рыданий. Грелли приписал своему красноречию эту вспышку горестных чувств девушки. Но она внезапно выпрямилась, вырвала записку из рук пирата, швырнула ее на пол и закричала ему прямо в лицо: – Зачем вы оставили меня в живых? Прощу ли я себе когда-нибудь, что стала в руках негодяя орудием против благородного человека? Чтобы спасти меня, он должен отказаться от своего имени и родины? Нет, нет, нет! Я умру, но не навлеку на него этот позор! – Мисс Гарди, значит, четыре года вы сохраняли его жизнь только для того, чтобы сегодня вынести ему смертный приговор? – Будьте вы прокляты! О, убийца, убийца! Я сейчас же выдам всем людям на корабле, кто вы такой! Она метнулась к дверям. Грелли не успел ее удержать и ринулся следом за нею в темный коридор. Дверь на палубу от толчка распахнулась. Около фальшборта, задумавшись, стоял Каррачиола. Грелли схватил руку девушки, силясь увлечь ее назад в коридор. Каррачиола поспешил ему на помощь, но двое сильных мужчин не сразу смогли оторвать другую руку от дверного косяка. Наконец они почти волоком потащили Эмили в коридор, и лишь ее короткий крик боли и отчаяния успел прозвучать в глухой ночи.
4
– Рассказывайте, Мортон! – Дайте мне глоток воды с вином, сэр! Благодарю вас! О боже мой, боже мой! Из открытого окна в каюту Грелли врывалась свежая струя утреннего воздуха. Она колыхала синие волны табачного дыма под потолком. Грелли, сняв мундир, полулежал на своей великолепной, но сейчас грубо смятой постели. Его ботфорты пачкали светло-коричневый шелк полога, складки которого были схвачены под потолком в виде красивого узла с большой кокетливой виньеткой рококо*["65]. Солнечные лучи из окна освещали каюту и очень злую физиономию ее хозяина. – Да говорите же, наконец! Прежде всего, сколько их? – Я видел двоих, но они совещались еще с кем-то, очевидно третьим. – Вы разговаривали с тем лично? – Да, сэр. – И объяснили ему состав участников экспедиции, численность команды, наше вооружение? – Да, сэр. – Что же он поручил передать мне? Вместо ответа, Мортон достал записку. Это было послание самого Грелли островитянам, но текст письма был резко перечеркнут карандашом наискось, и на чистом обороте листка тем же карандашом было выведено несколько строк. Грелли отвернулся к окну и прочел:«Пирату Джакомо Грелли, по кличке Леопард Мои условия: Немедленно высадить на берег мисс Эмили Гарди и убираться со своим кораблем ко всем чертям.Грелли вскочил со своего ложа. Обрывки записки разлетелись по полу. Накинув халат, он прошел в носовую часть и дернул ручку запертой двери в каюту мисс Эмили. Горничная Камилла впустила его. В каюте, кроме Камиллы, находились Паттерсон и Бетси, горничная леди Стенфорд. По их лицам было видно, что они провели ночь без сна. Эмили, укрытая пледом, лежала на своей постели за занавеской. – Убирайтесь все вон! – коротко приказал судовладелец. – Каррачиола! Позови Иензена и Роя. А вы поторапливайтесь! Перепуганная Камилла, прыткая Бетси и оторопевший Паттерсон, еще никогда не видевший главу экспедиции в подобном состоянии, ретировались чрезвычайно поспешно. Хозяин «Ориона» отдернул занавеску. Эмили, отвернувшись к стенке, лежала с открытыми глазами. Грелли наклонился над девушкой. Выражение его лица было бы способно устрашить целую шайку пиратов. – Послушай, ты! Я буду держать тебя в трюмном карцере. Там кричи сколько хочешь. Ты будешь объявлена буйнопомешанной, на тебя наденут смирительную рубашку. В карцере я по капле выпью твою кровь, а потом продам тебя работорговцам. Уже нынче я начну охоту за островитянами: все они будут перебиты до вечера. Оге, Рой, Каррачиола! Заткните ей глотку и несите, куда я велел. Через несколько минут три бандита спеленали Эмили пледом, как ребенка. Оге Иензен взвалил легкую ношу на плечо и пошел с нею по трапу в глубокий кормовой трюм. В самом дальнем и темном углу трюма находился еще один люк. Рой дернул за кольцо, и люк открылся. По железным ступенькам короткой лестницы Оге спустил свою ношу в черную дыру. Рой последовал за Иензеном в тесный колодец. Фонарь озарил окованную железом дверь с большим висячим замком. Рой отомкнул его и вошел в тесный, сырой карцер. На полу стояли мутные лужи. Их черная, глянцевитая поверхность чуть колыхалась, когда судно покачивалось на якорных цепях. Стены карцера хранили обильные следы засохшей крови. На полу валялись ржавые кандалы. Сбросив ношу на пол, Иензен и Рой вышли и повесили замок на место. Наверху за ними упала тяжелая дверь люка. Когда Эмили пошевелилась на полу и высвободила руку, две огромные крысы с писком заметались по камере и исчезли в подполье. В то же мгновение глухой, могучий удар справа сотряс корпус корабля. Вся камера задрожала, металл зазвенел, и дверь затряслась на своих петлях и запорах. Корабль качнуло, и лужи на полу залили плед, окутывавший ноги девушки. Через минуту новый удар, теперь с левой стороны, до глубины сотряс корабль. Он закачался сильнее. Эмили вскочила на ноги, но едва не упала, когда гул и грохот повторились с обеих сторон сразу. Девушка поняла, что батареи «Ориона» открыли огонь по острову.Фредрик Джонатан Райленд, виконт Ченсфильд,от имени и с полного согласия всего населения острова».
– Вот и ответ Грелли! Странно, в прошлый раз я не заметил на «Орионе» таких батарей. Смотрите, что делается с птицами, мистер Фред! Они поднялись со всех утесов. На палубе звучит колокол или гонг; очевидно, с его помощью Грелли управляет залповым огнем. Стреляют бомбами. Ого, два шлюпочных десанта… Нет, кажется, три! Ну, держитесь, мистер Фред: война! – Бернардито, я боюсь только за нее. Наш ответ привел злодея в бешенство. – Дорого бы я дал, чтобы видеть выражение его лица при докладе Мортона… Целят сюда! Берегитесь! В кусты упала бомба. Три человека пригнулись к земле. Сильный взрыв разметал камни и повалил деревце. Черный столб дыма вместе с обрывками вывороченных корней взлетел в небо. – Ну, кажется, это последний залп. Они прикрывали огнем высадку своих десантов. Смотрите, одна шлюпка держит сюда, а две пошли в пролив. Грелли хочет занять прибрежные скалы в проливе. Это неплохой маневр: он боится быть запертым в проливе. Если бы он знал, что у нас всего по три десятка зарядов и только два порядочных ружья, то действовал бы смелее. Вон в проливе люди уже высадились и карабкаются по склонам. А на третьей лодке я вижу Мортона и какого-то волосатого гориллу на веслах. Кажется, этот гребец стоит двух Педро, а? Фредрик Райленд с тревогой глядел на приближающуюся шлюпку. Она уткнулась в песок, и пассажир высадился. Озираясь по сторонам, он направился к пышному тутовому дереву, росшему в двухстах шагах от берега. Островитяне еще ночью приказали Мортону положить ответ Грелли в дупло этого дерева. Исполнив эту задачу, Мортон заковылял к лодке и весьма торопливо отбыл к кораблю. – Педро, принеси-ка нам сюда новое послание Леопарда! Бернардито сунул за щеку накрошенный лист бетеля, перемешанный с табачной пылью. – И табак кончается! Набейте трубку этими остатками, мистер Фред, и растянитесь на мху. Вероятно, ночью спать не придется… Вот и Педро с письмом. Читайте вслух, мистер Фред. Виконт Ченсфильд увидел на печати оттиск собственного фамильного герба и, вскрыв конверт с изображением корабля под созвездием Ориона, прочел:
– «Господа, с огорчением вынужден известить мистера островитянина и его друзей, что известная особа, весьма близко принявшая к сердцу его отказ от предложенных умеренных условий, одета сейчас в смирительную рубашку и находится в карцере для буйнопомешанных…»– А, каррамба! – вырвалось у Бернардито Луиса. – Они с самой ночи пытают ее, Бернардито! Вероятно, она отказывается поддержать его требования! Зачем я помешал убить его! – Это я вам давно говорил. Дочитывайте до конца, сэр Фредрик!
– «В своем безумии, – читал дальше виконт, – она угрожает самоубийством и намерена в полночь удавиться на рукаве смирительной рубашки, если перед полуночью не будет зажжен ваш костер на берегу. Приветственный салют уже дал вам некоторое представление о дальнейших последствиях упорства. В случае благоприятного решения вы будете доставлены на борт и после свершения необходимых формальностей получите свободу. Ваша доставка на корабль будет произведена втайне от экипажа, не считая надежных часовых. 31 декабря.Вы понимаете, Бернардито? Он угрожает убить ее уже этой ночью, а потом приняться за нас. Не попытаться ли открыть глаза его экипажу? Брентлей кажется мне честным человеком. Наверно, найдутся матросы… – Нет, мистер Фред, это, увы, невозможно. Пока лагерь врага не расколот, нам не удастся вступить в переговоры ни с людьми на корабле, ни с десантными группами, а времени для размышлений – всего несколько часов. Предлагаю вам другой выход: зажгите костер. – То есть принять его условия? Согласиться на отказ от отцовского имени, отчизны! Согласиться на то, чтобы Эмили сделать женой бродяги! – Нет, мистер Фред, пока я предлагаю вам только зажечь костер и отправиться на корабль. – Но Грелли на корабле либо просто задушит и меня и ее, либо мне придется пойти на все, что он мне продиктует. – Видите ли, внезапная смерть официальной жены и уничтожение таинственного островного жителя – это для него крайние меры: он не остановится перед ними, но ему все-таки очень хотелось бы избежать этого, чтобы не осложнять своего положения перед экипажем, пассажирами и властями. Грелли хочет заставить вас сейчас капитулировать, а впоследствии он, разумеется, постарается убрать вас обоих. Но против этого я приму свои меры… В войне с Грелли я не останусь безучастным зрителем и буду действовать одновременно с вами. – Объясните мне яснее свои намерения, мой друг Бернардито! – Видите ли, мистер Фред, если вы окажетесь вынужденным подписать капитуляцию и подтвердить перед пассажирами «Ориона» все хитросплетения, какие измыслят Грелли и Мортон, то я надеюсь, что это будет только временным отступлением, а не окончательным поражением. Сейчас нужно спасти девушку и обезопасить вас обоих на ближайшее будущее от какого-нибудь тайного маневра. Это я намерен сделать. Бернардито поднял записку Мортона, брошенную на курчавые завитки лесного мха, и медленно перечел вслух ее заключительные строки: – «Ваша доставка на корабль будет произведена втайне от экипажа, не считая надежных часовых…» Понимаете? Итак, мистер Фред, как только совсем стемнеет, зажгите костер, отправляйтесь на корабль и действуйте там, как подскажет благоразумие. Объясните Грелли, что мы отказались следовать с вами из страха перед правосудием. Скажите, что нас двое. Педро Гомеца вы назовите, а меня именуйте Бобом Акулой. Так звали нашего боцмана на «Черной стреле». Он был тоже пожилым, высоким брюнетом, как и я, только с обоими глазами… Ни под каким видом не выдавайте никому подземного тайника в горах! Вести от меня вы будете находить на нашем старом месте, под серым камнем. Помолчав, Бернардито пососал пустую трубку, сплюнул и положил руку на колено собеседнику. – Попытка моя опасная, и, может быть, мы в последний раз беседуем с вами, – договорил он, глядя в сторону. – Если я погибну, то и ваши шансы будут очень близкими к нулю: мы оба пойдем нынче на крупный риск. Проигрыш равнозначен гибели, а удача вернет нам жизнь и свободу. – Что вы задумали, Бернардито? – Мистер Фред, пираты заранее никогда невыдают того, что задумано. Это сулит неудачу. Желаю вам счастья! – А вам, Бернардито, ни пуха ни пера! Но не проливайте напрасно крови! – Кровь, по-нашему, самый дешевый сок в этом проклятом мире, господин виконт! Передайте мисс Гарди, что я решил и перед нею искупить старую вину. – Какую вину, Бернардито? – Отца ее убили все-таки мои молодцы. Сегодня этот грех снимется с меня живого или мертвого. Прощайте, Фред! И двое бородатых мужчин в лесной чаще крепко обняли друг друга.Томас Мортон».
5
Барометр предсказывал сильную бурю, и к вечеру Скалистый пик окутался облаками. С юга надвинулась темная туча. Она опустилась низко над островом, оставляя клубящиеся клочки на вершинах холмов и даже на реях корабля. Пассажиры брига весь день бродили по палубе, вглядываясь в спокойный ландшафт острова. Стало известно, что островитяне уклоняются от переговоров. Доктор Грейсвелл недоумевал, почему его не посылают освидетельствовать предполагаемых больных на острове, но мистер Мортон объяснил, что островитян, по-видимому, много; показываются они только в масках, настроены воинственно и враждебно, хорошо вооружены и хотят занять пролив, чтобы отрезать кораблю отступление в открытое море. Много толков среди пассажиров и команды вызвал ночной крик женщины на корабле. Леди Стенфорд объяснила, что кричала ее горничная Бетси от страха перед леди Эмили Райленд, у которой открылось внезапное буйное помешательство. Все объясняли эту неожиданную болезнь молодой виконтессы волнением и страшными рассказами о злобных прокаженных на острове. Передавали, что в припадке безумия леди Эмили ночью выбежала из каюты и набросилась с ножом на Каррачиолу и Бетси; с помощью других пассажиров они лишь с трудом надели на Эмили смирительную рубашку. Днем удрученный мистер Райленд рассказал Брентлею, что припадки не повторялись, но из предосторожности больную приходится держать в запертой каюте, где при ней безотлучно находятся негр Сэм, Ричард Томпсон и Камилла. На самом деле и Ричард, и негр, и француженка-горничная, арестованные еще на рассвете в своих постелях, сидели взаперти в темных чуланах на корабле, менее страшных и глухих, чем нижний трюмный карцер, но все же весьма похожих на тюремные камеры. Ни один из арестованных не знал, чему приписать свое внезапное заключение; негр и Камилла с беспокойством вспоминали о тайных событиях в ченсфильдской роще, а Ричард догадывался, что Эмили «вышла из повиновения» и начала бунт, пресеченный пиратом решительными и бесчеловечными мерами. Днем мулат Рой принес пищу затворникам. Разумеется, и от него Ричард ничего не смог добиться. Вечером начался сильный прилив. Пришлось даже потравить якорные цепи, ибо судно заметно поднималось. Полоска берега вновь сузилась до тоненькой ниточки желтого песка. Стояла тягостная влажная жара. Вдали сильнее задымил кратер огнедышащей горы, и дважды пассажиры «Ориона» слышали слабый подземный гул. Окликнув на палубе Каррачиолу, Грелли велел ему спуститься в трюм. – Приготовь все, что я велел, и позови Оге, – сказал он тихо. – Когда все будет готово, возвращайся сам на палубу и наблюдай за берегом. Я припугну гордячку. Вместе с Оге хозяин «Ориона» спустился в чрево корабля, в карцер. Фонарь в руках Грелли осветил широко раскрытые, полные отчаяния глаза узницы. Она сидела на пледе, подобрав под юбку ноги. – Я пришел предложить тебе свободу, – сказал судовладелец. – Напиши островитянину о своем положении, проси спасти тебя. Твоя судьба в его руках. Вот чернильница, перо и бумага. Пиши ему всю правду. Пощады тебе не будет. Когда Грелли протянул девушке бумагу, перо и ее любимую чернильницу, подарок покойной матери, Эмили страшным напряжением воли уняла дрожь, сотрясавшую ее тело, и взяла поданные ей предметы. Потом, зажмурившись, она изо всей силы швырнула фарфоровую чернильницу под ноги своему мучителю. Маленький сосуд разлетелся вдребезги. Грелли от ярости зарычал: – В кандалы ее, Оге! Гигант поднял кандалы с пола. Грубые железные кольца охватили запястья и щиколотки девушки. Датчанин заклепал молотом эти кольца-браслеты. Цепи были так тяжелы, что Эмили почти лишилась возможности двигаться в них. – Дай мне плеть! Крик ужаса бессильно замер в этом глухом, как монастырское подземелье, колодце. Грелли замахнулся плетью, но в этот миг чьи-то шаги загремели на железных ступеньках люка. – Хозяин! – раздался голос Каррачиолы. – На берегу горит большой костер.* * *
Когда шлюпка, присланная с корабля, приняла на борт охотника в фуфайке, оба других островитянина осторожно вышли из прибрежных кустов. – Отсюда, с этой отмели, до корабля будет не более четверти мили. Придется добираться вплавь. Направление – на кормовой фонарь. Эх, Педро, жаль, что у нас нет пистолетов! Придется воевать без пороху! Крокодилов, должно быть, разогнали пушки «Ориона», а от акул будем обороняться ножами. Ну, бородатый мальчик, с Богом! Два человека бесшумно вошли в воду. Прилив достиг полной силы. Пройдя покрытую водой полосу песка и очутившись наконец по грудь в молочно-теплой воде, они пустились вплавь. Педро был до пояса обнажен, Бернардито плыл в черной рубашке. У обоих за поясом были кинжалы. Они плыли ровно, рядом, ни разу не плеснув и не поднимая брызг. – Отдохнем, – сказал Бернардито на середине пути и перевернулся на спину. – Старайся разглядеть, где часовые на борту. Мистер Фред уже на корабле, и шлюпка осталась у носового трапа. Ее мы и должны захватить. Главное – бесшумно подняться на корабль. Ага, пошел дождь! Нам это на руку: должно быть, святой Христофор заботится о нас. Акул тоже не видно. Вперед, Педро! До корабля оставалось не более ста ярдов. Теплый летний дождь полил сильнее, поверхность бухты покрылась частой рябью и пузырьками. – Часового я вижу над носовым трапом. – Второй – на корме, – шепнул Педро. Пловцы достигли освещенного фонарями пространства у бортов судна. Только под самой кормой падала на воду черная тень. Бернардито поправил пояс с кинжалом, набрал воздуха в легкие и кивнул. По этому знаку оба исчезли и вскоре вынырнули в полосе тени. Отдышавшись, Бернардито указал своему спутнику на левую якорную цепь, а сам приблизился к правой. Их осторожные, удивительно слаженные движения могли бы со стороны показаться упражнениями цирковых гимнастов. На правую цепь, за которую ухватился Бернардито, падала тень шлюпки, подвешенной на кормовых шлюпбалках. Одноглазый пловец услышал сквозь плеск дождя, что левая цепь тихонько заколебалась. Темная фигура Педро уже взбиралась на корабль. Бернардито подтянулся на руках и тоже стал карабкаться наверх. Когда он достиг борта, почти рядом с ним вспыхнул огонек. У самого борта, прислонив ружье к стенке, часовой спокойно раскуривал трубку. Бернардито узнал его сразу. Это был мулат Энрико Рой, некогда прислуживавший Грелли на «Черной стреле». Одним прыжком Бернардито очутился на палубе. В слабом свете, падавшем из занавешенного окна чьей-то каюты, перед Роем предстала фигура его прежнего грозного капитана, с мокрой бородой и длинными волосами, спадающими до плеч, с черной повязкой на лице. Единственный глаз этого привидения сверкал, как уголь, а в руке матово серебрился кинжал. Рой попятился от страшного призрака, вынырнувшего из морских недр, но в тот же миг сильные пальцы Педро схватили мулата сзади и сдавили ему горло. – Стой, отпусти его, Педро! Энрико Рой, ты всегда был плохим матросом и негодным часовым. Не вздумай кричать, или тебя задушат на месте. Повинуйся мне беспрекословно. Показывай, где сын Джакомо Грелли. Веди нас к его каюте. Педро, держи его крепче, я пойду сзади вас. Вперед! Шатаясь под тяжестью руки, державшей его за шиворот, Рой, согнувшись, заковылял в носовую часть. За ними крался Бернардито, держа ружье мулата наготове. Два окна большой каюты пропускали на палубу сильный свет через щели бархатных штор. До слуха Бернардито долетели из этой каюты голоса мистера Фреда и Грелли. В каюте двигалась тени нескольких человек. В этот миг где-то во внутренних помещениях судна захлопали двери, послышались голоса и шаги, словно только что окончился какой-то прием или совещание, с которого много людей расходились по кораблю. Нужно было спешить! Нагнувшись, все трое проскользнули через освещенную полосу и остановились под окном с закрытой створкой жалюзи. За окном было тихо, свет в каюте погашен. – Кто находится при ребенке? – Доротея, кормилица. – Постучи и скажи, чтобы она открыла окно. Рой повиновался. За окном послышался шорох. Женский голос спрашивал, кто стучит. Бернардито прижал острие клинка к животу мулата. Тот отозвался на голос женщины, и задвижка окна щелкнула. – Педро, прыгай внутрь и делай все быстро, – шепнул одноглазый своему спутнику. Женщина выглянула из окна, придерживая воротник сорочки. На одно мгновение взгляд ее упал на лицо Бернардито, и в глазах женщины мелькнул испуг, но Педро уже зажал ей рот и мгновенно вскочил в каюту. Шум борьбы раздавался там недолго. Послышался треск разрываемой простыни, потом всхлипнул ребенок, и все стихло. Педро показался из окна с большим свертком в руках. Бернардито принял сверток на руки, и в этот миг Рой сделал порывистое движение в сторону. Он не успел пробежать и двух шагов, как Педро догнал его и взмахнул ножом. Мулат упал, даже не застонав. – Теперь – на другой борт, к трапу! Иди вперед, оглуши часового. Быстрей! Со свертком в руках Бернардито остался в тени носовой шлюпки. Внутри мягкого узла что-то шевелилось и кряхтело. Фигура часового неподвижно темнела у борта. Вдруг он резко качнулся назад. Раздался короткий вопль и сильный всплеск. Бернардито кинулся вперед. У трапа Педро уже снимал швартов, удерживающий шлюпку. Едва Бернардито успел прыгнуть вниз и сложить свой большой сверток на носу лодки, как Педро с силой оттолкнул ее от трапа. Бернардито подхватил из рук Педро второе ружье, еще потное от рук только что державшего его часового, и две пары весел без плеска опустились на воду.6
В нарядной каюте Грелли горели все свечи в стенных и настольных шандалах. Каюта была полна людьми. Последней вошла леди Стенфорд, блистающая изысканным нарядом и осыпанная бриллиантами от макушки волос до пряжки на шелковых туфельках. У стола стоял хозяин корабля и высокий мужчина, свежевыбритый и одетый в кафтан из гардероба Ричарда Томпсона. Отсутствовала только леди Эмили Райленд. Хозяин жестом попросил тишины. – Господа! – сказал он. – Кажется, мы все в сборе. Капитан Брентлей, удостоверяете ли вы, что этот человек и есть тот самый островитянин, которого в мае этого года вы видели здесь, на этой земле? – Да, мистер Райленд, это именно он. – Отлично. Ваше имя, сэр? – Вам оно известно. Грелли нахмурился: – Простите, но мы условились, что вы будете давать в присутствии этих леди и джентльменов только ясные и недвусмысленные ответы. Итак, ваше имя? – Альфред Мюррей. – Вы англичанин? – Я уроженец штата Виргиния в Северной Америке. – Ваши занятия? – Бывший хлопковый плантатор и купец. – У вас имеется на родине какое-нибудь имущество? – Я лишился его. – Можно ли узнать, по какой причине? – После неурожая я продал плантацию с намерением поискать счастья в других землях. Французское судно «Иль-де-Франс», на котором я, посетив сначала Индию, плыл с товарами в Европу, разбилось на подводных рифах в ста милях от этого острова. Из всех людей на корабле спасся я один. Течением меня прибило к этому острову. – Когда это произошло? – Пять лет назад, в 1767 году. Ричард Томпсон слушал островитянина с напряженным вниманием. Из своего заточения в карцере он был освобожден за час до этого собрания и едва успел привести в порядок собственный туалет, а также снабдить и островитянина приличествующим случаю костюмом. – Разрешите мне задать вопрос господину островитянину, – обратился он к режиссеру комедии, которая с такой гладкостью разыгрывалась перед слушателями. – Каким образом, мистер Мюррей, состоялось ваше знакомство с мисс Гар… ныне леди Райленд? – Господа, – остановил глава экспедиции островитянина, уже собравшегося ответить адвокату, – сейчас я беседую с господином Мюрреем не как частное лицо, а как губернатор острова. Впрочем, поскольку вопрос уже задан, потрудитесь ответить господину адвокату. Мистер Альфред Мюррей встретил направленный на него в упор взгляд Ричарда Томпсона. Мюррей помолчал, посмотрел на Грелли, а затем поднял глаза на небольшой портрет, висевший на стене и изображавший леди Эмили с розой в волосах. Не отрываясь от портрета, он заговорил ровным, заученным голосом: – Леди Эмили я встретил на корабле, когда она возвращалась из Европы в Индию к своему отцу. Затем мы поддерживали наше знакомство и дружбу с нею уже в Калькутте. Она стала моей невестой. Через полгода после моей высадки на остров, в марте 1768 года, сюда зашла пиратская шхуна «Черная стрела». Ее капитан высадил здесь двух провинившихся пиратов. Помощник этого капитана, некто Джакомо Грелли, согласился на мою просьбу переслать в Америку мое письмо, в котором я просил своего дядю о присылке за мной спасательной экспедиции, ибо, разумеется, не счел возможным покинуть остров на пиратском судне. О том, как письмо попало к мисс Гарди, вам может рассказать ее нынешний супруг. Мюррей отвернулся от портрета и снова взглянул на Томпсона. Тот потупился и больше не вмешивался в ход допроса. Он решил, что подлинный виконт Ченсфильд побежден. – Действительно, – воскликнул Грелли, – обстоятельства вручения мне письма мистера Мюррея были необычными! Пиратская шхуна «Черная стрела», как вы знаете, была уничтожена французским корветом «Бургундия», принявшим на борт и нас, троих спасенных с «Офейры». Французский моряк, убивший в схватке пирата Джакомо Грелли, показал мне письмо, найденное в кармане убитого. Выяснилось, что Эмили некогда была невестой автора этого письма, мистера Мюррея, которого считала погибшим после известия о катастрофе «Иль-де-Франс». Впоследствии я поручил капитану Брентлею принять меры к спасению Альфреда Мюррея. Но мне требовалось время, чтобы выяснить причины пребывания Мюррея на острове. Этой весной я получил о нем вполне удовлетворительные справки, подтверждающие его нынешнее повествование о себе. – Грелли обвел присутствующих надменным взглядом. – Я решил присоединить этот остров к британским владениям и вместе с тем помочь мистеру Мюррею. Остальное вы знаете. Мистер Мюррей намеревается следовать с нами до Капштадта… Простите, еще один вопрос! Будучи губернатором этого острова, я обязан обезопасить его от пиратов, проживших так долго вместе с вами. Так как из страха перед правосудием они отказались явиться на корабль добровольно, они сами поставили себя вне закона. Назовите, пожалуйста, их имена, мистер Мюррей. – Одного из них зовут Педро Великаном, другого – Бобом Акулой. – Так-так. Значит, Великан и Акула… Ну что же, завтра этот Педро и этот… как его… Боб будут висеть на реях грот-мачты. Вы, господа, свободны. Только господ Томпсона, Мортона, Паттерсона и пастора Редлинга я попрошу остаться здесь на несколько минут для совершения некоторых юридических формальностей. У стола с разложенными бумагами сидел Мортон. Он с поклоном протянул островитянину несколько документов, которые тот подписал один за другим. Затем юристы Мортон и Томпсон скрепили документы, своими подписями. Последним к столу подошел священник и тоже засвидетельствовал подлинность бумаг и свое участие в этом юридическом акте. В глазах Грелли прыгали зеленые искры. Чувство торжества кипело и пенилось в нем, как игристое вино. Сражение, которое он готовил больше четырех лет, было выиграно за двадцать четыре часа! – Теперь, мистер Мюррей, меня ждут другие неотложные дела. К вашей старой знакомой, леди Эмили, проводит вас мистер Паттерсон. Со вчерашнего дня она, к сожалению, занемогла и не покидает каюты. До новогодней встречи через час, господа! Мистер Мюррей вышел вслед за Паттерсоном. Внутренние помещения корабля были освещены. У дверей каюты Эмили островитянин постоял несколько мгновений, чтобы унять бешеное биение сердца. Паттерсон, не смея взглянуть ему в глаза, тихонько постучал и приоткрыл дверь в каюту. Увидев ее обитательницу, Паттерсон вздрогнул: прекрасное лицо ее, бледное и осунувшееся, светилось сейчас надеждой и неуверенной, еще сдерживаемой радостью, но от виска к маленькому розовому уху курчавилась, отливая серебром, прядка седых волос, которой нынешним утром еще не было и в помине! Онемев от неожиданности, с захолонувшим сердцем, Паттерсон попятился из каюты, пропуская островитянина вперед. Тот переступил через порог… Почти вытолкнув Паттерсона в коридор, он захлопнул дверь и протянул руки к девушке, бросившейся ему навстречу. – Фред! – задыхаясь, простонала она каким-то чужим, не своим голосом и упала ему на грудь. Прижав ее к себе, он почувствовал, что тело ее тяжелеет в его объятиях и сползает на пол. Она упала бы к его ногам, если бы он бережно не подхватил ее на руки. Паттерсон, прислушиваясь, постоял несколько минут у дверей. У него трясся подбородок. Он отошел от порога на цыпочках и побрел к себе, шумно сморкаясь и пряча лицо в платок.С высоко поднятой головой Грелли шел по коридору в каюту леди Стенфорд. Голос леди уже ответил ему, и дверь гостеприимно распахнулась, как вдруг до его слуха донесся заглушенный вопль с палубы и сильный всплеск за правым бортом. Прислушавшись, стоя на пороге, он уловил как будто звяканье уключин и быстро удаляющиеся всплески весел. Он прикрыл дверь каюты и вернулся в коридор. У выхода на палубу горел сильный фонарь. Выглянув наружу, Грелли оказался на фоне освещенного прямоугольника дверного проема. В тот же миг с воды грянул выстрел, и пуля, отщепив кусок дерева от фальшборта, на излете ударила Грелли в пах и застряла под кожей живота. Второй выстрел ранил его в плечо. Хозяин острова, цепляясь за дверной косяк, сполз на темную мокрую палубу. Приподнявшись на колени, он добрался до перил и с трудом различил на воде шлюпку, уходившую к берегу на двух парах весел. Вслед шлюпке раздались два выстрела с мостика, и пули булькнули где-то у кормы суденышка. Стрелял Эдуард Уэнт, только что принявший вахту от Ольсена. Свисток боцманской дудки вызвал на палубу всех вахтенных, которые перед прибытием шлюпки с островитянином были, по приказанию Грелли, отправлены в кубрик. Грелли, в залитом кровью мундире, встал на ноги, но левая рука его беспомощно свисала. От боли в животе он сгибался и не мог смотреть вперед. Теперь выстрелы гремели вдоль всего борта. Стреляли матросы и офицеры. – Батарея, к бою! – услышал Грелли команду Уэнта и почти одновременно с нею стук открываемых орудийных портов. Сгоряча пересиливая тупую, быстро нарастающую боль, Грелли сделал несколько шагов по палубе. Он хотел добраться до носовой батареи, но вдруг наткнулся на чье-то тело, ничком распростертое на палубе. Человек был мертв. Повернув голову убитого, Грелли увидел в свете фонаря, принесенного боцманом, остекленевшие глаза Роя. В них застыл ужас. – Смотрите, – раздался с мостика голос Уэнта, – течение уносит какой-то предмет! Каррачиола перегнулся через правый борт. При вспышках выстрелов он разглядел на воде треуголку часового. Самого матроса не оказалось на палубе. Одновременно Грелли заметил распахнутое окно каюты Доротеи. Из глубины помещения доносились заглушенные жалобные стоны. Со скрученными назад руками и обвязанной одеялом головой, вся оплетенная обрывками простыни, на полу каюты билась Доротея Ченни, пытаясь освободиться. В каюте все было перевернуто вверх дном. Колыбелька Чарльза с разорванным надвое пологом и раскиданными подушками была пуста. Маленький виконт Ченсфильд исчез! На батарее раздался удар колокола, и первый орудийный залп сотряс борта. Ядра взрыли водяные столбы вокруг шлюпки, уже приближавшейся к берегу. – Не стрелять! – завопил Грелли диким, страшным голосом. – В погоню! Они похитили моего сына! Голос его захлебнулся на штормовом ветру. Он уже не различал очертаний шлюпки; только сноп красных искр взвился на дальнем берегу. Это резкий порыв вихря разметал остатки костра, одиноко догоравшего у самой воды.
9. Пасынок святой Маддалены
1
Мгла и крутящийся вихрь царили над островом. Выше прибрежных мысов поднимались черные водяные горы. В скалах рушились свисающие глыбы и осыпались песчаники. Ветер выл и ревел, врываясь в ущелья. Сплошная стена ливня, низвергаясь на голые гранитные утесы, разбивалась в мелкую водяную пыль. Облака этих рассеянных брызг наполняли все ущелье, от ложа ручья до зубчатого гребня, подобно клубящемуся дыму. Ручей превратился в коричневый поток и бесновался в каменном ложе. Вековые платаны и кедры, вырванные ураганом, обрушивались в поток, и он с яростью швырял эти деревья о скалы, обламывая пышные кроны и превращая могучие стволы в щепы. Глыбы камня с грохотом ворочались на дне потока. В глубокой горной пещере Бернардито Луис и Педро Гомец прислушивались к вою бури. Они только что покончили с трапезой и сидели на деревянных чурбаках у грубо сколоченного стола. Огонек горящего в растопленном жире фитилька, мигая, освещал личико кудрявого ребенка, спавшего возле стола, на связке звериных шкур. Ребенок, съежившись, лежал под нарядным одеяльцем из голубого атласа. – Пожалуй, нынешняя буря не слабее той, что прибила тогда «Черную стрелу» к подводной гряде! Не завалило бы лавиной выход из пещеры… Если камни обрушатся, мы с тобой, Педро, живьем окажемся в просторной могиле. – Я захватил железную мотыгу и лопату, капитан. Припасов нам хватит недели на две. За это время мы откопали бы себе другой выход отсюда. Ложись отдохнуть, капитан Бернардито! – Я не могу спать. Отдыхай сам, мой друг Педро… Какой красивый ребенок у Грелли! И смотри, он похож на него, как тигренок на тигра. – Да, вплоть до родинки над ключицей. Дай-ка мне еще раз взглянуть на медальон. Бернардито вынул из кармана своей кожаной куртки медальон, снятый с шеи мальчика и завернутый в тряпку. Оба пирата долго рассматривали миниатюры на эмали. – Воображаю, какой переполох на «Орионе»! Что-то делает сейчас наш мистер Фред? – сказал Педро. – Вероятно, целуется со своей милой. Она славная девушка. – Не задушил бы Грелли их обоих! – Ну нет, об этом-то я позаботился. Куда ты положил мое письмо? – Туда, куда ты велел: в пустую колыбельку. – Значит, о мистере Фреде ты можешь не тревожиться, Педро. Грелли оставит и его и мисс Гарди в покое. Только, вероятно, им не разрешат сходить с корабля. А вот за нами они начнут охоту по всему острову, как только утихнут буря и ливень. Ребенок пошевелился и открыл черные глаза. Вместо привычных предметов и людей он увидел два склонившихся над ним бородатых лица и захныкал. Однако, пробудившись окончательно, он произнес не то обычное слово, что всегда первым приходит на уста всем просыпающимся ребятам его возраста. Сморщив рожицу в плаксивую гримаску, ребенок проговорил: – Дороти! Выражение его лица было при этом таким же, с каким все дети зовут мать. Мужчины переглянулись… Мистер Фред весной прочел своим друзьям письмо Эмили, доставленное на остров капитаном Брентлеем, и тайна рождения Чарльза была им известна. – Гнусное животное! – процедил Бернардито. – Он даже ребенка приучил к притворству. Родную мать бедный мальчишка зовет, как служанку. Жаль, что я промахнулся вчера ночью! Впрочем, кажется, мой второй выстрел все же зацепил его. Ребенок расплакался, испуганный сверкающим глазом пирата. Бернардито поставил мальчика к себе на колени: – Тебе придется привыкать к этому логову, сынок! Дороти придет, когда кончится буря. Она велела тебе не плакать, умыться и поесть. Потом я расскажу тебе длинную интересную сказку. Слышишь, как воет ветер? – Это шторм, – произнес сын мореплавателя. – Педро, этого мальца нужно беречь, как зеницу ока: от его здравия зависит судьба многих людей! Как развлечь его, чтобы он не хныкал? – Когда я увязывал сверток, мне попалась какая-то толстая книга. Она валялась на полу в каюте, и, кажется, я запихал ее в сверток. Посмотри, капитан, может быть, она цела, если не выпала по дороге. Бернардито пошел в угол пещеры, куда пираты бросили весь разворошенный узел с пожитками похищенного ребенка.. – Педро, ты не только велик, но и мудр! – воскликнул бывший главарь пиратов, извлекая из размотанного свертка толстую книгу со множеством картинок. На книге имелась дарственная надпись от пастора Редлинга. – Недаром сверток показался мне тяжеловатым. Сам-то ты умеешь читать по-английски? – Нет, капитан. – Когда-то я был силен в книжной грамоте, но теперь наполовину позабыл эту премудрость. Давно я не держал в руках книги! Чарли, ты любишь смотреть картинки? – Я люблю смотреть картинки вместе с моим отцом. – А скажи мне, Чарли, есть у тебя мама? – Моя мама – леди Эмили… – Врешь, сынок. Твоя мама Дороти, как ты ее называешь. А как зовут твоего отца? – Сэр Фредрик Райленд. – Вот как! Ну, а как же зовут тебя самого? – Сэр Чарльз Френсис Райленд, виконт Ченсфильд. – Слыхал, Педро? Это звучнее, чем Карло Грелли! Ты умный мальчик, Чарли, но боюсь, что вырастешь ты не сиятельным виконтом. Мы станем с тобою друзьями, Чарли; что значит для нас с тобой разница в какие-то полсотни лет! Я научу тебя многим интересным вещам. Ты станешь у нас… Глухой нарастающий гул потряс пещеру. Затрещали камни в стенах, и с шумом посыпалась оседающая земля. Бернардито вскочил, прижимая к себе ребенка. Согнувшись, он бросился в глубину пещеры, когда огромная глыба, составлявшая большую часть свода, стала грузно и мягко оседать. Она погребла под собою весь угол со сложенными вещами и почти половину остального пространства пещеры. Фитилек светильника погас, и люди очутились в душном, непроглядном мраке.2
Доктор Грейсвелл менял раненому перевязки. Грелли молча терпел, стиснув зубы. Тело больного сотрясал озноб, бред и явь перемешивались в его разгоряченном лихорадкой мозгу. Раны были серьезные. Когда рассвело, врач, уже при дневном свете, извлек обе пули из тела Грелли. Разыгравшийся ночью шторм к полудню достиг силы урагана. Укрытый в надежной бухте «Орион» все же раскачало так, что одна якорная цепь лопнула. Казалось, что в хлещущем ливне нет отдельных струй; будто низвергался на остров огромный водопад. Объятые страхом пассажиры корабля с ночи не покидали своих кают. Шепотом передавались подробности тайного нападения пиратов, ранения сэра Фредрика и неудачной погони за похитителями. Судовладелец сам напутствовал с борта группу матросов, посланных вдогонку пиратской шлюпке, как только умолкли залпы по ней. Раненый, с бессильно свисающей рукой и перекошенным от боли и злобы лицом, хозяин острова требовал доставить ему отрубленные головы пиратов. Лишь только шлюпка с матросами отвалила от трапа, судовладелец стал терять силы. Он не мог держаться на ногах, но приказал вести себя в каюту Доротеи. «Кормилицу» он застал в руках Каррачиолы; она билась и кричала, порываясь броситься в море. С растрепанными волосами, в белой ночной одежде, она неистовствовала. Увидев Грелли, женщина вырвалась из рук Каррачиолы: – Где ребенок? Где Чарли? Его унесли у меня! Верни мне сына, Джакомо… Верни его, или я прокляну день, когда не отважилась покинуть твой корабль!.. Мне говорили: беги отсюда, спасайся от забывшего Бога Джакомо!.. Зачем я не сделала этого, зачем вовремя не ушла от тебя с моим ребенком! – А ты, изменница, только сейчас надумала сказать мне, что тебя учили бежать с корабля? Я повешу тебя на одной рее с пиратами, как только поймаю их! Погодите, Великан и Акула, ваши матери пожалеют, что родили вас на свет! А с той тварью, что подговаривала тебя убежать, и с ее дружком я сейчас расправлюсь так, что… Тут взгляд его упал на пакет, оставленный похитителями в пустой колыбели. Он разорвал обертку, прочел короткое письмо пиратов и сразу обмяк и утих. Каррачиола попятился, увидев лицо судовладельца. Оно исказилось судорогой страха и стало восковым. – Стой, Каррачиола! Черт с ними, с теми двумя, оставь их. Отнесите меня в каюту капитана, не в мою, слышите? Ты и Оге все время будьте около меня. Ступай за Оге… Нет, погоди! Погляди, нет ли там еще чего-нибудь. Убедившись, что, кроме письма, пираты ничего больше не оставили в разворошенной колыбели, Грелли велел поднести свечу поближе и еще раз перечитал карандашные строки, написанные по-испански:«Джакомо Грелли! Ты больше не Леопард. Своим вероломством ты заслужил смерть. Если вздумаешь причинить зло Райленду и Эмили, я пришлю тебе голову твоего сына, зажаренного живьем. Верни этим людям то, что ты отнял у них, а за моими камнями я приду сам и сыщу тебя даже на дне преисподней.Бернардито».
* * *
Грелли протянул записку к пламени свечи и с суеверным страхом растоптал на полу серые пушинки пепла. Когда Оге Иензен и Каррачиола перенесли хозяина в каюту, с берега вернулись матросы. Они прибыли на бриг с пустыми руками, приведя на буксире лишь пустую шлюпку, брошенную пиратами на песке отмели. Брентлей ожидал, что неудача десанта вызовет новый гнев хозяина, но, войдя вместе с Уэнтом в свою каюту, где врач осматривал раненого, капитан застал его уже без сознания. О повторении десанта нечего было и думать из-за налетевшего шторма. Всю ночь больной бредил и метался. Днем, после операции, он то утихал, то сквернословил и божился. К вечеру ему стало хуже. Так прошли первые сутки после ранения Леопарда. В море бушевали смерчи и вихри. У дверей капитанской каюты, где лежал раненый, бессменно оставался Каррачиола. Гигант Оге неподвижно сидел в темном углу каюты; он сосредоточенно и тупо смотрел на руки врача, прикладывавшего больному примочки и менявшего перевязки.3
Каюту, которую прежде занимали вдвоем Джозеф Лорн и Джеффри Мак-Райль, Брентлей предоставил мистеру Альфреду Мюррею. Вечером 1 января Ричард Томпсон снова явился навестить нового пассажира и застал его в глубоком сне. Адвокат тихонько уселся в плетеное кресло и стал рассматривать лицо спящего… Еще в полночь, едва узнав о похищении ребенка, бультонский стряпчий понял, что островитяне повели военные действия против Грелли по отчаянно смелому плану. Адвокат теперь не сомневался, что Мюррей был одним из исполнителей этого плана и должен был усыпить бдительность Грелли мнимой капитуляцией. …Спящий не шевелился. Широкая грудь вздымалась спокойно и ровно. Лицо, освещенное висячей лампой, было мужественным, но выражало крайнюю усталость. Она сквозила в чертах вокруг горько сжатого рта, в тенях и морщинках у глаз. Это не было утомление физическими невзгодами и трудом, это была глубокая усталость души, страдавшей под непосильным бременем ненависти, тяжких обязательств, мучительных раздумий и неразрешимых противоречий. Тоска по душевному покою – вот что было написано на лице спящего. Дверь скрипнула. Эмили тихо переступила порог. Ураган и ливень уже ослабевали, но море еще волновалось, судно вздрагивало и раскачивалось. Ступая с осторожностью по узкому коврику, Эмили при наклоне судна пошатнулась и ухватилась за руку Ричарда. Волосы девушки коснулись лица адвоката, и вид серебристой прядки над виском поразил его еще больше, чем Паттерсона. – Боже мой, что они сделали с вами! Проклятие злодею! Но теперь, мисс Эмили, когда вы соединились с любимым человеком, вас ждет мирное счастье. Грелли обещает развод. Как только ваш друг восстановит свои права, вы… Девушка засмеялась невесело. Она осторожно защитила от света глаза спящего и заговорила тихо, чтобы не потревожить его: – Мирное счастье, говорите вы, мистер Томпсон! Вы напрасно утешаете меня. Я ведь хорошо понимаю, что это невозможно. Грелли прав: английское общество никогда не простило бы мне моего мнимого брака. Даже если Фреду удастся выйти победителем из борьбы с Грелли, моя и его судьба останется очень печальной. Общество отвернется от человека, который отважится назвать своей женой пособницу разоблаченного бандита. Ведь люди не знают… Я устала за все эти годы. Конечно, я хочу хоть немного простого счастья, но Фреду никогда не придется упрекнуть меня в том, что ради моего счастья он отказался от родины… Нет, о браке с Фредом я должна забыть, – договорила она шепотом и смахнула слезинку. Спящий по-прежнему не шевелился. – Сэр Фредрик Райленд! – сказал адвокат погромче, обращаясь к лежащему. Эмили вздрогнула и резко обернулась к дверям. – Господи, я подумала, что вошел тот! О Фред, – произнесла она в слезах, – мне страшен даже звук твоего настоящего имени, как страшны и ненавистны стены твоего фамильного дома! Глухо зарыдав, она упала на колени перед постелью спящего и спрятала голову у него на груди. Не меняя положения и не открывая глаз, как слепой, сэр Фредрик прижал голову девушки к губам и с нежностью поцеловал седую прядку над ее виском. Он слышал весь разговор Ричарда со своей невестой, но, слушая, оставался лежать с закрытыми глазами, чтобы не нарушить состояния глубокой внутренней сосредоточенности. В эти минуты он обдумывал новое важное решение своей судьбы. Решение это было нелегким, но подсказывалось оно всем опытом жизни, нравственными убеждениями и самой совестью. В дверь постучали. Все трое встрепенулись, Ричард вскочил с места. Взволнованный Паттерсон приоткрыл дверь в каюту: – Леди Эмили, мистера… Мюррея и вас, Ричард, пастор просит немедленно подняться в капитанскую каюту. Он готовится соборовать раненого. Больной очень плох. У него заражение крови… В капитанской каюте, где лежал больной, пламя нескольких свечей озаряло морские карты, барометры, часы и оружие на стенах. Китаец-повар Брентлея набивал кусочками льда холщовую сумку, снятую с головы больного. Леди Стенфорд, неубранная и непричесанная, гладила мокрые волосы Грелли. Лицо ее выражало испуг и горе. Один рукав батистовой сорочки больного был отрезан; обнаженная левая рука с великолепной мускулатурой, перехваченная тугой повязкой, багровая, свисала, как подрубленный сук. Опухоль уже дошла до кисти. У кровати стоял таз, наполовину наполненный кровью, которую доктор Грейсвелл только что выпустил из вены больной руки. В помещении еще пахло горелым мясом и дымом углей. Днем Грелли сам потребовал, чтобы врач прижег ему рану раскаленным железом. Операцию эту больной вынес молча, но после прижигания ослабел. Пульс его сделался аритмичным, испарина выступила на теле. В головах у больного стоял священник с молитвенником в руках. Мортон, притихший и словно пришибленный, притулился у стенки. Ни Иензена, ни Каррачиолы уже не было около раненого. Он отпустил их, услышав врачебный приговор себе. Вошедшие молча столпились у дверей. Больной повернул к ним осунувшееся лицо с запавшими глазами и заострившимся горбатым носом. Паттерсон вопросительно взглянул на врача. Тот с сомнением покачал головой. – Не переглядывайтесь с доктором, Паттерсон, – заговорил раненый. – Я и сам знаю, что шансов мало. Моя смерть развязывает весь узел. Вам, Ричард, вместе с Мортоном придется засвидетельствовать мое завещание, я уже подписал его. Могилу для меня выройте на вершине Скалистого пика. Судьба хочет, чтобы я поменялся местами с вашим будущим мужем, Эмили. Теперь, пастор Редлинг, исповедуйте меня. Присутствие этих людей не помешает вам, а мне оно не даст солгать перед концом. Помните, господа: тайна исповеди священна! Не тревожьте после моей смерти тех людей, кого мне придется назвать. Поклянитесь на этом распятии похоронить в собственных сердцах все, что вы сейчас услышите! Присутствующие исполнили требование умирающего. Затем Мортон погасил яркие свечи. Огонек лампады затеплился перед черным крестом с белеющим на нем костяным телом распятого. Несколько минут больной молчал, собираясь с силами. Потом в полумраке зазвучал его глухой, ровный голос… Перед безмолвными слушателями будто раздвинулись тесные стены каюты. Картины удивительной жизни развернулись перед ними, словно на сцене шекспировского театра.4
…Солнце жжет белые стены. В боковом флигеле францисканского*["66] приюта, где несколько каштанов отбрасывают тень на подслеповатые, забранные решетками оконца, дребезжит колокол. Под лестницей, ведущей во второй этаж, находится полутемная каморка привратника. С обрюзгшим лицом, похожим на сырую, дряблую картофелину, он лежит на своем ложе среди тряпья и рухляди. Челюсть подвязана фланелевой тряпкой: у него разболелись зубы, и он сутками не покидает постели. Единственная его обязанность состоит в том, чтобы поутру поднять звоном колокола мальчиков приюта Святой Маддалены, а вечером возвестить им отход ко сну. Все остальные дела с успехом вершат за него приютские дети. Ревматические ноги служителя обуты в теплые войлочные туфли огромных размеров и обмотаны до самых бедер обрывками стеганых одеял. Эти ноги похожи на уличные тумбы. Щербатый колокол висит над лестницей. От колокола до каморки привратника тянется вдоль стены длинная веревка. В петлю на ее конце продета тумбоподобная нога служителя. Когда солнечный луч на стене подымается вровень с лицом привратника, пора давать сигнал. Нога лениво поднимается и натягивает шнур. Беспорядочно взболтнув медным языком, колокол приходит в движение. Качается нога-тумба – качается и звякает колокол. Звон длится пять минут, десять… Наконец наверху бухает дверь, и колокол смолкает. В спальную, где на соломенных тюфяках дремлют маленькие сироты, входит заспанный монах, подпоясанный бечевкой… …Падре каноник*["67] в капелле бросает неодобрительный взгляд на длинного, худого мальчика, обстриженного после недавно перенесенной оспы. Этот двужильный пробыл месяц в заразной палате госпиталя Святого Франциска, откуда люди редко возвращаются в земную юдоль! Этот выжил, несмотря на госпитальное лечение, и даже лицо его осталось чистым. Грязная сутана коротка мальчику, едва доходит до колен. Несмотря на свои тринадцать лет, он выше и сильнее более зрелых воспитанников, но выглядит самым бледным и истощенным среди приютских детей, преклонивших колени для молитвы. Остриженный мальчик наклонился, стараясь подсунуть под свои острые коленки рваную полу одежды. Но попытки тщетны, и колени ломит от пронизывающего холода сырой каменной плиты. Каноник хмурится. – Джакомо! – раздается голос падре. – Дитя, ты опять отвлекаешься от молитвы! Вчера ты ловил мух, сегодня занимаешься своими коленями. Тебе же следует благодарить Господа за свое спасение и молиться о ниспослании мира грешной душе твоей матери! Сверстники бросают на Джакомо косые взгляды. Он гордец и не ищет друзей. Сегодня они все вместе побьют его за то, что вчера он больно поколотил поодиночке трех воспитанников. Они знают, что мать Джакомо – дурная женщина. Она находится в тюрьме. Никто никогда не заступится за Джакомо; взрослые его не любят, дети боятся. За три года жизни в приюте его много раз жестоко наказывали. Взгляд его злой и затравленный. Улыбается он редко, а смеющимся его видели один раз, когда каноник осенью поскользнулся на мокром откосе и упал в яму с водой, откуда каменщики брали глину. Канонику запомнился этот смех. С тех пор он не упускает случая, чтобы наказать и уколоть волчонка. Дети слышат, как монах, отвернувшись, бормочет: – Дурная трава! Шлюхино отродье, прости господи!.. …Последний раз мальчик видел свою мать из окна отеля в Ливорно. Он сидел на подоконнике и глядел на улицу, где перед дверью заведения ресторатора-француза то и дело останавливались коляски или носилки: богачи и знать Ливорно чествовали в тот вечер модную тосканскую певицу Франческу Молла, мать Джакомо. С раннего детства мальчик привык к беспорядочной роскоши дорогих гостиниц, подушкам наемных карет, чемоданам и картонкам, шелковым платьям и фальшивым драгоценностям, разбросанным на коврах временных жилищ. Как во сне, мелькали города с готическими соборами и тесными улицами. Италия! Страна горных пиний, олив и священных руин! Но мать ребенка мало интересовалась славными развалинами. Поклоны подобострастных слуг – и грубоватые, наглые импресарио*["68], блеск паркета – и грязное белье, засунутое за зеркало; украшенная жемчугами шея матери – и запах вина из ее уст, когда ночью она изредка склонялась над ним, шурша парчой и шелками… Мальчик родился в Венеции, и самые ранние воспоминания связаны у него с этим городом дожей, кондотьеров, купцов и нищих. Ребенком он вместе с матерью кормил доверчивых голубей на площади Святого Марка и всходил на каменные ступени моста Вздохов*["69]. Он сохранил в памяти дом с резными башенками, похожий на дворец, и звуки шагов под аркой ворот, где плескалась вода канала. Там проплывали черные гондолы с высокими носами и разговорчивыми гондольерами, которые, стоя на корме, ловко гребли одним веслом. Джакомо помнил в этом доме мраморные статуи по углам, блюда с гербами, изображающими льва, и сумрак залов с длинными, уходящими в потолок зеркалами в простенках окон, затененных золотистыми волнами шелковых портьер. И совсем смутно запомнилось ему надменное лицо высокого мужчины, перстни, блиставшие на его пальцах, и темно-синий бархат его колета. Слуги величали его «эччеленца», а мать Джакомо называла просто «мой Паоло». Мальчика учили говорить ему «ваша светлость» и целовать руку с перстнями. Джакомо едва исполнилось пять лет, когда все это внезапно кончилось. Гондола высадила под аркой седовласого старика, одетого в черное. У него были сухие, костлявые пальцы, перстень с тем же гербом, что у Паоло, и лицо точно как у Паоло, но морщинистое и еще более властное. Войдя в залу, где стояли целые корзиныцветов, привезенных накануне из театра слугою матери, старик опрокинул эти корзины, растоптал цветы ногами и заперся вместе с Паоло в его покое. И все переменилось! Мать взяла Джакомо и уехала из дома с резными башенками. Они жили в небольшой гостинице около театра. Паоло еще раз приезжал, оставил на столе тяжелый мешочек и надолго исчез из жизни мальчика. Только пять лет спустя от своей старой няньки, не покинувшей госпожи в ее скитаниях, он услыхал, что это был его отец. Но даже полного имени отца Джакомо так в точности и не узнал… Генуя… Неаполь… Рим. Здесь, в Вечном городе, мальчик впервые был в театре. Из ложи, обитой красным плюшем, он слушал свою мать и видел цветы, летевшие на сцену к ее ногам. Потом в одной карете с художником Альбертино Вителли они уехали на родину певицы, в Равенну. Одно раннее утро, когда они втроем отправились осматривать гробницу Теодориха Великого, навсегда врезалось в память мальчика. Нежно-розовая и зеленоватая плесень каменных гробов, стоящих на замшелых плитах в древней базилике, торжественная тишина и дальний звон колокола, а по выходе из гробницы – свежий аромат роз, принесенный из садов дуновением утреннего ветерка, – такие воспоминания оставила у Джакомо пышная некогда Равенна. Скоро карманы Альбертино Вителли иссякли, и в свой дальнейший путь синьора Франческа пустилась одна. Несколько лет мальчик прожил у своей бабушки, в маленьком домике среди виноградников тосканской равнины. А когда бабушка умерла, Джакомо опять привезли к матери. Она осыпала его поцелуями, обдала ароматом духов и сразу увезла в Милан. Джакомо исполнилось десять лет, когда она приехала с ним в Ливорно. Они остановились в большом отеле. Окна комнаты, отведенной мальчику и старой няньке, выходили на людную улицу с французским рестораном, где поклонники синьоры Франчески устроили пир в ее честь. В зале играла музыка и раздавались шумные рукоплескания. Мальчик видел, как перед дверью ресторана остановилась карета с гербом, изображающим льва. Молодая чета вышла из кареты. Перед Джакомо, сидевшим на подоконнике, мелькнул плюмаж*["70] на шляпе высокого человека. Что-то знакомое почудилось мальчику в осанке этого мужчины. Мальчик разглядел высокую прическу его красивой спутницы. Чета вошла в зал. Джакомо хотел уже слезть с подоконника, как вдруг крики и шум поднялись в ресторанном зале. Там падали столы, ломалась и звенела посуда, в окнах мелькали тени; перепуганный лакей выскочил на улицу. Нянька Джакомо тоже подошла к окну и вдруг всплеснула руками и пронзительно закричала в страхе: высокий мужчина на руках вынес из залы бездыханное, залитое кровью тело дамы с высокой прической и бережно уложил на подушке кареты с изображением льва. Карета тотчас укатила, а следом четверо полицейских выволокли из ресторана на улицу растрепанную мать Джакомо и вырвали у нее из рук кинжал. Через несколько дней хозяин отеля ввел полицейского чиновника в комнату, где притихший Джакомо сидел в углу со своей нянькой. Мальчику объяснили, что его мать приговорена к пожизненному заключению за убийство в порыве ревности графини д’Эльяно. Тогда-то старая нянька, вопя и причитая над мальчиком, сквозь всхлипывания сказала чиновнику, что муж убитой и есть тот самый «эччеленца Паоло», с которым они прожили несколько лет в Венеции, и что он – отец Джакомо. Чиновник велел старухе убираться из отеля, немедленно покинуть город и увел мальчика с собой. Джакомо привели в дом со сводчатыми потолками и толстыми решетками на окнах. Чиновник, которого звали Габриэль Молетти, долго выспрашивал Джакомо о жизни матери и объяснил ему, что синьор Паоло не признал справедливости слов старой няньки и знать ничего не желает о родственниках убийцы. На деле же Габриэль Молетти и в глаза не видел синьора Паоло. Чиновник заботился лишь об одном: он рассчитывал поживиться дорогими вещами и драгоценностями синьоры Франчески, оставшимися после ее ареста без всякого присмотра. Выпроводив из города старую няньку, Молетти вместе с хозяином отеля попросту ограбил осужденную. После этого они составили официальную опись ее вещей и представили в полицию. Граф Паоло д’Эльяно не пожелал присутствовать на суде над своей бывшей по другой. Он ничего не знал о судьбе Джакомо, и никто не напомнил ему о мальчике. В глубоком горе граф уехал из Ливорно в Венецию. Мальчик, обманутый Габриэлем Молетти, не подозревал, что эччеленца Паоло уезжает, даже не зная о пребывании Джакомо в Ливорно. Вообще Джакомо недоверчиво отнесся к словам няньки и принял как нечто само собой разумеющееся нежелание знатного венецианского вельможи вмешиваться в его дальнейшую жизнь. Габриэль Молетти, увидев, что мальчик равнодушно принял его лживое объяснение, успокоился и послал за монахом из приюта Святой Маддалены. Монах принял и мальчика, и ничтожную сумму, вырученную от продажи того жалкого остатка вещей синьоры Франчески, который значился по официальной полицейской описи и был оставлен для Джакомо милостью чиновника Молетти. На этой операции синьор Габриэль Молетти пополнил свой карман двумя тысячами скуди, немногим меньше заработал хозяин отеля, а маленький Джакомо с тех пор уже в течение трех лет слушает по утрам дребезжание колокола, получает ежедневную порцию побоев от приютских сверстников и столь же частые поучения розгами от падре каноника. …Воскресенье. Дети бродят в приютском саду. Некоторым удалось выскользнуть за ограду. Они потихоньку клянчат милостыню у важных кавалеров и дам, проезжающих по дороге в город. Джакомо чистит на кухне рыбу. Трепещущие тела живых карпов из монастырского пруда, серебристая чешуя, облепившая руки и даже лицо приютского питомца, радужные пузыри – все внушает мальчику отвращение. Он ненавидит запах рыбы, и каноник поэтому приказал всегда посылать его для смирения чистить рыбу на кухню. Глаз Джакомо затек от удара, но и трое его вчерашних противников целую ночь охали и ворочались на своих тюфяках. Кругом царит суета. Отец-настоятель принимает важных гостей из города. В глубокой сковородке под крышкой шипит, покрываясь коричневой корочкой, жирный петух-каплун, предварительно вымоченный в белом вине. Молодая нашпигованная индейка распространяет упоительный аромат. Худой, полуголодный Джакомо отлично знает, что индейка готовится совсем не для гостей настоятеля: прислужник сейчас унесет ее в покой к падре – приютскому канонику. Узким кухонным ножом мальчик вскрывает брюхо огромной рыбы, которую он с трудом вынимает из лохани. Рыба ударяет хвостом, и Джакомо больно колет себе палец рыбьей костью. Злоба вскипает в нем. Два повара, вынув из печи индейку, уходят в кладовую. Мальчик торопливо бросается к индейке, вытаскивает из ее брюха печеные яблоки и набивает его до отказа грязными рыбьими потрохами и скользкой чешуей. Потом он маскирует отверстие и… быстро сует себе в рот печеное яблоко, пропитанное горячим жирным соком. От нестерпимой боли слезы выступают на глазах, но повара вернулись, и Джакомо, давясь, держит горячий ком во рту. Повар кладет индейку на блюдо, украшает ее оливками, трюфелями и зеленью, и прислужник каноника уносит дымящееся жаркое на второй этаж. Там, в скромной келье каноника, опытный прислужник торжественно ставит блюдо на стол, давно накрытый крахмальной скатертью и уставленный бутылками. Каноник, сурово поджав губы и воздев очи к потолку, садится за трапезу… Джакомо еще не успел счистить с рук и живота налипшую рыбью чешую, как в кухню ворвалось олицетворение ураганного вихря в образе прислужника падре. Прислужник даже не заметил, что под полою сутаны маленького чистильщика рыбы остался кухонный нож. Вот виновник уже доставлен в пустующий класс, выбранный для экзекуции, и разражается небывалая гроза! Падре мечет молнии и громы, и мальчик, распластанный на скамье, принимает такую порцию розог, какой с лихвой хватило бы на целый год ежедневного «телесного внушения». Потом «злодея» тащат в чулан и запирают в темноте. Здесь волчонок сидит до вечера, и каноник, которому, к несчастью, опять попалась на глаза злополучная индейка, вечером идет к чулану, чтобы возобновить внушение. Джакомо через дверную щель видит лицо каноника, который возится с замком. В руках у падре – узкий ремешок с пряжкой. Верхняя губа мальчика и впрямь начинает подниматься, как у волчонка. Подросток оскаливается и съеживается. Дверь распахнута… и вдруг весь приютский флигель оглашает визг боли и испуга. Сбежавшиеся дети и даже покинувший свою постель привратник, приковылявший на тумбоподобных ногах, видят падре на полу перед открытым чуланом; он в ужасе прижимает к животу окровавленные пальцы, а по двору, в распахнутой сутане, мчится волчонок Джакомо с кухонным ножом в руке… В эту ночь тринадцатилетний мальчик бежал из приюта. Каноник, получивший серьезную рану в живот, поднял на ноги всю полицию, но беглеца не удалось разыскать…До окрестностей Неаполя Джакомо добрался пешком, питаясь подаяниями. Дымок над Везувием он увидел в луче восходящего солнца, но это утро могло стать последним в его жизни, ибо на берегу залива он свалился замертво, обессилев от лишений и голода. Очнулся Джакомо в рыбачьем баркасе Родольфо Ченни. Крепкий загорелый рыбак с острова Капри стоя правил парусом. У ног его ползала четырехлетняя черноглазая Доротея, а жена Родольфо, молоденькая Анжелика, перебирала на корме купленные в Неаполе обновки. Семья Ченни приютила бездомного сироту, и целых четыре года мальчик провел среди скал и виноградников Капри. Он превратился в мускулистого, сильного юношу, научился управлять парусами, вязать морские узлы и плавать, как дельфин. Он уже носил нож у пояса и ходил вместе с Родольфо в Сицилию, на Корсику и в южные порты Франции. Родольфо Ченни промышлял контрабандой, и случалось, что его баркас возвращался в укромную бухту на Капри со свежими пробоинами в смоленом дереве бортов. Однажды Джакомо вернулся из такой поездки с пулей французского таможенного солдата в мякоти ноги. Когда Родольфо вынул пулю и прижег рану порохом, юноша повесил себе эту пулю на шею в виде брелока и хвастался ею перед сверстниками. Шестнадцати лет от роду Джакомо впервые увидел человека, которому впоследствии оказался обязанным своей фамилией. Небольшой английский парусник разбило бурей у Липарских островов, и в хижине Родольфо Ченни оказался еще один спасенный. Бродяга и пьяница, бездомный и бесприютный, как Джакомо, но уже с сединою в рыжих усах, английский матрос Бартоломью Греллей сохранил при катастрофе только три гинеи, просоленную потом рубаху и неисчерпаемый запас рассказов о своих похождениях на море и на суше. Он прожил в семействе Ченни год, вплоть до событий, переменивших жизнь Джакомо и его друзей. Вместе с новым обитателем хижины, который в просторечии каприйских рыбаков превратился в Бартоломео Грелли, рыбак Ченни и его семнадцатилетний воспитанник предприняли довольно опасную операцию. Через несколько границ итальянских королевств, герцогств и республик они переправили партию оружия в Швейцарию, для тирольских повстанцев. Отсутствовали они более месяца и вернулись на Капри без Бартоломео Грелли. На обратном пути, когда позади остались самые опасные полицейские кордоны и горные перевалы сухопутной части их маршрута, баркас Родольфо Ченни был накрыт метким пушечным выстрелом картечью со сторожевого судна. Свистящий свинцовый град пощадил только Джакомо. Родольфо и Бартоломео получили тяжелые раны. Джакомо, один управившись с баркасом, высадил Бартоломео у знакомых рыбаков близ Сорренто, а раненного в бок Родольфо доставил домой. Через пять суток Родольфо скончался. Его бренные останки, вопреки ожиданиям, приняло не море, а маленькое кладбище в ущелье между прибрежными скалами Капри. После похорон в хижине стало пусто и печально. Два дня семья питалась остатками поминальной еды, а затем Джакомо, которому Родольфо перед смертью завещал заботу об осиротевшей семье, стал собирать вдову с дочерью в дорогу. Было решено, что они уедут в Сорренто, на родину Анжелики. Там Анжелика купила маленький домик с виноградником и несколькими апельсиновыми деревьями. Джакомо помог ей устроить несложное хозяйство, а потом разыскал Бартоломео и вместе с ним ушел на шведском корабле в северные моря, оставив вдове все полученные вперед деньги. Два года он проплавал, научился читать мореходные карты и пользоваться компасом, буссолью и секстаном. Бартоломео Грелли передал ему весь свой немалый опыт, и штурман-норвежец взял его к себе в помощники. …В те годы на северо-западе, в уютных островерхих городках Европы, оглушительно трещали солдатские барабаны: шла опустошительная война между вероломным и жадным до чужой земли Фридрихом Прусским и стародавними властителями Европы*["71]. Короли Франции и Швеции, австрийский император и русская царица слали войска против выступившей в поход прусской армии. Высадившись в Штральзунде, Бартоломео и двадцатилетний Джакомо вступили в конце 1757 года в двадцатитысячную армию шведского короля. Более двух лет Джакомо и его старший спутник вели бродячую солдатскую жизнь. Шведское войско опустошало городки Померании и Бранденбурга, довольствуясь умеренными трофеями и не отваживаясь нанести удар в сердце вражеского королевства – Берлин. Летом армия дралась и разбойничала в прусских провинциях, затем возвращалась на побережье, в Штральзунд, и в продолжение нескольких зимних месяцев делила добычу. Такая война уже начинала наскучивать предприимчивому Джакомо. Однажды, во время похода, когда пикеты прусской конницы с налета нанесли чувствительный урон шведскому отряду, в котором служили Бартоломео и Джакомо, главнокомандующий шведов граф Гамильтон обратил внимание на отважного молодого итальянца: в неравной схватке Джакомо на глазах у своего генерала расправился с группой солдат противника, уложив несколько человек на месте и обратив остальных в бегство. После боя, едва лишь Джакомо успел отдышаться и вытереть окровавленный клинок, граф Гамильтон велел привести молодого солдата к себе в палатку и спросил его фамилию. Старый Бартоломео записал Джакомо в солдаты под своей собственной, искаженной рыбаками фамилией, и под этим новым именем Джакомо был сделан командиром взвода. Взвод состоял из отчаянного сброда, а сам Бартоломео Грелли оказался под командованием своего ученика Джакомо. Все считали молодого итальянца сыном или братом седого бойца. Как-то безлунной осенней ночью отряд стал на бивуаке близ разграбленного бранденбургского городка с крутыми черепичными крышами. Солдаты из взвода Грелли со смехом окружили повозку бродячей маркитантки*["72], следовавшей в течение нескольких недель в обозе армии. Пожилая женщина, лоток которой солдаты Джакомо уже опрокинули, отчаянно вырывалась из рук Бартоломео Грелли, Джузеппе Лорано и Вудро Крейга. Голос женщины вызвал в памяти Джакомо неясные, давно забытые картины. Он остановил своих разгулявшихся солдат, поднес к лицу маркитантки фонарь и… узнал свою мать, увядшую и поседевшую. В палатке маркитантки притихшие солдаты, ближайшие друзья Джакомо, услышали горестную повесть синьоры Франчески Молла. Амнистия по случаю рождения престолонаследника Тосканского герцогства принесла ей свободу, но с пожизненным изгнанием из Италии. Судьба привела ее во Францию, потом в Германию и, наконец, бросила постаревшую синьору в обоз шведского войска. Сын ее рассказал о своем знакомстве с Габриэлем Молетти и понял, что был ограблен этим полицейским чиновником. Вместе с Бартоломео и двумя другими моряками, Джузеппе Лорано и Вудро Крейгом, которым тоже наскучила сухопутная война, Джакомо покинул армию шведского короля и, забрав с собою мать, решил отправиться в Сорренто. Добравшись до Южной Франции, все пятеро поселились на некоторое время в Марселе, где синьора Франческа и осталась навсегда. Здесь она, уже на склоне лет, вступила в свой первый законный брак. Мужем ее стал Бартоломео Грелли, открывший табачную лавку в порту. После мирной и непродолжительной совместной жизни оба супруга умерли в один год от холерной эпидемии. Когда Джакомо явился в маленький домик на окраине Сорренто, Анжелика баюкала пятилетнего Антони Ченни, родившегося вскоре после смерти Родольфо. Доротее шел уже пятнадцатый год, и она обещала стать настоящей красавицей. Увидев Джакомо, она завизжала и повисла у него на шее. В доме царила неприкрытая нищета, и приезд Джакомо спас семью от гибели. Вместе с друзьями Лорано и Крейгом он починил домик и даже отыскал на берегу старый баркас Родольфо. Джакомо накупил нарядов Доротее и сластей ее брату Антони, но на этом и кончились остатки монет, бренчавших в карманах бывшего солдата шведской армии. Через несколько месяцев Джакомо с обоими друзьями направился в Ливорно и здесь узнал, что его обидчик, Габриэль Молетти, уже вышел в отставку и живет в собственной загородной вилле. …Бывший чиновник герцогской полиции, ныне помещик и новоявленный патриций Габриэль Молетти вкушал послеобеденный отдых на террасе своей виллы, выходившей окнами на взморье. Виноградники и цветы вокруг дома радовали глаз владельца. Успокоительно жужжали жуки, бабочки реяли в струях нагретого воздуха. Стоял знойный августовский день 1762 года. Шорох в кустах под самой верандой, где отдыхал в качалке синьор Габриэль, удивил его, так как синие щеки синьора не ощущали ни малейшего дуновения ветерка. Открыв глаза, он увидел перед собой очень злое лицо незнакомого кавалера в берете, а на ступенях веранды еще двух молодцов при шпагах и достаточно грозного вида. Слуги Молетти были на заднем дворе, и синьор оказался одиноким в обществе трех нежданных гостей. Они довольно решительно пригласили хозяина в кабинет и здесь предъявили ему дипломатический ультиматум в виде трех черных отверстий пистолетных стволов, потребовав немедленно выложить наличными сумму в пять тысяч скуди. Уклончивое поведение господина Молетти привело к тому, что три синьора, обшарив кабинет и обнаружив банковскую чековую книжку, весьма небрежно сунули последнюю в один из многочисленных пустых карманов, а затем аккуратно связали и упаковали самого владельца книжки. Оставив упакованного помещика под охраной Вудро Крейга, Джакомо и Джузеппе при полном непротивлении оробевшего конюха оседлали на конюшне трех наилучших коней и увезли сверток с господином Молетти в горы. Здесь, в укромной пещере, Джакомо напомнил синьору Габриэлю некоторые эпизоды из прошлого, и синьор признался во всем, не преминув, однако, упомянуть и об участии хозяина отеля в присвоении имущества синьоры Франчески. Чтобы не утруждать себя вычислением сложных процентов и прочими скучными расчетами, Джакомо определил размеры понесенного им ущерба чисто рыцарским глазомером и в результате привез из банка пять тысяч скуди по чеку, подписанному Молетти. Затем друзья распаковали чиновника и привязали его, в несколько облегченном туалете, к седлу коня. Опытный в обращении с кожаной плетью Джакомо повторил на спине привязанного синьора все уроки богословия, испытанные некогда его собственной спиной благодаря воспитательному рвению приютского падре. Когда взмыленный конь примчал владельца виллы домой, у домочадцев не было надежды, что он когда-либо откроет глаза. Но Габриэль Молетти выжил и даже поставил в придорожной часовне толстую свечу чистого пчелиного воска в честь чудесного избавления. Пока раскаявшийся синьор еще лежал в свертке на полу пещеры под охраной неразговорчивого Вудро, Джакомо и Джузеппе, под видом знатных путешественников, прибыли в ливорнский отель… «Знатные путешественники» потребовали себе номер, выходящий окнами на противоположный дом. Джакомо взглянул на знакомый подоконник и на ресторан, находившийся напротив, но уже переменивший вывеску. В хозяине отеля Джакомо без труда узнал своего старого знакомого. Вызвав хозяина в номер и усадив его на диван, Джакомо и Джузеппе разыграли мимическую сцену, повторив в точности все подробности прихода чиновника и хозяина в комнату, где четырнадцать лет назад тихонько сидели нянька и мальчик. Эта театрализованная страничка из биографии владельца отеля произвела на него должное впечатление. Подобно синьору Молетти, он принялся обвинять своего сообщника, выгораживая себя самого. Но выражение лиц «знатных путешественников» побудило владельца взмолиться о пощаде и смиренно отправиться за деньгами. Однако смирение его оказалось притворным; несмотря на конвой в лице Джузеппе Лорано, хозяин попытался условным сигналом послать слугу за полицией. Слуга был тотчас схвачен за шиворот и водворен в чулан, а хозяина, воображавшего до последней минуты, что вот-вот появится полиция и отберет у бандитов полученные ими деньги, Джакомо собственноручно повесил на ламповом крюке посреди номера. Через несколько дней какой-то высокий горбоносый человек посетил в окрестностях Ливорно францисканский приют Святой Маддалены. Однако, узнав от дряхлого привратника, что падре каноник скоропостижно скончался от несварения желудка, гость повернулся и с миром покинул обитель. …Очень скоро от Ломбардии до Сицилии разнеслись слухи о шайке бандитов, неуловимых и беспощадных. Они внезапно появлялись среди белого дня в самых неожиданных местах и исчезали бесследно. Только окрестности Сорренто были избавлены от набегов. Изредка, по ночам, Джакомо появлялся в рыбачьем домике, и юная красавица Доротея Ченни, к зависти подруг, стала одеваться как маленькая принцесса. Когда Дороти призналась матери в своей любви к «бандито Джакомо», Анжелика перекрестила дочь и целый вечер простояла на коленях перед ликом Пречистой Девы. …Более двух лет шайка Джакомо, состоявшая всего из трех связанных многолетней дружбой мужчин, безнаказанно бесчинствовала по Италии и Южной Франции, но наконец рота королевских егерей прижала бандитов к берегу в одном из заливов Сицилии. У трех друзей кончились заряды, и не было иного выхода, как прыжок в море с обрывистой скалы. Стрелки, взяв скалу в железное кольцо, уже вышли к берегу. Участь бандитов, казалось, была решена. В это время в заливе появилась длинная шхуна с грязными бортами и черной тряпкой на гафеле вместо флага. Человек с повязкой на глазу стоял на мостике. Когда шхуна подошла ближе к берегу, ее капитан увидел, как три гибких тела «ласточкиным прыжком» слетели с утеса в воду и быстро поплыли по направлению к судну. С берега и от подножия утеса затрещали частые выстрелы, и всплески воды возникли вокруг голов плывущих; однако всем троим удалось благополучно достичь шхуны. Судно приняло их на борт, развернулось и, поставив паруса, ушло в синеву Тирренского моря, увозя свое ценное приобретение… Все трое оказались бывалыми моряками, и капитан Бернардито Луис вскоре сделал Джакомо Грелли своим помощником, Джузеппе Лорано – штурманом, а Вудро Крейга – боцманом «Черной стрелы». Три года крейсировал Бернардито в Средиземном море, а затем, с трудом проскочив Гибралтар, ушел в индийские воды. И вот наступила ночь на 19 апреля 1768 года, когда пиратская шхуна овладела бригантиной «Офейра». На рассвете пали последние защитники бригантины; в каюту Грелли на «Черной стреле» была отнесена бесчувственная Эмили и отведен полумертвый от страха Мортон. Тело тяжело раненного защитника Эмили, сэра Фредрика Райленда, осталось на «Офейре», рядом с трупом старого мистера Натаниэля Гарди. …Грелли, шатаясь, вышел вслед за пиратами. На мокрой палубе он ухватился за леерную стойку и оглядел горизонт. С севера надвигалась черная стена урагана. Ветер уже рвал снасти, и страшный ливень низвергался на крыши палубных надстроек бригантины. Швартовы удерживали ее у борта пиратской шхуны. Со шхуны на бригантину был уже перекинут узкий трапик. В море, всего на расстоянии мили, виднелся французский корвет. На нем спешно убирали последние паруса…
5
…Было уже часов восемь утра, но ураганный шторм скрыл небеса и воды. Две стихии, воздух и океан, смешались в одну. Ничего нельзя было различить, все слилось в один сплошной гребень взвихренной волны. Связанные друг с другом суда, бригантину «Офейра» и шхуну «Черная стрела», закружило и понесло, как яичные скорлупки в водопаде. Люди задыхались: дышать стало нечем, ветер был плотнее воды. Он не сметал, а сдвигал предметы, точно наступающая стена. Три мачты «Черной стрелы» обрушились на «Офейру», сломав ее палубные надстройки и спутав такелаж и рангоут обоих кораблей в беспорядочный узел. Палубная команда, попытавшаяся было разъединить корабли, была смыта за борт исполинской волной; она обрушилась на оба судна с такой высоты, что на несколько мгновений погребла в пучине и шхуну и бригантину. Но жалкие скорлупки с забившимися в их недра живыми существами вынырнули на поверхность. Больше никто не пытался открывать люки, и суденышки оказались полностью предоставленными ветру и волнам. Когда вихрь налетел, Грелли упал на палубе «Офейры». Ползком он добрался до люка и задраил его над своей головой в тот момент, когда на бригантину обрушились мачты «Черной стрелы». Джакомо, закрыв люк, оказался в полной темноте. От внезапного толчка он полетел куда-то в сторону, ударился головой о бимс и потерял сознание. Но вот дрожь и скрежет всех частей корабля ослабели, и судно стало раскачиваться, как в обычную штормовую качку. Грелли, стряхнув вялость и оцепенение, поднялся на ноги. Двигался он с трудом, как тяжелобольной. Внезапно рядом раздался не очень громкий, но для уха бывалого моряка поистине зловещий звук. Пол под ногами Грелли снова стал уходить и поднялся вертикально. Послышался шум и плеск воды. Джакомо опять покатился было в угол, но ухватился за трап, нащупал люк, распахнул его и очутился на палубе. Был вечер 20 апреля. Море волновалось, но ураган уже пронесся дальше, швырнув под конец корабли на подводный риф. Корпус «Офейры» уцелел, а «Черная стрела» оказалась насаженной на подводную скалу, как цыпленок на вертел. Но и на «Офейре» дела обстояли плохо. Расшатанные внутренние переборки сдали, вода, набравшаяся в трюм, устремилась при наклоне в кормовую часть, и бригантина, давшая сильную осадку на корму, затонула бы, если бы спутанный такелаж не удержал ее у борта застрявшей на рифе шхуны. На «Черной стреле» тоже начали показываться люди. Бернардито Луис, перегнувшись через борт, спросил у Грелли, в каком положении «Офейра». Грелли ответил односложно и стал рассматривать горизонт. Далеко, в шестидесяти – восьмидесяти милях, чуть виднелся горный пик, похожий на узкое темное облако. Вокруг кораблей летали буревестники и чайки. Близость суши ободрила пиратских главарей. Положение «Черной стрелы» было безнадежно. Бернардито собрал команду и объявил ей свое решение: перегрузить все имущество на «Офейру» и попытаться на бригантине достичь земли, виднеющейся на горизонте. Пираты выбили дно из бочонка с вином, подкрепились ветчиной и черствыми сухарями, а затем принялись откачивать воду из трюмов «Офейры». Грузы они перетащили в носовую часть бригантины, выровняли дифферент*["73], соорудили мачту и, свалив за борт сломанные мачты «Черной стрелы», разрубили спутанный такелаж. Теперь лишь узкий трап и два швартова служили для сообщения между судами. Команда шхуны перетащила свои пожитки на «Офейру», и Бернардито, сопровождаемый Педро, последний раз пошел в обход по своему старому кораблю… Пока наверху шли спасательные работы, матросы Рыжий Пью и Питер Жирный, прославившийся способностью выпивать без передышки ведро пива, заглянули в каюту Грелли на опустевшей шхуне. Молодая девушка лежала на низкой тахте, устланной грязным ковром; рядом, на полу, скорчился Томас Мортон. Питер схватил Мортона за шиворот и встряхнул его так, что ноги калькуттского атерни на миг оторвались от пола. Затем, вытолкнув пинком Мортона из каюты, Питер подсел к девушке. – Стой, жирный олух, – предостерег Пью своего товарища, – это добыча Леопарда. – Мне наплевать на Леопарда, – проворчал Питер, которому остаток вина в бочонке придал необычайную храбрость. – А пока не мешай мне, Пью, полюбезничать с красоткой… Неизвестно, что произошло бы дальше с девушкой, если бы сам грозный Бернардито не вошел в каюту. Рыжий Пью заметил знакомый ему кожаный мешочек, прицепленный к поясу капитана, и почел за благо убраться из поля зрения Бернардито. Жирный Питер вскочил с чрезвычайной быстротой, весьма удивительной при размерах его туловища. Бернардито еще не видел пленницы и теперь вперил в нее свой сверлящий взгляд. Эмили невольно поднялась, почувствовав непреклонную волю и властность стоящего перед нею человека. – Идите за мною, – приказал пират и повернулся к двери. Девушка сделала шаг вперед и пошатнулась. Педро, по знаку начальника, подхватил ее, как былинку, и понес вслед за капитаном. Тем временем пираты на «Офейре» уже успели сбросить за борт тело мистера Натаниэля Гарди. В ту минуту, когда Педро, держа Эмили на руках, ступил на палубу бригантины, боцман Боб Акула и Леопард Грелли уже раскачивали над бортом бесчувственное тело сэра Фредрика Райленда. Эмили рванулась из рук Педро и кинулась к своему жениху. Пираты, державшие тело, опустили его на палубу. Упав к нему на грудь, Эмили различила слабое биение сердца. – Он жив! – закричала она. И Бернардито, хмуро взглянув на Леопарда, велел оттащить раненого на корму. Превозмогая страшную слабость, озноб и головную боль, Эмили устроила больному постель и перевязала сквозную, запекшуюся рану под правой ключицей. «Офейра» уже шла под двумя парусами к видневшейся земле; почернелый остов покинутой шхуны остался далеко позади. Более суток добирались пираты до безымянного острова. Наступила ночь на 21 апреля. Судно обогнуло остров с запада. Среди скал и утесов не удалось обнаружить бухту, удобную для стоянки корабля. Прилив достиг наивысшего уровня, когда Бернардито приметил песчаную косу в северной части острова и решил посадить «Офейру» на мель, чтобы с отливом обнажить ее днище, дававшее сильную течь, и подготовить корабль к дальнейшему плаванию. Грелли позвал Мортона в нижнюю каюту и потребовал бумаги, которые стряпчий держал при себе. Углубившись в эти документы весьма пристально, Джакомо время от времени задавал Мортону отрывистые вопросы, требуя дополнительных сведений о Райленде и мисс Гарди. В голове пирата стал складываться смелый план… Грелли так задумался, что не слышал, как пираты подвели «Офейру» к берегу. Выйдя на палубу, он увидел в свете заходящей луны высокие прибрежные скалы, а под бушпритом – неширокую песчаную косу между двумя утесами. Волны прибоя с однообразным шелестом набегали на песок. Отлив уже начался. Матросы вбили колья в песок и вынесли два якоря. Зачаленная бригантина постепенно, с отходом воды, валилась на правый борт, обнажая поврежденное днище, и скоро целиком оказалась на отмели. Грелли не нашел на палубе ни девушки, ни раненого. Он заглянул в окно капитанской рубки. На койке в беспамятстве лежал мистер Райленд; Эмили спала в кресле, уткнув раскрасневшееся от лихорадки лицо в подушку. Она была явна больна. На полу расположился Мортон. Капитан Бернардито, стоя на песке, осматривал судно. Шлюпка с двумя гребцами ожидала капитана, собравшегося обследовать побережье. – Синьор Джакомо! – крикнул Бернардито. – Посудина требует починки. Едва ли нам удастся скоро убраться с этого острова. Я поищу более надежную стоянку; на отмели волны разобьют бригантину при первом шторме. Перенесите пока ценные грузы на берег и спрячьте их среди скал. Бернардито сел в шлюпку и пустился вдоль побережья. Грелли поднял на ноги десятка два пиратов и выбрал небольшую расселину среди скал. Пираты перетащили туда ящики со слитками серебра, самоцветными камнями, с шелками и прочими товарами из трюмов «Офейры». Грелли определил их стоимость в десять – пятнадцать тысяч английских фунтов. Солнце уже поднялось над горизонтом, когда перегрузка была закончена, и Грелли прилег отдохнуть в тени утесов. Пробуждение его было неожиданным… Открыв глаза, Грелли удивился безмолвию, с каким работали пираты, заделывая днище. Никто не горланил песен, а ругательства произносились вполголоса. Бернардито уже вернулся, и шлюпка его была наполовину вытащена на песок. – Эй, в чем дело, Бернардито? – громко спросил Леопард, стряхивая остатки сна. – Какого черта ты спешишь, будто на свадьбу любимой дочери? Бернардито сделал Грелли знак говорить тише. – На юго-востоке есть большая, хорошо скрытая бухта. В ней отстаивается французский корвет. Его, должно быть, тоже прибило ураганом к этим берегам. Нужно уходить, пока нас не заметили. Не успел Бернардито договорить, как из-за утеса в нескольких кабельтовых от косы появился вражеский корвет. Две мачты из свежесрубленных стволов, неполная парусная оснастка свидетельствовали, что и корвет был сильно потрепан бурей. Пираты оказались в ловушке. Позади громоздились неприступные утесы, впереди – враг и море! Грелли оценил положение в считаные секунды. Спасение сулила только ночная темнота: под ее покровом нужно было уходить вплавь с предательской косы, чтобы скрыться в глубине острова. Бернардито уже стоял на борту и указывал людям их места в бою. Обе небольшие пушки «Офейры» смело ураганом. Песчаная коса не давала укрытия. Крошечная площадка между скалами в основании косы представляла собой весьма неудобный плацдарм, но выбора не было. Корвет некоторое время крейсировал в отдалении, затем приблизился. Его капитан давно заметил появление в водах острова знакомой бригантины, захваченной пиратами. Он удачно скрыл от пиратов свою засаду в бухте, приготовил в течение ночи корабль к бою и одновременно с выходом в море послал два десятка стрелков занять линию прибрежных утесов позади косы. Пираты, увидевшие перед собою корвет, не подозревали, что и в тылу у них французы заняли выгодную позицию; с вершины скалистого гребня солдаты могли обстреливать всю площадку под скалами. Когда корвет подошел на расстояние полутора кабельтовых, он открыл бортовой залповый огонь картечью, ядрами и брандскугелями. Бернардито упал с борта бригантины, и на косе поднялась паника. Слабо отстреливаясь, пираты прятались за корпусом «Офейры», но двадцать пушек, сосредоточенно бивших с короткой дистанции, изрешетили и зажгли корабль. Жар, искры и дым отогнали уцелевших пиратов к основанию косы. Тогда грянул дружный залп с вершины утесов. Пираты заметались между утесами и кораблем. Солдаты расстреливали их, методически и хладнокровно. Корвет, на котором после урагана не уцелело ни одной шлюпки, не мог сразу высадить десант. Капитан решил дождаться прилива, чтобы подойти ближе к косе и высадить группу для осмотра места боя. Бригантина пылала. На косе, застланной дымом, стонали раненые. Время от времени раздавался выстрел с утеса, как только на площадке обнаруживалось малейшее движение. Бой начался, когда Джакомо находился под утесом, за небольшой каменной насыпью. Он вырыл руками углубление в песке и достал пистолет. В запасе у него был только один выстрел – все оружие и припасы остались на бригантине. Вокруг укрытия Грелли на разные голоса и лады свистели пули. Шлюпка Бернардито еще виднелась на песке. Два пирата, пытавшиеся столкнуть ее на воду, пали под выстрелами. Когда пираты стали кучками перебегать к утесам от горящего корабля, Грелли заметил движение на наклонной палубе бригантины. Из окна рубки показались голова девушки и лысый череп Мортона. Они тащили раненого, еще не пришедшего в сознание. Затем густой дым заволок палубу, и несколько минут Грелли ничего не мог разглядеть. Он стал искать глазами Бернардито и решил, что капитана убило одним из первых залпов. Осматриваясь, Грелли заметил неподалеку небольшой куст в расселине скалы. Куст свешивался над водой. Вглядевшись, он рассмотрел позади куста, на обращенной к морю стороне утеса, маленькую пещеру. Одновременно ему послышался шорох впереди, и сквозь дым он увидел девушку и лысого толстяка, ползком волочивших по песку своего раненого спутника. Они тоже рассчитывали укрыться за каменной осыпью, но из-за камней навстречу им высунулся пистолет Грелли. Мортон спрятал голову в плечи и замер, а девушка последним усилием перетащила раненого через каменистый барьерчик. Мужество ее удивило даже Леопарда. Он показал ей глазами на пещеру за кустом. – Там можно спастись, – сказал он. Выступ скрывал пещеру и от стрелков, и от пушек корвета. Но, чтобы добраться до нее, нужно было преодолеть полоску суши, затем проплыть немного до скалы, а главное, подняться из воды на высоту шести-семи футов. Веревка, десять ярдов веревки – вот от чего зависело сохранение жизни! С кинжалом в зубах Грелли пополз к пылающей бригантине. До корабля оставалось шагов пятьдесят. Попав в облако дыма, Грелли вскочил на ноги и побежал. Ноги его по щиколотку уходили в песок и морскую пену. Последний пушечный залп грянул в ту минуту, когда Грелли уже достиг бригантины. Он ничком бросился наземь. Как только снаряды взрыли песок, он поднял го лову… и увидел перед собой капитана Бернардито, прижавшегося к песку в десятке шагов от корабельного днища. Последний залп оглушил капитана, а взвихренный песок забил глаз; однако, пока Грелли смотрел на Бернардито, тот заворочался и пошевелил рукой, прочищая от песка свое единственное око. На поясе капитана висел кожаный мешок, хорошо известный Леопарду… В один миг прошлое припомнилось Грелли. В памяти его воскрес залив Тирренского моря, утес, королевские егеря, прыжок со скалы и спасение благодаря приходу судна с этим одноглазым капитаном. Но голос алчности оказался сильнее этих воспоминаний. Бернардито приподнялся. Несколько секунд Грелли смотрел на его согнутую спину, примеряясь глазом к движению лопаток под рубахой. Взмах ножа – и тело старого пирата повалилось вперед. Вторым ударом Грелли распорол пояс и схватил мешок. Он был невелик и поместился за пазухой. С бортов бригантины свисали обрывки парусных шкотов. Отрезав несколько ярдов бечевки, Леопард ползком вернулся к своему укрытию. За каменным барьерчиком уже лежал раненый, а девушка прижималась к его бесчувственному телу. Стрелки с утесов еще вели огонь по одиночным фигурам, метавшимся в дыму от одного утеса к другому. – Вы умеете плавать? – спросил Грелли девушку. – Я больна и не имею больше сил, – ответила она. – Его мне не удержать на воде, а без него я не поплыву. – Она показала на раненого. – Я помогу вам, – сказал Грелли. – Следуйте за мною. Он толкнул Мортона и приказал ему ползти к берегу, подождал, пока облако дыма скроет их, и потащил раненого к берегу. Мортон и девушка вошли по пояс в воду и поплыли. Грелли, поддерживая раненого, плыл за ними. За выступом скалы уже была тишина, пули не свистели. Эмили и Мортон держали на воде раненого, пока Грелли закидывал свое лассо на куст. Трижды конец с петлей падал в воду, на четвертый раз Грелли зацепил куст и стал карабкаться по утесу. Он добрался до пещеры. Места для четырех человек в ней было достаточно. Леопард бросил веревку вниз и первым поднял в пещеру раненого. Затем он вытащил из воды Эмили и Мортона. В промозглой пещере зубы девушки застучали. Пальцы ее были холодны, как ледяные сосульки, а голова горела. Обессиленная, она замертво свалилась рядом с мокрым, неподвижным телом раненого. Тот открыл глаза, обвел всех бессмысленным взглядом, вздохнул и снова впал в беспамятство. У него тоже был сильный жар и, по-видимому, оставалось не много шансов на выздоровление. Все четверо улеглись на полу пещеры. Грелли вынул пулю из пистолета, подсушил отсыревший порох и перезарядил оружие. Тем временем Бернардито Луис встал на колени в своей яме. Ножевой удар пришелся вскользь: видно, он был нацелен нетвердой рукой. Капитан успел различить, что убить его пытался не кто иной, как Леопард Грелли, завладевший и мешком с камнями. Прилив уже начался, и лодка Бернардито, закачавшись на воде, тихонько поплыла вдоль косы. Стрельба прекратилась. Только горящее дерево бригантины трещало и рассыпалось. Искры и дым стало относить к убежищу Бернардито; оставаться здесь дольше стало невозможно. Пиратский главарь лег ничком в воду и поплыл. Вынырнул он под лодкой. Придерживаясь одной рукой за корму, Бернардито стал отгонять лодку от берега, не показываясь из-за нее, будто пустую лодку гнало течение или ветер. Рану в спине жгла соленая вода, двигать левой рукой было больно. Но он плыл, уходя от берега все дальше. Качавшуюся в отдалении шлюпку заметил еще один пират. Это был Педро Гомец, телохранитель и слуга Бернардито. Он сполз в воду и поплыл. Но и капитан корвета обратил внимание на пустую лодку, в которой очень нуждался. Он приказал двум матросам раздеться и вплавь догнать ее. В этот миг пустая шлюпка поравнялась со скалой, где в пещере укрылся Грелли с пленниками. Грелли посмотрел вниз и увидел под утесом шлюпку, а за ее кормой – голову Бернардито. Мортон зажмурился, когда Грелли стал прицеливаться, положив ствол длинного пистолета на согнутую руку. При этом он чуть-чуть шевельнул куст, прикрывавший пещеру… Бернардито поднял голову, заметил пещеру, пистолетное дуло и прищуренный глаз Джакомо Грелли. Капитан отпустил шлюпку и нырнул, уходя от выстрела… Высокая вода прилива, подгоняемая попутным ветром, уже заливала горящее дно бригантины. Волны плескались у обгорелых бортов, дым облаками стлался над водой, и туда, в эти облака дыма, устремился Бернардито. Из пещеры в скале раздался негромкий выстрел, и пловец пошел ко дну… Два французских матроса, пустившихся вплавь, услышали выстрел Грелли; поймав шлюпку, они уселись в ней и стали вглядываться в очертание утесов, стараясь определить, откуда этот выстрел был сделан. Джакомо бросился ничком на дно пещеры, чтобы не обнаружить своего присутствия в тайнике. Поэтому он не видел, как вынырнувший было Педро снова погрузился на дно, схватил Бернардито за волосы и вытащил его. Уже смеркалось. Шлюпка пристала к берегу, и оба матроса ступили на песчаную косу. Они не успели сделать и пяти шагов, как из-под остовасудна выскочил широкоплечий гигант. Одного француза Педро ударил ножом, другого задушил. Волны унесли их тела в море, а Педро, уже в темноте, втащил своего капитана в шлюпку и быстрыми взмахами весел повел ее вокруг косы, затем вдоль берега, на восток. Он держался вблизи береговых скал и не был замечен с корвета. Добравшись до маленькой бухточки, Педро оттолкнул сильно поврежденную и набравшую много воды шлюпку в море и, взвалив на плечи полумертвого Бернардито, выбрался с ним в лесную чащу. Он нашел брошенный солдатами, почти потухший костер, раздул головешку и в кустах развел огонь. При свете костра Педро осмотрел спину Бернардито, извлек с помощью ножа застрявшую под лопаткой пулю и, перевязав капитану обе раны, растянулся рядом с ним среди кустарников и заснул мертвым сном… Высунувшись из пещеры, Леопард видел, как вражеский корвет подошел к косе. Человек двадцать матросов и один офицер уже в полной темноте добрались до берега вплавь. На берегу замелькал свет фонарей, два-три выстрела раздалось у подножия скал, затем все стихло. Солдаты собрали все оружие пиратов и сбросили в море их мертвые тела. Офицер скомандовал возвращение на борт. Леопарду было слышно, как на мостике корвета капитан отдал команду взять курс на ту же бухту, где он отстаивался утром. В свете взошедшей луны французы увидели на воде, уже по другую сторону косы, злополучную шлюпку, наполовину залитую водой. Все решили, что матросы, посланные перед наступлением темноты за этой лодкой, утонули. Капитан предоставил ее волнам, и разбитое суденышко, ударившись о прибрежные камни, тихо погрузилось на дно. Ночью корвет вернулся в укрытую бухту. Его командир намеревался пополнить запас пресной воды и спешно закончить неотложный ремонт корабля. Капитан знал о мятежных настроениях своего экипажа, опасался, что продовольственного запаса может не хватить, и спешил поскорее добраться до берегов Африки…6
…Оставив своих пленников в пещере, Грелли обмотал веревку вокруг пояса и спрыгнул в воду. Убедившись, что спрятанный в расселине скалы груз «Офейры» цел и что ни одного живого существа поблизости нет, Леопард растянулся на песке под утесом и проспал до утра. Наступал рассвет 22 апреля. Обследовав место гибели всего экипажа «Черной стрелы» и не найдя ничего важного, Джакомо Грелли пересчитал алмазы в замшевых футлярах. Их было двадцать шесть штук. Он слышал, что стоимость их определяется в пятьдесят – шестьдесят тысяч фунтов. Теперь он был богат, но в его голове крепко засела мысль о перевоплощении в британского дворянина. Это был не только единственный путь к спасению с острова – это была будущность! Честолюбивые помыслы нередко возникали у Грелли. Часто он задумывался над тем, что даже крупное богатство не дало бы ему ни власти, ни влияния, ибо это было бы богатство в руках бездомного и безымянного бродяги, всюду преследуемого законом. Тогда он проклинал своего отца и призывал на его голову все беды. Теперь представлялась возможность покрыть новым именем боль и стыд прежних унижений… – Эсквайр Фредрик Райленд, виконт Ченсфильд, – пробормотал он. – Звучит недурно, и обстоятельства удивительно благоприятны. В Англии никто не знает этого наследника… Итак, прощай, Леопард Грелли, бездомный Джакомо, приютский приемыш, контрабандист, солдат и разбойник, прощай! Ты остался с разбитым черепом на морском дне. С борта французского корвета вскоре отдаст честь твоей могиле британский дворянин виконт Ченсфильд, который отправится в Англию и вступит в свои законные наследственные права. О, этот виконт сумеет при помощи этих камешков быстро приумножить родовые владения. Разговаривая так с самим собою, Джакомо почувствовал голод. Французы не оставили на косе никаких припасов. Нужно было поторопиться! Далеко ли до проклятой бухты? Грелли поднял топор, брошенный накануне пиратами. Он намеревался соорудить маленький плот из обломков «Офейры», чтобы добраться до корвета. «Кстати, заодно покончу и с теми, – подумал Грелли о пленниках. Мысль о том, чтобы использовать Мортона в качестве поверенного, еще не приходила ему в голову. – Жаль девчонки! Красивая и смелая, но несговорчивая и стоит у вас поперек пути, новый мистер Райленд!» Бумаги и документы оставались в нагрудном мешке у атерни. Грелли добрался вплавь до скалы и позвал Мортона. Лысая голова тотчас показалась из-за куста. Он услужливо прикрепил веревку к корням и помог Леопарду взобраться в пещеру. Эмили с закрытыми глазами лежала на камнях. Под голову сэра Фредрика она положила несколько веток, сорванных с куста. – Мортон, где документы этого человека? – спросил Грелли. Атерни достал из-за пазухи бумажник. – Теперь давай сюда весь твой мешок! Трясущимися руками Мортон отцепил мешок и подал его пирату. При виде топора в руках Грелли Мортон на коленях подполз к нему. Слезы потекли по его бледному, одутловатому лицу. – Зачем вам моя жизнь, драгоценнейший, дражайший, благороднейший мистер корсар? Сохраните мне ее, сэр, и не будет такой услуги, какую я не оказал бы вам, высокочтимый синьор! – Хорошо! Если вздумаешь хитрить, я повешу тебя на твоих собственных кишках. Слушай меня, червяк! Мы отправимся с тобой в Англию. Уйдем мы отсюда на том самом корвете, что вчера уничтожил «Офейру». Я – плененный пиратами наследный виконт Ченсфильд, и ты в Бультоне введешь меня в мое наследство. Понял? – Боже мой, благородный синьор, но что же будет с настоящим наследником? Грелли в ярости замахнулся топором: – Ах, с настоящим? Вот я тебе покажу сейчас настоящего наследника, судейская крыса!.. Раненый открыл глаза, но осмысленного выражения в них не было. Он не узнавал окружающих и не понимал страшной опасности. Девушка обхватила руками его голову и закрыла своим телом от пиратского топора. Грелли поймал ее за руку, отшвырнул к противоположной стенке и снова размахнулся. Девушка бросилась в ноги Леопарду. Она цеплялась за руку пирата и молила о пощаде. Грелли опустил топор. – Ты помолвлена с ним? – Да. – Хочешь спасти ему жизнь? – Да. – Станешь ты моей женой? – Нет. – Тогда я убью его. Ты поняла мой замысел? – Да. Вы хотите завладеть именем и имуществом сэра Фредрика Райленда. – Правильно, крошка! И все, что может мне помешать, я должен убрать с дороги. Прежде всего – вот этого полумертвого. Отпусти мою руку. – Мистер Грелли, сохраните ему жизнь! Я готова на все. Я готова назваться вашей женой, так же как Мортон – вашим атерни. – Это другое дело. А чем вы докажете, что не собираетесь обмануть меня? Может, вы рассчитываете выдать меня командованию на корвете? – У меня нет никаких доказательств, кроме моего честного слова. Хотите, я поклянусь вам? Только оставьте его в живых и дайте мне выходить его. – Идет, синьорина! Пусть он дышит, ваш бывший жених. Но поправлять здоровье ему придется на этом уютном острове уже без вас. Мы отправляемся с вами в Ченсфильд. Бумаги я оставлю у себя. Теперь в путь, синьорина, и… прошу вас, обратитесь ко мне как следует! Что же вы молчите? Ну? – Сэр Фредрик Райленд, я готова следовать за вами. Когда Грелли спустил ноги, чтобы спрыгнуть в воду, он услышал стон. Обернувшись, он увидел, как Эмили припала к груди раненого. Через два часа маленький плот подплыл к скале с пещерой. Усадив на плот Мортона, тоже близкого к обмороку, Грелли положил бесчувственные тела Эмили и сэра Фредрика на помост и веслом погнал плот вдоль берега. К вечеру он достиг входа в пролив. – Послушай, Эмили, – обратился пират к девушке, с трудом приведя ее в чувство, – я высажу вас обоих здесь, неподалеку от бухты. Французам я покажусь сначала вместе с Мортоном и передам им бумаги. Потом вернусь за тобой. Постарайся разбудить этого синьора и объяснить ему положение. Не прошло и двух часов, как Грелли и Мортон возвратились. Оба держали небольшие свертки. – Все обстоит прекрасно, – объяснил Грелли. – Послезавтра они снимаются с якоря. Меня встретили хорошо. Я обещал привезти тебя на корабль завтра вечером. Подкрепись этим ужином. Вдвоем с Мортоном Грелли соорудил шалаш. С корвета он принес одеяло, котелок, еду и лекарство. Раненого уложили в шалаше. Эмили, находившаяся сама на грани полной потери сил, не притронулась к еде. Она приготовила бульон для больного и поила его с ложечки. Ему полегчало. Он обвел всех осмысленным взором, слабо улыбнулся Эмили, повернулся на бок и заснул сном выздоравливающего. Еще одни сутки Эмили провела около него, держась на ногах нечеловеческим напряжением сил. В ночь на 24 апреля корвет «Бургундия» готовился поднять паруса. Раненый крепко спал в своем шалаше. Грелли принес ружье, запас пороху, некоторые инструменты и припасы. Он решил не будить раненого и велел Эмили писать записку. На листке бумаги она коротко изложила свое соглашение с пиратом, дав понять, что брак с лжевиконтом будет только формальным. Когда записка была готова и положена поверх скарба, оставленного островитянину, Эмили склонилась над спящим. Без слов, с каменным лицом она приникла к его лбу. К берегу бухты Грелли вынес ее на руках, ибо после молчаливого прощания с женихом Эмили окончательно обессилела. Уже укладывая в кормовой каюте «Бургундии» бесчувственную, пылающую жаром девушку, Грелли по несомненным признакам на ее лице понял, что она больна оспой… Ночью, когда судно шло на север, Грелли заметил, как Мортон делает какие-то записи в тетради, переплетенной в тисненую коричневую кожу. Леопард грубо вырвал тетрадь, прочел ее очень внимательно и, выдернув несколько страниц, написанных Мортоном последними, оставил эту тетрадь у себя. По прибытии на фрегате «Крестоносец» в Англию Грелли извлек тетрадь. В Ченсфильде, во вновь унаследованном кабинете, он посадил Мортона за своеобразный литературный труд… – В этом дневнике вы можете вернуться к изложению фактов, начиная с плавания на борту «Бургундии», – сказал заказчик рукописи своему атерни и управляющему. – Первая часть вашего повествования, вплоть до схватки в каюте «Офейры», остается в неприкосновенности, но об острове не должно быть ни звука в этой тетради. И еще: не пишите, кем был на самом деле произведен поджог «Бургундии». Ведь каюту нашу подпалил я с помощью горевшей у нас лампы, столкнув ее на пол, перед тем как выпрыгнуть на плотик: мне было известно, что крюйт-камера находится рядом с каютой… Кстати, вычислением координат острова я тоже обязан капитану «Бургундии», мир его праху! Мой взрыв, несомненно, вознес его с мостика прямо на небеса! И заказчик рукописи засмеялся своим характерным горловым смешком… …Глухой, ровный голос исповедуемого смолк. Несколько минут длилось молчание. Пастор склонился к больному. Широко раскрытые глаза его лихорадочно блестели. Он сильно утомился. – Еще несколько слов: вы догадываетесь, что, осуществив свой план, я начал собирать в Бультоне своих друзей. Некоторых из них я назвал… Их прегрешения беру на себя. Разумеется, легенду о прокаженном на острове я выдумал, чтобы предотвратить высадку на берег лишних людей; выдумка эта особенно пригодилась, когда я узнал, что, кроме сэра Фредрика, спаслись два неизвестных члена экипажа «Черной стрелы»… Мюррей – не вымышленное лицо. Такой пассажир числился в списках погибших на «Иль-де-Франс»… Теперь оставьте меня наедине со священником. Среди мертвой тишины поднялся новый пассажир «Ориона». Жестом он остановил собравшихся и заговорил, обращаясь к ним и к человеку на смертном одре: – Господа! И вы, синьор Джакомо д’Эльяно! Жестокая судьба отняла у вас право носить имя вашего отца. Вы превратили вашу жизнь в орудие мщения человечеству за свершенную им по отношению к вам несправедливость. Вы гнались за именем. Но имя человека – это пустой звук, пустой сосуд, который наполняется содержанием только деяниями его носителя. Имя Фредрика Райленда вы связали с такими кровавыми и зловещими деяниями, что я от него отказываюсь. Вы оставляете на этой земле ребенка, судьба коего могла бы уподобиться вашей, ибо, рожденный под ложным именем, он тоже должен безвинно лишиться права носить его. Я не хочу множить цепи зла и несчастий на земле. Я окончательно принял решение сохранить за вашим наследником все то, что вы сами желали оставить ему в удел. Извольте назначить опекунами сэра Чарльза угодных вам лиц. А мой долг – залечить душевные раны той, чье имя достойно стать рядом с именами героинь древности. Ничто вокруг нее – ни люди, ни имена, ни страна, ни дом – не должно омрачать воспоминаниями ее будущее счастье, которое я постараюсь создать ей под своим новым именем!10. Могила на острове
1
В тишине, наступившей после обвала пещерного свода, капитан Бернардито стряхнул с себя землю и, убедившись, что ребенок в его руках дышит, положил мальчика на пол рядом с собой. Во мраке обвалившейся пещеры Бернардито на миг припомнил свои ощущения на борту «Черной стрелы» три года назад, когда ураган нес корабли к подводным скалам острова. Испытывая снова странную тяжесть во всем теле и шум в ушах, Бернардито стал ощупывать ближайшие предметы. Дышать было трудно, и самые незначительные усилия вызывали учащенное биение сердца. Достав из кармана огниво, капитан высек искру, раздул затлевший жгутик и поджег подвернувшуюся под руку щепку. Огонек озарил осевший свод. Завалило две трети пещеры. Остальное пространство почти на фут покрывали осыпавшаяся пыль и мелкий щебень. Стол был придавлен; две ножки и часть досок торчали из-под земляной осыпи. К обломкам стола была прижата камнем толстая книга с картинками. Бернардито позвал своего товарища. Звуки голоса капитана и плач очнувшегося ребенка поглотила влажная земля обвала. Старый корсар вспомнил, что Педро сидел за столом напротив него, рядом с пустой постелью ребенка. Теперь это место было завалено влажной землей и глыбой гранита. Бернардито понял, что перед ним – могила Педро, а гранитная глыба легла памятником его последнему, единственному товарищу. Покопавшись в земле возле придавленного стола, Бернардито наткнулся на светильник с остатками жира, уже застывшего. Он зажег эту лампаду и, опустившись на колени, прижался лбом к щербатому камню. Сухой ком стоял у него в горле, но слез у старого капитана не нашлось. Он прочитал полузабытые слова молитвы и, услышав плач ребенка, взял его на руки и принялся утешать. Успокоив мальчика, он начал осматривать пещеру. Остаток свода держался ненадежно: погибли все основные запасы продовольствия, все оружие и одежда. Разгребая землю, Бернардито стал извлекать из-под осыпи один предмет за другим. Он отыскал топор, железную мотыгу и дубовый шест, затем наткнулся на вязанку дров, приготовленную для костра. Наконец капитан откопал небольшой запас провизии, который Педро держал под руками на ближайшие два дня. Этот запас при экономном расходовании мог поддержать жизнь Бернардито и ребенка в течение девяти-десяти дней, но тревожила ненадежность тысячетонного потолка пещеры и полное отсутствие воды. Добавив в светильник кусочек растопленного кабаньего жира, Бернардито принялся выстукивать стены и своды. Нечего было и думать о том, чтобы откопать старый выход. Зато противоположный свод, понижаясь к покатому полу, оставлял узкую щель между полом и кромкой острого карниза. Бернардито лег на живот и пополз в эту тесную щель. Там он неожиданно открыл естественный подземный лаз, который вскоре раздвоился. Бернардито пополз в левое ответвление и оказался в глухом тупике базальтовых глыб. Но здесь можно было стоять во весь рост. Бернардито начала мучить жажда. Во рту скрипел песок. Вокруг шуршали струйки сухой земли, сыпавшейся из щелей. Прислушиваясь, он уловил какой-то звонкий звук в углу этого каменного каземата. Звук повторялся через каждые десять секунд. Бернардито поднес светильник к известковому сталактиту. Он свисал над таким же наростом-сталагмитом, поднимавшимся с пола навстречу окаменелой сосульке. Вековая работа капель выдолбила углубление в этом известковом наросте. Набираясь на конце сталактита, через каждые десять секунд падала вниз тяжелая капля. В углублении накопилось с полстакана воды. При каждом падении капли крошечный водоем переполнялся; излишек воды сбегал с камня и влажным следом уходил в землю. Бернардито мелкими глотками выпил воду из углубления и вернулся в пещеру. Он вытряхнул землю из миски и съел остатки пищи на дне посудины. Щепкой и тряпьем он очистил ее от прилипшей грязи, перенес ребенка в каменный тупик и подставил миску под сталактит. С большим трудом, двигаясь ползком, он в течение нескольких часов перетащил в каземат все уцелевшее имущество, даже книгу Чарли. Лишь дрова он оставил в старой пещере; развести костер было невозможно – обитатели каземата задохнулись бы в дыму. Огонь светильника чуть колебался – значит, сквозь щели горных пород поступал воздух. Бернардито отрезал мальчику хлеба от нетронутой ковриги и глотком воды, набравшейся в миске, напоил его. Расстелив на каменном полу кожаную куртку, Бернардито лег, положил голову ребенка к себе на плечо и на несколько часов забылся сном. Мальчик не шевелясь долго смотрел на мигающий язычок светильника и наконец тоже уснул под монотонный звон капель, падавших и падавших в жестяную миску.2
Роберт Паттерсон и Ричард Томпсон вошли в каюту нового пассажира брига. Они застали его за разбором бумаг и документов на имя виргинца мистера Альфреда Мюррея. – Мы пришли предложить вам принять на себя руководство экспедицией, сэр Фредрик Райленд, – начал адвокат, – и просим вас… – Мистер Томпсон, – прервал его гость «Ориона», – начиная с нынешней ночи, я не имею больше ничего общего с только что произнесенным именем. Я оставлю в силе все документы, подписанные в вашем присутствии и засвидетельствованные вами, Мортоном и священником. Если джентльменам угодно, то после кончины сэра Фредрика Райленда я, Альфред Мюррей, готов принять на себя временную роль руководителя экспедиции, чтобы подготовить ее к обратному плаванию. Впрочем, на мой взгляд, капитан Брентлей выполнил бы эту задачу лучше меня. – Простите, мистер… Мюррей, – сказал адвокат, – однако я позволю себе заметить, что с точки зрения государственного законодательства вы едва ли вправе осуществить ваше великодушное решение. Закон предусматривает право усыновления, а не передачи титула и имени другому лицу. – Но, мистер Томпсон, в подписанных мною бумагах нет ни слова о передаче имени. Своей подписью я удостоверил, что действительно являюсь Альфредом Мюрреем, потомственным колонистом из Виргинии. Бумаги имеют строго законный характер. – Я прошу вас еще раз хладнокровно и серьезно обдумать это решение, – произнес адвокат, – хотя высоко ценю и отлично понимаю его мотивы. Но человек, чья потрясающая исповедь укрепила вас в вашем великодушии, создал крупное предприятие, от которого зависят прямо или косвенно судьбы и благосостояние тысяч людей. Человек этот был темным авантюристом. Сосредоточенные в его руках богатства использовались в рискованных и преступных целях. Для него эти операции были прибыльными, но для общества опасными и даже бесчеловечными. Так, мне стало известно от Доротеи, что мнимый Райленд не только занялся работорговлей, но и готовился про дол жать ремесло пирата и заняться грабежом на морских путях. Паттерсон поежился и заерзал на стуле. Адвокат продолжал с жаром: – Выстроенный для него корабль «Окрыленный», это чудо кораблестроительного искусства, предназначен для того, чтобы стать новым грозным кораблем корсаров, сеющим смерть и разорение. После кончины мнимого Райленда дела «Северобританской компании» останутся в руках приближенных и друзей лжевиконта, таких же темных дельцов, как и он сам. Ваш отказ от наследства может вызвать страшный крах, или же мрачные операции, задуманные прежним хозяином, будут осуществляться и впредь во вред обществу. – Мистер Томпсон, – остановил адвоката Мюррей, – вы не правы. Есть законы неписаные, определяемые совестью и честью. По происхождению я, отпрыск боковой ветви своего рода, не принадлежу к древней знати, и лишь случайные обстоятельства сделали меня наследником Ченсфильда. Отказом от случайно доставшегося мне титула и богатства, нажитого неправедным путем, я следую велениям своей совести. Изучая сочинения Жан-Жака Руссо*["74], я утвердился в высоком естественном призвании человека. Я вижу зло мира в неравенстве людей, в пустых титулах и званиях, в наживе золота за счет ближних… Ну, а что касается компаньонов Райленда по фирме, то хочу надеяться, что они не изберут неблаговидных путей для дальнейшего обогащения. Но должен признаться, что меня это совершенно не касается. У меня есть другие обязанности перед Богом и людьми. В Америке, на лоне девственной природы, я надеюсь создать небольшую колонию Равенства и Справедливости, Труда и Разума. Паттерсон с облегчением вздохнул, выслушав Мюррея. Речь Ричарда привела его в немалое беспокойство и озлобила против сына своего старого друга. «Щенок, – подумал Паттерсон, – жалкий судейский краснобай! Ах, болтун, путающийся под ногами деловых людей! Черт с ним, с этим истинным Райлендом, который начитался французских книжонок и бредит справедливостью! Он был бы только помехой в наших делах. Это не коммерсант! А вот если бы мощная энергия того, кто сейчас умирает на бриге, не спасла, например, банка Ленди, то тебе, болтун Ричард, быть бы сейчас либо грошовым клерком, либо чужим поденщиком!» И Паттерсон продолжал уже вслух: – Сама церковь в лице нашего викария благословила благоразумное и благородное решение мистера… гм… Мюррея. Но меня тревожит другая мысль. Дело в том, что умирающий весьма своеобразно распорядился векселем банкира Ленди… Он завещал вексель корсару Бернардито Луису. Как вы полагаете, мистер Мюррей, пожелает ли Бернардито Луис изъять из банка всю эту огромную сумму? Это привело бы к сильнейшему потрясению наших финансовых основ. – Полагаю, что Бернардито отнюдь не захочет создавать затруднений Бультонскому банку, – ответил Мюррей. – Вероятно, он укажет адрес, куда банк сможет частями высылать ему эти деньги. Он собирается построить себе гасиенду где-нибудь в Южной Америке и отдохнуть от забот и трудов. Ему уже пятьдесят лет. Пять лет назад его мать была еще жива, но он уже не надеется увидеть ее… Быть может, в Америке мы еще станем соседями!.. Погода, кажется, прояснилась; я собираюсь отправиться с Эмили на остров, чтобы уведомить Бернардито и Педро о новом обороте событий. Теперь им ничто не помешает принять участие в нашем плавании. Нужно скорее вернуть мальчика на корабль, чтобы отец успел проститься с ним. Сюда идет доктор Грейсвелл. Сейчас мы узнаем о положении раненого. Доктор, усталый и бледный, поверх очков оглядел собеседников близорукими глазами. – Наступает кризис, – сказал он. – Сэр Фредрик едва ли доживет до завтрашнего вечера.3
Шлюпка с «Ориона» высадила на берег Мюррея и Эмили. Им предстоял немалый путь до Скалистых гор, где среди ущелий находилась хорошо знакомая Мюррею пещера. Поглядывая на нежный профиль своей спутницы, Мюррей шагал легкой походкой человека, с плеч которого свалилась огромная тяжесть. Впервые за долгие годы он снова чувствовал себя свободным и счастливым. Корабль ждал его, чтобы нести к радостному будущему, весь широкий мир открывался перед ним, и лучшая из девушек этого мира, шурша складками плаща, с сияющим лицом шла рядом. Извилистая тропка привела путников к небольшой хижине, срубленной из пальмовых стволов. Позади домика находился огород, небольшой цветник и сад с фруктовыми деревцами, выращенными из семян диких плодовых растений острова. За садом начинались густые тропические заросли. Путники вошли в дом. Три деревянные кровати стояли вдоль стен. Простая мебель, утварь и посуда содержались в чистоте. Это несложное хозяйство вели не белоручки! Огромная шкура льва занимала целиком простенок между двумя окнами. Очаг был сложен из кирпича-сырца и грубо обточенных камней. Мюррей развел в нем огонь и с охотничьей сноровкой приготовил обед. Обоим путешественникам он показался восхитительным. – В нашем доме мне придется учиться у тебя хозяйничать, – засмеялась девушка. – Как странно: ты и при новом имени остался по-прежнему Фредом. Мне было бы трудно привыкнуть к другому. Как легко у меня на сердце, Фред! Они отправились дальше по неприметным охотничьим тропам, среди зарослей нетронутого первобытного леса, вышли к болотистому лесному озеру с бамбуковой чащей на отлогом берегу. Мюррей усадил девушку в долбленый охотничий челн и перевез на другую сторону. Вскоре начался подъем. Из-под ног путников стали срываться мелкие камни; наконец лес кончился, и большой зеленый луг, залитый солнцем, простерся перед ними. Цветы качались на длинных стеблях, и влажная трава стояла выше пояса. Поднявшись еще на несколько сотен футов, Фред и Эмили оказались у подножия скал. Только низкорослые, скрюченные ветром деревца кое-где оживляли мертвые каменные стены. Мюррей указал вниз. Там, на чистом зеркале бухты, стоял игрушечный «Орион». Кругом, на необозримые сотни миль, синели воды океана. Он был спокоен, но береговой прибой грохотал, как всегда, и белая пена вскипала под утесами. Вскоре глубокое ущелье разверзлось перед путниками. По гранитной скале, сбегая десятками мелких ручейков, струилась вода. Это был водопад, образованный подземными ключами где-то в недрах гор. Он выходил на поверхность из темной расселины высоко в скалах, бежал по крутому склону и, журча, низвергался с утеса, смешивая на дне ущелья свои воды с водами речки. – Держу пари, что в этих горах таятся большие богатства, – проговорил Мюррей. – У каждого из нас скопился порядочный запас золотого песка, который мы намывали на берегу ручья. Мы рассчитывали сохранить в тайне это открытие и, вернувшись когда-нибудь на этот остров, заняться золотоискательством. – Пусть твои друзья, если пожелают, ищут здесь золото, – сказала Эмили. – Мое маленькое наследство от отца и твой золотой песок – этого достаточно для устройства новой жизни. – Ты забываешь о грузе «Офейры». Он был собственностью твоего отца и по праву принадлежит тебе. Ящики в полной сохранности. Теперь еще один трудный подъем по ложбине – и мы встретим наших друзей в пещере. Но, черт возьми, я не узнаю места! Путь вверх по следам недавней лавины оказался очень тяжелым. Чем выше поднимались путники, тем озабоченнее становилось лицо Мюррея. Издали он увидел, что каменные глыбы сдвинуты. Исчезли заросли кустов, скрывавшие вход в пещеру. – Боже мой, – прошептал он, – вход засыпан! Наступал вечер. Мюррей рассчитывал переночевать в пещере в обществе своих друзей, но входа в пещеру уже не было… Мюррей стал громко звать товарищей. Ему отвечало гулкое эхо. Сняв штуцер с плеча, он два раза выстрелил, но потревожил только горных орлов. – Они все погибли, Эмили! Пещера стала их могилой. Поистине над людьми, обретающими титул виконта Ченсфильда, тяготеет какой-то злой рок. Никогда не будем вспоминать о нем, моя любимая! Обнажив головы, они постояли на коленях перед могилой мальчика и обоих корсаров, тихо поднялись и тронулись в обратный путь. Но теперь Мюррей шел молча, опустив голову. Добравшись до озера уже в сумерках, они переплыли его на челне в полной темноте. Эмили начала спотыкаться и ушибла ногу о корень. Фред взял ее на руки и понес. Она лежала на его плече с закрытыми глазами и будто уплывала куда-то в глубокую золотую темноту. В полумиле от берега островитяне поставили охотничий шалаш. Фред внес Эмили в это укрытие, зажег светильник и развел огонь. Когда дрова затрещали, он присел на камень и растер девушке ушибленную ступню. Эмили смотрела на него сверху; взгляд ее светился тем лучистым сиянием, какое исходит из глаз женщины в самые счастливые минуты ее жизни. Когда они поужинали, Фред устроил девушку на ложе из звериных шкур и, расстелив на полу свой плащ, улегся у огня. Он не спал и смотрел на гаснущий огонь. Ему показалось, что Эмили задремала; он тихонько приподнялся на локте, чтобы взглянуть ей в лицо. Две нежные руки тихо обняли его. Он взял в свои ладони голову девушки, и два дыхания слились в одно.4
Утратив представление о времени, Бернардито Луис пользовался падавшими со сталактита каплями не только для утоления жажды, но и в качестве часов. Он определил, что миска наполняется водою вровень с краями приблизительно за двадцать четыре часа, и вел теперь счет суткам по числу опорожненных мисок. Питался он копченым кабаньим и козьим мясом, остатками хлеба и сырой мукой, которую размешивал в воде. Этим же он кормил и ребенка. Весь хлеб пришлось нарезать на тонкие ломтики, чтобы на нем не появилась плесень. В сыром воздухе ломтики не засыхали. Капитан успел обследовать и правое ответвление подземного лаза. Оно оказалось длинным и извилистым, постепенно понижалось, и местами потолок нависал так низко, что пробираться можно было только ползком. В иных местах Бернардито вставал во весь рост и не доставал потолка рукой. По расчетам Бернардито, ему лишь на четвертые сутки пещерного заточения удалось добраться до оконечности правого хода. Здесь, на расстоянии не менее трехсот ярдов от развилки, он встретил наконец слоистую шиферную скалу, в которую упирался подземный ход. При свете фитилька старый корсар осмотрел скалу и обнаружил узкую трещину. Поднесенный к ней огонек светильника метнулся и погас. Бернардито приложил к трещине ухо и уловил шум струящейся воды. Звук был слабым и неясным, но сомнений не оставалось; где-то за шиферной скалой бежал ручей. Если бы удалось пробить несколько футов шифера и добраться до ручья, подземное русло, возможно, вывело бы пленника из темницы. Бернардито вспомнил о водопаде в ущелье. Его озарила догадка, что он находится рядом с подземным руслом этого потока. Шансы на спасение возросли! Мотыга была в руках. Бернардито опять запалил огонек и ударил по скале. Кусок мягкого сланца откололся легко. Увлеченный работой, Бернардито забыл о сне, пище и покинутом ребенке. Через несколько часов он расширил щель, но гора слоистых обломков шифера поднялась до пояса. Работать дальше стало невозможно, и узник пещеры принялся разравнивать породу по всему полу подземного тупика. Сквозь щель сюда проникал свежий воздух. После яростного труда Бернардито ощутил сильную усталость. Он лег на спину и задремал. Внезапно сквозь баюкающий шум ручья Бернардито различил далекий стук, царапанье и скрежет. Бернардито пополз назад. Когда после самых мучительных этапов этого подземного пути он ложился отдыхать, скрежет и стук различались им явственнее. Наконец он добрался до каземата. В чернильной мгле ребенок тихонько лежал на кожаной куртке, но, завидев огонек и бороду пирата, горестно заплакал. Маленький человек выражал обиду на свое долгое одиночество. Миска под сталактитом переполнилась, и драгоценные капли уходили в почву. – Сынок, ты скоро увидишь солнышко и пойдешь разгуливать по твоему острову, – заговорил Бернардито, поглаживая кудри мальчика. – Я нашел выход из пещеры, понимаешь, выход, но его нужно раскопать, и тогда мы с тобою… Где-то посыпались камни. Что-то грозно ухнуло, и стены каземата содрогнулись. Сталактит сорвался и грохнулся на пол, расплющив миску. Стало темно, и густая пыль забила старому корсару ноздри, рот и глаз. Он зажмурился и склонился, ожидая конца. Вся жизнь разом вспомнилась ему, точно вспышка молнии озарила прошлое… Но свод над головой еще держался, и сознание не покинуло Бернардито. Теперь все вокруг затихло, звуки прекратились, и капитан наконец сообразил, что они означали. Их пещеру раскапывали! Очевидно, обнаружив обвал, Леопард задумал раскопать могилу своего сына. Во время раскопок матросы расшатали остатки уцелевшего свода пещеры, и он рухнул. Если обвалом засыпана и развилка подземного лаза – смерть пещерных узников неминуема! Бернардито с трудом зажег свой маленький факел. Каземат был цел, не считая упавшего от сотрясения сталактита. Но вход в подземный лаз засыпан до половины… Капитан выгреб землю, расчистил вход и пополз к развилке. Всюду лежала свежеосыпавшаяся земля, пыль еще густо стояла в воздухе. Вход направо оказался свободен! Бернардито решил перебраться в тупик и оттуда пробиться к подземному руслу. Он снова различил стук. Значит, раскопки продолжались, но капитану было ясно, что даже силами всего экипажа «Ориона» разрыть пещеру можно было не раньше чем через две-три недели. Опасаясь новых обвалов, Бернардито принялся ползком перетаскивать все свое имущество и запасы в тупик. Эта работа была адской, и продолжалась она не менее двух суток. За эти дни Бернардито не раз доходил до изнеможения. Обессиленный ребенок больше не кричал и не плакал. Свернувшись клубочком, как зверек, он лежал на куртке корсара, часто дремал, а пробуждаясь, безучастно глядел на бородатого спутника. Выспавшись в своей новой «квартире», испытывая мучительную жажду, Бернардито подкрепился последними остатками еды и принялся за работу. Подземный плен длился, по расчетам Бернардито, уже шесть-семь суток, когда три глухих толчка вновь поколебали своды подземелья. На вулканические сотрясения они не походили, потому что произошли где-то в стороне, в обломках пещеры. – Рвут скалы! – проворчал корсар и бросил мотыгу. – Черт бы побрал их старания! Они обвалят весь ход. Работа шла быстро; песчаник обламывался слоями. Бернардито работал топором, мотыгой и дубовым шестом вместо клина. Временами он ощущал прохладное дуновение свежего воздуха. Наконец, через тридцать – сорок часов вырубленное в скале отверстие оказалось достаточным, чтобы просунуть плечи. Бернардито отложил инструменты и полез в дыру. Просунув в щель голову, он стал вглядываться в пустоту, во мрак. Вода, журча и плескаясь, бежала футов на шесть ниже. Значит, пробит ход в какой-то подземный грот или тоннель, по дну которого бежал поток! Расширив дыру, Бернардито защитил свою лампадку ладонью и осветил тоннель. Свод его приходился на два фута выше, а внизу жутковато чернела быстрая вода. Ребенок спал. Бернардито пополнил светильник, поставил его в углу, положил на книгу рядом с Чарльзом последний кусочек хлеба и ломтик вяленого мяса. Затем он снял с пояса ремень, прикрепил его к своему шесту, прижатому к дыре, еще раз взглянул на спящего ребенка и, держась за ремень, спустился прямо в черную воду потока. Она была очень холодной и едва не сбила человека с ног. Он вымыл лицо и руки, сделал несколько глотков, перекрестился, лег в эту ледяную воду и поплыл. В полном мраке поток понес его по тоннелю. Несколько раз его ударяло о камни и выступы скалы, но вскоре он нащупал отмель и выбрался на мелкую гальку. По шуму воды на перекатах человек угадывал повороты, и от начала своего пути до отмели он насчитал их два. Дальше свод тоннеля понижался и течение убыстрялось. Когда Бернардито покинул отмель, вода стремительно понесла его. Скоро впереди забрезжило сереющее пятно. Поток еще раз повернул, и Бернардито стал различать очертания свода и стен тоннеля. Он ухватился за выступ и глянул вперед. Свет, солнечный свет виднелся шагах в пятидесяти впереди! Поток сбегал вниз, под кромку свисающего карниза. Бернардито на ободранных коленях пополз вперед и сунул голову в сияющую щель. Перед ним расстилался ослепительный простор! Ошеломленный солнечным светом, он упал на выступ скалы, откуда водопад, весело прыгая по камням крутого склона, срывался в зеленую глубину ущелья. Наконец Бернардито огляделся вокруг. Внизу он увидел людей с кирками, лопатами и топорами. Солнце садилось, и люди, окончив дневную работу, уходили из ущелья в лес, унося кого-то на носилках. Когда все скрылись из вида, Бернардито поднялся на ноги и совершив долгий и тяжелый обход по склону, приблизился к их старой обвалившейся пещере. Уже смеркалось, и холодный ветер дул из ущелья. Все кости Бернардито ныли; от одной мысли, что нужно вернуться в ледяную воду подземного потока, он содрогнулся. Быстро темнело, но Бернардито разглядел у входа в пещеру следы работы землекопов. Он подивился, как много они успели расчистить: по-видимому, работал весь экипаж корабля. В одном месте докопались даже до дна пещеры. Земля и щебень на площадке были прибраны и свалены в небольшую насыпь, на верху которой плашмя лежал тяжелый плоский камень. В потемках Бернардито наткнулся на лом и целую бухту тонкого и прочного манильского каната. Рядом лежал вещевой мешок с остатками пищи на несколько человек. Бадья со смолой и десяток жердей, обмотанных паклей, были приготовлены, вероятно, для ночных работ. Бернардито подкрепился ломтем хлеба, надел мешок, взял лом, веревку и факел и спустился назад, к водопаду. Перед низким зевом тоннеля капитан вздохнул, зажег свой факел и ступил в поток. Нагнувшись, он снова очутился в тоннеле, где поток струился, словно мифическая Лета, покрытая вечным мраком Аида. Упираясь ломом в дно и преодолевая бурное течение, человек продвигался вперед шаг за шагом, будто древний Харон в водах мрачного Стикса*["75]. Добравшись до отмели, он передохнул. Ноги его сводило от холода, и сердце тяжело колотилось в груди. Дальше течение ослабевало. Бернардито оставил веревку на отмели и снова тронулся вверх, считая повороты. После второго он поднялся еще шагов на двадцать и увидел черную дыру под сводом и свисающий из нее ремешок. Наверх он вскарабкался с предельным напряжением сил, просунул факел в дыру и проник в подземное убежище. Погасший светильник был опрокинут. Ребенка в тайнике не было…5
Владелец «Ориона» и губернатор острова Чарльза протянул руку к стакану с напитком, который доктор поставил на столике перед умирающим. Это был настой из целебных трав, собранных на острове Мюрреем. Во время своих скитаний по индийским джунглям Мюррей внимательно присматривался к способам врачевания, применяемым знахарями и жрецами в глухих деревушках Бенгалии. Он перенял их искусство и за годы жизни на острове не раз испытал на себе самом и своих друзьях благотворное действие целебных растений, неизвестных самодовольной европейской медицине. Отправляясь на корабль, Мюррей захватил из хижины сосуд с целебным настоем. Неизвестно, помог ли больному индийский бальзам или собственный запас жизненных сил, но пациент доктора Грейсвелла победил даже самое смерть. Когда кризис миновал и, вопреки всем ожиданиям, пульс больного продолжал биться, доктор не поверил своему слуху, уловив удары этого неутомимого злого сердца. Пораженный, он немедленно оповестил всех о появлении надежды на благополучный исход. Экипаж корабля должен был с рассветом двинуться на остров, чтобы продолжить начатые накануне раскопки пещеры. Весть о гибели ребенка потрясла и друзей и врагов «хозяина», и капитан Брентлей предоставил почти всех матросов в распоряжение Мюррея, который взял на себя руководство раскопками. Узнав об улучшении здоровья больного, Мюррей приписал это действию своего лекарства и посоветовал пока что скрыть от пациента горестную весть. Раскопки велись четыре дня круглыми сутками. Когда землекопы добрались до осевшей скалы, Мюррей приказал высверлить в ней шурфы и взорвать ее порохом. После взрывов было сделано несколько находок – извлечена лопата, остатки ружья, и, самое главное, – следы крови и размозженные кости. После этого Мюррей приказал немедленно прекратить работы. На освобожденной от обвала площадке соорудили подобие могильного холма. Поверх могилы положили плиту с грубо высеченным крестом… Когда сознание вернулось к губернатору острова, он выпил остатки настоя в стакане и потребовал священника. Из недомолвок пастора Редлинга и менее проницательный человек, чем Джакомо Грелли, смог бы догадаться о случившемся. Грелли приказал вынести себя на палубу и обнаружил почти полное отсутствие людей на борту. Без дальних околичностей он потребовал Мортона в каюту и узнал всю горькую правду. Если бы, уходя, Мортон обернулся, взору его представилось бы самое диковинное зрелище за всю его жизнь: слеза на горбатой переносице, первая слеза Джакомо Грелли за тридцать пять лет его жизни! Двое суток Грелли не притрагивался к пище и никого не допускал к себе. Когда утром 9 января ему доложили, что следы трупов обнаружены, он приказал соорудить носилки и отправился в путь на плечах своих подчиненных, подобно римскому патрицию. Его донесли до ущелья и поставили носилки перед огромной скалой над обвалившейся пещерой. Он велел вооружить двадцать человек долотами и построить подобие штурмовых лестниц. Этот отряд высек на скале поминальную надпись. Вернувшись на корабль, Грелли приказал на другой же день сниматься с якоря. Груз «Офейры», укрытый в скалах северной части острова, был доставлен шлюпками на «Орион». Грелли без возражений признал его собственностью леди Эмили. Экипажу объяснил, что этот груз принадлежит Мюррею и был спасен на плоту после кораблекрушения. Во время погрузки Мюррей вместе с лейтенантом Уэнтом посетил знакомую песчаную косу: островитянин бросил прощальный взгляд на роковую пещерку, где Эмили ценою неслыханного самоотречения спасла ему жизнь. Погруженный в свои думы, он не заметил, как лейтенант Уэнт пристально рассматривает какой-то предмет на песке. Находка, сделанная лейтенантом, ввергла его в раздумье. Но моряк ни слова не сказал о ней Мюррею, бросив на него лишь испытующий взгляд… Утром 10 января «Орион» поставил паруса и осторожно вышел из пролива. На вершине Скалистого пика капитан Брентлей еще накануне приказал поднять британский флаг. Отсалютовав флагу пушечным залпом, «Орион» взял курс на Капштадт, и вскоре очертания острова с могилой погибших и развевающимся на вершине флагом растаяли за кормою брига.6
Бернардито Луис, мокрый, продрогший и утомленный до изнеможения, бросился к устью подземного лаза, проклиная себя за то, что забылзаложить его камнем. А может быть, томимый жаждой ребенок подполз к отверстию в скале и упал в поток? Капитан осветил лаз факелом. Никаких следов мальчика… Да и вряд ли ребенок решился бы ползти в полной темноте в глубь этого хода! Старый корсар снял с себя мокрую рубаху и короткий меховой жилет, растер ноги и надел сухую куртку, еще так недавно служившую постелью ребенку. Он уже забыл, что похищенное им дитя являлось для него только орудием мщения; теперь он думал о ребенке как о единственном существе, с которым он мог делить одиночество плена. Заметив на полу книгу с картинками, Бернардито снова почувствовал щекочущий ком в горле… – Теперь и Грелли считает своего Чарли погибшим… Смерть ребенка обезоружила и меня и мистера Фреда. Трудные наступили времена! Меня без Педро матросы возьмут измором и застрелят где-нибудь в горах, а Фреду ежеминутно грозит теперь тайный удар… Если же «Орион», не обнаружив меня, покинет остров, я останусь один, как придорожный крест! О каррамба! В эту минуту Бернардито услышал шорох и решил, что в тайник забралась крыса. Подняв голову, он при свете факела увидел Чарльза. Ребенок выползал на четвереньках из-под карниза подземного лаза. – Сынок! – со стоном вырвалось из груди Бернардито, и, еще не смея верить своему единственному глазу, он протянул руки навстречу ребенку. – Дядя! – произнесло измазанное в земле существо. – Куда ты все уползаешь? – А ты где был, сынок? – Я пошел искать тебя, дядя. Ты больше не уползай один! – Нет, сынок, теперь мы все время будем вместе. Я нашел выход, и, как только немного отдохну, мы выйдем с тобой на солнышко. Ну, Леопард Грелли, скоро ты станешь у меня ручным, словно кошечка! Накормив своего питомца, Бернардито зажег светильник, а большой факел потушил. Они опять остались в полутьме, озаряемой только огоньком «волчьего глаза», как Педро называл эту пещерную лампадку. Через несколько часов Бернардито почувствовал себя в силах собираться в путь. – Ну, сынок, теперь ты ничего не должен бояться. Мы по плывем с тобою к солнышку. Ты не плачь и крепче держись за мою шею. А за нашей книгой я приду сюда в другой раз. Бернардито проделал в заплечном мешке два отверстия по углам и надел мешок на мальчика, просунув его ноги в эти отверстия. Ребенок оказался как бы в больших штанах, из которых наружу торчали только руки и голова. Бернардито надел мешок себе на спину и пропустил ремень под мышками. Теперь мальчик, не стесняя движений пловца, был крепко привязан к его спине. Капитан взял зажженный факел и полез в гремящий поток, ощущая на шее теплое дыхание ребенка. Быстрое течение сбивало с ног. По пояс в воде, упираясь ломом в каменистое дно, Бернардито медленно пробирался вперед. Подземная река угрожающе гудела под сводами тоннеля. Дважды старый корсар падал, уронил факел в воду, потерял лом. Наклоняться и искать его было нельзя – вода уже доходила до груди и ребенок на спине мог захлебнуться. Внезапно дно под ногами исчезло. – Выше голову! – крикнул корсар мальчику, и звук его голоса перекрыл шум воды. Бернардито поплыл. Скоро бешеный поток вынес его за последний поворот. Наконец – карниз! Огромным усилием человек уперся руками в нависший свод и опустился на колени, погрузившись по горло в бурлящую воду… Из-под карниза дохнул на него свежий ветер, напоенный запахами леса. Все вокруг заполнял шум низвергавшегося в ущелье водопада. На мгновение Бернардито нырнул и, цепляясь руками за камни, через секунду оказался по ту сторону карниза. Он взглянул вверх: в прозрачной, уже светлой синеве неба мерцали гаснущие звезды. Старый корсар сорвал с плеч мешок и, схватив полузадохнувшегося ребенка, принялся растирать его посинелую кожу. Мальчик открыл черные глаза, чихнул и задышал глубоко и часто… У Бернардито в глазах замелькали черные искры, и он повалился рядом с ребенком. Очнулся он на выступе скалы, услышав отдаленный пушечный залп. Солнце стояло высоко над вершинами гор. Было тепло. Чирикали птицы. Откуда-то из-за леса доносился жалобный собачий лай. Капитан приподнялся, погладил крепко спящего под ласкающим солнышком ребенка и вдруг увидел слева, высоко над собою, надпись, высеченную на голой скале огромными буквами:КАПИТАН ХУАН МАРИЯ КАРЛОС ФЕРДИНАНД БЕРНАРДИТО ЛУИС ЭЛЬ ГОРРА, МАТРОС ПЕДРО ФИЛИППО ГОМЕЦ, МЛАДЕНЕЦ ЧАРЛЬЗ ФРЕНСИС РАЙЛЕНД, ВИКОНТ ЧЕНСФИЛЬД ПОГИБЛИ ЗДЕСЬ 1 ЯНВАРЯ 1773 ГОДА. REQUISCAT IN PACE*["76].Далеко в голубых водах океана, видимого на десятки миль вокруг, Бернардито узнал «Орион». С наполненными парусами, крошечный, как скорлупа грецкого ореха, корабль уже исчезал в прозрачной утренней дымке.
В первых числах февраля в порту Капштадт стал на якорь бриг «Орион». Две шлюпки перевезли на берег какой-то тяжелый груз. Владельцем груза был рослый джентльмен с открытым загорелым лицом. Он, не торгуясь, зафрахтовал половину небольшого судна, уходившего в Америку, в Новый Орлеан, и через несколько дней покинул на нем африканский порт. При отплытии зафрахтованного судна провожать загорелого пассажира и его спутницу явились на причал только первый помощник с «Ориона» лейтенант Уэнт и его невеста мисс Мери Мортон. Они долго махали вслед уходившему паруснику. На палубе вместе с рослым джентльменом стояла красивая молодая леди с огромными лучистыми глазами. Молодые люди держали друг друга за руки и глядели вслед чайкам, сопровождавшим маленький корабль до открытого моря. Из прислуги только француженка-горничная сопровождала свою госпожу. Бриг «Орион», пополнив запасы, двинулся дальше на север. В марте он достиг Гибралтара и здесь, в водах Средиземного моря, встал борт о борт с великолепным океанским крейсером «Окрыленный». Ниже флагов Британии, развевавшихся на мачтах обоих кораблей, капитаны «Ориона» и «Окрыленного», господа Брентлей и Блеквуд, подняли вымпелы с гербом виконта Ченсфильда: две линии на золотом щите, отдыхающий лев и голубая лента с надписью: «Et pacem bellum finit»*["77]. Сам виконт, покинув свою каюту на «Орионе», посетил капитана Блеквуда, после чего «Окрыленный» взял курс к берегам Америки, а бриг «Орион» отбыл в Англию. По прошествии месяца после возвращения виконта в его родовое гнездо юристы конторы «Томпсон и сын» окончательно оформили развод виконта Райленда с его прежней женой, урожденной мисс Гарди, которая вскоре, по слухам, вышла в Америке замуж за какого-то виргинского эсквайра Альфреда Мюррея. Очень скоро, в чудесное июльское утро, пастор Томас Редлинг обвенчал в бультонском соборе две четы. Сэр Фредрик Райленд, виконт Ченсфильд, сочетался браком со своей соседкой по земельному владению, вдовствовавшей леди Эллен Стенфорд, урожденной мисс Грэхэм. Офицер королевского флота Эдуард Уэнт в то же утро обвенчался с дочерью управляющего поместьем Ченсфильд мисс Мери Мортон. Вечером после венчания обе четы молодоженов отбывали в свои свадебные путешествия, первая – в Скандинавию, вторая – во Францию и Италию. За час до отъезда виконта в его кабинет вошел Антони, молодой грум. Посмотрев прямо в глаза виконту, он сказал тихо и решительно: – Синьор, я не только верно служил вам… я… любил вас и легко отдал бы за вас жизнь, не ведая, что вы – виновник бесчестья и горя моей сестры Доротеи. Сегодня вместе с сестрой я навсегда покидаю ваш кров и оставляю вас вашей совести. Прощайте! Коляска сэра Фредрика и леди Райленд уже стояла у подъезда. Владелец выглянул в окно и увидел рядом с этой коляской убогую повозку крестьянина-фермера. Антони вывел из дома свою сестру Доротею, одетую в старенький дорожный плащ. Они сели в повозку, и перед хозяином Ченсфильда в последний раз мелькнуло лицо, похожее на грустные лики Мадонн с итальянских полотен.
Часть вторая Братство капитана Бернардито
11. Сказка об Одноглазом Дьяволе
1
Годы протекли… Наливались вешними соками травы; отгорала осенняя позолота листвы; птицы, как встарь, тянулись древними караванными путями, чтобы на тихом севере за лето вырастить птенцов, а осенью вернуться с ними к берегам теплых морей… Океаны мерно дышали приливами и отливами, сотрясая штормами земную твердь, и прибой превращал острые обломки скал в круглую, обточенную гальку… …Сальная свеча в корабельном фонаре, подвешенном к потолку, освещала внутренность хижины и склоненную голову человека. Его левая глазница была пустой, и черная повязка, снятая с лица, лежала на краю стола. Рядом с ним, положив подбородок на руки, сидел кудрявый мальчик. За маленьким оконцем, затянутым двумя слоями овечьих пузырей, свистел ветер. Иногда он выдувал искры из очага, и мальчик поправлял кочергою железный лист, служивший вместо печной дверцы. Оба обитателя хижины молчали. Старший собирал из готовых, искусно сработанных частей маленький арбалет*["78]. Он укрепил в конце ложи тугой, эластичный лук и наладил тетиву, сплетенную из ножных жил горного козла. Десяток оперенных стрел с железными наконечниками был уже заготовлен в небольшом колчане, который лежал на краю стола. Натянув крошечной самодельной лебедкой тетиву арбалета, человек закрепил вложенную в желоб стрелу и вручил оружие мальчику. Взглядом старший указал мальчику на дощечку, прибитую к стене. Взрослый и ребенок понимали друг друга без слов. Мальчик приложил арбалет к плечу и долго целился в дощечку. Взрослый поправил левую руку мальчика, чтобы ее не поранила спущенная тетива. Через мгновение почти одновременно раздались – струнный звук тетивы, короткий свист, глухой удар и треск расколотой пополам дощечки. – Молодец! – сказал старший и осторожно вытащил стрелу, засевшую в дереве стены. Мальчик, лишь только первое слово было сказано, заговорил торопливо и оживленно, словно внезапно избавившись от тягостной немоты: – Дядя Тобби, мы с тобой сегодня играем в молчанку с самого обеда. Я не очень люблю эту игру… – Это очень важная игра, Ли, – отвечал старший, – и ты должен полюбить ее. На охоте и на войне часто приходится молчать. Там нельзя долго объяснять, а иногда и совсем нельзя разговаривать. Если хочешь стать охотником и воином, ты должен научиться понимать меня молча и делать все по одному моему взгляду. Сегодня я очень доволен тобою, маленький Ли. – Значит, мы посмотрим нашу книгу? – Нет, книгу ты почитаешь мне вслух завтра. Ты ведь читаешь уже быстрее меня. – Дядя Тобби, тогда расскажи сказку про Одноглазого Дьявола! – Это очень страшная сказка, мальчик. Ее нехорошо рассказывать к ночи. – Совсем не страшная, дядя! Я теперь совсем не боюсь Одноглазого Дьявола. Если бы он даже пришел к нам, я бы не испугался… Ведь ты-то его не боишься, а, дядя? – Ну, меня он, пожалуй, не тронул бы… Хорошо, Ли, расскажу после ужина. Взрослый надел черную повязку, скрывшую его левый глаз, и зажег сальную свечу, вставленную в самодельный подсвечник из морских раковин. Он оставил ее мальчику, а сам, взяв фонарь и перекинув через плечо двуствольный штуцер, вышел из хижины. На дворе была тьма, гнулись и шумели деревья. Сквозь шум ветра охотник различил грохот морского прибоя у скалистого побережья острова. Океан ревел. Осенняя туча прятала звезды одну за другой. – Нынче двадцать девятое мая; по-здешнему – осень, а дома у нас уже отцвели апельсины, – пробормотал островитянин. – Подходящий день выбрал Чарли, чтобы поговорить об Одноглазом Дьяволе! В Европе, верно, уже начинают забывать могилу на острове… Ничего, кое-кто в Англии еще порадуется воскрешению старого Бернардито! Во дворе загремела цепь, и серая тень метнулась вдоль частокола. – Цыц, Каррамба! – прикрикнул хозяин на хромую волчицу, выскочившую из двухметровой узкой норы. Вход в эту нору был прикрыт маленьким навесом, чтобы ее не заливало дождем, а на дне лежала куча ветоши и сена. Рожденная в прибалтийских лесах, Каррамба некогда была привезена в Англию из Риги: Джеффри Мак-Райль, покупавший лес для «Северобританской компании», прислал волчонка в подарок маленькому Чарли в Ченсфильд. Затем волчонок совершил еще одно морское плавание: для развлечения мальчика в пути забавного волчонка взяли на «Орион». После обвала пещеры и выздоровления лжевиконта доктор Грейсвелл велел убрать на корабле все, что могло напоминать отцу о его свежей потере. Из кают-компании был унесен высокий стульчик мальчика, а клетку с волчонком сам доктор вытащил на берег и дал маленькой пленнице свободу. Очень скоро зверь угодил в одну из ловушек, расставленных островитянами, и с поврежденной лапой был водворен в хижину, к неописуемой радости Чарльза. Теперь это была уже шестилетняя очень крупная, злая волчица, коротавшая свой век на цепи. Бернардито вошел в хлев и пересчитал прирученных диких коз, лежавших на подстилке. Ручной журавль, несколько гусей и уток с подстриженными крыльями и полдюжины зайцев в низкой деревянной клетке встрепенулись при свете фонаря. Под крышей зашевелились и заворковали голуби. Большая черная собака выбралась из конуры у входа в хлев. – Не спишь, Нерон? – сказал человек. – Посиди на привязи, пока не отучишься без толку гонять дичь по острову. Бернардито запер хлев на щеколду и толкнул низенькую дверцу в соседнее строение. Крыша его была на полфута покрыта землей и обложена дерном, разросшимся так густо, что строение возвышалось среди двора, как небольшой зеленый холмик. Здесь у островитян хранились припасы. Бернардито взял головку сыра, копченую рыбу и деревянную бадейку, полную козьего молока… Когда он вернулся в хижину, мальчик уже повесил на место все инструменты и жег мусор в огне очага. Оба умылись из рукомойника на стене и сели за чисто выскобленный дубовый стол. Скороговоркой мальчик проговорил молитву и подождал, пока старший не переломит пресную лепешку. Только после этого и он принялся за еду. Старший кивнул на рваную подстилку близ порога: – Где Карнеро? Я целый вечер не вижу его. Покличь его, Ли, и покорми. Завтра попробуй сходить на озеро с твоим арбалетом и возьми Карнеро с собой. Может быть, подстрелишь утку. Мальчик вышел в сени и звонко закричал во всю силу своих маленьких легких: – Карнеро! Остроухий! – Его детский голосок еле пробивался сквозь ветер и лесной шум. Из дверей выглянул Бернардито. – Фью, фью, фью! – тоненько свистел мальчик. Небо из черного становилось грязновато-серым, мглистым и низким. Месяц вставал над лесом, и освещенный им край тучи клубился. Бернардито вложил в рот два пальца. Мальчик съежился, зажал уши: пронзительный звук, казалось, отозвался во всех уголках острова. Что-то грозное чудилось в этом переливчатом, поистине разбойничьем посвисте. Неподалеку послышалось хриплое урчание, и сквозь лазейку в дощатых воротах вползло во двор крупное животное, держа что-то в зубах. Зверь шмыгнул мимо охотников прямо в хижину. Это была очень большая собака с недлинной лоснящейся шерстью, отливающей матовым блеском. Происхождением своим Карнеро был обязан легкомыслию корабельного пса Нерона, который решил совершить прогулку по острову за несколько часов до отплытия «Ориона». Он отстал от последней шлюпки и не вернулся на бриг. Найдя приют у островитян, Нерон впоследствии подружился с пленной волчицей Каррамбой, и она подарила жителям хижины остроухого щенка. Его кличка была составлена из начальных слогов имен матери и отца. Издали Карнеро можно было принять за большого волка. Над лобастым черепом торчали чутко настороженные уши; пушистый светло-серый подшерсток на могучей груди животного был сейчас испачкан кровью. Когда мальчик вошел в хижину, зверь положил к его ногам козленка. Широко раздвинув громадные лапы, собака стояла над поверженной жертвой с видом победоносного боксера на ринге. – Накорми его хорошенько, Чарли, не пожалей для него лучшего куска! – воскликнул Бернардито. – Если он делится с друзьями и не таит добычи для себя одного – значит, друзья могут на него положиться. Позаботившись о собаке, мальчик разделся и забрался под шерстяное одеяло. Бернардито задул свечу в фонаре, присел к очагу и раскурил трубку. Отблеск огня ложился на поседелые волосы и загорелое лицо капитана с сеткой морщин у глаз, удлиненным носом и жестким подбородком. Открытый ворот и закатанные рукава рубахи обнажали бронзовую грудь и столь ясно очерченную мускулатуру, будто над нею весь свой век трудился терпеливый скульптор. Кроме левого глаза, потерянного в юности, Бернардито не лишился ни зуба, ни даже волоса и никогда не знал болезней, исключая тропической лихорадки, свалившей его на «Черной стреле». Шесть ран оставили рубцы на теле капитана, но еще ни один медик не приближался к его ложу. Выпустив из трубки облако дыма, Бернардито следил, как оно нитями уходило в топку. – Теперь слушай обещанную сказку, Ли, – сказал он. – Вот однажды плыл Одноглазый Дьявол на своем черном корабле. Вдруг увидел он на берегу одного залива в Тирренском море высокую скалу, а на ней – трех человек с дымящимися ружьями. Целая рота королевских егерей окружала скалу, и плохо пришлось бы этим трем… – Нет, нет, дядя Тобби, так не годится рассказывать! – запротестовал мальчик. – Так неинтересно, давай сначала! – Ли, да ведь ты уже слышал начало этой сказки! – Все равно, рассказывай сперва про Испанию. – Ну ладно, Ли, слушай мою сказку с самого начала.2
…Жил-был в Каталонии один молодой бедный идальго*["79]. Звали его дон Бернардито Луис эль Горра. В Испании родители любят давать своим детям очень длинные имена, полагая, что этим у их ребенка увеличится количество покровителей среди святых. Поэтому полное имя, полученное им при крещении, звучало, коли хочешь знать, так: дон Хуан Мария Карлос Фердинанд Гонзальво Доминик. – Дядя Тобби! – раздался из темноты голосок мальчика. – Расскажи, почему дон Сальватор боялся отца Бернардито? Ты ведь никогда не говорил мне про это! – Нелегко тебе будет понять эту причину, маленький Ли, да уж попробую растолковать как умею… Трудными были те годы для народа Испании… Когда отец Бернардито был еще молод, умер жестокий старый король. Звали его Карл Второй, и был он угрюм, зол, невежествен и ребячлив: любимым его занятием была игра в бирюльки! И когда закрылись навсегда его завистливые очи, в стране начался раздор: на испанский престол оказалось сразу два претендента, потому что старый король не оставил наследника. Между обоими претендентами завязалась жестокая война. Один из них был француз герцог Филипп Анжуйский, а другой – проклятый немец Карл из семьи австрийских Габсбургов. Войну эту так и называли – Войной за испанское наследство. За Филиппа стояли французы, за Карла – англичане и голландцы. А честным испанцам, по совести, не нравился ни тот ни другой. Иноземцы наводнили и без того нищую, разоренную страну. Военное счастье клонилось то в одну, то в другую сторону. То войска Карла захватывали Мадрид и Филиппу приходилось отступать, то одолевал Филипп и туго приходилось Карлу. Участвовал в этой войне и отец Бернардито, который командовал ротой испанской пехоты, воевавшей за Филиппа Анжуйского: испанские вельможи говорили, что Карл Второй завещал свой престол ему. Но как только этот «законный» претендент занял провинцию Арагон, он сразу лишил ее народ старинных вольностей. Отец Бернардито услышал об этом с большим негодованием. Когда же новый король заявил, что «Пиренеев больше нет», и подчинил страну иноземцам-французам, отец Бернардито подал в отставку и отказался от королевского жалованья… Ты не спишь еще, мальчик? – Да нет, дядя Тобби, конечно нет! – Так вот, перед своим уходом в отставку отец Бернардито служил в полку дона Сальватора. Этот сиятельный гранд значился командиром полка, но военные дела он доверял другим, сам же занимался иными вещами… Однажды ночью, когда войска Карла снова перешли в наступление и королю Филиппу грозил разгром, дон Сальватор послал секретного гонца в лагерь противника, предлагая Карлу свою службу и весь свой полк. Сеньор Луис эль Горра, отец Бернардито, как раз выехал в ночной дозор и заметил подозрительного всадника. Он нагнал гонца дона Сальватора и захватил секретный пакет с предложением предательства… – Дядя, что же ты замолчал? Предателя, наверно, хорошенько наказали, да? Рассказчик вздохнул и ответил не сразу: – Видишь ли, мой Чарли, к этому времени отец Бернардито уже хорошо понял, что бедному человеку решительно все равно, кто из двух королей будет сидеть на троне, тем более что иноземцами были они оба. Филипп, под чьими знаменами сражался отец Бернардито, уже успел показать в Арагоне, как он считается с испанскими вольностями… Но, конечно, как человек честный, отец Бернардито возмутился тайной изменой. Он понес письмо в штаб, потребовал созвать всех офицеров полка и устроить над командиром-изменником скорый военный суд чести. Однако дон Сальватор был начеку и успел принять свои меры. Действовал он, конечно, не один, и его продажные сообщники по тайному сговору напали на честного идальго. Кое-как отец Бернардито отбился от них, был тяжело ранен, с трудом спасся с помощью верного солдата и даже сохранил при себе опасное письмо. Еле живым он добрался до дому и здесь надолго слег в постель от тяжких ран. Когда он поправился, то узнал, что война кончилась, а дон Сальватор Морильо дель Портес уже вошел в милость к новому королю, Филиппу Пятому, тому самому, кому гранд столь коварно изменил было в тяжелую для короля минуту! Отец Бернардито был беден, разбит болезнью и глубоко разочарован в новом монархе. Он получил известие, что отставка его принята, и с равнодушием отнесся к слухам о придворных успехах своего вероломного командира; понимая, что попытка позднего разоблачения не сулит уже никакого успеха, он отказался от нее, но отклонял и поползновения дона Сальватора к примирению. Дон Сальватор же без труда убедил короля, будто честный идальго – человек опасных, мятежных мыслей, и бросил службу из ненависти к королю-иноземцу. Так минуло много лет. Родились и выросли Бернардито и Долорес, и пришло время их отцу умирать. Сам сеньор Бернардито был в эту весну на корабле дона Рамона, в морском походе. Старик скончался на руках у жены и дочери. Перед кончиной он исповедовался в грехах и просил Бога отпустить ему давнее прегрешение – что изменник дон Сальватор остался не разоблаченным перед народом и властями. При этом умирающий признался, что пакет затерялся где-то в доме… Не берусь судить, откуда дону Сальватору стала известна тайна этой исповеди, но, вероятно, узнал он ее очень скоро. Полагаю, что монах-исповедник заработал на своей откровенности с доном Сальватором много больше, нежели получил от семьи Бернардито за свершение требы. Так вот, примерно через месяц после похорон отца Бернардито возвратился из плавания с доном Рамоном. Уже в Барселоне до него дошла весть о смерти отца, и он с грустью приближался к осиротевшему дому. В самый день возвращения Бернардито старый сеньор Сальватор Морильо дель Портес впервые почтил своим посещением скромный дом в предместье городка, где жила донья Эстрелла с обоими детьми. Домочадцы покойного синьора Луиса эль Горра занимали три крайние комнаты и уцелевшую угловую башню этого почтенного «замка», предоставив все его остальные помещения паукам и сквозному ветру. В трех жилых комнатах топился один камин, потому что дров всегда не хватало, а что касается яств и лакомств, то наша нынешняя трапеза показалась бы там праздничной. Сеньор Сальватор прибыл с визитом в раззолоченной карете и, конечно, быстро увидел всю эту горькую нужду. Цель своего приезда он объяснил желанием выразить сочувствие осиротевшей семье старого однополчанина, а главное, быть представленным очаровательной сеньорите Долорес. Мать застала дочку за чтением нежного, очень скромного послания дона Рамона; она поправила наряд сеньориты, накинула на нее черную мантилью и мимоходом намекнула, чтобы в беседе с грандом она… про себя помнила об исповеди отца! Юная Долорес предстала перед грандом, как майский цветок перед старым мохнатым шмелем. Этот шмель прожужжал девушке все уши комплиментами и с каждой минутой становился все более ласковым и благодушным. Сеньорита Долорес скромно улыбалась похвалам, учтиво беседовала с грандом, но после ухода из гостиной поспешила поскорее забыть об этом посещении, так как у нее имелось куда более интересное занятие – чтение нового письма от дона Рамона. Оставшись наедине с доньей Эстреллой, дон Сальватор посетовал на свое вдовство и не отказался от глотка кислого домашнего вина. В своем показном расположении к хозяйке дома важный гость снизошел даже до того, что скушал майский персик из нашего запущенного садика… – Дядя Тобби! – прервал рассказчика мальчик. – Что ты сказал сейчас? Как так – «из нашего садика»? – Разве я сказал «из нашего»? Ты, верно, ослышался, мальчик! Нет, это был персик из старого садика родителей Бернардито… Так вот, скушав этот персик, дон Сальватор стал в торжественную позу и изволил оказать неслыханную честь семье своего бывшего офицера: он… предложил руку и сердце сестре Бернардито! – Он хотел жениться на ней? – Да, мой Ли. По крайней мере, он это предложил. Тогда старая сеньора вновь послала за дочкой и предложила гранду высказать эти слова самой девушке. Это очень не понравилось гранду, ибо за своих детей он привык решать такие вопросы сам. Когда же он повторил предложение уже в присутствии сеньориты, та посмотрела в глаза матери, перевела взгляд на свою ладанку и… ответила гранду учтивым, но весьма решительным отказом, после чего донья Эстрелла вздохнула с видимым облегчением. Взбешенный гранд, еле сдерживая злобу и раздражение, все же задал сеньорите вопрос, почему же она не желает составить счастье своей собственной, а также его жизни. И тогда сеньорита не удержалась от опасного соблазна. С самой очаровательной улыбкой она уязвила гранда намеком: дескать, она не убеждена в постоянстве лучших чувств дона Сальватора, ибо далекое прошлое дает все основания подвергать его верность сомнению! Невозможно было нанести гранду более чувствительный удар! Он понял, что духовник не схитрил с ним и что опасность не похоронена вместе со старым однополчанином. Все это привело гранда в неописуемую злобу. Он удалился, высоко вскинув подбородок с редкой колючей эспаньолкой, а в ту же ночь… Долорес исчезла из дому! Похищение совершилось так тихо, что в доме никто даже не проснулся. Еще с вечера сеньорита удалилась из своей светелки, где жила вместе с нянькой, в пустую угловую башенку. Там она тихонько уселась со свечкой, пером и бумагой за сочинение ответного письма дону Рамону, и оттуда она исчезла, похищенная людьми дона Сальватора через пустые комнаты дома. Разбуженный уже под утро этой страшной новостью, Бернардито оседлал старую хромую лошадь своего родителя и затрусил в сторону Барселоны в надежде застать корвет еще в порту и оповестить о случившемся дона Рамона, жениха похищенной девушки. Вечером Бернардито появился на борту корабля, но узнал, что сеньор Рамон проводит свое время где-то на берегу. Бернардито кинулся искать своего друга по ближайшим трактирам и действительно застал его в маленьком номере портовой гостиницы. Дон Рамон уединился, чтобы дать волю своему поэтическому вдохновению: он сочинял поэму, посвященную Долорес. Между тем сеньора Эстрелла направилась к городскому коррехидору*["80], чтобы тот послал своих альгвазилов*["81] в замок гранда Сальватора и освободил девушку. Но лукавый коррехидор смекнул, что с бедной доньи Эстреллы взять нечего, в то время как ссора с важным грандом лишила бы его обильных доходов, а может быть, и выгодной службы. Он притворно обещал донье Эстрелле всяческую помощь в розысках дочери, но выразил уверенность, что почтенный старик решительно не виновен. Коррехидор заявил, что девушка могла быть похищена только ее нетерпеливым женихом, доном Рамоном де Гарсия, и никем другим. А дон Рамон, потрясенный неожиданным несчастьем, уже под утро разыскал в Барселоне одного своего состоятельного приятеля, некоего Хуанито Прентоса, занял у него десять золотых для покупки лошадей и предложил ему принять участие в розысках девушки, не подозревая, что Хуанито Прентос приходится сродни старому коррехидору. Чтобы не прослыть у товарищей трусом, Хуанито скрепя сердце согласился ехать, но по дороге усиленно уговаривал своих друзей не затевать ссоры с влиятельными людьми и покончить дело миром. Вечером, на второй день после похищения, все трое прискакали в городок. О девушке по-прежнему не было ни слуху ни духу, но от ее матери молодые люди узнали, что коррехидор обвиняет в похищении дона Рамона. Дон Рамон, как человек прямодушный и вспыльчивый, не сходя со своего усталого коня, повернул его снова к воротам, безжалостно пришпорил и вмиг домчался до дома коррехидора. Бернардито недолго думая пустился вслед за ним, а Хуанито Прентос, сославшись на крайнее изнеможение своего скакуна, остался утешать старую сеньору в ее доме. В дальнейшем, когда события стали принимать все более опасный оборот, Хуанито Прентос потихоньку улизнул назад, в Барселону… Перед воротами дома коррехидора дремал немолодой усатый альгвазил с алебардой. Рамон, отшвырнув алебардщика, прошел во внутренние покои, вытащил коррехидора из постели и выразил ему свое возмущение хорошими ударами шпаги, нанесенными плашмя по мягким частям тела. Пока дон Рамон воздавал это возмездие клеветнику, на крик алебардщика сбежалось еще несколько солдат. Они накинулись на Бернардито, который во дворе, не покидая седла, держал в поводу лошадь своего друга. Дону Бернардито поневоле пришлось спешиться и вступить в очень крупный разговор с альгвазилами, причем двое из них, по неосторожности, напоролись на кончик шпаги, сверкавшей в руке молодого кабальеро. Остальные уже начали теснить его, когда из дома выскочил Рамон. Вдвоем они так исправно исполнили роль жнецов, что ни один из пяти подкошенных альгвазилов уже не поднялся с плит этого двора. Вскочив на коней, Рамон и Бернардито пустились прямо к замку дона Сальватора, расположенному в шести милях от города. Их лошади сильно утомились, и всадники приблизились к длинной ограде замка уже под утро. Рассвет чуть занимался, но они все же различили, как в самой дальней части стены открылась небольшая потайная дверца и два человека вынесли какой-то длинный белый сверток. Озираясь, они подошли к быстрой горной речке, бросили сверток в воду и, не задерживаясь, пустились назад, к ограде. Всадники переждали в прибрежных кустах, пока служители замка не скрылись за садовой дверкой. Спрятав коней, друзья спустились на дно ущелья, где среди развороченных камней пенился бурный поток. Долго они ходили по берегу, всматриваясь в быструю черную воду, и наконец на четверть мили ниже замка увидели в волнах, у каменистой косы, что-то белое, зацепившееся за куст. Войдя по пояс в воду, друзья вытащили тяжелый мешок на берег, распороли его и увидели… мертвую, задушенную Долорес. Друзья молча укрыли плащами свою ужасную находку, подняли ее и выбрались на тропу. Они привязали завернутое тело несчастной девушки к лошади Рамона и решили ехать с этой роковой кладью прямо в Мадрид, в столицу, чтобы разоблачить злодея перед королем и потребовать лютой казни предателя и убийцы. Уже совсем рассвело, когда оба кабальеро тронулись в путь. В этот миг из-за ближайшего утеса вылетел конный отряд альгвазилов и слуг дона Сальватора во главе с самим грандом. Обоих друзей тотчас же схватили и связали, составили на месте полицейский протокол и повезли в тюрьму вместе с их недвижной ношей. Уже на городской окраине Бернардито, смекнувший, какая участь им готовится, потихоньку освободил руки от пут. Осторожно восстановив кровообращение, он внезапно выпрямился в седле, сорвал с себя остаток веревки и, выхватив полицейскую саблю у ближайшего стражника, повернул коня и врубился в самую гущу отряда. Он уже выбил из седла двух конников и схватил под уздцы лошадь, к которой накрепко был привязан Рамон, но чей-то пистолетный выстрел грянул в упор, и конь дона Рамона грохнулся оземь вместе с привязанным всадником. В тот же миг дон Сальватор подскакал к Бернардито и выстрелил в него из пистолета. Пуля попала в саблю, и осколок угодил прямо в левый глаз Бернардито. Полуослепленный и залитый кровью, он все же дернул коня в сторону и помчался по извилистым улицам городской окраины. Близ домика с чьим-то винным погребком он бросил коня и плашмя ударил его саблей по крупу, так что животное понеслось дальше, а сам Бернардито, уже окончательно обессиленный, вбежал во двор и укрылся в темном погребе. Преследователи проскакали мимо, но вскоре увидели коня без наездника и повернули обратно, заглядывая во все двери и чердаки домов. Хозяин погребка наблюдал всю сцену из окна и, едва лишь Бернардито укрылся между бочками, повесил на дверях погреба огромный замок, ключи от которого болтались у него на поясе. Вскоре альгвазилы въехали и во двор к виноделу. Тот покорно позволил осмотреть двор и дом; когда же стражники добрались до подвала, хозяин побожился, что не открывал дверей со вчерашнего дня. Альгвазилы поехали дальше, а хозяин, подождав, пока смолкнет стук копыт, снял замок с дверей подвала и молча удалился в дом. Звали этого человека Пабло Вильяс, и Бернардито понял, что не перевелись еще в Испании великодушные люди. Увидев, что спасенный не торопится покидать свое убежище, Пабло Вильяс в течение дня несколько раз входил в погреб, упорно не замечая длинного клинка, торчавшего из-за бочки; он даже нечаянно позабыл около этой бочки ломоть хлеба, кусок сыра и кувшин с водой. Бернардито обмыл свои раны, утолил голод и жажду и в сумерках выбрался из погребка. Он добрался до соседнего переулка, где знал жилище старухи мавританки, занимавшейся ворожбой и врачеванием. Эта старуха двадцать дней скрывала кабальеро в своем домике, вылечила его раны, но левый глаз он потерял и с тех пор носил на лице черную повязку вроде этой, что ношу я. Уже на следующий день после заключения в тюрьму дона Рамона весь городок услыхал о страшном преступлении. Люди коррехидора ловко распространили слух, что злодей Рамон де Гарсия похитил и умертвил свою бывшую невесту, сеньориту Долорес эль Горра, давшую согласие стать женой гранда Сальватора, и что в этом злодеянии участвовал и брат убитой, Бернардито Луис. Оба они совершили также нападение на городского коррехидора, жестоко его избили, пытались ограбить и убили при этом пятерых подданных короля, доблестных альгвазилов, охранявших мир и покой города. Затем злодеи ночью подкрались к замку дона Сальватора и пытались подбросить труп своей несчастной жертвы под стены замка, дабы подозрение в похищении и убийстве пало на благородного гранда. Не все жители верили этим хитросплетениям, но никто не смел громко высказать свои истинные подозрения. Несчастная мать одна отправилась в Мадрид, дабы поведать королю всю правду и добиться наказания настоящих виновников. За время ее отсутствия суд «скорый и справедливый» приговорил обоих молодых людей к позорной публичной казни через отсечение головы и к лишению всех прав состояния. Бернардито был осужден заочно, объявлен в бегах и вне закона: каждый мог теперь убить его, как бешеную собаку. Приговор был представлен его королевскому величеству, когда сеньора Эстрелла прибыла в Мадрид. Матери Бернардито все же удалось получить аудиенцию; король повелел отсрочить исполнение приговора и послал в городок главного прокурора для вторичного расследования всего дела. Важным свидетелем в пользу обоих друзей должен был явиться их третий спутник, Хуанито Прентос. Тогда дон Сальватор вместе с коррехидором подкупили презренного Хуанито, и тот подло подтвердил перед королевским прокурором, будто злодеяние совершено Рамоном и Бернардито. В бумаге, представленной королю, Хуанито Прентос прямо показал, что ненависть обоих кабальеро была сильнее всех других чувств, и злодеи предпочли увидеть Долорес мертвой, нежели женою своего врага. Король после доклада прокурора утвердил приговор, и честный Рамон де Гарсия был четвертован и обезглавлен на городской площади. С балкона смотрел на казнь дон Сальватор. Рядом с ним стоял коррехидор. Последними словами дона Рамона были: «Я умираю невинным. Вон злодей!» – и он указал рукою на балкон. В толпе начался ропот, ибо народ ненавидел обоих, но палачи уже потащили дона Рамона к плахе, и через несколько минут голова казненного, вздетая на пику, поднялась над толпой. На том же помосте палачи обезглавили соломенное чучело, на котором висела дощечка с надписью: «Бернардито Луис эль Горра», а за поимку живого Бернардито король назначил награду. Однако уничтожением опасных ему молодых людей дон Сальватор не ограничился. Он добился еще, чтобы самый дом родителей Бернардито был сожжен и разрушен до основания, а старую мать, донью Эстреллу, заключили в тюремную крепость. Полгода держали ее там заложницей, а затем, по всемилостивейшему повелению короля, донья Эстрелла была выслана из Испании. Она добралась до Венеции и там прожила много лет в доме одного вельможи, графа Паоло д’Эльяно, которого, верно, тронула ее печальная повесть. В этом доме потом и отыскал ее Бернардито… С тех пор он часто перевозил свою мать с места на место и оставил наконец в Греции. Тут он с ней и расстался, должно быть уж навсегда… – Ладно, дядя, лучше рассказывай дальше про самого Бернардито. Теперь он станет Одноглазым Дьяволом, правда? – Да, сынок, тогда-то Бернардито и превратился в Одноглазого Дьявола. Слушай, как это произошло.3
…Залечив свои раны и покидая домик мавританки, Бернардито не сбрил отросшей за месяц бороды, нацепил черную повязку, закрывшую половину лица, надел нищенское платье, подпоясался веревкой и взял в руки грубую суковатую палку. Но внутри этой палки был острый толедский клинок, а за пазухой у нищего лежал заряженный пистолет. От старой мавританки Бернардито знал все, что происходило в городе, и… вовремя поспел на городскую площадь! Жестокую казнь дона Рамона он молча наблюдал из толпы. Никто не обратил внимания на нищего с бледным лицом и горящим единственным глазом. После казни, когда народ расходился в угрюмом молчании, Бернардито протолкался к эшафоту и смочил свой шелковый платок кровью друга, обагрившей деревянный помост. Он спрятал на груди это печальное знамя, ушел в окрестные горы и отыскал укрытую среди скал пещеру. Здесь он достал из-за пазухи окровавленный платок, положил его на камень в углу и громко произнес клятву мести. Обессиленный горем и усталостью, он повалился на голые камни, даже не подстелив под голову нищенского плаща. Тело его сотрясалось от озноба. Мысли, одна тяжелее другой, ворочались в голове, как мельничные жернова. Думал Бернардито о том, что остался он теперь совсем один на свете, без матери, без сестры и без друга, лишенный угла и крова над головой. Все отнял у него дон Сальватор, вплоть до права ходить по земле и дышать воздухом, потому что теперь всякий мог лишить его жизни и получить за это обещанную королем награду. Все прежние чувства и привязанность умерли в нем, и только жажда мести жгла ему сердце. О Боге он забыл и призывал сатану себе в помощники. Уже наступила ночь, и, измученный всем пережитым, Бернардито закрыл глаза, но сразу же открыл их снова, потому что почувствовал, что он уже не один в пещере! Смутные тени плясали под сводом, неслышно скользя в сумраке. Вмиг припомнилась Бернардито сказка, слышанная им в детстве от старого пастуха Хозе, про разбойников, которые прятали в этих скалах награбленное, а потом в ужасе бежали от бесовского наваждения. Все быстрей становилась пляска теней, и уже стал различать Бернардито отвратительные морды крутящихся бесов. Были они серыми, как летучие мыши, но походили и на облака грязного тумана. Мшистые стены пещеры пришли в движение. Почудилось Бернардито, что бесы, кружась, приближаются к нему, хватают за горло, сдавливают череп. Вот и дышать все труднее… Невесть откуда взявшийся красный свет заливает пещеру… И когда рой теней заплясал еще стремительнее над телом распростертого кабальеро, пол в пещере внезапно качнулся, запах серы наполнил все ущелье, и сам сатана в красном плаще предстал перед ним, вонзив ему прямо в лицо огненный взор свой. Властитель ада протянул руку к дальнему углу пещеры, и несчастный Бернардито увидел там, в клубах тумана, два призрака: белый сверток с телом сестры и мертвую голову друга на плахе… Внезапно словно живительной прохладой повеяло в пещере. Исчез из нее страшный гость в красном плаще, пропали все видения и тени. Бернардито протер свой глаз и сел, дико озираясь вокруг. Небо уже светлело, брезжил рассвет. В пещеру врывался свежий утренний ветерок. Где-то далеко внизу звенели бубенчики овечьего стада, шумел поток на дне ущелья, и тени гор покрывали долину, где еще спал родной городок. В углу пещеры по-прежнему лежала на камне кровавая тряпица, и горячая волна ненависти снова вскипела в душе обездоленного. Он нагнулся за платком, и при этом рука его ударилась о какую-то железку. С трудом, как тяжелобольной, выполз Бернардито из пещеры, сломал смолистую кипарисовую ветку и, запалив ее, осветил этим факелом темный угол. Ржавая кирка лежала на камне, а рядом белели черепа и кости скелетов. Бернардито взял кирку и отвалил камень. Черная щель открылась под ним. Бернардито расширил ее киркой и вытащил глиняный горшок, завязанный кожей; на нем были грубо намалеваны чем-то белым череп и кости. Бернардито разбил горшок киркой и обнаружил в черепках ветхую черную тряпку; сквозь рваную ткань на пол посыпались червонцы. Он доверху наполнил золотом карманы, а остаток положил в свою нищенскую суму. Здесь были монеты всех стран, но чаще попадались старинные испанские дублоны и пиастры, французские луидоры, тяжелые, очень старые ангелы британской чеканки, итальянские флорины, турецкиедукаты и голландские гульдены. Едва успел Бернардито спрятать золото, как на горной тропе, что змеилась пониже пещеры, послышались чьи-то осторожные шаги. Тихонько выглянув, Бернардито увидел черного монаха, который, озираясь и цепляясь за кусты, лез вверх, к пещере. Тогда Бернардито быстро отбежал в дальний угол, взобрался под самый свод и притаился. Он еще не успел достать из-за пазухи пистолет, как голова монаха показалась у входа в пещеру; незнакомец зажег свечу и начал осматриваться вокруг. Увидев разбитый горшок и черную тряпку на полу, монах завыл и повалился на пол… Ты не спишь еще, маленький Ли? – Что ты, дядя Тобби! Конечно не сплю! – Тебе не страшно? – Немножко страшно, зато очень интересно! – А ты ничего не слышал в шуме ветра за окном? – Мне почудилось, будто кто-то стонет или воет… Но больше ничего не слышно. Говори дальше! – Должно быть, и мне только почудилось… Ну, слушай! Монах долго лежал распростертый на земле, и у нашего Бернардито уже заныли мускулы ног от неудобной позы под сводами пещеры. Наконец монах поднялся и поднес свечу к дыре под сдвинутым камнем. Он порылся в земляной осыпи и вытащил оттуда небольшой ящичек, которого Бернардито второпях не заметил. Спрятав ящичек в дорожный мешок под сутаной, монах достал из кармана полотенце, намочил его в ручейке, журчавшем неподалеку, и вернулся в пещеру. Потом он укрепил свечу возле отверстия, обмотал себе рот и нос мокрым полотенцем наподобие маски и стал ковырять киркой в глубине дыры. После недолгих усилий он выпрямился и стал глядеть на пламя свечи. Сначала она горела ровно, а потом огонек стал тусклым, затрещал, и вдруг сама собою свеча погасла. Монах бросил кирку, плотнее прижал полотенце к лицу и торопливо выбрался из пещеры. Бернардито сейчас же начал спускаться. Он еще не добрался до пола, как ощутил во рту сладковатый, неприятный вкус. Голова закружилась, и стены тайника поплыли, словно они были из дыма. Он почти свалился с каменного выступа, подхватил свою палку и, теряя сознание, последним усилием ползком выбрался из пещеры на свежий воздух. Его тошнило, руки и ноги сводило судорогой, и чистый холодный воздух ущелья, как ножом, резал легкие. Бернардито кубарем покатился по крутому склону и почти замертво упал у крошечного водоема в зарослях орешника. Не успел он опомниться от падения, как увидел перед самым носом дуло пистолета. Сиплый голос произнес: «Отдай мне адское золото, бродяга, или черти в преисподней зальют им твою жадную глотку!» С трудом приподняв голову, Бернардито увидел монаха с оружием в руке и почувствовал, как другая рука в засаленном черном рукаве обшаривает его нагрудную суму. Монах сорвал ее с обессиленного кабальеро и вытащил из нее тряпицу окровавленного шелка. Как ни слаб был Бернардито, но, увидев этот платок в чужих руках, он разжал стиснутые зубы и вымолвил: «Бери золото, но отдай мне эту вещь!» Монах с любопытством разглядывал платок. «Это твой талисман, что ли?» «Нет, это мое знамя, под которым я должен победить или погибнуть». «Кровь на нем еще свежая. Уж не от вчерашней ли она казни? Кто ты такой, одноглазый бродяга?» «Мститель», – отвечал Бернардито. Монах протянул ему кружку воды. Язык с трудом повиновался Бернардито, мозг был отуманен, но даже и в этом состоянии он сообразил, что будь этот монах посланцем темного царства, пригрезившегося ночью, он обходился бы без новенького пистолета с надписью: «Париж, 1742 год». Кабальеро уже догадался приписать свои ночные видения действию какого-то ядовитого газа, проникавшего в пещеру сквозь щель и трещины в полу. Смутная догадка, что хитрый монах может принадлежать к разбойничьей шайке, о которой рассказывал старый пастух, всплыла в мозгу Бернардито, и он пристальнее вгляделся в лицо собеседника. «У тебя, бродяга-мститель, остался еще сатанинский металл. Ты никуда не сможешь донести его, он все равно прожжет твои карманы», – сказал монах, вновь поднимая пистолет. В это время трое овечьих пастухов показались на тропе, и монах, не опуская пистолета, приложил палец к губам. Пастухи сели неподалеку и принялись разводить костер. «Оставим в покое сатану и его детей. Тебе хватит того, что у тебя лежит в суме», – прошептал Бернардито, садясь и ощупывая свои карманы, полные золота. Незаметно он вытащил из палки отцовский клинок, отбросил им руку монаха с оружием и вцепился в ворот доминиканцу, приставив к его горлу клинок. Он увидел близко перед собою вытаращенные глаза. Испытывая суеверное почтение перед черным одеянием противника, Бернардито отпустил его и спрятал свой клинок. Пастухи повернулись на шорох в кустах и взяли в руки здоровенные дубины. Бернардито и монах замерли на четвереньках, искоса поглядывая друг на друга. Пастухи успокоились и опять уселись у своего котелка. «Я сильно голоден», – пробормотал служитель церкви. «Пойдем к этим людям», – предложил Бернардито. «А ты их знаешь?» «Я здесь никого не знаю». Однако черный спутник предпочел потерпеть с трапезой, из чего Бернардито заключил, что и он не слишком уверенно чувствует себя в этих краях. Монах пересыпал золото из сумы Бернардито в свой мешок и, взвесив его на руке, сердито пробормотал: «Проклятый Одноглазый Дьявол! Знаешь, кого ты ограбил? Это не мое золото, а в твоих карманах осталось впятеро…» «Если это золото черта, – хладнокровно отвечал Бернардито, – то оно попало в хорошие руки. Как тебя зовут, хитрый монах с пистолетом?» «На больших дорогах меня когда-то звали отцом Симоном. Неоперенный ты, видно, гусь, что не слыхал обо мне и тычешь мне в горло свою детскую железку! Этим золотом ты подавишься, птенец!» Глаз Бернардито сверкнул такой злостью, что монах попятился. «Не слишком давно я нанизал на эту железку пятерых альгвазилов. Знай свои четки, монах, и ступай подобру-поздорову своей дорогой!» «Сдается мне, что она у нас с тобой одна, – сказал монах примирительно. – Да простит тебя святой Доминик за то, что ты меня… гм… за то, что ты заставил меня поделиться с тобой! Но скажи, как ты пронюхал про золото Гонзаго?» Бернардито не признался, что первый раз слышит это имя, и отвечал уклончиво. Наконец голодные нищий и монах спустились в долину. В убогом трактире, который посещался только пастухами, погонщиками мулов и бродячим людом, оба сели за отдельный столик. По соседству с ними за кувшином вина сидели два крестьянина. Один рассказывал другому про вчерашнюю казнь. Бернардито услыхал собственное имя, повторенное несколько раз. Скрипнула дверь, два альгвазила вошли в трактир. «Архангелы!» – проворчал один из крестьян, поднял кувшин над головой, и струйка вина полилась ему в открытый рот. «Эй, за столиком, – закричал альгвазил, – захлопни рот! Поверни к нам лицо! Иди-ка к нам поближе!» Альгвазилы осмотрели и даже ощупали подошедшего. И лишь после клятвенного заверения трактирщика, что перед ними находится не переодетый Бернардито, полицейские отпустили крестьянина. Затем один из альгвазилов достал бумагу и громко прочитал вслух приметы преступника Бернардито Луиса эль Горра. Под конец они объявили, что за голову живого или мертвого Бернардито королевская казна выплатит тысячу дуро. В оглашенном документе ничего не говорилось о единственном глазе кабальеро. Значит, ранение осталось неизвестным властям. Теперь мудрено было узнать кабальеро Бернардито в одноглазом оборванце с растрепанной бородкой! Нищий приблизился к альгвазилам, которые уже подошли к стойке и бросили бумагу на прилавок. Приложив ладонь к уху, нищий старческим голосом спросил, о чем толкует прочитанный документ. «Уж не собираешься ли ты, старина, поохотиться за Бернардито?» – весело спросил альгвазил. «Смотри, как бы он не зашил тебя самого в белый мешок!» – смеясь, поддакнул второй. «Налей-ка, хозяин, для пробы этого винца, – потребовал первый страж. – Да поскорее! Сеньор коррехидор велел через час вернуть ему эту бумагу обратно. Он хочет послать ее в скоропечатню, чтобы завтра она была в виде афиши расклеена на всех перекрестках». Услышав эти слова, Бернардито взял с прилавка карандаш трактирщика и незаметно написал несколько слов на отогнутом краю бумаги. Альгвазилы выпили, повторили, расплатились за вино одобрительным покрякиванием и, взяв свою бумагу, удалились с важностью. Городской коррехидор, получив эту бумагу в собственные руки, незамедлительно обратил внимание на следующие строки в ее нижнем углу:«Сеньор коррехидор! Если в тюрьме с головы моей матери упадет хоть один волос, я повешу тебя на косах твоей дочери Мигуэлы.Через час, когда целый отряд альгвазилов оцепил всю рыночную площадь, нищий и монах уже пробирались горными тропами к Барселоне. Прошло около двух недель после всех этих приключений. Поздно вечером в рыбачьем домике, затерянном среди прибрежных гор Каталонии, сидели за игрой в кости пять человек. За окнами гудел штормовой ветер… Среди играющих выделялся человек в лиловом бархатном камзоле и берете с пером. Его левый глаз закрывала черная повязка. Трудно было определить его возраст, потому что единственный глаз его сверкал молодо, а волосы поседели. Рядом сидел пьяный монах с непокрытой головой. Его выбритую тонзуру на макушке окружали жиденькие пряди всклокоченных волос. Толстенная Библия торчала у него из кармана, а на груди висело костяное распятие. Напротив кабальеро в берете играл сын хозяина-рыбака, молодой Маттео Вельмонтес. Красная косынка, стянутая сзади узлом, охватывала его курчавые волосы и спускалась на лоб до черных густых бровей. Он был опоясан кушаком, из-за которого торчали ручки двух пистолетов и двух ножей. Человек этот слыл за самого ловкого контрабандиста на всем побережье, а отцу его, старому Христофоро, принадлежал парусный баркас «Толоса». Облокотившись на стол изувеченной левой рукой с тремя обрубками пальцев, метал кости смуглый, как мавр, андалузец с курчавой бородкой и могучей волосатой грудью. Звали его Антонио Карильо. Был он некогда славным тореадором, любимцем севильской арены. В злополучный для него день бешеный бык, по счету одиннадцатый из тех, что были уложены им на песок в течение одной праздничной корриды*["82], распорол ему бок и изувечил левую руку. Среди зрителей находился и сам король Филипп V, громко бросивший презрительное замечание по адресу поверженного тореро. Антонио приподнялся на песке, снял с пальца перстень, которым его величество король лишь накануне изволил наградить храбреца за десятого быка, и швырнул кольцо в королевскую ложу. Перстень угодил в лицо начальнику королевской стражи, а Антонио упал на песок, зажимая руками страшную рану. Очнулся он в тюремной камере с ампутированными пальцами и наспех зашитым боком. Кроме трех ребер и стольких же пальцев, тореро навек лишился монаршей милости, а затем оказался под одним кровом с Бернардито, которого встретил на горной тропе. Пятый игрок был невысок, белокур, с нежным, почти девическим лицом. Но этот юноша с длинными, как у ангела, ресницами гнул подкову своей женственной рукой, с двадцати шагов не давал промаха по игральной карте, а его стройные ноги в туфлях с пряжками были неутомимы, как ноги борзой собаки. Этот молодой человек вырос в большой, дружной семье. Внезапно, в одну неделю, он лишился всего: родителей, братьев и сестер, дома и имущества. Отец его, славный капитан де Лас Падос, был отважным мореходом и вдобавок человеком ученым. На золотые пиастры, собранные у приближенных короля и предприимчивых купцов, он несколько раз снаряжал корабли и пускался в опасные плавания к неизвестным берегам вновь открытых стран и островов в южных морях. Возвращаясь из странствий, капитан усаживался за описание новых земель и составление правдивых карт. Все моряки Испании, Португалии и Франции благословляли его за этот благородный труд, но купцов не интересовали науки и ученая слава соотечественников: они требовали золота, они ждали, что капитан быстро набьет их сундуки сокровищами. С большой удачей вернулся в Барселонскую гавань из последнего плавания потрепанный бурями корабль капитана де Лас Падоса. Мореходы открыли в Тихом океане благословенный остров, населенный веселым темнокожим народом. Туземные жрецы удивили капитана своими познаниями в математике, астрономии и искусстве врачевания. Хижины и утварь туземцев были покрыты тонкой резьбой, ткани поражали яркостью красок и красотою узоров. Несколько больших селений на острове украшали причудливые башни и храмы, уставленные золотыми фигурами диковинных зверей и птиц. Островитяне встретили капитана и его товарищей, как друзей, а провожали, как братьев. В честь экипажа корабля был устроен праздник. Девушки убрали корабль цветами, и он тронулся в обратный путь, провожаемый приветственным хором. Когда кредитор капитана, барселонский купец Прентос, отец презренного Хуанито, узнал о богатствах чудесного острова, он втайне снарядил три корабля, посадил на них вооруженных головорезов и предложил капитану вести эту армаду к острову. Честный капитан отказался наотрез. Он знал, чем это грозит его друзьям-островитянам: все население острова обречено на гибель, селения будут преданы сожжению, храмы – беспощадному расхищению. Он не мог стать убийцей целого народа! И вот тогда подлый Прентос сочинил донос на благородного капитана, обвиняя его в измене королю. Капитана заключили в тюрьму и пять суток пытали, чтобы выведать путь к острову. Но капитан не выдал своей тайны и на пятую ночь умер от пыток. Дом его и имущество были конфискованы и за бесценок достались купцу Прентосу. Когда люди купца пришли в дом, три сына капитана взялись за шпаги. В короткой схватке двое из них были заколоты, лишь младшему, Алонзо, удалось бежать. Обеих дочерей капитана королевские слуги заточили в монастырь. Жена его от горя лишилась рассудка и была найдена мертвой на берегу, у самого трапа осиротевшего корабля… – Дядя Тобби, ты, верно, забыл, что Бернардито играет в кости у рыбаков и что пятый игрок… – Верно, мой мальчик, я совсем заговорился о добром капитане и не сказал, что пятый игрок, юноша с девичьим лицом, и был младшим сыном капитана. Звали его Алонзо де Лас Падос. Выброшенный на большую дорогу, он повстречался с отцом Симоном и теперь швырял кости, подзадоривая других игроков. Когда очередь бросать пришла к Бернардито, он отложил кости в сторону и вгляделся через низенькое оконце в ночной мрак. За уступами береговых скал бушевало море, и пенные гребни возникали в свете луны, как вспышки белых зарниц на воде. «Сеньоры! – обратился он к играющим. – Прошу тишины! Мы вступаем в суровое братство по оружию. Перед нами еще долгие часы ожидания, потому что баркас Христофоро вряд ли вышел в такую бурю с Минорки*["83]. Прекратим игру и скрепим наш союз. Мы еще мало знаем друг друга, между тем наше братство должно быть вечным. За отступничество – смерть! Есть еще время для слабодушных уйти отсюда с миром, пока не сказано последнее слово». Игроки бросили кости. Бернардито был по годам самым младшим из них, но голова его успела поседеть от пережитого, и какая-то внутренняя сила подчиняла ему всех этих людей, столь не похожих один на другого. Бернардито развернул свое печальное знамя, уколол себе руку кинжалом и кровью написал на чистом пергаменте слова клятвы. Затем он подозвал Маттео Вельмонтеса. Коротко рассказав о своей беспокойной жизни контрабандиста и моряка, Маттео, с общего согласия, тоже закрепил кровью на пергаменте принадлежность к новому братству. За ним это сделали Антонио Карильо, Алонзо де Лас Падос, и, наконец, очередь расписаться дошла до отца Симона. «Объясни братьям, кто ты и чье золото попало в наши руки», – приказал Бернардито. «Друзья, – сказал монах, – священный сан запрещает мне клясться в чем-либо, кроме как в верности истинной церкви. Выслушайте мою историю и считайте меня и без кровавой подписи своим братом до конца моих дней. В этом я целую крест перед вами!» Старик рассказал, что когда-то в молодости он любил девушку и обвенчался с нею против воли отца, человека гордого и жестокого. Отец лишил его наследства и изгнал из дому. Однажды, мчась верхом на коне по узкой горной дороге, неподалеку от родных мест, он наскочил на встречного всадника и вышиб его из седла. В ночной темноте пострадавший выхватил шпагу, и молодой человек, спешившись, вступил в драку и убил незнакомца. Принесли факелы, и он узнал в убитом родного отца. Потрясенный своим поступком, он принял монашество под именем отца Симона. Двадцать лет провел он в посте и молитве, замаливая свой грех, усердно читая священные книги и сочинения отцов церкви. Как-то раз, вступив с неким ученым служителем святейшей инквизиции в богословский спор, он зашел так далеко, что схватил попавший под руку том сочинений блаженного Августина и одним ударом увесистой книги вышиб дух у своего оппонента. В великом смятении отец Симон бежал в леса. Во сне он увидел, что святой Петр уговорил Господа отпустить грешнику его старую вину: видать, и привратник рая не больно жаловал отцов-инквизиторов! Очень скоро отец Симон оказался у лесного костра разбойников из шайки старого Гонзаго, наводившей ужас на путешественников в горах Италии, Франции и Испании. Пристав к этой шайке, отец Симон делил с бандитами их буйную жизнь, отпуская заранее грехи и сам наверстывая упущенное за двадцать лет поста и воздержания. Длилось это, пока королевские мушкетеры Людовика XV не разгромили шайку во французских Пиренеях. После долгих скитаний несколько уцелевших разбойников добрались с награбленным золотом до Каталонии с намерением сесть в Барселоне на корабль и отплыть в Геную. Ночь застала их на горной дороге, и они заночевали в укромной пещере среди скал. Отец Симон, приложившийся накануне к бутылке с особенным усердием, почувствовал ночью тошноту, выбрался из пещеры и целую ночь пролежал у ручейка, странно разбитый и преследуемый зловещими сновидениями. Когда рассвело, он вернулся в пещеру и застал страшную картину: его товарищи лежали мертвыми. Только один Пабло Вильяс, валявшийся у самого входа, подавал еще слабые признаки жизни. «Пабло Вильяс? – переспросил Бернардито. – Не тот ли это Вильяс, что содержит винный погребок в моем городе?» «Тот самый, – подтвердил отец Симон, – и он не содержал бы сейчас этого заведения, если бы я за ноги не вытащил его из пещеры и не отпоил молоком у пастухов. Эти пастухи объяснили, что в пещере живет сам дьявол и душит людей, забредающих к нему в гости». Очнувшийся Пабло в священном ужасе от всего, что ему привиделось ночью в пещере, решил махнуть рукой на золото, которое еще оставалось в сумках мертвых товарищей, и начать честную жизнь винодела. Отец Симон, сохранивший при себе мешочек дукатов, был случайно опознан на улице одним из купцов, ограбленных шайкой Гонзаго, и поспешил покинуть эти края. Прожив пять лет в Италии, отец Симон исчерпал свой золотой запас и задумал проверить, не уцелело ли в каталонской пещере сокровище Гонзаго. Добравшись до этого опасного места, он нашел в пещере два скелета в сапогах, сгнившие сумы с золотом и ржавое оружие. В пещере стоял тяжелый запах какого-то газа. Монах сходил в городок, принес с собою глиняный горшок и кирку, а затем, обмотав лицо мокрой тряпкой, обследовал пещеру. Он заметил, что ядовитый газ поступает сквозь щель в углу. Монах плотно забил глиной эту щель, а рядом выкопал яму. Завернув половину червонцев в черную тряпку, он всунул этот сверток в горшок, нарисовал на нем известью череп и опустил в дыру. Покончив с этим, отец Симон бросил взгляд на кости своих бывших товарищей, вздохнул и решил по-христиански предать эти бренные останки земле. Коснувшись ребер старого Гонзаго, он нащупал под остатками одежды шкатулку, окованную серебром. В ней оказалось двадцать девять сияющих алмазов, один крупнее другого. Но монах все сильнее чувствовал признаки отравления: слишком долго он пробыл в пещере. Почти теряя сознание, он поспешно бросил шкатулку в тайник, закидал яму щебнем и завалил сверху тяжелым камнем. Оставив кости разбойников, отец Симон еле выполз на свежий воздух с мешком червонцев. Этого золота оказалось достаточно для пяти лет развеселой жизни во Франции и Италии, а в июле 1742 года монах снова пустился в путь, чтобы пополнить текущий запас. Остальное было уже известно слушателям из рассказа Бернардито; все золото и драгоценности новые друзья сложили вместе и вверили охране сурового мстителя – предводителя братства…Бернардито».
4
Следующей ночью на баркасе старого Христофоро Вельмонтеса пятеро братьев-мстителей отплыли к турецким берегам, держа курс на Стамбул. Неделей раньше туда же вышел из Барселонской гавани тяжело нагруженный товарами корабль «Голиаф». На борту его находился сам владелец судна, купец Прентос, виновник гибели всей семьи молодого Алонзо. Старый Прентос взял с собою в это плавание и своего сына Хуанито, труса и негодяя, оклеветавшего дона Рамона и Бернардито. Трудно пришлось братьям-разбойникам на утлом баркасе во время августовских штормов на Средиземном море! Старый Христофоро, Маттео и Бернардито были опытными моряками, но оба других члена братства только учились управлять парусами и держать курс по звездам и солнцу, так как компаса у них не было. Шесть раз штормы задерживали их в пути. Но, к счастью друзей, они еще застали судно презренного Прентоса в бухте Золотого Рога. Товары, привезенные купцом из Испании, были уже проданы, и «Голиаф» принимал на борт обратный груз. Здесь были восточные благовония и пряности, сафьян и слоновая кость, дамасские клинки, парча и шелк, турецкий табак и бочонки розового масла. Богатой выручки ждал купец от продажи этих товаров испанским грандам и монастырям, и потому стража на корабле ни днем ни ночью не спускала глаз с надежно запертых трюмов и никого не подпускала даже близко к судну. И вот перед самым отплытием явился к месту стоянки судна важный иностранец со своей супругой. Они прибыли в богатых носилках британского посланника в Стамбуле и попросили Прентоса спуститься на набережную. Высокий господин в мундире английского офицера объяснил купцу на плохом испанском языке, что он – британский полковник в отпуске, совершающий свое свадебное путешествие. Супруга полковника – полячка, не понимавшая по-испански – молча стояла рядом с мужем, переводя взгляд голубых очей с корабля на его владельца. Эта чета знатных иностранцев уже возвращается в Англию, но на обратном пути намерена посетить Мадрид. Поэтому от имени британского посланника полковник просил принять его на корабль вместе со слугою и французским епископом, другом и попутчиком полковника. Полковник был уже с проседью, лишился на фландрских полях в 1714 году левого глаза и носил черную повязку, пересекавшую ему лицо. Во время беседы сын купца, Хуанито, тоже появился на берегу. Прелестная белокурая полячка сделала умоляющее лицо и так кокетливо улыбнулась ему, что тот стал просить отца уважить просьбу важных путешественников. Полковник извлек из кармана кошелек с золотом, и размеры кошелька быстрее остальных доводов пресекли колебания осторожного купца. Золото перешло в карманы Прентоса, а Хуанито сам вызвался проводить новых пассажиров «Голиафа» до британского посольства, чтобы помочь им перебраться на борт. Все трое уселись на подушки закрытых носилок и на плечах атлетических носильщиков отправились в загородную виллу. Купец предупредил, что судно уже выходит на рейд, поэтому пассажирам предстояло попасть на него с помощью шлюпки. По грязным улицам Стамбула носилки прибыли наконец к небольшой вилле. В доме был пустынно, и прислуга состояла не из англичан, а из турок. Самого британского посланника не оказалось дома, но в уютном покое был сервирован завтрак с изобилием превосходных вин. За завтраком полковник и французский епископ поинтересовались, надежно ли вооружен «Голиаф» и достаточны ли запасы пороха. Получив от Хуанито самые успокоительные заверения, полковник приказал слугам немедленно собрать небольшой багаж. Через час все общество снова уселось на подушки носилок. Хуанито оказался между полковником и его молодой женой, а епископ в лиловой шелковой рясе поместился против них. Подвыпивший сын купца рискнул нащупать в полумраке носилок ручку прелестной панны и, к своей неописуемой радости, почувствовал легкое ответное пожатие; при каждом толчке носилок ручка кокетливой панны все сильнее сжимала его пальцы. Раскуривая трубку, полковник неожиданно заметил этот непозволительный флирт. Громовым голосом он потребовал немедленного удовлетворения, высунулся из носилок, отдал какое-то приказание носильщикам и угрюмо замолчал, поглядывая на Прентоса своим единственным глазом и грозно поигрывая рукоятью очень длинной шпаги. Когда они прибыли на набережную, начинало вечереть, но в порту было еще много всякого люда. Далеко на рейде виднелся «Голиаф», а у самого причала стоял баркас со старым шкипером в испанском берете и бородатым матросом, у которого на левой руке было всего два неповрежденных пальца. Полковник крепко взял под локоть купеческого сынка, а под другую руку, к немалому изумлению Хуанито, его пребольно ухватили нежные пальцы панны. Так он был мгновенно доставлен к баркасу. Затем полковник еще раз соскочил на берег, и Хуанито услышал, как он с помощью странной языковой смеси советовал турецким носильщикам поскорее замазать британский посольский герб на дверце носилок. Последняя его фраза привела Хуанито в трепет, ибо, вручая старшему носильщику кучку золотых монет, полковник сказал ему: «Прощай, старик, и не поминай лихом Одноглазого Дьявола Бернардито!» Ужасная догадка мелькнула в уме у Хуанито, но баркас уже пенил волны Золотого Рога и часа через два пристал к голому, пустынному острову. «Выходи!» – приказал Бернардито предателю и сам следом за ним ступил на каменистую почву. Было уже темно, ни одного огонька не мелькало в этом безлюдном месте. Только далеко вдали небо и море чуть окрашивались отблеском огней турецкой столицы. «Взгляни мне в лицо, Хуанито Прентос, – сказал Бернардито. – Узнаешь ли ты меня?» Как ни вглядывался предатель в суровое лицо, он не мог узнать в нем черт бывшего кабальеро, хотя и догадывался, кто стоит перед ним. «Помнишь ли ты казненного дона Рамона, шелудивая собака?» Задрожав всем телом, Хуанито прошептал, что он был другом покойного сеньора Рамона де Гарсия. «Тогда повтори, клеветник, то, что ты сказал королевскому прокурору, и скажи, сколько заплатил тебе дон Сальватор за иудину службу». Сын купца повалился в ноги мстителям. «Сеньор Бернардито! – взмолился он. – Меня силой принудили подписать бумагу». «Ты лжешь, трусливый пес! Отвечай, сколько тебе было уплачено?» «Тысяча золотых дуро, сеньоры, всего одна тысяча!» «Братья, – обратился Бернардито к своим спутникам, – чего заслуживает этот иуда?» «Смерти!» – сказал переодетый женщиной Алонзо. Остальные молча кивнули. «Так умри же, смердящий пес, на этом острове псов! Знаешь ли ты это место?» Хуанито узнал наконец бесплодный и безлюдный остров: уже давно до ушей его доносился хриплый лай и вой, а теперь он различал и какие-то серые тени, снующие вокруг. Ужас охватил его: значит, он приговорен к смерти на Собачьем острове, куда со всего Стамбула жители вывозят больных и старых псов, которых туркам запрещено убивать. Сюда изредка пристают лодки, полные собак, и гребцы торопятся, высадив животных, поскорее удалиться от проклятого места, где день и ночь заливаются воем одичалые псы. Хуанито дико заорал и кинулся бежать. Бернардито поднял пистолет, и пуля пробила ногу беглецу. Потом братья сняли камзол и берет с Хуанито и оставили его одного. Когда мстители вернулись на баркас, целая стая одичалых псов, урча, уже возилась над телом предателя… Маттео Вельмонтес был одного роста с казненным, и волосы их были схожи. Он надел камзол и берет Хуанито и лег на скамью. Друзья прикрыли его плащом. Перед рассветом баркас доставил всех на «Голиаф», и полковник с улыбкой объяснил купцу, что Хуанито неумеренно выпил вина. Друзья подняли переодетого Маттео со скамьи, поддержали его под руки, и тот, свесив голову, кое-как добрался до каюты. «Голиаф» поднял паруса, и вскоре огни Золотого Рога остались далеко за пенистой ширью. Следом за «Голиафом», ныряя в волнах, шел баркас «Толоса». На борту его оставался только «старый шкипер» Христофоро Вельмонтес, а беспалый «матрос» уже успел превратиться в слугу полковника и следовал со своими хозяевами на корабле. Утром, когда «Голиаф» достиг Мраморного моря, молодой Прентос позвал своего отца в каюту. Здесь уже находились полковник с супругой… Через некоторое время купец Прентос пригласил в эту же каюту начальника корабельной стражи. В распоряжении последнего имелось два десятка солдат. Под пристальным взором полковника купец Прентос отдал весьма слабым и странным голосом приказание отомкнуть все три поместительных трюма «Голиафа». Дрожащей рукой он протянул начальнику стражи ключи и велел по исполнении поручения вернуться с десятью стражниками. «С оружием?» – осведомился начальник стражи. «Нет, без оружия», – пояснил полковник. Скоро солдаты с тяжелым топотом ввалились в каюту. Полковник сурово упрекнул офицера за поднятый шум, ибо требовались осторожность и тишина. «Команда судна затеяла бунт, и нужно потихоньку схватить заговорщиков по одному, – пояснил он офицеру. – Ступайте в кубрик, вызывайте матросов одного за другим в трюм. Там вяжите их и кладите на пол». Приказание было в точности исполнено. Боцман и все матросы, кроме вахтенных, оказались запертыми в кормовом трюме. Затем полковник приказал офицеру и его десятку солдат потихоньку спуститься в средний трюм, затаиться там и ожидать дальнейших приказаний. Когда солдаты заняли трюм, полковник с беспалым слугою опустили на люк тяжелую крышку и повесили на нее полупудовый замок. Наконец полковник собрал остальных солдат и, объяснив, что в носовом трюме появилась течь, велел им передвинуть ящики с грузом. Едва солдаты принялись за дело, над их головами тоже упала крышка и загремел засов. Теперь оставались только полтора десятка вахтенных, капитан и его помощник. Полковник поднялся на мостик и передал капитану приказание купца Прентоса немедленно спустить паруса, собрать команду на баке и вызвать помощника. Когда и это приказание было выполнено, позади полковника, держа в каждой руке по пистолету, встали Антонио, Алонзо и Маттео. Отец Симон в это время наставлял и исповедовал купца Прентоса. Полковник обратился к собравшимся: «Друзья мои! Спустите шлюпку, садитесь в нее и правьте к берегу, что чуть виднеется вдали. Корабль находится во власти Одноглазого Дьявола Бернардито Луиса и через пять минут взлетит на воздух!» На борту все окаменели от неожиданности. Капитан и помощник не притронулись к рукоятям своих кортиков, а другого оружия у них под руками не было. Пока матросы спускали шлюпку, Бернардито вручил капитану бумагу и кошелек: «Для вашего оправдания, сеньор капитан, возьмите этот документ. Я свидетельствую в нем, что сполна уплатил старый долг купцу Прентосу. А чтобы ваши люди не терпели нужды после высадки, поделите между ними это золото». Затем друзья выпустили боцмана и матросов из кормового трюма и велели им побыстрее догонять первую шлюпку. Наконец Бернардито поодиночке выпустил всех солдат и начальника стражи. Когда они собрались на корме у третьей, последней, шлюпки, Бернардито сказал им: «Слушайте вы, охранители жадного ростовщика и подлого доносчика! Ваши бывшие хозяева погубили невинного отца и все семейство моего друга, Алонзо де Лас Падоса. Может быть, среди вас есть также люди лукавого коррехидора, которые охотились за Бернардито Луисом и любовались на казнь честного Рамона де Гарсия. Но я не хочу напрасно проливать кровь своих земляков и отпускаю вас с миром!» В это время баркас Христофоро Вельмонтеса причалил к борту «Голиафа». Друзья обшарили корабельные трюмы, снесли на баркас самые ценные грузы, заставили Прентоса выложить все его золото и покинули корабль. Купец Прентос остался привязанным к корабельной койке, а в пороховом погребе уже тлел фитиль. Через десяток минут, когда «Толоса», врезаясь в волны, летела на запад, расколотый взрывом «Голиаф» исчез в бурунах, и только черное облако дыма еще долго плыло над морем. А баркас с пятью мстителями, оставив позади бурный Геллеспонт, вышел в Эгейское море, миновал архипелаг и достиг в конце концов Италии, где друзья продали товары купца Прентоса. Из Генуи Бернардито отправился в Париж, где дал своим товарищам месяц веселого отдыха. В Париже он нашел искусного ювелира и заказал ему вставной глаз, что было выполнено французским мастером с великим искусством. Месяцев через восемь друзья на попутном корабле прибыли в Португалию и оттуда кружным путем вернулись к родному городку Бернардито. Но было их уже не пятеро, а полтора десятка добрых молодцов, примкнувших к Бернардито в Италии, Франции и Испании. Этот отряд укрылся в горах и стал готовиться к новому делу. Свершить его мстителям удалось быстро, потому что Бернардито узнал о высылке своей матери из Испании. Убедившись, что ей не грозит больше опасность как заложнице, он повел своих друзей в новый поход мести, после которого решил покинуть испанскую землю и перейти на море… Мальчик, ты, никак, уже заснул?.. Не получив ответа, Бернардито наклонился над лицом ребенка. Разметав кудри на подушке, мальчик спал крепким детским сном. Бернардито переступил через свернувшегося Карнеро и пошел еще раз взглянуть на животных в хлеву. Шторм бушевал, ливень хлестал по кронам деревьев. У капитана вмиг промокла одежда, и он поторопился назад в хижину. Перед тем как закрыть дверь, он прислушался, и снова ему почудился в реве бури словно отдаленный протяжный стон, подхваченный ветром. – Неужто на острове развелись шакалы? – пробормотал островитянин и растянулся на скамье, покрытой козьей шкурой.5
Рассвет застал островитян спящими. Мальчик первым открыл глаза и, вспомнив про недослушанный рассказ, подскочил в постели. Ему было стыдно, что он уснул; теперь не скоро дождешься конца затейливой сказки! Не зная, чем поправить беду, он принялся колоть лучину и стуком разбудил Бернардито. Взглянув на растерянное лицо мальчика, старший понял все, поймал его за курточку и прижал к себе. – Тебе не терпится знать, что было дальше? – сказал он, смеясь. – Ну, уж так и быть, доскажу свою сказку, потому что идет сильный дождь и выходить все равно нельзя. Да и немного осталось до конца. Слушай! …Стоял солнечный май 1743 года, и как раз 29 мая исполнялась годовщина со дня гибели юной Долорес, сестры Бернардито. В Барселону вернулись матросы и солдаты, отпущенные Одноглазым Дьяволом с «Голиафа», и сердце трусоватого коррехидора наполнилось страхом. А напуганный рассказами спасенных с «Голиафа» дон Сальватор Морильо дель Портес принял такие меры к охране своего замка, что тот стал походить на осажденную крепость. Накануне роковой годовщины, поздним вечером, дон Сальватор сидел в кабинете за шахматной партией со своим сыном Родриго, когда в дверях появился дворецкий. Он доложил, что какой-то всадник нетерпеливо стучится в ворота замка, что он назвался королевским гонцом и привез срочный пакет от его величества. Дон Сальватор приказал впустить гонца. Хозяин увидел перед собою высокого, статного офицера в мундире королевской гвардии. У офицера были седые волосы, высокий лоб и гордая осанка. Отсалютовав дону Сальватору шпагой, он выхватил из-за манжеты маленький пакет с королевской печатью и протянул его гранду. Дон Сальватор, сломав печать, всмотрелся при свете свечей в знакомый ему небрежный почерк августейшей руки. Король написал записку собственноручно – это была новая необычайная милость. Драгоценный документ гласил, что его величество этой ночью по пути в Барселону намерен остановиться в доме дона Сальватора. С поистине королевской вежливостью монарх просил у гранда гостеприимства на несколько часов. При этом его величество благоволил заранее отклонить церемониальный прием и просил выслать ему навстречу только нескольких конников для указания кратчайшей дороги в ночное время. Дон Сальватор поцеловал рескрипт и хлопнул в ладоши. Через несколько минут весь громадный замок являл собою зрелище растревоженного муравейника. Захлопали двери, во всех подсвечниках появились свечи, раскрылись погреба, сундуки и шкафы. Посыльный дона Сальватора тотчас помчался за коррехидором. – Его величество выразил надежду видеть хозяина дома, но просил не тревожить отдыха горожан, – сухо проговорил посланец короля. – Поезд его величества находится отсюда в трех часах хорошего галопа. У ворот вашего дома я дождусь конников коррехидора и сам провожу их до королевского кортежа. Часа не прошло – и у ворот замка уже загремели подковы… Десять альгвазилов и сам сеньор коррехидор на белом коне отдали салют посланцу короля. Тем временем мрачный замок дона Сальватора озарился сотнями осветительных плошек, фонарей с цветными стеклами, лампионов и маленьких китайских фонариков. Их свет от разился в струях большого фонтана, на темных купах зелени и пышных куртинах с цветами. В парковых прудах проснувшиеся лебеди поднимали головы из-под снежных крыльев, и потревоженная лебедями вода тоже искрилась огнями иллюминации. Убедившись, что иллюминация великолепна, дон Сальватор приказал пока погасить огни и зажечь их снова через два часа, а сам со своим сыном Родриго присоединился к всадникам коррехидора. Во главе с королевским посланцем вся кавалькада поскакала навстречу высокому гостю. После полуторачасовой скачки по горным дорогам всадники различили впереди факельные огни. Шестерка белых коней легко влекла дорожный возок с королевскими лилиями на дверцах. Два офицера гарцевали впереди, два всадника скакали по бокам, и один гвардеец сопровождал возок сзади. Арьергард составляла небольшая конная свита, и, наконец, шагах в ста впереди всего кортежа двое королевских слуг освещали дорогу ярким огнем факелов, высоко поднятых на древках копий. Гонец подскакал к карете и доложил о прибытии. Получив милостивый ответ короля, офицер объявил дону Сальватору, что его величество благодарит за радушную встречу, приглашает сеньора спешиться и вместе с сыном занять место в карете. Дон Сальватор и сеньор Родриго поручили своих коней людям и с трепетом вошли в карету. Едва лишь дверца возка захлопнулась, герольд затрубил, кони рванулись и кортеж тронулся к замку. В сумраке кареты дон Сальватор ничего не мог различить, кроме высокого плюмажа на королевской шляпе. Согнувшись, он протянул руки, чтобы принять и облобызать пальцы обожаемого монарха. Его вытянутые губы уже встретили вялую кисть короля, но монаршая рука, милостиво протянутая навстречу, внезапно обрела твердость железа и схватила гранда за бородку. «Измена!» – прохрипел дон Сальватор, но сразу получил сильный удар по голове. Рядом с ним, задыхаясь, бился на полу кареты его сын, которому чье-то колено уперлось в грудь. Одновременно вся королевская свита на скаку окружила стражников коррехидора. Спутники короля обнажили шпаги, и альгвазилы мертвыми свалились с коней. Метко брошенная веревка сдавила горло самого коррехидора. Затем из кареты были вытащены связанные тела сеньора Сальватора и его сына. Этих пленников, так же как и коррехидора, всадники перекинули поперек своих седел и во главе с седовласым посланцем углубились в горы, к той самой пещере, где некогда повстречались Бернардито и отец Симон. Весь же остальной «королевский кортеж» продолжал вместе с каретой свой путь по прежней дороге. Когда до замка осталось четверть мили и впереди показались его огни, кучер кареты обернулся и поджег фитиль, который вел к большой железной бочке внутри кареты; до самой пробки бочка была набита артиллерийским порохом. Проехав еще немного, кучер скатился с козел и вскочил на лошадь коррехидора. Огонек фитиля уже приближался к бочке. А всадники во весь опор продолжали нестись к замку рядом с каретой, горяча бешеных коней упряжки. Вот уже засверкали и рассыпались в небе разноцветные огни встречного фейерверка. За подъемным мостом широко распахнулись ворота замка, и две шеренги слуг выстроились во дворе. Вытягивая шеи от любопытства, челядь замка готовилась принять коней и расстелить ковер от парадного крыльца до подножки кареты… Не доезжая до моста, «королевская свита» подняла на дыбы своих коней и резко повернула назад, а лошади упряжки с непостижимой быстротой перелетели мост, промчались под каменной аркой и, не сбавляя хода, понеслись по двору. Обе шеренги челядинцев разбежались в страхе. У парадного крыльца собралась почти вся городская знать, с удивлением взиравшая на столь необычный въезд его величества. Уже стали раздаваться тревожные возгласы среди разряженной публики, как вдруг ужасающий взрыв потряс двор и стены. Обезумевшие гости в атласных одеждах, забрызганных кровью и испачканных копотью, бежали из замка, но несколько выстрелов прогремело из темноты, и бегущие заметались на мосту, теряя убитых и раненых. Над двором полыхнули языки пламени. Это всадники, подскакав к окнам замка и служб, бросили в них подожженную смоляную паклю. Вопли страха, стоны раненых, ржание лошадей и мычание быков в горящих стойлах – все слилось в дикую музыку, а поднявшееся пламя затмило блеск догоравшего фейерверка и иллюминации. Весь город проснулся, и жители его бежали на ближайшие холмы, чтобы взглянуть на самый большой пожар, когда-либо ими виденный. Сначала думали, что замок загорелся от иллюминации, но вдруг в памяти людей всплыло, что ровно в этот день и час год назад погибла сестра Бернардито. Едва кто-то напомнил об этом событии, общий глас сразу произнес имя мстителя, и горожане в страхе побежали к своим домам и сундукам, предоставив замку догорать в предрассветной темноте. А сам Бернардито с четырьмя братьями пробирался знакомой тропою к пещере. Туда же поголовокружительным кручам группами и в одиночку спешили остальные разбойники, покончившие с замком. Трусливый коррехидор возопил о пощаде. Он в слезах напомнил Бернардито, что мать кабальеро ни в чем не терпела нужды во время ее заключения. «За это я не повешу тебя, а отрублю голову», – сказал Бернардито. И сеньор коррехидор в ту же минуту был обезглавлен. Бернардито подошел к помертвевшему дону Сальватору и сказал так, чтобы его слышали все товарищи: «Изменник и предатель Испании, торгаш испанскими вольностями, слуга чужеземцев-насильников, грабитель соотечественников, убийца Долорес и Рамона, от имени нашего братства мстителей я приговариваю тебя к смерти!» И тогда друзья Бернардито бросили дона Сальватора и его сына Родриго в отравленную пещеру. Лаз в эту пещеру разбойники замуровали, завалили обломками скал. Верно, страшны были видения, терзавшие жестокого гранда, пока сердце его не разорвалось и отравленная кровь не свернулась в жилах! Так молодой Бернардито, которому было тогда всего двадцать лет от роду, победил своих могущественных врагов и утолил жажду мщения, сжигавшую его сердце. Под высокой скалой он похоронил свое кровавое знамя и велел высечь на скале такие слова: «Здесь покоятся останки благородного сеньора Рамона де Гарсия, погибшего безвинно и отмщенного другом своим Бернардито Луисом эль Горра». А на следующую ночь Бернардито оделся крестьянином и приехал на муле в свой родной городок. Он разыскал погребок Пабло Вильяса и постучал в запертое окно. Недовольный и заспанный хозяин, открыв дверь, очень удивился при виде неизвестного крестьянина, который молча сунул в руку виноделу небольшой сверток и сразу же удалился. В свертке оказался чудесный алмаз в золотой оправе и мешочек с дукатами, а вложенная записка гласила: «От спасенного тобою Бернардито». Старухи мавританки уже не было в живых, поэтому прямо от домика винодела предводитель братства вернулся в горы. – Дядя Тобби, а что стало с ним потом? – Потом? Он собрал своих братьев и сказал им, что сполна уплатил по счету обидчикам, гонителям и немногочисленным благодетелям. Он сказал также, что теперь братья вольны избрать себе другого предводителя, ибо его – самого Бернардито – отныне ожидает иная дорога, чем простой разбой ради обогащения. Богатство не манило Одноглазого Дьявола. Сам обездоленный, гонимый, лишенный отечества, семьи и друзей, он объявил братьям, что намерен уйти в море и будет, сколько хватит у него сил и умения, помогать таким же неправедно гонимым настигать своих обидчиков и преследователей. – А что ответили ему братья? – Никто не подал голоса против Бернардито… Все согласились уйти вместе с ним в открытые моря, чтобы стать вольными корсарами. В то же утро все товарищи Бернардито навсегда покинули родную Испанию на «Толосе» старого Христофоро. Очень скоро им посчастливилось захватить бригантину португальских работорговцев, и… началась для Бернардито пиратская жизнь, которая тоже не принесла ему ни счастья, ни радости. Свыше двадцати лет носился по волнам капитан Бернардито, сменил шесть кораблей и потерял всех до единого своих прежних товарищей. Давно погибли в жарких боях все члены братства мстителей, и даже стеклянный глаз капитана выбила щепка, отлетевшая при взрыве одного из кораблей. Последним умер от старости отец Симон, уснувший прямо за столом, оставив недопитым стакан подслащенного хереса… – Скажи, дядя, а удавалось Одноглазому Дьяволу выручать из беды обиженных и гонимых людей, как он того хотел? – Эх, сынок! Бернардито понял очень скоро, что почти весь божий свет состоит из таких людей и не корсарством нужно сражаться со злом, которое правит миром! Корсар – это все-таки разбойник, и многие из экипажа Бернардито думали больше о поживе, чем о чужой доле… Не будем пока толковать об этом! Вот спасемся с этого острова, уплатим еще один старый должок, а там… посмотрим, может быть, и наши силы еще пригодятся где-нибудь на доброе дело! Впрочем, кое-когда и корсару Бернардито случалось помогать в беде добрым людям. Немало несчастных рабов, белых и цветных, получили свободу из его рук. И некоторые стали его друзьями надолго. Был такой славный греческий матрос из Пирея, Георгий Каридас… Одноглазый спас его из рук бессовестного тунисского пирата… Была красавица Зоэ… Ее удалось вырвать у работорговцев… и она, сынок, полюбила старого Бернардито!.. Вспоминаю еще земляка Бернардито, верного человека Фернандо Диаса, спасенного от виселицы… Да трудно упомнить всех за первые два десятка лет… А потом… потом Одноглазый Дьявол, на свою беду, встретил и спас… злодея! – Какого злодея, дядя Тобби? – Э, сынок, это уж новая сказка! Да больно сильный идет нынче дождь, все равно придется нам сидеть с тобою взаперти. Вчера я как раз собирался рассказать тебе про Леопарда. Так вот, плыл однажды Одноглазый Дьявол на своем черном корабле. Вдруг увидел он на берегу высокую скалу… Сильный порыв ветра распахнул дверь, и Остроухий попятился от ворвавшегося в хижину вихря с дождем. Уши собаки навострились, и шерсть поднялась дыбом на спине. Сквозь завывание бури обитатели хижины отчетливо различили долгий, странный звон и протяжный вой, который сливался с ревом ветра. Бернардито вскочил и схватил со стены штуцер. – Звук сигнальной трубы и… корабельного колокола! – пробормотал он. – Как же я не догадался еще ночью!.. Надев старый парусиновый плащ, он велел мальчику сидеть тихо, не зажигать огня в очаге, а сам кликнул собаку, спрятал оружие под плащом и быстро вышел в ливень и бурю.12. В голубой долине
1
Шел 1778 год… Грозовые зарницы освободительной войны полыхали над Новым Светом. Народ в заокеанских колониях британской державы взялся за оружие, утверждая свое право на государственную независимость. Труженики-переселенцы, некогда бежавшие в Новый Свет из Европы от нищеты и притеснений, обманулись в своих ожиданиях лучшей доли: в американских колониях Англии они нашли те же суровые британские законы, жестоких губернаторов, кабальное рабство и всевозможные запреты. Истощилось терпение народа, и он восстал. Суровые фермеры, свободолюбивые ремесленники и рабочие, мелкие торговцы-горожане, охотники-трапперы, чернокожие рабы виргинских плантаторов и свободные негры северных колоний штурмовали британские форты, топили вооруженные королевские суда, отбивали города у британских губернаторов. Обильный лесом, озерами и степями материк, берега которого всего за три века до этой войны увидел с борта своей каравеллы дерзкий генуэзец Колумб, окутался пороховым дымом сражений. Его величеству королю Георгу III требовалось много солдат для усмирения повстанцев. Регулярных полков не хватало, и Англия покупала на свои тяжеловесные фунты и гинеи пушечное мясо в германских княжествах. Тысячи молодых немцев из Гессена, Саксонии и Вюртемберга, оставив плуги и ремесленные инструменты, со вздохом напяливали на себя английские мундиры. Проданные своими курфюрстами и герцогами, эти немцы-волонтеры наполняли трюмы английских кораблей и находили за океаном скорую смерть от метких пуль повстанцев… Искали британские генералы союзников и среди индейских племен Америки. И разгоралась под Бостоном и на Потомаке, под Филадельфией и на реке Делавер ожесточенная борьба не на жизнь, а на смерть. С побережья Атлантического океана, с территории уже обжитых старых штатов Новой Англии, пламя войны перекинулось и на запад, в глубь материка, за Аппалачские горы, туда, где редкие фактории и поселки белых терялись среди девственных лесов и где, по королевскому закону, земли принадлежали короне и колонистам вообще запрещалось селиться. Правда, запрет этот уже нарушали смелые скваттеры – так называли в Америке тех поселенцев, кто самовольно захватывал участок свободной земли. И богатыми же были эти девственные земли за Аппалачами! Широколиственные дубравы и хвойные леса, обильные дичью и пушным зверем; полноводные реки, где рыба ловилась не пудами – тоннами; заливные травянистые луга и моховые болота – царство лосей и оленей; а в низовьях реки Огайо и по ту сторону Миссисипи – необозримый океан прерий со стадами бизонов! Эта прекрасная земля веками кормила древних своих хозяев – индейцев. Индейские племена алгонкинов, ирокезов и сиу дружелюбно встретили белых пришельцев – сначала французов и испанцев, а потом английских торговцев пушниной. Дети лесов и вольных степей, индейцы доверчиво помогли появившимся здесь из Канады французам исследовать страну. Они привели французов к Отцу Вод – к великой реке Миссисипи – и раскрыли перед их глазами все сокровища своей родины. Они научили пришельцев выращивать новый злак – маис, более двадцати видов которого сеяли индейцы-ирокезы на своих небольших пашнях, отвоеванных у вековых лесов. Много охотничьих тайн поведали индейцы бледнолицым братьям, поясняя, как следует разумно и бережливо охотиться, не истощая запасов дичи. Белые люди много узнали, они сохранили индейские названия рек и долин, озер и горных хребтов, но стали беспощадно истреблять в этих угодьях… самих хозяев! То кровавым разбоем и насилием, то гнусным обманом они отнимали у доверчивых и честных индейцев огромные территории. Англичанин Уильям Пенн «приобрел» у индейцев всю территорию штата Пенсильвания за несколько десятков долларов, вполне успокоив этой «сделкой» свою квакерскую совесть. А голландский купчина Минюйт «купил» весь остров Манхэттен, заплатив индейцам товарами стоимостью в… двадцать четыре доллара! За эту цену он получил сорок две тысячи акров земли, той самой, где потом раскинулся город Нью-Йорк… Но даже и такие «сделки» были редкостью: племена индейцев-алгонкинов, обитавшие на побережье Великой Соленой воды – Атлантического океана, – были к началу XVIII столетия попросту истреблены, а их остатки вытеснены за Аппалачи. Теперь, ко времени событий этой повести, белые колонисты, продвигаясь на запад, кое-где захватывали новые индейские земли уже за Аппалачами… Торговцы пушниной спаивали индейцев ромом и, скупая за бесценок «мягкое золото», наживали сказочные барыши. За торговцами шли в леса слащавые проповедники-миссионеры, а от тех не отставали солдаты: в лесных и озерных просторах рядом с первыми пушными факториями и поселками возникали небольшие, рубленные из бревен военные форты… …В Голубой долине, раскинувшейся в низовьях Огайо, белые поселенцы валили вековой лес. Работали они под присмотром солдат в красных мундирах. Нежный шорох листвы заглушался веселым перезвоном топоров и взвизгиванием пил. Пышные кроны подрубленных ясеней, дубов, кленов и серебристых елей со свистом рассекали воздух. По лесистым склонам фермерские лошади волокли бревна в долину Голубого потока, к берегу Серебряной реки. Эта река несла свои чистые, поистине серебристые воды в прозрачный Уобеш, нижний приток привольного Огайо. На крутом, обрывистом берегу, при впадении Голубого потока в Серебряную реку, возникало новое, еще никогда не виданное здесь сооружение… Гряда невысоких холмов плавно нисходила к реке и здесь, на самом берегу, как бы в последнем усилии взметнулась ввысь одиноким крутым холмом. На этом-то холме, господствующем над всей местностью, спешно возводился военный форт. С плоской вершины открывались во все стороны величавые просторы лесов. Они тянулись и к западу, где в трехстах милях отсюда несла свои воды могучая Миссисипи, за которой простирался зеленый океан прерий. Под холмом, на берегу Голубого потока, прятались в тихой лесной зелени свежесрубленные постройки. Это были жилые дома небольшого поселка белых людей, появившихся здесь несколько лет назад. Неподалеку от строящегося форта поселенцы, подгоняемые солдатами, разгружали речную баржу. Колеса нескольких орудий уже оставили глубокие борозды на прибрежной гальке. За амбразурами дубового частокола артиллеристы устанавливали пушечные стволы на тяжелые лафеты. Всадник в широкополой шляпе и просторной блузе подскакал к холму, где строился форт. Вороной мустанг, лишь недавно прирученный, скосил огненный глаз на английского драгунского офицера. Держа треуголку в руке, тот стоял у мостика через свежевырытый крепостной ров. – Ваши солдаты, господин капитан, – обратился к нему всадник, – разбирают срубы недостроенных домов наших фермеров. Здесь достаточно лесу на свободных землях. Прошу вас прекратить этот произвол. – Мои солдаты, мистер Мюррей, имеют приказ губернатора, сэра Гамильтона, за три недели достроить форт Голубой долины. Сейчас война. Я беру все, что мне нужно брать. – Насколько я вас понял, господин капитан Бернс, вы отказываетесь уважать чужую собственность и чужой труд? Эти люди в долине – не ваши рабы! – Я действую, как считаю нужным. Вы поселились здесь самовольно и незаконно, на землях британской короны. Поэтому, если понадобится, я прикажу не только разобрать дома для наших фортификационных блокгаузов, но и выселить из округи этих людей. – Капитан, вы испытываете терпение наших мирных жителей. Всех фермеров поселка вы заставили прекратить полевые работы. Лошади конфискованы для ваших нужд. Солдаты бесчинствуют в поселке. Должен вам сказать со всей серьезностью: даже среди нас, нейтральных американцев, ваши действия не повышают симпатий к войскам короля! – Мистер Мюррей, а я, в свою очередь, со всей серьезностью предостерегаю вас против подобного тона со мной. Мне неизвестно слово «американцы». Я знаю только разношерстных заокеанских колонистов. Участвуют ли они в бунте или сохраняют нейтралитет – все равно они остаются подданными короля. Бунтовщиков ждет виселица, а вам, как и любому скваттеру, я… не советую вмешиваться в распоряжения английского командования. Сержант Лино! – крикнул офицер куда-то вверх. – Что там белеет на реке? – Какое-то судно под парусом приближается с низовьев, господин капитан, – ответил с вершины холма рыжеусый сержант-наблюдатель. – Позовите ко мне лейтенанта Шельтона, – приказал комендант форта и пошел к реке, не обращая внимания на всадника. Тот в гневе повернул коня и коротким галопом поскакал к домикам поселка. Преодолев небольшой подъем, лошадь принесла седока к двухэтажному деревянному дому. Мюррей поднялся на нижнюю веранду, оплетенную молодыми, еще нежными и тонкими побегами дикого винограда. – Эми! – крикнул он с порога. – На реке виден парус. Едем скорее, твоя лошадь уже оседлана!2
Два всадника шли на рысях вдоль берега навстречу судну с низовьев Серебряной реки. Рядом с вороным жеребцом Мюррея танцевал под дамским седлом длинногривый испанский конь золотистой масти. Темно-синяя амазонка всадницы развевалась на ветру. Тяжелые шелковые складки, шурша, скользили по конскому крупу. Большой речной баркас под двумя парусами двигался вверх по реке. Уже были видны длинные весла гребцов. Кто-то приветственно махал шляпой, стоя на крыше каюты. Завидев всадников, рулевой повернул баркас к берегу. Ракушки и галька заскрежетали под днищем, и несколько пассажиров нетерпеливо спрыгнули на песок. Вслед за ними на берег были переброшены мостки. – Привет вам, друзья мои, привет в Голубой долине! – взволнованно говорил Мюррей, протягивая руки навстречу молодому джентльмену в сюртуке с морскими пуговицами и его спутнице, хорошенькой леди в белой шали. – Дорогой Эдуард, миссис Мери, наконец-то мы дождались вас! Слава богу, теперь вы дома… Но я не вижу сеньоры Эстреллы и маленького Диего. Здоровы ли вы? Как перенесли этот опасный путь? – Прекрасно, никаких происшествий… – отвечал Эдуард Уэнт. – Все в добром здравии. Сеньора у себя в каюте, если можно так назвать наши каморки на баркасе… А маленький Диего ждал, ждал Голубую долину, да и уснул перед самым прибытием. Пойдемте на баркас, леди Эмили, я представлю вас сеньоре Луис эль Горра. Когда Эмили, нагнувшись, сошла по двум ступенькам в крошечную каюту, она увидела старую испанку с черными проницательными глазами. Старуха перекрестила вошедшую своей морщинистой рукой с двумя рядами янтарных четок вокруг запястья и подвела к скамье, покрытой старым плащом. Эмили разглядела в полусумраке каюты лицо спящего мальчика лет десяти. Оно было узким и бледным; длинные ресницы оттеняли закрытые глаза. – Наш Диего… Диего Долорес Рамон сеньорито Луис эль Горра, – шепотом произнесла старая сеньора далеко не полное имя маленького испанца, сына знаменитого корсара, погребенного на далеком острове. Вместе с Уэнтом прибыл и бывший марсовый матрос с брига «Орион», жизнерадостный и остроглазый Дик Милльс, которому в продолжение пяти лет после рейса на остров упорно вспоминались карие очи служанки леди Эмили – мадемуазель Камиллы Леблан. На берегу Эдуард Уэнт подвел к даме в амазонке пятнадцатилетнего подростка с веснушчатым кончиком носа и плутовскими глазами. – Скажите, леди Эмили, припоминаете ли вы этого бультонца? – спросил моряк. – О, в Англии у меня было так мало друзей, что я никак не могла бы забыть почтенного мистера Томаса Бингля! Здравствуйте, мистер Томас! Как поживает ваша мамзель Микси? – Мамзель Микси вполне благополучна и сидит на привязи, – отвечал за мальчика Эдуард Уэнт. – Маленькая чертовка доставляет нам бездну хлопот, но она оказала неоценимую услугу при розысках сеньоры Эстреллы и маленького Диего… Пока Эмили вновь и вновь обнимала свою подругу Мери, жену Эдуарда Уэнта, и их трехлетнюю дочку, мужчины отошли в сторону. – Вот, мистер Мюррей, как видите, доставил я к вам весь свой ковчег не только без потерь, но даже и без особых приключений… Могло быть труднее: война! Конечно, на пустынной Миссисипи ее не так чувствуешь, но опасные встречи все-таки были… Однако я и здесь вижу солдат? Вы ничего не писали мне о них. – Недавно сюда прибыла полурота королевских драгун. Командует ими невежа и грубиян, некий капитан Бернс… Их послал военный губернатор для надзора за поселенцами и постройки укрепления. В нас, здешних пионерах, они не без основания видят врагов… Пока пытаемся заверить их в нашем нейтралитете. Иначе нельзя: части генерала Вашингтона слишком далеко. Сражения идут на востоке, на обжитых землях, но поговаривают, что к зиме сюда проберется отряд повстанцев. – Вот как! А соседи у вас есть? Я имею в виду белых. – Фактории в лесах и несколько английских фортов… Раньше они были французскими, но с шестьдесят треть его года достались англичанам. Из поселков ближе всех к нам Винсенс, на берегу реки Уобеш, чуть выше впадения в нее нашей красавицы Серебряной реки. – Тоже английский? – Винсенс? Теперь да, но большинство жителей там французы. Это уж не новое поселение, ему лет пятьдесят, место обжитое. Это первая большая пушная фактория в здешних краях. Там построен форт, довольно сильный. Охраняется тоже королевскими драгунами, такими же невежами, как наши. Впрочем, обо всех этих делах поговорим дома, когда отдохнете с дороги.3
Вскоре гостеприимный дом Мюррея наполнился шумом, возгласами детей и звоном посуды. После веселого обеда хозяин поручил женщин заботам своего компаньона, французского поселенца-пионера месье Мориса Вилье, и пригласил Уэнта наверх, в кабинет. Панель из темного дуба, занимавшая две трети стен, делала этот кабинет похожим на большую корабельную каюту. На полках стояли книги современных французских и английских авторов, пытливых умов своего блистательного и противоречивого века. Портрет Эмили и копия Сикстинской мадонны Рафаэля висели на противоположных стенах. Два охотничьих ружья перекрещивались на темно-красном индейском ковре над диваном, покрытым медвежьими шкурами. Верхушки молодых деревьев уже успели подняться вровень с окнами этой комнаты. Ветерок колыхал занавески на окнах, широко распахнутых в сад. – Недурно для первобытной лесной глуши! – воскликнул моряк. – Как же вам удалось создать здесь такую благодать? – Вы знаете из наших прежних бесед, Эдуард: бессмертные идеи Руссо о создании справедливого человеческого общества на лоне вольной природы и на основе равенства людей всегда были самыми близкими моему сердцу. Я не принадлежу к бесплодным мечтателям и давно поставил себе целью осуществить эти идеи моего великого учителя. Опыт жизни среди индийских джунглей и на известном вам отдаленном острове укрепил меня в этом намерении и многому научил. Все, что вы увидите в нашем поселке, – результаты трудолюбия, взаимной помощи и общих усилий. Сумерки сгущались. Мужчины придвинули плетеные кресла к традиционному английскому камину из желтого тесаного камня, перед которым лежала большая волчья шкура. Хозяин достал из шкафчика бутылку вина и разжег дрова в камине. – Почему вы избрали именно эту долину, мистер Альфред, и как вы нашли ее? – спросил Уэнт. – Долину открыли французские поселенцы из Винсенса. Я узнал о ней от моего друга Мориса Вилье, в чьем семействе мы провели четыре месяца после прибытия в Новый Орлеан. В июле 1773 года слуга Эмили, наш добрейший великан Сэмюэль Гопкинс, доставил нам из Англии документы о разводе, письмо старого Уильяма Томпсона и множество хозяйственных покупок. В конце июля мы были уже обвенчаны с Эми и сразу тронулись вверх по Миссисипи, чтобы начать новую жизнь в Голубой долине. Сам месье Вилье с женой, шведский врач-эмигрант Нильс Вальнер, несколько отличных охотников и фермеров со своими семьями – таков был состав белых участников нашей группы. – А остальные? – Остальные – выкупленные из рабства невольники, негры. Там, в Новом Орлеане, нам с Эми впервые пришлось наблюдать страшные картины невольничьего рынка… Началось с того, что я увидел большое объявление: «Продаются здоровые негры, недавно доставленные из Африки, переболевшие оспой; цены умеренные, женщины с детьми продаются весьма дешево! Товар можно предварительно осмотреть на борту судна «Глория»…» Вы понимаете, Уэнт, это был корабль… сэра Фредрика Райленда! – Да, работорговля стала основой благополучия «Северобританской компании»… Итак, вы, мистер Мюррей… – …выкупил у агентов Грелли двадцать человек и предоставил им полную свободу, к великому негодованию месье Вилье. Как человек местный, он настолько привык к сценам продажи людей, что счел наш поступок безрассудным. Эти черные люди были наивными детьми природы, запуганными и беспомощными. Они просили не оставлять их в Луизиане и умолили взять с собою. Мы заключили с ними контракт, каждому назначили жалованье и взяли гребцами на баркасы. Плыли около трех месяцев. Нет нужды описывать все трудности пути… вы сами его изведали! Глубокой осенью 1773 года мы расчистили лес на берегу и заложили наши дома в Голубой долине. Первым уроженцем поселка стал мой сын Реджинальд. Через год родилась Дженни… Мюррей улыбнулся, протянул к огню свои руки – руки моряка, плотника и охотника. Поправив щипцами пылающие поленья, он продолжал: – Весной 1774 года я снарядил небольшую экспедицию вверх по Огайо, перевалил через Аппалачский хребет в населенные места и выгодно продал в Бостоне партию мехов, купленную месье Вилье у индейцев сенека. Из Бостона я послал письма в Бультон, вам и старому Томпсону. Проделав за четыре месяца более двух тысяч миль на лодках и верхом, сопровождаемый проводниками-индейцами, я вернулся сюда, за Аппалачи, с целой группой новых скваттеров, недавних переселенцев из Англии, Франции и Скандинавии. Многие были… кабальными слугами и бежали сюда от жестоких хозяев… – Кабальными слугами?.. Я… не совсем понимаю… – Видите ли, к этому слову придется привыкнуть в Америке. Это не что иное, как белые рабы. Те, что прибыли со мною, оказались добрыми крестьянскими ребятами, в большинстве англичанами… Никто из них и не помышлял бросать родину, а вот нужда заставила! Лендлорд изгнал крестьян с клочков земли, которые они у него арендовали, «огородил» все эти земли и вместо людей пустил овец… – Так было и в Ченсфильде, это не новость для меня. – Так вот, лишившись земли, люди пошли по миру… Законы о бродяжничестве в Англии вы тоже знаете: плети, тюрьма, а то и веревка! Куда же деваться бедняку? В обетованную землю, в Америку! А как туда добраться? Переезд стоит десятки фунтов стерлингов. Тут и подкарауливает беднягу вербовщик… Очень часто этим ремеслом занимаются английские судовые капитаны. Я, мол, тебя перевезу, а ты за это отработаешь в американских колониях лет семь на плантациях, руднике или в мастерской у хозяина. Выбора нет… Бедняк подписывает бумагу – и становится рабом. За побег – смерть! – А… после семи лет? – Человек редко их выдерживает. Ведь хозяин знает, что кабальный слуга взят на срок, ну и старается выжать из него все, что можно. Обращение с ним хуже, много хуже, чем со скотом. Тот ведь на весь век остается в хозяйстве собственностью. – И вы рискнули выручить этих людей, Мюррей? Вы не опасались погони? – Помогли индейцы. Тайными тропами они провели нас до Аппалачей и мимо форта Питт. – А если бы поймали? – Что ж, ребят я кое-как вооружил, живыми бы они не сдались. Но, как видите, все обошлось благополучно; мы добрались до этой благословенной глуши и строим теперь сообща новую жизнь. – И негры тоже освоились на новых местах? – Негры со своим умением подчинять себе девственную природу оказались неоценимыми помощниками и верными друзьями: они живут среди нас как свободные, равноправные фермеры. Посмотрели бы вы, как они образцово хозяйничают! Впрочем, один негритенок, у которого еще в Африке работорговцы расстреляли деда и бабку, не захотел уходить от меня – так и остался в доме. Смышленый мальчуган, но до сих пор вздрагивает даже от далекого пистолетного выстрела. – Скажите, Мюррей, а краснокожие соседи вас не тревожат? – Мы торгуем с ними, покупаем меха. Иногда приезжают с трубкой мира вожди соседних племен. А недавно я был приглашен племенем кайова-сиу на бизонью охоту по ту сторону Миссисипи. Пушнину мы берем у алгонкинских племен шауниев и миами. Торгуем и с ирокезами-сенека… Вооруженных стычек с индейцами у нас пока, слава богу, не было. Но все-таки нельзя забывать печальной участи жителей Винсенса во время восстания Понтиака. Индейцы взяли тогда Винсенс штурмом и, как они выражаются, «украсили свои пояса скальпами бледнолицых». – Давно ли это было? – Лет пятнадцать назад, в шестьдесят третьем году. Тогда индейский вождь Понтиак взял все английские форты. Устоял только Детройт… – Понтиак, вождь виандотов? Помню, в моем детстве о нем писали даже бультонские газеты. Я читал с увлечением! – Дорогой Уэнт, о нем еще не написано правды. Только индейские сказания хранят о нем благодарную память… Это, если хотите знать, индейский Спартак! Пожалуй, с той лишь разницей, что индейцев вообще нельзя обратить в рабство – слишком сильно в них чувство собственного достоинства, любовь к свободе и гордая непреклонность… После того как англичане подписали мир с Понтиаком, а потом предательски зарезали его наемной рукой, индейцы не верят белым, и, конечно, нам тоже приходится быть начеку. Вот такова наша новая родина, дорогой Эдуард!.. А теперь, я думаю, надо пригласить сюда женщин – я хочу, чтобы Эмили тоже послушала ваш рассказ. Через несколько минут на лестнице зашуршали юбки. Эмили и Мери вошли в кабинет, придерживая под руки престарелую испанку в кружевной мантилье. Мюррей почтительно усадил ее в кресло у камина; молодые дамы расположились на диване, целиком покрыв его шуршащими волнами муслина и кружев. – Друзья, сейчас мы услышим рассказ об удивительных приключениях мистера Уэнта. Теперь опасности позади, и милая Мери может выслушать его уже без волнения за судьбу мужа. Я счастлив, что и сеньора Луис эль Горра, мать моего лучшего друга, находится теперь с нами и мы всей нашей братской семьей в Голубой долине разделим с нею заботы о маленьком Диего… Мистер Уэнт привез также и таинственный пакет от старого Томпсона… Давайте-ка его поскорее сюда, Эдуард! Эдуард Уэнт достал из кармана своего морского сюртука небольшой пакет и с поклоном передал его леди Эмили. Сняв со стены кинжал, она распорола красный турецкий сафьян, в который был зашит сверток. Все следили за ее работой. Одна сеньора Эстрелла отвернулась и потупилась. Эмили извлекла из сафьяна маленькую шкатулку кипарисового дерева, сплошь покрытую искусной инкрустацией. Монах-резчик афонской обители долго трудился над этим ларцом! Молодая женщина открыла шкатулку… Из-под крышки выпала записка. Все затаили дыхание. Леди Эмили, бегло пробежав глазами написанное, протянула мужу ларец и записку. – Читай вслух, Фред, – тихо произнесла она. – Пусть наши друзья услышат, что пишет мне Фернандо Диас! И Мюррей громко прочел собравшимся письмо погибшего Фернандо:«Глубокоуважаемая сеньора Эмили! По прибытии в Пирей я передал сеньоре Эстрелле Луис все подробности нашей беседы в ченсфильдской роще и ваш великодушный подарок. Вероятно, вам уже известно, что, напав с вашей помощью на след завещанного сеньоре Эстрелле камня, я в Бультоне отнял его у подручных пирата Джакомо Грелли, моего кровного врага, который держит и вас в своей власти, обманом присвоив себе титул и владение виконта Ченсфильда. Между тем обстоятельства сеньоры Луис, благо дарение богу, изменились к лучшему. Ей неожиданно пришел на помощь бывший греческий матрос, а ныне купец. Георгий Каридас, узнавший в сеньоре мать своего прежнего капитана, которому он обязан и своей свободой и нынешним благополучием. Вместе с присланным вами золотом помощь Георгия Каридаса достаточна, чтобы обеспечить сеньоре покойную старость. Получив камень, сеньора Луис эль Горра решила отблагодарить вас за великодушие к семье погибшего капитана и выразить восхищение вашей одинокой мужественной борьбой с его коварным врагом. Сеньора просит вас принять этот камень как дар от ее сына, капитана Бернардито. Я берусь доставить подарок в Англию. Да хранит вас Бог, прекрасная, благородная сеньора! Пирей, 28 января 1773 годаЭмили Мюррей тихо поднялась с дивана и подошла к старой испанке. Старуха, ссутулившись, глядела в огонь. Эмили порывисто опустилась на волчью шкуру у ее ног и поцеловала сморщенную руку с четками на запястье. Сеньора Эстрелла перекрестила молодую женщину и поцеловала в лоб. Никто не смел нарушить тишину, только дрова чуть потрескивали в камине… На дне кипарисового ларца, устланного черным бархатом, лежал замшевый мешочек. Мюррей открыл его, и чудесный алмаз засиял разноцветными лучами в свете камина. Молчание прервал Мюррей: – Этот камень драгоценен и красив, но еще драгоценнее сердца, что бились в груди таких людей, как Фернандо и Бернардито! Больно думать, что в нашем несправедливом мире эти сердца не нашли иных путей, кроме бунтарства и пиратства… А теперь, Эдуард, мы готовы хоть до самого утра слушать ваш рассказ.Преданный Вам Фернандо Диас».
4
– Что ж, господа, начну с признания, что еще на острове, накануне отплытия «Ориона», я сделал небольшое открытие, которое сразу ввергло меня в недоумение. Помните, мистер Мюррей, час, когда шлюпки увозили груз, спрятанный среди скал? Осматривая песчаную косу, я наткнулся на заржавленный якорь и разобрал на его стволе полустертую надпись «Офейра». Мне стало ясно, что захваченная пиратами бригантина не погибла в сражении, а укрылась в водах острова. Кроме того, груз оказался столь велик, что он никак не мог бы уместиться на крошечном плотике, на котором якобы спасся мистер Мюррей. Я понял, что рукопись старого Мортона, отца моей Мери, искажает факты или умалчивает о какой-то важной тайне. Ведь в рукописи ни слова не было о посещении «Офейрой» острова!.. Потом другие дела отвлекли меня от этой загадки, вплоть до того дня, когда старый бультонский адвокат Уильям Томпсон раскрыл мне под величайшим секретом всю жуткую ченсфильдскую тайну… Помню, поздним вечером я вернулся в Ченсфильд из конторы Томпсона под свежим впечатлением открывшейся мне тайны. Моя годовалая дочь спала в колыбельке рядом с постелью матери. Я заговорил с женой таким страшным шепотом, что бедняжка Мери вскочила, споткнулась о колыбельку, и дитя расплакалось. Жена прижала ребенка к себе, и я опомнился. Без обиняков я открыл ей все, что услышал от Томпсонов, не умолчав и о роли ее отца. Мери тут же начала собирать вещи и одевать ребенка. Бледная и решительная, она сказала мне, что оставляет этот дом навсегда. Утром мы переехали в гостиницу «Белый медведь», и Мери послала записку Томасу Мортону: «Отец! Передо мною и моим мужем открылась истина, искаженная в вашей постыдной рукописи. Мы навсегда покинули Ченсфильд. Прощайте. Мери». Я немедленно отправился к капитану Брентлею и потребовал отставки. Тон мой был столь решительным, что я получил согласие сразу. Брентлей понял – случилось нечто серьезное, и отговаривать меня не стал. Злополучный Мортон, получив записку дочери, не посмел нас разыскивать. Мы больше его не видели, так же как и Грелли… Семью я перевез во Францию, нанял для нее домик в окрестностях Руана, а сам верхом отправился через всю Францию в Тулон, чтобы с первым попутным судном отплыть из этого порта в Пирей. Вели меня туда, как вы, конечно, догадываетесь, самые неотложные заботы о семье капитана Бернардито. Рассказчик замолчал и вынул из кармана пустую трубку. Когда он полез в карман за табакеркой, Мюррей остановил его и протянул красивый кожаный кисет, украшенный красным индейским узором, – подарок вождя шауниев, Горного Орла. Уэнт с интересом осмотрел шитый бисером узор и неторопливо набил трубку. Угольком из камина он зажег ее и пустил к потолку колечко душистого дыма. – Превосходно! – заявил он. – Не хуже турецкого и покрепче! Вижу, что по части табака ваши друзья-индейцы действительно молодцы!.. Итак, господа, не стану утомлять вас подробностями, каким образом дошла до лжевиконта весть о том, что где-то в Пирее растет маленький сын капитана Бернардито Луиса. Весть эта сильно взволновала злодея, ибо в лице мальчика рос мститель, знавший от Фернандо Диаса, чьи руки обагрены в крови Бернардито. Грелли услыхал об этом мальчике благодаря целой цепи случайностей: моя Мери пооткровенничала с отцом, тот сразу уведомил Грелли. Самозванец посоветовался с Паттерсоном… Ну, а этот, на наше счастье, проболтался Томпсонам о мерах, какие намерен был предпринять лжевиконт… Конечно, это были обычные меры для Грелли: он решил послать в Пирей своего доверенного Каррачиолу с заданием разыскать и уничтожить мальчика. Простите, сеньора Луис, что я так открыто говорю об этих ужасных вещах. Мне об этом рассказали Томпсоны, когда я сообщил им, что намерен поискать счастья в Голубой долине. Они от души пожелали мне обрести это счастье, поручили доставить вам пакет Фернандо Диаса и посоветовали поторопиться в Пирей, если я принимаю к сердцу судьбу маленького Диего. Разыскать и доставить мальчика в Голубую долину я давно обещал вам, мистер Мюррей, еще в письмах из Англии, но мне долгое время не удавалось узнать пирейский адрес сеньоры Эстреллы. Получив у Томпсонов пакет от Фернандо, я с радостью увидел этот адрес на конверте… К счастью, агентам Грелли он не был известен! Итак, прибыв в Пирей, я прежде всего осмотрелся в порту. К большой своей тревоге, я сразу увидел знакомую корму шхуны «Удача». Но оказалось, что судно Каррачиолы лишь накануне бросило якорь в Пирее, и это несколько успокоило меня. Я благополучно миновал стоянку шхуны, не будучи узнан с нее никем, и пошел в город, расположенный на склонах гор. Впрочем, сеньора Эстрелла может гораздо лучше меня описать живописный порт древней столицы эллинов, ныне жестоко страдающей под турецким игом. Местонахождение дома купца Каридаса я выяснил еще в порту, у полицейского чиновника. Дом купца находился далеко от гавани, по дороге в Афины. Я отправился туда уже под вечер, в наемном фаэтоне. Разумеется, по дороге я тщательно рассматривал остатки «длинных стен» и в каждом битом черепке предполагал реликвию Перикловой эпохи. Очень скоро я, однако, заметил, что от самой окраины Пирея следом за моим экипажем едет на муле какой-то маленький человек в турецкой феске. «Если это переодетый полицейский, – подумал я, – то мне нечего опасаться осложнений: турецкие власти в Греции благожелательно относятся к британским офицерам». Поэтому я и не пытался ускользнуть от моего непрошеного спутника. Каррачиола не знал о связи семьи Бернардито с купцом Каридасом, и мелькнувшую было мысль о том, что за мною следит агент Грелли, я отбросил. Однако мой возница частенько поглядывал назад на трусившего рысцою всадника на муле и заметно нервничал. Едва добравшись до предместья, извозчик поглубже спрятал полученные деньги, огляделся по сторонам и галопом погнал лошадей в гору. Видимо, у него были свои взгляды насчет безопасности греческих больших дорог! Уже в сумерках я отыскал нужный мне дом и постучал в закрытый ставень. Дом был окружен постройками, изгородями и кустами виноградника, так что человечка на муле я потерял из виду. На мой стук долго никто не отвечал. Наконец ставень приоткрылся, и какая-то старуха, толстая и растрепанная, выглянула из окна. Она быстро проговорила несколько слов, которых я не понял, и уж было закрыла окно, но я в отчаянии ухватился за ставень и просто назвал имя сеньоры Эстреллы. Тогда старуха засветила свечу и поднесла ее к окну. В глубине комнаты я успел разглядеть клетку с мартышкой. Старуха, видимо, не прониклась доверием к моей особе, ибо замахала руками, произнесла что-то длинное и решительно захлопнула окно. В доме все стихло. В полной темноте я сделал несколько шагов и наткнулся на что-то теплое и мохнатое. Вздрогнув от неожиданности, я отдернул руку, но тут же расслышал глубокий вздох вместе с хрустом челюстей, пережевывавших жвачку; нетрудно было сообразить, что передо мною лежит мул моего преследователя. Размышляя, куда же мог деваться наездник, я стоял около животного, как вдруг во дворе хлопнула дверь и послышались приглушенные голоса. В одном из них я узнал голос старухи, другой мог принадлежать только подростку. Говорили они по-гречески, причем подросток подбирал слова с трудом. Я уловил два слова из их разговора, но эти два слова – «синьора» и «Марсель» – заставили меня насторожиться. Вскоре я расслышал в темноте шаги, и маленькая фигурка приблизилась ко мне. Подошедший пинком толкнул мула, побуждая его встать, и при этом издал мальчишеским голосом чисто англо-саксонское междометие с поминанием рук, ног и крови предков! Я сразу почувствовал в этом юноше земляка. В темноте он что-то приторачивал к седлу, вроде ящика или клетки, и после долгих усилий взобрался наконец на спину упрямого животного. Брыкаясь и фыркая, мул попытался сбросить седока. Я шагнул вперед, схватил мула под уздцы и хотел было заговорить, но в тот же миг сноп огня ослепил меня, пистолетный выстрел сбил с головы шляпу и рванувшийся мул опрокинул меня на землю. Через мгновение его дробный топот уже слышался на дороге. «Сегодня мне чертовски везет», – заключил я и, отыскав свою шляпу, побрел к городу. На пути мне иногда казалось, что какие-то тени то приближаются, то удаляются от меня. Болел ушиб, да и пуля, пролетевшая на дюйм от лба, несколько вывела меня из душевного равновесия. Поэтому я приписал эти смутные видения своему расстроенному воображению. Только на самой окраине Пирея меня обогнали два человека в плащах. Я достиг улицы, спускавшейся в порт с каменистого холма. Впереди, под уличным фонарем, я увидел трех подвыпивших греческих матросов. «Не знаете ли вы, – спросил я по-французски, – отходит нынче какое-нибудь судно в Марсель?» «Уже ушло», – отвечал один из них. «Что же это было за судно?» Матросы посмотрели на меня, и мой потрепанный вид вкупе с простреленной шляпой расположил их в мою пользу. «Это калоша старого Каридаса, – пояснил мой собеседник, – с позволения сказать, шхуна. При Александре Македонском была еще совсем как новенькая. Называется «Светозарная». «Если тебе нужно навострить лыжи, – добавил второй матрос, – то, может быть, ты еще застанешь ее в Малой бухте. Она берет там каких-то пассажиров». Матросы объяснили, что неподалеку от большой гавани имеется еще маленькая укрытая бухта, куда заходят лишь мелкие суда. Несмотря на сильную усталость, я зашагал в указанном мне направлении. Матросы снова меня окликнули: «Эй, друг, в бухте ты можешь не найти шлюпки! Иди в порт и отправляйся на какой-нибудь шаланде». Я последовал доброму совету и вскоре на неимоверно грязной греческой шаланде под рваным парусом уже огибал портовый мол древней афинской пристани. Ветер у берегов был слаб, и мы двигались медленно. Среди выступов скалистого побережья я временами различал темнеющий мыс, за которым и была бухта. Против нее, в море, стояло небольшое судно с двумя фонарями на мачтах. До него оставалось уже менее двух кабельтовых, как вдруг из-за мыса показался силуэт лодки. Два человека сидели на веслах, а на корме чернели еще какие-то фигуры и узлы. Лодка держала курс к судну с двумя огнями. Вслед за ней из глубины темной бухты вынырнула вторая лодка. В ней сидел только один гребец, работавший веслами изо всех сил. Гребец громко окликнул первую лодку, приказывая ей остановиться. Голос я узнал сразу. Это был Каррачиола! С передней лодки ему ничего не ответили. Она пошла еще быстрее, преодолевая последние ярды до судна. Тогда одиночный гребец бросил весла и вскинул ружье. Одновременно со звуком выстрела кто-то охнул, и передняя лодка завертелась на месте. Я видел, как преследователь опять налег на весла, а на носу его шлюпки поднялась вторая фигура с ружьем, до сих пор скрывавшаяся. Спутник Каррачиолы тоже выстрелил по беглецам. Вспышка озарила лицо датчанина Оге Иензена. В ответ раздался пистолетный выстрел с большой лодки. Я тоже выхватил пистолет и с расстояния в сотню футов скомандовал: «Руки вверх!» По-видимому, трехлетняя привычка слышать в темноте мой голос с мостика «Ориона» и беспрекословно подчиняться ему подействовала на обоих преследователей автоматически. Иензен бросил ружье, а Каррачиола оставил весла. «Лейтенант Уэнт, это вы? – крикнул итальянец изумленно. – Нестреляйте, помогите мне задержать бандитов!» «Сам ты бандит! – вырвалось у меня. – Стой, негодяй!» Однако Каррачиола предпочел избежать объяснений и пустился наутек. Тем временем суденышко Каридаса приняло на борт всех пассажиров с первой лодки и, поставив паруса, стало быстро удаляться от берега. Преследовать Каррачиолу было бесполезно, но и догнать шхуну Каридаса уже не было возможности… Я сунул в карман бесполезный теперь пистолет и велел своему греку править назад, к гавани Пирея. Здесь я не дал себе ни часу отдыха, нашел более поместительную шаланду, погрузил на нее свой единственный чемодан и в полдень отплыл на нанятом суденышке в Марсель…* * *
Рассказчик умолк… Трубка его давно погасла, и Уэнт машинально пожевал остывший мундштук. Эмили Мюррей осторожно гладила руки старой сеньоры. Никто не пошевелился, не проронил ни слова. Уэнт внял этой молчаливой просьбе и вынул пустую трубку изо рта…5
– Что ж, – продолжал рассказчик, – смею заверить вас, господа, что плавание по морю на рыболовной шаланде – занятие, не похожее на свадебное морское путешествие… Но не стану утомлять вас подробностями. После короткой стоянки у берегов Сицилии мы пересекли Тирренское море, и здесь – увы! – нас обогнала шхуна «Удача». На одиннадцатые сутки после выхода из Пирея мы пришвартовались у марсельского пирса. Я осведомился, не стоит ли здесь «Удача», и с беспокойством узнал, что шхуна пробыла в Марселе часа два, взяла пресной воды и отбыла на запад. Справки о шхуне «Светозарная» результатов не дали – такой корабль, по сведениям портовых властей, не бросал якоря в этой оживленной гавани. В глубоком раздумье я пошел в город, уже залитый весенним солнцем, пыльный, шумный и всегда переполненный массой праздношатающегося люда. Проходя по базару, я увидел толпу зевак, окружившую бродячего фокусника. Что-то заставило меня подойти к этой толпе, и я увидел подростка лет тринадцати в турецкой феске и маленькую мартышку, выделывавшую действительно уморительные фокусы. Зрители гоготали и в феску мальчика полетело довольно много монет, когда, окончив представление, он обошел толпу. Я бросил ему небольшую золотую монету, и мальчишка тотчас выхватил ее из кучки меди и серебра. Ловко прикусив монету, он опустил ее в карман и взглянул на меня. Мартышка сидела у него на плече, клетка стояла на земле, народ расходился, а мы в упор смотрели друг на друга. Я узнал своего пирейского преследователя на муле, узнал мартышку из дома Каридаса и сразу решил не упустить этого маленького человечка. Для начала я крепко схватил его за руку. «Не вздумай-ка опять стрелять в меня из пистолета, чертенок, – шепнул я ему, – и не пробуй ускользнуть, а то я подниму на ноги полицию. Послушай, дружок, я хочу с тобой серьезно поговорить. Меня зовут лейтенант Уэнт. Не бойся меня, я не думаю тебя задерживать». При звуке моего голоса и имени мальчишка несколько ободрился и перестал осматриваться в поисках лазейки. «Дай мне слово, что ты не удерешь, – сказал я, – тогда мы с тобой пойдем в таверну и поговорим за столиком». «Ладно», – примирительно ответил мой пленник, усадил обезьяну в клетку, и мы зашагали по улице. Под тентом открытого кафе, среди свежей майской зелени, мы сели за столик. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Луиджи». «Послушай, друг мой Луиджи, называть тебя я могу хоть мартышкой, коли ты желаешь скрыть свое настоящее имя, но уж если ты намереваешься врать, то делай это умеючи. Сам я родом из Бультона». Мальчишка побледнел и, наверно, улизнул бы, если бы я пребольно не ухватил его под столом за ногу. «Сиди! – приказал я властно. – Дело идет о жизни и смерти близких мне людей. Скажи прямо: знаешь ли ты что-нибудь о сеньоре Эстрелле Луис и маленьком Диего?» Мальчишка хмуро уставился в тарелку и упрямо молчал. Я продолжал его уговаривать. «Ты, наверно, думаешь, что я хочу зла этим людям? Пойми, я прибыл из Англии, чтобы спасти их от руки убийц. Один раз это удалось мне в Пирее. Скажи мне: Диего и сеньора сейчас в Марселе? Я должен увезти их в Америку». Собеседник мой боролся между чувством недоверия и желанием оказать услугу своим друзьям. У меня уже возникла догадка, что мальчик с обезьянкой, сопровождавший в Бультоне поджигателя верфи, и мой собеседник – одно лицо. Фернандо мог сообщить своему юному помощнику адрес семьи Бернардито… Я решил идти в открытую. «Вот что, Луиджи Мартышка или Веснушчатый Нос: я отлично знаю, кто ты такой. Ты беглец из школы мистера Чейзвика, участвовал в поджоге верфи, и зовут тебя Томас Бингль. Обезьяна выдает тебя. Коли хочешь, я могу и тебя забрать в Америку вместе с Диего. Тебе опасно оставаться в Европе, где рыщут агенты Райленда. Я помогу тебе, хотя ты чуть не застрелил меня на задворках дома Каридаса». Сначала Том заерзал на стуле, с тоской поглядывая по сторонам. Потом его сомнения рассеялись. Он ожесточенно воткнул вилку в жаркое, решив, что сдержанность можно приберечь для другого случая. «Так-то лучше, – сказал я, смеясь. – Теперь веди меня скорее к друзьям, пока шхуна «Удача» не пожаловала в Марсель следом за вами». Об остальном, господа, о нашей сердечной встрече с сеньорой Эстреллой Луис, позвольте не рассказывать, вы сами прекрасно представляете себе эту встречу, а я… не мастер говорить вслух о трогательных вещах… Скажу только одно, мистер Альфред Мюррей: после всего пережитого сеньорой и мальчиком я хотел бы иметь уверенность, что прошлое никогда не повторится, и для этого, мистер Альфред, нельзя слишком полагаться на здешнюю глушь и отдаленность. У Грелли руки длинные, и он боится нас всех… Нужно и здесь не забывать об этом! – Ну что вы, Эдуард! – засмеялся Альфред Мюррей. – Сюда, на край света, не дотянуться ничьим длинным рукам! Забудем, друзья, о пережитых опасностях. Мы безбожно утомили нашего рассказчика, Эмили! Пора спуститься в столовую и еще раз отпраздновать радостную встречу друзей!6
Когда весь кружок слушателей Уэнта перекочевал вниз, в уютную столовую с верандой, была уже ночь. В окна, занавешенные кисеей, лился прохладный аромат ночи, мотыльки бились о дрожащую кисею, какие-то ночные птицы подавали из лесу свои голоса. Все общество уселось за столом. – Теперь, Эдуард, поведайте нам о «добром старом Бультоне», – попросил Мюррей. – И как поживает мистер Паттерсон, – добавила Эмили. – Паттерсон? Он стал простой пешкой на шахматном столике Грелли. Пожар верфи всецело отдал его в руки Грелли, и новая бультонская верфь возродилась уже под флагом «Северобританской компании». – А мистер Ленди, старый банкир? – Скончался от апоплексического удара, совершенно неожиданно. Банк тоже перешел в руки лжевиконта: Грелли оказался его крупнейшим акционером. Он постепенно становится хозяином в графстве. – Скажите, а какова судьба бедной Доротеи Ченни? Она все еще в Ченсфильде или… – Судьба Доротеи и ее брата Антони была жестокой. Ченсфильд они давно покинули, и я только случайно узнал об этих людях. Подробности вы услышите завтра, у Томаса Бингля. Он встретил брата и сестру Ченни в Неаполе, где их и постигла злая участь… – Что произошло с ними, расскажите, Эдуард! Я всегда относилась хорошо к ним обоим, и все обитатели мрачного Ченсфильда любили Антони и Доротею, – взмолилась леди Эмили. – Так вот, судьба неожиданно свела их с нашим славным мальчуганом Томасом. После поджога верфи мальчишка прибежал домой, схватил клетку с обезьяной и удрал в порт. Проскользнув на итальянскую шхуну, мальчик спрятался в трюме и был обнаружен командой только в Гавре. Мальчишка полюбился экипажу и остался юнгой на этой шхуне. Когда судно зашло в Пирей, мальчик расстался с кораблем и, памятуя просьбу Фернандо, отыскал в Пирее семью капитана Бернардито. Купец Каридас взял его юнгой на свою шхуну «Светозарная». И вот в августе семьдесят четвертого года шхуна старого грека стояла на причале в Неаполе. Томас чистил на борту макрель к обеду, когда его окликнул с причала какой-то красивый юноша в поношенном платье. Рядом с ним стояла молодая женщина с печальными глазами. Лицо юноши показалось Тому знакомым. Тот заговорил по-итальянски и имел неосторожность задеть морскую честь бывалого юнги вопросом вроде: «Эй, замарашка, куда хочет плыть твое корыто?» Отстояв честь своего вымпела соленым морским ответом, юнга со «Светозарной» счел возможным вступить в мирные переговоры. Знакомство, начатое ссорой, окончилось в шумной портовой таверне. Оказалось, что имя молодого человека Антони Ченни, а спутница его – не кто иная, как Доротея. Томас Бингль вспомнил, что мельком видел обоих в Ченсфильде. Земляки напробовались различных вин и пришли в неописуемое веселье. Доротея пыталась вмешаться, но «мужчины» не потерпели покушения на свою независимость. Они обнялись и поклялись в дружбе навек. Юнга излил свое сердце признанием о причинах бегства из пансионата, а бывший грум поведал обо всех событиях на острове и о своем уходе из дома Райленда. Несмотря на свой нежный возраст, тринадцатилетний юнга сохранил в опьяненном состоянии все же больше осмотрительности, чем девятнадцатилетний грум. Во всяком случае, когда к их столику подошли какие-то темные личности в сапогах с отворотами, юнга пытался помочь Доротее увести пьяного Антони из таверны. Однако четверо подошедших настойчиво усадили Антони с собой, а мистера Бингля угостили изрядным пинком. В обществе этих людей Антони продолжал пить, обниматься и рыдать. Томас не помнил, как он сам выбрался из таверны, но последним его воспоминанием было, что Антони подписывал какую-то бумагу, а Доротея, ломая руки, подбегала то к хозяину таверны, то к пирующим. Перед рассветом два матроса со «Светозарной» приволокли своего юнгу на шхуну. Томас проснулся уже за полдень. В тревоге за судьбу своего нового друга он побежал в таверну. Хозяин объяснил, что Антони завербован на французское судно, идущее в Африку. Бродя по порту, Томас увидел, что военный французский корабль «Святой Антуан» поднимает паруса на рейде. Плачущая молодая женщина, в которой Том узнал Доротею, пробовала кричать что-то вслед кораблю. Том видел, как ее грубо толкнули в шлюпку два солдата, возвращавшиеся на корабль последними. Судно приняло обоих солдат и Доротею на борт и ушло к африканским берегам… Том рассказал Каридасу эту печальную историю и упросил его разыскать в Сорренто старуху Анжелику, мать пострадавших. Вместе с Каридасом Том навестил несчастную Анжелику Ченни, поведал ей о случившемся с ее детьми и насколько мог утешил бедную женщину. – И больше о них, конечно, ничего не известно? – спросила Уэнта огорченная Эмили. – Увы, миссис Эмили, известно! – Они погибли? – Да, погибли. И вероятно, мучительной смертью. Узнал я об этом совсем недавно, уже во время плавания сюда, к вам. Получилось так, что для переезда через океан мне пришлось принять командование французским барком «Перпиньян». По условиям договора, я должен был сначала совершить рейс к берегам Южной Африки, затем в Бразилию. И вот во время этого рейса неподалеку от острова Святого Фомы, у западного побережья Африки, мы повстречали французское военное судно «Святой Антуан». Капитан его рассказал мне, что более года назад корабль доставил к устью Заира*["84] небольшой французский работорговый отряд, состоявший из завербованных бродяг. Высадившись среди первобытных дебрей Экваториальной Африки для ловли негров, отряд стал вскоре редеть из-за тяжелого климата и болезней. Углубившись в леса негритянского государства Конго, французы подверглись смелому нападению туземных племен и были почти поголовно истреблены. Всего несколько человек бежали с побережья на плоту и вернулись на борт «Святого Антуана», продолжавшего крейсировать в западных африканских водах. Я спросил капитана, не помнит ли он среди солдат молодого итальянца Антонио Ченни. Капитан рассказал, что Антони сделался санитаром, а Доротея, его сестра, исполняла обязанности госпитальной сиделки. В числе спасшихся на плоту не было ни Антони, ни Доротеи; они попали в плен к неграм племени баконго и, вероятно, погибли. Вся эта экспедиция в Экваториальную Африку была безрассудной затеей какого-то французского маркиза, задумавшего этим работорговым рейсом поправить свои дела. Экспедицию поддержали и военные власти, предоставив в ее распоряжение старый корабль, нескольких офицеров-авантюристов и ловкого вербовщика, некоего разжалованного капитана Шарля Леглуа; этот субъект быстро «навербовал» для экспедиции «добровольческий отряд», то есть поймал в свои грязные сети несколько десятков таких же простаков, как наш бедный Антони… Теперь вы знаете все мои новости, господа… Скажите, Фред, давно ли вы получили мое письмо с известием о нашем выезде к вам? – Его доставили несколько месяцев назад из Винсенса, с оказией, – отвечал Мюррей. – Вчера утром оттуда же лесными тропами пробрался к нам всадник и сообщил о приближении вашего баркаса… Леди и джентльмены, поблагодарим же теперь нашего измученного рассказчика. И позвольте проводить вас в ваши комнаты, дорогие Мери и Эдуард.Этой ночью в угловом окне блокгауза в английском форте Голубой долины долго горел свет. Капитан Бернс что-то писал на листке почтовой бумаги. Потом он вызвал двух солдат и вручил им запечатанный пакет. – Даю вам два месяца сроку, чтобы сдать пакет в форт Питт на Огайо и вернуться сюда с распиской, – сказал он солдатам. – Отправляйтесь завтра же на рассвете. Письмо должно попасть к адресату в Англию не позднее чем через три месяца. На пакете было написано: «Англия, Бультон, Ченсфильд, сэру Фредрику Райленду в собственные руки».
13. Семена небесной благодати
1
Библиотека графа Паоло д’Эльяно занимала весь верхний, третий, этаж большого дома с резными башенками, известного в Венеции под названием «Мраморное палаццо». Двести тысяч томов, великолепный рукописный фонд, более двух десятков «инкунабул» – редчайших первопечатных книг, – собрание эмалей и миниатюр, наконец, уникальная коллекция старинных монет, медалей и гербов заполняли шесть верхних залов дворца. Средний, самый просторный и светлый из этих покоев, служил главным залом библиотеки. Сокровищами графской библиотеки ведал его преподобие отец Фульвио ди Граччиолани, духовник графа Паоло, священник его домашней церкви и вместе с тем распорядитель книжными, рукописными и художественными собраниями Мраморного палаццо. На послепасхальной неделе 1778 года патер Фульвио, статный надменный мужчина лет пятидесяти, в черной шелковой сутане и с ореолом серебряных кудрей вокруг тонзуры*["85], стоял у окна главного библиотечного зала. Он старался рассмотреть человека в докторской шапочке, только что покинувшего гондолу у подъезда палаццо. Прибывший скрылся под аркой подъезда, и отец Фульвио потерял его из виду. Патер в раздумье постоял у окна и вернулся к своему любимому угловому столу. Раскрыв редчайшую «Историю деяний ордена Иисуса», написанную безымянным последователем Игнатия Лойолы, патер углубился в жизнеописание основателя и «первого генерала» ордена иезуитов. Далеко в прошлое увело патера сочинение безымянного автора – к началу XVI века, того бурного века, когда корабли испанских и португальских конквистадоров несли крест и меч, рабство и смерть жителям неведомых доселе заокеанских земель. Рекой полилась тогда кровь мексиканских ацтеков, перуанских инков, туземцев Кубы и Гвианы, Суматры и Явы. Кровь эта быстро превращалась в золото. Как морской прибой, прихлынул к старым гаваням Европы этот золотой поток, наполняя купеческие сундуки и превращая их владельцев в более могущественных властелинов, чем были феодальные князья и герцоги. Купечество, богатея, уже посматривало косо на носителей старых феодальных прав. Под обветшалыми тронами почва становилась все более зыбкой… Пошатнулся и авторитет крупнейшего феодала – католической церкви. Именно церковь сама снаряжала первые корабли этих разбойничьих экспедиций, сама напутствовала и оснащала дружины конквистадоров. Золото текло и к ней из-за моря, но… оттуда же, из-за вновь открытых океанских далей, повеяли опасные свежие ветры! Мир стал шире. Горизонты его раздвинулись. Свежие ветры развеяли в океанских волнах след каравелл Магеллана, а вместе с тем они развеивали и старые предрассудки, созданные церковью в умах человеческих. У доброй паствы Христовой стали меняться представления о форме Земли, ее размерах, положении в пространстве. Рушились тысячелетние схоластические догматы отцов церкви. Разум, мужая, готовился сбросить вериги мракобесия. Уже гремели памфлеты Эразмуса из Роттердама. Голос Ульриха ван Гуттена звал умы к просвещению. Англичанин Томас Мор потряс умы первой книгой о коммунистическом устройстве общества. Белый листок с девяноста пятью тезисами, прибитый ночью к стене Виттенбергского собора монахом Мартином Лютером, положил начало «величайшей ереси, именуемой реформацией», расколовшей всю паству овец Христовых. Эти греховные овцы, по наущению еретиков, воспротивились стрижке в пользу ватиканского трона. Они разуверились в непогрешимости папы и тонули в сквернах порока, не оплачивая больше папских индульгенций. Свежие ветры превращались в шторм, перехватывающий дыхание, и волны крестьянских мятежей заливали площади городов. Замки пылали. Из монастырских колодцев торчали ноги утопленных монахов. И напрасно инквизиторы – ученики Торквемады, – укрыв лица черными балахонами, терзали в подземельях тысячи «инакомыслящих»; напрасно пылали костры, чтобы «кротко и без пролития крови» очищать землю от еретиков, – человеческий разум и человеческий гений шли на приступ церковных твердынь. А с высоты ватиканского холма в Риме святейший отец папа Павел III с его смятенными кардиналами в ужасе взирал сквозь дым инквизиторских костров на эту картину всеобщего разброда и шатания устоев. И тогда-то, в годину тяжелых потрясений, Господь послал своего избранника на помощь церкви Христовой… В Монрезе, небольшом испанском городе, лежал на одре болезни благородный кастилец, сын небогатых дворян, дон Иниго Лопец Игнатио ди Лойола. Пулевая рана жгла его тело, сотрясая страдальца огнем лихорадки, и, сонному, предстали ему великие знамения… В ореоле нездешнего света снизошла к его одру Пречистая Дева. Впадая в священный экстаз, страдалец узревал Иисуса-спасителя, и, наконец, сам Святой Дух Господень озарил дона Игнатио ослепительным шарообразным пламенем. Голоса Пресвятой Троицы воззвали: «Иди, спаси святую церковь от козней врага рода человеческого». И хотя врачебное искусство было бессильно помочь больному, Господь сподобил его восстать с одра и взять страннический посох. Из древней Барселоны Игнатий Лойола прибыл к берегам Тибра, в Рим, и поднялся на ватиканский холм. Он припал к ступеням папского престола и поведал свой план святому отцу. Святейший папа Павел III одобрил замысел испанца и подписал знаменитую буллу Regimini militantis Ecclesiae*["86]. Новый монашеский орден с уставом, предложенным Лойолой, родился 28 сентября 1540 года, орден «воинства Иисуса». Это был совсем особый орден! Глубочайшая тайна окружала его с первых дней. Генерал ордена иезуитов знал над собою только власть святейшего отца, а по прошествии немногих десятилетий этот верховный магистр ордена, «черный папа» иезуитов, затмил даже ватиканского помазанника. Как и в мирских армиях, в «дружине Христа» существовала строжайшая иерархия. «Христовы дружинники» делились на четыре класса – послушников, схоластиков, коадъюторов и профессоров. Но ни одна армия в мире еще не знала такой беспрекословной дисциплины… Как посох повинуется руке предержащей, так повиновались своим офицерам солдаты ордена, послушные, бессловесные, «покорные, как труп». Никакие внешние признаки не выделяли братьев иезуитов среди их окружения: они могли носить или не носить рясу, могли принимать любой облик, исповедовать (внешне) любую веру и клясться любыми заклятиями, прибавляя про себя тайную формулу, что «свершается сие во имя Христовой церкви». Иезуиты устремились за океаны, становясь купцами и мореплавателями, погружая руки по самые локти в золото и кровь. В Парагвае они создали даже целое государство, где угнетение туземцев было доведено до неслыханной жестокости. В часовнях Европы они возобновили «чудеса», знамения и исцеления, умножая гульдены в орденской кассе и улавливая души. А для душ, не желающих идти в «сладостный плен», сыны ордена готовили особую участь… Венецианские иезуиты схватили Джордано Бруно, и «черный папа» Клавдий Аквавива послал его на костер, разложенный посреди площади Цветов в Риме. Иезуит Гарнет вложил в руки Гая Фокса дымящийся фитиль для взрыва британского парламента, где протестанты получили большинство. Иезуит Антонио Поссевино слал в Россию католических агентов для низвержения православной церкви. Авантюриста Лжедмитрия они заставили тайно принять католичество, надеясь через него утвердить на Руси духовную власть римского папы… Кардинал Беллармин, один из высших офицеров иезуитского ордена, пытал в тюремном подземелье великого Галилео Галилея… В соборах и тавернах, штабах и лазаретах, на университетских кафедрах и в опочивальнях королевских любовниц веками плели свою сеть братья иезуиты, руководствуясь страшным принципом: «Цель оправдывает средства». И незримая тень креста тянулась от римского дворца Джезу – штаб-квартиры ордена – во все страны мира, осеняя могилы тайных жертв и неостывший пепел публичных костров. Но ненависть народа, простого народа всех стран, все плотнее и грознее окружала черное воинство ордена. Во Франции, в Испании, в Англии люди разных сословий, охваченные гневом и отвращением, сбрасывали духовное иго ненавистных иезуитов. Ровно через два с половиной столетия после «божественных» видений «святого» Игнатия волны народного гнева бушевали уже у подножия ватиканского холма. Объятый страхом, папа Климент XIV поспешил отречься от своих дружинников и в 1773 году обнародовал буллу о роспуске ордена иезуитов. И братья Иисусовы укрылись от народной мести в глубочайшее подполье, облекли себя еще более черной и плотной завесой тайны. Распущенный орден жил, и сыны его знали: не пройдет и нескольких десятилетий, как святой отец вновь воззовет их из тьмы подполья…*["87] …Белые пальцы патера продолжали бережно листать летопись ордена. Сам патер Фульвио ди Граччиолани давно играл видную роль среди венецианских иезуитов, которые гордились тем, что им, вернее, их удачливым предкам, удалось заманить в ловушку Джордано Бруно, чтобы передать его потом на расправу римской курии. После официального роспуска ордена роль отца Фульвио как высокого офицера тайного Иисусова воинства еще более возросла. С благословения свыше отец Фульвио незримо ткал паутину, и «послушные, как трупы», подпольные «братья» выполняли его тайные приказы. Наибольшей своей заслугой перед орденом отец Фульвио не без основания считал ту нравственную власть, которую он с годами приобрел над своим «духовным сыном», хотя по возрасту граф Паоло был на десяток лет старше патера. Эта нравственная власть имела весьма практические цели… Состояние графа оценивалось в пять-шесть миллионов скуди*["88]. Это огромное богатство не имело прямых наследников, ибо граф Паоло лишился не только супруги, трагически погибшей в 1748 году, но похоронил вслед за графиней Беатрисой и обоих своих детей, унесенных беспощадной болезнью. Ввергнутый этими несчастьями в мрачный душевный упадок, синьор Паоло уверился, что над ним тяготеет неумолимый карающий рок. Он черпал утешение в беседах с красноречивым патером Фульвио, тогда еще двадцативосьмилетним служителем Бога, который вскоре сделался духовником и приближенным старого графа. И вот уже четверть века патер Фульвио упорно склонял своего духовного сына не только к суровому аскетизму в жизни земной, но и к богоугодной загробной жертве. В конце концов он добился давно поставленной перед собою цели: граф нотариально завещал все свое огромное состояние католической церкви. В своей духовной, составленной при ближайшем участии патера, граф настоял лишь на оговорке, что завещание вступает в силу при получении прямых доказательств гибели его первого, правда, незаконного, сына – синьора Джакомо Молла. Увы, эта ничтожная оговорка создала патеру Фульвио немало хлопот, о которых старый граф Паоло решительно не подозревал. Уже более двух часов прошло после прибытия во дворец незнакомого господина в докторской шапочке. Патер Фульвио захлопнул наконец «Историю деяний» своего ордена и подозвал служителя, Джиованни Полесту: – Ступай вниз, Джиованни, и узнай, здесь ли еще приезжий и был ли он принят самим эччеленца. Но служитель не успел дойти до двери, как она отворилась и сам граф Паоло д’Эльяно появился на пороге, пропуская вперед низенького, полного человечка в обычной одежде ученых-богословов. – Синьор Буотти, позвольте представить вас нашему высокоученому патеру Фульвио ди Граччиолани; его неустанным заботам я всецело обязан порядком, царящим в этих собраниях, – сказал владелец дворца, подводя доктора к своему духовнику. Тот с лучезарной улыбкой приветствовал вновь прибывшего ученого. – Дорогой коллега, – учтиво произнес доктор богословия, – месяц назад я имел смелость обратиться с письмом к графу, прося позволения посетить его библиотеку для изучения ее драгоценного рукописного фонда. Граф был так любезен, что пригласил меня провести у него в доме столько времени, сколько этого потребует работа над моим трактатом. И я очень боюсь наскучить вам своим присутствием, ибо ранее чем в две недели трудно исчерпать здешние богатства даже самым поверхностным образом… Эччеленца, – продолжал ученый, обращаясь к хозяину, – одно перечисление рукописей, сделанное вами по памяти, побуждает меня благословлять вас как собирателя этой коллекции! – Не заставляйте меня краснеть, доктор, ибо я ничтожно мало прибавил к научному собранию деда и отца. Сам я в молодости был увлечен искусством и собирал преимущественно картины, мрамор, фарфор и чеканку. Я счастлив видеть в вашем лице и ученого и подлинного знатока искусств и твердо намерен сделать вас пленником этих стен по меньшей мере на полгода… А теперь вам надо подумать об отдыхе после утомительного пути. Джиованни, проводи синьора в предназначенные ему покои. Когда доктор Буотти удалился, граф Паоло заметил облачко неудовольствия на высоком челе патера и решил, что и отец Фульвио, пользовавшийся репутацией ученейшего мужа, не совсем чужд легкому чувству зависти и ревности. Эта мысль втайне позабавила графа. Перед наступлением вечера все трое вновь сошлись в столовой графа. За стаканом кьянти синьор Томазо Буотти успел познакомить слушателей с некоторыми эпизодами своей студенческой и университетской жизни, развеселил старика и вызвал улыбку даже на тонко изогнутых устах патера Фульвио ди Граччиолани.2
Через неделю после прибытия синьора Буотти граф д’Эльяно уже успел проникнуться к добродушному доктору искренним чувством симпатии. Полюбили его и все домочадцы графа, уже попросту величая его «синьором Томазо». А сам он, убедившись в неподдельной страсти графа к науке и искусствам, почувствовал к старому венецианскому вельможе настоящее душевное расположение. Их беседы вдвоем или в присутствии патера Фульвио затягивались за полночь. К тому же оказалось, что порядок в рукописных, книжных и художественных коллекциях дворца, которым так гордился граф, приписывая его заслугам отца Фульвио, оказался весьма сомнительным. Бедность каталогов, путаница в классификации и дилетантское ведение библиотечных описей поразили доктора. Небрежность хранения рукописей привела к порче целых страниц драгоценных древних пергаментов. Когда вместо одной из древнееврейских рукописей доктор Буотти обнаружил лишь изъеденные крысами доски переплета, он не смог сдержать свое негодование и сообщил графу о печальном положении дел в его домашнем музее. Большая часть художественного собрания, накопленного несколькими поколениями владельцев Мраморного палаццо, походила на груз корабельного трюма, упакованный не слишком тщательно, но глубоко скрытый от человеческого глаза. В подвалах дворца пребывали в рогоже и опилках полотна мастеров, мраморные статуи, гравюры, изделия из фарфора и бронзы, венецианское стекло и чеканное серебро Востока. «Суетные предметы искусства, – говаривал патер Фульвио графу, отдавая распоряжение убрать из какой-нибудь залы то целомудренно нагого ангела Донателло, то непорочную деву фра Беато Анжелико, то кинжал с чеканкой Челлини, – отвлекают душу от созерцания сокровищ вечных, открываемых нам верой, молитвой и таинствами церкви». После подобных поучений граф покорно провожал глазами уносимый ящик, находивший приют где-нибудь под лестницей или на чердаке. У патера Фульвио были веские причины для столь непреклонной борьбы с «суетными предметами». Он решительно противился робким попыткам владельца выставить ценности для всеобщего обозрения, потому что это бесспорно привело бы во дворец тысячи сограждан и поощрило бы графа к безрассудной благотворительности в пользу родного города, то есть в направлении, совершенно нежелательном для ордена Иисуса. Тем недружелюбнее встречал он все попытки доктора Буотти хотя бы бегло познакомиться с художественными богатствами дворца. Однажды, бродя по пустынной анфиладе десяти нижних залов палаццо, доктор Буотти довольно рассеянно слушал болтовню старого дворцового служителя Джиованни Полесты, который был приставлен графом в услужение «синьору Томазо». – Скажи мне, Джиованни, – прервал богослов разглагольствования слуги, – почему сокровища дворца не выставляются на свет божий здесь, в этих светлых, просторных залах? Смотри, какие они пустынные и запущенные! Джиованни перешел на шепот и поведал «синьору Томазо» свои догадки. Доктор Буотти покачал головой и замолчал. Уже покидая последний зал, он задержался около портрета необыкновенно красивой дамы, изображенной художником в полный рост, во всем блеске ее молодости и ослепительной красоты. Очень старый траурный креп облекал выпуклые золотые цветы рамы. – Кто эта дама? – спросил доктор у служителя. – Мадонна дель Кассо, покойная графиня Беатриса д’Эльяно. – Погибшая от руки ревнивицы? – Да. – Как звали эту несчастную? – Синьора Франческа Молла. Я знал ее, ваша милость. Она едва не стала женой графа Паоло. Шесть лет она прожила здесь, и мы все привыкли к ней. Если бы старый граф не пригрозил синьору Паоло лишить его наследства, Франческа Молла стала бы здесь хозяйкой, и у графа Паоло был бы сейчас взрослый сын, синьор Джакомо. – Не сохранилось ли где-нибудь изображения этой женщины? – Была одна эмаль, но едва ли она уцелела… – А мальчик?.. Какова его дальнейшая участь? – Не знаю, сударь. Поговаривали, что он бежал из детского приюта… – Постой, постой, Джиованни! Как, ты сказал, было имя этого синьорито? – Его звали Джакомо… Джакомо Молла. – Скажи мне, вспоминает ли отец об этом мальчике или самое имя его стало ненавистно графу? – Да нет, что вы, синьор Томазо! Напротив, я знаю, что граф по всему свету разыскивал сына. Патер Фульвио как будто помогал графу в этих розысках, только, видите ли, у него свои цели, божественные… – Слуга замолчал и покосился на оба выхода из зала. – Кажется, я тебя понимаю, Джиованни. Едва ли я приобрел благожелателя в лице патера Фульвио, но и сам я не могу, прости господи, преодолеть… некоторого предубеждения против отцов иезуитов!В тот же вечер доктор Томазо Буотти решительно попросил у графа позволения осмотреть художественные фонды дворца. В течение четырех дней подряд пятеро дюжих слуг, предводительствуемых Джиованни Полестой, разбирали в подвалах, кладовых и чердачных помещениях «суетные» предметы искусства, извлекая их из ящиков и свертков, стряхивая с них стружки, сор и пыль. Доктор Буотти предавался этим своеобразным раскопкам с увлечением истинного знатока. Он с таким жаром рисовал графу заманчивые картины превращения Мраморного палаццо в дворец искусства, что граф в конце концов победил привычный трепет перед своим духовником и предложил доктору Томазо поступить к нему на службу, чтобы принять на себя заботу обо всех научных и художественных богатствах дома. При этом граф сослался на обилие духовных забот у отца Фульвио, не позволяющих ему посвящать себя в должной мере заботам светским. Доктор Томазо подумал, крепко пожал протянутую ему руку синьора Паоло и… согласился! Через месяц после вступления доктора Буотти в должность ученого хранителя библиотеки и художественного собрания Мраморное палаццо стало неузнаваемым.
3
Собрание миниатюр, эмалей и камей было разобрано доктором Буотти в последнюю очередь. Поздним майским вечером 1778 года доктор, очень оживленный и радостно озабоченный, хлопотал в главном зале библиотеки. Граф Паоло сидел рядом с ним, зябко кутаясь в плед. Его преподобие Фульвио ди Граччиолани с поджатыми губами и насмешливым выражением глаз находился тут же, наблюдая за работой доктора. Извлеченные из ящиков, лежали на столах сотни персидских, итальянских и французских миниатюр, египетские скарабеи из разграбленных пирамид, древнегреческие камеи, римские геммы*["89], изделия индусских и китайских резчиков по камню и мелкие священные предметы из кости, исполненные суровыми аскетами первых веков христианства, грубоватые, примитивные и трогательные. Джиованни Полеста обмывал все эти предметы теплой водой, просушивал и раскладывал на столах, застланных полотном. Доктор Буотти сортировал коллекции, делал записи и обменивался с графом замечаниями… Овальная портретная эмаль, охваченная тонким золотым ободком, легла рядом с персидской миниатюрой, посвященной эпизоду из поэмы Фирдоуси. Заметив эмаль, граф замолчал на полуслове. Доктор взял лупу и лишь с ее помощью смог прочесть надпись, вплетенную в узор виньетки: «Синьора Франческа Молла с сыном Джакомо. Исполнил мастер Виченце Антонио Кардозо из Милана. Венеция, 2 апреля 1743 года». С портрета глядела на доктора красивая женщина с пышными волосами; она прижимала к лицу кудрявого пятилетнего мальчика. Тонкое личико ребенка уже изобличало будущий характер человека – себялюбивый, упрямый и жестокий. Заметив, что доктор рассматривает эмаль долго и пристально, граф спросил тихо: – Известна ли вам, синьор Буотти, роль этой женщины в моей жизни? – Да, эччеленца, я осведомлен… Смею ли я спросить о дальнейшей судьбе этой дамы? – Она была осуждена в Ливорно, впоследствии оказалась в изгнании и много лет спустя вышла в Марселе замуж за одного иностранца. В 1762 году она умерла почти одновременно со своим мужем. Лишь настойчивым поискам патера ди Граччиолани я обязан тем, что эти подробности дошли до меня. – Но участь ребенка? – Осталась неизвестной. Мальчик, чье изображение вы держите в руках, попал после суда над матерью в монастырский приют Святой Маддалены. Оттуда он бежал, и с тех пор следы его безнадежно потеряны, хотя отец Фульвио потратил много усилий, чтобы установить его судьбу. В течение долгих лет розыски этого мальчика составляли главную цель моей жизни, но слишком поздно я принялся за них! После гибели жены я эгоистически утешался в моем горе лаской Джеронимо и Лауры, детей, подаренных мне Беатрисой, и не протянул вовремя руку своему несчастному первенцу. За этот грех справедливое небо не только отняло у меня обоих малюток, но и лишило надежды отыскать дитя, так легкомысленно забытое мною… – Эччеленца, – с некоторым усилием произнес доктор, искоса посматривая на длинный профиль иезуита, – я боюсь вселять в ваше сердце, быть может, напрасную надежду, но позвольте поведать вам, что мне кое-что известно о судьбе одного юноши по имени Джакомо, сына осужденной артистки и беглеца из приюта Святой Маддалены в Ливорно. Я встречал людей, близко знавших этого подростка… Правда, это было очень, очень давно. Граф Паоло, патер Фульвио и служитель Джиованни с волнением обратили взоры на болонского доктора. – Ради создателя, – простонал старик, хватаясь за сердце, – синьор Томазо, не томите меня неизвестностью, расскажите все, что вы слышали про Джакомо! – Эччеленца, поведать я могу очень немного. Но быть может, это немногое даст вам нить для продолжения розысков. – Говорите, синьор, и считайте меня в неоплатном долгу перед вами! – Я был студентом последнего курса теологического факультета Болоньи, когда мой друг, студент-медик, предложил мне совершить путешествие по Италии. Этот мой товарищ был родом из Англии и намеревался вернуться после выпуска на родину. Звали его Грейсвелл, Рандольф Грейсвелл. Весной 1756 года мы отправились в Неаполь, намереваясь обозреть города, лежащие у нас на пути, а также посетить Сицилию. То верхом на мулах, то пешком с ночлегами в придорожных тавернах мы двигались по стране в поисках художественных впечатлений, доброго вина и старинного гостеприимства. Вероятно, в цепи пережитых мною лет самой счастливой порою останутся эти два месяца юношеской свободы. Неподалеку от Сорренто мы набрели на бедную рыбацкую деревушку. Уже темнело, когда, подкрепившись в довольно убогом трактире, мы решили поискать другого пристанища на ночь, ибо обилие блох в предложенном нам помещении смутило даже нашу юношескую отвагу. Проходя под окнами какого-то домика, мы явственно услышали стоны, доносившиеся изнутри. Стонала женщина, и спутник мой сразу распознал, что какая-то страдалица освобождается от бремени. Из домика в страхе выбежала девочка и, завидев двух незнакомых путников, пустилась было дальше, но мистер Грейсвелл поймал ее за косичку и участливо спросил, не нужно ли помочь больной. Как только девочка узнала, что перед нею врач, она тотчас потащила его в дом, причитая и плача. Мне осталось только последовать за ними. Роженицу мы застали почти при смерти, а повивальную бабку, хлопотавшую вторые сутки, – окончательно потерявшей голову. В дорожном мешке моего товарища имелись некоторые инструменты. Беспомощную бабку он выпроводил и храбро приступил к операции. Благодаря его спокойствию, искусству и смелости роды окончились сравнительно благополучно. На другой день у больной наступило ухудшение, появились признаки послеродовой лихорадки, и молодой врач провел у постели роженицы еще одну бессонную ночь, проявив настойчивость и терпение, которые могли бы порадовать его учителей. Он твердо задался целью спасти эту миловидную рыбачку и ее ребенка. Мы прожили неделю в ее домике, и больная рассказала доброму целителю всю свою немудреную жизнь. Звали эту рыбачку Анжелика Ченни. Я оказался невольным слушателем ее сбивчивого рассказа и пытался облегчить душевные муки женщины с таким же усердием, с каким мой друг трудился над облегчением мук физических. Анжелика Ченни горько оплакивала недавнюю смерть мужа, смелого Родольфо, простого рыбака с острова Капри. С душевной болью она вспомнила также о своем приемном сыне, выросшем у них в доме. Этот юноша бежал из приюта Святой Маддалены и был еще в тринадцатилетнем возрасте принят в семью Ченни; после смерти своего приемного отца он оставался последней опорой бедной Анжелики… – Простите, доктор Буотти, этот юноша и был… – Вы правильно изволили догадаться, эччеленца, ибо юноша, воспитанный в семье Ченни, и был синьор Джакомо. Только фамилии его Анжелика не смогла назвать, ибо, по ее мнению, у Джакомо таковой вообще не имелось. Из бесхитростного рассказа Анжелики Ченни мы услышали далее, что приютский беглец Джакомо, уже давно превратившийся в рослого молодого человека, вскоре после смерти Родольфо, в 1755 году, ушел на шведском корабле, оставив вдове весь свой заработок. Мы дали женщине немного денег и привели к ней капеллана тамошней часовни, отца Бенедикта, который и окрестил новорожденного именем Антонио. На этом мы и расстались с окрестностями Сорренто. Случай мне этот запомнился, вероятно, так же, как и моему спутнику, доктору Грейсвеллу, с которым я навсегда разлучился после нашего совместного путешествия. Оставленный при Болонском университете, я защитил магистерскую диссертацию и в 1769 году, через тринадцать лет после нашего приключения близ Сорренто, оказался в Ливорно. Я побывал в монастырской библиотеке и посетил приют Святой Маддалены, где сразу вспомнил рассказы Анжелики Ченни о муже и приемном сыне. Старик привратник еще помнил мальчика-беглеца Джакомо. Он рассказал мне, что этого ребенка, сына осужденной тосканской певицы Франчески Молла, направил в приют полицейский чиновник Габриэль Молетти. Мальчик бежал из приюта в 1751 году, а лет пять спустя в приют явился монах по имени отец Бенедикт, получивший от привратника те же сведения, что и я. О дальнейшей судьбе мальчика ничего в монастыре не знали. Уже здесь, под вашим кровом, эччеленца, я узнал о происхождении этого мальчика. Вот и все, что мне пришлось слышать о судьбе вашего сына, синьор Паоло. – Значит, отъезд из Италии в 1755 году на шведском корабле – это последние о нем сведения? – тихо спросил граф. – Да, это все… Граф обхватил голову руками. Неожиданно из угла зала, где, притихший и совершенно позабытый собеседниками, сидел слуга Джиованни Полеста, раздался его просящий голос: – Пошлите меня в Сорренто, эччеленца. Я разобьюсь в лепешку, но привезу вам свежие вести об этих людях. – Пожалуй и синьора Габриэля Молетти, полицейского чиновника из Ливорно, тоже следовало бы разыскать, – добавил доктор Буотти. – Последнее бесполезно, – бесстрастным голосом произнес патер ди Граччиолани. – Это имя нам известно. Этот низкий человек присвоил себе имущество Франчески Молла и отправил мальчика в приют. Два года назад Молеттиумер. – Но мысль отправиться в Сорренто я нахожу правильной! – воскликнул доктор Буотти, воодушевляясь. – Быть может, Анжелика Ченни с дочерью и сыном благополучно живут там до сих пор? Быть может, они за эти долгие годы получили новые вести о синьоре Джакомо. Семью Ченни необходимо разыскать! Я охотно приму на себя эту миссию, если вы мне доверите ее, эччеленца! – С радостью принимаю ваше предложение, с великой радостью! Джиованни, готовься ехать вместе с синьором. Сколько дней займут ваши сборы, мой дорогой доктор Буотти? – О, мои сборы весьма несложны. Я готов отправиться хоть завтра. Лицо патера Фульвио приняло весьма напряженное выражение. Поразмыслив, он произнес внушительно и веско: – Со своей стороны, я полагал бы, что синьору Буотти все же сначала следовало бы отправиться в Ливорно. Там необходимо еще раз просмотреть бумаги, оставленные Габриэлем Молетти. Наконец, в Марселе следовало бы расспросить соседей покойной синьоры Франчески. Я сам отправлюсь в Марсель одновременно с выездом синьора Буотти в Ливорно. – Но, ваше преподобие, Ливорно я могу посетить и после поездки в Сорренто. Кроме старых полицейских бумаг, путешествие в Ливорно не обещает ничего утешительного и нового. Между тем из Сорренто я, быть может, вернусь с новыми вестями о Джакомо. – Друзья мои, я не имею слов, чтобы выразить вам обоим мою благодарность! Старость и недуги обрекают меня на бездействие, но синьор Буотти вновь заронил мне в сердце луч надежды. Быть может, Бог сподобит меня еще благословить внуков… О, друзья мои, с какими чувствами я буду ожидать ваших вестей! Патер Фульвио, казалось, весьма рассеянно слушал графа. Он прошелся по залу, морща лоб, словно в поисках какого-то важного решения. Наконец патер повернулся к служителю: – Джиованни, поезжай сейчас же в лагуну и узнай там, отходит ли в ближайшие дни какое-нибудь судно на юг. Полагаю, что для синьора Буотти морское путешествие будет гораздо удобнее сухопутного. – Вы совершенно правы, святой отец! Разумеется, покойная, поместительная каюта будет для доктора Буотти удобнее, чем тряская карета и изнуряющие ночлеги в придорожных трактирах. Мне самому следовало подумать об этом, но голова моя идет кругом. Позвольте мне обнять вас обоих, господа!4
Через несколько дней, ранним майским утром, две гондолы прошли под аркой горбатого моста через канал, вдоль набережной которого вытянулся главный фасад Мраморного палаццо. Граф д’Эльяно с порога напутствовал отъезжающих. В обеих гондолах находились по два пассажира. Первая из этих черных лодок пошла по направлению к лагуне: венецианский галеот «Ла белла венециана» принял на борт доктора богословия Томазо Буотти и его слугу Джиованни Полесту. Через несколько часов корабль снялся с якоря и взял курс на Бриндизи. Во второй гондоле вместе с его преподобием Фульвио находился другой обитатель Мраморного палаццо – служка домашней церкви Луиджи Гринелли. Гондола достигла венецианского пригорода, где на грязной площади перед старой гостиницей стояло несколько дилижансов и карет, готовых отправиться в разные города Италии. Патер собирался в Геную, ибо, по наведенным справкам, оттуда в ближайшие дни должно было отплыть французское судно прямо в Марсель, – так патер Фульвио объяснил графу свои намерения. Однако в номере гостиницы, который был снят патером всего на несколько часов, в костюме и наружности этого духовного лица произошли весьма удивительные перемены. Сложив с себя одежду духовного лица, патер наклеил под носом офицерские усы и облекся в костюм воина, которому предстоит дальний путь верхом. Он надел кожаные рейтузы, натянул сапоги с отворотами чуть ли не до середины икр и прицепил шпоры, способные устрашить любого коня. Наконец, преображенный патер сунул за пояс два пистолета и скрыл под залихватски загнутыми полями шляпы свои седые кудри и тонзуру. Луиджи Гринелли принял не менее воинственный, но более скромный облик офицерского денщика. Перед вечером Луиджи привел к воротам гостиницы двух свежих вороных коней. Однако оба всадника поскакали отнюдь не в Геную. Весьма поспешно, сменив по дороге лошадей, они добрались до Рима. Здесь, почти не дав себе времени для отдыха, всадники вновь пересели на свежих коней и тронулись дальше, в Неаполь, по прямой и оживленной Аппиевой дороге, сооруженной еще при древних римлянах…* * *
Отец Бенедикт Морсини жил поблизости от своей придорожной часовни, прихожанами которой были рыбаки и крестьяне из окрестностей Сорренто. Помолившись перед сном, отец Бенедикт уже задремал в своей низкой, душной горнице. Полночь миновала. Но сон «Христова воина» был чутким… Сквозь дрему он различил стук подков. Всадники спешивались перед его крыльцом. Потом в дверь постучали: два медленных, три очень быстрых, осторожных удара. Монах вздрогнул, мгновенно стряхнул с себя сон, торопливо зажег свечу о лампаду и пошел открывать. Сперва он не узнал было двух запыленных путников воинственного вида и в испуге отступил в сени, решив, что ночные грабители обманули его условным стуком и удостоили визитом. Но когда пламя свечи озарило лицо старшего из путников и с верхней губы его волшебным образом исчезли лихо закрученные усы, отец Бенедикт склонился в почтительном поклоне и подобострастно облобызал руку, только что освободившуюся от кожаной рейтарской перчатки. Патер Фульвио деловито осведомился, плотны ли оконные ставни, надежны ли стены и нет ли поблизости любопытных соседей. Наконец он велел запереть дверь и присел у маленького столика с распятием. – Брат Луиджи, ты можешь вкусить отдых, – разрешил он своему спутнику, который, однако, остался у дверей. – Почему ты давно не посылал мне вестей, брат Бенедикт? – Ничего существенного здесь не произошло со времени последней исповеди Анжелики Ченни, ваше преподобие, – пробормотал монах, явно трепетавший перед старшим иезуитом. – Ты исповедовал ее повторно? – Трижды, святой отец. Она облегчила свою душу полным признанием, но не прибавила ничего нового к тому, что вам уже известно. – Джакомо Грелли, то есть виконт Ченсфильд, не присылал кого-либо в Сорренто, чтобы проведать Анжелику? – Ни один из его кораблей не заходил в Неаполь, и ни одно новое лицо не появлялось в доме Анжелики. – Скажи мне, брат Бенедикт, этот Джакомо мог бы припомнить твое имя и узнать тебя в лицо? – В этом не может быть сомнений, святой отец! Он видел меня не раз в часовне, дважды у меня причащался и называл меня по имени. Друзья его, Джузеппе и Вудро, тоже бывали в часовне и знают меня в лицо. – Брат Бенедикт, Господь избрал тебя орудием его воли. Нашему делу грозит новая опасность. Само провидение устранило без нашей помощи сына Джакомо Грелли, малолетнего Чарльза, погребенного на острове в Индийском океане. Доротея и Антонио Ченни, дети Анжелики, которым известна тайна синьора Джакомо, погибли в экспедиции «Святого Антуана». Габриэль Молетти мертв, и в Ливорно не осталось никаких бумаг о ребенке по имени Джакомо. Превращение Джакомо Молла в пирата Грелли, известное Молетти, а затем превращение Грелли в виконта Ченсфильда, известное Анжелике Ченни, оставалось тайной для графа д’Эльяно. Но по следам этой тайны на днях отправился из Венеции некий доктор Томазо Буотти. Мне с большим трудом удалось направить его кружным путем, чтобы опередить. Пусть Анжелика Ченни еще до прибытия этого доктора Буотти… покинет эти места. Буотти не должен говорить с нею! Пусть он встретит здесь только тебя, и мне не нужно, надеюсь, подсказывать, что ты ему скажешь… Понятна тебе твоя задача во имя интересов ордена? Fudentes fortuna juvat*["90]. Монах смутился. – Аgo quod agis*["91], – пробормотал он, не глядя на своего духовного главу. Намек вызвал в зрачках патера Фульвио гневный блеск. – Отец ордена учил нас не пренебрегать никакими путями, ведущими к нужной цели, которая оправдывает любые средства! – воскликнул он, грозно сверкая очами. – Из тяжких испытаний мы выходим снежно-белыми, ибо свершаем наши деяния ad majorem dei gloriam*["92]. Огромные богатства полубезумного графа не должны попасть в грешные, суетные руки отпрысков безумца. Золото это предназначено для нашей матери церкви. Оно придаст могущество ордену и послужит великой цели! Больше двадцати лет я лелею этот план, с того дня, когда ты, брат Бенедикт, открыл мне как духовнику графа тайну происхождения Джакомо Молла. Церковь зачтет тебе эту заслугу, умноженную тобою за двадцать лет служения ордену. Теперь на тебе лежит задача отвести новую угрозу: Анжелика Ченни не должна встретиться с Буотти! – Но она сейчас больна и не покидает одра. – Брат Бенедикт! – В голосе патера зазвучали не вполне христианские нотки угрозы и нетерпения. – В твоем распоряжении дни, а не недели. Буотти может высадиться раньше и прибыть сюда до ее выздоровления. Я разрешаю… любые средства! – Во имя Отца и Сына и Святого Духа! – прошептал монах бледнея. – Это не все! После отъезда Буотти ты переждешь месяц и отправишься в Англию, в Бультон. Ты явишься к виконту и скажешь ему, что Анжелика перед смертью исповедовалась тебе и простила грешного Джакомо, обольстившего его ее несчастную дочь. Ты должен принести ему утешение истинной церкви, должен укрепить его веру, что он является законным, Богом избранным носителем нынешнего своего титула. Будь ему подспорьем в любых начинаниях и блюди при этом интересы церкви и ордена. Пусть послужат этим интересам и британские фунты виконта Ченсфильда. Со временем признайся ему, что цель твоя заключается в том, чтобы поддержать католицизм в Англии, опираясь на денежные средства сына нашей церкви, вынужденного выдавать себя за еретика-протестанта. Обещай виконту прощение церкви за крупные денежные жертвы в нашу пользу. А главное – отвлекай его от мыслей об Италии… Открой в Бультоне капеллу, прослыви святым, подавая пример благочестия, милосердия и терпимости. Стремись увеличивать приход и улавливай заблудшие души. Помни: виконту Ченсфильда союзники нужны. Он испытает тебя и убедится, что ты – решительно во всем поддержка для него. – Но тамошний новый епископ… – Ты сам знаешь от Анжелики, что этот протестантский поп пять лет назад исповедовал Джакомо во время смертельного ранения и сохраняет по сей день его тайну. Подкупи его. Обещай ему сто тысяч, двести тысяч из будущего наследства графа, если… Джакомо до гроба останется Райлендом и Ченсфильдом, а эччеленца Паоло не узнает, что его сын жив. О цене за молчание ты успеешь сторговаться с этим епископом… Не выпускай из глаз дочери виконта. С годами приобрети влияние и на нее. Отвлекай отца и дочь от мыслей об Италии – это важнее всего! Тайную связь со мною по-прежнему держи только через Луиджи Гринелли. Не открывай этих сношений никому, даже под угрозами или пыткой! А теперь… Патер Фульвио поднес к лицу левую руку и осторожно снял с безымянного пальца большой перстень с агатовой печаткой. Рисунок на печатке изображал саламандру. Обратив перстень к свету, патер Фульвио отвинтил темно-красный камень печатки. Под ним в золотом гнезде лежали две ничтожные белые крупинки. Отец Бенедикт принял перстень, весьма осторожно завернул агатовую печатку и надел дар отца Фульвио на палец. Прикоснувшись губами к мокрому лбу капеллана, ночной гость сделал знак своему служке готовиться к дальнейшему пути в Марсель. Луиджи Гринелли услужливо распахнул перед патером входную дверь.5
Горячий июньский ветер вихрил пылевые смерчи на улицах Марселя. Занавески на окнах гостиницы «Три лебедя» трепетали от потоков сухого жара, поднимавшегося с накаленных зноем камней набережной. Доктор Буотти, сбросивший в номере свой легкий плащ и влажную от пота шляпу, сидел за столом против патера Фульвио ди Граччиолани. Патер выглядел несколько менее надменным и насупленным, чем обычно. – Я очень рад слышать, – вкрадчиво проговорил он, – что и вы, синьор Буотти, глубоко полюбили моего духовного сына и близко принимаете к сердцу его дела. Но что же побудило вас прибыть сюда и разыскать меня в Марселе? – Святой отец, – отвечал расстроенный доктор, – неудача в Сорренто заставила меня поспешить в Марсель в надежде получить ваш совет, как подготовить графа к печальным известиям, и, может быть, помочь вам в здешних розысках. – Да, известия действительно тягостные. Оказывается, Анжелика Ченни благословила земное… И скончалась она недавно, говорите вы? – Представьте себе, всего за несколько дней до моего прибытия в Сорренто. Быть может, если бы не мое слабодушие, побудившее меня избрать вместо сухопутного более приятный морской путь, я застал бы ее еще в живых! – Все в руке божьей, синьор Буотти… Что же явилось причиной ее смерти? – Она была больна и не вставала с постели несколько дней. Ее соседка рассказывала мне, что тамошний священник, добрый отец Бенедикт Морсини, трогательно поддерживал душевные и телесные силы больной. Он сам послал за лекарством, прописанным ей врачом из Сорренто, и соседка Анжелики с вечера напоила больную этим снадобьем. Среди ночи Анжелика застонала, забилась на ложе, впала в беспамятство и вскоре скончалась, словно от удара. Отец Бенедикт испугался, уж не ошибся ли аптекарь в дозе опия; капеллан сам попробовал остаток лекарства из этой склянки, перед тем как выплеснуть ее, и убедился, что оно совершенно безвредно. Очевидно, недавняя весть о гибели французской экспедиции в Африку, куда были насильно завербованы ее дети, окончательно подорвала ее сердце. – Считаете ли вы достоверной весть о гибели Антонио и Доротеи Ченни? – Увы, да, святой отец, ибо я уже навел справки у портовых властей. В небольшом списке спасенных со «Святого Антуана» нет ни имени Антони, ни его сестры. Какой ужасный новый удар для эччеленца Паоло! Не осталось ни одного человека, близко знавшего синьора Джакомо Молла! – А о нем самом вам не удалось получить какие-нибудь новые сведения? – Видите ли, посетив свежую могилу Анжелики Ченни, я предпринял поездку на Капри, где Джакомо вырос в семействе рыбака Родольфо… Легкая тень тревоги, набежавшая на чело патера Фульвио, ускользнула от собеседника. Но эта тень совершенно исчезла, когда доктор со вздохом сообщил, что поездка на Капри не дала ничего, кроме приблизительного описания наружности юноши Джакомо и его решительного, упрямого характера. – От одного из соседей покойного Родольфо, – добавил доктор, – мне удалось, правда, установить, что в 1755 году Джакомо ушел на шведском корабле не один, а с английским моряком, которого на Капри звали Бартоломео Грелли. После этих слов доктора Буотти на лбу иезуита по явилась уже не легкая тень, а три ряда весьма глубоких морщин. Иезуит встал из-за стола и зашагал по комнате. Доктор, конечно, не подозревал, как лихорадочно работал мозг его собеседника, взвешивая, возможно ли утаить от Буотти, что именно этот Бартоломео Грелли и стал впоследствии мужем Франчески Молла. Имя это давало опасную нить в руки настойчивого богослова. Находясь в Марселе, он способен весьма легко установить истину… Иезуит решил, что скрывать ее еще опаснее, чем позволить доктору открыть ее самостоятельно. Нужно лишь постараться, чтобы эта новость была им воспринята как нечто совершенно несущественное… – Этот Бартоломео Греллей, или Грелли, как вы его называете, – произнес патер Фульвио, вновь усаживаясь за стол против своего столь нежелательного помощника, – впоследствии женился на синьоре Франческе и умер в один год с нею от эпидемии, распространившейся тогда в окрестностях Марсельского порта. Произошло это в начале прошлого десятилетия. – О, это немаловажная подробность! – воскликнул богослов обрадованно. – Значит, поездка в Марсель далеко не бесполезна! – Увы, синьор, этими сведениями я располагаю уже давно. Они не проливают ни малейшего света на судьбу самого Джакомо. – Позвольте, святой отец, но ведь не может же быть случайностью женитьба Бартоломео Грелли на матери его молодого товарища по странствиям! Значит, Бартоломео и Джакомо, возвратившись из плавания, вместе разыскали мать последнего! – Супруги потеряли Джакомо из виду, ибо он еще до их женитьбы покинул Марсель. – Следовательно, все-таки еще одна подробность прибавилась: Джакомо был в Марселе незадолго перед заключением брака Бартоломео Грелли с синьорой Франческой Молла. Когда совершилось бракосочетание? – Оно зарегистрировано в 1761 году. Все трое прибыли в Марсель в 1760 году. – И тогда же Джакомо расстался с этим городом? – Да. – А в 1762 году Франческа и Бартоломео умерли от эпидемии? – Да. Доктор Буотти глубоко задумался. – Здесь стоит повести длительные розыски, – проговорил он уверенно. Отец Фульвио взглянул на него со злобой. С трудом подавив раздражение, он горестно вздохнул и отвернулся к окну. – Быть может, вы окажетесь счастливее меня, синьор Буотти. Но мною опрошены десятки людей, знавших Франческу и Бартоломео Греллея. Все это решительно ничего не прибавляет к нашим сведениям о Джакомо. Оставайтесь в Марселе, сударь, и продолжайте дело, которое я считаю уже завершенным. Мои обязанности зовут меня назад в Венецию, к моему возлюбленному духовному сыну… Единственным и высшим утешением для графа будет сознание, что его средства станут достоянием не одного единокровного наследника, а пойдут на благо сотням и тысячам детей Христовых! Доктор Буотти в раздумье поднялся, пожал сухую кисть иезуита и покинул его комнату в марсельской гостинице «Три лебедя».6
По морщинистым щекам старого графа Паоло катились слезы, и старик даже не пытался стирать их влажные следы. Уронив голову на руки, он слушал повествование доктора Томазо Буотти. Замолчав, доктор Буотти с глубокой нежностью коснулся старческой руки. – Эччеленца, – прошептал он растроганно, – ваша скорбь ранит меня так глубоко, что я готов сделать целью моей жизни завершение начатых поисков… Верите ли вы в предчувствие, граф? Старик покачал головой: – Синьор Буотти, мой духовный наставник уже подготовил меня к тому, что я сейчас услышал от вас. Я верю не в предчувствие, а в непреложную силу темного рока. Фатум, рок, неотвратимая судьба! «Кисмет!» – говорят набожные персы и склоняются перед неизбежностью. Я следую их примеру, ибо верю, что в мире существует закон равновесия добра и зла, закон возмездия. Я верю, что ни одно злое деяние не остается безнаказанным, равно как и ни одно доброе – невознагражденным. Меня покарал закон возмездия за ошибки и грехи моей бурной молодости. Кисмет! – Я не придерживаюсь ваших взглядов, граф, но далек от мысли опровергать эту фаталистическую*["93] восточную мудрость. Однако дело вовсе не представляется мне в столь мрачном свете. Я не верю, чтобы этот «рок» избрал вас в качестве объекта мщения человечеству за существующее в мире зло… – Вы слишком снисходительны ко мне, синьор! Должен признаться, что за многие, многие годы одиночества и тоски мне еще не встречался человек, к которому так жадно потянулась бы моя душа, как она тяготеет к вам, синьор Буотти. Сначала я искал причину этого в вашей исключительной учености. Потом я понял, что причины лежат глубже и заключаются в свойствах вашего сердца, мой друг! – Так позвольте мне, эччеленца, без спешки, кропотливо, негласно повести начатое дело. Мое путешествие было на этот раз слишком поспешным. Предварительно нужно проследить все прежние пути, подготовить и собрать все данные, разослать письма, завязать новые связи. В Марселе я узнал от лиц, знакомых с Франческой и Греллеем, что ваш сын находился в шведской армии генерала Гамильтона, сражавшейся в Померании. Быть может, там, на севере, у Джакомо завязались какие-нибудь новые связи?.. Кстати, в Сорренто я выяснил, что Анжелика некоторое время получала денежные чеки из Англии, где ее дочь Доротея, очень красивая девушка, будто бы жила в доме какого-то знатного лорда. Потом она несколько лет перебивалась вместе с матерью в Сорренто на скудные средства, добываемые ее братом Антони. Конечно, они вспоминали Джакомо и, наверно, разыскивали его. Быть может, отец Бенедикт, тамошний священник, знает из исповедей Анжелики несколько больше, чем он открыл мне. При настойчивых поисках могут неожиданно обнаружиться многообещающие пути. Я книжный ученый червь и обладаю изрядным запасом терпения. Доверьте мне дальнейшие поиски, и я надеюсь, что они приведут к успеху! – Но принимаете ли вы во внимание, что мой сын, если он и жив, быть может, чувствует себя оскорбленным моим безучастием к нему в годы его отрочества; Джакомо мог сам принять меры, чтобы навсегда скрыться под другим именем. Он – орудие возмездия в руках судьбы! – Вы настойчиво возвращаетесь к своим «восточным догматам», эччеленца! А я верю в предчувствие, и оно говорит мне, что вы еще обнимете своего прямого наследника здесь, в этих комнатах Мраморного палаццо. Доверяете ли вы мне продолжение розысков? – Я благословляю вас и ваши будущие усилия, – прошептал старик и горячо заключил доктора в свои объятия.Летней ночью 1778 года в замке Ченсфильд светилось одно-единственное верхнее окно. За плотными шторами, откуда пробивался наружу лишь узкий луч света, находился верхний кабинет хозяина дома. Виконт, задумавшись, глядел на огонь свечей. Против него, потупив глаза, ловко скручивал сигарету содержатель бультонской портовой таверны. – Дело сложное, хозяин, – нарушил молчание Вудро Крейг. – Один бог знает, что у него на уме, у этого попа! – Суди сам, Вудро: если бы это был заговорщик против нас, зачем бы он стал открываться передо мною? – Старые они пройдохи, эти отцы иезуиты, – мрачно вздохнул Вудро. – Он не скрывает от меня своих целей. Католичество еще не умерло в Англии. Римская церковь намерена возродить его здесь. Этот иезуит – ее тайный посланец. Вот как я объясняю его появление. – Но тебе, Джакомо, никак нельзя откровенно поддерживать католиков. Ненависть народа к ним велика. Вспомни Томаса Гарнета и Гая Фокса! Лондонцы еще поныне таскают его чучело в день пятого ноября*["94]. – Он и не просит открытой поддержки… Но помириться с этой папской церковью – мое давнишнее желание. Сильна она, очень сильна… И этот отец Бенедикт может здорово пригодиться нам… В юности я немало попортил крови отцам иезуитам, и меня они помучили порядком. Что ж, годы прошли, и мы квиты! И знаешь, Анжелика-то простила меня перед смертью за Доротею! Он привез мне христианское утешение и просит лишь немного средств на устройство маленькой капеллы. Деньги невелики! – Ну, недаром говорят: «Дай монаху палец – он заберет всю руку»… И не в деньгах одних дело: не тайный ли он шпион в рясе? – Я помню его с детства. Ребенком я у него исповедовался. И Доротея тоже. Анжелика сама послала его ко мне с прощением. – Это… по его словам? – А почему мне брать их под сомнение, Вудро? – Ты, Джакомо, как будто прямо обрадовался этому монаху. С кем он связан в Италии? Кто его прислал к тебе… кроме Анжелики? – Полагаю, что орден. Открыть этого он мне не может, они умеют не хуже нас с тобой оберегать свои тайны. Вникать в них – не мое дело, пока орден ничего не требует от меня, кроме ничтожной суммы в несколько сот фунтов. Предположим, мы устранили бы этого Бенедикта Морсини. Но те, кто его напутствовал, останутся в Италии и превратятся в моих заклятых врагов, не так ли? Нет, ссориться с орденом я не намерен: ясно, что пославшие к нам этого патера отлично осведомлены… о наших именах и делах! Я готов тайно помочь этому посланцу церкви. Но если он посланец не церковный, тогда горе ему! Поэтому тебе придется взять его под такой надзор, чтобы ни голубь, ни крот не могли пролететь или прокрасться к нему незаметно для нас. – Присмотрел ли он уже место для своей будущей капеллы? – Да, он выбрал место в порту. Это разумно – там капелла будет обслуживать корабельных пассажиров. Здешняя протестантская епархия не станет возражать против того, чтобы проезжающие могли молиться в своей капелле. Ведь греческая часовня уже лет сорок существует в самом городе, не так ли? – Порт велик! Где же поп задумал построить капеллу? – Знаешь домик покойного Эндрью Лоусона? – Конечно, знаю. Он пустует уже год после смерти старика. Там живет один Грегори Вебст, да и тот собирается съезжать и поступить на новую службу. Грегори – это мой человек. – Тем лучше! Пусть он непременно там и остается. Домик завещан какому-то дальнему родственнику Лоусона. Я его куплю для отца Бенедикта и перестрою под капеллу. Мой художник мистер Огюст Джернс – набожный католик. Он сумеет превратить этот домишко в настоящую итальянскую капеллу. Это, друг мой Вудро, именно то, чего мне, понимаешь, все-таки как-то недоставало в Бультоне!
14. Секретарь виконта
1
Леди Эллен Райленд одевалась к вечернему приему гостей. Корсет, плотно стягивавший и без того узкую талию виконтессы, делал ее похожей на тоненькую рюмочку. Весьма искусная прическа – творение французского парикмахера миледи – ловко соединяла классические вкусы самого мастера с требованиями английской моды 1778 года. Бальный наряд леди отличался той трудно достижимой художественной простотой, которая стоила господину виконту втрое дороже, нежели прочим бультонским богачам обходились самые замысловатые ухищрения их жен по части модных туалетов. Чтобы не испортить фигуры, леди Эллен ни на один миг не допустила к материнской груди свою единственную дочь Изабеллу. Девочка, родившаяся вскоре после путешествия супругов по Скандинавии, вкушала с первых минут земного существования молоко своей кормилицы, шведской крестьянки Хельги Лунд. По традиции, привычной для старых слуг Ченсфильда еще со времен прежней хозяйки дома, кормилица младенца проявляла о ребенке больше заботы, чем сама миледи. Но если маленький Чарльз знал, по крайней мере, отцовскую ласку, то участь Изабеллы оказалась более грустной. Виконт встретил рождение девочки с нескрываемым разочарованием и за пять лет ни разу не подошел к ее кроватке. Изабелле шел уже шестой год, и росла она в родительском доме, как маленькая Золушка, забытая родителями и оберегаемая от всех невзгод только своей суровой рослой няней. В ранних августовских сумерках за окном уже становились неразличимы осенние краски ченсфильдского сада, когда леди Эллен укрепила на корсаже три живые розы – дар домашней оранжереи – и поправила подвески бриллиантового ожерелья. Она подняла руки к своим светло-золотым волосам, наклонила голову, и эти движения раболепно повторили за ней шесть зеркальных створок туалетного зеркала. В эту минуту перед ярко освещенным туалетным столиком миледи появилась кормилица Изабеллы. На скверном английском языке Хельга объяснила виконтессе, что ее дочь заболела: у девочки сильный жар и красная сыпь на теле. Миледи попросила кормилицу отступить от столика и торопливо поставила шандал с пятью свечами между собой и нянькой, воздвигая огненную преграду против неведомой заразы. Затем виконтесса приказала горничной доложить ей, как только прибудет доктор Грейсвелл, который был включен в число приглашенных, и обещала няньке попозднее заглянуть в детскую. – Девочка заболела оттого, что вы позволяете ей играть бог знает с какими детьми, – недовольно добавила миледи, вспомнив, что недавно, во время верховой прогулки в осенних лугах, она встретила группу крестьянских ребятишек, среди которых веселилась и Изабелла вместе с ее скандинавской няней. – Ступайте и никуда не выходите из детской! Между тем в нижних залах обновленного до неузнаваемости ченсфильдского дома уже начали собираться гости. Одним из первых прибыл редактор бультонского еженедельника «Монитор». В вестибюле он холодно раскланялся с весьма плотным издателем жиденького оппозиционного «Бультонс адвертайзера», мистером Руби Розиниусом. Журналисты немедленно затеяли между собою спор на злободневную тему – о неудачах американской войны. Вскоре среди гостей появился широкоплечий человек с квадратным подбородком, сосед по имению, владелец большого поместья Уольвсвуд, сэр Генри Блентхилл, отпрыск древней рыцарской семьи. Престарелый отец сэра Генри, маркиз Джон Блентхилл, продолжал здравствовать, насчитывая от роду не менее девяноста лет. Он помнил еще сэра Френсиса, первого виконта Ченсфильда, прадеда нынешнего владельца, и считал семейство Райленд безродными выскочками и скороспелыми богачами. Однако женитьба сэра Фредрика на родовитой леди и все возраставшая слава новоявленного виконта в делах коммерции склонили сэра Блентхилла-младшего уступить деловитому соседу участок пограничных охотничьих угодий Уольвсвуда за баснословную сумму. С тех пор господин виконт и будущий маркиз нередко охотились вместе и запросто бывали друг у друга. Поговаривали, что сэр Генри не остался равнодушным к чарам миледи Райленд, но ее супруга это обстоятельство, по-видимому, не особенно тревожило. Все новые экипажи подкатывали к колоннам парадного крыльца и, высадив гостей, отъезжали по плавному полукругу подъездной аллеи за ворота, на конюшенный двор замка. Пока леди и джентльмены поправляли перед зеркалами наряды, а в залах, коридорах и на лестницах уже шелестели платья, ручейком журчал девичий смех и нарастал гул голосов, седой мажордом со свисающими до плеч бакенбардами (традиция Ченсфильда) громко объявлял имена прибывших. – Его преосвященство епископ Томас Редлинг, – возвестил мажордом. Когда это имя было названо, виконт извинился перед сэром Блентхиллом, с которым он сражался на бильярде, передал кий старику Мортону и пошел встречать гостя. Высокий епископский сан достался в удел мистеру Редлингу всего два года назад, и притом отнюдь не без помощи светских друзей и личного банковского счета сэра Фредрика. При перечислении заслуг бультонского викария особо подчеркивались миссионерские заслуги этого лица в Африке. Епископ поднимался по лестнице, слегка поддерживаемый под локти секретарем своей канцелярии преподобным Саймоном Бренди. Виконт, одетый в офицерский морской мундир с капитанскими нашивками и пышными круглыми эполетами, встретил епископа на верхней площадке лестницы. – Вы облеклись в одежду воина? – тихо спросил епископ и поднял руку для благословения. Виконт склонил перед ним свой напудренный парик и ответил так же тихо: – В годину бедствий – это единственная одежда, приличествующая дворянину, отчизне коего грозит опасность. Затем оба прожженных лицемера проследовали в зал, где леди Эллен уже занималась гостями. Виконтесса была виновницей нынешнего торжества: в этот день ей исполнилось тридцать два года, и она принимала поздравления и комплименты с чуть грустной улыбкой. В центральном двухсветном зале с балконом и хорами загремела музыка. Кадриль началась. Первой парой шли хозяева дома. Виконт танцевал превосходно: в старинном экосезе он был так изящен и в то же время так мужественен, что вся публика наградила шумными рукоплесканиями заключительное па красивой четы. На вальс миледи оказалась приглашенной сэром Генри Блентхиллом, прибывшим без своей супруги. Незаметно оберегая во время танца носки своих атласных туфелек от опасного столкновения с монументальными башмаками сэра Генри, виконтесса разобрала в числе последних имен, оглашенных мажордомом, фамилию доктора Грейсвелла и вспомнила наконец о заболевшей дочери. Выслушав просьбу виконтессы, доктор отправился в детскую. После залитых светом парадных залов детская показалась доктору полутемной. Пара больших васильковых глаз, блестевших от лихорадки, встретила врача с любопытством и опаской. Влажные льняные завитки вились вокруг головы ребенка. Смятое постельное белье было отброшено в беспорядке, а в ногах у девочки, на уголке одеяла, спал котенок. Доктор присел у постели, пощекотал котенку брюшко и этим мгновенно завоевал доверие пациентки. – Это Панч, он у меня еще совсем грудной котенок, – пояснила Изабелла, оживляясь. Смущенная Хельга все порывалась убрать котенка, но врач отстранил ее руку. Доктор Грейсвелл был ревностным поклонником Руссо и его воспитательных методов. – Вы правильно поступаете, Хельга, приучая ребенка к животным, – сказал он. – Это развивает наблюдательность и природную гуманность человека. Следите только, чтобы зверек, играя, не поранил ребенку глаз, а две лишние царапины в этом возрасте ничего не значат. Врач нашел у девочки корь, велел заказать лекарство и завешивать днем окна детской. Попрощавшись с пациенткой весьма сердечно, доктор Грейсвелл отправился к миледи. Утомленная танцами, она обмахивалась веером. Услышав диагноз, миледи успокоилась и решила подняться в детскую. Шумя волнами шелка, как ченсфильдская роща в бурю, виконтесса подошла к постельке, и девочка увидела перед собою свою блистательную матушку. – Боже мой, там лежит какое-то гадкое животное! – брезгливо поморщилась дама. И нянька поторопилась убрать из постели злополучного Панча, ибо идеи автора «Эмиля», по-видимому, были неизвестны миледи. Взятый за шиворот, Панч запищал и растопырил в воздухе пушистые лапы. Девочка подняла отчаянный крик, и миледи покинула детскую с расстроенным лицом. Оставленный ею тончайший аромат духов заставил котенка чихнуть и спрятать нос в собственной шерсти. «Гадкое животное» мирно водворилось на прежнее место. Тишину изредка тревожил отзвук музыки; больной ребенок вздрагивал от этих звуков и приоткрывал глаза, пока не задремал под голос своей усталой няньки. Тем временем внизу уже распахнулись двери в столовый зал, где два длинных стола блистали парадным сервизом старобританского фаянса на восемьдесят персон, букетами орхидей, фамильным серебром и хрусталем. Усевшись вместе с другими гостями за этот торжественный стол, мистер Ричард Томпсон не смог отказать себе в удовольствии подразнить своего недоброжелателя-хозяина. Он умышленно громко спросил Норварда, не известен ли срок возвращения капера «Окрыленный» в Англию. Адвокат слышал, что у сэра Фредрика были причины избегать любопытства публики по поводу некоторых операций «Окрыленного». Виконт насторожился, услышав вопрос адвоката. «Какого черта эта крыса интересуется кораблем?» – с раздражением думал владелец капера. В трюмах «Окрыленного» имелась большая партия трофейного оружия с потопленных кораблей, и виконт недавно послал Джозефу Лорну секретное распоряжение найти хорошего покупателя для столь обременительного груза. Клиентуру, готовую платить за оружие втрое дороже, чем платили английские власти, было сейчас нетрудно найти за океаном. Хозяин поместья приветливо улыбнулся адвокату, пояснил, что корабль сражается сейчас с врагами короля – американскими колонистами, – и ловко дал беседе другое направление. Виконт издавна имел привычку, задаваясь какой-нибудь целью, перевертывать для памяти перстень на безымянном пальце левой руки. Камень, перевернутый вовнутрь ладони, был раздражающе неудобен, но виконт не поправлял перстня вплоть до выполнения задуманного. Посылая адвокату приветливую улыбку, он перевернул на пальце свое кольцо. «Избавиться от Ричарда Томпсона» – намерение не новое, зародившееся у лжевиконта после плавания «Ориона», когда адвокату стала известна тайна Ченсфильда, – вот о чем должен был круглосуточно напоминать владельцу его перстень! После ужина гостям был предложен домашний концерт. Они смогли насладиться искусством приезжего итальянского скрипача, чье бледное лицо произвело на женскую половину общества не меньшее впечатление, чем исполненные им пьесы Гайдна и Генделя. Затем французская певица, разъезжавшая по городам британского севера, усладила гостей несколькими модными песенками, не лишенными смелости. Сама леди Эллен довольно бегло исполнила несколько этюдов на арфе, инструменте, весьма расчетливо избранном ею в целях наивыгоднейшей демонстрации красивых плеч. Наконец, мистер Ричард Томпсон с большим успехом продекламировал несколько монологов из трагедий Шекспира. Сэр Генри Блентхилл, уснувший в первом ряду кресел еще на интродукции итальянца, тактично и своевременно пробудился при заключительном монологе: он остался доволен, сочтя главным достоинством концерта его непродолжительность. Затем из-под сводов крытой верхней галереи, откуда днем открывался эффектный вид на парк и озеро, гости любовались красивым фейерверком. В туманном воздухе взвились красные, зеленые и золотистые ракеты, забили фонтаны холодного бенгальского огня и в ослепительном световом вензеле засияло имя миледи. В танцевальном зале вновь заиграла музыка, и молодежь уже при меньшем скоплении неблагосклонных зрителей из числа пожилых леди и джентльменов с тем большим удовольствием предалась танцам и играм. Любители карт расположились за зеленым сукном ломберных столов. Наконец часть гостей простилась с гостеприимным домом, которому новая хозяйка сумела придать столь не хватавший ему прежде блеск.Поздно ночью, когда большинство оставшихся в доме гостей уже спали в отведенных им покоях, перед воротами замка (так именовала вся округа перестроенный ченсфильдский дом) соскочил с коня какой-то запоздалый всадник. Привратник, самый старый из слуг Ченсфильда, вышел из своей будки в башне ворот и вгляделся во мрак. Спешившийся всадник нетерпеливо тряс калитку. – Что нужно? – спросил привратник. – Срочные известия для господина Райленда. – Господин виконт занят и приказал не допускать никого… – Немедленно передайте виконту вот это, – сказал ночной гость, протягивая сквозь решетку клочок бумаги с несколькими словами, написанными по-итальянски. Привратник рассмотрел сперва морской мундир, потом лицо посланца с белым шрамом над переносицей. Он открыл калитку, впустил приезжего в свою будку и послал второго сторожа к хозяйскому камердинеру. Камердинер, Эрик Мерч, памятуя некоторые хозяйские предупреждения, немедленно отправился с запиской к виконту.
2
Огромный пылающий камин, где можно было бы изжарить на вертеле целого меннингтрийского быка*["95], озарял стены охотничьего кабинета. Поэтому здесь не требовалось ни ламп ни свечей, и с большой люстры, свисавшей посреди покоя, не был даже снят чехол. За стеклянными дверцами шкафов матово поблескивали в свете камина ружейные стволы. Вороненая вудвортская сталь английских изделий, металл из прирейнских недр, прошедший обработку в оружейных цехах Эссена и Зуля, букетный и ленточный дамаск Востока, золотые насечки на благородных изделиях шведской Гускварны привлекали взоры знатоков к этим шкафам, вмещавшим две сотни превосходных ружей. На стенах, сплошь покрытых восточными коврами, было развешано холодное оружие и различные доспехи; на узких длинных столиках, обитых темно-синим бархатом и защищенных сверху стеклянными крышками, лежали в особых гнездах пистолеты всех оружейников мира, от неуклюжих британских епистолей XV века до современных французских, бельгийских, русских и английских систем. Пара превосходных «каретных» пистолетов тульского оружейника лежала прямо на письменном столике хозяина. А над креслом виконта висел новейший карабин Фергюссона*["96], только что принятый на вооружение английской армии в колониях. Кресло хозяина было покрыто великолепной шкурой африканского леопарда с выделанной головой, блестевшей зеленью глаз и страшными клыками, которые некогда оставили неизгладимые следы на руках виконта. По углам кабинета стояли четыре статуи рыцарей в стальных доспехах, в ногах одной из них находилось логово борзой суки Леди. Вытянув длинную морду, Леди неподвижно лежала на шерстяной подстилке, посматривая на кружок джентльменов у огня. Сэр Генри Блентхилл, мистер Норвард, военный комендант Бультона полковник Джон Бартольд и сам хозяин дома обсуждали со старшим егерем Ченсфильда план завтрашней охоты. Поодаль, на широкой тахте, покрытой персидским ковром, доктор Грейсвелл, журналисты, Паттерсон и Мортон вполголоса толковали о войне. Виконт велел принести в кабинет вина и прислушался к беседе, что велась на тахте. – «Декларация независимости» составлена этим американским пророком Джефферсоном очень сильно, – сказал Паттерсон. – Она завоевала симпатии в Европе и завербовала американцам много сторонников, в особенности во Франции. Пылкие умы так и рвутся послужить «делу свободы»… Полковник Бартольд, глава бультонского гарнизона, недовольно поморщился, когда доктор Грейсвелл эпическим тоном начал перечислять неудачи британского оружия. – Плохо обученная, но храбрая повстанческая армия Георга Вашингтона становится большой силой. Никто не верил, что регулярные войска нашего генерала Гейджа понесут поражение от рассыпанных по лесам и городкам повстанцев-колонистов с охотничьими ружьями. Королевский гарнизон Бостона не устоял против натиска повстанцев. Наши войска едва ли удержат Филадельфию. Поражение наших наемников-гессенцев под Трентоном, где войска Вашингтона ночью перешли реку Делавар, сильно подняло дух повстанцев и помогло мистеру Бенджамену Франклину уговорить французов признать независимость колоний. Боюсь, что капитуляция нашего генерала Бургойна под Саратогой говорит уже о крушении стратегического плана кампании. Мистер Паттерсон вздохнул сокрушенно: – Да, правительство его величества проявило нерешительность в начале военных действий, когда можно было подавить возмущение в зародыше. Теперь пожар разгорелся, и бог весть, чем это все для нас кончится. Французы вступили в войну, помогают повстанцам и деньгами, и войсками, и флотом… А главное – революционный дух восставших! С ним трудно бороться… наемными руками гессенцев… Плохо, господа! – Не выношу, когда глубоко штатские джентльмены начинают обсуждать военные дела! – с раздражением прервал Паттерсона полковник. – Весь этот оборванный американский сброд, не имеющий понятия орегулярных действиях… Но полковник не успел досказать свое глубокомысленное суждение, прерванный на полуслове появлением камердинера. – Простите, ваша милость, – шепотом сказал он виконту. – Какой-то всадник у ворот требует допуска к вам. Он просил вручить вам вот это. – Господа! – торопливо проговорил хозяин, тайком взглянув на карандашные строки записки. – Полагаю, что перед охотой вы нуждаетесь в нескольких часах хорошего сна. Здесь мы все являемся гостями сэра Генри. Этот кабинет в его распоряжении. Гости безропотно вняли столь прямому намеку, а виконт поднялся в свой верхний кабинет. Через минуту усталый моряк в потертом мундире переступил порог. Виконт отослал камердинера вниз и крепко обнялся с приезжим. – С какими вестями, Джузеппе? – осведомился он по-итальянски. Джозеф Лорн осмотрелся вокруг: – Это единственная комната, которую я узнаю в Ченсфильде. Ты превратил свой дом в настоящий замок. У тебя важные гости? – Гостей полон дом, но здесь нам никто не помешает. Рассказывай, Джузеппе. – Вести не слишком отрадные для короля. В Америке дела идут неважно. Зато трофейное оружие я продал чертовски выгодно. Американские купчишки заплатили звонкой монетой, однако новой партии пока не заказали. Полагают, что скоро у них будет достаточно английских трофеев. – Никто не пронюхал об этой операции? – Никто. Блеквуд воображает, будто я передал оружие нашим войскам. – Ну что ж, деньги не пахнут. Впрочем, вся эта партия была сборным хламом… Ты, как всегда, молодчина, Джузеппе! В каком состоянии корабль? – «Окрыленный» подбит. В корме пролом. Выгорела часть левой палубы и фок-мачты нет. Дрались с тремя американскими каперами. Доползли сюда с заплатой. – Завтра введем судно в док. Где произошел бой? – Северо-восточнее Бермудских островов. Американцы пока еще плохие моряки. Два судна мы утопили, третье ушло. Я зашел в порту к Вудро. Он передал мне два письма для тебя. Одно прибыло из Америки с транспортом раненых «Омега», а другое – с военным фрегатом из африканского порта Капштадт. Что ты так смотришь на меня, Джакомо? – Ты стареешь, Джузеппе! Я думаю о том, как плохо я вознаграждаю твою дружбу. По моей милости тебе приходится вести беспокойную жизнь, мой старый товарищ. Оставайся со мной, старина, я тебя женю. Хочешь сесть на землю и нянчить детей? – Эх, Джакомо, давно ли ты перед завтраком убивал полдюжины немецких рейтаров, а потом жаловался генералу Гамильтону на свою спокойную жизнь и требовал настоящей работы! Нет, моя жизнь повеселее твоей. Пусть пока все идет по-старому. Пока Джозеф Лорн расправлялся с парой жареных куропаток, безбожно орошая их неразведенным ромом, хозяин дома вскрыл оба пакета. – Ты доставил важные вести, Джузеппе! Я недаром решил держать этого чистоплюя Мюррея под наблюдением. – Мюррея? Ах, того… с острова? Значит, он остался под новым именем? – Да, я снабдил его документами одного погибшего американца родом из Виргинии. Единственный дядя этого американца умер. Документы надежны. Дурак мог бы жить припеваючи, не вспоминая о делах в Ченсфильде. Но я решил все же не выпускать его из поля зрения и, оказывается, не напрасно! – Кого же ты посадил ему на хвост? – Капитана Бернса. Помнишь такого? – Этого прощелыгу из нашего взвода? Где ты откопал его? – Там же, где всех наших. – Ты выручил его из тюрьмы, что ли? – А то откуда же? Конечно, не из Виндзорского дворца, старый ты чудак! Я купил ему капитанский чин и отправил в Америку с некоторыми инструкциями. Командование форта Детройт, как я и предвидел, согласилось, что Голубая долина является «важным стратегическим пунктом», и по приказу начальства и моему секретному ходатайству он отправился туда с полуротой наших драгун. – Что это за Голубая долина? – Райский уголок, Джузеппе, где мистер Мюррей свил себе теплое гнездышко. Там он порхает, как голубок, над тысячами акров захваченной земли и приносит в клювике червячков для своей любезной миссис Эмили. Это ей нравится больше, чем участь виконтессы… А злой коршун летает близехонько! – Чем они тебе мешают? Пусть себе воркуют и любятся. – Видишь ли, вокруг этого гнездышка стали оседать еще кое-какие птички. Это мне уже не нравится. Вот об этом Бернс и извещает меня. – Что же это за птички? – Во-первых, там угнездился этот сумасброд Эдуард Уэнт с дочкой Мортона. Старика чуть удар не хватил, когда они сбежали. – Об этом ты писал мне. Рассказывай дальше. – Во-вторых, Уэнт доставил туда в своем ковчеге сынка и матушку Одноглазого. – Что? Сына Бернардито? Вот это серьезнее! Сколько же лет этому… тигренку? – Лет десять… Еще пять-шесть годков, и он станет опасен. – Станет? Нет, черт возьми, он и сейчас уже опасен, Джакомо! Это сын дьявола! Неужели даже мертвый Бернардито все еще грозит нам? Ведь мальчишка знает, как ты, Джакомо, охотился за стариком на острове, знает и про камешки… Плохо, очень плохо, что у Каррачиолы сорвалось тогда это дело в Пирее! Да, значит, в Голубой долине растет деревце из твердой косточки! Где она находится, эта долина? – В бассейне Огайо, на притоке реки Уобеш. Там объявился и тот мальчишка с обезьяной, помнишь, что шлялся с Фернандо. – Действительно, веселенький птичник! Что же ты предпримешь, Джакомо? – Я почувствовал бы себя лучше, если бы этот дубина Бернс, вместо того чтобы оборонять долину от индейцев, помог им пополнить коллекцию скальпов за счет некоторых колонистов. Но как объяснить столь тонкую задачу такому дуралею? – Где сейчас Каррачиола? – Ты всегда понимаешь меня с полуслова, старый Джузеппе, но Каррачиола далеко. Письмо из Капштадта как раз от него. – Что он там делает? – Тревожится об исчезновении двух моих судов – «Глории» и «Доротеи». Они ушли из Капштадта на мой остров и не вернулись к назначенному сроку. В письме Каррачиола спрашивает, что ему предпринять. – Постой, объясни мне по порядку. Почему Каррачиола торчит в Капштадте? – Я послал его в Африку с тремя шхунами, начальником экспедиции. – Опять Масляные реки или Камерун? Ты ведь не любишь проторенных дорог, Джакомо. – Нет, на этот раз Конго. Там хозяйничают португальцы и шныряют французы, но я рискнул. В середине февраля все три шхуны поднялись вверх по Заире, но «Удача» села на мель и с проломанным днищем еле выбралась назад в устье. Негры оказались вояками; мои люди установили, что в дебрях Конго недавно погиб целый французский отряд. Но англичане имеют больше опыта… Наш друг О’Хири так ловко перессорил между собою двух царьков, что Каррачиола погрузил в трюмы около девятисот рабов. Корабли отплыли с ними в Капштадт, причем «Удача» еле-еле доползла. Я заранее распорядился отправить на мой остров сотни две черномазых женщин, подростков и мужчин, чтобы заложить плантации, а всех остальных послать в Америку для продажи. В Капштадте «Удача» стала на ремонт, а обе другие шхуны пятого мая ушли с неграми к острову. До него десять суток среднего хода. В конце мая шхуны должны были вернуться в Капштадт. Однако ни «Глория», ни «Доротея» не вернулись. Каррачиола отправил мне это письмо двадцатого июня. Боюсь, что со шхунами что-то случилось… – Может быть, негры восстали и перебили экипажи? – Черт их знает! Каррачиола пишет, что «Удачу» уже отремонтировали, но теперь, пожалуй, не стоит отсылать ее в Америку. Придется Каррачиоле отправить этих негров на остров, а самому возвращаться. Плантацией на острове займется О’Хири. Каррачиолу я пошлю в Голубую долину. – Послушай, Джакомо, а если обе шхуны добрались до острова и негры взбунтовались там? Тогда Каррачиола попадет в хорошенькую кашу и доставит неграм пополнение. – Я уже думал об этом, но экипаж «Удачи» состоит из девяноста парней. Неужели они не управятся с кучей голых негров? Да я отошлю тогда Каррачиолу в богадельню! – Позволь, эти негры все-таки истребили, как ты говоришь, целый французский отряд. Я могу даже добавить кое-что об этом. Мне случайно рассказал один французик… Ты знаешь, Джакомо, это дело по мне! Пошли-ка меня на остров, а для «Окрыленного» подыщи другого помощника. Надоели мне эти господа офицеры, как ежедневная солонина… «Хау ду ю ду, мистер Блеквуд?» – «Вери уэлл, мистер Лорн!»*["97] Тьфу! Жаль, что корабль попал в их осторожные, чистенькие руки! Черт побери! Что сотворил бы на «Окрыленном» покойник Бернардито! Клянусь Богородицей, ни один капитан не смыкал бы ночью глаз в радиусе тысячи миль от «Окрыленного», а в береговых фортах канониры спали бы стоя с горящими фитилями. Мне надоел этот тихоня капитан с его джентльменством. Пошли меня навести порядок на острове! – Ну что ж, Джузеппе, если тебе по душе, то в добрый час! Боюсь, что там действительно заварилась каша. Вероятно, там очень нужен настоящий человек. – На чем мне добраться до этого чертова острова? – Отправляйся на моей новой яхте «Элли». Она домчит тебя, как ветер. За шесть недель, ручаюсь, ты доберешься туда! Когда увидишь могилу в ущелье… поклонись ей! – Да, там лежат настоящие люди! Старик был дьяволом, но, черт меня побери, если у него не было причин выгнать меня с «Черной стрелы»! – Я не люблю вспоминать о нем, Джузеппе! У меня больше причин избегать мыслей об Одноглазом… Но он отомстил мне по-сатанински, и считаться обидами мы будем на том свете… Когда ты вернешься с острова, «Окрыленный» уже выйдет из ремонта, а вскоре я спущу и новый капер, «Король Георг III». Еще два тяжелых фрегата, «Виндзор» и «Уэлльс», я готовлю в подарок королю. Эти корабли я сам поведу в море. – Наконец-то! Я уж подумывал, что твой морской мундир – «патриотическая» маскировка… – Ты думаешь, мне-то не надоело возиться с надутой бабой и нянчиться с девчонкой… Эх, Джузеппе! А помнишь моего мальчика?.. Никогда не заживет эта рана… – Да, мальчонка был хорош! Жаль его… А что слышно о его матери? – Ничего, Джузеппе. Старуха умерла весною в Сорренто, об этом я узнал совсем недавно от одного монаха… А Доротея и Антони словно в воду канули. – Славная тоже была женщина! С горячей кровью. Помнишь, ты советовал мне жениться на ней, старый грешник? – Моя совесть – покладистая старуха, она слепа на оба глаза и глуха на оба уха. Но когда я вспоминаю об этих людях, тихая старушка превращается в чертовку и царапает душу когтями. Ведь эта семья спасла меня, а я… Не будем говорить больше ни о них, ни о Чарли… Мальчику шел бы сейчас девятый год. Он уже любил бы страшные сказки и стрелял бы из лука… Налей мне чистого рому, Джузеппе! – Спокойнее, старик! Твоя голова должна всегда оставаться ясной. Ты командир… и дом полон гостей! Грелли зло посмотрел на большой кубок с ромом, залпом осушил его и после минутного молчания нерешительно произнес: – Знаешь, Джузеппе, оставайся-ка здесь подольше… Мне чертовски не хватает настоящего парня. Все эти гости не по душе мне… – Ну уж нет! Дворцы и замки – не моя стихия, если их… не требуется обобрать! Утром поскачу обратно, взгляну на твою яхту, а через денек и отплыву. Суденышко-то у тебя в порядке? – Это мой морской конь. Он всегда оседлан и взнуздан. – Тогда готовь письмо Каррачиоле. Ну а к пьянчуге Бернсу пока придется послать с ответом другого расторопного малого. Пусть ребята Бернса подготовят там почву для Каррачиолы, чтобы тот смог управиться в долине быстро и гладко… Где сейчас Джеффри Мак-Райль? Он бы растолковал Бернсу… – Джеффри в Архангельске. Торгуется с русскими бородачами. Лес для верфи я теперь покупаю у русских, и два корабля, «Орион» и «Френсис Райленд», болтаются между Архангельском и Бультоном, как ткацкие челноки… Нет, Джеффри занят. – В долине… задача тонкая, Джакомо! К прибытию Каррачиолы там все должно быть готово. Письмецо Бернсу будет… рискованное! Грелли с досадой оттолкнул пустой кубок и раскурил трубку. – Мне давно нужен толковый и надежный секретарь. Мортон по горло занят сейчас как единственный юрист, которому я могу доверять, да и состарился он сильно. После бегства дочери он совсем опустился. Нет ли у тебя, Джузеппе, подходящего парня среди экипажа? – Там есть этот Кольгрев, бывший гравер… Но у него неважное настроение. Нет, пожалуй, на корабле не подберешь никого. Но знаешь, Джакомо, сегодня я видел у Вудро одного малого, лет девятнадцати – двадцати. Парень здесь чужой, простой матрос, сидит на мели, потому что отстал от корабля, родные у него поумирали, вот и околачивается у Вудро. Он нарисовал его портрет так хорошо, что сам Ван Дейк не смог бы вернее заклеймить Черного. Вудро стоит за своей стойкой как живой, а глаза так и смотрят на тебя, словно пистолетные дула. Пишет парень тоже хорошо, Вудро не нахвалится на этого Неда. Вот этот парень, пожалуй, и подошел бы тебе. Хочешь, я пришлю его завтра в Ченсфильд? Ты приглядись. – Присылай. Как его полное имя? – Кажется, Эдуард Мойнс. – Хорошо! А послезавтра я приеду в порт проводить тебя и вручу письмо для Каррачиолы. Кстати, прими во внимание: Каррачиола пишет, что в Гвинейском заливе за тремя моими шхунами погналась какая-то старая французская калоша, допотопный фрегат под названием «Святой Антуан». Это было, правда, в апреле, но старый ворон, видать, давно караулит простаков в тех водах. Не сунься невзначай ему под пушки, Джузеппе. – Эти пушки уже на дне морском, Джакомо! Ровно десять суток назад «Окрыленный» с дыркой в корме, без одной мачты и с выгоревшей палубой скормил этого «Святого Антуана» рыбам. Дело было ночью, в открытом море, юго-западнее Азорских островов. Французы открыли огонь первыми, и Блеквуд так ответил им, что через двадцать минут они взлетели на воздух. Из всего экипажа мы выудили одного отставного пехотного капитана, некоего Леглуа. Он сообщил, что судно несло службу в западных африканских водах, но получило приказ идти к берегам Америки, на перехват наших торговых кораблей. Похоже, что этот Леглуа не очень-то стремится на родину; тип довольно скользкий… Он-то и рассказал мне про французскую экспедицию, погибшую в дебрях Конго. Это была детская «работорговая» затея какого-то французского маркиза… Нет, уважаемый господин виконт, западные воды Африки уже освободились от «Святого Антуана». Спокойной ночи, Джакомо!3
Багровое солнце выкатилось из-за горизонта и повисло в низкой пелене тумана. На конюшне седлали лошадей. Глухо лаяли и взвизгивали собаки. В сумраке аллей раздавался нетерпеливый топот, бряцание удил и конское ржание. Сэр Фредрик в красном охотничьем рейтфраке первым вскочил в седло. Под ним заплясал темно-гнедой жеребец с длинной сухой головой, короткой гривой и высоко подстриженным хвостом. Псари не спускали со сворок рвущихся собак, чтобы лошади в сутолоке не передавили им лап. Егерь держал на привязи борзую Леди. Генри Блентхилл долго ощупывал подпругу, прежде чем поставить ногу в стремя. Потом он легко перенес в седло свое грузное тело, и его вороной Патрокл, который без особого труда смог бы донести закованного в латы крестоносца до самой святой земли, встряхнулся, замотал головой и уронил клок пены на гравий дорожки. Грум подвел к виконтессе ее серого коня. Леди Эллен, одетая по-мужски, в охотничьем фраке и широкополой черной шляпе, сбежала с крыльца, ударяя стеком по голенищу лакированного сапожка. Паттерсон поддержал ей стремя. В седле миледи казалась прелестным кокетливым мальчиком. Она взяла поводья в левую руку, обтянутую лайковой перчаткой, и шаловливо подняла свою лошадь на дыбы. Из кустов вынырнул старший егерь, едва не наскочивший в тумане на собак. Он сообщил виконту, что три оленя обложены в лесу с ночи, цепь загонщиков уже находится на границе оклада и ждет сигнала. – Туман, кажется, начинает рассеиваться. День будет ясным, – сказал Блентхилл, посылая шенкелями*["98] свою лошадь вперед. – Сэр Фредрик, любезный сосед, я не из терпеливых! Вперед! Кавалькада перешла на рысь и скоро миновала длинные уродливые корпуса и навесы нового кирпичного завода, выстроенного вдоль шоссейной дороги. Из высоких труб валил вонючий дым, и вереница молчаливых рабочих с бескровными, серыми лицами прошла мимо всадников; рабочие тащили носилки со свежеобожженным, еще теплым кирпичом. Всадников долго преследовал тяжелый запах угольного дыма, мешавшегося с туманом. Еще дальше кавалькада потревожила большое стадо тонкорунных овец, охраняемое двумя злобными шотландскими овчарками. Псы накинулись было на привязанных охотничьих собак, те зарычали, и псари ударами арапников отогнали овчарок от узкомордых визжащих борзых. Из багрового солнце становилось огненно-желтым. Оно поднялось над лесом, и туман пушистыми клочьями поплыл вверх, в бесцветное небо. Темные кочковатые луга, осыпанные брусникой, и полоса порыжелого кустарника подступали к самой лесной опушке. Всадники придержали коней и стали делиться на партии. Старший егерь перекинул со спины на грудь кривой охотничий рог, набрал полные легкие воздуху и приложил губы к мундштуку… Протяжный серебристый звук, печальный и чистый, пронесся над лугами. Два ворона с карканьем сорвались с одинокой сосны на вершине холма. Длиннохвостая сорока, часто махая коротенькими крыльями, полетела от опушки в луга, а в глубине ожившей лесной чащи покатился волнами глухой нарастающий гул. Щелканье деревянных трещоток, отрывистые человеческие голоса, барабанная дробь, треск сучьев и пронзительные звуки рожков заглушили шорох ветерка в вершинах деревьев. Молодой олень с двумя отростками на крепких рогах рысцой выбежал на опушку против замаскированных конников группы сэра Генри Блентхилла. Наследник Уольвсвуда приподнялся в стременах и стиснул шенкелями бока лошади. В тот же миг псари, затаившиеся у самой опушки, спустили собак. Захлебываясь страстным, прерывистым лаем, шесть живых стрел ринулись за оленем. Огромным прыжком животное вымахнуло на поляну и, прижав рога к спине, понеслось вскачь, но уже вся группа сэра Генри мчалась ему наперерез. Псари заулюлюкали и затрубили вслед, и травля началась. Олень летел к дальнему лесу, черневшему по другую сторону лугов. Но он не успел покрыть и половину этого пространства. Собаки настигли его, окружили на скаку. Одна из борзых вцепилась в олений бок. Запах крови привел псов в исступление. Бег оленя замедлился. Перелетая через рытвины, кусты и кочки, всадники догоняли зверя. Затравленное животное отбросило ударом рогов собаку, порывавшуюся к его горлу. Собака перевернулась в воздухе и с визгом отлетела; но сэр Генри Блентхилл, обскакавший оленя справа, вскинул короткоствольный карабин и на ходу выстрелил. Олень осел на задние ноги, всадники налетели на него. Торжествующий переливчатый звук рога прокатился в лугах. Другой олень понесся в сторону поместья. Группа всадников с леди Эллен во главе погналась за ним. Спасаясь от преследования, олень влетел в самую гущу овечьего стада. Овцы в испуге прыснули в стороны, мальчишка-пастушонок заметался среди животных и угодил под копыта бешеных лошадей охотников. Серый конь виконтессы сшиб мальчишку, но всадница проскакала, даже не оглянувшись на это малозначительное препятствие. Отставший Паттерсон приблизился рысцой к своей группе, когда всадники уже спешивались вокруг затравленного оленя. В руках миледи Паттерсон заметил дымящийся пистолет, а животное, запрокинув маленькую голову и прикусив язык, лежало на окровавленной траве. Тем временем сэр Фредрик погнался по краю болота за третьим оленем. Зверь забился в опасные для всадников крепи на болоте, и забрызганные грязью собаки потеряли след. Внезапно из-под копыт метнулась в сторону вспугнутая рыжая лисица, и вся свора двинулась за ней. Только одна борзая Леди продолжала рыскать в поисках оленьего следа. Наконец она подняла оленя в прибрежном лозняке у болотистого озерка. Вздымая брызги, раненый олень выскочил на мох противоположного берега, но Леди отрезала зверю путь к лесу. Виконт пустил коня в карьер и настиг оленя, уже окончательно измученного неотвязной борзой. Бросив коня, охотник ударил оленя ножом под лопатку. Старший егерь затрубил отбой и общий сбор. Загонщики тащили на носилках тела убитых животных к дороге, где все эти трофеи были сложены на крестьянскую тележку. Леди Эллен, прогуливаясь пешком вдоль опушки, метким выстрелом из дробовика подстрелила фазана, вырвавшегося у нее из-под ног. Виконтесса отдала ружье и птицу егерю, сорвала зеленую веточку, сунула ее в петлицу и, усевшись в седле, коротким галопом поскакала навстречу мужу. Сэр Генри Блентхилл с восхищением поглядел ей вслед. Охота прошла на редкость удачно. Лишь одна борзая была ушиблена оленьими рогами и сильно хромала, какой-то загонщик вернулся домой с пулей в мякоти ноги да подмятый конями мальчишка-пастушонок к полудню умер от ушибов. Но эти незначительные происшествия не омрачили праздника. После веселого обеда под сенью старых лип вереница карет и верховых лошадей уже в сумерках покинула Ченсфильд. Виконт лично следил в своем охотничьем кабинете за водворением на место всего вычищенного и смазанного оружия. Когда все было убрано и застекленные шкафы приняли свой обычный вид, камердинер доложил виконту, что его спрашивает какой-то незнакомый юноша. – Он назвал себя Эдуардом Мойнсом, сэр, – добавил слуга.* * *
Владелец Ченсфильда увидел перед собою молодого человека лет девятнадцати, с чуть веснушчатым лицом, спокойным взглядом серых глаз и длинными светлыми волосами, зачесанными на прямой пробор. Юношу облекала синяя морская куртка с начищенными до блеска медными пуговицами. Стоптанные башмаки были весьма старательно вычищены; крупные, чуть огрубелые руки хранили следы работы с жесткой пенькой корабельных снастей. – Милорд, – заговорил посетитель, глядя без смущения на хозяина дома, – я прибыл из Бультона от мистера Лорна. Он приказал мне явиться к вам лично, сэр, поэтому извините мою смелость. – Тебя зовут Нед? – Таково действительно мое уменьшительное имя, сэр. – Садись к огню, Нед. Ты пришел пешком? – Да, сэр. – В таком случае, раньше чем толковать о делах, займись-ка сначала холодной олениной. Эрик, прибор и бутылку рейнского! Молодой матрос принял предложение без жеманства и притворного отнекивания; вилку и нож он держал довольно уверенно, и виконт успокоился насчет его манер. – Теперь расскажи мне, Нед, о себе. Откуда ты родом? – Родом я из Клепхан-Грина, что на юго-западе Лондона. Отец мой, Арвид Мойнс, сначала держал там небольшую торговлю, потом разорился и сделался докером. Мы перебрались в Ист-Энд, это было нам больше по средствам. Отец умер в госпитале Святого Варфоломея, после того как упал с трапа и разбился. Мать тоже умерла. Мне тогда было лет четырнадцать. Пришлось бросить учение и уйти в море. – Как же ты попал в Бультон? – Я шел на корабле из Копенгагена, заболел на борту и пролежал здесь две недели у святого Христофора. Судно мое за это время ушло, и вот я остался в порту. С последнего корабля у меня есть хорошие рекомендации. Я слышал, милорд, что у вас много добрых кораблей, и был бы рад получить работу на одном из них. – Что ты умеешь делать, Нед? – Ничего особенного, милорд. – У тебя, говорят, хороший почерк? – В юности я учился чертить и писать тушью, но давно не занимался этим. – Лорн сказал мне, что ты хорошо рисуешь. – Не угодно ли вам испытать меня, сэр? – Это мы еще успеем. Мне нужен расторопный секретарь, Нед, и я хочу предложить тебе эту работу. – Что вы, сэр, разве мне по плечу такое важное дело? Виконту все больше нравился этот юноша. Он потрепал его по плечу: – Не боги обжигают горшки, Нед. Я надеюсь, что ты быстро войдешь в круг своих новых обязанностей. Нравится тебе у меня? – Сэр, за всю мою жизнь я еще не бывал в такой комнате. Это похоже на зал в Британском музее. Неужели вы пользуетесь такой массой оружия? По-моему, его хватило бы на всю британскую армию. Виконт засмеялся: – Ты тоже будешь пользоваться этим оружием. Поди выбери себе нож и пистолет по душе, только всегда пускай их в дело с умом. Оружие – это, знаешь ли, такая вещь, что делает человека или очень страшным, или очень смешным. Поэтому никогда не махай им попусту!.. Что ж ты стоишь? Выбирай любые. – Если вы не шутите, милорд, я выбрал бы этот пистолет и вон тот кинжал. – Гм! Ты сделал недурной выбор! Это добрый испанский клинок, и служил он когда-то… Впрочем, это все равно! Бери их. Ты сильно устал с дороги? – Нет, сэр. – Тогда садись за стол и напиши письмо, которое я тебе продиктую. Я взгляну на твой почерк. Эрик, позови ко мне старика Мортона. Молодой человек очинил перо и положил перед собой лист чистой бумаги. Виконт заложил руки за спину и, расхаживая из угла в угол, начал диктовать письмо для Каррачиолы в Капштадт. Оно было кратким, предлагало Каррачиоле молниеносно провести с помощью Джозефа Лорна «операцию на острове», а затем, сдав командование экспедицией, отправиться в Голубую долину в низовьях Огайо, в ста милях выше поселка Винсенс, предварительно получив от Лорна некоторые дополнительные указания. Молодой человек водил пером очень быстро, и бумага покрывалась идеально ровными строками с четким рисунком букв. – Я хотел бы обладать твоим умением, Нед, – сказал виконт, глядя через плечо юноши. – Мне еще не случалось видеть у матроса такой почерк. Давно ли ты бросил учение? – Больше пяти лет назад, милорд. Но один художник потом занимался со мной живописью и рисованием, а штурман на корабле поручал мне вести журнал и много других записей. Он был добрый человек и хотел сделать меня своим помощником. – Когда-то и мне случилось встретить такого доброго штурмана и кое-чему научиться у него. Он был норвежец, и плавали мы с ним… В кабинет вошел Томас Мортон. Его усталое, старчески обрюзгшее лицо, кислая мина, засаленная косичка парика и неряшливо сидящий камзол с обильными следами пудры свидетельствовали о холостяцком образе жизни старого атерни. Мортон прочитал письмо, написанное Эдуардом Мойнсом, и велел исправить две ошибки. Юноша покраснел. – Не смущайся, мой мальчик, сам я наделал бы двадцать! Обратите внимание на почерк, Мортон! Виконт подписал бумагу, положил в конверт и запечатал письмо. В кабинете запахло жженым сургучом. Готовое письмо сэр Фредрик сунул в карман. – Завтра сам вручу его Лорну. Ты останешься здесь, Нед, и будешь жить в угловой левой башне. В замке у нас имеется превосходный художник, мистер Огюст Джернс, с ним ты сможешь заниматься и живописью… Теперь ступай. Мортон, когда вы проводите Неда в башню, поднимитесь ко мне в верхний кабинет.Томас Мортон застал хозяина на том самом диване, где накануне ночевал Джозеф Лорн. – Не ведите лишних разговоров с этим мальчиком и держите его подальше от старых слуг, пока я не присмотрюсь к нему. Сейчас же пошлите о нем запрос в Лондон, нашему агенту Кленчу, в Темпль. Пусть Кленч наведет подробные справки в Ист-Энде, в доках и в госпитале Святого Варфоломея об Арвиде Мойнсе и его сыне Эдуарде. Ответ должен быть с обратной почтой, немедленно. Парень мне, в общем, понравился. Вы знаете, чей кинжал ему достался? Чертенок, прах его побери, выбрал толедский клинок Бернардито. Теперь я хочу послушать, что нового рассказали вам журналисты. Кстати, последняя статья Кемпбелла в «Мониторе» мне не понравилась. Он хвалит нас слишком усердно, от статьи пахнет дешевой рекламой. Предупредите его, что это медвежья услуга. Вот Руби Розиниус в «Адвертайзере» ругает нас так ловко, что статья привлечет нам сотни новых акционеров. «Адвертайзеру» нужно увеличить субсидию; он очень ловкий пройдоха, этот Руби… Что же сообщили вам эти господа о парламентских делах? Какие кандидаты имеют наибольшие шансы? – Сэр Генри Блентхилл унаследует титул маркиза очень скоро и станет полным владельцем больших поместий, где он наберет столько голосов, сколько ему будет нужно. Едва ли возможно победить его. Затем называют кандидатуру сэра Гарри Хартли, графа Эльсвика, владельца угольных копей. Он считается соперником Блентхилла по количеству подвластных ему избирателей, но, по-видимому, Блентхилл все же сильнее. За последнее время начали упоминать и ваше имя, но… – Нужно, чтобы оно-то и оказалось впереди! Мы не можем тягаться с Блентхиллом и Эльсвиком ни в деньгах на покупку голосов, ни в количестве избирателей на наших землях, но попытаемся соперничать с ними кое в чем другом! Что вы уже сделали, Мортон, в нужном направлении? – Все, что вы наказывали, сэр… Собрал все нужные сведения. Между Хартли и Блентхиллом существует неприязнь… – Это старо. Что вы еще узнали? – Гарри Хартли граф Эльсвик очень молод. Ему двадцать два года. Титул графа Эльсвика и огромное состояние он унаследовал после смерти отца этой весной… – Все это я помню из газет. Как называется его поместье? – Солейсхолм. Это на полсотни миль восточнее Дональд-Корта, имения графа Стенфорда. – Графа Артура? Брата первого мужа Эллен? – Да. – Рассказывайте дальше. Кто его друзья? – Гарри Хартли очень дружен со своим соседом, графом Стенфордом. – Вот как? Очень интересно. Ведь соперник Хартли, этот наш соседушка Генри Блентхилл, тоже бывает у Артура Стенфорда? – Именно так. Но Блентхилл и Хартли друг друга недолюбливают. Впрочем, может быть, со временем их общий друг граф Артур помирит их между собою. – Вы дурак, Мортон! Как раз этому-то и нужно помешать. Хартли и Блентхилл должны насмерть возненавидеть один другого. Пусть перегрызутся!.. Ни один из них не должен занять парламентское кресло от нашего графства в нижней палате. Оно пустует для меня, это вам ясно, Мортон? Скажите, есть ли у моего соседа Блентхилла и у Гарри Хартли какие-нибудь неподеленные куски? Есть у них, например, смежные владения? Словом, ищите, Мортон, ищите casus belli*["99] между ними, и я озолочу вас… Что известно о привычках, о характере Гарри Хартли? – Говорят, он страдает приступами сплина, влюбчив… – Влюбчив? Отлично! – Очень любит спорт. Прекрасный фехтовальщик; в ранней юности считался даже забиякой. Увлекается парусными гонками, имеет яхту… Впрочем, теперь-то ему будет не до спорта и не до драк! – Благодарю вас! Вы можете идти, Мортон. Виконт прошел в спальню миледи. Она встретила его в ночной одежде. Модная прическа была уже распущена, золотые волосы падали на плечи. Виконтесса сделала нежнейшее лицо, закрыла глаза и подставила мужу благоуханную щечку для поцелуя. – Как здоровье Изабеллы? – осведомился он. – Ей уже лучше, – последовал уверенный ответ. Миледи после охоты еще не успела заглянуть в детскую, но в безошибочности своего ответа не сомневалась. – У тебя какие-нибудь новые вести, Фредди? – Ничего особенного, Нелль. – Кто у тебя вчера ночевал, милый? – Лорн, помощник с «Окрыленного». – Значит, корабль вернулся? – Да. Он, вероятно, уже на причалах верфи. Лорна я отправляю в Африку к твоему любимцу – Каррачиоле… Скажи-ка мне, Нелль, как идут твои дела с Блентхиллом? Задавая этот вопрос, виконт потянулся к свече на столике и зажег сигару. Виконтесса вздохнула. – Он объяснялся мне уже дважды: вчера во время танцев и сегодня в поле. Мой выстрел по фазану сразил и его. Супруг улыбнулся краем губ. – Зачем ты навязываешь мне этого медведя, Фредди? – Скоро ты поймешь сама, как это необходимо. – Но ты так неласков со мною, милый! Мне кажется, я этого не заслужила. – Нелль, дорогая, сейчас не до поцелуев. Скоро выборы. Блентхилл стоит поперек моей дороги… Скажи-ка, давно ли писал тебе граф Артур? – Мой прежний деверь? Я его терпеть не могу… Впрочем, вчера я получила его поздравление. Он приглашает нас и Блентхиллов погостить как-нибудь у него в Дональд-Корте. – Вот как? Отлично! Ты уже ответила ему? – Ну что ты! Когда же я могла успеть?.. – Дорогая, не ленись и сейчас же напиши ему, что я ухожу на войну. – О Фредди, я так боюсь этого! – Бог милостив, и отправлюсь я еще не завтра… Но Артуру ты напишешь, что приедешь одна или с дочерью, как тебе будет удобнее. И может быть, сэр Генри проводит тебя до имения графа. Это мы решим позднее. А там… там ты постараешься сблизиться с молодым Хартли. – Ах, с этим угольным крезом? Его поместье расположено недалеко от Дональд-Корта. – Да, и он дружен с Артуром. Ты когда-нибудь видела этого длинноногого джентльмена с лошадиными зубами? – Я видела его в Дональд-Корте, когда он был еще юношей. – Так вот, моя умница, умоляю тебя, влюби его в себя, как Блентхилла, а если сумеешь, то еще сильнее. – Ты с ума сошел, Фредди! Да он на пять лет моложе меня! – Не на пять, а на десять, моя дорогая… Поэтому он и не устоит перед моей золотой русалочкой. Выведай его вкусы… Но, ради бога, выскользни из этой истории, как вьюн. Малейшая неосмотрительность, малейшее пятнышко на тебе – и все погибло! Нелль, говорю тебе прямо: мне нужно поссорить насмерть Блентхилла и Хартли и убрать их обоих с дороги… Иначе я не попаду в парламент, а ты, моя умница, никогда не станешь настоящей миледи! – О господи, как все это… сложно, мой Фредди!
4
Узкий светло-серый корпус с приподнятым носом и низкой кормой и голубоватый оттенок оснастки делали яхту «Элли» малозаметной в море на фоне облачного неба. Бультонские моряки привыкли к внезапным появлениям и столь же внезапным исчезновениям этого маленького корабля, который, едва подняв паруса, набирал уже на рейде все двадцать узлов полного хода и скрывался вдали, как морская птица. Внутренняя отделка и все оборудование яхты радовали самый взыскательный глаз и позволяли превращать морское путешествие в настоящий праздник для пассажиров. Девять матросов, стюард, капитан Роберт Трессель и штурман Хью Ольберт могли бы рассказать немало интересного о некоторых рейсах «Элли», но, к сожалению, они были неразговорчивыми людьми! В полдень 11 августа владелец яхты, вручив пакет для Каррачиолы мистеру Джозефу Лорну, прощался с ним на борту корабля. Они стояли у небольшой носовой пушки. – По мне, на этом морском гиганте многовато бархата и маловато оружия… но, клянусь всеми попутными ветрами, скорлупка у тебя действительно хороша! Дорого дал бы старый Бернардито за эту игрушку, а Джакомо? – У тебя на уме одни мертвецы, Джузеппе. Пошли их к черту! Нам пока хватит забот с живыми… Спасибо тебе за этого Неда! Я сделаю из него настоящего парня. А тебя прошу – не застревай на острове. Если придется возиться с черной сволочью, бей ее как попало. – Скажи, виконт, народ на яхте у тебя обстрелянный? – Трессель командовал корветом. Ольберт был у меня на шхуне «Удача», отличный моряк. Все горели, тонули, нюхали порох. Груз Каррачиолы от них таить не нужно, они все – участники последней экспедиции Джеффри Мак-Райля в Африку. – Тебе, старик, самому пора проветриться. Ты же собирался подраться за добрую старую Англию с американцами? – Я собираюсь подраться за парламентское кресло с двумя высокородными джентльменами… А для этого мне многое нужно, прежде всего – успех! Успех решительно во всем и повсюду, чтобы двор, король, парламент слышали имя виконта Ченсфильда только в сочетании со словом «победа». Его величество король благожелательно отнесся к моей идее колонизировать новый остров. Поэтому надо побыстрее навести там порядок. Если морскому министру взбредет на ум послать какую-нибудь комиссию в мое губернаторство, то она должна застать там цветущие плантации, счастливых колонистов и их благоденствующих черных слуг. Прошу тебя, Джузеппе, вразуми этих невоспитанных негров и научи их хорошим манерам раз и навсегда! После твоих уроков они станут шелковыми. Тогда возвращайся сюда, как на крыльях, а Каррачиолу поскорее отправь в Голубую долину… Скажи-ка, Джузеппе, что это за корабль виднеется там на рейде? – Это военное транспортное судно «Омега». Вернулось на днях из Нового Света и вскоре уйдет назад. Окружено военной тайной так усердно, что даже мальчишки в порту знают его назначение: порт Йорктаун. – Когда оно отваливает? – Это тоже военная тайна. Все говорят: через неделю. – Ты уже посматриваешь на часы, Джузеппе? – Да, я назначил отвал ровно на полдень… Счастливо оставаться, Джакомо! – А тебе ни пуха ни пера, старик! Когда виконт Ченсфильд уселся в седле, два маленьких кабестана с железными тормозами уже выбрали оба якоря. Они повисли над миниатюрными красными клюзами, похожими на огненные ноздри кровного скакуна, и зыбкая вода гавани запенилась под форштевнем. Через четверть часа вымпел с отдыхающим львом, поднятый над голубыми парусами, уже потерялся в пелене облаков. В сопровождении камердинера виконт отправился на верфь, где у причала стоял «Окрыленный», словно раненый воин перед палаткой полевого лазарета. Виконт приветствовал капитана Блеквуда, обещал выхлопотать ему награду за доблестный бой с тремя американскими кораблями и ободряюще кивнул пленному французу месье Шарлю Леглуа. – Бутби, – подозвал виконт боцмана, – ну-ка, приведи ко мне пленного француза. Я побеседую с ним в капитанской каюте. – Он, ваша милость, просто жулик, по-моему, этот Шарль Леглуа, – произнес боцман конфиденциально. – Только и умеет, что фехтовать, а моряк вовсе никудышный. Беседа с Леглуа, к удивлению честного боцмана, заняла у милорда не менее часа. Попрощавшись с французским «охотником за простофилями», как сам пленный изящно отрекомендовал себя виконту, владелец капера отдал распоряжение Блеквуду предоставить месье Леглуа полную свободу. Стрелки томпионовского*["100] хронометра виконта уже приближались к семи часам, когда владелец покинул борт своего раненого корабля. Отослав камердинера домой, сэр Фредрик верхом направился на Сент-Джекоб-стрит.Небольшой особняк на Сент-Джекоб-стрит, окруженный кустами запущенного сада, был куплен виконтом для неофициальных встреч в городе. Вудро Крейг беседовал с виконтом, поместившись в кожаном кресле. Виконт Ченсфильд большими шагами мерил комнату из угла в угол. При этом он резко поворачивался на каблуках, словно встречая в углах зала невидимые препятствия. – Выбрал ты парня, чтобы послать к Бернсу? – Отрывистый тон вопроса свидетельствовал о том, что виконт не совсем доволен необходимостью личного вмешательства в такие пустяки. – Есть один на примете, – очень спокойно отвечал Вудро. – Он был свидетелем по делу Бернса и хорошо знает капитана. – А, знаю: Куница Френк… Это пройдоха, но Меджерсона он в свое время все-таки упустил. Ведь ты имеешь в виду Куницу? – Да, я предлагаю Френка Вилерса. – Что ж, пожалуй, сойдет. Историю его я помню: карточный шулер, потом полукалека, потом судовой парикмахер и в конце концов твой шпион. Сколько он служит у тебя? – Давно, много лет. Исполнителен, не болтлив, точен. Случай с Меджерсоном – его единственный промах. Он потерял его из виду на улице. – Хорошо. Согласен. Как мы переправим Френка в Америку? – Вы заметили в порту транспорт «Омега»? Судно ожидает партию немцев-волонтеров из Гессена. Боцман этого транспорта держит для меня одну вакансию на должность судового цирюльника. Френк Вилерс отправится через океан на этом корабле, а с побережья он любыми средствами доберется за полтора-два месяца и до Голубой долины. – Я напишу письмо Бернсу на чистой тряпке и велю вшить в подкладку матросской куртки. Эту куртку с письмом завтра привезет тебе Нед Мойнс. – Славный парень, не правда ли? – Да, он понравился мне… Письмо будет зашито в левом боку, под карманом. Моего имени не называй Френку. Бернс поймет все из письма, а Френк должен знать только тебя, Вудро. – Ясно, хозяин! Есть еще какие-нибудь поручения? – Есть одно, очень спешное. Как только ты его уладишь, я перекуплю у Гопкинса «Белого медведя» и отдам его тебе со всем содержимым. Сверх того получишь пятьсот гиней. – Что от меня требуется, хозяин? Виконт Ченсфильд зло чертыхнулся и потрогал перевернутый перстень на пальце. – Нужно ко всем чертям убрать эту адвокатскую крысу Ричарда Томпсона! Но, Вудро, дело должно не только сойти без сучка без задоринки для нас, но еще и навек оскандалить этого Томпсона перед властями. – Это как… посмертно? – Ну да. – Ясно. Сколько времени вы даете мне на это дело? – Один… ну, два месяца, не больше. Это следовало сделать давно. – На это дело у меня есть на примете человек. Сейчас он в отъезде, но месяца через два вернется. Это Алекс Кремпфлоу. – А, тот с усиками? Что ж, в свое время ему отлично удался «апоплексический удар» старого банкира Ленди! – У вас хорошая память, хозяин. – Скажи, Вудро, кто из прислуги в доме Томпсона связан с тобой? – По-прежнему кучер Флетчер. А в конторе – старый Дженкинс, старший клерк. – Что ж, прибавим еще Алекса, и подпиленное дерево должно упасть… Но помни, Вудро, я не смогу быть вполне спокоен, пока жив этот адвокатишка, пронюхавший слишком много. – Не беспокойтесь, хозяин. Но вместе с Алексом у меня всегда работали два помощника, ребята с прошлым; Гримльс и Венсли бежали с каторжного рудника в Новой Каледонии. Придется дать их в помощь Алексу. – Хорошо. Потом их можно будет тоже отослать к Бернсу. Там нужны такие ребята… Черт возьми, чуть не забыл! Завтра к тебе в таверну явится один француз, месье Шарль Леглуа. Придет он за документами. Вызови этого своего Дженкинса из конторы, и пусть он побыстрее сфабрикует французу такие рекомендации, какие тот закажет. Он должен поступить учителем фехтования в один интересующий меня дом… Прощай, Вудро!
Туманным утром 12 августа, когда весь Ченсфильд еще спал мирным сельским сном, владелец его встал с постели, открыл шкаф в своем кабинете и вынул оттуда морскую куртку. Она была грубоватая, не слишком новая, но прочная и нигде не повреждена. В левой стороне этой куртки, под боковым карманом, старый шов был распорот и вновь зашит грубыми крупными стежками. – Неважная работа! – процедил виконт. – И нитки свежи, и стежки крупнее остальных… Нет, не мастерица Эллен в этих делах. Плохая получилась бы из нее портниха, черт побери! Виконт велелпозвать к себе Эдуарда Мойнса. – Сверни эту куртку, Нед, – сказал он вошедшему. – Поезжай к мистеру Крейгу за своими пожитками, скажи, что ты поступил ко мне на службу, и отдай ему, кстати, вот эту морскую куртку. Верни ее хозяину и поблагодари. Узнай у Крейга, готов ли к отплытию транспорт «Омега». Скажи, чтобы тебе оседлали Чалого. Это будет теперь твоя лошадь. Возвращайся побыстрее, Нед! …По бультонскому шоссе приближался к городу всадник на чалой лошади. Прохладный осенний ветер развевал его плащ. Всадник гнал коня галопом, склонившись к седельной луке и надвинув шляпу на самые брови. Доехав до рыбачьего предместья, он спешился, привязал лошадь в каком-то дворе, вышел на огороды и пробрался задворками до одного из крайних домиков поселка. Под каменистым обрывом шумело море. Старая рыбацкая сеть была развешана на кольях перед домиком. Молодой человек постучал в боковое оконце. Оно открылось не скоро. Старый рыбак-ирландец выглянул наконец во двор. – Я хотел бы купить макрели, – тихонько сказал молодой человек. – Нынче плохой улов, – проворчал старик. – Тогда придется выбрать другую рыбу. При этих словах пришельца дверь отворилась. Молодой человек со свертком вошел в домик. Рыжий детина с огромными руками и угрюмая старуха молча поклонились вошедшему. Старик хозяин вынул две доски из внутренней перегородки, и позади большой кухонной печи открылся ход в крошечную каморку. – Дайте две яркие свечи, иглу, утюг и ножницы, мистер О’Греди, – распорядился вошедший. – Нужно хорошенько осмотреть эту куртку. Неспроста сам господин виконт велит передать ее в собственные руки Вудро Крейгу. Получив свечи, молодой человек внимательно осмотрел куртку и скоро заметил крупный шов в подкладке левого борта, под карманом. Через несколько секунд шов был осторожно вспорот. Из-за подкладки молодой человек вытащил белую полотняную тряпицу, сшитую наподобие почтовой «секретки». Изнутри на тряпице оказалась надпись, нанесенная несмываемой краской с помощью тонкой кисточки:
«Капитан Бернс. Податель сего послан вам в помощь. Все перечисленные в вашем последнем письме должны вознестись. Прежде всего – вновь прибывший в Голубую долину внучек и обе четы М. и У. Не мешайте это сделать индейцам. Сообщите исполнение».Слова «вознестись» и «внучек» были дважды подчеркнуты в этой инструкции. – Быстрее бумагу и перо, О’Греди! – приказал гость рыбаков. Он в точности скопировал письмо. Затем полотняное послание было приметано к прежнему месту, и жена О’Греди восстановила распоротый шов; это удалось ей много лучше, чем миледи Эллен. Снятую копию молодой человек положил в конверт и написал следующее донесение:
«Поступил секретарем к виконту. Через несколько дней отсюда должен выйти в Йорктаун транспорт «Омега» с четырьмя сотнями немецких волонтеров из Гессена. По-видимому, этим же транспортом отправится секретный агент Вудро Крейга с поручением виконта к некоему капитану Бернсу. Агент направляется в Голубую долину, что расположена в ста милях выше Винсенса, по Серебряной реке. Копия поручения прилагается. Имя агента установить не смог. Такое же поручение послано в порт Капштадт, капитану шхуны «Удача» Джиованни Каррачиоле. Каким-то колонистам в Голубой долине грозит крайняя опасность. Решайте, как поступить, если нужно их спасти.– О’Греди, – сказал молодой человек, – нынче бурная ночь, но делать нечего – придется вам обоим немедленно отправляться в Белфаст к брату Меджерсону. Донесение важное. Оно должно попасть к нему, а потом в Америку раньше, чем агенты Вудро Крейга прибудут по назначению. А мне нужно спешить. Я должен поспеть с курткой к Вудро и быстрее вернуться в Ченсфильд. – Патрик, – старик повернулся к своему сыну, – готовь баркас. Через часок мы выйдем в море. Давай ужинать, старуха! Скажите, мистер Бингль… – Мистер Мойнс, – поправил его молодой человек. – Виноват, мистер Мойнс, нет ли каких-нибудь известий о вашем брате Томасе? Ах, жаль, жаль, какой был мальчуган!.. …Виконт Ченсфильд выслушал краткий доклад своего молодого секретаря. – Нед, ты быстро съездил в Бультон, я доволен тобой! Теперь отдыхай и пока ни на шаг из твоей башни, дружок! Можешь заниматься живописью с мистером Джернсом. Я люблю, чтобы мои люди были всегда у меня под рукой! Через несколько дней виконт получил короткое уведомление Вудро Крейга об отплытии транспорта «Омега». В составе его экипажа следовал в Америку цирюльник Френк Вилерс. А спустя еще месяц нарочный вручил виконту пакет, прибывший из Лондона. Вскрыв его, виконт нахмурился и позвал Мортона. – Черт возьми, – произнес владелец Ченсфильда в большом недоумении, – знаете, наш лондонский агент Кленч пишет, что ни в доках Ист-Энда, ни в госпитале Святого Варфоломея никогда не значился бывший торговец и докер Арвид Мойнс и ничего не известно о его сыне Эдуарде… В лондонской полиции эти лица тоже неизвестны. Тут что-то нечисто! Возьмите-ка с Крейгом этого чертенка на прицел, Мортон!Джордж Бингль, сын свободы».
15. По дороге, ведущей вверх
1
Эдуард Мойнс стоял перед мольбертом. Мастерская мистера Огюста Джернса, художника и скульптора, служившего в Ченсфильде шестой год, помещалась под чердаком бокового крыла замка. Она была завалена гипсовыми фигурами, холстами, подрамниками, банками красок. Правый угол комнаты был освобожден от этого художественного реквизита, задрапирован бархатом и шелком; угол красиво освещался рассеянным светом из двух слегка затененных окон. Уже третий месяц леди Эллен Райленд позировала здесь мистеру Джернсу, писавшему поясной портрет виконтессы. Во время одного из этих сеансов новый секретарь виконта испросил у мастера и самой миледи разрешение тоже поставить мольберт и поработать над портретом. Мистер Огюст Джернс с неохотой позволил ученику взяться за кисть: он пока строго ограничивал Неда занятиями одним рисунком, совершенствуя и пополняя его знания перспективы и анатомии. Сам он писал обычный, весьма тщательный «парадный» портрет миледи Эллен в темной гамме тонов. Картина была перегружена элементами драпировки, костюма и обстановки и представляла собою аккуратную, но весьма банальную академическую работу. Нед Мойнс изобразил миледи в ее обычном домашнем платье, на фоне светлого осеннего пейзажа, скорее угадываемого, нежели зримого. Основным в картине были глаза, губы и руки виконтессы. Они так отчетливо выражали властолюбие, коварство и жестокость, что виконт целых полчаса молча просидел перед мольбертом юного художника. На полотне стояла перед сэром Фредриком обнаженная душа его жены. Это было почти обвинением, брошенным в лицо. Портрет этот не был закончен Недом. Виконт, опасаясь, что при доработке может исчезнуть поразительное сходство с оригиналом, приказал покрыть холст лаком, вставить в раму и повесить в своем верхнем кабинете так, чтобы картина была хорошо видна из-за письменного стола. При свечах портрет еще более оживал. Казалось, что беспокойное пламя отражается в глубине холодных зрачков миледи. Ей самой портрет не понравился, но удивительный талант и мастерство юного художника признали все. Незадолго перед своим отбытием на фрегат «Виндзор» виконт пригласил мистера Джернса в свой кабинет. Кивком он указал художнику на портрет миледи. – Скажите, где, по-вашему, учился наш новый живописец, – спросил сэр Фредрик у старика, – и сколько времени он мог провести в обучении? – Он говорит, что учился в общей сложности менее четырех лет. Манера его письма итальянская. Свои приемы он попросту перенял у какого-то хорошего портретиста. Ему не хватает правильной академической школы, но можно сказать с уверенностью, что будущее у него большое. Поверьте мне! – Мистер Джернс, по некоторым причинам я полагаю необходимым держать этого юношу в течение нескольких месяцев моего отсутствия под вашим неотступным наблюдением, но… пусть это не бросается в глаза самому ученику. Я не желаю, чтобы он делал картины на сторону… Занимайтесь с ним побольше. Эта обязанность, надеюсь, не обременит вас? – Нисколько. Он с таким рвением предается работе!.. Его трудно оторвать от мольберта и этюдника! Почтенный мастер не подозревал, что он – не единственный «попечитель» Эдуарда Мойнса. Два лица, прибывшие в тот же день с запиской от Вудро Крейга, отрекомендовались виконту как мистер Джоус и мистер Слип и получили вместе с назначением на должность наружных сторожей поместья некоторые дополнительные инструкции владельца. …Нед стоял в мастерской у мольберта. Он набрасывал углем обнаженный торс натурщика, довольно простоватого на вид парня, Бена Гаукерса, в обязанности которого входила доставка свежего мяса, молока и птицы в замок. После консультации с мистером Джоусом и мистером Слипом виконт сам направил этого Гаукерса в распоряжение обоих художников, давно просивших позволения избрать себе натурщика из числа слуг. Мистер Огюст Джернс вгляделся в рисунок на мольберте. – Вы хорошо видите игру света и осязаемо передали упругость плечевых мышц. Но посмотрите, Нед, мышцы на бумаге бескостны. Я не чувствую опоры этих мускулов, а между тем смотрите, как выразительны у натуры его крепкие, чисто саксонские кости плеча. Отложите рисунок, нам придется вернуться к скелету. Вот анатомический альбом. Это единственная книга, которую Рембрандт читал, кроме Библии! Возьмите уголь, нанесите на коже этого молодца очертания его костей и постройте на бумаге его скелет в этой свободной сидячей позе. А солнечный блик на плече уберите и никогда не прибегайте во время уроков к дешевым эффектам, способным радовать только неучей и профанов. Пока ученик разрисовывал углем ребра и плечевые суставы натурщика, следившего с опаской за черными линиями на своих боках и груди, старый мастер, сдвинув очки на лоб, держал анатомический альбом перед молодым художником. За этими занятиями застали обоих мастеров господа Томпсон-младший и Паттерсон, явившиеся без приглашения в мастерскую. Увидев разрисованные кости натурщика, Паттерсон ахнул от неожиданности. Нед закрыл от джентльменов голого крестьянина экраном и вопросительно посмотрел на своего наставника. Тот узнал обоих гостей и весьма недовольно осведомился о цели их визита. – У нас с мистером Томпсоном есть дела к виконту, но, оказывается, он уже отправился на борт «Виндзора». Пока лошади немного отдохнут, позвольте взглянуть на ваши последние работы… У вас новый помощник, мистер Джернс? – Да, это новый служащий замка и мой молодой ученик. Позвольте вам представить мистера Эдуарда Мойнса, господа. – Очень рад. Паттерсон, директор «Бультонс-банка»… О, какой великолепный рисунок! Да вы большой мастер, господин Мойнс! А этот солнечный блик на плече просто бесподобен! Мистер Джернс сердито переглянулся с Недом, и тот не смог сдержать улыбку. – Ричард, господин Джернс сердится, а этот молодой человек улыбается моим комплиментам. Вероятно, я ошибся в оценке рисунка. Что ж, я действительно отнюдь не знаток искусства… Пока Паттерсон рассматривал рисунок на мольберте, Ричард Томпсон внимательно приглядывался к молодому художнику. Лицо Эдуарда Мойнса отдаленно напоминало ему одного юного подзащитного… Тот был таким же голубоглазым пареньком… Кто же это был, в каком процессе?.. – Мистер Паттерсон, – в раздумье проговорил Ричард, – мне кажется… в лице мистера Мойнса есть что-то знакомое! Знаете, пожалуй, он похож на того мальчика, который служил у вас чертежником, а потом угодил под суд за соучастие в поджоге верфи. Я защищал его на суде, и бедный мальчишка был оправдан… Как его звали?.. Вы не припоминаете, Паттерсон? – Его звали Бингль, будь он проклят. Джордж Бингль… Да, пожалуй, у мистера Мойнса есть отдаленное сходство с тем бездельником… Прошу прощения, мистер Мойнс! Нед Мойнс молча поклонился. Потом, склонившись над мольбертом и не глядя на джентльмена, он спросил безразличным тоном: – Какая же судьба постигла этого мальчика? – Не знаю, мистер Мойнс, но этим очень интересовался тот старик, у которого мальчик жил и обучался черчению. Я забыл его имя, – сказал адвокат. Паттерсон глубоко вздохнул. – Это был мой старший чертежник, Вильям Барлет, прекрасный знаток кораблестроения. Он и сейчас работает в конторе верфи. Славный старик… Как он горевал об этом негодном Бингле! Ведь мальчишка был старику вроде родного сына. Но я слышать не могу имена всех этих негодяев, погубивших мою верфь! С вашей помощью, мистер Ричард, Джорджа Бингля потом выпустили. Говорят, какой-то рыбак явился за ним, и он исчез. К черту их! Сжег бы их всех на адском огне вместе с проклятым Фернандо Диасом! Вы испортили мне настроение, мистер Томпсон. Мы сейчас же поедем домой. – Пожалуй, и мы поработали достаточно, Нед. Иди домой, Бен Гаукерс, – сказал старый мастер натурщику, успевшему одеться за спасительным экраном. Натурщик бочком выбрался из-за экрана и улизнул весьма проворно. Оба джентльмена стали откланиваться. Ричард еще раз подошел к мольберту и вполголоса спросил молодого художника: – Мистер Мойнс, я очень хотел бы заказать вам один… женский портрет. Вы согласились бы написать прелестную девушку… лучшую в Бультоне? – Если мистер Джернс разрешит, то с большим удовольствием. – Нет, мистер Томпсон, этого я не могу позволить Неду. Господин виконт запретил ему выполнять чьи-либо заказы. – Что ж, очень жаль! До свиданья, господа. Сквозь окно мастерской, мутное от зимнего дождя, Нед Мойнс видел, как Паттерсон и Томпсон усаживались в экипаж. Но он не видел, как один из двух новых замковых сторожей, коротко переговорив с Беном Гаукерсом, побежал следом за коляской и догнал ее у выезда на шоссе. Вкрадчиво, вежливым тоном, исключающим всякую возможность отказа, человек попросил разрешения доехать до порта. На улице Портового Маяка он, к удовольствию кучера, соскочил с козел и торопливо направился к таверне «Чрево кита». – Это вы, Слип? – вгляделся в него хозяин таверны. – Что-нибудь новенькое из Ченсфильда? – Паттерсон и Томпсон беседовали с Эдуардом Мойнсом. Бен Гаукерс был при этом. Парень не дурак. Он сделал важные наблюдения. Адвокат Ричард Томпсон тоже нашел сходство между Мойнсом и мальчишкой-чертежником с верфи, Джорджем Бинглем. Подозрение как будто подтверждается. Гаукерс заметил, как Мойнс вздрогнул и отвернулся. Значит, старуха Полли, соседка покойной матери Бингля, дала нам в руки, сама того не подозревая, правильную нить. Миссис Барлет, жена старика чертежника, проболталась ей… – Знаю, Слип, знаю! – прервал его Вудро Крейг. – Все это… оч-чень занятно!Два тяжелых фрегата, «Виндзор» и «Уэлльс», подняли якоря в Бультонском порту, вышли в Ирландское море и, обогнув берега Корнуэльса, легли курсом на Портсмут. Стопушечный двухдечный «Виндзор» шел первым. На его капитанском мостике стоял виконт Ченсфильд в ботфортах и мундире офицера королевского флота Британии. «Уэлльс» следовал в кильватере «Виндзора». Оба судна виконт построил, оснастил и снарядил в подарок его величеству от лица компаньонов «Северобританской компании». Виконт Ченсфильд вел свои корабли на соединение с главными силами королевского флота…
Склонившись над столом, старший чертежник мистер Вильям Барлет рассматривал большой рисунок пятимачтового корабля. – «Король Георг III», – бормотал он. – Похож на «Окрыленного», но уже не то… Сработан не так, как старые наши корабли с верфей мистера Паттерсона! Едва ли на морях появится в ближайшие десять лет соперник «Окрыленного». Еще два-три месяца, и он опять будет как новенький. В хороших руках он еще наделает чудес. Покамест – свыше десятка потопленных кораблей и ни одного непоправимого повреждения. Хороший счет! Мистер Гарвей, бывший корабельный мастер, ныне управляющий верфью, вошел в бюро. – Старина! Мистер Паттерсон приглашает вас в Ченсфильд. Какое-то срочное дело. Коляска уже прислана за вами. Отложите-ка чертежи и одевайтесь потеплее. Двуколка с каким-то седоком ожидала у ворот. Когда мистер Барлет уселся, его сосед тряхнул вожжами, и легкий экипаж быстро понесся по оледенелой мостовой. На шоссе сосед Барлета сдержал лошадь и пустил ее шагом. – Мистер Барлет, позвольте представиться: Слип, помощник шерифа. Должен подчиниться прискорбной необходимости известить вас, что вы арестованы. Старик вытаращил глаза от неожиданности и почувствовал неприятный холодок в спине… Всего несколько месяцев назад под его кровом провел два дня некий милый юноша, который в прошлом был весьма близок его старому сердцу… Юноша предупредил, что скрывает от полиции свое настоящее имя… Уж не попался ли мальчик с какой-нибудь проделкой? Однако старик почел за благо нахмурить брови и заговорить возмущенным тоном: – Зачем вы ввели меня в заблуждение? Мне кажется, что можно было предупредить меня в конторе! За шестьдесят лет это случается со мною впервые. – Если уж так суждено, то когда-нибудь это случается впервые, – успокоил его мистер Слип. Весь дальнейший путь прошел в молчании. У ворот Ченсфильда экипаж был встречен привратником и мистером Джоусом, новым «замковым сторожем». – Пройдите сюда, мистер Барлет, – приказал Слип, указывая на винтовую лестницу, ведущую в левую башенку замка. – Здесь вас ожидает приятная встреча со старым знакомым. Барлета ввели в небольшую круглую комнату со сводчатым потолком. Четыре узких стрельчатых окна были наглухо завешаны шторами. Несколько рисунков украшали оштукатуренные стены. На столе валялся альбом карандашных набросков. – Попросите-ка сюда из мастерской мистера Мойнса, – приказал Слип своему помощнику Джоусу. Эдуард Мойнс увидел испуганное лицо Барлета, уже перешагнув порог. – Пожмите друг другу руки, мистер Барлет и мистер Бингль, – нежным и зловещим голосом пропел агент. – Старые друзья встречаются вновь, не так ли, Джордж Бингль? Теперь потрудитесь объяснить, зачем вам понадобилось втереться в дом милорда под вымышленным именем. Молодой человек бросил быстрый взгляд на Барлета и, не проявив смущения, отвечал беззаботно: – О моем сходстве с каким-то Бинглем мне еще неделю назад сказал мистер Томпсон. Это сходство ввело в заблуждение и вас, господа. Имя и личность Джорджа Бингля мне неизвестны. Джоус, младший по чину из двух агентов, повернулся к Барлету: – Подтверждаете ли вы, что стоящий перед вами молодой человек есть не кто иной, как ваш бывший ученик, некогда посаженный в тюрьму за соучастие в поджоге бультонской верфи? – Во-первых, мой ученик оказался непричастным к поджогу и был вскоре освобожден. Во-вторых, я, правда, тоже замечаю некоторое сходство между этим юношей и Джорджем Бинглем, но полагаю, что оно чисто случайное. – Вот как? Следовательно, когда вы приютили у себя именно этого молодого человека, вы не узнали в нем вашего ученика? – Н-нет, не узнал и, повторяю, убежден в случайности этого сходства. – Скажите, Барлет, а узнали бы вы мать Джорджа и Томаса Бингля? – Разумеется, я узнал бы женщину, приходившую ко мне каждую неделю за сыном. Уж не собираетесь ли вы откопать ее из могилы? – Нет, откапывать ее могилу надобности нет. Но может быть, вы скажете нам, кто изображен на этом рисунке? С этими словами мистер Джоус раскрыл альбом Эдуарда Мойнса. Лицо покойной тетушки Бингль как живое глядело со страницы. При виде рисунка Барлет понял, что сопротивляться бесполезно. Потупился и Эдуард Мойнс. Игра была проиграна… – Видите, мистер Барлет, как напрасны попытки обмануть закон. Итак, вы подтверждаете, что приютили Джорджа Бингля после его выхода из госпиталя Святого Христофора? Старик угрюмо молчал. – Вы напрасно еще увеличиваете свою вину запирательством, – произнес Слип наставительно, – ибо ваша супруга, несмотря на полученное запрещение, недавно рассказала бывшей соседке Бинглей, тетушке Полли, что у вас в доме появлялся Джордж… А тетушка Полли поделилась новостью… с супругой мистера Джоуса… – Оставьте старика в покое! – резко сказал молодой человек. – Охотно удовлетворил бы ваше желание, весьма охотно, но имею некоторые основания полагать, что бультонский судья пожелает осведомиться, с какой целью почтенный мистер Вильям Барлет принял участие в обмане милорда. Вам обоим придется погостить здесь до возвращения виконта Ченсфильда из плавания, ибо мы не намерены начинать следствие без его ведома… Джордж Бингль, именем закона я арестую вас!
2
Лорд Артур Стенфорд проснулся в сумерках. Он выглянул из-под полога постели, увидел сереющий за оконными шторами рассвет и вспомнил, что сегодня ему предстоит трудный день. Из Ченсфильда должна приехать кузина Эллен. Это ее первый визит в Дональд-Корт после вторичного замужества. О новом ее супруге ходят разноречивые слухи, но лица, извлекающие удовольствие из передачи сплетен о виконте, делают это все более приглушенным тоном: портить отношения с владельцем Ченсфильда становится небезопасным! Это имя приобрело известность в очень высоких сферах. Впрочем, кузина Эллен пишет, что приедет без мужа, так как сэр Фредрик на днях отбыл в морской поход… Ирония заключается в том, что проводить кузину Эллен вызвался не кто иной, как сэр Генри Блентхилл, и теперь в доме неизбежна встреча двух враждующих джентльменов, ибо под кровом Дональд-Корта уже вторую неделю гостит сэр Гарри Хартли, молодой граф Эльсвик. Сэр Генри Блентхилл – старый товарищ лорда Артура, друг его юности, а ныне – добрый сосед виконта Ченсфильда и, как поговаривают, слишком близкий приятель его жены. Гарри Хартли лет на двадцать моложе лорда Артура; в его обществе лорд Артур и сам чувствует себя моложе и беззаботнее. Он уже почти согласился с предложением своего молодого гостя совершить небольшое путешествие на яхте в Норвегию, как вдруг письмо кузины Эллен спутало все карты. Уехать до ее прибытия было бы ужасающе невежливым.. – Гарри проснулся? – спросил лорд Артур у камердинера, помогавшего ему одеваться. – Граф уже в столовой. До завтрака осталось шесть минут, милорд. Жена лорда Артура, леди Агнес, приветливая и величественная дама, строго соблюдала почти воинский порядок семейных трапез. Дом жил по часам и гонгу. «Точность – это вежливость королей», – любила повторять леди Агнес. Воткнув перед зеркалом золотую булавку в свой пышный галстук, лорд Артур взглянул на угловые стенные часы, стоявшие в красном высоком ящике, и точно, с первым ударом гонга, спустился в столовую. Его пятнадцатилетний сын Роберт оживленно обсуждал с молодым Гарри Эльсвиком наилучший способ защиты против нового испанского приема нападения с ложным выпадом. Уроки фехтования Роберт брал теперь у отставного французского капитана, недавно предложившего лорду Артуру свои услуги в качестве гувернера и ментора его сыновей. Рекомендации месье Шарля Леглуа оказались превосходными, и французский экс-капитан остался в Дональд-Корте. По лицу мужа леди Агнес заметила, что он несколько встревожен. После завтрака, когда из фехтовального зала стал доноситься стук рапир и азартные возгласы Роберта, лорд Артур сообщил жене о письме кузины Эллен, полученном лишь накануне вечером с гонцом из Уольвсвуда. – Я никогда не любила Эллен Грэхэм, – призналась леди Агнес, – хотя, собственно, мне решительно не в чем упрекнуть ее. Но твои опасения кажутся мне совершенно напрасными. Я очень рада приезду Генри, и уверяю тебя, у нас в доме он помирится с графом. Гарри, по-моему, уже начинает скучать в Дональд-Корте. Я даже благодарна кузине, что ее прибытие помешает вашей сумасбродной поездке в Норвегию. – И все-таки я очень прошу тебя, Агнес, не выпускать Гарри из своего поля зрения. Чем ничтожнее поводы для вражды, тем непримиримее противники. Соперничество у них буквально во всем. Генри Блентхилл выдумал недавно, что угодья по Кельсексу принадлежат графу Эльсвику незаконно и что все права на них имеет двоюродный дядя Генри. А поскольку Генри – единственный наследник этого дяди, то он собирается отсудить их с помощью своего адвоката Мортона. Узнав об этих смехотворных претензиях, Гарри Эльсвик заявил, что затравит собаками первую же судейскую крысу, которая сунет нос на его земли. Не забудь, что они соперники и на политическом поприще: оба выставили свои кандидатуры на единственное парламентское место от нашего округа… – Артур, – сказала леди Стенфорд, – я готова выполнить твое желание и наблюдать за Гарри и за Генри, как Аргус*["101], но через несколько дней вы втроем будете хохотать над твоими нынешними опасениями. Две недели я вижу Гарри за столом и до сих пор не слышала от него серьезного слова. Даже трудно представить себе, что Гарри, этот мальчик, находящий удовольствие в обществе нашего Роберта, готовится к политической деятельности в близком будущем. – У Генри Блентхилла больше купленных голосов и больше шансов занять депутатское кресло; разумеется, у него и более зрелый ум. Но если в Гарри Эльсвике проснулся дух соперничества, то он поставит на карту все, даже свои угольные копи, чтобы опередить противника. Опасность таится именно в его ребяческой запальчивости… Впрочем, я первый буду радоваться, если ты окажешься права и в результате нечаянной встречи джентльменов погаснет их нелепая вражда. В распахнутые ворота замка графов Стенфорд на рысях влетел экипаж, сопровождаемый всадниками. Каретные рессоры, гнутые наподобие скрипичного ключа, упруго раскачивали продолговатый кузов. Грохот колес отозвался гулким эхом на огромном, плохо мощенном дворе Дональд-Корта. Лакей соскочил с запяток, помещавшихся между высокими задними колесами, забежал вперед и помог кучеру остановить у крыльца три пары серых рысаков, одинаковых до неправдоподобия. Дворецкий поспешил навстречу гостям, но один из всадников, высокий джентльмен в плаще, уже успел соскочить с коня и распахнуть выпуклую дверцу; форейтор проворно подставил подножку; леди Эллен, опираясь на руку высокого джентльмена, ступила на крыльцо. Подоспевшим лакеям осталось только извлечь из недр кареты два объемистых чемодана, три картонки разных размеров, визжавшего бультерьера величиною с кулак, ворох пледов и шалей, а также полнотелую камеристку Бетси. В вестибюле высокий джентльмен помог миледи снять шубу – величественное, пушистое и почти невесомое творение из русских соболей, гагачьего пуха и нежнейшего атласа. Свой куний палантин на светло-розовом шелку виконтесса уронила с плеч, даже не взглянув, чьи услужливые руки подхватят его на лету. Общество в Дональд-Корте, только что закончившее традиционный «пятичасовой чай», предавалось легкой болтовне в гостиной, когда дворецкий объявил о прибытии виконтессы Ченсфильд и маркиза Генри Блентхилла. Гарри Хартли, граф Эльсвик, насупился и не покинул своего кресла за карточным столиком, которое он занимал против леди Агнес. Хозяин дома и месье Леглуа встали навстречу гостям. Дворецкий распахнул двери. Сэр Генри Блентхилл задержался на пороге, пропуская миледи вперед. В пуховом дорожном костюме, маленькой горностаевой шапочке на золотых волосах, порозовевшая от легкого морозца и чуть взволнованная предстоящей встречей, виконтесса была просто ослепительна. Гарри Эльсвик уставился на нее изумленными очами и, медленно распрямляя свои длинные ноги, поднялся с места. Генри Блентхилл следовал за дамой с воинственным выражением лица. Месье Леглуа расцвел и расшаркался. Лорд Артур, пряча тайное беспокойство под приветливой улыбкой, пожимал руку сэру Генри. Затем он представил кузине Эллен своего друга, графа Эльсвика, и, наконец, оба враждующих джентльмена надменно раскланялись короткими кивками. – Вы пожаловали к нам, кузина, как живая архангельская зима или сама царица Екатерина, – улыбнулся лорд Артур. – За сколько часов вы пролетели девяносто миль? – Мой лучший друг, супруга сэра Генри, долго удерживала меня от этой поездки. Это она настояла, чтобы сэр Генри непременно проводил меня по зимним дорогам до Дональд-Корта. Говорят, что сейчас путешествовать не совсем спокойно. – Увы, это правда, – подтвердил хозяин замка. – В последнее время крестьяне-арендаторы превратились в грабителей на больших дорогах. Земля нужна под пастбища для овец, цены на шерсть стоят очень высоко. А эти мужики воображают, что мы обязаны век сдавать им в аренду наши угодья и не можем уж распоряжаться по-своему в своих собственных поместьях… – С ними нужна твердость, кузен! Супруг мой добился от нашего мирового судьи приговора – повесить трех браконьеров, схваченных в нашем лесу… Но путешествие сюда было чудесным! – щебетала виконтесса. – Муж послал со мною двух конных егерей, а сэр Генри взял еще грума. Леди Агнес заметила меховые сапожки виконтессы, украшенные своеобразным узором. – Какая прелесть эта русская зимняя обувь! – воскликнула хозяйка дома. – Мне очень хотелось бы иметь такие северные сапожки, зимой у нас в Дональд-Корте так холодно… Это, вероятно, тоже архангельская покупка. – Да, конечно. Джеффри Мак-Райль, наш агент, часто присылает нам русские меха. Агнес, у меня с собою целый чемодан маленьких русских пустяков для вас и для кузена. Общество разошлось и вскоре вновь собралось в столовой. Пока гости рассаживались, леди Агнес успела шепнуть мужу: – Кузина и виконт сделали нам почти царские подарки. Знаешь, эти «маленькие пустяки»… я просто потрясена. Ты никогда не дарил мне таких дивных соболей, мой друг. Он сказочно богатеет, этот наш новый родственник! А кузина никогда еще не была такой красавицей… Ты видишь ее бриллианты? Они во сне не приснились бы ей, будь она до сих пор женой нашего бедного Джорджи… Несмотря на старания хозяев создать непринужденную атмосферу за столом, а может быть, именно в силу этих стараний, обед прошел натянуто и вяло. Месье Леглуа весьма неудачно пытался оживить застольную беседу остроумием, которое лорд Артур оценил как «юмор казармы». После изречения, что на свете стоит жить лишь ради хорошенькой женщины, кровной лошади и доброго поединка, месье Леглуа поймал негодующий взгляд хозяйки, спохватился и увял. За кофе граф Гарри Эльсвик нечаянно опрокинул рюмку греческой мальвазии. Лакей переменил рюмку и ловко прикрыл салфеткой расплывшееся на скатерти багровое пятно, похожее на рану.3
Смуглый человек в черном плаще соскочил, потрясая небольшим саквояжем, с подножки дилижанса перед гостиницей «Белый медведь». Он обогнул здание бультонского собора и, насвистывая французскую песенку, устремился по направлению к порту. На улице Портового Маяка человек взлетел по грязной лестнице на второй этаж неуютного дома, населенного разношерстным народом. В полутемном коридоре он столкнулся с хозяйкой квартиры, у которой снимал две комнаты с окнами на улицу. – А, мистер Алекс Кремпфлоу, наконец-то мы вас дождались домой! По тону хозяйки можно было заключить, что она благоволит к этому жильцу. Почтенная женщина проследовала за приезжим в его покой и немедленно принялась смахивать тряпочкой пыль, осевшую на всех предметах за время отсутствия мистера Кремпфлоу. – Непременно запрещу верхним жильцам устраивать эти дикие пляски и топать ногами. Видите, штукатурка осыпалась на все ваши вещи, мистер Кремпфлоу… За последние два месяца вас чуть не каждый день спрашивал какой-то мистер Гримльс. – Да, я немного запоздал с возвращением. Ведь живешь один раз, мэм, а я вернулся из Парижа… Как поживают ваши жильцы? Что нового? – Все по-прежнему, мистер Кремпфлоу. Только мистер Френк Вилерс уже два месяца как отправился в далекое путешествие. Хороший он жилец, вроде вас. Мистер Вилерс нанялся на транспорт «Омега» и отправился воевать в Америку… – Хорошо, спасибо за новости, мэм. Пошлите-ка мне вашего мальчика, надо растопить камин… Сбегай в таверну «Чрево кита», – сказал жилец юному служителю хозяйки, – и закажи для меня у мистера Крейга рому и корицы для грога. Пусть он пришлет все это с рассыльным. Когда все заказанное мистером Кремпфлоу появилось на столе, он потребовал у хозяйки сахару и горячей воды. Приготовлением напитка он занялся сам. При появлении хозяйки с горячей водой он небрежно скомкал счет из таверны и бросил его в камин. – Вудро редко покидает свою стойку, – пробормотал мистер Кремпфлоу. – Сегодня, в шесть вечера, он зовет в уютный домик. Венсли и Гримльс тоже будут там. Что ж, это теплые ребята. Видно, у старика есть для меня что-нибудь настоящее. Без хорошей работы и жить-то на свете скучновато!Отпустив последнего клиента, Ричард Томпсон велел своему старшему клерку Дженкинсу повесить над входом в контору белую дощечку с надписью «Закрыто» и запереть двери. Был ноябрьский субботний вечер, и адвокат имел все шансы провести его остаток не без удовольствия. – Три – всегда было моим счастливым числом, – говорил он, обращаясь к мраморному Меркурию на медной подставке. – Дай-ка я сам на прощание сотру с тебя пыль, летучий посланец богов и покровитель торговли! Сегодня, мой дорогой божок, я хотел бы обладать твоими крылатыми сандалиями! Сердце подсказывает, что нынче – большой день моей жизни. Мой дорогой покойный отец от души одобрил бы третий выбор своего Ричарда. А она… О, ее глаза так ясно говорят, что она ждет только моего решительного слова! Сегодня оно будет произнесено! В этот вечер семейство мистера Томаса Неттера, начальника бультонской таможни, тоже находилось в нетерпеливом ожидании. Все взоры были устремлены на старшую дочь, мисс Люси, девицу двадцати четырех лет, любительницу грустных стихов, рыбной ловли и остро приправленных уксусом соусов. Нетерпение в домике таможенного чиновника было понятным, ибо мистер Томпсон многозначительно просил разрешения приехать в субботу для важной беседы с Люси и ее отцом. Даже без крылатых сандалий римского бога адвокат понесся домой с предельной скоростью и в пути награждал угрюмого Флетчера шутливыми толчками в спину. Тот, почуяв возможность некой дополнительной мзды на лишний стаканчик, погонял рыжую кобылку изо всех сил. С большим неудовольствием мистер Томпсон увидел дома чужой черный плащ на вешалке. В маленькой гостиной сидел незнакомец в модном парижском камзоле, парике с очень короткой косицей и черных чулках. Нагловатое лицо клиента сразу не понравилось Ричарду. Он решительно заявил, что до понедельника никого принять не может, и, сопровождаемый дряхлым Френсисом, проследовал в кабинет. – Сэр, этот человек ожидает уже целый час и говорит, что вы непременно его примете, если узнаете, какое у него к вам дело. Говорит, что он из Эдинбурга. Адвокат взглянул на часы. Его ожидали к девяти, сейчас было половина восьмого. Туалет, приличествующий высокоторжественному случаю, был заранее приготовлен Френсисом и разложен на диване. – Проси, – буркнул он, и незнакомец вошел в кабинет. – С кем имею честь? – Меня зовут Филипп. Я человек эсквайра мистера Неттера, владельца поместья «Тихий приют» в Тренчберри. Извольте получить письмецо. В Тренчберри находилось имение, принадлежавшее престарелому бездетному дяде Люси. – Так вы не из Эдинбурга? – Никак нет. Родом я из Эдинбурга, а служу в Тренчберри. Письмецо будет от одной особы… При этих словах лакей неприятно осклабился. Ричард схватил надушенный розовый конверт, запечатанный облаткой в виде летящего голубка. Оторвав простроченный кантик, аккуратно склеенный по трем сторонам, адвокат прочел следующие строки:
«Милый мистер Ричард, эту записку вручит вам Филипп, человек моего дядюшки. Он приехал за нами из Тренчберри, потому что бедный дядюшка умирает. Мы с папой и мамой должны немедленно туда отправиться. Если бы вы, милый друг, пожелали скорее утешить нас в этом большом горе и присутствовать при вскрытии завещания, то приезжайте в Тренчберри. Мы выехали в наемной карете в седьмом часу вечера; может быть, вы догнали бы нас в легком экипаже. Если бы вы решили ехать (папа тоже был бы очень обязан вам за помощь при разборе бумаг), то возьмите с собою Филиппа.Мистер Томпсон с сожалением посмотрел на разложенный парадный костюм. Пожалуй, ехать приличнее в повседневном платье… Мистер Томпсон, отвернувшись, быстро поцеловал подпись мисс Люси и спрятал письмо на груди. – Позовите Флетчера! – крикнул он слуге. – Мама у себя? – Миссис на заседании благотворительного комитета. Она приказывала послать за ней лошадь к девяти. – Флетчер, заложите в шарабан обеих лошадей. Мы едем в Тренчберри. Скажите Долли, чтобы она привезла матушку в наемной карете, и передайте ей о моем срочном вызове за город. Вряд ли я вернусь раньше понедельника. Вы без лошадей, Филипп? – Прибыл сюда почтовым дилижансом. Если позволите, помещусь в вашем экипаже. – Хорошо, можете ехать со мной. В каком состоянии вы оставили больного? – Ох, уже без памяти! Вся левая половина отнялась. Верно, уже преставился, царство ему небесное. Добрый был господин! – Правда, что на дорогах у вас шалят? – Истинная правда! Сколько, прости господи, развелось этих мужиков-убийц по дорогам! Грабят, убивают господ! Имения поджигают! – Вы умеете обращаться с оружием, Филипп? – Так точно, обучены. Из пистолета даже случалось стрелять… Мистер Томпсон извлек из пыльного ящика под столом пару старых заржавленных пистолетов, а из-за спинки дивана – шпагу с литым медным эфесом. Еще покойный мистер Уильям надевал ее к парадному мундиру в дни своей молодости. Клинок был слегка погнут, и оружие едва ли внушало бы уважение уличному воришке. Натянув на ноги теплые конькобежные ботинки, подбитые мехом, адвокат завернулся в зимний плащ, натянул на голову капюшон и предложил лакею из Тренчберри садиться в экипаж. Выходя из кабинета, тот бросил в корзинку под столом адвоката несколько смятых клочков бумаги. Кухарка с крыльца посмотрела вслед удаляющемуся экипажу и затем убрала со стола нетронутый обеденный прибор. Очертания кустов и деревьев расплывались в сизо-серой мгле зимнего вечера. Выпал первый снежок; колеса превратили его на дороге в грязную жижу, но в канавах и под кустами пятна снега белели на темной, подмерзшей земле. Небо очистилось от облаков, и небесный охотник Орион с алмазным мечом у трехзвездного пояса стоял прямо над вершинами леса. Полночь близилась, когда у брода через лесной ручей остановились два путника. Все расстояние от окраины Бультона до этого брода путники проделали пешком и не заходили по дороге ни в один трактир. Оба были одеты в куртки и шапки простых земледельцев, держали в руках тяжелые дубинки, но разговаривали между собою языком горожан. – Это здесь, Венсли, – сказал старший, осматриваясь по сторонам. – На целую милю кругом – сплошной лес. Алекс приглядел хорошее местечко. – Далеко ли отсюда до берега Кельсекса? – спросил его товарищ. – Темновато сейчас разбираться в незнакомом лесу. Надо было прийти засветло. – Алекс мне все растолковал. Ручей впадает в Кельсекс, должно быть, вон за теми кустами… Пойду взгляну… Старший перескочил через канаву и скрылся в кустарнике. Спутник его не спеша прохаживался у брода, прислонив свою дубинку к дереву. Среди голых ветвей чернели вороньи гнезда и слабо просвечивал отблеск северных созвездий. Гримльс долго не возвращался. – Темновато, черт побери! – пробормотал Венсли. – Не разберешь ни масти лошадей, ни цвета шарабана. Как бы не ошибиться… Он приподнял наушник суконной шапки, опущенный с боков и сзади до самых плеч, и прислушался. Неподалеку похрустывали в кустах сучки под ногами Гримльса. Каждый шорох отчетливо разносился в сухом, морозном воздухе, рождая дальние отзвуки. – Рыжая кобылка и чалый мерин, желтый шарабан с поднятым верхом. Кучер и двое седоков. Алекс должен сидеть справа. Когда лошади войдут в ручей, он крикнет: «Сэр, лошади боятся воды!..» Нападать, как только запряжка минует брод и начнет брать подъем… Эге, цокают копыта! Тихим свистом Венсли подозвал Гримльса. Тот перешагнул через кучу слежавшегося снега в канаве. – Середина реки свободна от льда. Течение довольно быстрое. У берегов – тонкая кромка, человека едва ли выдержит… Чего ты свистел? – Едут… Слышишь? Венсли и Гримльс скользнули за ближайшие к броду деревья. Оба приготовили дубинки и ощупали рукоятки ножей под куртками. Из-за поворота дороги показался экипаж. Напрягая зрение, Гримльс различил, что левая лошадь темнее правой. Перед спуском к броду упряжка чуть сбавила свою быструю рысь. – Сэр, лошади боятся воды! – раздался резкий голос правого седока, но кучер стегнул по конским спинам и прикрикнул: «И-эх, верблюды!» Раздался плеск воды и скрежет железных шин по каменистому дну ручейка, из-под копыт полетели комья смерзшейся глины: упряжка вынесла экипаж уже на подъем. Гримльс бросился вперед и замахнулся дубинкой на лошадей. Кони рванулись вправо, экипаж стал посреди дороги, кучер свалился с козел. – Эй, проклятый лендлорд, давай деньги! – завопил Венсли, появляясь сзади, из-за деревьев. Внезапно правый седок вскочил с места и выхватил из кармана железную гирьку. Он с силой размахнулся и… обрушил удар на своего спутника. Тот мешком упал на подножку. Подоспевший Венсли ударил его дубиной. Гримльс и Венсли оттащили труп в кусты. Алекс Кремпфлоу тряс за воротник оторопелого кучера. Тот лежал у переднего колеса, ушибленный и оробевший. Лошади, запутавшиеся в постромках, дернули, Кремпфлоу отскочил с проклятием. Сквернословя и рыча, он ухватил вожжи. – Да помогите же мне, дьяволово семя, – прохрипел он своим достойным компаньонам, – не то и Флетчеру придет конец! Эти проклятые твари не хотят стоять на месте! Флетчер, будь проклята моя кровь, да отползи хоть в сторону от колес! Кучер с кряхтеньем отполз в канаву и встал на четвереньки. Лицо его было перекошено от страха. – Не трусь, Флетчер! Ползи на четвереньках в лес, сделай небольшой крюк, потом снова выходи на дорогу и ступай не спеша в Тренчберри. Не забудь,что и как ты должен объяснить помощнику шерифа. – Очень вы меня помяли, ребята, – с усилием проговорил кучер, выбираясь из канавы. – Места живого не осталось… – Ступай, ступай, побыстрее убирайся отсюда! Нам еще придется немного поработать. – А как же лошади? – робко спросил Флетчер. – Лошадей мы выпряжем без тебя и верхом вернемся в Бультон. Не теряй времени, Флетчер, и ты до гроба будешь иметь свое виски утром, в полдень и перед сном!Ваша Люси».
4
На следующее утро после прибытия в Дональд-Корт леди Эллен весьма рано поднялась и незамедлительно занялась таинствами туалета. Сидя за зеркалом, она внимательно прислушивалась к утренним звукам в доме. Как только из фехтовальной залы стали доноситься частые негромкие удары, миледи шепотом подозвала камеристку. – Поди узнай, где Блентхилл, – приказала она своей неизменной наперснице. Бетси исчезла, вернулась и заверила даму, что сэр Генри еще не выходил из своей комнаты. Свежая, как утренний ветерок, одетая подкупающе просто и убранная столь искусно, будто сама природа, без прикосновения человеческих рук, сотворила ее прическу, леди Эллен спустилась вниз. Посреди фехтовального зала граф Гарри Эльсвик и месье Леглуа молча бились на эспадронах. Роберт Стенфорд считал «поражающие» удары. Сетки защищали лица спортсменов, кожаные перчатки предохраняли их руки от ранений. – Я не помешала, господа? Какое горе, что Господь создал меня женщиной! Больше всего на свете я люблю спорт, охоту, гонки на воде – и все это для меня полузапретные плоды! Дайте мне рапиру, месье Леглуа, я хочу испытать, сколько секунд я продержусь против первого клинка Оксфорда. Граф, извольте защищаться! К своему изумлению, граф Эльсвик оказался перед незаурядной фехтовальщицей. Первые выпады прекрасной амазонки он отвел шутя, но когда кончик ее рапиры трижды тронул его плечо и грудь, он сбросил решетчатую маску и стал обороняться тщательнее. В пылу сражения граф не заметил, что с его клинка соскочил защитный наконечник. – Милорд, – подсказал Леглуа шутливо, – у вас, по-видимому, серьезный противник. Попробуйте испанский прием. Увлекшийся граф последовал совету ментора, обманул противницу ложным выпадом и сделал молниеносный короткий укол при вывернутой кисти. Миледи слабо вскрикнула и уронила рапиру. Чуть выше ее левой подмышки показалась алая капелька крови. Виконтесса испугалась, побледнела, и встревоженный Гарри Эльсвик подхватил ее за талию. – Как это случилось? – воскликнул Роберт. – Боже, ваша рапира не имеет наконечника, Гарри! Миледи, вы ранены? В эту минуту в дверях показался сэр Генри Блентхилл. – Это просто царапина, – произнесла виконтесса; губы у нее побелели и дрожали. – Зато я теперь на всю жизнь сохраню след моей встречи с лучшей шпагой Оксфорда! Благодарю вас, граф! Продолжая опираться на руку противника и не взглянув на сэра Генри, виконтесса вышла из зала. Сэр Генри, кипя от негодования, остался на пороге, а граф Эльсвик проводил даму до самых дверей ее комнаты. Здесь, уже приоткрыв дверь, она томно посмотрела ему в глаза и прошептала: – Обещайте мне вести себя благоразумно, если бы тот, бешеный, вздумал разыгрывать роль моего защитника. Во всем виновата я одна, и никто, кроме моего супруга, не имеет права… Тут у виконтессы закружилась голова, она пошатнулась и на мгновение обвила рукой плечи кавалера. В следующий миг раненая амазонка исчезла за дверью. На своем белом жабо Гарри заметил влажный отпечаток алого пятнышка… Ошеломленный, с пьянящим чувством головокружения, он шел по коридору, ничего не видя перед собой; у лестницы он лицом к лицу столкнулся с Генри Блентхиллом. – Угодно вам условиться о нашей встрече? – спросил сэр Генри надменным тоном. – В любую минуту готов к вашим услугам, – бросил граф небрежно, показывая всем своим видом, что встреченный джентльмен являет собою самое незначительное и пустое препятствие на пути. – Молокосос! – Прошипев это слово и задыхаясь от ярости, сэр Генри схватил графа за плечо, повернул к себе лицом и легонько задел его по носу парой лайковых перчаток, которую держал в руке. На языке джентльменов это была полновесная и оглушительная пощечина. Граф взревел и, как раненый вепрь, бросился на обидчика. Вынырнувший, словно из-под земли, месье Леглуа развел разгоряченных противников. Уже через час секундант графа Эльсвика месье Шарль Леглуа и секундант маркиза Блентхилла юный Роберт Стенфорд уединились на нейтральной почве библиотечного зала и под величайшим секретом выработали условия поединка, предусмотрев все меры, чтобы не затронуть репутации дома и оставить в тени имя благородной леди. Местом встречи была выбрана роща около Шрусбери. По просьбе обоих противников, секунданты их – юный Роберт и месье Леглуа – поклялись дворянской честью, что имя леди Эллен при любом исходе поединка никогда и ни при каких обстоятельствах не будет упомянуто. Тем временем леди Эллен с немалым беспокойством примеряла очень открытый вечерний туалет. К своему огорчению, она убедилась, что треугольная ранка приходится выше выреза платья. Это совершенно испортило настроение виконтессы, и мысленно она от всей души прокляла неловкого графа. Наконец, с ударом гонга, она спустилась к завтраку, оставив камеристку с нахлестанными щеками, в слезах и одиночестве. – Вы сегодня бледны, дорогая, – встретила ее леди Агнес. Графиня, подобно всем дамам, перешагнувшим критический возраст, извлекала из такого рода участливых наблюдений над более молодыми особами истинно христианскую радость. – Хорошо ли вы спали после дороги? – Меня мучили кошмары. Мне снились страшные мужики с дубинками и пролитая кровь. Это последствия наших вчерашних разговоров о мятежниках. Я так впечатлительна! Лорд Артур развернул газету, доставленную утренней почтой из Бультона. Номер был датирован предшествующим понедельником. – Боже мой, – воскликнул хозяин дома, пробежав заголовки, – какое несчастье! Близ Бультона погиб от руки этих негодяев… Вы видели вещий сон, кузина! Нет, дальше теперь невозможно! Я прерву отпуск, чтобы быстрее провести в парламенте билль о проклятых мужланах! – Кто погиб, Артур? – в один голос спросили обе леди. – Ричард Томпсон, наш славный молодой адвокат… Леди Эллен вздрогнула… «О, Фредди, ты поистине страшный противник… Пал еще один твой недоброжелатель… А теперь, если удастся перессорить этих…» – Прочтите вслух, Артур, – попросила виконтесса тихо. – Или нет, дайте мне газету, и… господа, простите меня… Я поднимусь к себе. Это… так ужасно… Общество закончило завтрак в молчании. Все знали, что миледи была некогда помолвлена с погибшим юристом, и все молчаливо склонились перед скорбью женского сердца. После завтрака лорд Артур занялся в своем кабинете разбором лондонских газет. В них писалось о прибытии из Бультона в Портсмут двух новых фрегатов – «Виндзора» и «Уэлльса». Они как раз поспели к смотру военно-морских сил и были удостоены личным посещением его королевского величества. Король Георг III наградил высоким орденом виконта Ченсфильда и одного из участников блестящего подвига капера «Окрыленный», капитана Блеквуда. Виконт Ченсфильд удостоился чести сопровождать его величество из Портсмута в Лондон, принял участие в заседании лордов адмиралтейства и имел продолжительную аудиенцию у короля, после чего был возведен в ранг контр-адмирала и вышел в море с эскадрой из пяти кораблей, подняв свой вымпел на фрегате «Виндзор». – Виконт делает быструю карьеру, – заметил лорд Артур, откладывая газеты. – Если бы кандидатуры двух его соперников не имели решающего перевеса над его собственной, он мог бы со временем стать моим соседом в палате. Леди Эллен забыла и о происшествии в фехтовальном зале, и даже о собственной ране, так поразила ее газетная заметка. Она подозвала Бетси, велела ей вытереть слезы, запереть дверь и прочитать всю заметку вслух. Бетси, часто усыплявшая свою госпожу чтением романов, развернула «Бультонс адвертайзер» и прочла:«РАЗБОЙНИЧЬЕ НАПАДЕНИЕ НА КОРОЛЕВСКОГО АДВОКАТА. МИСТЕР РИЧАРД ТОМПСОН ПАЛ ЖЕРТВОЙ ДОРОЖНЫХ ГРАБИТЕЛЕЙ. Вчера, на рассвете воскресного дня, купец из поселка Тренчберри, ехавший в Бультон, заметил на эдинбургском шоссе поврежденный шарабан. Заиндевелая трава и снежок, выпавший накануне, сохранили следы двух тел, которых волоком тащили сквозь кусты к обрывистому берегу Кельсекса. Пока купец осматривал место ночного происшествия, из Тренчберри прибыли помощник шерифа и констебль, ибо утром к ним явился кучер адвоката Томпсона, Арнольд Флетчер, и заявил, что неизвестные крестьяне-грабители ночью совершили нападение на экипаж и убили пассажиров. Сам Флетчер, сильно избитый грабителями, лишь случайно остался в живых и с трудом доплелся до Тренчберри. Флетчер объяснил, что цель поездки мистера Томпсона осталась ему неизвестной. Накануне вечером к адвокату явился один его знакомый из Эдинбурга, по имени Филипп Прейс, и вручил мистеру Томпсону письмо, чрезвычайно взволновавшее адвоката, после чего они вместе отправились в Эдинбург, заявив, однако, членам семьи мистера Томпсона, что следуют в Тренчберри. На глазах у Флетчера оба седока были убиты ударами дубин, а тела сброшены в реку. К вечеру того же дня энергичными усилиями полиции один из трупов, зацепившийся за корягу, был обнаружен под береговым льдом. В утопленнике был опознан мистер Томпсон. Тело его спутника из Эдинбурга пока не обнаружено, ибо сильное течение снесло его, очевидно, ниже, но черный плащ со следами крови, а также шляпа с надписью «Филипп Прейс» извлечены из воды. Лошади, загнанные и обессиленные, обнаружены в полумиле от Бультона. Очевидно, грабители добрались на похищенных лошадях до города. Преступление совершено, по свидетельству Флетчера, пятью или шестью разбойниками, что подтверждается и данными полиции. В последний час поступили новые сведения, де лающие это происшествие еще более загадочным. Установлено, что мистер Томпсон намеревался покинуть Англию. В распоряжении редакции имеются весьма интересные дополнительные материалы, не подлежащие опубликованию до окончания следствия».«Монитор», выходящий по вторникам, успел напечатать очень краткую хронику о похоронах адвоката. Бросалось в глаза отсутствие на похоронах городского мэра и судьи, а также других должностных лиц и почетных старожилов Бультона. Весь тон заметки был на редкость сухим. Виконтесса отослала Бетси и бросила газеты. При мысли о страшном конце Ричарда ее передернуло: «Ночь в лесу… Дубиной по голове… Ледяная вода… Брр!» Дверь приоткрылась. Генри Блентхилл стоял на пороге. Виконтесса нежно улыбнулась и протянула ему навстречу руки и губы, как маленькая девочка. Тот прикрыл дверь, заслонил ее своими плечами и сказал ледяным тоном: – Эллен, я пришел проститься. Обстоятельства требуют моего отъезда. – Вы покидаете меня, мой друг? – Тон виконтессы изменился. – Ну что ж, я отправлюсь в Ченсфильд одна. Надеюсь, что даже с раненым плечом и трусливой челядью я окажусь счастливее при встрече с разбойниками, чем атерни Томпсон. Прощайте, сэр! Двумя часами позже Генри Блентхилл распрощался с хозяевами дома. Родители Роберта позволили юноше проводить маркиза до Шрусбери. Утром следующего дня ворота замка Дональд-Корт закрылись и за графом Гарри Эльсвиком. Месье Леглуа тоже просил у лорда Артура разрешения сопровождать графа до Шрусбери, откуда он должен был вернуться вместе с Робертом.
5
Бультонский главный судья и городской мэр мистер Хью Бетлер только что выслушали отчет полицейского агента Слипа. Судья сидел в своем рабочем кресле, облаченный в черный костюм с позументами. Его судейский парик красовался на деревянной подставке, а мантия висела на дверце шкафа, еще не убранная после заседания. – Ричард Томпсон уже давно был нам подозрителен, – сердито проворчал судья. – Неблагоприятные сведения о нем накапливались у нас годами. Покажите мне записку, извлеченную из его корзинки под столом. Слип положил на стол перед судьей лист бумаги с наклеенными обрывками записки. Аккуратные руки полицейских чиновников разгладили и подклеили порванное письмо. Теперь можно было без труда прочесть следующее:«Мистер Т., податель этой записки, которого вы, вероятно, припомните по 73-му году, устно сообщит вам подробности нашего провала. Джордж Бингль в Ченсфильде разоблачен. Эдинбургская группа под угрозой. Дорог каждый час. Постарайтесь прибыть немедленно, но держите ваш отъезд в секрете. Если не можете прибыть лично, пришлите инструкции с мистером Филиппом Прейсом. В случае провала перебирайтесь в Ирландию, а оттуда – во Францию. В Нанте найдете приют.– Записка проливает свет на многое, – сказал судья. – Она свидетельствует о темных связях с шотландскими заговорщиками и их ирландскими и французскими помощниками. Нити ограбления Мак-Райля ведут к Томпсону. Обыск в его квартире показал обилие запрещенных, преступных книг. Найдены письма из Америки от какого-то эсквайра Мюррея. Имеются письма и от моряка-дезертира Эдуарда Уэнта… Заговорщики направили в дом к виконту этого Бингля, которого где-то скрывали до сих пор. Следовательно, и пожар верфи, и мятеж луддитов, и шотландский заговор – это все звенья одной тайной цепи. Заговорщики, с Томпсоном во главе, злоумышляли против всего Северного графства и его виднейшего деятеля – виконта Ченсфильда. – Но убийство Томпсона?.. – Это Божий суд над злоумышленником! Направляясь тайно в Эдинбург, чтобы, как свидетельствует эта записка, оттуда бежать за границу, Томпсон оказался одной из ночных жертв банды мятежных крестьян. Пособник негодяев сам пострадал от преступных рук. Так бывает нередко!.. Узнайте, Слип, что там за шум за стеной. Помощник шерифа вышел, но через несколько минут не просто вернулся, а влетел в комнату. – Милорд, – еле вымолвил он, – ужасная весть! Из Шрусбери получено известие… – Замолчите, Слип! – сердито прервал его судья. – Шрусбери – это уже не наш округ, а у нас пока достаточно собственных ужасных вестей. Вредно так волноваться из-за чужих забот!.. Ну, что же там такое сообщают из Шрусбери? Выслушав помощника шерифа, судья и сам переменился в лице. Бормоча проклятия, он на ходу накинул теплый плащ и выбежал из мэрии к своей карете.Ваши эдинбуржцы».
На небольшой полянке в нескольких милях от Шрусбери происходили последние приготовления к дуэли. Условия были решительными. Привязанные кони четырех джентльменов жадно грызли голые прутья кустов у подножия холма, с вершины которого открывался прекрасный вид. Утро было холодное; морозный иней густо покрывал порыжелую траву, примятую ногами соперников. Сэр Генри Блентхилл вложил в свой первый натиск всю силу накопившейся ненависти. Ему было сорок лет, дважды он бился в сражениях и в молодости уже стоял под пистолетом известных дуэлянтов. Шпага его с тяжелой рукоятью засверкала, как молния, и граф Эльсвик, проживший на свете почти вдвое меньше своего опытного противника, стал отступать. Клинок маркиза уже коснулся его груди, и кровь окрасила кружево сорочки. Дуэльные правила разрешали противникам разойтись, но Гарри Эльсвик упрямо мотнул головой и, парируя яростные удары, задел шпагой плечо своего врага. Злоба сэра Генри еще больше возросла. Он становился нерасчетливым. – Испанский выпад! – услышал он голос чужого секунданта и, отражая ложный выпад, чуть поскользнулся на мху. В ту же секунду граф Эльсвик, покачнувшись на своих длинных ногах, подался всем корпусом вперед, и острие его шпаги пронзило горло противника. Пятнадцатилетний Роберт Стенфорд не выдержал страшного зрелища. У мальчика подкосились ноги, и, как подрубленное деревце, Роберт в глубоком обмороке грохнулся наземь. Неожиданно для графа Эльсвика, еще не успевшего отдышаться, к нему бочком приблизился… его собственный секундант! Гарри Эльсвик в недоумении отступил, заметив обнаженную шпагу в руках француза. – Защищайтесь, граф, – прошипел месье Леглуа, – кровь дворянина Блентхилла требует мщения! – Вы с ума сошли, господин Леглуа! Позаботьтесь о вашем воспитаннике. Бедный мальчик лежит без сознания, и нужно привести его в чувство… Да стойте же, черт побери!.. Ах, вы все-таки нападаете? Тогда держитесь, месье, и, видит бог, я не хотел вашей смерти! Француз, памятуя некоторые инструкции, счел момент для их исполнения самым удачным: единственный свидетель – в обмороке, Эльсвик обессилен предшествующим боем и едва ли способен к серьезному сопротивлению!.. Вновь скрещенные шпаги зазвенели, высекая искры, новый бой закипел. Но французу пришлось убедиться, что он недооценил своего усталого противника: не прошло и двух минут, как граф Эльсвик ранил своего бывшего секунданта. Рана была не смертельной, но кровь хлынула обильно. Не разгадав тайных намерений француза и приписывая его неожиданное нападение простой горячности, Гарри… пожалел противника и отвел руку! Именно этого движения и ждал месье Шарль Леглуа… Его шпага блеснула и предательски вонзилась в грудь Гарри Эльсвика. Убитый рухнул, но и француз тоже ослабел от потери крови; он сделал несколько шагов в сторону и без чувств свалился на курчавый мох. Солнце уже клонилось к закату, когда старуха крестьянка, воровавшая хворост в казенном лесу, услышала жалобное конское ржание и заметила четырех породистых лошадей, привязанных у подножия холма. Она подошла ближе, глянула на лужайку и замерла от неожиданности. Два мертвеца со шпагами в окоченевших ладонях лежали на мху, и снежинки тихо ложились на окровавленное кружево шелковых сорочек. На костюмах и шляпах, брошенных среди кустов, виднелись позументы, пышные перья и украшения. Рядом с окровавленными трупами лежал без чувств красивый юноша, а чуть поодаль, упав ничком в сухой мох, тихо стонал еще один мужчина, раненный в правый бок. Когда старуха наклонилась над ним, он пришел в себя и прошептал: – Пришли сюда, матушка, лекаря и оповести здешнего графа и епископа. Часом позже на воинской повозке в замок Шрусберы были доставлены трупы двух благородных дворян Англии и раненый француз, месье Шарль Леглуа. Сюда же привели бледного, потрясенного юношу, который едва держался на ногах. Одновременно по трем дорогам, ведущим из Шрусбери, во весь опор помчались конные гонцы. Нерадостную весть везли они в замки Солейсхольма, Дональд-Корта и Уольвсвуда! Месье Леглуа поправился очень скоро. Благодетельная медицина восстановила силы экс-капитана для того, чтобы переместить его с больничной койки на скамью подсудимых. Суд происходил в Шрусбери. В зале присутствовало всего несколько дворян из ближайшей округи. Среди них был и девяностолетний маркиз, сэр Джон Блентхилл, оплакивавший сына Генри, чьи останки заняли в фамильном склепе место, приготовленное стариком для себя. Показания о подробностях рокового поединка давали обвиняемый, француз Леглуа, и свидетель, трактирщик из Шрусбери. Оказалось, что близ Шрусбери лошадь Генри Блентхилла вывихнула ногу, и это маленькое обстоятельство задержало его и Роберта в придорожном трактире. На следующее утро в этот трактир прибыл граф Эльсвик с месье Леглуа. Эта случайная встреча двух давно враждующих джентльменов оказалась роковой. Если в гостях у сэра Артура они еще сдерживали себя, то здесь уж ничто не могло их обуздать. Трактирщик слышал, как джентльмены заспорили о правах на какие-то угодья по Кельсексу, и граф Эльсвик нанес сэру Блентхиллу тяжелое оскорбление. Явившиеся в трактирную залу юный Роберт Стенфорд и месье Леглуа застали обоих дворян уже в жестокой схватке. Противников развели, причем Роберт и месье Леглуа пытались помирить врагов, решительно отказав обоим в просьбе принять на себя роль секундантов. Заподозрив, что ссора может окончиться поединком и без секундантов, месье Леглуа на следующее утро пытался проследить за обоими джентльменами, отправившимися на лошадях к холму в роще. Он тоже оседлал коня и спешился у холма, где противники уже обнажили шпаги друг против друга. Когда месье Леглуа призвал джентльменов к благоразумию, рассерженный граф Эльсвик ударил его шпагой, после чего бедный месье упал замертво и уж не видел, как джентльмены нанесли друг другу смертельные ранения, от которых оба и скончались. Следом за месье Леглуа на поиски джентльменов отправился и Роберт Стенфорд. Увидев место кровавого побоища, юноша от потрясения лишился чувств и был подобран шерифом в бессознательном состоянии. Суд даже не счел нужным привлекать его к следствию по этому делу, что, очевидно, было достигнуто не без влияния самого графа Артура. За сокрытие от властей приготовлений к дуэли суд приговорил экс-капитана к заключению в тюрьму на два месяца с последующей высылкой из Англии. После объявления приговора месье Леглуа послал прощальный кивок лорду Артуру и был уведен из залы. Небольшой кортеж дворянских карет и кровных верховых коней в тот же час покинул Шрусбери и рассеялся по его трем дорогам.
6
Гремя цепями, отдал якоря на бультонском рейде адмиральский фрегат «Виндзор», победоносно вернувшийся из четырехмесячного боевого похода. В этом походе эскадра контр-адмирала Райленда разгромила у берегов Канады девять кораблей восставших колонистов и их союзников – французов. Та же эскадра, состоявшая всего из пяти боевых судов, на обратном пути захватила два французских судна с грузами для армии генерала Вашингтона. Контр-адмирал Ченсфильд вернулся в Портсмут, не потеряв ни одного корабля, захватив и утопив одиннадцать неприятельских судов общим водоизмещением в тридцать тысяч тонн. Сам контр-адмирал был ранен в левую ногу и отправился для доклада в Лондон на носилках. Его величество наградил героя орденом Бани, возвел виконта в ранг адмирала флота и выразил свое удовлетворение по поводу исхода выборов по Северному графству. Из-за бессмысленной гибели двух кандидатов депутатское кресло в палате от этого графства занял достойнейший дворянин – виконт Ченсфильд. Король повелел новому командиру «Виндзора» вести фрегат в Бультон, чтобы доставить туда раненого адмирала и новоявленного депутата. На рассвете 30 марта жители Бультона, осведомленные заранее о прибытии знаменитого земляка, услышали орудийный салют «Виндзора» в сто один залп. На пирсе, украшенном флагами, выстроился для встречи адмиральского катера почетный караул. Огромная толпа запрудила набережную. Адмирал виконт Ченсфильд, прихрамывая, ступил на пирс и проследовал вдоль фронта почетного караула к большой карете, украшенной гербом с изображением отдыхающего льва и надписью «Et pacem bellum finit»*["102]. Мэр города, комендант гарнизона и все высшие должностные лица почтительно эскортировали славного бультонца. Супруга виконта, взволнованная и счастливая, ждала его в глубине кареты, и, едва лишь дверца захлопнулась, две нежные руки обняли шею мужа, облеченную в расшитый воротник адмиральского мундира. После первых поцелуев муж и жена глянули в глаза друг друга. – Знаешь, я ведь тоже была ранена в этой войне, – шепнула она с гордостью. – Я был уверен в тебе, моя золотая русалка, – ответствовал супруг. По случаю победного возвращения хозяина весь Ченсфильд пировал. Великолепная иллюминация затмила свет луны и звезд. В замковых залах гремела музыка, развевались перья, шелестели шелка, блистал бархат и атлас, усыпанный драгоценностями. На нижних террасах пировали даже крестьяне-арендаторы и челядь. К ночи, когда на милю вокруг Ченсфильда нельзя было встретить ни одного человека с прямой походкой, виконт поднялся в свой верхний кабинет. Вудро Крейг, ожидавший здесь хозяина больше двух часов, привскочил на своих культяпках. – Сиди и пей, Вудро, – сказал адмирал. – Ты привел тех троих? – Они внизу, в комнате за буфетом. Среди народа им лучше не показываться. Виконт приказал камердинеру привести трех человек из потайной комнаты. Гримльс и Венсли вошли робко. Они в смущении стали у порога, переминаясь с ноги на ногу. Алекс Кремпфлоу, в кружевах, лентах и пряжках, шагнул вперед и нагловато ухмыльнулся. Он был навеселе. – Ну, молодцы, – заговорил виконт, не обращая внимания на покушения Кремпфлоу поздороваться за руку, – я доволен вами. Одна змея издохла под вашими каблуками. У вас золотые руки, мистер Кремпфлоу (при этих словах «золотые руки» прекратили свои покушения и спрятались за спину). Вы станете компаньоном мистера Крейга. У вас будет квартира в «Белом медведе», экипаж и респектабельная жена по вашему выбору. Вы, Гримльс и Венсли, возьмите эти чеки и отдыхайте месяц. Затем вы отправитесь в Америку, в распоряжение капитана Бернса. Если к тому времени Каррачиола успеет прибыть туда из Капштадта, Бернс получит хорошее подкрепление. Там, в Голубой долине, у вас не будет недостатка в работе… по специальности. Мерч, проводите джентльменов за ограду… А ты, старик, – обратился виконт к владельцу «Чрева кита», – получишь свои пятьсот фунтов и гостиницу «Белый медведь». Завтра ты будешь распоряжаться ею, как полный хозяин. Теперь остается выручить этого молодчика Леглуа. Я хочу перевести его из Шрусбери в Бультон и посадить в камеру Бингля; может, в минуту откровенности тот проболтается. Начинка Бингля еще неясна. Вы с Джузеппе крепко в нем обманулись! – Да, Бингля мы не распознали. Его младший брат путался с Фернандо. Уж не к Меджерсону ли тянется нитка? – Ты правильно поступил, Вудро, что затуманил полиции мозги. Пусть эти господа воображают, будто Бингль – агент Томпсона и мифических шотландских заговорщиков. На этих днях суд приговорит Бингля лет на десять тюрьмы. За это время мы успеем прощупать, что он знает от Фернандо, и придумаем, как с ним поступить. Удавить его никогда не поздно, а может быть, парень еще пригодится. Позаботься, Вудро, о Флетчере. Пусть он побыстрее спивается до белой горячки. А клерк Дженкинс – полезный человек. Почерк он подделывает мастерски… Звук трубы за воротами замка раздался властно и требовательно. Виконт прервал беседу с Крейгом и приказал узнать, кто прибыл. – Королевский нарочный из Лондона, – доложил камердинер заикаясь. Виконт спустился в нижние залы. Весть о прибытии королевского посланца мгновенно облетела весь дом. Музыка на хорах смолкла, пары разошлись и смешались с группами зрителей у стен. Офицер королевской гвардии, сопровождаемый двумя гвардейцами, вошел в зал. Он окинул все общество внимательным взглядом и, узнав хозяина по адмиральскому мундиру, быстро направился к нему, держа в руках пакет с пятью огромными печатями из голубого сургуча. Виконт принял пакет и пожал руку посланца. Веселье не возобновлялось, пока адмирал, удалившийся в кабинет, читал королевский рескрипт. Через несколько минут мажордом, вызванный в кабинет, вернулся в зал и шепнул несколько слов капельмейстеру. Лицо мажордома сияло. Гости радостно заволновались, ожидая добрых вестей. Мажордом вышел на середину двухсветного зала, постучал об пол своим жезлом и провозгласил громко и торжественно: – Волею его королевского величества хозяину нашего дома, избранному депутатом британского парламента, адмиралу флота Фредрику Райленду, виконту Ченсфильду, даруется титул эрла*["103] Бультонского и звание пэра Англии. К личному гербу лорда Ченсфильда отныне присоединяется герб Бультона. Его королевскому величеству было угодно возвестить эту радость лорду Ченсфильду личным письмом, дабы он успел принять участие в ближайшем заседании верхней палаты! Дальняя дверь зала распахнулась, и лорд Ченсфильд, новый пэр Англии и эрл Бультонский, вошел в зал своей прихрамывающей походкой. Оглушительный оркестровый туш грянул ему навстречу, приветствия и рукоплескания раздавались со всех сторон, и в залах ченсфильдского дома возобновился веселый пир. После полуночи, разгоряченный вином, удачей и высшими почестями, лорд Ченсфильд прошел в свой верхний кабинет. Наружная стеклянная дверь вела из кабинета на маленький, полускрытый балкон. В парке уже гасли плошки и фонарики иллюминации. Мартовское небо синело сквозь черные прутья лип и хвойные лапы. Луч света из-за портьеры падал на снежок, слегка опушивший ветви парка. Леопард Грелли расстегнул мундир и жадно вдыхал влажный воздух. Снежинки, огромные и мохнатые, возникали в узком световом луче. За рекою и дальней рощей темнела гряда холмов. Там начинались земли соседнего поместья – Уольвсвуд… И высоко над грядою холмов, прямо перед взором Джакомо Грелли, стоял в небе огромный торс небесного охотника – Ориона, с алмазным мечом у трехзвездного пояса.16. Уроки мистера О’Хири
1
Укрыв лицо капюшоном плаща, Бернардито пробирался сквозь лесную чащу. Дождь сек листву и пенил коричневую воду ручьев. Старый корсар видел, как спина бежавшей впереди собаки, намокая, быстро темнела и превращалась из рыжевато-серой почти в черную. Все тропы на острове он знал так, что мог бы ходить по самым опасным местам с завязанными глазами. С легкостью юноши он перепрыгивал ручьи и ступал по скользким камням. Удобные сапожки из сыромятной кожи, какие шьют себе испанские пастухи в горах, защищали ноги Бернардито от шипов и колючек. Извилистая горная тропа вывела его к бухте, окруженной со всех сторон лесной чащей. Из-за кустов он бегло осмотрел бухту, совершенно пустынную, покрытую мелкой сердитой волной. Стон корабельного колокола, низкий и протяжный, снова пронесся над островом: за каменными мысами, образующими вход в бухту, терпело бедствие неведомое судно. Бернардито пустился бегом по левому берегу бухты. Уже совсем рассвело, но пелена дождя скрывала даль. Карнеро первым начал карабкаться по крутому склону мыса; охотник свистом отозвал собаку и взял ее на сворку. Шерсть у Карнеро вздыбилась – собака чуяла близость чужих, незнакомых людей. Островитянин добрался до вершины мыса и осторожно выглянул из-за камней. Ливневые струи наискось перечеркивали горизонт. В море, среди вспененных валов, раскачивались корабельные мачты. У старого капитана от волнения захватило дух. Ветер трепал пеньковые снасти на голых реях, похожих на почернелые кресты… Два корабля бились со штормом в водах пустынного острова. Бернардито на глаз определил, что обе шхуны – сравнительно недавней постройки, но оставили за собой не одну тысячу миль. Оба корабля высоко сидели в воде, полустертая красная черта ватерлинии то и дело мелькала над волнами; значит, трюмы кораблей были пусты или же содержали легкий груз. Корсар извлек из карманов складную трубу и разобрал надпись над форштевнем ближайшей шхуны: «Доротея». «Порт Бультон». Расстояние до этой шхуны не превышало двух кабельтовых; второе судно, несколько большего водоизмещения, смутно виднелось сквозь ливень правее и дальше. Оба судна вцепились якорями в морское дно и перекликались друг с другом звуком корабельных колоколов и сигнальных труб. На мостике и на палубе ближайшей шхуны капитан различил людей в плащах и зюйдвестках. – «Доротея», «Бультон», – пробормотал Бернардито. – Похоже, что это корабль Грелли. Бультон – это его резиденция, а Доротея – имя его возлюбленной… Не рычи, Карнеро, и не скаль зубов: на Леопарда нужно нападать молча, мгновенно и брать его сразу мертвой хваткой!.. Видать, его капитаны знают о проливе в бухту. А вот здешних ветров они, должно быть, не знают, иначе держались бы подальше от скал. Якорные цепи не выдержат, не будь я одноглазым Бернардито! Ага, Карнеро, они пробуют спустить шлюпку, чтобы разведать пролив… Вряд ли это им удастся! Носовая шлюпка, спущенная с перекошенных шлюпбалок, вошла в воду кормой и мгновенно перевернулась. Волна швырнула ее о борт, и, потеряв все банки, шлюпка ушла под воду. Осенний шторм усиливался. Якорные цепи с металлическим скрежетом терлись о клюзы. Когда высокий вал поднял шхуну на гребень, одна из трех цепей лопнула, и шхуну развернуло бортом к берегу. Капитан яростно потрясал кулаками на мостике. Кучка вахтенных матросов перебежала к носовому кабестану. Среди команды Бернардито разглядел человек шесть полуголых негров и какого-то бородатого матроса с нагим торсом почти шоколадного цвела. Женщина, закутанная в белый бурнус, похожий на одежду арабов, стояла на шканцах. Под нарастающим напором ветра и волн шхуна, удерживаемая на месте двумя кормовыми якорями, продолжала разворачиваться. В тот момент, когда матросы подготовили к погружению запасной якорь, две оставшиеся цепи лопнули одна за другой. Следующий вал подкинул шхуну на воздух и погнал ее на скалы. Штурвальный выпустил колесо, и шхуна, потеряв управление, с размаха наскочила на самый отдаленный от берега риф, почти скрытый под водой. Обе мачты рухнули вперед, едва не раздавив команду у кабестана. Чернобородый матрос перемахнул через борт, а следом за ним бросились в воду и матросы-негры. Бурная вода кипела у скал; ветер доносил брызги до самой вершины мыса. Борясь с волной, чернобородый плыл на боку, расчетливо держа направление не прямо к берегу, а чуть наискось, к горловине пролива Женщина в белом, стоявшая на шканцах, видимо, заметила среди волн голову пловца. Он махнул ей рукой… Все последующее свершилось почти мгновенно. Капитан, длинноногий, худой человек, мигом слетел с мостика и, вцепившись в перила фальшборта, выхватил пистолет. Из дула вылетел дымок, звук выстрела отнесло ветром. Капитан целился в чернобородого пловца. Женщина с быстротой дикой кошки бросилась на стрелка, ударила его по голове доской, отколовшейся от фальшборта, и спрыгнула в воду. Ее бурнус остался висеть на перилах; Бернардито успел разглядеть короткую белую тунику женщины, мелькнувшую в воздухе. Чернобородый был уже около женщины. Ветер, гнавший воду в пролив, помогал беглецам. Капитан и его помощник открыли стрельбу, но большая волна подняла разбитую шхуну с рифа и потащила прямо на скалы берега. Негры, выбравшие для бегства другое направление, удалялись вдоль берега, и корпус судна скрыл их из поля зрения Бернардито. Теперь все его внимание сосредоточилось на гибнущем корабле. Нос шхуны задрался и ударился о гряду камней перед мысом. Следующий огромный вал накрыл собою судно целиком. Затем вынырнули поваленные мачты, увитые снастями. Новый удар волны с огромной силой перекинул разбитый корабль через гряду на каменистый берег. Шхуна завалилась на борт, обнажив днище, пена клочьями свисала с темного корпуса, словно с боков загнанного оленя. Набегающие волны довершали разрушение корпуса. Вдалеке на миг мелькнули головы шести плывущих негров, потом уступ мыса скрыл их окончательно. Белых пловцов, мужчину и женщину, Бернардито тоже потерял; они, по-видимому, уже достигли пролива. Из-под взломанной палубы корабля показались десятки черных кудрявых голов. Люди выбирались из трюмов, заливаемых водой. Капитан избивал кого-то рукояткою пистолета. Рыжебородый человек, балансируя на обломках палубы, размахивал хлыстом. Десятка три белых матросов, успевших оправиться от перенесенного страха смерти, выгоняли негров на узенькую полоску прибрежных камней… По-видимому, разбитая шхуна принадлежала работорговцам. Старый корсар, удерживая собаку за ошейник, бегом пустился к берегу пролива. Выглянув из-за скалы, он увидел близко перед собою бугристые, сердитые волны. Они врывались в пролив, переполняли горловину, вздымались до середины береговых утесов и заливали расселины, оставляя пену на ветвях кустарника. Пловцы достигли уже середины пролива; здесь течение стихало, волна была меньше, но женщина уже ослабевала. Чернобородый поддерживал ей голову над водой. – Карнеро, принеси! – крикнул Бернардито и отпустил ошейник. Остроухий бросился в воду, а сам корсар, положив на камень штуцер, плащ и куртку, вышел из-за скалы и стал показывать чернобородому пловцу направление к ближайшей удобной площадке. Женщина ухватилась рукой за ошейник, и Карнеро уже плыл обратно, увлекая ее за собою. Чернобородый пловец все более отставал от сильного животного. Рука пловца была окровавлена; он тяжело дышал и, ныряя, долго не показывался из воды. Бернардито вошел по пояс в воду, подхватил полубесчувственную женщину, вынес ее на берег и уложил на своем плаще. Собака, отряхиваясь, взвизгивала и порывалась назад, ко второму пловцу, но не шла в воду: справа, со стороны отмели, среди мелкой волны, показалась длинная голова крокодила. Приближался он довольно медленно, очевидно полагая, что добыча не может ускользнуть. Пловец исчез под водой. Бернардито взял в зубы нож и нырнул. Тогда следом за хозяином кинулся в волны и Карнеро. В зеленоватой подводной мгле Бернардито заметил расплывчатое коричнево-белое пятно. Он схватил человека за волосы и с силой вытащил на поверхность. Вместе с Карнеро они преодолели последний десяток ярдов до берега и подтянули человека к полоске гальки между скалами. Горько разочарованному крокодилу Бернардито погрозил с берега штуцером. У спасенного пловца вылилось немного воды изо рта, и он задышал глубоко и неровно. Повиснув на плече корсара и поминутно спотыкаясь, человек сделал несколько шагов вверх по тропе и уже осмысленно взглянул на своего провожатого. – Отдохните и помогите женщине, – сказал ему Бернардито по-английски. – Карнеро, лежать! Ожидайте меня здесь и не трогайтесь с места, если не хотите попасть на глаза своему капитану. Оставив собаку около спасенных, Бернардито снова поднялся на вершину. Разбитая шхуна находилась в прежнем состоянии. Все прибрежные камни были усеяны чернокожими. Матросы уже распоряжались выгрузкой на камни каких-то тюков и ящиков. Второе судно едва темнело сквозь мглистую дымку. Капитан этого корабля, видя, что якоря не удержат напора стихий, решился на смелый маневр. Грязное полотно кливера всползло над бушпритом и затрепетало в штормовом вихре. Другой парус до половины развернулся на марсовых реях. Кабестан завертелся, носовые якоря пошли вверх, и, нацелившись на пролив, судно двинулось вперед, волоча за собой по твердому грунту кормовые якоря. Когда до горловины пролива осталось полтора кабельтовых, цепи якорей лопнули. Волны вокруг корабля бесились, грозя размозжить его о камни. Толстый моряк в капитанском мундире махнул рукой с мостика. Матросы, сгрудившиеся на носу, опрокинули по обе стороны форштевня несколько бочек растопленного жира. Маслянистая жидкость разлилась по бурной воде, и яростные волны вокруг корабля на мгновение стихли. Перед шхуной открылась горловина пролива с успокоившейся, чуть бугристой и рябой от дождя поверхностью. Корабль в секунды преодолел расстояние до горловины. Шквал ветра врывался в нее, словно в узкую трубу. Он сорвал паруса и погнал шхуну с быстротою стрелы. Если бы пролив был прямым, корабль благополучно влетел бы в защищенную бухту, но узкий рукав изгибался влево, и маневр поворота не вполне удался. Послышался треск, корму с белой надписью «Глория» занесло на камни, руль шхуны разлетелся в щепы. Ударом снесло грот-мачту, проломило обшивку над ватерлинией. По инерции «Глория» сорвалась с камней и, благополучно миновав край песчаной отмели, достигла бухты. Шхуна не потеряла плавучести, днище ее уцелело. Мелкая волна в бухте, похожая на речную, заплескалась у изуродованных бортов. «У этой «Глории» добрый капитан и недурная команда, – рассуждал Бернардито. – «Порт Бультон»! Значит, оба судна следуют вместе… Потеряли два якоря, мачту, руль и получили дырку в корме. Отделались недорого! Бросили якорь… Пора убираться отсюда. Они начнут рыскать по острову и найдут хижину!» Бернардито не застал спасенных на прежнем месте. Когда «Глория» показалась в проливе, чернобородый мужчина оттащил женщину подальше от берега и укрылся за камнями. Собака настороженно следила за чужими людьми и угрожающе рычала, когда они двигались. – Хватит ли у вас сил, чтобы очень быстро пойти следом за мною по лесным тропам? – спросил островитянин. Женщина первой поднялась на ноги. Мокрый костюм ее был необычен и не имел ничего общего с дамским нарядом европейского покроя, но лицом она походила на француженку или итальянку. На Бернардито она посмотрела пристально, и такое сильное волнение отразилось в ее лице, что старый корсар испытал некоторое смущение. Однако положение было слишком критическим, чтобы задерживаться хоть на минуту. Женщина помогла своему спутнику встать на ноги. Его раненая рука была уже перевязана обрывком влажной туники. Теперь Бернардито разобрал, что перед ним – совсем молодой человек, едва ли достигший двадцати лет. Черная борода и давно не бритые щеки придавали ему более зрелый вид. Незнакомке на вид было лет тридцать. На ее лице, красивом и тонком, легко читались следы лишений. Бернардито быстро повел незнакомцев через лесную чащу. Они с трудом продирались сквозь колючие кустарники. Буря качала деревья, обдавая путников холодными брызгами. Свой старый плащ Бернардито отдал женщине, и шипы изорвали его куртку в несколько минут. Труднее всех пришлось полуголому незнакомцу, весь наряд которого состоял из черных матросских шаровар и грязного красного пояса. Наконец путники выбрались на тропу. Бернардито повел их к лесному озеру. Непроходимая чаща бамбуковых зарослей раскинулась перед ними на полмили. Под ногами захлюпала болотная жижа. – Ступайте вперед, держите направление на тот далекий утес. Пробираться будете по пояс в воде, но в середине болота, если вы правильно возьмете направление, наткнетесь на песчаный островок. Скройтесь там и ждите меня. Собака останется с вами. Я принесу вам поесть и отведу потом в безопасное место, в горы. Если вы готовы драться с вашими врагами, то возьмите это ружье и нож. Полуголый человек схватил ружье. – Драться я буду до последней искры жизни, – сказал он решительно. – Доротея, узнаешь ли ты это ружье? Мистер Фред, перебираясь на «Орион», оставил его в хижине на острове. Раньше этот штуцер принадлежал Джакомо. – Дай мне нож, Антони, – глухо произнесла женщина. – Я не вернусь к ним живой. Странная догадка озарила Бернардито. Уж не синьора ли Ченни перед ним? Но Антони – близкий сподвижник и любимец Грелли, а его сестра – любовница Леопарда. Из чьих же рук вырвались эти люди? Однако рассуждать и проверять догадки было некогда. Мальчик один сидел в пустой хижине; неведомые пришельцы с работорговых шхун ежеминутно могли обнаружить жилище охотников… – Синьор, назовите ваше имя! – крикнул молодой человек вслед удаляющемуся охотнику. – Это вы узнаете, когда будете в безопасности, – отвечал Бернардито, и заросли бамбука сомкнулись за ним. Собака метнулась было к нему, но он резко послал ее назад, указав направление в глубину болота.Шестеро негров благополучно преодолели полосу прибоя у скал и выбрались на сушу. Эти беглецы с разбитой шхуны тоже поспешили укрыться в лесу. Здесь они чувствовали себя уверенно, как дома! Вся шестерка принадлежала к числу самых лучших охотников большого племени с берегов Конго. Углубившись в чащу, воины стали вооружаться первыми попавшимися средствами самозащиты – палками, сучьями и острыми камнями с зубчатыми гранями. Несколько часов они провели на деревьях, прислушиваясь к лесным шорохам. Перед закатом они тронулись в путь через заросли. По лесу они двигались, как безмолвные черные тени, и ни одной царапины не появилось на стройных матово-черных телах. Лес поредел. Плоскогорье стало понижаться; большие деревья уступили место низкорослым кустарникам; болотная вода стала проступать из-под ног, и в лучах проглянувшего вечернего солнца беглецы увидели сплошные заросли бамбука. Внезапно один из негров предостерегающе поднял руку. Он заметил на болоте следы двух человек, прошедших здесь не позднее полудня. В ту же минуту из зарослей выскочило громадное серое животное. Оскалив страшную пасть, зверь кинулся на чернокожих. – Бросьте оружие! – раздался голос из-за кустов. Слова эти были произнесены на киши-конго – родном языке черных воинов. Чернобородый Антони показался из чащи. – Бросьте дубинки, друзья, иначе этот дьявольский пес перервет вам глотки. Назад, Карнеро! Идите за мной… Антони повел беглецов через болото к песчаному островку. Собака, проявляя сильнейшее беспокойство, шла по пятам за людьми, с вожделением посматривая на мелькающие икры. Карнеро несколько успокоился и перестал рычать, когда черные воины уселись рядом с двумя белыми людьми под бамбуковым шалашом. Антони и Доротея успели прикрыть свое легкое сооружение листьями огромных папоротников. Едва кто-нибудь из сидящих пробовал пошевелиться, бдительный Карнеро угрожающе рычал, и всем поневоле приходилось сидеть смирно, словно школьникам под охраной сердитой классной дамы. – Антони, – говорила женщина своему спутнику, и голос ее дрожал от волнения, – я уверена, что не ошибаюсь. Это он, тот самый человек. Я всего на один миг выглянула тогда в окно каюты, но лицо его запомнилось мне на всю жизнь. Говорю тебе, Антони: человек этот – пират Бернардито Луис, укравший моего Чарли. – Дороти, это невозможно. Я сам видел следы их трупов. Не терзай себя напрасной надеждой, бедная моя сестра. Я не знаю, кто этот островитянин с завязанным глазом, но Бернардито погиб в пещере вместе с ребенком. Он хотел помочь мистеру Фреду, но не предвидел лавины и обвала. – Как же попало в руки этого человека ружье Джакомо? – Когда «Орион» покидал остров, мистер Фред оставил в хижине полное снаряжение. Он думал, что, может быть, судьба вновь забросит сюда одинокого мореплавателя, и даже положил на стол записку: «Неведомому другу от трех первых жителей острова». – Но почему у этого человека тоже завязан глаз? Почему он скрывается от капитанов кораблей? – Может быть, он сам расскажет нам об этом. Одно я знаю твердо: капитан Бернардито уже шестой год спит в могиле. И могилу эту я видел своими глазами. Внезапно Карнеро кинулся в заросли. Фигура Бернардито, обвешанная оружием, появилась из кустов. Негры, заранее предупрежденные Антони, встали перед неведомым «хозяином острова» и поклонились ему. – Вы разговариваете так громко, что сами выдаете свое убежище. Я невольно подслушал вашу беседу. Усадите-ка ваших чернокожих друзей, господа! Такие низкие поклоны отдают только их страшным богам, а не воскресшему пирату. Некоторые мертвецы, синьор Антони, ухитряются воскресать даже по два раза… Синьора Доротея, надежды ваши не напрасны. Ваш сын жив, и через час вы обнимете его… Антони, да поддержите же синьору, ей дурно! Бедняжка, она уже без сознания. Ступайте вперед, нам нужно скорее добраться до гор. Я сам понесу вашу сестру.
2
Мистер Вильсон, капитан «Глории», сипло командовал разгрузкой. Шхуна стояла в бухте Корсара. Три шлюпки непрерывно крейсировали между берегом и кораблем. Вечернее солнце золотило воду, ветер улегся, и только валы мертвой зыби бились в каменную грудь мысов. Стало жарко. Рои москитов наседали на лица и руки моряков. Уже все негры из трюмов «Глории» были высажены на берег и рубили лес под охраной двух десятков матросов. Поодаль работали спасенные с «Доротеи». Между работающими бродили надсмотрщики, суданские арабы и берберийские туареги с бичами в руках. В больших черных котлах, подвешенных на жердях, варилась пища. Шлюпка доставила с берега на борт «Глории» сухопарого капитана Хетчинсона, рыжего американского ирландца О’Хири и еще нескольких моряков с погибшей шхуны. Вильсон пригласил их в каюту своего помощника, датчанина Оге Иензена. – Велики ли повреждения «Доротеи»? – осведомился капитан Вильсон у своего коллеги. Хетчинсон вздохнул. – Велика ли дырка в разбитой бутылке? – сердито проворчал О’Хири. – Мы утопили свои барыши, черт побери! Дернуло вас лезть на скалы, Хетчинсон! Весь излишек негров, который мы решили утаить от Райленда, теперь на дне… И еще эта сбежавшая француженка… За нее можно было взять хорошие деньги… – Не стоит ссориться, джентльмены, – примирительно сказал Вильсон. – Француженка никуда не денется от нас на этом островке, если только не утонула. Вы подсчитали негров на берегу, мистер О’Хири? – С обеих шхун высажено сто двадцать мужчин, триста женщин и около сотни подростков. Уцелевшую мелочь не подсчитывал, ее осталось немного. Хетчинсон утопил этих ребятишек в трюме, как щенят, а в придачу еще семьдесят матерей и столько же мужчин. Штук полтораста утонуло, а может быть, и сбежало… Скверно! – Ну, брат, в нашем деле – где найдешь, где потеряешь… Досадно только, что утопили-то мы негров мистера Райленда, тех, что присланы сюда для островной плантации, а наши две сотни лишка остались у Каррачиолы в Капштадте… «Доротее» теперь конец, а мою «Глорию» будем чинить месяц. Как бы тем временем Каррачиола не уплыл с неграми в Америку. Вот тогда-то плакали наши денежки за весь избыток чернокожих! Ваше мнение, мистер О’Хири? – Никуда он без нас не уйдет! Закуплено много грузов для островной плантации. Не бросит же он все в Капштадте? Волей-неволей придется ему ждать возвращения наших посудин с острова или идти сюда следом за нами. – В Капштадте хозяева алмазных копей давали по тридцать фунтов за штуку. Надо было продать весь избыток чернокожих там, на месте, и делить деньги сразу. Нечего было слушать Каррачиолу… Дескать, в Америке продадим вдвое… Вот и продали… рыбам! – Мистер Вильсон с досадой кивнул на сверкающую воду бухты. – Вы отрядили погоню за беглецами? – помолчав, спросил О’Хири у Хетчинсона. – Да. В полдень шесть человек с боцманом Броуном отправились в лес на охоту. К вечеру всех поймают. – Сомневаюсь… – возразил О’Хири. – Ничто не выгонит их из чащобы. Остров достаточно велик, чтобы и укрыться и найти себе пропитание. Полагаю, что завтра придется устроить облаву всем экипажем. Обшарить придется весь остров. Нужно поймать и французов. Экая досада, что они удрали! Вы видели их, Вильсон? – Нет, я только здесь и узнал, что у вас на борту были двое белых из погибшей экспедиции «Святого Антуана». Почему вы не показали их Каррачиоле в Капштадте, мистер О’Хири? – Понимаете, Вильсон, я сам обнаружил их только по пути из Капштадта на остров. Вы помните, как мы грузились на Заире? Ночь, сутолока… «Доротея» приняла две сотни мужчин для острова и все бабье с мелюзгой. Эти двое при погрузке затерялись среди чернокожих; в трюме они все время прятались в самой гуще. В Капштадте мы не простояли и суток, а по пути сюда матросы стали пошаливать с черными красавицами и выволокли на палубу эту француженку. Тогда и спутник ее обнаружил себя. До тех пор они оба обматывали лица тряпьем. Оказалось, что они попали в плен к неграм и прожили четыре года среди племени Конго. Вместе с неграми они угодили в наши руки. Она назвалась Мартой Сабо, а он – Франсуа Пише. Этого Франсуа Пише и шестерых здоровенных негров я заставил работать наверху; он толковый матрос, знает все эти негритянские тарабарские языки и научил негров работать с парусами. У нас не хватало матросов. А женщину я решил приберечь для себя. Она была сиделкой в больничной каюте на «Святом Антуане». Красивая особа, но… с характером, чертовка! В любой части света на нее нашлись бы покупатели. Я рассчитывал взять за нее хорошие деньги. Хетчинсон все испортил этим крушением! – А эти ваши матросы-негры… покинули вас, мистер О’Хири? – Да, покинули, черт возьми! Одновременно с французами. Хетчинсон стрелял, да, кажется, промахнулся. – Вероятно, этот промах мистера Хетчинсона придется исправить после поимки, – задумчиво сказал Вильсон своим осипшим голосом. – Мистер Райленд не любит лишних свидетелей. – Если они оба живы, то француз пригодится на плантации как переводчик. Бежать отсюда трудно. Ну а если заявится сюда какое-нибудь чужое судно, тогда этот месье Франсуа… получит свою порцию. Однако для этого его нужно сначала вернуть. Оге Иензен погрузился в свои воспоминания. Ему вспомнилась некая не столь давняя весна, дорога в Афины, укромная бухта, шхуна Каридаса и лодка с маленьким сыном того человека, чья могила находится на этом острове… Он, Оге Иензен, стрелял из шлюпки в этих людей, ибо так велел ему Каррачиола… Кто-то вскрикнул на лодке… Потом появился лейтенант Уэнт с баркасом… Неудачно все получилось… В каюту ввалился боцман «Доротеи». – Поймал беглецов? – насмешливо спросил О’Хири. – Пока нет, – прогудел боцман смиренным тоном. – Но в лесу я нашел хижину. Судя по всему, жильцы покинули ее несколько часов назад. Пока мы осматривали хижину, в ограду вбежала черная собака с обрывком веревки. Мы поймали ее и привели с собой. – Значит, островок-то обитаем, джентльмены? – в недоумении спросил О’Хири. Иензен вышел на палубу. Неожиданно все сидящие в каюте услышали с палубы радостный собачий лай и возгласы Иензена: – Нерон, Нерон! Черная собака неизвестных островитян визжала и ласкалась к датчанину. – Да это же наш старый Нерон, пес с «Ориона»! Он потерялся тогда, во время раскопок. Нерон, собачий сын, значит, ты стал островитянином! И звери тебя не сожрали! – Мистер Хетчинсон и мистер О’Хири, – сказал Броун, – полагаю, что эта покинутая хижина подойдет вам под жилье. На «Глории» будет слишком тесно для всех нас.В полной тишине, под мерцающими звездами, двигалась вверх по ущелью небольшая группа путников. Впереди бежала собака. За нею шел Антони Ченни, ощупывая дорогу палкой. Капитан Бернардито нес бесчувственную женщину на руках. Шесть голых негров замыкали шествие. – Вы хорошо запомнили этот путь по ущелью, Антони, – заметил Бернардито. – Еще бы, синьор, мы с мистером Фредом каждый день ходили этой тропой на раскопки вашей пещеры. Кажется, все это было так недавно, а ведь прошло уже почти шесть лет… Скажите, синьор, Чарли еще помнит свою мать? – Антони, прошлое он забыл. Ребенок не помнит отца. А смутное представление о матери я создал заново в его детском уме. Я сохранил в его памяти облик «кормилицы Доротеи» и приучил мальчика связывать его с понятием «мама». Я давно задумал вернуть мальчишке мать, если только вырвусь отсюда живым… Но при одном условии: не открывать Грелли тайну спасения ребенка. Этот мальчик послан мне самой судьбой для свершения давнишней цели. Мать – не помеха мне, если она не откроется перед Леопардом. Они молча стали взбираться по каменистой лесной тропе. Низко над ущельем висел ущербный месяц. Скоро лес кончился. Горный луг с высокими травами темнел справа. Далеко внизу, отражаясь в водах бухты, мерцали огни «Глории». Бернардито присел со своей ношей на ствол поваленного дерева. Голова женщины лежала у него на плече. – Зачерпните воды из источника, нужно привести вашу сестру в чувство. Она совсем обессилела: какой глубокий, долгий обморок! Доротея открыла глаза, увидела звезды, мрак и склоненные головы Антони и Бернардито. Как только сознание вернулось к ней, она вцепилась в поддерживающие ее руки. С губ ее стали срываться бессвязные слова, глухие, как стон: – Куда вы привели меня? Вы все меня опять обманываете. Его нет! Скажите правду: жив мой мальчик? Где Чарли? Бернардито снова поднял женщину. Теперь она билась и дрожала в его руках. – Успокойтесь, синьора Доротея! – Волнение женщины смутило Бернардито. Даже ближайшие друзья сейчас не узнали бы голоса своего сурового капитана. – Еще несколько минут – и вы увидите своего мальчика, подросшего и здорового. Маленькое путешествие под землей – и мы будем дома. Ваш мальчик стал мне вместо собственного сына. Ведь у меня никогда не было детей, синьора! Шедший впереди Антони резко остановился. – Стойте! – воскликнул он. – Дороти, синьор капитан не знает, что у него вырос сын! Бернардито от неожиданности споткнулся и чуть не уронил свою ношу. – О чем говорит ваш брат, синьора? Что означают ваши слова, Антони? – Капитан, может быть, я напрасно заговорил об этом в такую минуту, но мне в точности известно, что в Пирее живет ваша мать, сеньора Эстрелла Луис, со своим внуком Диего Луисом эль Горра. Ему сейчас… постойте… десять лет. Он родился в Пирее осенью 1768 года. Его мать… вот горе! Память мне изменяет… Какое-то звучное греческое имя… Ее звали… – Зоэ… – подсказал Бернардито. – Да, да, Зоэ! Ее уже нет в живых, капитан… Она спит на греческом кладбище в Афинах. Зоэ умерла во время родов вашего сына, маленького Диего, когда вы были уже на этом острове. Донье Эстрелле давно дали знать о вашей гибели, но она не верит, ждет вас и рассказывает маленькому Диего историю ваших старых подвигов. Все это я узнал в Ливорно летом семьдесят четвертого года. Даже адрес сеньоры Эстреллы мне запомнился: Пирей, Афинская дорога, предместье, дом купца Каридаса. – Купца Каридаса? Георгия? Моего марсового с «Жемчужины»? Когда-то я подарил ему старую шхуну «Светозарная». Уж не тот ли это Каридас? – Капитан! Все, что я сейчас рассказал, я услышал в Ливорно от юнги шхуны «Светозарная» Томаса Бингля. Этот паренек – друг вашего маленького сына. Донья Эстрелла рассказывает обоим мальчикам про капитана Бернардито. – Диего Луис эль Горра! – медленно произнес старый корсар, вслушиваясь в эти слова. – Сын моей Зоэ! Мы расстались с ней в декабре 1767 года… Небо! Ты щедрее на милости, чем я мог ожидать! Какими горами сокровищ я должен отплатить тебе за эту весть, юноша?.. Не бойтесь, синьора, это не пропасть, а всего лишь вход в потайную пещеру. Держитесь за мою шею, я понесу вас руслом подземного ручья. Здесь темно, как в склепе, но дальше, за поворотом, горит факел. Голос Бернардито уже раскатывался под сводами тоннеля. Негры, один за другим, с опаской ныряли в черный зев подземелья.
Корабельный фонарь освещал своды тайника. Глубокое безмолвие царило в подземных коридорах и тоннеле. Лишь поток слабо журчал на самом дне. Пролом в стене, некогда вырубленный капитаном Бернардито, был изнутри завешен волчьей шкурой. Мальчик вслушивался в гулкую тишину подземелья. В тайнике было светло и тепло. Бернардито давно приготовил это тайное убежище на случай внезапной высадки врагов. Стены и пол пещеры устилали звериные шкуры. Связка одеял лежала в углу. В очаге, выложенном из камней, тлели древесные угли, и еле уловимый дымок уплывал в тоннель и подземные ходы. Запас угля и сухого, как порох, хвороста был сложен в углу. Над огнем кипел в котелке отвар из сушеных ароматных трав; напиток этот заменял островитянам кофе и чай. Продовольствие помещалось в нишах, вырубленных в слоистом шифере стен. Тут же находилось оружие, перенесенное из хижины. Одиночество сегодня особенно тяготило мальчика. Трудно было лежать здесь, на шкуре, одному, когда на острове творятся такие важные дела… Мальчик поднялся со своего ложа, подошел к пролому и отогнул край завесы. Свет упал на противоположную стену и озарил дно тоннеля. Последние летние месяцы выдались жаркими, дождей выпало немного; ручей в тоннеле почти пересох, и весь подземный путь до тайника был сейчас нетрудным. Вдалеке послышался шорох, затем человеческие голоса, измененные эхом. Длинная тень метнулась по дну тоннеля, и по знакомому урчанию мальчик узнал свою собаку. Красноватый отблеск мелькнул из-за поворота, и голоса стали ближе. Наконец в тоннеле показались люди. Их было много! Чернобородый человек, обнаженный до пояса, нес факел. Он заслонял высокую фигуру дяди Тобби, который держал на руках чье-то тело, завернутое в старый плащ. Позади гуськом пробирались голые люди, черные, как уголь. Мальчик откинул волчью шкуру и торопливо спустил из пролома легкую бамбуковую лесенку. В два прыжка Карнеро очутился в тайнике, завертелся около мальчика, взвизгивая и норовя лизнуть его в лицо. Но сейчас мальчику было не до Остроухого! Дядя Тобби, покидая тайник, чтобы отправиться за спасенными, говорил странным голосом совсем странные вещи. Он откинул со лба мальчика прядь волос, посмотрел ему в глаза и спросил: – Сынок, хочешь уйти с этого острова и увидеть большие города и дальние страны? – Я хочу увидеть их вместе с тобой, дядя Тобби. Ты ведь не отдашь меня тем чужим людям, что приплыли на кораблях? – Не говори вздора, мой синьорито. Легче мне потерять последний глаз, чем лишиться тебя. Но скажи, если бы твоя мать прислала за тобой, ты обрадовался бы? – Мама? Значит, это она прислала корабли? О, дядя Тобби, я хочу скорее увидеть ее! И мы всегда будем вместе, с матерью и с тобой! Правда, дядя Тобби? Бернардито крепко прижал мальчика к груди: – Оставайся с богом, мой синьорито, держи лестницу наготове и жди меня. Я приду не один и принесу тебе большую радость! С такими словами дядя Тобби ушел. А теперь Карнеро мешал мальчику приготовиться к важной встрече. Внезапно ребенок вздрогнул. Всего несколько слов донеслось из тоннеля, но одно из них вызвало смятение в самой глубине детского сердца. Произнес его дядя Тобби. Это было имя, уже полузабытое… – Дороти, мы постоим здесь. Поднимитесь к нему, он ждет! Мальчик стоял посреди пещеры. На нем была белая курточка из козьей шкурки и короткие штаны. Темные локоны падали на плечи, загорелые щеки порозовели от волнения. Вдруг волчья шкура над входом резко отлетела в сторону. Женщина с горящими глазами упала рядом с ним на колени. Теплые ладони сжали лицо мальчика. Он ощутил прикосновение горячих мокрых щек, залитых слезами. Высвободив руку, мальчик смущенно и неловко тронул пушистые волосы женщины, чуть отстранился от заплаканного лица и, заглянув в самую глубину близких, безумно счастливых глаз, впервые в жизни задыхающимся шепотом произнес: – Мама!
3
На рассвете следующего дня Бернардито, Антони и старший из беглецов негров, чернокожий исполин Нгуру, осторожно подкрались к берегу бухты. Густолиственная, сплошная чаща зарослей скрывала их от стражи работорговцев. Глазам разведчиков представилось малопривлекательное зрелище невольничьего лагеря. Среди кустарников и мелколесья, прилегающего к береговой полосе бухты, была расчищена большая площадка. Сотни две женщин возводили частокол из жердей и бревен с обожженными, заостренными концами. На двух противоположных углах этой площадки возвышались уродливые сооружения на длинных столбах. Это были наблюдательные вышки для стражи – первые образцы европейской архитектуры, воздвигнутые колонизаторами на новой земле. Стражи, по двое на каждой вышке, расположились под пальмовыми листьями навесов и положили на плетеные перила длинные ружейные стволы. Первые форпосты цивилизации на острове Райленда были созданы! Возле двухстворчатых ворот уже стояла будка, сплетенная из прутьев и веток и похожая на высокую корзину. В ней укрылись еще два вооруженных матроса. Изгородь вокруг лагеря еще не была закончена, и десятка два матросов окружало площадку, дабы кому-нибудь из негров не взбрело в голову поискать себе на острове другое пристанище. Пять больших хижин быстро вырастали на огражденном пространстве. Черные чугунные котлы висели на длинном бревне над пылающим костром. Несколько черных женщин занимались стряпней под надзором корабельного кока «Доротеи», явно сконфуженного подобными обязанностями. Поодаль, на левобережье бухты, то и дело мелькали верхушки падающих деревьев. Здесь тоже расчищали площадь под строения и поля будущей плантации. Разведчики, затаившись в кроне высокого дерева, видели, как мистер Хетчинсон повел большую группу невольников к месту крушения своего корабля, для спасения остатков груза. На опушке леса отряд негров был занят распиловкой бревен. Солнце нещадно жгло лоснящиеся от пота черные спины пильщиков. Одни стояли на помосте, другие – внизу, на земле. Мерно сгибались туловища. Вверх – вниз, вверх – вниз сновали маховые пилы, вгрызаясь стальными зубьями в толстые бревна. Уже два больших штабеля свежих досок лежали по обе стороны помоста. Два надсмотрщика с длинными бичами расхаживали между штабелями. Один из верхних пильщиков, широкоплечий негр, устало выпрямился и отер катившийся с лица пот. Надсмотрщик Урикон, бывший жрец, что-то крикнул невольнику. Тот, не обратив внимания на оклик, подошел к самому краю помоста, зачерпнул черепком воды из деревянного бочонка и сделал несколько глотков. Урикон вытянул негра бичом по спине, и тот, потеряв равновесие, упал с помоста. Охваченный гневом, он вскочил и запустил черепком в лицо надсмотрщику. К месту драки побежал белый матрос. Негр перепрыгнул через гору опилок и кинулся к ближайшим зарослям. Грянул выстрел, пуля угодила беглецу в ногу, но он, хромая, продолжал бежать. Урикон с рассеченной бровью в несколько прыжков догнал раненого и свистящим ударом бича свалил его с ног. Матросы поволокли несчастного к лагерю. Не прошло и пяти минут, как тело пильщика повисло на суку высокого дерева. Под ногами повешенного вспыхнул хворост, опаляя его скрюченные ноги. Затем матросы разошлись по местам с равнодушными лицами. А пилы продолжали ходить вверх-вниз, вверх-вниз, будто ничего не случилось. Притаившись на дереве, Антони чуть не плакал от ненависти и отвращения. Перед наступлением вечера работорговцы согнали невольников с площадки будущей плантации и с разборки грузов «Доротеи» в одну кучу. Пинками, ударами бичей, поминая сатану и всех святых угодников, матросы выстроили негров в одну общую колонну и раза три пересчитали эти пять-шесть дюжин перепуганных голых людей: с арифметической точностью матросы были явно не в ладах! Стало смеркаться. На мачтах «Глории» зажглись топ-огни. Щелкая бичами, работорговцы загнали невольников за ограду. Поужинав отвратительным ячменным варевом, без ложек и посуды, полуголодные люди вповалку улеглись под жидкими навесами. Вскоре детский плач и причитания матерей стали стихать. Бернардито и оба его спутника спустились с дерева и осторожно двинулись в обратный путь. Вдруг на лесной тропе, ведущей к хижине островитян, послышались голоса. Разведчики замерли в чаще. Антони узнал О’Хири, Иензена и Хетчинсона. Они шли с несколькими матросами к хижине, громко толкуя между собой. – Куда провалились эти островитяне? – говорил О’Хири. – Уже второй день они прячутся от нас. Судя по утвари и количеству скота, здесь жило несколько человек. – Вероятно, это остатки экипажа какого-нибудь судна. Мне не нравится их поведение, черт бы их побрал! – Что вы предлагаете? – спросил Хетчинсон. – Десять поисковых партий обшарят сегодня ночью каждый кустик на острове. Вы, Иензен, с вашими людьми обыщите ущелье. Собака островитян поможет вам… Голоса работорговцев стихли. Бернардито и его спутники еще несколько минут с большой осторожностью крались вслед за ними, но те подошли к хижине и шумно ввалились в нее. Разведчики свернули в лесную чащу. – Наш Нерон может оказать нам сегодня плохую услугу, – проговорил Бернардито. – Бестолковый пес вчера улизнул от Чарли и, оказывается, попал к этому горилле Иензену. Расскажите мне, Антонио, кто он, этот датчанин? Я его видел еще на шлюпке с «Ориона». Язык у него неповоротлив, но кулаки – с доброе пушечное ядро!Десять матросов во главе с Оге Иензеном шли вверх по ущелью. Иензен держал на сворке черного пса и тихонько с ним разговаривал, будто с добрым старым знакомым: – Веди нас, Нерон, веди… На «Орионе» ты был очень вороват, мой друг, и таскал у матросов сыр… О, я узнаю это место! Где-то здесь находится одна могила… – Что вы там бормочете, Иензен? – недовольно осведомился один из матросов. – Какую могилу вы поминаете? – Я говорю: здесь недалеко могила одноглазого Бернардито… – Что? Стой, ребята! Если вам, мистер Иензен, охота ломать себе шею, тогда лезьте за этим проклятым черным псом, а я не сумасшедший, чтобы ночью идти к могиле Бернардито. – Мертвые не мстят, – успокоительно сказал Иензен. – Дух Бернардито не потерпит ночных гостей. Глядите, Иензен, пес скалит зубы! Он ухмыляется! Разрази меня гром, если он не ухмыляется! Провалиться мне на месте, если его не подослал к нам сам мертвый Бернардито! Видите, какой он черный? Клянусь рогами сатаны, это оборотень! Бросьте эту собаку, Иензен, пусть она бежит к дьяволу! Пока не поздно, нужно поворачивать оглобли, а то как бы наши кости не загремели на дне этой кручи. Красный серп месяца выглянул из-за гребня. Мысли Иензена туго ворочались в мозгу. Ему тоже не слишком нравился путь, по которому черный пес повел группу. Могила Бернардито наводила страх и на его суеверную душу… Ведь всего четыре года назад он, Иензен, целился в мальчика на корме лодки… Не вернуться ли на освещенную «Глорию», чтобы разогнать страх глотком рома? Но куда так рвется собака? Она визжит и порывается вверх, откуда по камням струится ручеек на дно ущелья. Кстати, хорошо бы освежиться глотком студеной воды… Где она, в самом деле, эта проклятая могила? В этой темени ничего не разберешь. – Тише! – шепотом произнес другой матрос. – Мне почудилось урчание собаки. Бабы вы, а не моряки! Бьюсь об заклад, что черный пес привел нас сюда недаром. К черту ваши страхи! Здесь кто-то прячется. Это либо негры, либо островитяне. Иензен колебался. Желание привести в лагерь беглецов боролось в нем с нечистой совестью. Наконец он победил страх. – Оставайтесь на месте, приготовьте оружие… Ты, Длинный Энди, пойдешь со мной, – сказал он решительному матросу. – Посмотрим, куда так рвется пес. Собака, чуть не вырывая сворку из чугунного кулака Оге, бросилась вверх по склону. Иензен размотал цепочку своей гирьки и приготовил пистолет. Ярдов сто Оге и матрос прошли руслом ручья. Вот наконец какой-то уступ на склоне. Ручей отсюда срывается вниз. Вот и край уступа. Пес еще сильнее потянул сворку, порываясь под низко нависший камень, из-под которого бежал ручеек. – Вероятно, беглецы прятались на этом уступе, – шепнул Длинный Энди. Месяц уже потерял красный оттенок и освещал все вокруг мертвенным сиянием. Иензен узнал зловещее место: вон, левее, высится скала, где виконт некогда приказал выбить поминальную надпись. У подножия этой скалы насыпан могильный холм… – Энди, мы пришли к могиле Бернардито!.. Решительный Энди остановился в раздумье. Черная собака продолжала соваться под камень. – Нет ли здесь какой-нибудь пещеры? Надо позвать остальных, Оге. В этот миг что-то большое, быстрое, как ночная птица, выскочило из-под нависшего камня. Иензен от неожиданности присел посреди площадки и выпустил сворку из рук. Черный пес юркнул под камень. Длинный Энди стоял на краю уступа, и серая тень метнулась прямо к нему. Вскрикнув, он исчез за краем площадки. Иензен в ужасе глянул вниз. Оттуда доносилось хриплое урчание. На глубине двух-трех ярдов там чернело тело Энди, его терзал какой-то громадный черный зверь. Перекладывая пистолет в правую руку, Иензен оглянулся на могилу и… обмер: в свете ущербной луны он увидел белый призрак. Он медленно наступал с протянутой вперед рукой. Датчанин сделал шаг назад, оступился и, неуклюже взмахнув руками, полетел с откоса прямо на гладкие валуны… …Иензен еще дышал, когда несколько рук подняли его с камней. У него был сломан позвоночник и разбита голова. Бернардито приказал отнести его в тоннель. Очнувшись, датчанин увидел темный свод каменного склепа, озаренного погребальным факелом. На фоне серой стены он различил неподвижную фигуру в белом. Прямо в глаза Иензена со злобой уставилось горящее око мертвеца Бернардито… Иензен застонал и пошевелился, отстраняя от себя видение, но металлический голос, гулко раскатываясь под сводами, спросил: – Зачем ты потревожил мой покой, Оге Иензен? Запекшимися губами Иензен прошептал: – Во всем виноват Каррачиола. Это он заставил меня стрелять в твоего сына, Бернардито. Ох, я умираю! Не подходи, не приближайся ко мне! Призрак у стены вздрогнул; голос его осекся и захрипел: – Вы с Каррачиолой убили моего сына? – Нет, призрак, он, кажется, остался жив. А вот я умираю… Твой дух может успокоиться. Уходи, скройся от меня. – Где это случилось? Где вы охотились за моим сыном, проклятые? – В Пирее, ох, в Малой бухте… Говорю тебе, виноват Каррачиола… – Издыхай, детоубийца! – грозно произнес призрак, отделяясь от стены. Датчанин содрогнулся и затих. Бернардито еще долго тряс безжизненные плечи, но даже сам великий инквизитор Торквемада ничего не смог бы добиться от Иензена. Работорговец был мертв. Тем временем Нгуру с четырьмя воинами и страшным Карнеро, похожим на злобного демона, бесшумно обошел с тыла площадку на дне ущелья, где притаились в ожидании остальные каратели. Нападение было внезапным и стремительным. Ножи чернокожих мстителей и клыки Карнеро покончили с отрядом, даже не потревожив тишины ущелья. Бернардито, уже снявший с плеч свой «саван», застал на площадке девять разбросанных тел. Он приказал присоединить к ним тела Иензена и Длинного Энди и перенести все трупы к подножию скалы с поминальной надписью. Здесь, у своего собственного могильного камня, Бернардито с помощью черного охотника Нгуру принялся рассаживать одиннадцать мертвецов вокруг надгробной плиты… Осмотрев площадку с могильным холмом и живописные позы неподвижных гостей, Бернардито тихо увел черных воинов под своды своего подземного убежища.
4
Рассвет еще не наступал и невольники в лагере еще лежали в тяжелом сне, когда две темные тени спустились с дерева на левобережную строительную площадку. Изломанный кустарник и вывороченные пни, обрывки лиан и груды сучьев загромождали всю площадь поваленного леса. На отлогом каменистом склоне громоздились кучи земли и камней: накануне здесь начали выравнивать землю под постройку главного дома плантации. Одна из черных теней, прокравшихся на площадку, торопливо юркнула под груду сваленных сучьев. Второй человек осмотрел место, где укрылся смельчак, поправил над ним ветки и прошептал на языке киши-конго: – Будь осторожен и не шевелись, Тоопи. Если тебя заметят, все пропало. – Уходи, масса Анту, я буду тих, как рыба, – прошелестел ответ из-под веток. Антони Ченни бесшумно покинул площадку и взобрался на одно из ближайших деревьев. Здесь он скрылся среди густой листвы и неподвижно замер в воздушном убежище, поднятом на высоту двенадцати ярдов. Тем временем в лагере уже запылали костры под котлами, захлопали ременные бичи, и две шлюпки с «Глории» высадили на берег свежую смену стражи, а также распорядителей дневных работ. Вскоре двухстворчатые ворота открылись и выпустили все население крааля за ограду. Конвоиры привели шесть-семь десятков понурых рабов на левобережную строительную площадку. Невольники разобрали кирки, топоры и лопаты, стражники с ружьями и пистолетами уселись поодаль на бревнах, и взошедшее солнце обдало жаркими лучами голые спины рабов и широкополые шляпы хозяев. …Две молодые стройные женщины, подбиравшие сучья, притащили свои охапки к большой груде, где затаился Тоопи. Никакой одежды, кроме повязки на бедрах и нитки коралловых бус, на них не было. Веревка от ноши оставила глубокий след на их голых плечах. Младшая устало присела на принесенную связку. – Нгава, тише, это я, Тоопи, – прошептал из-под валежника голос, хорошо знакомый молодой девушке. Она наклонилась и увидела под грудой сучьев лицо своего жениха. – Не бойся, Нгава, и прикрой меня ветками. Где надсмотрщик? Нгава торопливо развязала свою вязанку и стала забрасывать груду новыми ветками, стараясь не обратить на себя внимание надсмотрщика. – Ты безумен, Тоопи, – шептала она в страхе. – Зачем ты приполз сюда? Урикон снимет с тебя кожу живьем! – Где Майни-Мфуму? С вами ли сын правителя племени баконго? – Он здесь, Тоопи. Его тоже заставили рубить деревья. – Нгава, пусть Майни-Мфуму осторожно подойдет сюда. Мы готовим ночью нападение на лагерь и корабль. Нужно предупредить всех воинов. Ты, Нгава, скажи только надежным женщинам, будь осторожна, чтобы надсмотрщик и доносчики ничего не пронюхали. Берегитесь Урикона и его змеенышей. Обе женщины торопливо удалились. Через час к той же груде подтащил охапку веток высокий, мускулистый африканец. Он ненадолго задержался около груды, выпрямился и, смерив проходившего надсмотрщика пристальным взглядом, снова удалился на край площадки, где с каждым часом редели деревья и кусты.Часа за два перед закатом солнца подошел к берегу бухты отряд матросов. Он возвращался с лесного поиска. Во главе отряда шагал мистер Эрвин Сайрес О’Хири. Многие негры побросали работу, с тревогой взирая на приближение белых. Бичи надсмотрщиков захлопали чаще, на площадке поднялся гомон и крик. – Утихомирьте черную скотину! – крикнул О’Хири. Он подошел к заложенному котловану, где негры долбили камень и оттаскивали землю. Распоряжался здесь старший корабельный плотник «Доротеи», который любил похвастаться своим опытом «управления» рабами на американских плантациях. – Почему так медленно движется работа, Торлей? – недовольно обратился к нему О’Хири. – Ваши негры бестолковы, ленивы и изнеженны. Вы распустили их, мистер О’Хири, – был ответ. – Это вы не умеете учить негров! – заорал О’Хири. Он взял у надсмотрщика плеть и соскочил в котлован. Кирки и лопаты замелькали быстрее. – Кто из них сегодня ленился, Торлей? Не спеша, со зловещим лицом он приближался к цепочке мужчин, рассыпанной вдоль линии работ. – Вот этот, – без промедления указал Торлей на первого попавшегося невольника. Он считал излишним распознавать чернокожих, все они казались ему на одно лицо. О’Хири вытянул негра плетью по спине. Удар, как выражались работорговцы, был сделан «с оттяжечкой». Багровый рубец мгновенно вздулся на черной коже, а невольник, склонившись еще ниже, продолжал усердно действовать ломом. Это его спасло. О’Хири, утомленный походом по лесам острова, отбросил плеть, пощадив покорного раба. Он не ведал, что молодой вождь баконго сегодня приказал мужчинам племени быть терпеливыми… до вечера! Кроме того, мистер О’Хири был сегодня в благодушном настроении. Правда, беглецы еще не были пойманы, но половину острова моряки уже обшарили и обнаружили много следов островитян: старый, развалившийся шалаш в миле от озера, тропу в бамбуковых зарослях, золу охотничьего костра у ручья… Группа Иензена еще не вернулась. Может быть, она уже ведет пойманных беглецов и жителей острова? Но главной причиной благодушия было другое… Небрежно разгребая песок у ручья, О’Хири обнаружил на волосках своей руки крошечную, но ощутимо увесистую желтую крупинку: на острове имелось золото и… знал об этом пока он один, он, мистер Эрвин Сайрес О’Хири! Работорговец хлопнул в ладоши. Урикон уже бежал к нему через всю площадку, как пес, узнавший хозяина. – Скажи этим олухам, Урикон, что они должны стараться. Здесь будет плантация. Они научатся работать, возделывать землю. Если они работают усердно, я даю им сытную пищу. Они должны ценить хорошее обращение. Я никого не наказываю напрасно. Я караю только беглецов и лентяев. А хорошим неграм я дам жевательного табаку. Кто хочет табаку? О’Хири полез в карман и достал начатую пачку черного дешевого табака, служившего матросам излюбленной жвачкой в часы морской вахты. Несколько черных рук несмело потянулись за табаком. «Доверчивы, как маленькие дети!» – с горечью подумал Антони, следя за гнусной сценой. – Э, нет, так я не дам табаку! Вот, смотрите, я кладу эту пачку на землю. Вам нужно выкопать здесь котлован. Вас тут как раз две партии. Пачку я кладу посередине. Долбите, копайте! Кто первый пророет канаву до этого места и сможет достать пачку рукой, тот и получит ее. Поняли, черномазые? Антони с болью наблюдал, как взрослые, сильные люди ринулись в котлован. Ни один бич не хлопнул в воздухе. Каменистый склон таял, как снежная куча под весенним солнцем. Измученные рабы тяжело, хрипло дышали. Наконец чья-то черная рука ухватила желанную пачку. Обессиленный негр, счастливый обладатель сокровища, шатаясь, вылез из котлована и, отодрав черный пласт табаку, сунул его за щеку. В тот же миг два дюжих надсмотрщика-туарега загородили счастливца от взоров О’Хири и Торлея. Третий надсмотрщик пинком повалил негра на землю и взмахнул дубинкой. Пачка выпала из рук негра, надсмотрщики разделили ее в одну секунду и разошлись, энергично двигая железными челюстями. – Вот, Торлей, учитесь, как надо работать с плохими неграми, – самодовольно говорил О’Хири, стоя посреди опустевшего котлована. – Вы потратили бы три дня и забили бы насмерть не меньше полудюжины чернокожих, а они ведь денег стоят, друг мой. Берите у меня уроки, Торлей, и вы никогда не выпустите негров из узды. С любым животным надо обращаться умело, если оно принадлежит тебе. А вот с беглыми у меня пойдет другой разговор, это вы увидите, как только вернется группа Иензена с пойманными. Вот и Хетчинсон возвращается… Каковы ваши успехи, мистер Хетчинсон? – Это сделано сегодня? – воскликнул Хетчинсон, подходя к готовому котловану. – За один день? Поразительно, мистер О’Хири! Наши успехи пока оставляют желать лучшего. Обшарили правобережье ручья. Есть тропы, ночью не мешает выставить засады. Как дела у Иензена? – Думаю, что он уже обложил дичь в ущелье. У них самый дальний маршрут. Едва ли они успеют сегодня вернуться. – Послушайте, О’Хири, но вы обещали устроить маленькое развлечение для матросов. Ребятам пора освежиться, хорошенько выпить, побуянить, поразвлечься с африканскими барышнями… – Ладно, пусть сегодня повеселятся на «Глории». А мы с вами устроим небольшой пикничок в нашей хижине. Там, среди этих негритянок, есть какая-то Нгава… У меня нынче недурное настроение, Хетчинсон!
5
На черной воде бухты дрожали отражения света из иллюминаторов «Глории». Палуба казалась пустой, но у всех четырех пушек, скорчившись, сидели канониры, попыхивая в темноте трубками. Два вахтенных матроса и капитан Вильсон расхаживали на мостике. Боцман обошел караульные посты на корабле. Из кубрика уже доносились выкрики и топот матросских сапог. Береговые посты были поручены Броуну, боцману «Доротеи». Четверо матросов охраняли вход в лагерь. На каждой вышке стояли по два стрелка, и еще два белых стражника находились внутри ограды. Патруль из трех матросов обходил через каждые полчаса всю территорию, следуя по просеке вдоль частокола. Вторая смена караульщиков спала в большом шалаше. У входа в этот шалаш горел костер и восседал сам боцман Броун. Еще не наступила темнота, когда чуть зашевелились прибрежные кусты. Бернардито, Антони и два негра осторожно выглянули из поросли. – Антони, ты с Нгано и Нори должен напасть на шалаш с вахтенными. Карнеро уже слушается вас, берите его с собой. Нгуру, Тоопи и двум остальным из вас нужно стрелами снять наблюдателей на вышках. Удалось ли неграм пронести оружие в лагерь? – Да, во время суматохи на котловане надсмотрщики проглядели, что часть людей взяли с собою лопаты и кирки. Остальные захватили камни и корабельные гвозди. Человек сорок так вооружены. Женщины чистят рыбу ножами. Они бросят их воинам. На фоне потемневшего неба фонари на мачтах «Глории» казались большими низкими звездами. Пламя костров ярко полыхало в лагере, и в ночной тишине громко раздавалось шипение и треск сырых поленьев. С корабля доносились пьяные песни и выкрики. Вскоре от борта отвалили две шлюпки и направились к берегу. – Пошли в поход за невольницами… На шлюпках – человек двенадцать, – шепнул Антони. – Все идет, как вы предвидели, капитан! – Сейчас они повеселятся! – процедил корсар сквозь зубы. Охотники пробирались лесом к лагерю. До ближайшей вышки оставалось полсотни ярдов. Нгуру, Тоопи и два других негра с луками наготове прокрались к своим постам. Бернардито и Антони стали обходить лагерь с тыла. – Смотрите, капитан, патруль двинулся в обход. – С него и начнем, – ответил Бернардито и вытер полою одежды свою длинную шпагу. – Надо перехватить их так, чтобы не заметили с воды. Как только с патрулем будет покончено, подбирайтесь к шалашу со спящими. Проснуться они должны в аду!..Часовой смотрел с вышки вслед патрулю. Трое патрульных миновали длинную заднюю сторону крааля и поворачивали к просеке, ведущей к бухте… Кусты сильно качнулись, должно быть, кто-то из патрульных споткнулся в сумерках… – Макс, – обернулся наблюдатель к своему соседу, – вон к воротам уже подходят ребята с«Глории». В этот миг часовые стали отодвигать плетеные ворота крааля, пропуская посланцев с «Глории». Внезапно что-то резко свистнуло в воздухе. Наблюдатель оторопело спросил: – Макс, что с тобой? О, черт… В горле у Макса торчала оперенная стрела. В следующее мгновение и собеседник Макса, уронив ружье, повис на перилах вышки. Меткая стрела угодила ему точно между лопатками. Черные воины Бернардито, покончив с наблюдателями на обеих вышках, перемахнули через частокол. В свете костров уже кипела яростная схватка перед всеми пятью плетеными шалашами. Негры в лагере, предупрежденные заранее, держались наготове, и, как только поникли часовые на вышках, десятки невольников бросились на матросов с «Глории». В расправе участвовали не только мужчины. Негритянские женщины с остервенением накинулись на матросов – стражников и надсмотрщиков. Из крайней хижины выскочил нагой жрец Урикон и сразу угодил в руки разъяренным женщинам баконго. Полумертвого жреца приволокли к кухонным котлам и бросили в кипящее ячменное варево…
…Боцман Броун, сидя на корточках у костра, озарявшего вход в шалаш со спящей сменой, долго прислушивался к шуму за оградой. Ворота остались приоткрытыми, караульные вошли в лагерь. Что они так долго возятся с этим бабьем? Броун поднялся и отошел от костра в темноту. Он не сделал и десяти шагов, как удар дубиной сбил его с ног. Между тем Антони и два черных воина, разметав заднюю стенку шалаша, ворвались в это жилище стражников… Тихий свист раздался изнутри ограды. Это Бернардито созывал своих товарищей. Захватив все оружие убитых, Антони и оба воина перескочили через изгородь в лагерь. Здесь уже все утихло. Нгуру, Тоопи и Майни-Мфуму унимали расходившихся женщин. Антони наткнулся на тела туарегов-надсмотрщиков и увидел ноги жреца, торчащие из котла. Захват лагеря был завершен. Теперь Бернардито разделил черных воинов на три отряда. Человек тридцать во главе с Нгуру исчезли в направлении хижины островитян, а два других отряда, предводительствуемые Антони и Майни-Мфуму, тронулись к берегу. Часть негров в этих двух отрядах надела шляпы и рубашки матросов. Они «конвоировали» к шлюпкам своих вооруженных товарищей, накрывших себе головы листьями пальм, тряпками и обрывками материи. Бернардито велел им изображать процессию поникших, молчаливых невольниц. Он вышел вслед за обоими отрядами и закрыл двухстворчатые ворота. Вооруженные воины молча расселись в двух шлюпках. На одной из них уже находился Антони Ченни, во вторую вскочил Бернардито. Весла, плеснув, погрузились в воду. Осипший дискант окликнул с мостика «Глории» людей на шлюпках: – Где вы пропадали столько времени, черти? Все ли благополучно в лагере? Спокойный голос Бернардито ответил из мрака: – В лагере все в порядке, капитан Вильсон. Везем веселых гостей… Все добрые ребята будут довольны. – Это вы, Джонсон? – крикнул капитан, перегибаясь через перила. В это мгновение издалека донесся долгий, отвратительно резкий крик совы. Он повторился трижды. Нгуру сигнализировал, что воины уже оцепили хижину О’Хири. – Да, это я, капитан, – отвечал Бернардито, хватаясь за поручень носового трапа. – Сейчас я поднимусь к вам наверх и сообщу отличную новость. Вторая шлюпка подошла к кормовому трапу. Вахтенные с любопытством сгрудились у борта. Внезапно со шлюпок ударил нестройный ружейный залп. Капитан Вильсон и второй вахтенный офицер рухнули на мостик. В этот же миг серая тень взметнулась по трапу и с ревом бросилась на матросов, кромсая и раскидывая их как волк, ворвавшийся в овчарню. А по обоим трапам уже взлетали на борт гибкие черные тела. Фонарь разбило выстрелом. В кромешной тьме шло беспощадное побоище. Карнеро метался, как адская фурия. – Антони! – загремел голос Бернардито. – Ко мне! Из гущи свалки показался Антони. Шагая через тела, он приблизился к темной фигуре у борта. Бернардито стоял, скрестив руки на груди. Он был совершенно спокоен. – Это – тридцать девятый абордаж в моей жизни, – сказал он молодому человеку, – и как будто довольно удачный. Сейчас бой дошел до такой точки, когда управлять им невозможно и излишне. Не лезьте в эту свалку, негры обойдутся без вас. Наблюдайте за шлюпками, чтобы никто из врагов не ушел живым. В воду пусть бросаются. Там акулы и крокодилы позаботятся об их дальнейшей судьбе. Негры уже распахнули люк в кубрик. Расположение корабельных помещений было отлично известно воинам. В кубрике горела яркая лампа, пьяные матросы валялись по койкам, бутылки и кружки стояли на двух столах. Часть пирующих уже успела отрезветь и металась в поисках оружия. Карнеро ворвался в кубрик вслед за озверевшими бойцами Майни-Мфуму. Перемахивая через стол, собака опрокинула лампу. Масло разлилось и вспыхнуло. Загорелась чья-то койка, огонь перекинулся на стену… В пылу боя никто не стал тушить пожар; лишь когда последний матрос в кубрике испустил дух, а пламя уже взметнулось под потолок, Майни-Мфуму приказал своим воинам спасаться из горящего люка, и Бернардито увидел наконец летящие искры и пламя. – Стой! – крикнул он таким голосом, что весь корабль содрогнулся. – Прекратить возню! Антони! Утихомирьте негров, тушите пожар! Корабль нужно спасти любой ценой. Пламя уже перекинулось в салон. Затлели доски палубного настила. В отсвете пожара Бернардито разглядел, что вокруг корабля мелькают в воде десятки курчавых голов. По трапам, якорным цепям и канатам уже взбирались на палубу мужчины, женщины, подростки. С каждой минутой число их возрастало. Антони растерянно взирал на этот странный приступ и наконец по возгласам женщин догадался, в чем дело. – Капитан, – крикнул он, – кто-то распустил слух, что корабль уходит. Чуть ли не весь лагерь бросился в воду, чтобы не остаться на проклятом острове! – Так заставьте их подавать вам воду. Берите ведра, расставьте людей цепями! Пламя уже охватило мостик. Сотни черных рук быстро передавали ведра с водой. В ход пошли багры и топоры. Огонь на палубе был скоро потушен, но из кубрика донесся жалобный хриплый вой. Пламя бушевало вокруг люка, ведущего вниз. Бернардито сорвал с убитого вахтенного парусиновый плащ, набросил капюшон на голову и приказал окатить себя водой. Вмиг несколько ведер обрушилось на него. Через горящую горловину люка он сбежал по трапу в кубрик. В дыму ничего нельзя было различить. Бернардито наткнулся на стол, и бутылки со звоном покатились на пол. Что-то взвизгнуло под ногой капитана, и, нагнувшись, он нащупал жесткую шерсть Карнеро. Железным ломом капитан разбил окно. От свежего воздуха пламя вспыхнуло ярче. Обрушился деревянный трап, служивший для выхода. Сознание начало мутиться у Бернардито – в кубрике было жарко, как в горящей печи. Но уже спустилась веревочная лестница, и Антони бросился на помощь корсару. Вдвоем они подтащили громадное тело Карнеро к лестнице и обмотали его гибкой стремянкой. Люди наверху вытащили раненого и обгоревшего Карнеро наружу, а следом выбрались из люка и оба человека. Вскоре негры погасили огонь в кубрике. Отдышавшись, Бернардито обошел корабль. Пожар не причинил непоправимых разрушений, но для полного восстановления судна требовалось не меньше двух-трех месяцев. Новый капитан корабля обратился к негритянскому вождю Майни-Мфуму: – Собери своих людей на корме. Я скажу им несколько слов. Когда сотня негров собралась на юте, а десятка два воинов расположились на реях бизань-мачты, капитан поднялся на бочку. Молодой военачальник Майни-Мфуму стал рядом с ним. Антони принес корабельный фонарь, люди увидели седого воина в обгорелом плаще и с черной тряпицей на лице. Наступила полная тишина. – Воины славного племени баконго, сыны басунди, майомбе, батоке и других племен священного Конго! – начал капитан, и Антони слово в слово переводил его речь на язык киши-конго. – Мы воевали и победили, потому что действовали согласно и каждый поступал так, как ему было приказано. Но это только половина дела. Нужно починить корабль и отплыть с острова. Я поведу вас на родину. Если мы останемся здесь, придут новые корабли с пушками, и белые солдаты вернут вас в рабство. Кто из вас желает этого, воины? Выждав, пока стих ответный ропот, Бернардито продолжал: – Я научу вас, как починить этот корабль, но работать придется быстрее, чем вы вчера работали на берегу, обманутые работорговцем О’Хири. Теперь не пачка табаку, а свобода зависит от ваших рук. Поняли вы меня, мои дети? По рядам прокатился шум одобрения. – Так знайте же, что я – строгий и требовательный отец. У меня есть шестеро испытанных друзей из ваших племен. Это мои старшие дети Нгуру, Тоопи, Мгомбу, Нгано, Тимбу и Нори. Молодой вождь Майни-Мфуму и эти шесть человек будут руководить вами. Тот, кто не будет выполнять их приказаний, не вернется к водам Конго. Три полные луны нужно для того, чтобы корабль мог опять поднять паруса. Спроси своих воинов, Майни-Мфуму, все ли поняли мои слова? – Продолжай, отец, – сказал молодой вождь. – Ты друг черного народа. Каждый твой совет будет законом для людей баконго. – Пусть теперь люди, неразумно приплывшие на корабль, садятся в шлюпки и возвращаются на берег. Прикажи воинам сломать лагерь и построить себе хижины для жилья, какие вы делали у себя на родине. А завтра начнем работать: нельзя откладывать починку корабля. – Посмотри туда, отец! – воскликнул вдруг Майни-Мфуму, указывая в сторону ущелья. Там, над лесом, поднималось зарево. Его красный отблеск смешивался с лучами рассвета. Горела хижина островитян.
На склоне горы, среди лесных зарослей, спускался по тропе отряд воинов. Впереди цепочки шагал Нгуру с мешком на плече. Женщины на берегу приветствовали отряд громкими криками радости. Три тяжелые шлюпки «Глории» уже перевезли на берег негров с корабля. В лучах разгоравшегося дня черные люди с упоением рушили вышки, выворачивали колья частокола, ломали ворота и навесы. Майни-Мфуму сообщил капитану, что в воде ночные пловцы повстречали и утопили нескольких матросов, которые пытались спастись вплавь. Но и среди негров было немало жертв: несколько десятков людей утонули и достались морским хищникам. Отряд Нгуру подошел к воде. Черный великан сел в шлюпку и бросил в нее свой мешок. Нгуру был легко ранен пистолетной пулей из окна хижины. Бернардито встретил его у трапа «Глории», потрепал по плечу и вопросительно поглядел на тяжелый мешок. Черный воин с торжеством встряхнул мешок, и из него со стуком вывалился на палубу десяток голов… Новый капитан «Глории» отвернулся и, к большому разочарованию Нгуру, который намеревался выставить эти трофеи для всеобщего обозрения, велел выбросить мешок за борт. Когда мешок со всем его содержимым погрузился в пучину, Бернардито многозначительно переглянулся с Антони и проговорил со вздохом: – Видимо, эти плохие негры так и не сумели оценить хорошее отношение мистера О’Хири, его назидательные уроки и пачку табаку!..
6
Дни пещерного заточения Доротеи и Чарльза кончились. Но они были необыкновенными, эти тревожные дни в полусумраке, озаренном красным жаром тлеющих углей. Мальчик, приученный своим воспитателем к суровой сдержанности, не знал ласки. Заповедное слово «мама» он произносил сначала робко и стыдливо, преодолевая какое-то огромное внутреннее сопротивление, испытывая чувство смущения и даже страха. Потом это прошло, прошло быстро: слишком велик был у матери запас душевного тепла и страстной нежности. Волшебное слово все чаще слетало с губ Чарльза. Доротея не задела, не оскорбила детской стыдливости сына, потому что сама носила это чувство в себе. Не словами, а глазами говорила, выливалась наружу ее любовь. От наблюдательных материнских глаз не укрылась ни одна мелочь. Они сразу увидели, что сын вырос в заботливых, умных руках. После первых вспышек материнской страстности женщина нашла в себе силы победить ревность к воспитателю сына и почти не нарушала привычного уклада жизни мальчика. Она заняла между мальчиком и старым Бернардито какую-то свою, особую позицию, ничего не требуя, кроме права не разлучаться с ребенком. Если в редкие часы появления Бернардито в пещере он отсылал мальчика с каким-нибудь поручением, у женщины появлялось в глазах выражение птицы, перед взором которой охотник вынимает ее птенцов из гнезда. И старый корсар старался реже прибегать к услугам маленького помощника. Бернардито заметил, что ни одна посудина, ни один предмет в пещере не переставлены с места на место, только очень тщательно вычищены и накрыты. Вся одежда капитана, развешанная на стенных колышках, была починена и высушена. Для него и Антони женщина сшила удобную кожаную обувь, в то время как на ногах Чарли по-прежнему красовались грубоватые изделия самого капитана. Все это подмечал Бернардито, и однажды, в напряженный час наблюдения с дерева за лагерем невольников, он неожиданно для Антони проговорил про себя: – Она необыкновенная женщина, эта Доротея Ченни, а Джакомо просто безмозглый осел… Антони удивленно повернулся к своему спутнику, но тот уже грыз сухой стебелек и сосредоточенно рассматривал пистолетный курок. Доротея, оставаясь наедине с Чарльзом, старалась победить тревогу за исход боев на острове и за судьбу брата. Она тихонько пела своим прозрачным голосом детские негритянские песенки, шила и чинила одежду, а мальчик лежал рядом на шкуре и смотрел на мать. Он силился вспомнить что-то давнишнее и смутно, будто восстанавливая в памяти сновидения, видел зеленую лужайку около большого дома с двумя башнями… Потом все расплывалось, в памяти возникали страшные сказки Бернардито, и он принимался пересказывать их матери. Все сказки пересказал мальчик: про сокровища в пещерах и про ночные сражения пиратских кораблей, про грозного Одноглазого Дьявола, и про холодные страны северных королей, про рыцарей и злодеев. И оказалось, что мать и сама знает многие из них, знает даже сказку про коварного Леопарда, только сама не рассказывает, а про Леопарда не захотела и слушать. Она знала другие сказки – про черных людей на великой реке, про их грозных богов и мстительных жрецов, про королей с золотыми обручами на лбу и величавых черных воинов в длинных узких ладьях с высокими носами, скользящих по широким речным водам. Она рассказывала про жирафов, антилоп и гиппопотамов, про львов и огромных черепах, про удивительных птиц и белого слона, которому молятся жрецы баконго… Ручей в тоннеле журчал и мешался с голосом матери; мальчик засыпал, положив голову к ней на колени, Теплые ладони осторожно касались его лица. Негритянская песенка еще долго звучала… Голос все удалялся, таял в светлой синеве и наконец совсем растворялся в сонном небытии… Да, они были счастливыми, эти долгие часы в пещерном полумраке!Бернардито вел Доротею и Чарльза к бухте. Уже не нужно было ходить крадучись, таиться и говорить шепотом. Звонкий голос мальчика разносился по лесу. Он бежал впереди, а Бернардито помогал Доротее переступать через поваленные деревья и каменистые осыпи. Она была в странной, необыкновенной одежде. Бернардито принес ей из капитанской каюты «Глории» несколько голубых шелковых занавесей – единственную легкую ткань, попавшуюся ему под руку. Из них Доротея сшила себе подобие бурнуса, какие носят женщины некоторых африканских народов. Она обулась в самодельные сандалии, как древняя спартанка, заколола волосы костяным гребнем, завернулась в свой бурнус и вышла на солнечный свет вместе с сыном и высоким моряком. Он годами сберегал для подобного торжественного выхода свою треугольную шляпу и старый морской камзол. По дороге к бухте Доротея рассказала, что мистер Фред уступил Чарльзу свое родовое имение и титул, а сам под именем Альфреда Мюррея уехал в Америку. Благодаря этим обстоятельствам хозяином Ченсфильда стал Грелли. – Значит, впереди нас бежит вприпрыжку не кто иной, как его светлость законный виконт Ченсфильд? – задумчиво проговорил Бернардито. – Фред поступил разумно. Он выиграл время, спас женщину и вышел невредимым из когтей Леопарда. Мнимая гибель ребенка тогда развязывала руки Грелли. – Я не хочу вспоминать о нем, – тихо произнесла Доротея. Перед путниками открылась просторная бухта с вырубленными участками леса. Здесь кипела работа. Строились хижины, отцы семейств собирали своих домочадцев и сирот под кровом новых жилищ. «Глория» стояла у самого берега и имела довольно жалкий вид. Голубая гладь бухты отражала почернелый корпус, сломанные мачты, рухнувший мостик и путаницу в снастях. Навстречу капитану и его спутнице раздавались радостные приветствия. Антони махал шляпой с корабельного борта. В этой высокоторжественной обстановке Бернардито, Доротея и Чарльз ступили на палубу «Глории». – Наша старая хижина сгорела, – сказал Бернардито. – На время ремонта судна вам придется довольствоваться жизнью в палатке на берегу, синьора. – Капитан Бернардито… – заговорил было Антони и сразу осекся под предостерегающим взглядом моряка: капитан просил не называть его при мальчике настоящим именем. Поминальную надпись на скале затянуло мхом, и Чарльз не знал о ее существовании; имя самого мальчика капитан стал произносить лишь в последнее время, уже не рискуя вызвать словом «Чарльз» воспоминаний о прошлом… Но укоризненный взгляд, брошенный капитаном на покрасневшего Антони, опоздал! Мальчик резко обернулся и пристально глядел на «дядю Тобби». – Чарли, – неуверенно произнес старый моряк, – помнишь, ты обещал мне не бояться, если одноглазый капитан придет на остров? – Помню, – отвечал мальчик, – я и не боюсь его. Знаешь, дядя Тобби, я уже давно догадался, что ты рассказывал про себя, но не хотел тебе говорить об этом. Мама! Наш дядя Тобби – это и есть сам Одноглазый Дьявол, понимаешь, мама? – Да, мой дорогой синьорито, теперь ты проник в мою тайну. А знаешь ли ты, что у старого Бернардито есть маленький сын? – Знаю! – радостно закричал мальчик и кинулся на шею капитану. – Зачем ты так долго скрывал это, отец? Бернардито отступил в сильном смущении. Он никак не ожидал, что мальчик так ложно истолкует его слова. А Чарльз, прижавшись к его груди, говорил торопливо и сбивчиво: – Я все понял, отец, я давно все понял! Люди ненавидели тебя и считали злодеем. Потому ты молчал и скрывал от меня правду. Голос мальчика дрожал. Слезы катились у него из глаз на старый камзол Бернардито. Капитан крепко сжимал его в объятиях и не смел произнести ни слова. Он искал взглядом Доротею, и взор его единственного глаза выражал муку и страдание. Антони, склонившись к сестре, что-то быстро шептал ей на ухо. Женщина решительно взглянула в лицо капитану и показала глазами, что разубеждать ребенка не нужно… …Час спустя, когда мальчик, набегавшись по кораблю, менял вместе с Антони перевязки тяжело раненному и обожженному Карнеро, Бернардито явился в капитанскую каюту для объяснения с Доротеей. Он стал перед нею, торжественный и прямой, застегнутый на все пуговицы. – Синьора, – начал он после паузы, – мальчик развит не по летам и очень умен. Он отлично понимает, что супруг, жена и их ребенок представляют собою нечто единое, то есть семью. Вам и вашему брату было угодно поддержать спасительный обман, столь осчастлививший мальчика. Это влечет для вас необходимость и впредь играть внешне роль… Мне трудно произнести нужное слово, ибо я знаю свой возраст… Доротея подняла на капитана свои печальные глаза. – Синьор, я совсем простая одинокая женщина, порвавшая с человеком, который, только глумясь над моей простотою, называл меня своей женой. Моей ли незначительной особе пристала роль жены человека со столь громкой славой, как ваша? Я знаю, что впереди вас ожидают новые подвиги. Даже мнимая роль вашей супруги слишком ответственна для меня, хотя, разумеется, я желала бы оказаться достойной ее. Бернардито тихо опустился на колено и почтительно поднес руку женщины к губам. – А смею ли я надеяться, с моим грузом пережитого за плечами, заслужить в будущем вашу любовь, синьора? – Она принадлежит вам с той минуты, когда я увидела моего сына таким, каким вы воспитали его, дон Бернардито. – Доротея, но где-то в мире растет еще один мальчик без матери. Моя кровь течет в его жилах. Он всегда в опасности, враги подсылали убийц к шестилетнему ребенку. Если небо сжалится над ним и приведет его к встрече со мной, сможете ли вы… без предубеждения приласкать этого полусироту? – Смогу ли я? От всего сердца говорю вам, синьор, я была бы горда и счастлива снискать любовь вашего сына. Клянусь вам, я бы не сделала различия между Чарльзом и Диего. – Будь же благословен час моей встречи с тобою, прекрасная синьора! Будьте благословенны ветер и море, прибившие ваш корабль к скалам этой земли!.. Ты права: мои руки еще сильны и годятся для битвы. Вряд ли судьба отпустит мне столько лет, чтобы они успели одряхлеть и состариться. Но до последнего моего вздоха я понесу тебя на руках по всей нашей жизни, Доротея! Они вышли на палубу. Вершина Скалистого пика уходила в небо. В ее глубоких расселинах еще лежал подтаявший снег, но склоны были темными и отливали в солнечных лучах многоцветными оттенками камня. Морская рябь искрилась, словно тысячи осколков хрусталя были рассеяны на воде. Мальчик с разбегу уткнулся в бурнус матери. – Я охотно побродила бы по острову, – сказала женщина. Они вышли из лодки и направились в горы. Мальчик то убегал вперед по знакомым тропинкам, то возвращался к старшим. Бернардито рассказывал своей спутнице о трудных годах одиночества, о суровых лишениях и многолетней борьбе с природой. Доротея дивилась богатству опыта Бернардито. С подножия Скалистого пика они втроем смотрели на закат солнца. На пурпурном шелке зари огромный золотой диск, рассеченный линией горизонта, погрузился в море. Воды и облака слились. Небо стало пылающим морем, а море – огненными небесами. И сказочно прекрасный зеленый луч, последний луч заката, яркий и неповторимый, мелькнул и скрылся на темнеющем небосклоне.
17. «Летучий голландец»
1
Знойный майский полдень был томительно долгим. Беспощадное солнце, казалось, не желало уходить с небосвода. Палубы двух-трех кораблей, стоявших на внешнем рейде Капштадта, совершенно обезлюдели; экипажи находились на берегу или искали убежища от жары в нижних трюмных помещениях. Синьор Джиованни Каррачиола, бравый мужчина, в легкой тонкой рубашке и небесно-голубых панталонах, схваченных у колен ленточками, лежал в качалке. Парусиновый навес над палубой шхуны защищал синьора от прямых солнечных лучей; негр с опахалом из страусовых перьев служил ему живым веером, и отдыхающий синьор дремал, разморенный жарой и двумя стаканчиками вина. Изредка он приоткрывал глаза и любовался серебряными пряжками на своих башмаках. Фасону этих восхитительных пряжек – изделию искусного негритянского мастера – еще будут подражать модники Бультона!.. До слуха Каррачиолы доносились только умиротворяющие звуки: жужжание насекомых под навесом, тихий плеск за бортом и неуловимо нежный шорох опахала. Мысли его текли медленно и лениво, как и полагается течь мыслям добропорядочного джентльмена в послеобеденные часы. Синьору лишь недавно перевалило за четвертый десяток, и никогда прежде не тревожившие его мысли о грядущей старости стали время от времени посещать его. Где, на каких перепутьях подкрадутся к нему старческие немощи? Что накоплено в сундуках памяти? Сколько нулей, наконец, у банковского счета, дабы спутники надвигающейся старости относились с должным почтением к любым его пожеланиям? Эти дремотные мысли повели джентльмена еще дальше и в конце концов с неприятной наглядностью представили ему час будущей встречи с костлявой синьорой. Каррачиола поморщился, открыл глаза и потянулся за табакеркой. Со свистом он втянул в ноздри «джентльменскую понюшку», оглушительно чихнул, утер слезу и окончательно стряхнул дремоту. «Нужно вовремя делать деньги!» – таков был главный и окончательный вывод из всех размышлений синьора Каррачиолы, капитана шхуны «Удача» и руководителя экспедиции трех кораблей Грелли на Конго. Сетовать на судьбу было бы неблагодарностью со стороны капитана. Феи небесные подарили Каррачиоле наружность, которой позавидовал бы любой оперный тенор, а феи земные не оставались к ней равнодушными. Он, например, едва ли выслужил бы у лжевиконта столь высокое назначение, если бы не заступничество Эллен. Настойчивость супруги возымела желаемое действие на виконта: он простил своему агенту пирейскую неудачу и поручил Каррачиоле командный мостик лучшей из трех шхун, вместе с руководством всей экспедиционной партией. Однако в экспедиции положение синьора оказалось несколько затруднительным. Американский ирландец О’Хири был гораздо опытнее своего начальника в делах охоты за неграми; капитаны Вильсон и Хетчинсон были лучшими моряками; наконец, репутация тайного шпиона мистера Райленда и неутомимого доносчика прочно утвердилась за молодым капитаном и, внушая страх, не увеличивала симпатий к синьору даже среди экипажей работорговых шхун… Несмотря на долгие годы службы у виконта, Джиованни Каррачиола до сих пор переступал порог охотничьего кабинета в Ченсфильде с неприятным чувством стеснения и неуверенности. И мысль о возвращении в этот кабинет с докладом о неудаче была страшнее всех опасностей. Синьор капитан был приятен в обхождении и не лишен остроумия. Язык, как и полагалось доверенному лицу сэра Фредрика, довольно ловко служил синьору для сокрытия его мыслей. Опытность Джиованни в притворстве и лжи была сразу по достоинству оценена его патроном при знакомстве с молодым итальянцем. Это знакомство произошло в Бультонском порту, где двадцатитрехлетний помощник штурмана Каррачиола был вынужден покинуть свое судно из-за ерунды, из-за простого кошелька: капитан корабля нашел несомненное сходство между кошельком, пропавшим у него, и тем, который Джиованни извлек из своего кармана. В результате последовавшего конфликта судно отплыло, оставив помощника штурмана на бультонской мели. Наведенные справки удовлетворили мистера Вудро Крейга, который вскоре представил синьора своему высокому покровителю… И с тех пор недоучившийся штурман не имел больше нужды проявлять рассеянность в отношении чужих кошельков, коллекционировать чужие принадлежности туалета или расставаться перед стойкой бара с шарфом и жилетом, если жажда становилась непреодолимой. За всю свою жизнь Каррачиола едва ли одолел сотню печатных страниц, но зато охотно слушал страшные рассказы моряков, где трезвая правда мешалась с красочным вымыслом, как вода с водкой в шотландском тодди. Эти повествования питали фантазию Каррачиолы и обогащали его опыт. Одна совершенно необъяснимая черта причиняла Каррачиоле немало тайного беспокойства. С самой ранней юности он испытывал приступы странной тоски, нападавшей на него во время сильного лунного света. Тихие серебряные ночи с полной луной и мерцающей серебряной дорожкой на воде нагоняли на Джиованни томительную меланхолию. Бороться с нею он был бессилен. Во время этих приступов он боялся одиночества, ненавидел свои воспоминания и испытывал полное равнодушие к обязанностям, деньгам и земным усладам. …Оранжевое солнце еще пылало над горизонтом, когда на рейде показалась гребная лодка. Она приближалась к «Удаче». Два джентльмена в соломенных шляпах сидели под цветным балдахином на корме. Двое негров гребли, третий, стоя, правил рулем. Каррачиола узнал гостей еще издали. Это были владельцы недавно созданных здесь алмазных копей – англичанин мистер Айвенс Брендон и его компаньон, голландский еврей минхер Юлиус ван Арденфройден. По тайному знаку капитана боцман «Удачи», толстый Химсвелл, прозванный Моржом за круглые глаза и плохо бритую щетину усов, махнул гребцам, чтобы они держали к корме. Носовой трап? Слишком много чести! Боцман встретил прибывших у кормового трапа и проводил их на палубу. Капитан встал с качалки, сделал приветливое лицо и приказал принести стулья и легонький столик. Брендон положил ноги в белых чулках на перекладину столика, а минхер Юлиус ван Арденфройден почти замертво свалился на предложенный стул, подставляя круглую красную физиономию под ветерок от страусового опахала. – Проклятая жара! – простонал он. – Это «осеннее» майское солнце превратит меня нынче в жаркое! Я хотел бы послать ко всем чертям весь этот континент с неграми, москитами и крокодилами! Есть же такие счастливцы, которые спокойно пьют пиво в Заандаме и не имеют ни наших забот, ни наших… – …алмазов! – докончил его речь синьор Каррачиола. – Я, господа, горячо сочувствую вашим заботам, но если бы сам когда-нибудь занялся добычей драгоценных камней, то предпочел бы извлекать их прямо из глубины чужих сейфов. Все засмеялись. – Чтобы они попали туда, нужны несчастные страдальцы, и этот удел выпал нам с мистером Брендоном. А нам, в свою очередь, нужны для этого рабочие руки. Вы обдумали наше предложение, мистер Каррачиола? – Господа, – ответил Каррачиола, – я не распоряжаюсь людьми, находящимися на борту «Удачи». Эти негры – собственность «Северобританской компании» и предназначены для работы на новых плантациях фирмы. – Я предлагаю вам, как последнюю и окончательную цену, тридцать пять фунтов за каждого негра. По здешним местам это весьма приличная цена, ибо ваши негры довольно крепкий народ, они сильнее здешних готтентотов. Уступите нам две сотни душ, а фирме напишите, что они издохли от болезней. Это с ними постоянно случается. Маленькая эпидемия на борту… Тиф или холера, черт побери! Я же знаю, что у вас на борту есть лишние души. Положить себе в карман семь тысяч фунтов! Не понимаю ваших колебаний! – Платить вы собираетесь наличными, господа? – Как будет угодно вам, мистер Каррачиола. Вы можете получить всю сумму в золоте, чеками на имя вашего капштадтского банкира, драгоценными камнями по нынешнему курсу, ассигнациями в любой валюте или ценными бумагами. – Если к семи тысячам вы прибавите еще камешек, я, пожалуй, подумаю над вашим предложением. Деньги придется разделить между четырьмя лицами… Камень же я хотел бы… сохранить лично для себя. – Чтобы сегодня же заключить сделку, я готов согласиться на просьбу мистера Каррачиолы, – сказал Брендон своему компаньону. – Хорошо, – согласился минхер. – Полагаю, мистер Брендон, что вчерашний восемнадцатикаратовик устроит мистера Каррачиолу? Итак, разрешите считать дело решенным. Я хотел бы уже завтра переселить негров в бараки. Но, синьор Каррачиола, это только первый вопрос, благополучно разрешенный нашим маленьким совещанием под этим уютным балдахином… Скажите мне, сколько времени вы должны простоять в порту? – Шхуна уже на плаву. Остаются небольшие доделки. Вскоре сюда вернутся еще две шхуны нашей экспедиции, они уже немного запаздывают. Мы погрузим закупленные мною товары, что лежат на берегу, и тогда покинем Капштадт. С якоря снимемся, вероятно, недели через три, после окончания починки, пятнадцатого – двадцатого июня. – Мистер Каррачиола, мы с господином Брендоном хотим предложить вам одну весьма для вас заманчивую операцию. Останется она только между нами троими, и вам не понадобится делить прибыль с вашими коллегами. Мы предлагаем вам занять всех ваших негров работой на копях, пока шхуна стоит в Капштадте. Люди бездельничают и даром получают свой хлеб. А мы дадим им небольшую разминку, разумеется, с поденной оплатой. Условия наши – пятнадцать шиллингов за рабочую неделю. В месяц это даст три фунта за работу каждого негра. Кормежку людей мы берем на себя. После нашей сегодняшней сделки у вас остается, насколько нам известно, две с половиной сотни негров. За месяц вы сможете добавить к своему счету семьсот тридцать фунтов, не имея ни хлопот, ни затрат да еще изрядно сэкономив на кормлении двадцати пяти десятков бездельников. Полагаю, что мы не встретим возражений с вашей стороны, капитан? – Гарантируете ли вы хорошие условия содержания негров? Если вы вернете мне вместо здоровых рабочих скотов изможденных кляч, фирма понесет убытки. – Условия для невольников у нас прекрасные. Они имеют все: крышу, сытную жратву и пойло, солому для сна; даже об их душах заботятся у нас два преподобных миссионера. Труд пойдет на пользу вашим черным лежебокам… Итак, условимся, мистер Каррачиола: завтра вы доставите всю партию к нашей конторе. Она находится в пятидесяти – шестидесяти милях отсюда, на берегу удобной маленькой бухты. Часам к восьми утра мы рассчитываем видеть вашу шхуну в бухте против конторы. Только утром мы, здешние страдальцы, и имеем возможность дышать, мыслить и показываться на улице! Итак, до завтрашнего утра, мистер Каррачиола!Груз шхуны «Удача» – четыреста мужчин и пятьдесят женщин, отобранных Каррачиолой для продажи в Америке, – представлял собою цвет племени баконго. Работорговцы фирмы Райленда выбрали самых здоровых и сильных мужчин, самых стройных и привлекательных женщин для продажи на американских невольничьих рынках. При суетливой ночной пересортировке невольников в Капштадте работорговцы второпях забрали детвору у молодых матерей, предназначенных в Америку, и погрузили орущих ребятишек на шхуну «Доротея», где находились преимущественно пожилые женщины для островной плантации. На «Доротее» поднялся такой крик, напуганные дети, брошенные в трюм к чужим женщинам, визжали так отчаянно, что капитан Хетчинсон приказал скорее задраить трюмные люки, предоставив черным женщинам утихомирить осиротевшую детвору… Уже больше месяца миновало после этих сцен, но матерям, запертым в отдельном трюме «Удачи», еще мерещился в каждом корабельном скрипе плач увозимых детей. Теперь, на рассвете нового жаркого дня, Каррачиола, стоя на мостике «Удачи», уже вводил шхуну в небольшую бухту, где среди прибрежной зелени пряталось серое здание конторы алмазных копей. За красивыми изгородями возвышались на берегу жилые коттеджи Брендона, Арденфройдена и смотрителя работ. Шлюпки высадили невольников на берег, где их встретили английские, португальские и голландские конвоиры, вооруженные дубинками, плетьми и ружьями. Полдюжины собак сопровождали конвоиров. Мистер Брендон показался на веранде своего коттеджа, а минхер ван Арденфройден, пренебрегая условностями, вышел из дому прямо в полотняном ночном белье, присовокупив к этому наряду еще хлыст для верховой езды. – Вы чрезвычайно точны, мистер Каррачиола. Это признак истинного коммерсанта, – сказал голландец, когда капитан высадился с последней партией негров. – С вашего позволения, мы сперва отберем две сотни, переходящие в нашу собственность. Минхер ван Арденфройден и смотритель работ бесцеремонно открывали неграм рты, смотрели их зубы, щупали мускулы живота, хлопали по спинам. Женщины стояли поодаль от мужских шеренг. Покупка женщин не предусматривалась; они передавались на рудник лишь для временной работы, но одна из молоденьких негритянок, очень стройная девушка, привлекла внимание минхера Юлиуса. Он подошел к синьору Каррачиоле, снял с пальца золотой перстень с довольно крупным светлым рубином и незаметно сунул его в руку итальянца. – Мне нужна горничная в доме, – шепнул он доверительно. – Она продана, – солгал Каррачиола. – Мне придется платить неустойку. Сто фунтов, минхер. – Пятьдесят, – отрезал голландец. – Здесь не базар, мистер Арденфройден. Семьдесят пять. Цена окончательная. – Включая перстень, – вкрадчиво понизил голос собеседник Каррачиолы. – Перстень – это комиссия. Семьдесят пять, или я забираю ее назад на шхуну. – Вы пользуетесь человеческими слабостями, – вздохнул голландец. – Человек – грешное существо и остается им даже на тридцатом градусе южной широты! «Черт возьми, можно было-таки сорвать сотню, – подумал капитан с сожалением. – Поторопился, как обрадованный школьник! Однако теперь-то мне понятно, почему Вильсон и Хетчинсон, а главное, почтенный мистер Эрвин Сайрес О’Хири возят с собою такие увесистые шкатулки и толстые чековые книжки. Дело-то сказочно прибыльное, а дурачить негритянских царьков – не велика мудрость! Вот почему компания Райленда растет, как шампиньон на черном навозе!..» Тем временем двести негров, отобранных владельцами копей, были наконец согнаны вместе. К ним тотчас подошли надсмотрщики с ножницами и бритвами и самым бесцеремонным образом остригли наголо. – Зачем вы это делаете? – полюбопытствовал Каррачиола. – Во-первых, все они – отчаянные воришки и пробуют прятать камни в своих шевелюрах. У нас бывали случаи, когда негры даже глотали камни, чтобы выносить их таким своеобразным способом, а затем совершать побеги. Во-вторых, стриженых негров гораздо легче обнаруживать, когда они пытаются бежать к диким племенам готтентотов, бушменов и зулусов или же пристраиваться на проходящие суда. Стрижка – обязательное условие для наших рабочих. Кроме того, ведь это же полезнее. – Ладно, эти проданы, и делайте с ними что хотите. Но я должен предупредить вас, минхер, что мои двести мужчин и пятьдесят женщин, переданные вам на месяц, должны вернуться на борт «Удачи» такими же здоровыми, какими вы их сейчас видите. – Ну, ну, наша приятная утренняя беседа приобретает совершенно ненужную остроту. К чему эти опасения, мистер Каррачиола? Вы получите своих чернокожих бодрыми и откормленными… Но нас уже ждет завтрак в доме мистера Брендона. – Я все-таки хотел бы посмотреть на ваши копи… – Непременно, синьор, непременно. Но мы отправимся туда в экипаже после завтрака. Это добрых десять миль отсюда. Негров увели под сильным конвоем. На берегу осталась только стройная девушка. Она печально смотрела вслед длинной шеренге, удаляющейся по пыльной дороге в окружении ружейных стволов и псов на сворках. Минхер стеком показал девушке направление к воротам своего коттеджа. Девушка поняла, что продана этому розовому толстяку в странном костюме, и, понурившись, пошла на хозяйский двор. – Гамилькар! – крикнул вслед девушке ее новый владелец. Пожилой негр в европейском костюме выбежал на заднее крыльцо. Голландец показал на негритянку: – Помести пока новую служанку в бывшем чуланчике Луизы. Присматривай за ней, Гамилькар. И одень ее, ради бога, поскорее! Неприлично!.. …В этот день Джиованни Каррачиола не попал на рудник. Не вернулся он и на шхуну, оставшуюся под надзором боцмана Химсвелла. Ранний завтрак, начатый хересом, незаметно протянулся до ланча, ланч продлился до обеда, и уже в темноте ром и ликеры перекинули мост к ужину. Неутомимый оркестр, составленный из гитар, кларнетов, скрипок, трехструнных негритянских маримб и звучных туземных тамбуринов, гремел беспрерывно. Эта музыка опьяняла Каррачиолу, взвинчивала, заставляла отбивать такт каблуками и подсвистывать мелодию. Перед ним мелькали танцоры на веранде. Он заметил, что собутыльники его меняются, и только круглое лицо ван Арденфройдена все время маячило поблизости. Где-то в глубинах сознания гасли остатки привычной настороженности, возникло щемящее чувство скольжения в бездну по крутой наклонной плоскости… Когда, пошатываясь, Каррачиола вышел на опустевшую веранду, прямо в глаза ему ударил мертвенно-белый свет. Круглая, лысая луна была единственным неподвижным телом в поле зрения капитана: все плясало, двигалось, двоилось, но луна была неподвижной, безгласной и враждебной… На веранду он, собственно, отправился следом за хорошенькой золотоволосой мисс… Она ненадолго появилась в столовой и исчезла, выйдя через дверь веранды. Кажется ее зовут мисс Ирена, она дочь владельца копей, мистера Брендона… В столовой еще горели огни и висели облака сигарного дыма. Каррачиола посмотрел на бледный, неживой свет, падавший с неба, нетвердо повернулся на каблуках и побрел в столовую. По дороге от двери до стола с бутылками он успел забыть про мисс Ирену. Розовый минхер ван Арденфройден еще сидел за столом. Каррачиола взял его за плечи, уставился ему в лицо пустыми зрачками и произнес очень медленно и отчетливо. – Почему луна? Все к черту! Дураки! Ослы! Ван Арденфройден и слуга уложили Каррачиолу на диван в кабинете хозяина. Пьяный долго не успокаивался, потом заснул, лежа на спине, и сонный бред его был страшен.
2
В течение двух последующих недель Каррачиола выпил больше спиртного, чем за всю свою прошлую жизнь. На шхуне он появлялся по утрам, опухший и бледный. Но в кармане его лежали чеки, в шкатулке покоился перстень с камнем в восемнадцать каратов, а на пальце блистал другой перстень, украшенный весьма солидным рубином. В один из этих бурных дней синьор Каррачиола все же настоял на своем требовании посетить рудник. Все виденное вспоминалось ему потом смутно, как во сне: желтые скалы и голубая, огромная яма – воронка глубиной до двадцати футов, где копошились совершенно голые рабы. Многие работали в ножных кандалах, а некоторые были цепями прикованы к тачкам. Неподалеку находился барак, где дробилась и измельчалась голубая порода, содержащая алмазы. Яма и барак были обнесены канавой с отвалом, по гребню которого шел сплошной дощатый забор, утыканный гвоздями. Вдоль забора шагали часовые. В конце дня у ворот выстраивалась очередь голых, обритых невольников. Их обыскивали: каждому надсмотрщик залезал пальцем в рот, заглядывал в уши, в ноздри – не припрятал ли хитрый раб драгоценный камешек! Непрерывно слышалось щелканье бичей, изредка гремел пистолетный или ружейный выстрел. Спины многих черных рабов гноились… Негры передвигались только общим строем; под конвоем их вели на работу и приводили обратно в лагерь. В «голубой яме» работали от зари до зари, но кормили рабов варевом из ячменя или маиса лишь в лагере – перед выходом на работу и перед сном. В забоях стояли только бочонки с тухлой теплой водой. Впрочем, все эти картины весьма смутно запечатлелись в отуманенном мозгу Каррачиолы, а в его ушах, заглушая звяканье цепей, лязг кирок и щелканье бичей, безостановочно звучали воркующие голоса хозяев копей и двух миссионеров, которые заботились о христианском воспитании черных рабов и проповедовали им слово Божие. С деятелями церкви Каррачиола близкопознакомился за столом у мистера Брендона и соревновался с ними в единоборстве с «зеленым змием». По прошествии двух угарных недель капитан начал замечать признаки полнейшего развала дисциплины на «Удаче». На борту судна, вновь переведенного на внешний рейд Капштадта, редкий день проходил без драк. Грязный запущенный корабль превратился в буйный кабак и притон для темного городского сброда. Наконец чиновник из порта явился однажды на корабль и сообщил, что два матроса «Удачи» убили на берегу чужого негра и содержатся под арестом у его голландского хозяина. Эта новость отрезвила капитана. Осыпав команду энергичными проклятиями, он заплатил голландцу за убитого негра, избил до крови обоих матросов, запретил всем отлучки на берег, заставил команду привести судно в порядок. Подсчитав сроки вероятного возвращения «Глории» и «Доротеи» в Капштадт, он понял, что со шхунами произошло какое-то несчастье. Прошла уже половина июня. С военным судном, следовавшим в Англию, Каррачиола отправил срочное донесение виконту Ченсфильду, требуя дополнительных распоряжений. Все эти хозяйские хлопоты заняли у Каррачиолы еще две недели. Исполнился ровно месяц с того дня, как живой груз «Удачи» был отдан «напрокат» владельцам копей. Синьор Каррачиола оделся тщательнее обычного, придирчиво освидетельствовал экипировку шести гребцов, заставил их выкрасить шлюпку заново и отправился в бухту, где располагались строения конторы. На этот раз он держался угрюмо, и шутливый тон, каким его встретили Брендон и Арденфройден, был встречен Каррачиолой холодно и сдержанно. Стаканчики остались нетронутыми. Втайне Каррачиола опасался услышать неприятные вести о судьбе своих негров и вернулся с твердым намерением возвратить их на борт. Но минхер ван Арденфройден был гораздо хитрее, чем полагал капитан «Удачи». Вместо ожидаемых отговорок и оттяжек Каррачиола увидел полнейшую готовность хозяев выполнить все требования. – Вы сами убедитесь, капитан, насколько полезным явился для ваших негров этот маленький месячный моцион. Извольте получить чек на ваши семьсот пятьдесят фунтов. – Поедемте на рудник за людьми, – сказал Каррачиола. – Экипаж к вашим услугам. Но ведь ваши шхуны еще не вернулись. Нам же очень нужны рабочие руки. Мы готовы удвоить плату. Еще две мимолетные недели – и точно такой же чек будет у вас в кармане… Глоток сухого рейнвейна, сэр! Это так освежает! Они присели за столик, и Каррачиола не поехал на рудник за неграми. Не поехал он и по истечении вновь установленных двух недель. Дисциплина, с таким трудом восстановленная среди экипажа «Удачи», снова развалилась. Минхер ван Арденфройден принял это обстоятельство во внимание и пустил в ход кое-какие связи. Все происшествия, дебоши и грабежи в городе молва стала приписывать экипажу «Удачи». И в одно ясное июльское утро полицейский чиновник, явившийся на шхуну, предъявил Каррачиоле документ о его аресте «за нарушение экипажем судна порядка в порту при подстрекательстве со стороны самого капитана». Возражения были бесполезны; предложение «уладить дело по-хорошему» почему-то не возымело действия на бескорыстную портовую администрацию. Каррачиола впервые испытал печальную участь тюремного узника. Потянулось медлительное следствие. Шхуна была взята под арест. Дело запахло серьезными неприятностями и затянулось до сентября. Каррачиола потребовал свидания с владельцами копей. После многократных просьб таковое состоялось. Происходило оно без свидетелей: имена владельцев явно пользовались уважением суровых властей! Минхер ван Арденфройден удрученно сообщил Каррачиоле, что холерная эпидемия унесла всех негров, временно переведенных со шхуны на рудник, а также, что капитан может быть освобожден лишь под залог тысячи фунтов, коими компания в настоящий трудный момент, к сожалению, не располагает. Прежняя сговорчивость голландца уступила место ледяной неуступчивости. В результате один из чеков был изъят, а капитан выпущен из узилища под строгим условием: немедленно взять на борт свой груз с берегового склада и немедленно же убираться с рейда. Вечером 24 сентября, закончив погрузку, Каррачиола размышлял о том невеселом часе, когда ему придется предстать перед главою «Северобританской компании» с отчетом об итогах экспедиции. Начатая успешной охотой за людьми на Конго, экспедиция плачевно завершилась исчезновением двух шхун и потерей всего живого груза «Удачи». Экипаж корабля был свидетелем сделки, хотя и не знал ее подробностей. Одинокие размышления Каррачиолы сопровождались булькающими звуками в каюте, а также вне ее, ибо перед капитаном стояла бутыль, а над рейдом низко висели тучи весеннего южноафриканского дождя. Сквозь частую дождевую сетку Каррачиола видел очертания гористого побережья, плоскую вершину Столовой горы, темнеющее море. Прохладный южный ветер раскачивал корабль. Приближался шторм, и океан был столь же мрачен, как мысли Каррачиолы. В темном океане Каррачиола вдруг заметил желтую звездочку. Она мелькала чуть выше бугристых гребней и, казалось, приближалась к порту. «Топ-огонь корабля», – подумал он, надел плащ и вышел на палубу. Он подивился быстроте, с которой скользило по волнам приближающееся судно. Это была небольшая яхта. Капитан уже различал линию корпуса с приподнятым носом и низкой кормой, изящные паруса, стройные, чуть откинутые назад мачты… – Пресвятая Дева! Это «Элли», личная яхта виконта! О милосердное Небо! – пробормотал Каррачиола в ужасе и бросился на мостик. Вахтенный храпел на скамье перед неподвижным штурвалом. Нактоуз не был освещен. Каррачиола пинком сбросил вахтенного со скамьи. – Позвать боцмана! – крикнул он грозно. Вместе с Химсвеллом он почти бегом обошел палубу. Через три минуты вся команда была на ногах. Матросы разгоняли швабрами лужи, набравшиеся после дождя, убирали мусор, бегом уносили с палубы тряпье, бутылки, обрывки снастей. «Неужели сам пожаловал? – мелькали тревожные мысли в уме Каррачиолы. – Спаси мою душу, Пресвятая Богородица! Не время ли пустить себе пулю в лоб? Или сознаться во всем? Нет, расправа будет беспощадной. Жизнь все равно погибла. Что пользы в уцелевших чеках на восемь тысяч фунтов? От длинных рук господина виконта не спасешься и с этими деньгами!» Яхта стала на рейде и, развернувшись носом по ветру, бросила якоря. Каррачиола приказал убрать команду с палубы. Только двое вахтенных остались у трапов, и штурвальный замер в рубке, как изваяние. Шлюпка с яхты уже приближалась, ныряя в волнах, и подвалила к борту щегольски чисто. – Эй, на «Удаче»! – раздался глуховатый бас, обрадовавший Каррачиолу, ибо он ожидал услышать более страшный голос. – Есть на «Удаче»! Привет, синьор Лорн! Держите к носовому. Под столом в капитанской каюте Лорн увидел разнокалиберную батарею, которой позавидовал бы трехдечный линейный корабль. Бутылки уже не могли порадовать ничем, кроме разноцветных капелек на донышках. Обстановка была оценена Лорном в несколько секунд. – Вы слишком долго простояли на приколе, – заметил он мимоходом. – Рассказывайте, как обстоят дела. Виконт получил ваше письмо. Я привез вам его распоряжения. Каррачиола с трудом скрыл радостный вздох облегчения. Значит, объяснение с виконтом откладывается! Время выиграно. Восемь тысяч помогут покрыть потери. Нужно лишь, чтобы Лорн ничего не пронюхал… Каррачиола перевел беседу с английского на итальянский. – Дела обстоят по-прежнему. Ни «Глория», ни «Доротея» не вернулись с острова. Шестьсот пятьдесят негров отправлены на остров. Здесь у меня двести пятьдесят и весь груз для плантации. – Только двести пятьдесят? Шхуна легко берет пятьсот. Почему вы так мало погрузили? – После пролома днища на Заире у меня заливало водою один трюм… Сейчас судно в полном порядке. – Можете вы сняться с якоря немедленно? – Хоть через час! Каковы распоряжения виконта? – Читайте. Виконт писал, чтобы «Удача» следовала на остров, срочно навела там порядок силами своего экипажа, а затем под командованием Лорна возвращалась одна или вместе с обеими другими шхунами в Бультон. По окончании операции на острове Каррачиоле предписывалось сдать командование экспедицией мистеру О’Хири, а самому немедленно лететь на «Элли» к берегам Америки, чтобы в кратчайший срок добраться до Голубой долины в низовьях Огайо и Уобеша. – К этому я имею еще добавить кое-что устно, – заметил Лорн. – Виконт дает вам возможность исправить одну небольшую недоделку. В Пирее за вами остался должок… Вы слышали о жителях этой Голубой долины? – Нет, не слыхал. – Там свили себе гнездо враги виконта. В эту долину уже послан кое-кто из наших. Бернс командует там фортом. В помощь ему направлен Куница Френк. Шельтон и Линс давно там. Вероятно, туда уже отправились также Гримльс и Венсли… Вы наденете форму английского лейтенанта и поведете к Бернсу небольшой отряд волонтеров из Детройта. Форты Голубой долины и Винсенса нужно усилить против индейцев. Это вы и сделаете своим отрядом. А попутно вы исполните и ту задачу, о которой я упомянул. Полагаю, что она вам ясна? – Нет, не вполне. Чье… устранение имеется в виду? – Лично вам поручаются четы Мюррей и Уэнт, а главное – оба лица, упущенные вами в Пирее. – Сын и мать Бернардито? – Да. Оставайтесь в тени. Не повторяйте пирейских ошибок. Не следует пачкать без надобности собственные руки. Ведь там имеются индейские племена… Колонисты еще слабы и малочисленны. – Ясно. Однако наша ближайшая задача – уладить положение на острове. Для этого нужно сперва отправиться туда на разведку. – Разведку беру на себя. На рассвете я снимусь с якоря и уйду вперед, чтобы подкрасться к острову неожиданно. Все двести пятьдесят негров находятся у вас на борту? – Д… да-а. – Тогда следуйте за мною. Держите дистанцию в двадцать – тридцать миль между нами. Дайте карту, я нанесу маршрут. Где-нибудь на подступах к острову, хотя бы вот здесь, у гряды подводных скал, бросайте якорь и ждите моего возвращения из разведки… Перед рассветом рейд опустел. К восходу солнца «Элли» оставила за собою уже не менее сорока миль, на дистанции в пятнадцать миль от нее пенила волны «Удача». Расстояние между обоими судами все увеличивалось, и вскоре верхушки мачт отставшей шхуны исчезли из вида мистера Джозефа Лорна.* * *
Синьор Каррачиола рассматривал на карте линию маршрута, нанесенную красным карандашом Лорна. Подводная гряда, о которую едва не разбился «Орион», оставалась чуть восточнее курса, намеченного Лорном. «От гряды до острова – миль восемьдесят. Время года – штормовое. Если я разобью «Удачу» о подводные рифы, все концы уйдут в воду, а самому можно будет на шлюпке добраться до острова. Деньгами, полученными по чекам, придется поделиться с боцманом Химсвеллом и взять его в компанию, потому что одному мне трудно управиться с шлюпкой. Команду я напою и запру в кубрике… А там… успех в Голубой долине покроет все старые грехи. Итак, выход найден!»3
В пасмурный октябрьский полдень капитан Бернардито стоял на мостике корабля, в котором сам покойный мистер Вильсон не смог бы теперь узнать свою «Глорию». Вместо трех мачт с гафельным вооружением над кораблем вздымались две более мощные, с прямыми парусами на реях. Рангоут и такелаж «Глории» напоминали теперь полную оснастку брига. Новые палубные надстройки, рубка и мостик ничем не походили на прежние. Форштевень, усиленный за счет обломков «Доротеи», стал пригодным для таранного удара. Над этим мощным форштевнем красовалась теперь надпись «Африканка». Судно уже в течение недели совершало небольшие рейсы в водах острова. Бернардито обучал команду из восьмидесяти отборных черных воинов. Они уже овладели огнестрельным оружием и управлялись с парусами достаточно быстро для сложных маневров. Бернардито давно ожидал прибытия к острову третьей шхуны экспедиции. На вершине Скалистого пика днем и ночью дежурили наблюдатели с подзорными трубами, чтобы своевременно доложить о появлении паруса. В трюмах «Африканки» были уже погружены запасы для дальнего рейса, а все население острова работало теперь над пополнением этих запасов. Ежедневно на борт корабля доставлялись ящики копченой рыбы, соленого мяса, фруктов, провяленных на солнце, и прочего провианта. Семья капитана Бернардито теперь обитала в капитанской каюте, а все жители острова были в любой миг готовы к сбору. Бернардито держал наготове еще одну команду в тридцать человек. Возглавлял ее жрец и колдун племени баконго, старый Нганга, которому Бернардито убедительно растолковал обязанности этой особой команды… После этих разъяснений колдун Нганга затрясся от злорадного смеха и с великим усердием приступил к неким необычайным приготовлениям. Велись они у прибрежной могилы, куда негры свалили тела убитых работорговцев. Бернардито передал в распоряжение колдуна два бочонка серы и фосфора, найденных в трюмах «Глории», несколько мотков проволоки и большой запас тряпья из гардероба прежних экипажей обеих шхун. Приготовления колдуна доставляли немалое удовольствие и другим жителям поселка. Полуденное солнце скрывалось за тучами, дул сильный ветер, и Бернардито только что отпустил с палубы своих моряков. Они неимоверно гордились своими важными обязанностями, а также штанами, зюйдвестками и матросскими куртками, которые являлись предметом некоторой зависти остальных мужчин баконго и вызывали восторг черных девушек. Внезапно на южном склоне Скалистого пика показалась тоненькая струйка дыма. Этот сигнал означал, что какое-то судно появилось на горизонте. – Антони, тревога! – крикнул Бернардито. И весь поселок на берегу пришел в движение. Антони бегом пустился к пику, чтобы проверить наблюдателя. «Африканка» приняла на борт население острова. Вахтенная команда быстро приготовила судно к отплытию, а колдун Нганга, оставшись на берегу со своими тридцатью помощниками, принялся выполнять последние указания Бернардито. Вождь Майни-Мфуму привел группу воинов к берегу пролива, где тоже были произведены некие приготовления к встрече гостей. Тем временем Антони вернулся вместе с наблюдателями: прямо к острову шло от дальней гряды подводных рифов какое-то небольшое судно, а позади него виднелся еще один парус. Оба корабля удалось разглядеть лишь в сильную подзорную трубу капитана Вильсона. Выслушав это сообщение, Бернардито дал команду к отплытию. На «Африканке» протяжно залилась боцманская дудка. Нгуру и Антони – помощники капитана – стали на мостике. Когда все островитяне собрались на борту, старый корсар один, без спутников, в последний раз обошел свои островные владения. При виде приготовлений, выполненных командой колдуна Нганга, Бернардито, невзирая на решительность минуты и предстоящие опасности, пригладил бороду и усмехнулся в усы; это была, вероятно, самая дьявольская из всех улыбок одноглазого капитана!.. …С борта «Африканки» капитан бросил прощальный взгляд на бухту, покинутые хижины негритянского поселка и знакомые склоны гор. Он сам вывел корабль из пролива. Затем была спущена шлюпка. Майни-Мфуму и группа воинов с большими предосторожностями погрузили на дно пролива рыболовную сеть, прицепили ее к бревну и поспешно вернулись на корабль. В открытом море дул свежий ветер. Паруса затрещали, под форштевнем забурлила рассекаемая вода. С наступлением сумерек судно было уже далеко от острова. Темная вершина Скалистого пика и коническая шапка вулкана с тоненькой струйкой дыма возвышалась над лесистыми холмами. Остроконечный пик, подобно сужающейся колонне, уперся в тяжелую ливневую тучу, словно удерживая ее от падения на косматую поверхность океана. Теперь паруса одного из встречных судов стали различимы в трубу с мостика «Африканки». Бернардито приказал всем, кроме вахтенных, покинуть палубу. Колдун Нганга вынес длинные полотнища. Ими завесили нос и корму корабля. Внешний вид «Африканки» снова претерпевал диковинные изменения, а на палубе ее творились в темноте совсем необыкновенные вещи! В сгустившихся сумерках, когда на фоне грозовых туч смутно обрисовалась игла Скалистого пика, Джозеф Лорн заметил с мостика «Элли» светящееся пятно среди волн. Темнота наплывала быстро, и в подзорную трубу Лорн не разглядел ничего, кроме неяркого фосфоресцирующего сияния над морем. Трессель и Ольберт, старые, испытанные моряки, стояли рядом с Лорном. Яхта шла под полными парусами при неблагоприятном ветре в «одну четверть». Очередной галс яхта делала как раз навстречу световому пятну. Штурвальный выровнял ход по заданному курсу и тоже вгляделся во мрак. Пятно приближалось, приобретая очертания корабля. Вскоре показались паруса и черные реи, излучающие зловещий зеленоватый свет. Странные зеленые огни мерцали на топах мачт. Судно шло ровно, но на нем не было видно людей. Когда штурвальный «Элли» переложил руля чуть левее, встречные курсы кораблей оказались строго параллельными. Наконец форштевни судов оказались на одном траверзе. Встречный корабль бесшумно прошел мимо, на расстоянии пистолетного выстрела. То, что Лорн и остальные моряки успели различить на таинственном судне, было невероятно!.. Надпись «Летучий голландец» слабо светилась на носу. Шесть скелетов в обрывках белых саванов управляли парусами. Голые черепа излучали сияние. Лорн с полной отчетливостью видел их огненные глаза и улыбающийся оскал челюстей. За штурвалом тоже стоял призрак в белом саване, положив костлявые пальцы на спицы колеса. Но самым страшным была неподвижная фигура капитана на мостике. Это был седой высокий человек в старомодном камзоле и треуголке. Его лицо пересекала наискось черная повязка, закрывавшая левый глаз. Длинная шпага висела на боку. Он смотрел вперед, в подзорную трубу, не обращая никакого внимания на встречную яхту. Когда корабль-призрак промчался, Лорн увидел на корме слова «Порт Вечность». Один из скелетов погрозил с кормы вслед яхте костлявым пальцем и потом указал на небо. Лорн, Трессель и Ольберт замерли в немом оцепенении. Штурвальный истово крестился. Через несколько минут призрак снова расплылся в смутное световое пятно и вскоре растворился в морской дали на северо-западе. – «Летучий голландец»! – пробормотал Трессель. – Много я слышал о нем от стариков, но своими глазами вижу впервые. – Это к беде, – произнес Ольберт чуть слышно. – А капитана вы узнали? – Лорн хрипел так, точно выпил бочку ледяного пива. – Он похож на покойного Бернардито Луиса! – вымолвил Ольберт, силясь унять дрожь. – Должно быть, пиратский капитан не успокоился в могиле, и теперь его грешная душа носится в этих водах на «Летучем голландце»… Смилуйся над нами, отец небесный, и отпусти нам наши прегрешения! Ветер крепчает. Близится шторм. Вон над самой водой летает пара черных буревестников… Дай-то бог благополучно закончить этот рейс. Но следовало бы вернуться, пока не поздно, мистер Лорн!Незадолго перед рассветом капитан Бернардито приказал убавить паруса. Ветер усиливался, а гряда подводных рифов была уже близка. Антони стоял на мостике рядом с капитаном. – Хотел бы я знать, откуда взялась эта яхта? – в раздумье проговорил капитан. – Ты не разглядел ее названия, Антони? – Нет, она мелькнула слишком быстро. Но курс она держит на остров. Может быть, Грелли послал ее выяснить судьбу обоих кораблей? – Похоже, что так… Ты ясно разглядел днем второй парус? – Трудно ручаться, капитан. Была неважная видимость, но белое пятнышко в трубе походило на парус. – Не шхуна ли «Удача» с остальными неграми идет следом за этой яхтой? Посмотри-ка, Антони, что там чернеет слева по носу? Не подводная ли это скала? – Нет, это похоже на корабль, капитан. Сейчас луна выглянет из-за тучи, будет светлее… Знакомы ли вам эти рифы впереди, синьор? – Знакомы ли? Я их обшарил, как собственный карман в поисках последней крупинки табаку. – Вы ходили сюда с острова? На чем же, синьор? – На старой шлюпке. Когда французский корвет «Бургундия» разгромил мой экипаж и ушел, Педро обследовал остров и наткнулся на шалаш с полумертвым мистером Фредом. Педро перетащил и меня в этот шалаш. Еще не успев даже оправиться от ран, мы уже начали обзаводиться хозяйством. Грелли оставил нам немного! Мы освидетельствовали наши запасы и увидели, что нам не продержаться с ними и двух недель… Тогда мы подняли со дна простреленную шлюпку, на которой Педро спас меня от французов, и совершили поход сюда, к этим рифам. Здесь еще торчал остов «Черной стрелы», и мы нагрузили шлюпку всем, чем смогли. Шлюпка, что называется, еле дышала, но мы еще дважды совершили на ней это плавание. Инструменты и припасы, которые мы доставили, выручили нас на несколько лет, до первого прихода «Ориона». Потом в первую же бурю «Черную стрелу» разнесло в щепы, да и наша заштопанная шлюпка расползлась… Не помню я здесь высоких скал! Все эти рифы едва виднеются над водой при отливе. Вероятно, впереди действительно еще один корабль… Теперь, под луной, я вижу его отчетливее… Это большая шхуна, Антони! И, черт меня побери, если она не сидит на тех же самых скалах, где разбилась моя «Черная стрела»!
4
«Удача», посаженная Каррачиолой на камни, тонула. Каррачиола вынул из денежного ящика ценности и деньги. Он прибавил к ним небольшой запас галет и бутылку вина. Все это он сложил в прочный парусиновый мешок, сунул нож за пояс и зарядил пистолет. Затем он послал боцмана приготовить шлюпку. Отчаянные вопли, стук и шум, глухо доносившиеся из-под палубы, пока вода заливала трюмы «Удачи», теперь уже затихли. Все люки, ведущие наверх, были накрепко задраены. Волны быстро довершали разгром судна, посаженного на подводные скалы. Корабль оседал с каждой минутой, и половина палубы была уже погружена. Волна за волной ударяла в стенку рубки. Каррачиола, покончив с приготовлениями, оглядел горизонт. – Верно, уж ни одной живой крысы не осталось там внизу… Опохмелились после моего угощения… Глотайте соленую воду, висельники!.. Что там возится Химсвелл с шлюпкой? Опять эта проклятая луна! У, круглая ведьма, думаешь, ты тоже свидетельница? Так тебе и поверили, рожа!.. Но что это там светится в волнах? О, черт, верно, возвращается Лорн! Ну, мистер Химсвелл, в таком случае и вы мне больше не нужны! – Капитан, помогите спустить шлюпку! – крикнул боцман, возясь около борта. Каррачиола добрался до боцмана. Волны глухо шлепались о разбитый борт. Вдвоем они спустили шлюпку с подветренной стороны. Химсвелл с трудом удерживал шлюпку у высоко задранного кормового трапа, вставлял уключины и налаживал весла. Каррачиола бросил вниз свой мешок, спустился с трапа и оттолкнулся от борта. Химсвелл, горбясь, сидел на банке спиною к носу и уже греб, отводя шлюпку от корабля. Сидя на носу шлюпки, Каррачиола вытащил из-за пояса пистолет и выстрелил в затылок гребцу. Капитан «Удачи» перекинул за борт тяжеловесное тело убитого, достал чистый носовой платок, вытер руки и, взявшись за весла, повел пляшущую на веслах шлюпку прямо к светлому пятну на горизонте.Небо на северо-востоке уже серело, но луна, чуть-чуть начавшая убывать, стояла высоко, заливая белым сиянием паруса «Африканки» и виднеющееся впереди судно. По наклоненным мачтам было очевидно, что неизвестная шхуна села на риф. Всматриваясь в даль, Бернардито заметил в двух кабельтовых впереди мелькнувшую шлюпку. – Все по местам! – тихо приказал Бернардито. – Чтоб на виду никого не было! Фосфоресцирующий корабль медленно двигался вперед лишь на кливере и фоке. Шлюпка приближалась к нему. Стал заметен одинокий гребец. Он часто озирался через плечо на странное судно и никак не мог на нем разглядеть ни вахтенных, ни командиров на мостике. Наконец шлюпка глухо стукнулась о борт, кто-то быстро спустил трап и сразу же отступил в тень. Каррачиола привязал шлюпку к трапу и, подобрав со дна свой мешок, поднялся с ним на палубу. Он давно понял, что судно незнакомое и не имеет ничего общего с яхтой Джозефа Лорна. – Синьор Бернардито, вот чудеса! К нам пожаловал сам Джиованни Каррачиола, – прошептал Антони. У Бернардито лязгнули зубы и лицо побледнело от ненависти. Прибывший положил свой денежный мешок на палубу и теперь оглядывался в крайнем изумлении. – Эй, кто здесь, отзовись! – крикнул он громко. – Вахтенный, что это за судно? Черт побери, куда девался матрос у трапа? Мертвая тишина царила на борту. Только волны шумели у форштевня. Луна била прямо в глаза. Наконец с капитанского мостика стало бесшумно спускаться что-то большое, белое, с горящими глазами. У Каррачиолы перехватило дух. Он вытащил пистолет, но, вспомнив, что не успел перезарядить его, бросил бесполезное оружие на палубу. Стук пистолета о доски настила был единственным ответным звуком на возгласы капитана «Удачи». Призрак в белом уже шел по палубе, протягивая вперед руки, будто желая заключить Каррачиолу в свои страшные объятия. Итальянец, охваченный невыразимым ужасом, попятился и вдруг почувствовал, что позади него появились еще какие-то тени. Он обернулся… Несколько скелетов в белых саванах пялили на него красные зрачки из самой глубины мертвых глазных впадин. А впереди этих скелетов неподвижно стояло высокое привидение – моряк в старомодной треуголке, с повязкой на глазу и длинной шпагой в руке. Губы страшного призрака разжались. Раздался глухой голос, похожий на звучание надтреснутого могильного колокола: – Добро пожаловать на корабль мертвых, Джиованни Каррачиола! Я давно ищу встречи с тобой. Вспомни малую бухту в Пирее, детоубийца! – Дух Бернардито! – прошептал Каррачиола и, теряя сознание, грохнулся на палубу… …Он не слышал, как его перенесли к трюмный карцер. Судно уже лавировало между рифами; Бернардито сам вел его через гряду. «Страшные призраки» бесшумно и ловко скользили по реям, и корабль осторожно приблизился к тому месту, где еще час назад виднелось разбитое судно. Теперь только мачты и задранная корма с надписью «Удача», «Бультон» торчали среди остроконечных камней, похожих на сломанные зубы великана. Полузатопленная шлюпка билась на корме. – Синьор, может быть, там есть еще живые люди? – прошептал Антони. – Там нет живых людей, Антони, иначе шлюпка не осталась бы на месте. Поди узнай, очнулся ли тот негодяй в трюме. Внезапно из глубины судового трюма раздался раскатистый истерический хохот, похожий на ночной крик гиены. Антони содрогнулся. Бернардито взглядом послал его вниз. Сам он не мог покинуть мостик. Солнце поднималось в тумане, ветер громоздил высокие валы, с размаху налетавшие на подводные камни. Судно шло в самом опасном месте. Антони возвратился на мостик через полчаса. – Синьор, – сказал он тихо, – Каррачиола просто помешался.
Бред больного был бессвязен. Припадки буйной ярости сменялись целыми часами молчаливой сосредоточенности. Каррачиола замирал на коленях в углу, простаивал часами неподвижно и впадал в полусонное оцепенение. Бернардито приказал не выпускать его из карцера. К полудню корабль миновал опасную гряду и под всеми парусами птицей полетел на северо-запад, подгоняемый попутным ветром. Антони сменил капитана на мостике. – Уберите теперь всю чертовщину, но держите ее в полной готовности. Она еще не раз сослужит нам добрую службу, – распорядился Бернардито. – Я же тем временем займусь лечением этого больного! Мне нужно кое-что выяснить при его помощи. Негры убрали с рей тряпки и обертки со светящимся составом, сложили в трюмы свои белые одеяния, пустые тыквы с глазными отверстиями, маски, кости и прочие устрашающие атрибуты. Полотнища с роковыми названиями корабля и порта были тоже сняты с носа и кормы. На гафеле взвился английский флаг. Каррачиола хохотал и бесновался в трюме. Угрюмый Бернардито позвал колдуна Нганга и потребовал в карцер льда и воды. Никто, кроме старого колдуна, не знал подробностей мрачной сцены в корабельном трюме. Только в лучах заката негры вновь увидели на мостике капитана Бернардито. Набивая свою трубку, он с усмешкой взглянул на обоих молодых помощников, Нгуру и Антони. – У меня свои способы добиваться толку даже от сумасшедших, – проговорил он. – Отец Симон, старый пират в сутане, когда-то поведал мне о своих братьях, севильских доминиканцах… Нынче этот опыт пригодился… Теперь я знаю главное. Шхуна «Удача» была пуста, не считая экипажа, утопленного Каррачиолой, чтобы спрятать в воду концы некоторых его проделок в Капштадте. Негров он продал владельцам алмазных копей. Деньги здесь, в этом мешке. Имена владельцев копей он назвал. Яхта принадлежит Грелли. Джузеппе Лорано, или, как он теперь именуется, Джозеф Лорн, ведет ее к острову. Капитана зовут Трессель. Я им не завидую, друзья!.. Мой сын и моя мать живы и поселились вместе с Мюрреем и Уэнтом в некой Голубой долине в низовьях Огайо. Грелли поручил Каррачиоле убить колонистов долины, но едва ли синьору представится для этого подходящий случай! Однако мы должны дьявольски торопиться, потому что Грелли уже послал в долину полдюжины убийц, которые ждут своего главу – синьора Каррачиолу. У нас чертовски мало времени! Надо еще нанести попутный визит африканским алмазным королям, а затем доставить домой на Конго наших негров; клянусь праматерью, черные молодцы этого заслужили! А потом мы пойдем в Америку… Не печалься, друг мой Нгуру, и не завидуй Тоопи, который везет домой свою Нгаву. Может быть, на руднике нам посчастливится выручить из беды и твою черноокую Лаони! А теперь, Антони, ступай вниз и отомкни карцер. Выпусти негодяя на палубу. Может быть, он сам избавит нас от труда повесить его на рее. Не прошло и пяти минут после возвращения Антони на мостик, как внизу послышался странный шум. Всклокоченный, страшный Каррачиола выскочил на палубу в обрывках нательного белья. Его судорожные, порывистые движения походили на прыжки большой голой обезьяны. Он заметил матросов-негров, и что-то осмысленное, похожее на страх, появилось в его горящем взгляде. Каррачиола постоял минуту, словно в раздумье, затем деловито перекувырнулся на досках настила, захохотал и, подпрыгнув, начал с обезьяньей быстротой карабкаться на бизань-мачту. Один из матросов полез за ним. На тридцатифутовой высоте Каррачиола встал на конце реи, погрозил негру кулаком, подогнул колени и с воплем кинулся в море. Высокий гребень волны скрыл утопающего. Антони схватился за штурвал. – Может быть, поискать его все-таки? – вымолвил он робко. За кормой неторопливо катились водяные холмы, багровея в закатных лучах. – Сейчас его отыщут, – хладнокровно отвечал Бернардито. Он вынул изо рта трубку и указал чубуком на треугольный плавник акулы, мелькнувшей среди пенных бугров.
В коттедже мистера Брендона шли последние приготовления к празднованию дня рождения мисс Ирены. Все служащие конторы собрались в доме хозяина. Минхер ван Арденфройден прислал сюда для услуг свою новую горничную, негритянку Лаони, и лакея Гамилькара. Мисс Ирена нашла, что Лаони выглядит очень мило в европейском платье. Во время молитвы, когда никто не обращал внимания на Лаони, она подошла к туалетному столику, схватила маленького фарфорового слоника и сунула его себе за ворот. Мисс Ирена заметила это. Она подозвала Гамилькара, который один умел кое-как изъясняться с Лаони, и с его помощью подвергла похитительницу строгому допросу. – Зачем ты взяла этого слона, Лаони? Негритянка в испуге присела на корточки и прижала под платьем свое сокровище к груди. Гамилькар заставил ее ответить госпоже. – Она говорит, что жених ее Нгуру – великий охотник за слонами. Белый слон принесет ей счастье. Мисс Ирена махнула рукой и пока оставила талисман перепуганной Лаони. Сама мисс в этот вечер тоже получила в подарок некий талисман, и масштаб счастья, которое он сулил, был точно измерен в каратах. За нарядным столом минхер ван Арденфройден встал с бокалом вина. Подготовленная им праздничная речь должна была послужить образцом изящного юмора. В ту минуту, когда он начал эту блестящую речь, Гамилькар впустил в переднюю какого-то нового гостя в плаще и морском камзоле. Гость, не раздеваясь, отстранил негра и взялся за ручку двери в столовую, откуда доносился голос минхера. – Мы живем, господа, – изощрялся он в голландском остроумии, – в жаркой стране, где крокодилов гораздо больше, чем джентльменов… – …и где крокодилы с успехом возмещают недостаток джентльменов, – прозвучал металлический голос. Дверь широко распахнулась. Все увидели высокого моряка с наполовину забинтованным лицом. Следом за ним появился молодой человек, тоже в форменной одежде. – С кем имею честь? – спросил мистер Айвенс Брендон, сразу почуяв нечто недоброе. – Представитель «Северобританской компании» Джозеф Лорн с правительственными полномочиями из Лондона. Мистер Брендон, мистер ван Арденфройден, прошу в кабинет. Веселье гостей в зале уступило место унынию. В кабинете моряк выглянул в окно и опустил штору. После этих манипуляций он сказал: – Потрудитесь немедленно доставить сюда с рудника четыреста пятьдесят невольников со шхуны «Удача», незаконно задержанных вами. Эти люди следуют на плантацию сэра Фредрика Райленда. Грузиться они должны через три часа. Угодно вам отдать соответствующее распоряжение? – Мистер Лорн, прошу предъявить ваши полномочия. – Извольте, – отвечал гость с готовностью, и мистер Айвенс Брендон увидел у самых своих глаз пистолетное дуло. – Мистер Трессель, дайте сигнал! Молодой спутник забинтованного моряка выбил окно ударом сапога и издал пронзительный свист. Из темной глубины сада прозвучал ответный свист, и внезапно во всех окнах дома появились ружейные стволы, пистолетные дула и английские матросские шапочки. Тот же металлический голос прогремел на весь дом: – Первый, кто пошевелится, живет свой последний час. Господа, – обратился моряк к владельцам, – в вашем распоряжении две минуты для обсуждения моего требования. По истечении этого срока я дам команду двум ротам морской пехоты атаковать рудник и привести к берегу всех чернокожих с ваших копей. – Но, мистер Лорн, двести человек были нам проданы представителем компании! – Ваши деньги можете получить обратно… от синьора Каррачиолы. Я не имею возражений… Две минуты истекли. Мистер Трессель, сигнал к атаке! – Стойте, мистер Лорн! Под давлением грубой силы я вынужден уступить. Но болезни унесли большую часть негров. У нас… неблагоприятный климат. – Мой представитель проверит на месте справедливость ваших утверждений. Через три часа люди должны быть на берегу. Мистер Трессель, извольте отправиться на рудник вместе с посланцами мистера Брендона. Уполномочиваю вас действовать решительно. По прошествии нескольких минут присутствующие в доме услышали топот нескольких лошадей. Ровно через три часа, когда участники вечера, истомившиеся под черными зрачками дул, успели втихомолку, трижды проклясть роковую сделку с капитаном «Удачи», из-за ограды послышался сдержанный гул многих голосов. Юный «мистер Трессель» вошел в гостиную с оживленным лицом. – Прибыли триста человек, все до единого, кто уцелел из состава партии Каррачиолы. Разрешите начать погрузку, капитан? – Нет ли среди них девушки по имени Лаони? – осведомился старший моряк. Новая горничная минхера ван Арденфройдена, забившаяся в угол гостиной и решительно ничего не понимавшая в странном поведении белых людей, сделала столь поспешную попытку улизнуть за портьеру, что моряк заметил эту молодую особу. – Позовите сюда Нгуру, – приказал он. При этом имени негритянка застыла от изумления; в следующий миг она увидела своего жениха, вооруженного длинным пистолетом. Лаони не лишилась чувств при этом зрелище, но глаза ее заблестели. – Я знала, что белый слон приведет тебя ко мне! – воскликнула она радостно.. Нгуру схватил ее в охапку и бросился из комнаты, даже не взглянув на убранство европейского жилья. – Предупреждаю господ, – заявил старый моряк на прощание, – что на любую попытку преследования нас в море я, по приказу морского министра, отвечу пушками своего фрегата. Часом позже, когда растерянные служащие мистера Брендона рискнули выйти на берег маленькой бухты, они увидели вдали только смутные очертания парусов. Впоследствии служащие в один голос утверждали, что никогда не видывали у этих берегов более грозного британского фрегата.
5
Моряки на мостике «Элли» долго обсуждали странное и зловещее видение, исчезнувшее на северо-западе. Штормовой ветер бросал легкое судно в глубокие провалы между волнами. Ночью корабль подошел к острову, окруженному со всех сторон высокой стеной океанского прибоя. Лорн, Трессель и Ольберт вглядывались в карту острова, некогда составленную Брентлеем и Уэнтом. Яхта была уже в одной миле от горловины пролива. – Если негры и впрямь восстали, они могут обстрелять нас в проливе и отрезать выход из бухты, – сказал Лорн. – Но бухта Корсара – единственное место на острове, пригодное для стоянки судна, – заметил Трессель. – Не думаю, чтобы в бухте нам грозила какая-либо опасность. Остров кажется совершенно безлюдным. Нигде нет ни одного огонька. – Вот это мне и не нравится. Вместе с экипажами обеих шхун здесь должно быть сейчас более семисот человек. Дождемся рассвета. Вскоре серые очертания каменных мысов сделались отчетливыми; дали раздвинулись, луна померкла, и утренний ветер изменил направление. Он погнал над островом низкие грозовые тучи. Справа от каменного мыса, позади вздыбленных валов прибоя, моряки увидели остатки разбитой шхуны. Джозеф Лорн узнал корму «Доротеи». – Долго прождал бы Каррачиола в Капштадте возвращения кораблей! – воскликнул Лорн. – Картина проясняется. Произошло кораблекрушение. Предположение, что негры взбунтовались, по-видимому, отпадает. Вводите корабль в бухту, капитан. Послушное рулю судно вошло в горловину пролива. Здесь, между высокими скалистыми берегами, еще царили утренние сумерки. Яхта медленно двигалась посреди фарватера и благополучно достигла поворота влево. В этом месте судно едва не наскочило на бревенчатую запруду, оставлявшую лишь узкую протоку справа, под самыми береговыми скалами. Штурвальный едва успел отвернуть, и яхта оказалась почти прижатой к берегу, над которым на высоте трех десятков футов нависал каменный выступ. Упираясь баграми в скалу, матросы осторожно провели корабль через неудобное место. Судно уже выходило из узкой протоки, как вдруг стоявший на мостике Лорн ощутил упругий толчок. Киль яхты зацепился за рыболовную сеть, прикрепленную к полузатопленному бревну. Лорн не успел предупредить Тресселя, как сеть натянулась и медленно отвела бревно в сторону. В тот же миг где-то вверху раздался глухой взрыв, береговую скалу окутал пороховой дым, и свисавший каменный выступ сорвался вниз. Сотрясая корабль от киля до верхушки мачт, скала вместе с целой лавиной мелких камней рухнула на корму. Настил палубы был взломан с такой силой, что уцелевшие концы досок разом взлетели вверх с вырванными болтами. Задняя часть корпуса яхты треснула, как скорлупа ореха в щипцах; вода хлынула в кормовой отсек, раздавила переборки, и «Элли» по самый фальшборт погрузилась в воду. От страшного толчка в корму судно рванулось вперед. Команда не успела даже спустить шлюпку, как яхта тихо осела на дно. У отмели было уже неглубоко, но все моряки оказались по грудь в воде, а шлюпка, подвешенная на талях и покрытая запасным парусом, закачалась на волнах. Почти ныряя, моряки освободили шлюпку, перебрались в нее и, покинув корабль, достигли отмели. Штук шесть крокодилов проявили признаки любопытства при виде шлюпки в их непосредственном соседстве. Выйти на берег через отмель можно было лишь мимо крокодильих челюстей, поэтому было решено на шлюпке пересечь бухту наискось, к противоположному берегу. Ловушка в проливе показала, что остров находится во власти коварного и опасного врага. Ольберт, штурман «Элли», сгорбившись на корме, ежесекундно ожидал либо залпа в спину, либо появления лодок с врагами. Он давно дивился тому легкомыслию, с каким Лорн пустился в этот рейс. Яхта вышла из Капштадта в понедельник. Экипаж насчитывал вместе с Лорном тринадцать человек. Рейс продолжался после грозного ночного появления «Летучего голландца», хотя он, Ольберт, посоветовал вернуться. Чего же можно было теперь ожидать при столь явном неуважении к самым верным приметам? Царившая вокруг тишина действовала угнетающе. За каждым деревом чудились злобные недруги. Остров казался вымершим; но было совершенно ясно, что враг затаился и держится наготове. Приготовив ножи, моряки подвели шлюпку к берегу. Джозеф Лорн вышел на песчаную полосу. Перед ним была нетронутая лесная чаща. Он повернулся к матросам, отдал команду и первым побежал в сторону зарослей, ожидая выстрелов. Команда, пригибаясь к земле, спешила за ним. Но лесное безмолвие нарушали только птицы. Вдали отчетливо виднелся островной вулкан. Он курился – и это был здесь, по-видимому, единственный дымящийся очаг. Продираясь вдоль берега сквозь колючую чащу, матросы добрались до расчищенного участка леса. Здесь виднелось несколько десятков плетеных хижин и шалашей. Левее торчали остовы двух палаток, дальше высились штабели бревен, остатки лесопильных помостов и громадные кучи хвороста. – Поселок необитаем, – тихо проговорил Джозеф Лорн. – Из чего вы это заключаете? – полюбопытствовал Трессель. – Вглядитесь, и вы увидите сами. Трессель заметил, что много птиц без помех разгуливают среди строений и перепархивают с кровли на кровлю. Никто не тревожил пернатых в этом пустом поселке. – Вы правы. Но начинается дождь. Не поискать ли убежища в поселке? Там легче и обороняться в случае неожиданного нападения. Ближайшая к берегу хижина, самая поместительная, открыто располагалась на небольшом возвышении. Для обороны она казалась самой удобной. Стая диких голубей шумно взлетела из-под ног матросов, когда они приблизились к этой хижине. Лорн заглянул внутрь. Просторная хижина была пуста, около очага с давно остывшей золой лежала поленница дров. Матросы развели в очаге огонь. Дождь уже барабанилпо крыше. – Куда же девалась «Глория»? В бухте ее нет. Может быть, она разбилась на подводной гряде? Но где же экипаж «Доротеи»? Неужели все погибли? Наконец Лорн не выдержал давящей тишины. Он рупором приложил руки к губам: – А-хой, О’Хири! Хетчинсон! Хэллоу, Вильсон! Куда вы все провалились? А-хой! Теперь уже весь экипаж «Элли», следуя примеру Лорна, протяжно орал «хэллоу» и «а-хой» на разные голоса. Только шелест деревьев и журчание дождевых струй были ответом на эти крики. – Чума его побери, этот остров! – пробормотал охрипший Лорн. Он выставил двух часовых, приказал корабельному коку поискать какой-нибудь провизии в ближайших хижинах и вместе с Тресселем и Ольбертом отправился обследовать поселок. – Хижины негритянские, – сказал он своим спутникам. – Но взрыв при входе в бухту – это европейская выдумка. Возможно, здесь прячутся и какие-то белые островитяне. Но чертовски тихо. Это действует на нервы, сакраменто! Хижины отстояли друг от друга на двадцать – тридцать ярдов. Моряки заглянули в одну, в другую… Все они были пусты. Вдруг Ольберт схватил Лорна за рукав: – Что это значит, мистер Лорн? В лесу, кажется, появился дым! И вон, над той хижиной, тоже поднимается струйка дыма! Они осторожно пошли вдоль строений и изгородей поселка. Сейчас они встретят, по крайней мере, живые существа! Лорн поднял плетеную циновку, прикрывавшую вход в низкую хижину, над которой моряки заметили дымок. В хижине было темновато. Взбудораженные моряки не обратили внимания на странный, неприятный запах. О фосфоре, воспламеняющемся от воды, они не вспомнили, им было не до химии… Крыша в хижине была худая, с потолка падали дождевые капли, но в очаге слабо мерцало голубоватое пламя. Перед очагом… четыре скелета разводили огонь! Они склонили голые черепа, как бы раздувая костер. Один скелет замер в неподвижной позе со связкой хвороста в костлявых руках, но… концы хвороста тлели голубоватым огнем. Скелеты грелись у костра! Ольберт опрометью выскочил из хижины и с криком ужаса пустился бежать между строениями. Трессель, поборов страх, схватил полено и запустил им в странную компанию у очага. Два скелета рассыпались с сухим стуком, один из черепов покатился под ноги Лорну. Покидая хижину, тот с проклятием отшвырнул его ногой. Внезапно оглушительный грохот потряс все побережье бухты и, как бичом, подхлестнул напряженные нервы Лорна. Выбегая на улицу, он увидел черную тучу взлетевшей земли на месте хижины, где прятались матросы. Сквозь дымовую пелену Лорн успел заметить, как Ольберт, не добежавший до хижины, упал навзничь, подброшенный силой взрыва на воздух. Вместе с Тресселем Лорн подбежал к месту взрыва. Оглушенный Ольберт уже поднимался на ноги, дико озираясь по сторонам. На месте хижины чернела глубокая воронка. Кругом валялись обломки, вывернутые камни и девять мертвых матросов «Элли». Случайно избежал гибели только корабельный кок, покинувший хижину перед самым взрывом, чтобы поискать по соседству какого-нибудь провианта. Четверо почти безоружных людей, голодных, объятых ужасом и окруженных со всех сторон таинственными опасностями, решили покинуть поселок мертвых. Огонь в лесу, давно замеченный Ольбертом, разгорался все ярче. Над лесом медленно, словно утренняя заря, разливалось алое зарево. Кок и Ольберт вышли на тропу, Лорн и Трессель следовали за ними. Тропа, извиваясь среди густых зарослей, вела в глубь леса. Вывороченный корень тянулся поперек тропинки. Кок наступил на корень, но не успел даже занести другую ногу, как в воздухе что-то пронзительно свистнуло. Матрос рухнул навзничь, едва не сбив с ног Ольберта. Из груди мертвого кока торчала длинная стрела, пронзившая его насквозь. Лорн осмотрел корень и раздвинул кусты: возле самой тропы, укрепленный вертикально, стоял в кустах высокий лук со спущенной тетивой… – Негритянская штука… – пробормотал Ольберт. – Я слышал о таких ловушках в африканских дебрях. Помоги нам бог выбраться отсюда!.. Смотрите, мистер Лорн, мы со всех сторон окружены лесным пожаром! Лес подожжен, нас берут в огненное кольцо. Лорн осмотрелся вокруг. Птицы с тревожными криками носились над облаками дыма. Из чащи то и дело выбегали козы, шакалы, обезьяны. Спасения следовало искать в горах, но как добраться до них, минуя проклятые тропинки? Трое уцелевших моряков стали пробираться вслед за убегавшими животными. Несколько часов они шли по лесу и наконец достигли предгорий. Ущелье с каменистыми склонами, постепенно повышаясь, вело к Скалистому пику. День близился к концу. Дождь утих, и сильный ветер раздувал лесной пожар. Моряки поднялись еще на милю вверх по ущелью, увидели закатное солнце, лес, охваченный пожаром, и низкие тучи. В бухте, рядом с желтой отмелью, виднелись мачты затонувшей «Элли». – Поищем себе убежище для ночлега, – предложил Лорн. – Если к нам попытаются ночью подползти, будем драться. Но, кроме этих проклятых мертвецов, на всем острове не видно ни одного человеческого существа. Ведь не скелеты же, в самом деле, хозяйничают в поселке, устраивают взрывы и жгут леса? Все это похоже на какую-то дьявольщину! Они вскарабкались по крутому склону. Солнце освещало последними лучами мшистую поверхность скалы с какими-то полосами и значками. Лорн с трудом разобрал длинную поминальную надпись. – Могила Бернардито!.. – прошептал он. Все трое, почти теряя силы от усталости, преодолели последний подъем и увидели площадку. Но она оказалась уже занятой. Странные здесь обосновались гости! Посреди площадки, под самой надписью, высился могильный холм, покрытый гранитной плитой. Вокруг этой плиты шел странный пир: одиннадцать мертвецов сидели в самых причудливых позах над местом вечного упокоения Бернардито Луиса. Голые черепа доверительно клонились друг к дружке, будто мертвецы о чем-то совещались. А на самой могильной плите стояли бутылки и оловянные кружки. У Ольберта волосы зашевелились на темени. Джозеф Лорн отступил от края, Трессель чувствовал себя уже близким к потере рассудка. Они торопливо покинули площадку веселых покойников и перебрались на уступ, откуда срывался водопад. Кругом сгустилась мгла. Края туч озарялись кроваво-красным заревом пожара. А вдали, за облаками дыма, чернели береговые мысы и глухо ревел океан, разбивая вал за валом об утесы «острова мертвых». Утром мистеры Джозеф Лорн, Хью Ольберт и Роберт Трессель сами подивились тому обстоятельству, что они еще живы и что страшная ночь миновала благополучно. При утреннем свете они увидели на дне ущелья стадо диких коз. Выгнанные со склонов горы пожаром, они сбились в кучу на берегу ручья. Подкравшийся Лорн ударом ножа убил раненого козленка. Моряки развели костер. Это была их первая трапеза после гибели яхты. Подкрепившись, они выбрались руслом ручья к бухте и под вечер добрались до своей шлюпки. Суденышко оказалось в сохранности. Моряки долго осматривали шлюпку, опасаясь новых козней врагов, и наконец пересекли бухту. Крокодилы покинули песчаную отмель, потревоженные низко стелющимся дымом пожара. В песке лежало много черепашьих яиц. Моряки испекли их и наелись досыта. Раздевшись и не выпуская из рук ножей, они принялись осматривать полузатонувшую «Элли». Было время отлива, и крышка задраенного люка выступала из воды. Моряки взломали люк багром и спустились в трюм. Здесь они нашли запасы провианта. – Слушай, Джо, что ты думаешь обо всей этой чертовщине? Спим мы или отравились ромом? Слова Тресселя глухо звучали в трюме. Лорн перекрестился. – Хотел бы я оказаться за тысячу миль отсюда! Видно, ад выпустил на этот остров всех своих детей. Надо уносить ноги отсюда. Я предлагаю выйти в море на шлюпке. Пойдем навстречу шхуне Каррачиолы и повернем ее на шестнадцать румбов. Пусть сам дьявол занимается плантацией на острове Райленда. Я ему здесь не слуга! По мне, лучше десять раз утонуть, чем провести еще один такой денек. Трессель и Ольберт обрадованно согласились. Шхуна Каррачиолы, как они полагали, остановилась неподалеку от подводной гряды рифов. Это шестьдесят – восемьдесят миль; есть шансы на спасение. Посланцы виконта Ченсфильда вооружили шлюпку парусом, взяли запас продовольствия и бочонок воды, соорудили на корме парусиновый навес и заняли места гребцов. Лорн принес из рубки штурвальное колесо «Элли», судовой журнал и денежный ящик. Оружия у моряков по-прежнему не было. Перекрестившись, Лорн оттолкнул шлюпку от песчаной отмели. Они благополучно миновали пролив, поставили парус и пошли вперед, борясь с волнами и течением. Вскоре остров, объятый дымом пожара, отдалился, и маленькая скорлупка с тремя беглецами оказалась во власти угрюмого, пустынного океана… На вторые сутки плавания шлюпка подошла к подводной гряде. Здесь, к своему ужасу, моряки увидели остатки разбитой «Удачи». Осмотрев погибшую шхуну, они смогли лишь немногим пополнить свои запасы, но зато перебрались в другую шлюпку, более устойчивую и поместительную. Дальнейшее путешествие на шлюпке с «Удачи» длилось почти три недели. Уже кончились запасы, а бочонок из-под воды пустовал третьи сутки, когда в двухстах милях от Игольного мыса моряки были подобраны кораблем, шедшим в Вест-Индию. Когда они добрались туда, истратив все деньги, им пришлось наняться на каботажное судно Вест-Индской компании и проплавать два месяца. Попутным рейсом британское судно доставило их до Гибралтара. Лишь к зиме 1779 года все три моряка ступили наконец на английскую землю в Бристоле и в качестве пассажиров почтовой кареты прибыли к бультонской гостинице «Белый медведь». К своему удивлению, Джозеф Лорн узнал в лице нового владельца гостиницы «Белый медведь» мистера Вудро Крейга, весьма пополневшего и еще более величественного. Пока Хью Ольберт и Роберт Трессель откупоривали первую бутылку, мистер Джозеф Лорн, выслушав от Крейга новости, взял наемный кеб и отправился к своему высокому патрону, сэру Райленду, графу Ченсфильду, адмиралу отечественного флота.6
Неимоверная теснота царила на борту «Африканки». Более семисот спасенных из неволи возвращались на Конго. Чернокожие матросы капитана Бернардито, производя парусные маневры, буквально переступали на палубе через тела своих соплеменников. Корабль сделал на протяжении всего пути от Капштадта только два захода в островные бухты, чтобы пополнить запасы пресной воды. В начале ноября 1778 года «Африканка» приняла на борт туземного лоцмана и, минуя португальские фактории в дельте, поднялась на сотню миль вверх по священному Конго. Судно двигалось в окружении целой флотилии негритянских челноков и лодок с причудливо скроенными парусами. По берегам простирались болотистые заросли и зеленели тропические леса. С мостика открывался вид на густолиственные чащи, перевитые ползучими растениями. Навстречу кораблю прибыл из своей резиденции сам Нгуди-Мианге, властитель обширной области, вождь баконго, отец военачальника Майни-Мфуму. Под грохот барабанов, звуки труб и тростниковых флейт, под струнную музыку маримб и оглушительные приветственные крики старый Нгуди-Мианге прежде сына обнял высокого капитана в потертой треуголке. Бернардито, Антони и Доротея сошли на берег и в сопровождении сотен людей совершили на слонах небольшое путешествие до священного озера близ Мбанза-Конго, где высился храм, посвященный царю богов и всем предкам народа баконго. Жрецы ввели одноглазого капитана в этот храм и торжественно провозгласили его великим Чэмбу, божественным посланцем на земле, всевидящим светлым оком, сокрушающим копьем, молнией божественного гнева, могучим баобабом и пальмой пустыни. Утомленный продолжительными почестями, «великий Чэмбу» взирал на толпу черных людей своим «всевидящим светлым оком». Под конец церемонии он произнес короткую речь, которую Антони перевел воинам и женщинам. Бернардито подарил чернокожему племени часть трофейного оружия и припасов, а затем осведомился, согласен ли новый экипаж «Африканки» следовать с «великим Чэмбу» до тех пор, пока в его распоряжении нет других матросов. Антони перевел капитану, что жрецы обязали экипаж не покидать корабля. Наконец настал час расставания. Длинная процессия двинулась к берегам Конго. В трюмы «Африканки» были погружены слоновые бивни, драгоценная черная и красная древесина, много изделий из золота, серебра и слоновой кости. Но самый удивительный подарок «великому Чэмбу» сделал правитель Нгуди-Мианге. По его повелению искуснейшие негритянские мастера, изготовлявшие украшения царского дворца и храма, выточили из драгоценных минералов искусственное око – точное подобие здорового глаза Бернардито. Капитан с удивлением рассматривал подарок; примерив его к своей глазнице, он подивился мастерству негритянских ювелиров: искусственное око выглядело на лице капитана вполне натурально. – Хорошая штука, – сказал капитан и расстался со своей черной повязкой на лице. Когда «Африканка» развернулась по фарватеру, подняла часть парусов и тихо тронулась в обратный путь вниз по реке, Бернардито увидел лодку, шедшую наперерез кораблю. Шестеро гребцов подвели лодку к трапу. На носу стоял вождь Майни-Мфуму. Он склонился перед Бернардито: – Старейшины племени решили, что первые люди баконго, увидевшие на острове твое прозорливое око и спасенные тобою из неволи, должны всегда помогать тебе в великих подвигах твоих. Народ баконго хочет, чтобы эти отважные воины не отлучались от тебя, не знали иных вождей, кроме тебя, сопровождали тебя повсюду и исполняли твою волю. Нгуру, Тоопи, Мгамбу, Нгано, Тимбу и Нори – шестеро первых беглецов с «Доротеи» – поднялись на борт. Бернардито давно дивился, что не видел во время прощальной церемонии своих друзей, и теперь обрадовался их приходу. – Вы решили оставить Нгаву и Лаони, друзья, чтобы сопровождать меня? – спросил он растроганно. Тень печали мелькнула в глазах Нгуру, но он отвечал, что все шесть воинов гордятся возложенной на них честью, а Лаони и Нгава должны будут поискать себе новых женихов. – Нет, друзья, – сказал Бернардито, – я могу взять с собой только тех, чьи сердца всецело принадлежат мне. Пусть Нгуру и Тоопи остаются в своем племени и не забывают, чему я научил их. Они станут большими воинами и вождями. Лаони и Нгаве не придется искать новых женихов. Остальных четырех могучих сынов племени я с радостью принимаю под свои паруса, ибо сердца их свободны. Оба молодых воина, освобожденные «великим Чэмбу» от наложенного на них обета, весьма довольные мудрым решением, простились с «всевидящим оком», а четверка телохранителей «великого Чэмбу» присоединилась к остальным восьми десяткам корабельного экипажа. С этим экипажем судно покинуло пресные воды Конго и взяло курс на Новую Англию.В январе 1779 года «Африканка» подошла к берегам Америки и бросила якорь в порту Филадельфии. Команда состояла из негров. Капитан этого корабля мистер Тоббиас Чембей снял в городе живописный домик для своей жены и маленького сына Чарльза. Синьора Доротея Чембей, очень красивая итальянка, обратила на себя внимание даже суровых пуритан Новой Англии. Она сама наблюдала за разгрузкой судна и вела все дела с купцами, пожелавшими приобрести редкостные колониальные товары. Сам капитан Чембей пробыл в Филадельфии не более двух дней. Закупив теплую одежду и лошадей и не дав себе ни дня отдыха, он двинулся на запад, держа путь к перевалу через Аппалачские горы; даже нанятые им проводники-индейцы дивились быстроте его марша: индейцам еще не встречался такой выносливый и неутомимый белый путешественник. Капитана сопровождали, кроме индейских проводников, четыре негра атлетического телосложения, молодой итальянец синьор Антони, а также свирепая серая овчарка, похожая на необыкновенно крупного волка. В середине января, преодолев по военным дорогам и тропам более трехсот миль, экспедиция мистера Чембея была уже в верховьях реки Огайо. Отсюда путь ее лежал по заснеженным дебрям, вдоль берега замерзшей реки, по следам недавно прошедшего здесь отряда американской милиции под командованием подполковника Георга Роджера Кларка*["104].
18. Всевидящее око
1
Для путника в зимнем лесу нет звука тоскливее, чем отдаленный волчий вой. Когда померкнет закатная заря, сумерки сольют очертания отдельных деревьев в сплошную зубчатую стену и над этой дремучей стеной поднимется белый серп невидимой жницы, тогда из глухой лощины или с берега реки потянется в зимнее небо высокий, хрипловатый, бесконечно печальный стон. Кажется, будто сама лесная зима плачется месяцу на холод, голод и одиночество. То нарастая до отчаянного визга, то падая до низкого злого урчания, этот вой, повторенный лесным эхом, берет путника за душу и нагоняет на самые мужественные сердца невыразимо тоскливую жуть. И хочет не хочет, а зовет тогда человек себе на выручку самого древнего из своих богов-покровителей – огонь охотничьего костра. …Быстрый Олень, молодой воин ирокезского племени онондага, почуял в лесном воздухе запах чужого костра раньше, чем успел разглядеть самый огонек. Индеец потянул в себя воздух и остановил в чаще леса своих спутников. Жестом он показал им, что впереди – неведомая опасность. Сородич Быстрого Оленя, Длинная Рука, показал спутникам на кусты, где им следовало спрятаться; оба индейских воина ушли вперед, на рекогносцировку. Под их ногами не заскрипел снежок, не хрустнула ни одна веточка, не зашелестела опавшая хвоя. Воины возвратились очень скоро. – Два могавка ведут из Дайтона шестерых белых чужеземцев-инглизов. Один из них стар. Они вооружены. Но это не солдаты Великого Отца инглизов и не торговцы пушниной. – Что же решил мой брат Быстрый Олень? Кто эти люди и куда они держат путь? Опасна ли встреча с ними? – спросил по-английски старший из путников, человек в оленьей шапке, индейских мокасинах и с двуствольным штуцером в руках. Воин отвечал на смешанном жаргоне чинук, состоящем из английских, французских и индейских слов. Этим жаргоном пользовались все индейские племена, торговавшие пушниной с европейцами в стороне Великих озер и в бассейне реки Огайо. – Могавки – братья племени онондага. Но с тех пор как в долине Онондага погас огонь Совета, не стало согласия и между братьями. Два могавка провожают этих чужих инглизов тоже на запад, в сторону Отца Вод. Наша тропа ведет туда же. Пусть Зоркое Око сам решит, выйти ли ему к этим инглизам. – Есть ли поблизости индейские селения или фактории белых? – На излучине Огайо живут белые. Там пушная фактория. Туда один день пути. Индейские селения далеко. Здесь – охотничьи земли моего народа. Дайтон – поселок белых – лежит на север. Те люди идут оттуда… дней пять. – Антони, – обернулся человек со штуцером к молодому охотнику, который удерживал на сворке огромную серую овчарку, – твое мнение? – Я предложил бы вам остаться в засаде с Длинной Рукой и четырьмя негритянскими воинами, сеньор Бернардито; а нам с Быстрым Оленем разрешите пойти к костру и посмотреть, что это за люди. – Ты становишься воином, мой молодой друг… Согласен! Ступайте, а мы тем временем возьмем этих людей в кольцо. Сигнал опасности – выстрел. Вперед, друзья! Маневр окружения чужого костра был выполнен бесшумно и быстро. Бернардито положил свой штуцер на еловый сук и вгляделся в мерцающий огонек. Скоро послышался голос Быстрого Оленя, который издали крикнул что-то индейским воинам у костра и в сопровождении Антони Ченни смело пошел на огонь. У костра замелькали тени, послышались приглушенные голоса. Вскоре Антони вернулся к людям, оставшимся в засаде. – Сеньор Бернардито, – сказал он, – чужаки не похожи на здешних колонистов, но и от фортов с солдатами они, по-видимому, намерены держаться вдали. Мне кажется, это не враги. Но идут они в Голубую долину и притом спешат не меньше нас. – В Голубую долину? Что ж, постараемся в дороге разобраться в их намерениях. Действительно, похоже, что это не враги, потому что иначе они не прятались бы от британских солдат… Идем к ним, Антони, но держи и уши и глаза открытыми! Не забывай о возможных посланцах Джакомо Грелли!Уже несколько дней пробирался на запад объединенный отряд. Привалы сокращали до крайней возможности, на ночлеги останавливались уже при звездах, а костры ночных стоянок закидывали снегом еще затемно. Сотни миль лесной глуши оставались за плечами путников. Четыре индейских воина дивились столь быстрому маршу, непривычно трудному для белых людей. Чем ближе к цели, тем осторожнее становились воины: отряд пробирался через земли племен сенека и кайюга, пославших американским колонистам вампум*["105] войны. Вместе с белыми солдатами инглизов воины сенека, кайюга, часть могавков и алгонкинское племя шавниев шли теперь «по тропе великой войны». В лесах гремели выстрелы: одни красные воины убивали других красных воинов, разоряли друг у друга селения, атаковали поселки, и все это – во имя щедрых обещаний английского короля, объявившего индейцев своими «детьми» и обещавшего вернуть им прежние земли и вольную жизнь, как только будет покончено с непокорными колонистами… В первых числах февраля 1779 года отряд приблизился к водопадам в низовьях Огайо. Воины ушли на разведку, Бернардито и Антони вместе с неграми готовили на ночь шалаш и костер. Ужин поспел, когда проводники вернулись, неся на руках чье-то тело, укрытое плащом Быстрого Оленя. Антони приоткрыл лицо человека и увидел старого индейца с заострившимся носом, глубоко запавшими глазами и несколькими орлиными перьями, прикрепленными к пучку волос на темени. Человек был тяжело ранен пулей в ногу. По кровавому следу разведчики отряда нашли этого старого воина в лесном укрытии и принесли его к месту ночлега. Человек пришел в сознание. Его подкрепили глотком разведенного спирта, накормили ужином и положили у костра из трех толстых бревен, расположенных так, чтобы они давали равномерно тепло всем, кто спал в шалаше, и не затухали до самого рассвета. На своих спасителей старый воин глядел с полным равнодушием и сначала не отвечал на вопросы. Потом его, по-видимому, удивила и даже тронула забота, проявленная о нем чужими путниками, которые не пожалели для него ни хорошей еды, ни даже «огненной воды». Жестом он показал, что доволен и желает теперь уснуть, а после отдыха будет говорить с Зорким Оком, в котором, очевидно, признал вождя маленькой экспедиции. Зоркое Око расположился у костра, набил свою неизменную трубку и, посматривая на лицо спящего индейского воина, пригласил старшего из группы дайтонских охотников сесть поближе к огню. – Вот уже не первую ночь мы проводим с вами у одного костра, и цель нашего пути общая; из-за каждого куста грозит опасность, и делить ее, возможно, придется вместе. Но до сих пор мы еще ничего не знаем друг о друге… Меня зовут Тоббиас Чембей. Бернардито дружелюбно протянул старику табакерку. Тот решительно отказался. Капитан продолжал расспросы: – По вашим рукам я вижу, что вы – ремесленник, а спутники ваши, по-видимому, крестьяне из Ирландии. Вы квакер? – Нет, методист*["106]. – Не больно-то я разбираюсь в этих тонкостях веры. Не назовете ли вы ваше имя, синьор? – Меня зовут Элиот Меджерсон. Я бывший рабочий с ланкаширской мануфактуры. – И давно вы из Англии? – Четыре месяца назад… Скажите, мистер Чембей, а эти ваши черные спутники… Вы что же, верно, имеете касательство к работорговцам? Бернардито расхохотался так, что огонь в костре колыхнулся и спящий индеец пошевелился. – О да, синьор Меджерсон, к работорговцам я действительно имел некоторое касательство… Только мои черные спутники не были в обиде за это. – Вас, мистер Чембей, тоже нелегко разгадать… Ведь вы не траппер, не простой охотник, не торговец пушниной и кожами… А может быть, вы вербовщик или «дух»?*["107] – Хм! «Дух», говорите вы, синьор Меджерсон? Пожалуй, тут вы попали в самую точку. Ха-ха-ха! И верно, что «дух»… Без плоти и крови, но с добрыми кулаками, каррамба! Меджерсон недоверчиво смотрел на странного спутника. Его правый глаз искрился весельем, левое око было мертвенно-спокойным… Что за цель у него в Голубой долине? Откуда он?.. – Каким судном вы, мистер Чембей, прибыли к побережью? В каком порту вы ступили на американскую землю? – Высадился я близ Филадельфии, с брига «Африканка». – Не из Капштадта ли прибыло ваше судно? – Да, действительно из Капштадта, с заходом в Гвинейский залив, к устью Заиры. – А этот молодой итальянец зовется Каррачиола, не так ли? – в упор глядя на Бернардито, спросил старик. Бернардито схватил Меджерсона за плечи: – Вы слышали об этом негодяе? Заклинаю вас именем Бога, откройте мне, что вас ведет в Голубую долину, синьор! – Ведет меня долг защитника обманутых и слабых… Если этот молодой человек не Каррачиола из Капштадта, а вы прибыли не с транспортом «Омега» через Йорктаун, тогда, быть может, мы с вами не помеха друг другу в Голубой долине! – Синьор Меджерсон, Каррачиола мертв! Он пал от наших рук. О транспорте «Омега» мне ничего не известно. Не станем пытаться проникнуть в тайны друг друга. Но знайте, что, если вы спешите на помощь людям Голубой долины, у вас нет союзника вернее меня и синьора Антонио!.. Однако наш больной просыпается… Раненый индеец приподнялся на локте и попросил пить. Бернардито сам напоил его из берестяной кружки. Старый индейский воин осмотрел свою перевязку и остался доволен врачебным искусством Бернардито и Антони. Он неторопливо достал трубку, украшенную резьбой, набил ее из табакерки Бернардито и предложил первую затяжку Зоркому Оку. Капитан потянул из трубки и передал ее вкруговую. Когда все охотники покурили, трубка вернулась к ее хозяину. Он поудобнее оперся спиной о груду еловых веток и начал свой рассказ о событиях в лесном краю… – Слушайте меня, чужие охотники, гости наших лесов. Я расскажу о делах ваших бледнолицых собратьев; они чернее, чем кожа ваших негров, этих черных людей с чистыми душами. Вы услышите правду, которую я знаю от своей матери. Я вижу, что ваши матери научили вас хорошим обычаям, а ваши отцы сделали вас настоящими мужчинами. Это хорошо! Таких, как вы, среди белых мало. У них немного настоящих мужей. Они сильны хитростью слабых и коварством трусов… Зовут меня Летящий Камень. Я из рода Волка в племени сенека. Мой отец был сахемом*["108] племени; моя мать, по имени Длинная Память, прожила больше ста зим и помнит еще те времена, когда в долине Онондага сидели у огня Великого Совета старейшины пяти племен нашего народа. Гуроны, наши враги, которых мы победили и рассеяли, в своей бессильной ненависти прозвали наш народ ирокезами*["109], и бледнолицые стали называть нас этим же именем. Сами же мы зовемся народом Длинного Дома, ибо еще моя мать в юности жила в таком длинном доме, где горело пять очагов и под одной крышей обитало в дружбе и согласии десять семейств нашего рода. В этом роду моя мать стала правительницей. Столько раз, сколько зажигались в долине Онондага костры Великого Совета, моя мать ходила туда за сотни миль вместе с другими главными женщинами племен сенека, онондага, кайюга, онейда и могавков*["110]. Мать помнит, что в Совете загорелся шестой огонь и племя тускарора вошло шестым в союз нашего народа. Земли и охотничьи угодья наших племен нельзя охватить глазом орла с неба: от Отца Вод Миссисипи до Аллеганских гор и от скалистого ущелья, где беснуется чудовище Ниагары, до чистых вод реки Теннесси. Все чужие племена, кому была нужда проходить через наши земли, платили дань мехами и вампумами нашему народу. Велики были зимние запасы маиса в селениях, а в осенних полях кукурузные стебли были столь высоки, что в наших маисовых посевах заблудиться было легче, нежели в лесу. И не было числа храбрым воинам и охотникам шести племен народа Длинного Дома! Когда франки и инглизы повели в Канаде войну между собой*["111], наш народ поверил инглизам, а делавары и гуроны – франкам. Мы победили; инглизы прогнали франков и заняли их крепости в стороне Великих озер. И тогда потянулись из-за Аллеганских гор в долину Огайо, на индейские земли, колонисты – скваттеры, хотя их Великий Отец за морем запретил им это. Индейский народ объединил свои силы и восстал: по тропе войны индейцев повел смелый вождь Понтиак, которому франки обещали помочь против инглизов. Но франки обманули Понтиака, племена устали воевать и разошлись, а Понтиака настигла рука бесчестного убийцы. Инглизы забыли, что наши племена помогли им победить франков. Теперь колонисты собираются в шайки, вероломно врываются в наши деревни, топчут поля, рубят яблони, жгут запасы зерна, убивают детей. Они назначили плату за каждый снятый скальп краснокожего воина, женщины или ребенка. Каждый, кто приносит скальп с головы индейца, получает большие деньги и может купить много хорошего товара – рому, пороху, ножей и ружей… Белые говорят: «Хорош только мертвый индеец!» В прошлую зиму в долине Онондага в последний раз собрался Великий Совет шести племен. Офицер-инглиз говорил на Совете языком своего короля – Великого Отца инглизов, который живет за морем далеко на восход… Он просил от нас помощи своим солдатам против инглизов-колонистов. А колонисты посулили Совету великие блага за помощь против солдат своего Белого Отца. И не стало согласия между старейшинами племен: сенеки и кайюги стали на тропу войны против колонистов, онейды и тускароры – против солдат короля, а могавки и онондага разделились… В долине Онондаго погас костер Великого Совета, и воины разобщенных племен, дети одного народа, теперь убивают друг друга. Горе обманутым! Там, где бледнолицые не смогли сломить пучок прутьев, они легко переломают эти прутья порознь. «Та, чье тело черно», собирает сейчас в лесах свою жатву среди воинов… Горе нам! Я сказал. Пока старый индеец говорил, весь отряд собрался у костра в шалаше. Безмолвно слушали речь Летящего Камня воины онондага и оба могавка. Антони переводил смысл повествования чернокожим спутникам Бернардито, воинам африканского народа баконго… – Поведай нам еще, мудрый брат Летящий Камень, что сейчас происходит здесь, в низовьях Огайо. У нас есть друзья в Голубой долине. Давно ли прошел здесь отряд белых воинов-колонистов под командой Кларка? – спросил старого воина Бернардито. Из пояснений Летящего Камня капитан понял, что отряд виргинских ополченцев из армии генерала Вашингтона под командой подполковника Георга Роджера Кларка прошел с боями по долине Огайо около двух месяцев назад. Отряд убивает индейских воинов и сжигает селения. Его разведчики сейчас рыщут по лесам. Сам Летящий Камень на днях был подстрелен из засады именно разведчиками отряда Кларка. Выйдя к берегам Отца Вод Миссисипи, отряд захватил штурмом королевский форт Массек близ устья Огайо и внезапным ударом, форсировав реку Уобеш, овладел фортом и поселком Винсенс. Разведка отряда достигла поселка Голубой долины на Серебряной реке, но была отброшена королевскими солдатами. В поселке Винсенс, где население преимущественно состоит из французов, Кларка встретили довольно дружелюбно, а некоторые жители Голубой долины оказали его разведчикам прямую поддержку. Поэтому комендант форта Голубой долины держит свой драгунский гарнизон в боевой готовности и очень опасается своих же колонистов. Если он получит подкрепление, то колонистам грозит расправа. – Как зовут этого коменданта? – спросил Бернардито. – Его зовут капитан Бернс, – отвечал Летящий Камень. Капитан Бернардито и Меджерсон вышли из шалаша. Под луной серебрился снег. Из долины Огайо чуть слышно доносился отзвук шумящего водопада и время от времени поднимался унылый волчий вой. Один из индейцев онондага стоял на страже близ шалаша. – Все ли спокойно? – спросил Бернардито. – Нет, не все. Неподалеку идут люди. Нужно погасить костер. – Да, кто-то спугнул воронью стаю за тем холмом. Ты прав, Быстрый Олень. Меджерсон, приготовимся к встрече. Костер в шалаше притушили. Люди с ружьями рассыпались по кустам. В шалаше остался только раненый воин-сенека. В настороженной тишине Быстрый Олень уловил шорох… Две тени мелькнули у русла лесного ручья и мгновенно скрылись в чаще. – Это индейцы, – шепнул Быстрый Олень. Бернардито заглянул в шалаш. Летящий Камень давно прислушивался к лесным звукам. Невдалеке зацокала белка. Раненый индеец приподнялся, приложил ладони к губам и ответил таким же сигналом. – Идут воины сенека. Возможно, ищут меня… Я позову их к нашей стоянке. По условному сигналу Летящего Камня два индейских воина вышли из кустов. Старый индеец переговорил с ними и назвал Зоркому Оку их имена. Индейцы оказались разведчиками его племени, действительно разыскивавшими в лесу своего раненого сородича. – Не сообщают ли тебе твои друзья, Летящий Камень, что-либо новое о положении в Голубой долине? – спросил Бернардито. – Из Детройта идет сюда большой отряд солдат короля инглизов. Их ведет губернатор. Отряд останавливался на отдых в форте Майами, а теперь спускается долиной реки Уобеш к поселку Винсенс. С губернатором идут две сотни английских солдат, а впереди и позади отряда движутся индейцы-шавнии; их не менее четырех-пяти сотен. Отряд должен отбить у колонистов форт Винсенс и поддержать английского капитана в Голубой долине. И если ты, Зоркое Око, желаешь застать живыми своих друзей в Голубой долине, то спеши: солдаты в трех днях марша от Винсенса, а воины-шавнии уже, возможно, подошли к долине! – Антони и вы, синьор Меджерсон, нельзя терять ни часа! О Летящем Камне теперь есть кому позаботиться и без нас… Оба воина-могавка поведут прямо в Голубую долину синьора Меджерсона и его спутников. Пусть Меджерсон немедленно предупредит колонистов долины о готовящемся нападении. Пусть они вооружатся, бросят свои жилища и тайком выйдут на соединение с отрядом подполковника Кларка. Им одним не справиться с губернаторским отрядом, Бернсом и индейцами… А я доберусь с моей группой до форта Массек и подниму отряд Кларка. Немедленно в путь, друзья! Луна и святой Христофор помогут нам! У ночного костра чуть задержались только индейцы-сенека: они собирали в путь своего раненого сородича. Отряд белых разделился. Меджерсон с ирландцами двинулись к Голубой долине; Бернардито со спутниками по звездам взяли направление на форт Массек… Опустела ночная стоянка. Остатки шалаша и засыпанные снегом головешки осторожно обнюхивал серый вожак голодной волчьей стаи…
2
Комендант форта Голубой долины капитан Бернс уселся за дощатый стол в угловой комнате блокгауза. Он зажег две свечи, приготовил пучок гусиных перьев и положил перед собой бумагу. Адъютант коменданта рыжеусый сержант Уильям Линс следил за этими приготовлениями начальника к допросу. Февральский мрак за окном блокгауза был непрогляден. Влажный, уже предвесенний ветер с юга сулил оттепель и нежные вьюги. – Приведите перебежчиков, – приказал Бернс. Дежурный офицер лейтенант Шельтон и двое караульных ввели в комнату трех плохо одетых мужчин. Один из них был в старой морской куртке. – Объясните, что вас побудило дезертировать из отряда подполковника Кларка и сдаться моим солдатам. С какой тайной целью вы это сделали? Есть ли у вас какие-нибудь бумаги при себе? Худой небритый человек в морской куртке шагнул к столу. – Уберите лишних людей, капитан, – шепнул он коменданту. Бернс с удивлением вгляделся в его небритую физиономию… Боже праведный, да это, никак… – Лейтенант Шельтон, вы свободны. Наблюдайте за поселком! Чуть что – сигнал боевой тревоги! Усильте посты вокруг поселка: Кларк неподалеку! Когда лейтенант с солдатами вышел, перебежчик расстегнул свою куртку. Уильям Линс, адъютант Бернса, протянул ему нож. Человек вспорол шов под левым карманом… На свет божий появилась белая тряпица, сшитая пополам… Перебежчик протянул ее Бернсу. – Черт побери, Куница Френк! Вот неожиданность! Давно из Ченсфильда? Да садитесь же, ребята, будь проклята моя кровь! Вы прибыли чертовски кстати! Кто эти парни с тобой, Френк? – Это Гримльс и Венсли, капитан. Они догнали меня уже в Нью-Йорке. Вскоре должен подоспеть и Каррачиола. Вудро велит действовать быстрее, но… чисто… – Как же вам удалось пристроиться к отряду Кларка, черт побери? – Он храбрый вояка, этот подполковник ополченцев Георг Кларк. Ну и, как все храбрые люди, доверчив. Отряд сборный, пристроиться к нему не стоило никакого труда. Волонтеры-добровольцы!.. Да еще со своим оружием!.. Три новеньких фергюссоновских карабина из знакомого тебе охотничьего кабинета, дружище Бернс!.. – Что ж, отлично, ребята! Теперь слушайте новости. Одного фермера из нашей долины, бывшего матроса Дика Милльса, я держу на особой примете. Мой тайный агент среди колонистов, пройдоха Енох Легерзен, донес, что Милльс укрывал у себя разведчиков Кларка и помог им спастись от моих солдат. Правда, старшина поселка, этот Альфред Мюррей, провозгласил как бы нейтралитет Голубой долины, но ведь поведение Милльса бросает тень на Мюррея, как старшину, не так ли? Однако он очень осторожен, этот Мюррей, сатана его унеси, и нужно что-то придумать, чтобы законно расстрелять и его и всех тех, кого имеет в виду хозяин. – Вудро полагает, что эту миссию должны исполнить индейцы. Зачем пачкаться самим? – Кстати, ребята, самая важная новость: мистер Гамильтон, британский губернатор, выступил сюда из Детройта с отрядом. Впереди и позади отряда идут сотни индейских чертей, сенеки и шавнии. – Я слышал, что Мюррей до сих пор жил с ними в дружбе. Он будто бы не слишком обдувает их на пушной торговле? – Вот именно! Мюррей действительно умеет ладить с шавниями и всеми прочими краснокожими бестиями. Но, черт меня побери, если с такими ребятами, как вы трое, да еще с мистером Линсом в придачу, нам не удастся хорошо сыграть именно на этой дружбе!На дощатом мостике через Голубой поток встретились два всадника. Драгунский капитан Бернс салютовал шпагой старшине поселка Голубой долины эсквайру мистеру Альфреду Мюррею. Тот через плечо бросил взгляд на встречного офицера, поклонился ему весьма холодно и пустил своего мустанга в галоп. – Хэлло, мистер Мюррей! – крикнул драгун ему вдогонку, сняв треуголку и размахивая ею. – Придержите вашего красавца, у меня есть для вас новость. – Что вам угодно, господин капитан? – Всадник удержал коня на месте. Бернс приблизился к нему: – Видите ли, дружественный нам вождь племени шавниев Горный Орел ведет своих воинов в Голубую долину. Вероятно, это авангард отряда детройтского губернатора. Об этом отряде вы, конечно, уже слышали?.. Так вот, возможно, что через несколько часов Горный Орел и его сын, Серый Медведь, с двумя сотнями воинов будут здесь. Вас не тревожит эта новость? – Горного Орла я знаю давно. Колонисты долины всегда поддерживали с ним добрые отношения. И он и Серый Медведь, который знает по-английски, не раз бывали у меня в доме, и я снова готов оказать гостеприимство им обоим… Не вижу никаких поводов для тревоги! – Что ж, тем приятней, мистер Мюррей! Но прошу не забыть, что и мне необходимо присутствовать при вашей беседе с Горным Орлом. Сейчас он может стать немаловажным союзником британского губернатора, и я желал бы… – Хорошо, я приглашу и вас к нашей беседе, но сейчас меня ждут другие дела… Дорогу, господин капитан!.. – Ну погоди, высокомерный виргинец, скоро ты у меня запоешь по-другому! – проворчал комендант и дал шпоры своему коню. Когда капитан Бернс подскакал к форту, наблюдатель указал ему на реку. Там, по отлогому берегу, «строем змеи» двигался пеший индейский отряд. Впереди, верхом на гнедом коне, гарцевал всадник. Бернс сразу узнал лошадь вождя племени шавниев: этого коня Горному Орлу подарили в прошлом году поселенцы Голубой долины. Комендант форта издали полюбовался великолепным головным убором вождя из орлиных перьев. Замшевая одежда всадников, легкая и теплая, была расшита иглами дикобраза, бисером и чрезвычайно искусной красной вышивкой. За спиной вождя висел карабин солдатского образца, тоже недавно подаренный Горному Орлу мистером Мюрреем. Рядом с вождем ехал его сын, Серый Медведь. Бернс обошел свой форт и с высоты холма еще раз взглянул на индейский отряд. Навстречу ему уже скакали жители долины. Бернс узнал Мюррея, Уэнта и колониста-француза Мориса Вилье. Капитан ухмыльнулся, увидев, как Горный Орел пожал протянутую Мюрреем руку. – Я приветствую в Голубой долине моего брата, славного вождя Горного Орла и воинов его племени! – громко произнес Мюррей фразу, заранее приготовленную им на языке шавниев. – Привет мудрому отцу Голубой долины! – ответил старый вождь. – Я рад также прибытию твоего сына, большого охотника Серого Медведя, о Горный Орел, – продолжал Мюррей уже по-английски. – Память моя удержала еще мало слов на твоем языке, Серый Медведь. Ты понимаешь речь белых, и я прошу тебя помочь мне в беседе с воинами твоего племени. Мой дом готов принять вождя и его спутников. Передай это моему брату, Горному Орлу, и спроси его, почему я вижу на лице моего брата цвета войны. – Костры больших битв горят в стороне Великих озер, – передал Серый Медведь ответ отца. – Пламя войны пожирает леса. Оно и зимою летит подобно летнему пожару. Воины Горного Орла не будут застигнуты пожаром врасплох, как неразумные дети в горящем вигваме. – Ты мудр, Горный Орел, но да будет сохранен мир в Голубой долине и вигвамах могучего племени шавниев… Жилища наших колонистов слишком малы для стольких воинов, потому прикажи им, о вождь, разбить лагерь там, где им понравится, а тебя и старейшин я прошу прибыть ко мне в дом и считать его своим на все время, пока племя будет гостить в долине.
Новенький домик под тесовой кровлей был собственноручно построен бывшим марсовым «Ориона» Диком Милльсом. Домик был крайним в поселке и выходил окнами на Голубой поток. Ранним утром Милльс отправился с парой лошадей, взятых с конюшни Мюррея, влес за бревнами. На закате он вернулся. Никто не встречал молодого хозяина, ибо дом был пуст. Три чистенькие комнаты и теплая мансарда с балконом напоминали жилища французских крестьян в Арденнах. Суженая Дика, Камилла Леблан, горничная леди Эмили, была родом из средней Франции, и Дик хотел порадовать свою будущую жену напоминанием о родине. До дня свадьбы оставалось еще две недели. Дик сбросил тяжелые бревна перед своим домиком, выпряг лошадей и зашагал с ними на конюшню, к ферме мистера Мюррея. В доме старшины поселка было шумно. Дик заглянул через стекла крытой веранды и увидел необычное общество за нарядным длинным столом. Во главе стола, справа от Мюррея, восседал старый индеец в полном боевом уборе, величественный, как статуя. На его кожаной одежде были искусно изображены битвы, в которых он побеждал врагов. Эдуард Уэнт сидел рядом с молодым воином, чертами лица похожим на старого вождя. Длинным рядом торжественно сидели десять пожилых индейцев. Против них располагались почетные старожилы Голубой долины – доктор Нильс Вальнер, месье Вилье и другие. Миссис Эмили хлопотала по хозяйству, не присаживаясь к столу. Мери Уэнт, Камилла Леблан и две негритянки помогали хозяйке. Дик терпеливо дождался минуты, когда Камилла побежала на кухню. Бывший матрос постучал в кухонное окно, и Камилла выпорхнула на заднее крыльцо. Она торопливо ответила на поцелуй жениха и заявила, что до полуночи у нее не будет ни одной свободной минутки. – Так я приду после полуночи, – заявил покладистый Дик. – Ах, что ты, что ты, Дик! Если нас увидят, люди подумают бог знает что. Впрочем, если бы ты пришел в дальнюю беседку… Она в самом конце сада… Только там очень холодно… – Хорошо. Значит, после полуночи в дальней беседке? Я приду, Камилла, и буду ждать тебя хоть до самого рассвета. В воротах Дик повстречал английских офицеров в треуголках, при шпагах, в красных мундирах. Худощавый лейтенант Шельтон и комендант форта капитан Бернс со своим адъютантом Уильямом Линсом, гремя шпорами, поднялись на веранду. Офицеры извинились за опоздание, объясняя его неотложными воинскими делами (капитан только что окончил сражение в очко с собственным адъютантом). Мюррей усадил Бернса рядом с Горным Орлом. Слуги внесли жаркое из оленьего мяса под соусом, секрет которого не выведал бы у миссис Эмили самый искусный сыщик. Дымящийся олений ростбиф был поставлен на отдельный столик. По домашней традиции, мистер Мюррей, вооружившись длинным ножом с черной костяной рукоятью, собственноручно приступил к ответственной операции. В перерыве между блюдами хозяин попросил Томаса Бингля показать гостям несколько фокусов его питомицы Микси. Индейцы с трудом удерживались от смеха при виде уморительных ужимок мартышки. Многие из краснокожих гостей впервые видели обезьянку и сочли ее за необычайного человеческого уродца. Поглядывали они на зверька, посаженного после представления в клетку, с некоторой опаской. После пудинга и очень крепкого кофе общество перешло в гостиную. Горный Орел затянулся сигарой и с видимым удовольствием выпил чайный стакан домашнего ликера. Однако вскоре этот напиток, дополнивший разнообразие вин и водок, поглощенных вождем, оказал роковое действие на седого воина. Он стал мучительно икать и оглядываться по сторонам. Мюррей подхватил его под руку, и вождь нетвердой походкой, но сохраняя величавость и достоинство, проследовал в небольшую комнату, заранее предназначенную для него. Вместе с негритенком Черри хозяин уложил Горного Орла на ковровом диване и укрыл пледом. Офицеры и жители поселка простились с хозяевами и покинули дом. На большом ковре, устилавшем гостиную, захрапели в живописных позах подгулявшие индейские гости.
Капитан Бернс, сержант Линс и лейтенант Шельтон шагали в потемках к форту. Навстречу им вынырнул из темноты всадник. – Это ты, Куница Френк? – спросил Бернс тихо. – Так точно, капитан. Я к тебе со срочным пакетом. Холм с фортом смутно рисовался на фоне вечернего неба. У моста через заснеженный ров Бернс шепотом произнес пароль. Часовой открыл им узкую калитку в крепостных воротах. Миновав батарею, все четверо поднялись на плато. Здесь, в своей угловой комнате, отделенной от остальной части блокгауза бревенчатой стеной, капитан Бернс вскрыл пакет. Письмо было из форта Винсенс. Вести обрадовали капитана: детройтский отряд губернатора Гамильтона прошел форсированным маршем свыше двухсот миль от Майами, двигаясь по лесистой долине реки Уобеш. Внезапным ударом он атаковал форт Винсенс и выбил из него оставленный там Кларком небольшой гарнизон. Капитану Бернсу приказывалось: немедленно расправиться со всеми непокорными и сомнительными элементами поселка Голубой долины и приготовить солдат форта к общему наступлению против отряда Кларка, засевшего в форте Массек, где его нужно блокировать и уничтожить до последнего ополченца.. Два драгуна из Винсенса и проводник-индеец, доставившие в Голубую долину этот пакет, добавили еще от себя, что от водопадов Огайо к Голубой долине пробирается лесами группа неизвестных охотников. Сопровождают их двое индейцев-могавков. Группа уже на подходе к долине. – Вести интересные, – в раздумье сказал Линс. – Значит, этот Енох не соврал насчет сношений фермеров Мюррея с повстанцами. – Ты говоришь о Енохе Легерзене? – Да, капитан, о самом набожном квакере, менноните*["112], методисте – кто их, к черту, разберет, к каким сектам они принадлежат! Я осторожно прощупал всех жителей долины, и все они как один стоят за Мюррея, кроме Легерзена. Енох сватался к француженке-горничной из дома Мюррея, а мистер Мюррей уговорил ее отдать предпочтение Дику Милльсу. Енох за это крепко невзлюбил Мюррея и не прочь убрать этого Милльса с дороги. Нынче я опять толковал с ним. Парень годен для дела. – Где он сейчас? – Будет в полночь у Чертова камня на берегу. – Ты решил поручить задуманное ему? – Видишь ли, капитан, одному из нас, полагаю, что Френку, волей-неволей придется поработать самому, но помощник должен быть из колонистов: на него придется все свалить, если… что-нибудь откроется раньше времени. Енох – единственный парень, на которого можно положиться. Еще летом он предупреждал нас насчет сношений Мюррея с противником. На днях он грозился зарезать Дика Милльса. А нынче он прямо сказал мне, что согласен пойти на риск, лишь бы французская барышня досталась ему. – Что ж, дело хорошее! Линс, ты заметил, в какой комнате положили Горного Орла? – Ну, без этого я не ушел бы с фермы Мюррея. Комната удобная. Под окнами балкон. Оконная рама двухстворчатая, не заклеенная на зиму. – Что ж, в добрый час! Операция поручается тебе, Куница Френк. Твоим помощником будет Енох Легерзен. А вы, мистер Шельтон, немедленно отрядите одно отделение на поимку тех охотников, которых ведут сюда индейцы-могавки.
В шестигранной садовой беседке, засыпанной снегом, было темно. Сквозь заледенелые стекла падал на круглый стол слабый блик лунного света. В углу на гнутой садовой скамеечке примостился Дик со своей невестой. Ночь была сырая и ветреная. С запада надвигались тучи. Камилла уютно прижалась к груди жениха; ее щеки пахли гелиотропом, а дыхание чуть отдавало легким вином. Внезапно на ближней дорожке послышался слабый скрип снега, и чей-то приглушенный голос произнес: «Пора!» Две фигуры промелькнули мимо беседки и скрылись по направлению к дому. – Кто бы это мог быть? – шепнул Дик. – Не предупредить ли твоих хозяев, Камилла? Девушка, высвободившись из крепких рук своего суженого, вскочила с места, готовая завизжать от испуга. Однако, сообразив, что этим она предала бы гласности свою ночную прогулку, Камилла ограничилась тем, что прижала стиснутые пальцы к губам и в страхе присела у дверей беседки, знаками приглашая Дика последовать ее при меру. Но время было тревожное, поведение неизвестных в саду казалось подозрительным, и бравый моряк двинулся к выходу. – Оставайся здесь, Камилла, я пойду следом за теми. Сиди тихо, я вернусь, как только высмотрю, что они затевают. – Чтобы я здесь осталась одна? – взвизгнула Камилла. – Ты с ума сошел! Ой, Дик, уж лучше пойдем вместе. Они осторожно выбрались из беседки. Черные кусты и сугробы скрывали крадущуюся парочку. Темный силуэт дома был уже шагах в пятидесяти. Дик заметил, что в окне угловой комнаты, за тюлевой занавеской, колыхнулся неяркий свет. Колеблющийся огонек свечи озарил потолок и верхнюю часть стен комнаты. Обе створки окна стояли распахнутыми настежь… Все остальные окна дома были плотно закрыты, завешаны гардинами, а некоторые даже защищены ставнями. Через несколько мгновений огонек погас, тюлевая занавеска взметнулась и чья-то темная фигура неловко выбралась из окна. За ней последовала вторая… Этот второй аккуратно поправил занавеску и тщательно затворил окно. Крадучись оба ночных пришельца прошли террасой до заледенелого каменного водостока, спрыгнули с него и двинулись к той дорожке, где среди снежных сугробов притаились Дик и Камилла. Луна в этот миг снова выглянула из-за туч, и Дик узнал в одном из гостей Френка Вилерса, недавнего перебежчика к Бернсу из отряда Кларка. Едва лишь второй человек поравнялся с сугробом, Камилла судорожно вцепилась в руку жениха; перед нею мелькнула на дорожке знакомая фигура. Это был недавний претендент на ее руку – Енох Легерзен, человек сумрачный, злой и притом очень набожный. Камилла побаивалась Еноха с первой минуты их знакомства, и лишь прирожденное кокетство помешало ей сразу отвергнуть ухаживание мистера Легерзена. Френк Вилерс и Енох Легерзен быстро скрылись в глубине сада. – Ты узнала второго? – прошептал Дик. – Милый, они, наверно, пришли, чтобы похитить меня. Это Енох Легерзен. Как страшно, Дик! – Вот что, Камилла: дело недоброе. Может быть, ты и права, а может, у них на уме что-нибудь другое. Енох из богатой семьи, не воровать же он полез вместе с этим перебежчиком в чужой дом? Ступай разбуди миссис и поскорее все ей расскажи. А я попробую проследить за этими двумя. Как ни боязлива была Камилла, ей пришлось расстаться со своим защитником. Дик пожалел, что не имеет при себе иного оружия, кроме морского ножа за голенищем, но терять время было нельзя. Он пустился по следу ночных гостей на снегу, а Камилла, спотыкаясь, побрела к заднему крыльцу дома. Снег на крыльце скрипнул под меховым башмачком Камиллы, и тут она заметила движение на открытой веранде. Кто-то с шумом поднялся и шагнул навстречу девушке. Камилла от страха присела. Наконец отважившись поднять глаза, она с облегчением перекрестилась. Негр Сэмюэль Гопкинс, одной рукой протирая заспанные глаза и держа в другой руке охотничье ружье, стоял на площадке, как полупьяный, внезапно выведенный из самой глубины упоительных дремотных грез. – Вы тут спите, Сэм, а в доме творится бог знает что!.. – заговорила находчивая мадемуазель Леблан, поспешно переходя от обороны к наступлению. – Я тут будила, будила вас, а вы и не думаете просыпаться! В доме были воры, понимаете – воры, и я выбежала посмотреть, где же вы. Тут сейчас двое выскочили из окна и убежали в сад, слышите вы? Тоже называется сторож! Проспал воров! – Лопни мои глаза, Камилла, если я спал! Ни минутки не дремал даже, уверяю вас, ни одной минутки. Мне попала в глаз маленькая снежинка, и я протираю глаза. Я все время ходил по веранде и сел только секунду назад. Никаких воров здесь не было, вы просто шутите над стариком, Камилла! Ступайте скорее спать и ничего не бойтесь, если охрана дома поручена Сэмюэлю. Когда я вез хозяевам бумаги от мистера Томпсона из Англии, у меня было побольше забот! И знаете, что мистер Мюррей сказал мне в Новом Орлеане? «Ты, Сэм, – сказал он, – сделал это лучше, чем я сам сумел бы». Провалиться мне на этом месте, если мистер Мюррей не сказал этих слов! В доме всегда спокойно, когда Сэмюэль Гопкинс караулит на веранде! Негр еще долго продолжал эту убедительную речь, обращаясь с нею к ближайшему дереву, ибо Камилла уже барабанила кулачками в дверь. К ее удивлению, дверь оказалась незапертой. Из темных сеней девушка опрометью взбежала наверх. Был уже второй час ночи. В доме стояла мертвая тишина, но из кабинета хозяина доносились тихие голоса. С бьющимся сердцем Камилла постучала. Объясняться при хозяине было так страшно! Мюррей подошел к двери и впустил Камиллу. Запинаясь, она изложила подробности ночного происшествия, но умолчала об экскурсии в беседку. Хозяин встревожился. – В какую сторону они удалились, Камилла? И уверены ли вы, что это были действительно Енох Легерзен и человек из форта? – Да спросите у Дика… – Спохватившись, Камилла прикусила свой неосторожный язычок. – Вот как, значит, и Дик был в саду! Где же он сейчас? – Ах, месье Мюррей, не подумайте что-нибудь дурное о Дике! – Об этом следует думать не мне, а вам, Камилла! Где же он все-таки, ваш Дик Милльс? – Он пошел следом за ворами, месье! – Наш сторож Сэм на этот раз, кажется, сплоховал. Благодарю вас, Камилла! Позовите ко мне Томми Бингля. Эми, у меня недоброе предчувствие… Разбуди сеньору Эстреллу, оденьте детей и приготовьтесь ко всем неожиданностям… Что там еще? Негритенок Черри пробрался в кабинет. Его щеки посерели от страха. – Масс Альфред, – прошептал он, – я ходил проведать индейцев, как вы велели. Один сейчас вышел в сад, все другие перепились и спят. Но из-под дверей маленькой комнаты течет в гостиную вот это. Негритенок протянул Мюррею руку. Вся ладонь мальчика была в липкой, еще не остывшей крови… В тот же миг из глубины заснеженного сада чуть слышно донесся хлопок одиночного пистолетного выстрела.
Младший из индейских гостей Мюррея, Серебристая Лиса, тайный телохранитель вождя племени в походах и на охоте, держался за столом Мюррея сдержаннее остальных индейцев и выпил меньше крепких напитков, чем его товарищи. Когда хозяин дома увел Горного Орла, молодой воин встал из-за стола и прошел следом за вождем в маленькую комнату. Убедившись, что пройти в нее можно только через столовую, мимо остальных индейцев, Серебристая Лиса успокоился и отдал бы честь домашней наливке, если бы… бутылки и графинчики на столе уже не были сухими! Очень скоро гости разошлись, столы были отодвинуты и пол устлан коврами и шкурами. Серебристая Лиса посидел у затухающего камина, потом легкое похмелье сморило и его; но он не лег, а остался сидеть перед огнем, со скрещенными на груди руками и низко опущенной головой. Так миновала полночь. В доме ничто не внушало тревоги. Серебристая Лиса привалился плечом к стене и уже перестал бороться со сном. Он не мог определить, долго ли проспал, когда до его отуманенного сознания дошел слабый звук осторожно закрываемой оконной рамы. Воин стряхнул сон, бесшумно поднялся и стал вглядываться в окна: не готовят ли белые какую-нибудь ловушку индейским гостям? Вдруг сквозь ближайшее оконное стекло он заметил две тени, скользнувшие на открытой веранде. У следующего окна оба чуть задержались, и Серебристая Лиса на мгновение различил при лунном свете два незнакомых мужских профиля… Воин выскользнул из столовой, миновал темные сени с ведущей наверх лестницей и, откинув засов, выглянул из дверей. На дворе было сыро, ветрено и тепло, между быстро несущимися облаками проглядывала луна. Индеец различил тихие удаляющиеся шаги: кто-то пробирался сквозь прутья кустов в саду. Серебристая Лиса проскользнул мимо спящего сторожа, спрыгнул с крыльца и обошел веранду. Свежий след двух человек в мягкой кожаной обуви… От оледенелого водостока след шел в сад… Индеец спрятался за деревом и выждал несколько секунд: ему послышался неуловимо тихий шепот в кустах… потом испуганный вздох, похожий на женский… Под луной мелькнули две тени. Вот они расходятся… Вот женская фигура пробирается к дому, а мужская, крадучись, исчезает в кустах… Серебристая Лиса увидел, как на веранде проснулся негр-сторож, как женщина из сада приблизилась к негру… Воин разобрал, что женщина бранит сторожа и что-то толкует о ворах в доме… Серебристая Лиса пустился следом за крадущимся человеком. Под луной он без труда различил, что незнакомец обут в тяжелые сапоги и пробирается по сдвоенному свежему следу мягких меховых сапожков, тянущемуся от водостока… Значит, незнакомец тоже преследует тех двоих, что мелькнули на веранде?.. Вот и ограда сада… Внезапно, совсем близко, индеец услышал короткий шум борьбы… Индеец метнулся к снежному сугробу, и в то же мгновение из-за ближайшего куста сухо щелкнул пистолетный выстрел. С пробитой грудью Серебристая Лиса упал в снежный сугроб…
Капитан Бернс приказал поднять весь гарнизон форта по бесшумной боевой тревоге. Дежурные тихо будили солдат. В темноте раздавались приглушенные ругательства, бряцание амуниции и звяканье штыков. Гарнизон выстроился на плато. Бернс подошел к амбразуре в бревенчатом частоколе и выглянул наружу. Поселок был погружен во мглу. На опушке леса в долине тлели костры индейского лагеря. Зимний дождь усилился. Влажный ветер раскачивал деревья. Все было спокойно. – Пожалуй, солдатам можно вернуться в блокгауз, но амуниции не снимать! Оружие держать наготове. Артиллеристам стоять у пушек, посты наблюдения усилить, – распорядился Бернс и отправился в свое угловое жилище. Здесь топилась печь, и Куница Френк, уже успевший переодеться в новенький мундир, грел у огня свои чисто вымытые руки. В углу комнаты, сжав голову в крепко стиснутых кулаках, сидел грузный Енох Легерзен, тоже в солдатском мундире, сильно стеснявшем его движения. Под койкой капитана Бернса валялись два скомканных комплекта мокрых и грязных мужских курток, штанов и рубах. Обшлаг синей морской куртки, поношенной и выцветшей, был покрыт темно-бурыми пятнами. Носком сапога Бернс отшвырнул этот рукав под койку; свисавшее с постели шерстяное одеяло он опустил пониже… Капитан вопросительно посмотрел на Френка: – Прошло уже больше часа, как вы вернулись… Пока все тихо. Надежно ли сделана работа? – Все в полном порядке. Вчера, перед уходом с фермы, сержант Линс прихватил одну вещь, которая ночью оказала мне превосходную услугу. Она сразу бросится индейцам в глаза… Будь покоен, капитан, эта тишина долго не продлится! Бернс взглянул на часы. Рассвет уже близился. Капитан положил руку на плечо Легерзена: – Енох, вам пора идти! Как только начнется суматоха, хватайте эту особу в ее комнате и тащите к нам в блокгауз, потому что в поселке трудно будет поручиться за вашу безопасность. Сношения колонистов с врагом подтверждаются. Поселок Голубой долины будет уничтожен. Действуйте смелее! Желаю удачи! Колонист Легерзен столкнулся в дверях с рыжеусым сержантом. – В чем дело, Линс? – спросил вошедшего комендант форта. – Разрешите доложить, капитан. Неизвестный отряд, который вы велели перехватить, окружен в лесу. Два индейца-могавка привели в долину шестерых англичан. Они залегли и отстреливаются. – Френк, возьми в подкрепление взвод драгун, захвати этих незнакомцев и доставь их в форт побыстрее… Сержант Линс, конный патруль на месте? – Патруль с лейтенантом Шельтоном стоит у моста через поток. – Отлично. Шельтону приказано немедленно поднять на ноги индейский лагерь, когда в доме Мюррея начнется шум. Спешите, господа! Как только начнутся события, все до единого солдаты должны быть в крепости. Индейцы управятся одни! – Господин капитан, есть еще одно сообщение. Секретный пост у ограды фермы Мюррея захватил подозрительного субъекта и подстрелил индейца. Оба крались следом за Френком Вилерсом и Легерзеном, когда те возвращались из сада с вашего задания. Куница Френк остановился в дверях: – Крались следом за нами, Линс? Это очень скверно. Где их перехватили? – У самой садовой ограды. В секрете сидели наши ребята – Венсли, Гримльс и надежный малый из наших солдат. Они уложили индейца, а белого молодчика сцапали, когда вы с Легерзеном уже переправились через поток. – Вы установили, что это за люди? – Разумеется. Индеец – один из гостей Мюррея. Его тело просто присыпали снежком: когда индейцы наткнутся на него, все кругом уже будет полыхать, и лишний индейский труп только подольет масла в огонь… – А тот, второй, которого схватили, – он из колонистов? – Это Дик Милльс, бывший матрос. Он уже у нас в каземате, капитан.
Молодой индеец-могавк первым заметил приближающуюся группу спешенных драгун. Меджерсон защитил рукой глаза от лунного света и вгляделся в темноту. Вдоль русла замерзшего ручья тянулись заросли мелкого ивняка и березовых кустов. Голые ветви чуть шевелились, и в свете луны слабо взблескивали ружейные штыки. Тишину нарушил хриплый голос: – Эй, выходи на свет! Руки вверх! Сдавайтесь, вы окружены! – Это солдаты, – шепнул Меджерсон своим спутникам-ирландцам. – Не отвечать на окрик, приготовиться к бою! – Выходи из кустов! Будем стрелять! Взво-о-од, к бою! – Ответного огня не открывать! Отступаем к речке. Там укроемся в пещере и будем держать оборону. А вы, друзья, – Меджерсон обернулся к индейцам-могавкам, – постарайтесь незаметно ускользнуть и добраться до поселка Мюррея. Передайте ему слова Чембея… А теперь – перебежками к тем кустам, над речкой, за мной! Мы задержим солдат, и индейцы прорвутся в поселок… …До самого рассвета продлился неравный бой шести смельчаков с королевскими драгунами. Укрывшись в пещере над речным берегом, ирландские «сыны свободы» отстреливались от наседавших солдат. Под утро Меджерсона ранило. Заряды кончались… Немало солдатских трупов уже валялось под речным откосом. Но врагов становилось все больше! Из форта прибыл свежий отряд; Френк Вилерс, новый сержант и доверенное лицо капитана Бернса, привел подкрепление осаждающим. – Капитан приказал всех взять живьем, – предупредил он своих солдат. – За поимку их объявляю награду. – Братья! – Меджерсон отер пот со лба и отполз от песчаного бруствера. – Дольше мы не продержимся. Осталось только шесть зарядов. Заставим врага кровью оплатить наши жизни. Да здравствует свобода! Вперед! Навстречу им загремели выстрелы. С ружьями наперевес пришельцы бежали по снегу прямо на солдат. Драгуны не успели перезарядить ружей, и на льду лесного ручья закипел рукопашный бой. Здесь, в глухом лесу, горсточка ирландских крестьян из-за моря плечом к плечу с английским рабочим билась за вольную жизнь и независимость американских колонистов. Кровью и пороховым дымом покрылся чистый речной снежок… Но слишком неравны были силы в этой битве. Трое пришельцев бездыханными лежали на снегу; остальные уже хрипели и бились в руках солдат, вязавших пленников. Полвзвода драгун полегло на поле сражения, несколько раненых стонали и сквернословили. Дорогой ценой достался капитану Бернсу захват полуживого Меджерсона и двух уцелевших «сынов свободы»… На обратном пути, по дороге к форту, Френк Вилерс вдруг присвистнул и закричал в лицо старику: – Вот это встреча! Узнаю вас, мистер Арчибальд Стейболд, «шотландский клерк» из Бультона, он же Элиот Меджерсон, предводитель бультонских разрушителей машин! Все-таки не кто иной, как сам Френк Вилерс, некогда упустивший вас на улице, нынче исправил свое упущение! А завтра он же поможет гарнизонному палачу подвести вас к виселице!
3
Сын вождя шавниев, Серый Медведь, проснулся перед рассветом с сильной головной болью и не сразу сообразил, где он находится. На ковре, разостланном посреди гостиной, спали вповалку индейские воины. В камине дотлевали последние головешки. Серый Медведь выбрался из глубокого кресла и набил табаком свою трубку. По странным шорохам и приглушенным шагам на лестнице он понял, что хозяева дома не спят. Он спрятал трубочку в карман и разбудил другого воина – Волка Ущелья. Шорохи в доме казались подозрительными. Серый Медведь вынул свечу из стенного подсвечника, зажег ее и подошел к двери в соседний покой. Мокасины индейца попали во что-то липкое. Огонек свечи отразился в темно-багровой лужице под дверью. С предостерегающим криком Серый Медведь распахнул дверь. На ковровом диване лежал мертвый вождь шавниев. В груди Горного Орла торчал неширокий длинный нож с черной костяной рукоятью. Накануне, за ужином, этот нож был в руках хозяина дома… В дверях уже толпились разбуженные индейские воины. Лицо осиротевшего Серого Медведя окаменело от горя и тяжкого гнева. Но предаваться печали было не время. Отец и вождь погиб. Опасность нависла над всеми. Хитроумный белый обманщик заманил цвет племени в свое логовище: нужно вырваться из коварной засады и отомстить убийце. Серый Медведь приказал воинам разобрать оружие и поднял труп отца с окровавленного ложа. Волк Ущелья выгреб весь жар из камина; индейцы высыпали на пол немного пороху, сорвали занавески, сломали несколько стульев и раздули пламя. В этот миг на лестнице послышались шаги, и кто-то толкнул дверь в гостиную. Томагавк Серого Медведя свистнул в воздухе. Короткий стон раздался из-за приоткрывшейся двери и чье-то тело грузно осело на пол. Волк Ущелья опрокинул стол и завалил им выход в сени. Пламя уже взметнулось под потолок. Серый Медведь ожидал засады в саду, под окнами. Он вывел воинов из гостиной в столовую и высадил стеклянную дверь на веранду. Рассыпавшись вдоль перил, индейцы дали залп по ближайшим кустам. Стороживший в саду Сэмюэль Гопкинс увидел в окнах отсвет пожара и, перепуганный, побежал на звук залпа. Серый Медведь принял его за атакующего врага. С ножом под сердцем негр свалился в снег около веранды. Воины вынесли тело убитого вождя, перебежали с ним площадку и ворвались в конюшню. Два конюха-негра пали мертвыми под ударами томагавков. Серый Медведь перекинул тело Горного Орла поперек коня. Волк Ущелья и остальные воины вскочили на неоседланных коней и бешеным галопом перелетели через мост. Серый Медведь решил, что ему удалось перехитрить белых убийц. Наездники сдержали коней и стали совещаться, как обойти поселок, чтобы не попасть под пули колонистов из окон и быстрее соединиться с воинами в лагере. В это время с заднего двора фермы донесся одиночный выстрел. Какой-то всадник в драгунском мундире, придерживая перед собою в седле завернутую в плащ женщину, проскакал от ворот фермы к берегу потока и исчез по направлению к форту. В окнах поселка замерцал свет, над крышей дома Мюррея полыхнуло пламя. Искры, затрещав на ветру, посыпались на заснеженные кроны деревьев. Серый Медведь гикнул, и индейцы понеслись вдоль поселка к лагерю на лесной опушке. Но скакать им пришлось недолго. Навстречу Серому Медведю по обоим берегам Голубого потока уже бежала лавина индейских воинов, оповещенных лейтенантом Шельтоном о кровавом злодеянии. В первых рассветных лучах индейцы увидели молодого вождя, скакавшего к ним с телом Горного Орла. Пронзительный боевой индейский клич далеко разнесся над снегами долины. Серый Медведь передал тело отца двум другим воинам, снял с плеча отцовский карабин и, потрясая им в воздухе, бросил сотню воинов во главе с Волком Ущелья на поселок, а сам повел остальных окружать дом убийц. Но среди пылающих построек фермы индейцы нашли только труп негра под верандой и убитых на конюшне конюхов. В самой глубине сада индейцы подобрали на снегу тяжело раненного пулей в грудь, полузамерзшего воина – Серебристую Лису. Между тем берегом Голубого потока уносился вверх по долине шарабан и несколько всадников. Воины обрушились на опустевшую ферму, предав огню и разрушению все живое и мертвое имущество белых злодеев. Через полчаса пылал и весь поселок; только холм с военным фортом оставался затемненным и безгласным.* * *
С первого взгляда на испачканную кровью руку мальчика Мюррей догадался, что кто-то из индейцев пал жертвой тайных злоумышленников, замеченных Диком. Он велел своим домочадцам потихоньку вывести из дому детей, заложить экипаж и ехать к усадьбе Уэнта, сам же решил дождаться возвращения Дика, чтобы с его помощью разоблачить перед индейцами злодеев. Между тем из гостиной донесся треск ломаемой мебели. Мюррей спустился с лестницы… Неужели шавнии что-то обнаружили? И кто стал жертвой злодейства? Ранен он или убит? Быть может, воины все же не отдадутся во власть гневу и не будут глухи к голосу рассудка? Хозяин дома толкнул дверь в гостиную. Огонь пожара на мгновение ослепил его, и в тот же миг скользящий удар чем-то острым поразил его в голову. Отшатнувшись, он схватился за висок и потерял сознание. Негритенок Черри, выглянув с верхней площадки, увидел распростертого на полу хозяина. Из гостиной валил дым, слышался звон стекла и топот. Когда с веранды раздался ружейный залп, Черри кубарем скатился с лестницы и склонился над Мюрреем. Мистер Альфред пошевелился. У него была содрана кожа с виска, рассечены щека и ухо. На крик мальчика прибежала Камилла. В то же мгновение хлопнула дверь из сеней, и на пороге показался человек в драгунском мундире. Камилла вскрикнула, узнав Еноха Легерзена, и попыталась убежать вверх по лестнице. Одним прыжком Легерзен догнал Камиллу, схватил ее на руки и вынес на крыльцо.Мюррей и месье Вилье выглянули из южной амбразуры. Из-за угла дома Уэнта медленно показался белый флаг на шесте. Следом за этим символом примирения появился всадник. Осажденные узнали лейтенанта Шельтона. – Я обращаюсь к защитникам блокгауза от лица английского командования! – закричал он. – Колонисты поселка Голубой долины! У вас в блокгаузе укрылись изменники, вступившие в сношения с армией врага. Эти изменники убили индейского вождя, чтобы вызвать кровопролитие. Нами схвачен шпион Мюррея, Дик Милльс, который пытался пробраться к отряду Кларка в форт Массек. Захвачена в плен и сегодня же будет расстреляна группа разведчиков Кларка. Это бунтовщики, называющие себя «сыновьями свободы». Их проводники-индейцы, посланные для связи с преступником Мюрреем, убиты в лесах нашими индейскими союзниками. Помощи вам ждать неоткуда! Я взываю к вашему благоразумию и требую выдать командованию виновников резни в поселке – Мюррея и Уэнта. Всем остальным колонистам, укрывшимся в блокгаузе, я гарантирую защиту от солдат и индейцев. Даю вам полчаса на арест и выдачу обоих преступников. – Эдуард, – сказал Мюррей своему другу, – под пушечным огнем конюшня ваша не продержится и часа. Нам нужно выйти к ним, иначе они расстреляют детей. – Я согласен идти, Фред, – отвечал Уэнт, – но нужно спросить мнение остальных. – Друзья мои, – обратился Мюррей к защитникам крепости, – вы все слышали слова английского офицера. Блокгауз не выдержит артиллерийского обстрела. Никаких улик против меня и Уэнта у англичан нет. Они не могут убить нас без законного суда. Быстрой помощи от Кларка ждать нельзя: его разведчики – в плену у Бернса. Я предлагаю выиграть время и с этой целью принять их требование. Ваше мнение, месье Вилье? – Я присоединяюсь к месье Мюррею, – сказал француз. – Главное – это выиграть время. Отказ от требований англичан поведет к немедленному уничтожению блокгауза. – В таком случае, мистер Фред, я пойду вместе с вами, – раздался вдруг звонкий детский голос. – Я не желаю спасения ценою вашей жизни. Все изумленно обернулись. Маленький Диего Луис, подпоясанный перевязью кортика, стоял посреди блокгауза с гордо поднятой головой. – Или мы будем сражаться, или я пойду к англичанам вместе с вами, – сказал он Мюррею. – А вы не посмеете меня удерживать! Мальчик обвел горячим взором остальных колонистов. Старый доктор Нильс Вальнер даже крякнул от удовольствия и хлопнул маленького испанца по плечу. Уэнт стоял, широко расставив ноги и подняв голову к потолку. Он оценивал глазом крепость стен. Нет, недолго выдержат они пушечные ядра! Но порыв, охвативший всех защитников блокгауза после слов мальчика, был так силен, что у Эдуарда Уэнта не хватило благоразумия решительно поддержать Мюррея. Все население крепости единодушно запротестовало против добровольной сдачи двух своих вожаков. Полчаса истекли. На стороне противника еще несколько минут длилась тишина. Затем осажденные увидели, что с восточной стороны, из-за холмика в саду, выдвигается третье орудие. Хлопнул сигнальный пистолетный выстрел. Из трех орудийных стволов вылетело пламя, и ядра пробили глубокие бреши в частоколе. Чугунная бомба, пробив крышу, угодила внутрь блокгауза, и сильный взрыв повалил один из опорных столбов. Эдуард Уэнт, раненный осколком, упал. Взрывом оглушило и Мери: молодая женщина, бросившаяся было на помощь мужу, сама упала рядом с ним. Месье Вилье был отброшен к дверям. Кровля уже пылала. Искры сыпались на женщин и детей у восточной стены. Мюррей приказал отбросить бревна, подпиравшие вход. – На вылазку! – крикнул он и первым кинулся в распахнутые ворота. Следом за ним, держа в руке пистолет, выскочил маленький испанец. Женщины, подхватывая детей, раненых и убитых, бежали в беспорядке из пылающего здания. С певучим свистом понеслись навстречу беглецам индейские стрелы. Чугунное ядро угодило в толпу негров. Несколько конных драгун вылетело из-за опушки. Мюррей припал на колено, вскинул ружье, и конь переднего всадника рухнул, но уже десятка три пеших индейцев выбежали из дома Уэнта. В несколько минут сражение окончилось. Индейцы вязали пленных. В стороне лейтенант Шельтон совещался с Серым Медведем. К разрушенному блокгаузу подъехал капитан Бернс. По его приказанию Волк Ущелья повел процессию пленников в сторону временного лагеря. Бернс отвернулся, когда индейцы провели мимо него четы Мюрреев и Уэнтов. Диего Луис, у которого локти были связаны, прошествовал с гордым, надменным видом победителя. Индейцы бросали на мальчика удивленные взгляды. – Что ты намерен делать с этим мальчишкой? – спросил Бернс Серого Медведя. – Этот маленький белый – сын храброго вождя. Ему будет оказана честь. Он умрет смертью воина. Белые мужчины, которые предательски заманили моего отца в ловушку, умрут в мучениях. Женщины этих предателей станут женами индейских воинов. Так решил Серый Медведь. Бернс кивнул весьма удовлетворенно.
Вечером 13 февраля 1779 года капитан Бернс готовил в форте Голубой долины скорый суд над четырьмя пленниками – Элиотом Меджерсоном, его двумя спутниками – ирландцами, а также над колонистом Диком Милльсом. – И командование и мистер Райленд останутся довольны, черт побери! – проворчал он, пробегая глазами уже заготовленный приговор. – Линс, где этот Енох Легерзен? – Он вторые сутки пьян, а красотка его заперта в чулане у каптенармуса. – Пусть себе пьет, лишь бы завтра утром он смог хоть четверть часа продержаться на стуле. Я хочу ввести его в состав суда как представителя местных жителей. Приговор уже составлен по всем правилам. Вы можете вшить его в эту папку, Линс. Здесь собран весь обвинительный материал. Его хватило бы, чтобы вместе с Меджерсоном расстрелять все население поселка, но индейцы избавят нас от этого труда! Утром следующего дня обвиняемые спокойно выслушали приговор суда, прочитанный Бернсом под конец десятиминутного «заседания». За судейским столом вместе с Бернсом, Шельтоном и Линсом занимал место и полупьяный Енох Легерзен. При чтении приговора он потупил красные, оплывшие глаза и больше не взглянул на осужденных. – Можете высказать вашу последнюю волю, – сказал Бернс. – Мое единственное желание – поменяться с тобой местами, грязный палач, – ответил Меджерсон. Капитан побагровел. Он приказал вернуть пленников в каземат и заковать в кандалы. В сыром полумраке карцера осужденным предстояло провести последние двадцать четыре часа их земного бытия. Ночью, ворочаясь на соломе, Меджерсон нащупал под боком железное кольцо, вделанное в пол. Старик тихонько раздвинул солому и обнаружил люк. Из каземата, по-видимому, шел подземный ход! Куда он выводит? Эх, если бы не кандалы! Меджерсон отодвинулся, чтобы показать свое открытие товарищам. Потянув за кольцо, Дик приоткрыл люк. Снизу пахнуло могильным холодом подземелья. Кандалы Дика громко загремели, когда он попытался спустить ноги в черную дыру. В тот же миг звякнул замок у дверей, и пленники едва успели опустить люк. Но предосторожность была уже излишней. Вошли шестеро солдат и, стукнув об пол прикладами, стали в одну шеренгу. Сержант Лине поодиночке вывел пленников под открытое небо. Солнце вставало. Ворота форта были широко распахнуты, и солдаты повзводно строились за ними лицом к своей крепости. Осужденных тоже вывели за ворота. Гремя кандалами. они прошли вдоль гребня вала перед молчаливым фронтом гарнизона, отделенные от него рвом с замерзшей водой. С высоты вала Меджерсон смотрел на красные мундиры, треуголки и косицы солдат. Их было человек сорок. Они построились в две шеренги и держали «к ноге» ружья с длинными штыками. Перед фронтом прошли Бернс, лейтенант Шельтон и священник. Лейтенант выступил вперед с папкой в руках. Надрывая голос на ветру, чтобы его слышали осужденные и солдаты, Шельтон снова начал читать текст приговора. Через головы солдат Меджерсон видел холмистую даль, извилистую белую ленту Серебряной реки… И там, на дальней лесной опушке, появились подвижные черные точки. С каждой минутой число их возрастало… Голос Шельтона смолк. Меджерсон не слышал ни слова из прочитанного. Капитан Бернс достал из кармана мундира большой белый платок и неторопливо расправил его. Священник поднял распятие. Меджерсон смотрел на черный крест, чуть дрожавший в руке пастора; крест загораживал от Меджерсона дальний край долины, но позади черной перекладины, за рекой, тоже замелькали движущиеся точки… Нет, это уже не точки! Это крошечные фигурки конников! Они на карьере приближаются к форту! Теперь их увидели уже все осужденные… Бернс поднял свой белый платок. Сорок ружейных стволов поднялись двумя неровными рядами. Всадники были уже на противоположном берегу реки. Меджерсон заметил лафеты нескольких пушек. Запряженные четверками маленьких лошадок, вздымая пыль, они мчались вслед за всадниками. На впалых щеках Меджерсона вспыхнул румянец. Страшным усилием он приподнял свою раненую руку. – Возмездие идет! – крикнул он хрипло. И кто-то из солдат непроизвольно обернулся на жест осужденного. В этот миг четверки коней с пушками уже сделали разворот. Менее полумили отделяло их от форта. Фигурки артиллеристов спешивались на ходу. С поднятым в руке платком капитан Бернс тоже обернулся назад и поглядел за реку. – Что это? Неужели детройтский отряд? О дьявол, чертовски похоже на ополченцев подполковника Кларка! Рота, пли! – не своим голосом заорал капитан. Раздался жиденький залп, будто горох просыпался в жестянку; даже половина солдат не разрядила своих ружей. Затем стукнуло еще несколько одиночных выстрелов: это Гримльс, Венсли и Линс, выхватив ружья из рук солдат, стреляли навскидку. Один за другим осужденные упали на снег. Шеренги драгун смешались. Бернс с саблей в руке бежал по краю рва. – Гарнизон, за мной! – кричал он истошно. – Боевая тревога! Артиллеристы, к орудиям! Напирая друг на друга, солдаты ринулись к воротам; несколько человек свалились в ров и барахтались в глубоком снегу. У ворот уже заскрипели блоки подъемного моста, но механизм заело. Лейтенант Шельтон что-то орал, потрясая пистолетом. Первая бомба со свистом перелетела через частокол. Дружное «ура» понеслось со стороны долины. Гарнизон Бернса не успел еще укрыться в крепости, как волонтеры подполковника Кларка атаковали форт с четырех сторон. Они форсировали реку по льду и на плечах отступающих ворвались в ворота. Солдаты бросали ружья и сдавались. В пять минут гарнизон был обезоружен, и форт оказался в руках повстанцев. Капитан Бернс молча протянул командиру отряда свою саблю. Высокий черноглазый подполковник Кларк в потертом мундире и старом парике презрительно наступил на эту саблю сапогом. Оставив своего помощника распоряжаться, подполковник вышел за частокол, где ничком лежали залитые кровью тела. Несколько волонтеров освобождали их от ножных оков. Дик Милльс еще дышал. Кровь бежала из его пробитого плеча, нога была ранена, но сердце билось. Военный лекарь приказал тотчас же отнести его в лазарет. Остальные были мертвы. Подполковник обнажил голову, постоял с минуту и, вздохнув, пошел осматривать крепость. В верхнем блокгаузе сидели арестованные командиры форта. При появлении подполковника пять человек поднялись с мест. Капитан Бернс назвал имена лейтенанта Шельтона, сержантов Линса и Вилерса, капралов Гримльса и Венсли. Остался сидеть только грузный солдат с тупым, отекшим лицом. Мундир был ему узок и лопнул на спине. – Кто это? – спросил подполковник. – Солдат Енох Легерзен, наказанный за употребление водки, – поспешил объяснить Бернс. – Заприте их всех в каземате, где содержались пленники, убитые ими, – распорядился подполковник и продолжал свой обход. В том же блокгаузе он с удивлением услышал женский плач за дверью кладовой каптенармуса*["113]. – Разве в форте были женщины? – полюбопытствовал Кларк. – Почему эта особа содержится взаперти? Приведите ее. Перед подполковником предстала Камилла Леблан. Сквозь горячие слезы, сбивчиво и торопливо, она рассказала подполковнику все происшествия последних дней. Она уже знала от каптенармуса о расстреле осужденных и порывалась вниз, взглянуть на тело своего жениха. Подполковник ласково утешил ее и велел отвести в лазарет. Военный лекарь вынимал пулю из ноги Милльса. – Будет жить, – сказал лекарь. – Он еще повоюет.
Часа через два после того, как отряд волонтеров армии Вашингтона овладел фортом Голубой долины, в комнату блокгауза, отведенную Камилле Леблан, вошел, наклонясь под притолокой двери, высокий незнакомый человек. Его темный камзол старомодного фасона перехватывала портупея шпаги, на сапогах с отворотами звенели шпоры; берет с пером вместо парика и шляпы прикрывал седые волосы незнакомца. Плащ, легко откинутый на плечи и засыпанный снегом, шелестел и развевался, как просторная одежда горцев. Под его пристальным, немигающим взглядом Камилла смешалась и сразу поднялась навстречу седому незнакомцу. Его правый глаз сверкал живым молодым огнем, левый был странно неподвижным. Он учтивопоклонился смущенной девице и жестом пригласил ее занять прежнее место на деревянной скамье. – Подполковник Кларк рассказал мне сейчас вашу историю, мадемуазель. – Незнакомец говорил по-французски с испанским акцентом. – Я старый друг мистера Мюррея и, слава богу, поспел сюда к решающим событиям. Мне удалось добраться до форта Массек и соединиться с отрядом Кларка. Вчера в ночь мы взяли штурмом форт Винсенс, отбив его у детройтских солдат губернатора Гамильтона. Враг разбит наголову и отступил к форту Майами. Марш Кларка был беспримерным, и день падения форта Винсенс – 14 февраля 1779 года – войдет в историю Войны за независимость американских штатов. Подполковник должен немедленно вернуться в Винсенс. Спасти пленников Голубой долины из рук обманутых индейцев он поручил мне. Прошу вас, мадемуазель, расскажите мне подробно обо всем, что произошло в доме Мюррея в ту ужасную ночь. Речь незнакомца была спокойной и властной. И Камилла не таясь рассказала о роковом вечере на ферме Мюррея и о приключении в саду после пира. Человек слушал ее молча, ободряюще кивал, задавал вопросы и поигрывал рукоятью шпаги. Незнакомец уже стоял в дверях, готовый проститься, когда в коридоре раздались торопливые шаги и какой-то молодой волонтер резко рванул дверь. – Простите меня! – Молодой человек смутился, заметив женскую фигуру в комнате. – Мне нужно немедленно сказать вам несколько слов, синьор Чембей. Камилла вгляделась в лицо вошедшего и радостно ахнула: – Боже мой, вы ли это, месье Ченни! Антони, миленький, дорогой Антони! Мы все считали вас давно погибшим! Молодой человек с поразительной быстротой засвидетельствовал ей двумя поцелуями подлинность своей персоны. Затем он обратился к высокому незнакомцу: – Синьор, комендант форта и еще шесть арестованных сбежали из крепостного каземата! Там, под ворохом соломы, оказался люк потайного подземного хода… Он выводит за ров, прямо к тому месту, где утром строились солдаты. В конце хода есть чугунная дверь. Мы нашли ее запертой. Значит, ключи были у арестованных. Пользуясь суматохой, они ушли незамеченными. Их след Карнеро взял уже на берегу. – Вероятно, они попытаются добраться до становища индейцев, своих союзников. Мы должны их настичь. Где мои спутники-онондага Длинная Рука и Быстрый Олень? – Они ждут ваших приказаний, синьор Чембей. – Пусть берут любых лошадей, пускаются по следу беглецов и оставляют нам знаки… Ты, Антони, готовь мою негритянскую четверку. Найдите все, что я велел, не забудьте прихватить рупор… Через полчаса мы должны покинуть долину и догнать наших индейцев. Торопись, Антони! Когда молодой человек бегом спустился вниз, синьор Чембей прикрыл дверь комнаты и весьма внушительно сказал Камилле: – Мадемуазель, я рад, что вы встретили доброго друга, но по некоторым причинам его настоящее имя ни в коем случае не должно здесь стать известным. Называйте его синьором Антонио Карильо. Обещайте мне, Камилла, что вы никому не проговоритесь. Это может повлечь новые несчастья. – Обещаю, – робко произнесла девушка.
4
Вдоль холмов и долин великой лесной пустыни ползли утренние туманы. С каменистых вершин холмов февральские ветры сдули снеговые шапки. Почернелые пятна снега виднелись только во впадинах. Из-под снега днем уже сбегали ручейки. Ночью они застывали, и в первых солнечных лучах чуть взблескивали среди осыпей впадины, словно слезы, застывшие в морщинах старого лица. Искривленные стволы кедров и сосен на скалистых уступах боролись с зимними ветрами. И такою жизненною силою, такою цепкостью наградила природа эти деревца, что при весенних оползнях и обвалах корни их не расставались с почвой, и подчас самый ствол дерева раздирался пополам: часть его повисала над обрывом, а другая половина срывалась вниз вместе с оползнем. Цепкая это была порода, неуступчивая, и крепко держалась она за вскормившую ее каменистую землю! Ниже, со склонов долин и холмов, выбегали на сотни миль вперед вековые леса. Там, где каменистое русло ручья расширялось в глубокую лощину, окруженную ельником, находилось становище племени Горного Орла. Мужчин в селении оставалось мало. Младший сын Горного Орла, Дикий Вепрь, с полусотней воинов стерег вигвамы, запасы зерна и скот от лесных хищников и незваных гостей. Все остальные мужчины племени ушли с Горным Орлом в низовья Огайо. – Белые хитры, и они враждуют между собой. Горный Орел мудр. Он не захочет лить кровь своих воинов ради того, чтобы помочь одним белым людям победить других белых людей. Пусть они сами истребляют друг друга огненной смертью, а индейцы будут вольно охотиться в своих лесах! Так сказал на совете старейший сахем племени шавниев, и Горный Орел вооружил своих воинов и повел их в Голубую долину, чтобы во время военных действий между солдатами и колонистами индейцы не были застигнуты врасплох каким-нибудь тайным коварством белых людей, как это уже не раз случалось. Мудрые были Горный Орел и старый сахем, но злодейство белых убийц оказалось глубже вод и чернее змеиных нор! Через неделю прискакали конные гонцы с горестными вестями. Воины идут назад по военной тропе. Сражение окончилось победой. Но Горный Орел и многие сыны племени возвращаются бездыханными к осиротевшим вигвамам. Все они пали жертвами коварства белых. Правда, кровь, пролитая убийцами, отомщена: поселок Голубой долины истреблен, и вереницу белых пленников воины гонят перед повозками. Но племя шавниев не хотело этой войны, и никакая добыча не возместит потери мудрого и справедливого Горного Орла. С громким плачем выбегали из вигвамов вдовы, матери и сестры убитых. Они торопились навстречу длинному поезду. На огненно-золотистом коне, привязанный ремнями к седлу, Горный Орел, немой и недвижимый, совершал свой последний путь по лесным тропам. Следом за ним с высоко поднятой головой, украшенной орлиным пером, ехал Серый Медведь. И на длину сотен конских спин растянулась за ним вереница пленников, нарт и пеших воинов. Старшины собрали все племя на широком кругу между вигвамами. Посреди круга стоял старый жертвенный столб «хозяину войны». Рядом с ним положили тела убитых; вдовы и матери причитали над ними. Поодаль от столба быстро вырос штабель бревен, толстых сучьев и хвороста. Большой костер должен был превратить в пепел останки Горного Орла и павших воинов, чтобы дух их мог легко вознестись в вечные охотничьи угодья. Там, в просторах вечности, никто не нарушит вольной охоты усопших индейцев, ибо в тех бескрайних лесах и прериях нет ни белых колонистов, ни капитанов-инглизов, ни американских подполковников!.. Ночью к вигваму Серого Медведя подошел индейский мальчик и стал у входа, ожидая, чтобы его позвали. – Чего хочет от меня мой маленький друг? – спросил его Серый Медведь ласково. – Тебя, Серый Медведь, желают видеть семеро белых мужчин. Они только что подошли к нашим вигвамам и спрятались в лощине. Их капитан ждет встречи с тобой, о вождь. – Приведи их, – приказал Серый Медведь. Через полчаса после беседы со своими семью ночными гостями вождь шавниев послал за Диким Вепрем и тремя лучшими следопытами племени. – Этих семерых белых людей, – сказал Серый Медведь своему младшему брату, – нужно провести через леса к форту Майами. Перемените им лошадей. Пусть они отдохнут в твоем вигваме, Дикий Вепрь, а завтра, перед рассветом, вы вчетвером поведете их к английскому форту.В темной пещере, куда индейцы загнали своих пленников, собралось почти все уцелевшее население Голубой долины. Альфред Мюррей, раненый Эдуард Уэнт и Морис Вилье тихонько беседовали со старым доктором Вальнером. Все они с тревогой посматривали на каменные лица индейской стражи. После полуночи в пещеру явился Волк Ущелья, пересчитал пленников и с непроницаемым лицом остановился среди пещеры, скрестив руки на груди. Морис Вилье шепнул доктору Вальнеру: – По-видимому, наша судьба уже решена. Быть может, вы узнаете у этого красивого молодца, что нас ожидает? Это мой застольный сосед на злополучном банкете. Кажется, его зовут Волк Ущелья. Нильс Вальнер, знавший несколько обиходных фраз на языке шавниев, подошел к Волку Ущелья. – Белые пленники ждут, что решат индейские вожди. Они мирные люди. Они не виноваты. Солдаты обманули индейцев. Никто не хотел войны. Волк Ущелья нетерпеливо прервал доктора: – Ты – большой знахарь и жрец, но рассуждаешь подобно белым сквау. Эти басни для детей белая сквау вашего старшего сахема Мюррея пела мне на ухо по дороге. Я глух к этим речам. Мои глаза видели, что Горный Орел убит ножом двуличного хозяина, человека с улыбкой на лице и змеиной душой. Никто не входил в дом, кроме слуг убийцы. Нож белого хозяина остался в ране. От жажды мщения кровь кипит у всех воинов. Слушай, что решил совет старейшин. Утром на глазах у всего племени белые мужчины умрут у жертвенного столба. Это будет перед огненным погребением наших воинов, чтобы их мертвые очи могли порадоваться мукам убийц. Белые и черные сквау пойдут в вигвамы воинов. Хотя доктор Вальнер понял не больше половины сказанного, смысл последних фраз был ему достаточно ясен. Волк Ущелья смерил пленных взглядом, полным ненависти, и покинул пещеру. Эмили Мюррей сказала громко: – Нужно найти в себе силы лишить жизни несчастных детей и покончить с собственной. Я не хочу дожидаться завтрашнего утра со всеми его ужасами. Бог простит нам это прегрешение, ибо положение наше безвыходно. – Да простит он тебе твои безумные слова, бедное дитя! – раздался в темноте старческий голос. Сеньора Эстрелла Луис, как древняя сивилла, простерла сухую руку к огню светильника. – Видите этот огонек? В солнечный день он был бы незаметен, а здесь, в глубине пещеры, этот слабый луч побеждает тьму. Не гасите в душе огонька надежды, пока в вас теплится жизнь. Никогда предчувствия не обманывали меня! Верьте мне: утро завтрашнего дня вернет нам солнце. Слова старухи слышали все. Индейские воины с почтением смотрели на седую прорицательницу. Огонек светильника дрожал на ее лице, а выбившаяся из-под черной мантильи седая прядь отливала чистым серебряным блеском. И, словно впрямь по тайному волшебству, колеблющийся огонек светильника вдруг затрещал, рассыпая искры, и запылал ярче прежнего. Плотно утоптанная снежная площадка перед вигвамами была сплошь усеяна людьми. В вигвамах не осталось ни одного человека. Рядом со старым жертвенным столбом были за ночь вкопаны в плотный снег пять новых столбов. Под ними лежали кучи дров и хвороста. Старейшины и военачальники заняли посреди широкого круга зрителей средние почетные места. Позади воинов расположились женщины. – Привести пленников, – приказал Серый Медведь. Солнце поднялось над лесистой долиной. Длинные тени деревьев ложились на искрящийся снег. Пещера с пленниками находилась в трехстах шагах от лагеря, выше по склону долины. Воины поодиночке вывели пленников из черного зева пещеры. Осужденные увидели себя в кольце настороженных, враждебных глаз. Пленным женщинам и детям приказали сесть поодаль, на поваленном дереве. Серый Медведь указал пальцем на Альфреда Мюррея, Эдуарда Уэнта, хозяина обезьянки Томаса Бингля – индейцы считали этого юношу чем-то вроде чародея – и старого француза, месье Мориса Вилье. Миссис Эмили и Мери Уэнт пытались кинуться к осужденным, но воины силой вернули их на прежнее место. – Прощай, Эмили! – крикнул Альфред Мюррей через головы своих охранителей. Один из воинов замахнулся на него, но другой на лету удержал томагавк. Эдуард Уэнт только махнул рукой своей Мери и, прихрамывая, подошел к столбу. Серый Медведь вгляделся в кучку пленных и остановил на каждом пристальный, оценивающий взгляд. Затем палец его указал на Диего Луиса. Мальчик стоял среди пленных мужчин, едва достигая до их подбородков. Презрительным жестом он оттолкнул руку воина, который хотел взять его за худенькое плечико, и сам пошел к пустующему столбу. Среди толпы прокатился ропот одобрения. Старая испанка крестила мальчика, не поднимаясь с колен. Всех приговоренных привязали к столбам. Ноги их упирались в сложенные поленницы, и осужденные возвышались над толпою, словно на постаментах. – Смерть белым убийцам! – закричали в толпе. По знаку Серого Медведя десяток воинов с луками выступили вперед. Расстояние в двадцать шагов отделяло их от жертв. Они вынули по стреле из колчанов и натянули тетивы. Пленные женщины закрыли лица руками. Но лишь только крайний воин, сорокалетний брат Горного Орла, прицелился в маленького испанца, странный трубный звук пронесся над долиной и неслыханной силы голос, исходивший, казалось, с небес, произнес на языке шавниев: – Остановитесь, воины! Хозяин жизни гневается на вас! Останови казнь, о Серый Медведь! Вождь, уже поднявший было руку, чтобы последним сигналом прекратить пять дыханий, так и застыл в немом изумлении. Удивительная процессия спускалась со склона долины. Среди голых кустов мелькали длинные белые одежды участников этого шествия. Впереди выступали два вестника-индейца с длинной черной трубой. Рядом с ними шел высокий юноша. Он держал на сворке громадного серого волка, каких никогда не бывало ни в лесах, ни в прериях. Позади них двигались четыре чернокожих великана. Лица их, цветом похожие на вороново крыло, были украшены полосками насечек от носа к ушам. Они держали на плечах носилки. На шеях у двух передних носильщиков висели барабаны. Ни у кого из участников шествия не было оружия. Четыре атлета-негра опустили носилки на землю. Из них вышел высокий человек в белой чалме на седых волосах. При этом один из вестников затрубил в свою трубу, а два передних негра что-то прокричали и ударили в барабаны. Юноша с волком властно раздвинул круг зрителей. Два задних носильщика склонились, подхватили полы одежды старика, и под оглушительные звуки трубы и барабанов шествие вступило в середину круга. Глава пришельцев заговорил по-английски: – Воины честного племени Горного Орла и ты, храбрый и справедливый Серый Медведь, выслушайте важную весть. Вы, ослепленные злобой, приговорили к жестокой казни ни в чем не повинных людей. Знай, Серый Медведь, что кровь твоего отца пролили не эти люди, а хитрые инглизы из военного форта. Переводчик, индеец-онондага, начал переводить сказанное на язык шавниев. Серый Медведь нетерпеливо прервал переводчика: – Кто ты, странный белолицый, и откуда ты можешь знать, от чьей руки пал Горный Орел? Тебя не было в Голубой долине, когда нож белого человека пронзил грудь нашего отца. Чем ты докажешь мне, что уста твои не говорят лжи? – Маловерный! Это я докажу сейчас не одному тебе, а всему твоему народу! И, обращаясь к телу Горного Орла, лежавшему на высоком погребальном костре, пришелец произнес: – О мудрый вождь, чей дух сейчас свободно возносится в вечные охотничьи степи! Раны твои взывают к мести. Помоги своим осиротевшим детям настигнуть настоящих злодеев. Развяжите пленников, воины! Я сам стану к вашему костру. Подойдите ближе, чтобы все могли увидеть то же, что увижу я. Пленников развязали, подчиняясь гипнотической силе, исходившей от этого колдуна, но, вместо того чтобы приблизиться к нему, передние зрители, тесня задних, стали отступать от середины круга. Колдун ждал, пока отойдет от столба маленький испанец. Вокруг незнакомого чародея уже образовалось широкое пустое пространство. Мальчик, разминая затекшие от веревок руки, прошел по этому пространству мимо колдуна. Коленопреклоненная старая испанка выпрямилась и в порыве радости простерла руки навстречу мальчику. Обе ее молодые спутницы, пораженные безграничным удивлением, переводили взоры с чародея на молодого человека, поводыря собаки. Не верил своим глазам и Альфред Мюррей. Но как не узнать этот голос, столько лет наполнявший все ущелья пустынного острова… Белый чародей поднялся на помост, с которого только что сошел маленький испанец. Мальчик был уже в объятиях своей бабушки и не отрываясь глядел на незнакомца. Поразительно было сходство пришельца, стоявшего теперь у столба, с худеньким личиком Диего! Однако пришелец старался не оборачиваться с помоста в сторону мальчика и не ловить его пристального, удивленного взгляда. Чародей кивнул своим спутникам. Пронзительная музыка трубы и барабанов возобновилась, но теперь к этой музыке присоединились еще восторженные крики пленных негров. Под этот адский шум и возгласы человек коснулся рукою своего левого глаза, слегка надавил веко и к ужасу красных и черных зрителей… вынул собственный глаз! Держа глаз на ладони, он медленно поднял его над обомлевшей толпой. На кругу, еще более расширившемся, мгновенно наступило полное безмолвие. Звучал только металлический голос чародея, и переводчик-онондага вслед за незнакомцем неторопливо бросал слова в эту мертвую тишину: – О Всевидящее Око, немеркнущий глаз, ты уже глядишь в прошлое. Для тебя нет сокрытых тайн. Ты возвестишь нам правду моими устами. Внимайте! Всевидящее Око показывает мне пир в доме Белого отца Голубой долины. Вот я вижу Горного Орла. Он сидит справа от хозяинов дома. В руках у хозяина большой нож. Он режет им оленье мясо. Вот храбрый Волк Ущелья пирует рядом с французским колонистом. В дом пришли коварные инглизы из форта. На их устах улыбки, в сердце у них – клубок змей. Я вижу, как рыжеусый человек, которого зовут сержант Линс, тихонько подходит к маленькому столику в углу. Вспомни, о Серый Медведь, что лежало на этом столике! Ты припомнил, вождь? Отвечай мне. – Слуги ставили там блюда и лишнюю посуду. – Припомни лучше, о вождь! – Стой! Там лежал черный нож хозяина! – Верно, вождь! Всевидящее Око, веди меня дальше сквозь потемки прошлых дней! Я вижу, как уходят инглизы, а сержант Линс прячет под полою черный нож хозяина. Вот индейские гости заснули. Две тени крадутся из форта в сад Мюррея. Это изменник и перебежчик сержант Френк Вилерс и его помощник предатель Енох Легерзен. О, я вижу, зачем они прокрались ночью в чужое владение: инглизы хотят, чтобы великая ненависть ослепила индейцев. И вот они крадутся, два злодея. Они взбираются на веранду. Ее сторожит черный человек, но он выпил много вина, и его голова падает на грудь. Он спит, а два злодея открывают окно. Вот они влезли в угловую комнату, вот зажгли свечу. О, страшная картина! Френк достает черный нож Мюррея и вонзает его в грудь Горному Орлу. Горе, горе, как течет кровь убитого! Злодеи погасили свечу. Вот вылез из окна Енох. Следом за ним выбирается Френк Вилерс. Они плотно закрыли окно. Сторож-негр по-прежнему спит, и злодеи скрылись. Куда они идут? Они идут к белому капитану Бернсу и получают от него награду за подлое убийство. Вот кто направил руку убийц! Но царь богов не может терпеть зло! Он посылает в Голубую долину двести храбрых воинов, чтобы наказать Бернса, а мне велит спешить к вигвамам индейцев и помешать казни невинных. Капитан Бернс уже не командует фортом. Вот он сидит в крепостной тюрьме вместе со всеми своими пособниками… Но нет, семеро негодяев бежали из форта, чтобы скрыться от возмездия в глубине лесов. Неужели злодеи нашли приют в твоем вигваме, Серый Медведь? О обманутый сын Горного Орла! Ты дал им свежих лошадей, ты приютил у своего очага тех, кто омыл свои грязные руки в крови твоего отца. Сейчас они пробираются к английскому форту. Пошли за ними погоню, и ты настигнешь убийц. Чародей вставил свой глаз на место. Невообразимый переполох поднялся в становище. Десятка два воинов уже вели коней. Через несколько мгновений только снежная пыль вилась над лесной тропой, ведущей вверх по долине. Индейские воины провожали в обратный путь бывших пленников почти до самой долины. Всевидящее Око следил, как тронулась вереница путников. На легкие индейские нарты воины почтительно усадили старую женщину в черной мантилье… О, как хотелось незнакомому чародею броситься к этим санкам! Но враги еще не были схвачены… И Всевидящее Око со своей свитой остался ждать возвращения индейцев, пустившихся в погоню за беглецами из форта… Ожидать пришлось до вечера. Уже в сумерках воины привели в становище шестерых новых пленников во главе с хмурым, встревоженным Бернсом. Он чуял, что неспроста была послана за ними погоня! Среди новых пленников не было только сержанта Линса: раненный в перестрелке, он скатился с высокого обрыва в снежный сугроб.
* * *
Серый Медведь заранее приказал перенести в свой вигвам тяжело раненного воина – Серебристую Лису, подобранного в ту злополучную ночь почти бездыханным в саду Мюррея. Его привезли в лагерь на нартах, и очнулся он уже в самом становище. – Поведай мне, брат мой, – спросил его Серый Медведь, – как случилось, что ты один очутился раненным в саду белого сахема? Серебристая Лиса слабым голосом рассказал, чему был свидетелем в ночь убийства Горного Орла. – Позволь мне спросить твоего мудрого брата, о Серый Медведь, – попросил Бернардито, – смог бы он опознать в лицо тех двоих, что вылезли на веранду из комнаты Горного Орла? – Луна светила в тот миг, – отвечал Серебристая Лиса, – и сбоку я видел этих людей. Возможно, что я мог бы их узнать. Вскоре к вигваму подвели шестерых пленных. По знаку вождя их выстроили перед входом в вигвам, против ложа Серебристой Лисы. – Повернитесь боком и пройдите по кругу, – приказал вождь. И вокруг вигвама началось странное шествие. Серебристая Лиса пристально всматривался в лица пленников… Вдруг его палец, еще дрожащий от слабости, указал на Френка Вилерса… – Он! – закричал раненый индеец со страстью. – И… он! – продолжал он, указывая на Еноха Легерзена. Бернардито с торжеством взглянул на Серого Медведя. Тот поднялся с груды шкур и подошел к белому «чародею». – Ты был прав, Всевидящее Око, – сказал вождь. – Теперь последние тучи сомнений рассеяны. Ты не обманщик индейцев, ты правдивый чародей. За то, что ты научил нас отпустить невинных и настичь настоящих убийц, ты стал мне братом и отныне войдешь в мой род. Дети моего рода усыновляют тебя, Всевидящее Око, в могучем племени шавниев!.. …Когда «чародей» повелел наконец своим спутникам готовиться в путь, была уже ночь. Высоко над вершинами деревьев гасли в морозном воздухе искры погребальных костров, а на обугленных столбах чернели трупы Бернса, Еноха Легерзена, Шельтона, Френка Вилерса, Гримльса и Венсли.5
В палате ротного госпиталя, где лежал выздоравливающий Дик Милльс, утром собрались колонисты долины, которым посчастливилось вернуться невредимыми из индейского плена: все они ожидали теперь прибытия из становища их загадочного избавителя. Альфред Мюррей терялся в догадках. Не сам ли он раскапывал пещеру, где обвалом засыпало обоих островитян и Чарльза? Не сам ли он видел следы человеческих тел, обрывки окровавленной одежды? А живой Антони Ченни? Он-то с каких небес свалился в Голубую долину? Диего Луис притих и в эту минуту отнюдь не был похож на маленького храбреца, каким он держался в продолжение всех тяжелых испытаний; сейчас это был просто смущенный и очень взволнованный мальчик. Конские копыта уже прогремели на подъемном мосту. Вот голоса прибывших звучат ближе… Один голос резче и громче остальных… Голос воскресшего из мертвых! Сеньора Эстрелла уронила свой платочек… Звякают косточки четок на запястье, а дрожащие старческие губы неслышно шепчут слова Miserere*["114]. Доктор Вальнер прочел во взгляде Эмили, что некая давняя и прочная нить связывает семью Мюррей, старую испанку и ее внука с таинственным пришельцем. Он понял: присутствие посторонних будет сейчас излишним. Старый врач победил терзавшее его любопытство и вывел остальных колонистов из комнаты. Перед ними мелькнул у дверей чеканный профиль. Незнакомец был в старом морском камзоле. Длинная шпага била его по ногам. Со склоненной головой он задержался на мгновение у порога. Спутник его, молодой итальянец, открыл перед ним дверь и, тихонько затворив ее за незнакомцем, остался у входа, словно часовой. Если бы доктор обладал способностью видеть сквозь стену, он запомнил бы на всю жизнь то, что происходило в этой комнате в первые минуты встречи!.. …Человек, чье имя самые бесстрашные называли с трепетом, лютый морской тигр, не проронивший за полвека ни единой слезы, плакал у ног сгорбленной старушки. Слезы, скупые, бесценные слезы сурового воина, блестели, западая в резкие морщинки, словно роса на старом камне… – Матушка! От этого шепота люди в комнате забыли собственные печали и заботы. Увлажнились глаза у обитателей притихшей больничной палаты… – Смел ли я, старый, надеяться! Матушка, подведи ко мне сына! Лоб ребенка, такой же высокий, как у Бернардито, был влажным. У мальчика подергивалась бровь, и от этого движения вздрагивала родинка в уголке правого века, крошечная, темная, отцовская родинка. – Мальчик мой, обними своего отца! – Человек нетерпеливо смахнул слезу с бороды и улыбнулся сыну так широко и счастливо, как никогда еще не улыбался за всю свою долгую, горькую жизнь. – Сын! Диего Луис эль Горра! О смерть, как бессильно жало твое!6
Тяжел был путь оборванного бродяги, пробиравшегося лесами к английскому форту Майами… Индеец-кайюга подобрал его в снегу, под речным обрывом. С помощью этого индейца человек добрался до форта. Через несколько недель он оправился от ранения и с группой солдат спустя месяц пришел в Детройт. А еще через полгода он увидел в Нью-Йорке синие волны Атлантического океана. Глубокой осенью 1779 года путник распрощался с капитаном английского брига, бросившего якорь в Бультоне… …В холодный зимний вечер к замку в Ченсфильде прибыл одинокий пешеход с обветренным лицом. Он потребовал допуска к самому лорду-адмиралу. – Передайте милорду, – сказал он камердинеру, – что его спрашивает посланец капитана Бернса, да будет земля ему пухом. Я привез кое-какие вести из Америки. Сам я чудом спасся из рук индейцев. Меня зовут Уильям Линс. Я был сержантом в гарнизоне Голубой долины. Камердинер с сомнением посмотрел на бывшего сержанта. – Едва ли милорд примет вас сегодня, мистер Линс. У него уже сидит посетитель, тоже издалека. Прибыл нынче с почтовой каретой. Попробую доложить о вас, но не ручаюсь, мистер, не ручаюсь! Через несколько минут Линса позвали в охотничий кабинет. Он увидел графа Ченсфильда, который стоя прощался с высоким моряком. Лорд-адмирал жестом указал Линсу место у камина, а сам сделал несколько шагов к двери, провожая собеседника. – Мистер Лорн, я вижу, что путешествие очень утомило вас. Когда вы отдохнете, мы возобновим беседу, и я надеюсь услышать что-нибудь более серьезное, чем сказки для детей. Ей-богу, вы развлекли меня! Остров мертвецов! «Летучий голландец»! В наш трезвый век эти вещи не пугают даже детского воображения. Ложитесь спать, и утром поговорим серьезно. Собеседник милорда отвернулся. Лицо его нахмурилось, и белый шрам на лбу посинел. Он молча взялся за ручку двери. – Да не сердитесь, мистер Лорн. Мне, право, жаль, что нервы изменили вам. Я вас впервые вижу таким. Завтра мы посмеемся с вами над этими сновидениями… – Едва ли вам и завтра удастся развеселить меня, милорд, – отвечал Джозеф Лорн свирепо. – Хотел бы я посмотреть, как бы вы смеялись, когда по волнам пролетел этот проклятый корабль призраков… Я хотел пощадить ваши чувства, но насмешки выводят меня из терпения. Знаете, кто стал капитаном «Летучего голландца»? Оно страшнее самой смерти, это привидение! Смейтесь, если вам угодно, но Трессель и Ольберт так же ясно, как и я, разглядели на мостике призрак Бернардито. Рука милорда чуть-чуть дрогнула, но он принудил себя улыбнуться. – Поднимитесь в мой верхний кабинет и подождите меня там. Я должен побеседовать с человеком из Голубой долины. Джозеф Лорн не успел снова протянуть руки к двери – она распахнулась. Камердинер почти упал внутрь кабинета от чьего-то весьма решительного пинка. Полковник Бартольд, комендант бультонского гарнизона, без приглашения появился в кабинете. – Простите меня, милорд, за это насильственное вторжение и даже тумак, нанесенный вашему нерасторопному камердинеру, но я прибыл с неотложной вестью. Сэр, только что получено чрезвычайно прискорбное сообщение! Ваш боевой корабль «Окрыленный», краса и гордость всех британских каперов, полтора месяца назад захвачен или потоплен неизвестным судном. Боюсь, сударь, что вы сочтете меня суеверным человеком или просто шутником, но полученное сообщение гласит, будто сам «Летучий голландец» столкнулся с «Окрыленным» в африканских водах. – Какие подробности известны о катастрофе? – спросил милорд хрипло, потирая вспотевший лоб. – Мне трудно повторить их, не вызывая вашего тягостного недоумения. Донесение поступило от коменданта Капштадтского порта. Гибель капера наблюдали моряки одной голландской бригантины под названием «Ден Хааг». Эта бригантина шла из Ост-Индии с грузом для Новой Англии. Капер «Окрыленный» выследил ее, взял на прицел и просигнализировал приказ остановиться. Дело происходило в двухстах милях западнее мыса Доброй Надежды безлунной ночью. Капитан бригантины уже приготовился к отражению абордажа, как внезапно из ночного мрака возник светящийся корабль-призрак. Бушприт его врезался в рангоут «Окрыленного». Целый сонм чудовищных привидений беззвучно перелетел на борт капера, и среди экипажа началась безумная паника. Матросы бросались в воду, а на палубе металось какое-то чудовищное животное, вроде исполинского волка. Затем корабль-призрак как будто ушел в пучину, а «Окрыленный» бесследно растворился в тумане. Через час капитан бригантины решился обследовать место гибели и подобрал из воды трех человек. Двое из них, пробыв несколько суток между жизнью и смертью, пришли в себя; они оказались матросами «Окрыленного» и подтвердили то же, что экипаж бригантины наблюдал издали. Третий спасенный все еще в горячке. Матросы узнали в нем своего капитана Блеквуда. Капитан голландской бригантины привел свой корабль в Капштадт. Моряк был сам весьма смущен этим чудесным спасением благодаря появлению земляка-призрака и даже не рискнул вознести за него благодарственную молитву, ибо не знал, будет ли она угодной Господу… В Капштадте комендант форта заставил капитана бригантины и обоих очнувшихся матросов с «Окрыленного» подтвердить все виденное под присягой. Извольте прочитать подлинный рапорт капштадтского коменданта. Он пришел в Бультон всего два часа назад, и я почел долгом… – Благодарю вас, – сухо сказал граф и поторопился выпроводить всех своих посетителей, кроме Лорна. Оставшись с глазу на глаз с моряком, граф положил руки на плечи Лорну и быстро зашептал ему на ухо: – Слушай, Джузеппе, поезжай-ка быстрее в Бультон. Там, в порту, недавно открылась маленькая католическая часовня. В ней есть священник, старый монах, отец Бенедикт Морсини. Это старик из часовни в Сорренто, ты помнишь его?.. Я тебе потом как-нибудь расскажу, как этот отец Бенедикт попал сюда. Он, верно, посланец тайного ордена; в Италии почва стала горяча для отца иезуита. Он обосновался здесь, и я построил ему часовню. К черту протестантский собор со всеми его попами! Ступай – закажи старику ночную мессу, и мы вдвоем с тобой отстоим ее в капелле. Мы помолимся Богу о наших грешных душах… Поторопись, Джузеппе!Вокруг Скалистого острова гуляли океанские ветры. Тучи плыли над ущельем в горах. Но ущелье уже не было пустынным и безлюдным. Там, где горы раздвигались и поток разбивался на несколько рукавов, вырос поселок. Он носил название Буэно-Рио и состоял уже из трех десятков домов. Сорок матросов капера «Окрыленный» во главе с боцманом Джоном Бутби уцелели после рокового столкновения капера с «Летучим голландцем» и составили часть населения острова. Воды бухты отражали теперь стройный корпус и высокие мачты «Окрыленного». На берегу возродился негритянский поселок, где жил экипаж «Африканки», затонувшей при ночном абордаже. На месте развалин старой хижины островитян было сложено довольно большое строение из камня, скрепленного расплавленным свинцом. Дом напоминал постройки средневековой Испании. В саду этого дома вечерами играли три мальчика, всегда одетые в одинаковые костюмы. Огромная собака и маленькая обезьянка принимали в этих играх самое деятельное участие. Мальчики играли в индейцев, пиратов или охотников на леопардов. Они истребляли неисчислимое количество солдат капитана Бернса в образе крапивных зарослей за оградой. Капитан Бернардито привел в порядок поднятую со дна яхту «Элли». Судно, уже починенное и окрашенное, служило теперь для увеселительных прогулок. Старое название яхты было густо замазано, а новое еще не придумано. Однажды вечером, уже в темноте, Бернардито различил какую-то странную возню на борту яхты. Он шел по берегу вместе с Доротеей. Шлюпка с «Окрыленного» стояла на приколе. Капитан усадил в нее Доротею и тихо повел шлюпку к борту яхты. У форштевня он заметил свет фонаря. Бернардито подвалил к корме и поднялся на борт. Он уже давно догадывался, кто хозяйничает на корабле, однако удивился, застав своих питомцев за необычным занятием. Фонарь освещал ведерко с краской, а трое мальчиков наматывали тряпку на малярную кисть. Бернардито стал в тень и прислушался. Мальчики отложили кисть. Лица их были измазаны краской, а глаза горели от возбуждения. Словесный спор, возникший между ними, грозил продолжиться уже другими средствами. Но старший из мальчиков, Томас Бингль, предложил решить спорный вопрос жеребьевкой. Этого мальчика, которому капитан Бернардито был обязан спасением в Пирее своего сына, мистер Мюррей отпустил из Голубой долины на остров Чарльза. Капитан взял слово с Мюррея, что весть о «воскрешении» старого корсара останется тайной, и посвятил его в свои дальнейшие планы… В лице Томаса Бингля Бернардито обрел третьего сына. …Теперь на глазах у капитана, тайно наблюдавшего за мальчиками, юный Томас Бингль что-то старательно писал на трех клочках бумаги. Затем бумажки были основательно скатаны, придирчиво освидетельствованы и опущены в берет. Три руки одновременно схватили по бумажке. Первым расшифровал собственный почерк сам автор записок. – Я буду Маттео Вельмонтес! – провозгласил он торжественно и веско. Черные глаза Чарльза засверкали радостно. Он пустился на палубе в пляс. – Как я и хотел, как я и хотел! Я буду Алонзо де Лас Падос! Только теперь, чур, уж ничего не менять! Диего, ты, значит, будешь Одноглазым Дьяволом! – Ну что ж, – вздохнул Томас, явно претендовавший сам на указанную роль. – Ладно! Давай прими нашу кровавую клятву, Одноглазый Дьявол Бернардито! …Прижизненно разжалованный капитан тихонько вернулся на корму. Дома он вместе с женой часа два дожидался возвращения «братьев-мстителей» из их таинственного рейда. В этот вечер они ничего не объяснили капитану, но утром, чуть ли не на рассвете, подняли Бернардито на ноги и привели к берегу. Над форштевнем яхты, выведенная не слишком аккуратными малярами, красовалась надпись: «Толоса». Капитан потрепал ночных живописцев за вихры и поднял всех троих в воздух. Старое братство капитана Бернардито возрождалось в новом составе!
Часть третья Солнечный остров
19. «Три идальго»
Назад с тоскою он взглянул И по тюрьме своей вздохнул.Байрон
1
Человек ходил по тюремной камере. Четыре шага в длину, три шага в ширину. Окно в полукруглой передней стене – на высоте трех с половиной ярдов: даже на цыпочках не дотянешься руками до подоконника. Но после обеда солнечный луч падал на оконную решетку, проникал в камеру и освещал каменные плиты пола. Чем ниже садилось солнце, тем выше скользил по стене золотой луч. К вечеру он становился багряным и угасал на полукружье потолочного свода, как раз над дверью. Дверь была железной, с небольшим оконцем и круглым «глазком», снаружи защищенным маленькой медной крышкой. Камера под номером четырнадцать помещалась в юго-западной башне бультонской тюремной крепости. Старая крепость высилась на крутом холме, к северу от городских предместий, среди таких же серых, как стены самой тюрьмы, прибрежных камней Кельсекса. Ночами шум реки усиливался. Казалось, волны пенились под самым основанием башни. Было слышно, как на дне скрежещут и ворочаются камни – обломки береговых утесов. Камни… Вот уже много лет каторжники дробят эти скалы и в тачках катят гравий и булыжник вверх по узким доскам, ссыпают его в штабели, и растущие пригороды Бультона украшаются новыми мостовыми… Но узник четырнадцатой камеры не участвовал в этих работах. Он не покидал стен тюрьмы уже десятый год. Его выводили дважды в неделю только на тюремный двор. Дважды в неделю он видел над собою небо и слушал дальний рокот океанского прибоя. Прогулка длилась полчаса, а затем человек снова начинал свое путешествие по камере. В юности он видел белку в большой решетчатой клетке. Кругообразным движением, распушив хвост и задевая им прутья решетки, белка с утра до вечера носилась по клетке как заведенная: с пола на нижнюю жердь, потом на верхнюю, под крышей, затем прыжком на пол – и снова на нижнюю жердь. Человек вспоминал этого зверька все десять лет. Сам он делал четыре шага вперед, от двери к окну, два шага в сторону, пять шагов в угол, два шага к двери, и цикл начинался сызнова. Тринадцать шагов, тринадцать движений, и занимали они семь секунд. Эти секунды, повторенные сотни раз, складывались в часы. Бесконечные ручейки убитых тюрьмою часов стекались в однообразные потоки суток, а месяцы были словно озера стоячей воды. Человек старел и менялся; река времени обтачивала его, как воды Кельсекса обтачивали каменья. Год шел за годом, а впереди все еще оставался безбрежный океан тюремных лет и переплыть его казалось невозможным… Человек уже давно не видел снов про волю. В первые годы заключения мысль о свободе доводила его до исступления, и каждую ночь он совершал во сне отчаянные побеги, попадал в знакомые места, отбивался от погони и просыпался в поту. Потом чаще и чаще стали приходить ему на память картины детства, а недавнее прошлое отодвигалось, заволакивалось туманом и становилось неправдоподобным и чужим, как прочитанная без интереса книга. Первые месяцы заключения были самыми трудными, и в это тяжелое время судьба послала узнику товарища. Из подземелья замка Шрусбери был переведен в бультонскую тюрьму некий отставной французский капитан. Из-за переполнения тюрьмы, как пояснил надзиратель Хирлемс, его поместили в одну камеру с молодым узником, и, узнав друг друга ближе, временные соседи подолгу беседовали и делились рассказами о прошлом. Узник был вдвое моложе своего товарища, но тому предстояло провести в тюрьме всего два месяца, затем он должен был в течение суток покинуть пределы Англии. Француз очень заинтересовался службой соседа в доме некоего важного лорда, но молодой человек становился при этих вопросах глухим и немым и молчал до тех пор, пока собеседник не избирал другой предмет обсуждения. Эта недоверчивость узника усилилась и в конце концов превратилась в тайную, хорошо скрытую неприязнь к соседу, когда тот в состоянии сонного бреда проговорился о цели своего далеко не случайного пребывания в камере номер четырнадцать. Узник давно знал обычай ловких тюремщиков подсылать к заключенным так называемых «наседок» и убедился, что в лице француза он имеет дело с птицей именно такого рода. Сообразить, по чьей воле она избрала своим гнездом данную камеру, было нетрудно. Своим осторожным поведением и кое-какими басенками, рассказанными французу будто бы в приливе откровенности, молодой человек, вероятно, успокоил некую сиятельную особу, ибо после исчезновения отставного капитана узник не видел в камере иных лиц, кроме тюремных надзирателей. Изредка он получал от них кусок бумаги, карандаш и акварельные краски, садился к железному откидному столику и рисовал цветы, животных и пейзажи. Делал он и портреты своих охранителей. Надзиратель немедленно отбирал рисунок и дарил его своей дочери, а иной раз обменивал его на табак или стакан бренди. За эти рисунки узнику тайком приносили книги. «Утопию» Томаса Мора и «Город Солнца» Фомы Кампанеллы*["115] он знал целыми страницами наизусть… Сегодня человек быстрее обычного ходил по камере, с трудом сдерживая волнение. Темное оконное стекло отражало огонек фонаря, горевшего в камере, но уже через час дальний край летнего неба должен был порозоветь; близилось утро 14 июля 1789 года, а с ним – и окончание тюремного срока: ровно десять лет назад после полугодового следствия суд вынес свой приговор. И ровно десять лет без четырех часов узник просидел, прошагал и проспал в камере номер четырнадцать. Выпустят, не выпустят?.. На ходу он закрывал глаза, делал шаг и смотрел под ноги: если ступня покрыла пятнышко на полу, значит, выпустят, если нет… Пятнышко оказывалось только наполовину под подошвой, и узник закрывал глаза, повертывался к окну и разыскивал в небе знакомую звезду: если светит звезда – выпустят, если скрыта облаком – опять будет длиться тюрьма… Когда на решетку садился воробей, узник замирал: клювиком или хвостиком повернется к нему птичка?.. Так истекал час за часом… Бесконечные ряды цифр терзали мозг человека. То он высчитывал десятки и сотни тысяч миль, пройденных им по камере; то измерял заработок, который накопился бы у него за это время; то переводил в часы и минуты свой арестантский стаж. Наконец свет фонаря сделался бледным и ненужным в голубых лучах вновь рожденного дня. Узник, оторванный от внешнего мира, не ведал, что наступившее утро оказалось последним утром в истории более грозной тюремной крепости. В этот день мрачная парижская Бастилия разделила участь лондонского Флита и Ньюгейта*["116], разрушенных народным возмущением девять лет назад. Но бультонский узник ничего не знал об этих событиях. Он не ведал, что великий народ за Ла-Маншем уже распрямил свои плечи, что там началась революция и власть короля становится день ото дня все более шаткой.Узник обитал в тесном мире, и только мечта о Городе Солнца, светлом городе без тюрем и страдальцев, еженощно раздвигала перед ним трехфутовые каменные стены… По цвету неба человек видел, что бультонское солнце уже взошло. Тюрьма просыпалась. О, как изучил он все ее звуки, утренние, вечерние, ночные!.. Вот в конце коридора послышались шаги надзирателя… Замок в дверях камеры брякнул…Перед майором Древверсом, начальником бультонской тюрьмы, стоял, понурившись, немолодой изможденного вида человек в хорошем платье старомодного покроя. – Джордж Бингль, он же Эдуард Мойнс, ваше благородие, – доложил начальнику тюремный писец. – А-а-а, бывший четырнадцатый номер! Здравствуйте, мистер Бингль. Поздравляю вас: вы свободны. Хочу выразить надежду, что суровый урок пойдет вам на пользу. Поведение ваше можно признать образцовым, поэтому я верю в ваше раскаяние и исправление. Одно высокое лицо в городе повседневно проявляло заботу о вас на протяжении всех этих лет. Та же высокая особа благоволила выразить пожелание, чтобы администрация тюрьмы подыскала вам подходящее занятие после освобождения. Поданное вами ходатайство о выезде за границу пока отклонено, мистер Бингль. Пусть это вас не огорчает, ибо за границей сейчас неспокойно, а у нас вы будете устроены на хорошей службе. Мы оставляем вас при тюрьме в должности писца и портретиста. Вашей главной обязанностью будет изготовление портретов вновь поступающих арестантов. В год вы будете получать сто тридцать фунтов. Служба не обременительная. Она позволит вам иметь дополнительный заработок. Жить вам придется здесь, в том же здании, где квартируют надзиратели. Правда, здание тоже ограждено стеною, но полагаю, что это стало для вас таким же привычным, как и для нас, не так ли? Человек, покинувший камеру номер четырнадцать, хранил молчание, и майор Древверс пристальнее вгляделся в него. Это был сутулый, преждевременно состарившийся человек с редкими, наполовину седыми волосами, облысевшим лбом и прозрачной белой кожей, напоминающей кору тех чахлых березок, что произрастают на болотистой почве. Трудно было на взгляд определить его возраст. Потухшие глаза, окруженные синевой. Ввалившиеся щеки. Острый, плохо выбритый подбородок с проседью в рыжеватой щетине. Худые, костлявые пальцы с ревматическими шишечками на сгибах… На вид лет сорок семь, пятьдесят… Но майору не было нужды гадать. Документы Джорджа Бингля лежали на столе. Человек родился в ноябре 1758 года. Ему еще не исполнилось тридцати одного. – Благодарю вас, господин майор, – голос звучал глухо, словно в земляной пещере. – По-видимому, моего согласия не требуется? Разрешено ли мне выходить из пределов крепости? – Вы поступите благоразумно, если воздержитесь от излишних знакомств и продолжительных прогулок. Характер ваших будущих обязанностей налагает на вас некоторые… ограничения. – У меня нет ни родственников, ни друзей. Выполнить ваше пожелание не составит для меня труда… Ответив на рукопожатие будущего шефа, Джордж Бингль отправился вслед за тюремным стражником на свою новую квартиру. Алебардщик и два караульных солдата у ворот с любопытством поглядели ему вслед. Миновав тюремные ворота, Бингль проследовал за стражником вдоль каменной стены, ограждавшей здание конторы и жилища надзирателей. Перед железной калиткой стражник остановился. Калитка заскрипела уже не столь пронзительно, как тюремная… Внутри ограды находился унылый дворик, где полдюжины худосочных тополей напоминали узников, выпущенных на прогулку из бессолнечных недр крепости. В домике, окруженном этими деревцами, жил начальник тюрьмы. В противоположном углу дворика, примыкая к высокой тюремной стене, высилось кирпичное трехэтажное строение, вмещавшее весь служебный штат крепости. Новый служащий бультонской крепости получил во втором этаже кирпичного дома две комнаты с маленькой кухней. Квартира была холодной даже в июльский полдень. Обстановкой она мало отличалась от камеры номер четырнадцать. Стражник водрузил мешок Джорджа посреди «гостиной» и пояснил, что этажом выше квартирует одинокий клерк, чья служанка готова за умеренное вознаграждение распространить заботы и на мистера Бингля. Джордж Бингль выслушал стражника довольно рассеянно, поблагодарил и закрыл за ним дверь. Как ни убоги были грязные стены и немытые окна, все-таки он был у себя дома! Он мог здесь сам отпереть или запереть дверь. Он мог властно остановить перед своим порогом весь остальной мир и сказать ему: «Стой! Здесь распоряжаюсь я один!» Он мог по собственному желанию шагнуть через порог и сказать миру: «Вот и я!» Этими неоценимыми гражданскими правами британца Джордж Бингль не преминул воспользоваться. Он шагнул через порог и запер на ключ двери собственного жилья. Неуверенной походкой он спустился по лестнице, пересек двор, похожий на монастырские дворы, и вышел мимо солдата за ворота. Дорога вела вниз, извиваясь между нагромождениями камней. Небо показалось ему ослепительно ярким, как небо Города Солнца, а ветерок свободы, осторожно перебиравший его непокрытые волосы, взволновал его до слез. Когда он спустился с холма, каменистые осыпи сменились землей и травой. За поворотом дороги блеснула река. Среди прибрежных скал открылась небольшая зеленая лужайка. Ручей, сбегающий в Кельсекс, делил ее пополам. Джордж Бингль с дрожащими от усталости коленями добрался до лужайки, присел на траве и поцеловал первый встреченный им одуванчик.
2
Гостиница «Белый медведь» стала лучшей на всем английском Севере. Здесь останавливались, принимали пассажиров и сдавали почту дилижансы и кареты с «королевского тракта» на Лондон. Полдюжины местных дилижансов никогда не имели недостатка в пассажирах из Ченсфильда, Тренчберри и других бультонских предместий. Хозяину отеля мистеру Вудро Крейгу пришлось даже купить соседнее здание для постоялого двора – пристанище экипажей, кучеров, кондукторов и почтальонов, а над двухэтажным домом самой гостиницы возвести еще один этаж с комнатами для гостей. Но настоящей «душой» этого образцового отеля сделался некий укромный двухэтажный особнячок, который помещался в глубине сада гостиницы. Ограда тенистого бокового дворика делала экипажи посетителей особнячка невидимыми с улицы. К их услугам был также особый вход из тихого переулка Ольдермен-Кросс. В верхнем этаже обитал сам владелец, мистер Вудро Крейг. Посетители находили приют в безвкусно убранных комнатах нижнего этажа. Предусмотрительный архитектор столь удачно разместил входы и выходы, что возможность случайной встречи двух гостей исключалась. Нижний этаж никогда не пустовал: в стенах его часто менялись весьма различно одетые субъекты. Иные являлись через неприметные двери со стороны переулка, вели себя в задних комнатах непринужденно; здороваясь, они изо всех сил хлопали друг друга по плечу и никогда не совались без приглашения в парадную половину особняка. Они всегда находились в ожидании разного рода деликатных поручений хозяина дома. Иного рода посетители с оглядкой подходили к подъезду, робко дергали сонетку звонка, переминались в вестибюле и, будучи приглашенными в приемные комнаты, несмело выкладывали свое дело хозяину или его главному компаньону. Робкие посетители были клиентами «юридического бюро» мистера Крейга. К его услугам прибегали частные лица, предприниматели, коммерсанты, деятели бультонского суда и полиции. Последняя оказывала полуофициальному юридическому учреждению столь же полуофициальную поддержку; работники бюро заслужили себе в деловом мире репутацию искусных мастеров сыскного дела. Эта добрая слава распространилась за пределами Бультона, перешагнув даже Ла-Манш. Поэтому гости мистера Крейга иногда бывали облачены в непривычные для северян-британцев костюмы и часто появлялись прямо с палубы прибывшего в Бультон корабля. Именно к числу таких посетителей принадлежал господин в длиннополом плаще, похожем на монашескую сутану, и круглой черной шляпе. Покинув наемный экипаж перед фасадом особняка в Ольдермен-Кросс, господин надел на нос очки и вгляделся в начищенную до блеска дощечку с надписью:«ЭСКВАЙР В. КРЕЙГ И М-Р А. КРЕМПФЛОУ».Эсквайра В. Крейга приезжий не застал: этот джентльмен в данный момент поправлял свое здоровье в графстве Соммерсет, на прославленных минеральных источниках курорта Бат. Посетитель был приглашен в довольно пышный кабинет мистера А. Кремпфлоу и увидел свою карточку в руках пожилого франтоватого человека, восседавшего в массивном кресле. К высокому научному званию, обозначенному на карточке, мистер Кремпфлоу остался, по-видимому, глубоко равнодушным. – Синьор, – заговорил посетитель, – корабль «Сант-Марко», следующий из Гамбурга в Венецию, стоит вторые и, увы, последние сутки в Бультоне. Лишь сегодня я узнал от нашего капитана о существовании конторы мистера Крейга. По совету капитана я посетил портовую таверну «Чрево кита», но ее теперешний владелец, мистер Уильям Линс, отослал меня сюда. К сожалению, мистер Крейг, как я узнал, в отъезде? – Я ближайший его компаньон. Можете изложить свое дело мне. Полагаю, что мы уладим его быстро, к вашему полному удовольствию, доктор Томазо Буотти. – Голос мистера А. Кремпфлоу звучал несколько хрипло и не отличался приятным тембром. – В течение последних лет я объехал несколько стран Европы, – пояснил посетитель. – Сейчас я возвращаюсь из Германии. Целью моих путешествий являются розыски одного лица… Скажите, ваше бюро принимает такого рода поручения? – Бюро принимает любые поручения, если клиент быстро покрывает расходы. – О покрытии расходов мне хотелось бы поговорить под конец нашей беседы… Вам, синьор Кремпфлоу, не приходилось ли слышать имя Джакомо Молла? – Мне приходится слышать такое количество имен, что голова моя треснула бы, если бы я вздумал их запоминать, – изящно высказался компаньон мистера Крейга. – Кто он такой, этот Молла, и по какой причине вы его преследуете? – Вы неверно истолковали мои слова, синьор. Я разыскиваю Джакомо Молла не с целью повредить ему, а, напротив, чтобы сделать его наследником огромного состояния. Достаточно вам сказать, синьор Кремпфлоу, что человек, который только указал бы местонахождение Джакомо Молла или его прямых наследников, получил бы от лица, уполномочившего меня вести эти розыски, десять тысяч итальянских скуди… Лицо мистера Кремпфлоу стало приветливее. – Готов прозакладывать свою голову, что, живой или мертвый, Джакомо Молла, где бы он ни находился, будет представлен вам, если наша фирма примется за розыски. Позвольте узнать, дакт*["117], что за персона так заинтересована в этом деле? – Этого я, к сожалению, не имею права открыть, иначе мы давно прибегли бы к публикации в газетах. Мой высокий покровитель желает… – По рукам! – нетерпеливо прервал Кремпфлоу доктора. Десять тысяч скуди, воодушевив мистера Кремпфлоу, не сделали его вежливее. – Контора принимает ваше поручение. Я беру его в собственные руки. Какие данные о синьоре Джакомо Молла вы можете сообщить мне? Есть у вас его изображение? Доктор Томазо Буотти вынул из бумажника и протянул собеседнику миниатюрный овальный портрет, выполненный на эмали. Миниатюра изображала красивую женщину, прильнувшую щекой к личику мальчика лет пяти; у мальчика был упрямый рот и темные глаза. Обшитый кружевом ворот сорочки обнажал шею, и над левой ключицей ребенка темнела большая родинка. – Синьор Джакомо с матерью, синьорой Франческой Молла, некогда знаменитой тосканской певицей. Более поздних изображений синьора Молла, к сожалению, не сохранилось. – Эй, Слип! – крикнул Кремпфлоу, приоткрывая дверь в соседнее помещение. – Я здесь, сэр! Из соседней комнаты появился мистер Слип, полнеющий мужчина с крысиными глазками. – Слип, возьмите мою двуколку и в полчаса доставьте мне сюда этого… мистера Бингля, знаете, из… серого отеля. Пусть он захватит акварель и кисти. Посланец мистера Кремпфлоу понимающе кивнул и удалился из кабинета бодрой рысцой. – Рассказывайте, дакт, все, что еще известно о Джакомо Молла. – До пяти лет он вместе с матерью жил в Венеции, во дворце графа Паоло д’Эльяно. В 1743 году синьора Франческа Молла покинула это палаццо. Однако, синьор, доверить вам дальнейшие сведения я могу лишь под строжайшим секретом. Джакомо Молла, по-видимому, чувствует себя смертельно оскорбленным и, быть может, сознательно скрывается от особы, столь заинтересованной в его розысках. Малейшая неосторожность может погубить плоды всей моей кропотливой предварительной работы… …Доктор Буотти поведал собеседнику все, что в течение долгих лет он успел выяснить о судьбе самого Джакомо, его матери и отчима. Однако имени лица, заинтересованного в розысках, он пока не назвал. Доктор поведал собеседнику о своем знакомстве с приемной матерью Джакомо – Анжеликой Ченни. Компаньон мистера Крейга выслушал доктора с тем выражением презрительного превосходства, с каким модные врачи выслушивают родственников пациента. – Позвольте спросить, а вашего старого знакомого доктора Грейсвелла вы разыскали в Бультоне? – Август – неблагоприятное время, синьор Кремпфлоу, для городских визитов: Рандольф Грейсвелл, увы, уехал отдыхать в Нормандию. Я оставил ему только короткое письмо и карточку. Мистер Слип ввел в кабинет новое лицо. Это был пожилой, болезненного вида человек. Мистер Кремпфлоу, не предлагая новому гостю стула, вручил ему миниатюру и предложил тут же изготовить с нее акварельную копию, а затем повторить в масле. – Боже мой, это займет слишком много времени! – воскликнул синьор Буотти. – Через три часа я должен быть на борту «Сант-Марко». Вечером он поднимает якорь. – Не беспокойтесь, акварель будет готова в течение часа, а масляная копия может быть сделана с акварели. Бингль, приступайте к делу. – Какая изумительная эмаль! – пробормотал художник. – Манера Виченце Кардозо. – Рад видеть знатока! Вы не ошиблись: это действительно работа названного вами миланского мастера. В искусстве эмалей и камей я не знаю равных ему!
Алекс Кремпфлоу, занятый беседой со своим итальянским гостем, не заметил, с каким волнением художник вглядывался в эмаль. Острый глаз живописца сразу узнал знакомые черты: в студии своего итальянского учителя, художника Альбертино Вителли, юный Джордж Бингль видел множество рисунков, изображавших эту синьору в профиль и три четверти на фоне розовых садов Равенны, в римском карнавальном одеянии, в оперных ролях и домашних платьях… Джордж помнил и лицо этого ребенка. Оно тоже повторялось в многочисленных набросках и этюдах Альбертино… Мастер говорил Джорджу, что юный Джакомо – незаконный сын графа Паоло д’Эльяно… В чертах мальчика на эмали, по-детски нежных, уже виден был характер. И чем пристальнее вглядывался Джордж в это лицо, тем явственнее проступали сквозь него черты другого знакомого лица – черты лорда Ченсфильда… Невероятно, но… с эмали глядело на Джорджа детское лицо сэра Фредрика Райленда! Вот оно, и родимое пятнышко над ключицей… У милорда оно коричневое, у самой шеи… Вот наметившаяся горбинка носа… Даже в глазах ребенка на портрете то же настороженно-недоверчивое, жестоко-упрямое выражение… Неужели капризная судьба приоткрыла Джорджу новую неожиданную тайну? Джордж работал словно в тумане, но возбуждение, охватившее художника, не помешало, а помогло ему выполнить задачу. Через полтора часа акварельная копия была готова, и синьор Буотти изумленно взирал на нее. Она была исключительно точной, и лишь лицо мальчика на копии выглядело более взрослым. Мистеру Кремпфлоу почудилось даже что-то знакомое… – Вы и сами большой мастер, мистер Бингль, – проговорил доктор Буотти убежденно. Пожав холодную руку художника, он завернул свою эмаль, положил ее в бумажник и, прощаясь на пороге с мистером Кремпфлоу, тихо сказал ему: – Извещайте меня о ходе розысков по адресу: Венеция, дворец графа д’Эльяно, библиотека. Вы можете также в случае необходимости извещать преподобного отца, патера Фульвио ди Граччиолани, по тому же адресу. Это духовник графа, и, подобно мне, он тоже прилагает свои усилия к розыскам названного лица. Прощайте, господа! В мозгу Джорджа Бингля адрес запечатлелся так, словно его высекли на гранитной плите.
3
Паруса «Сант-Марко» еще не успели исчезнуть за выступом мола, как от причалов бультонской верфи вышла на рейд и легла курсом на зюйд эскадра из трех боевых кораблей. Командовал эскадрой капитан военно-морского флота мистер Дональд Блеквуд, державший флаг на тяжелом фрегате «Король Георг III». В кильватере флагмана эскадры шел однотипный фрегат «Адмирал Ченсфильд» и на расстоянии пяти кабельтовых позади летела быстроходная, хорошо вооруженная каравелла «Добрый Бультон». Отплытие эскадры не было ознаменовано ни прощальным салютом, ни торжественными проводами. Корабли поспешно вышли в море 4 августа, приняв на борт большой запас продовольствия и боеприпасов. Ночью эскадра обогнала «Сант-Марко», а еще через трое суток стала на якорях в Портсмуте. Командир эскадры Дональд Блеквуд, капитан каравеллы Роберт Трессель и командир «Адмирала» Джозеф Лорн заняли места в дорожной карете и отправились в Лондон. Ливрейный лакей распахнул перед ними двери двухэтажного дома на Тевисток-сквере. Лорд и леди Ченсфильд проводили в этом лондонском доме большую часть зимних сезонов. После ужина три бультонских моряка проследовали в рабочий кабинет графа. Камердинер опустил шторы и затворил дверь. Лорд Ченсфильд разложил на столе морскую стратегическую карту. – Ваш поход, господа, должен привести к решительному успеху в борьбе с нашим тайным противником. С тех пор как в морях появился загадочный каперский корабль, редкий рейс торговых судов нашей компании обходится благополучно. Обратите внимание на места встреч с этим противником… Рука в обшлаге адмиральского мундира легла на синеву под южноафриканским побережьем. – Итак, вот здесь, у берегов острова Чарльза, при невыясненных обстоятельствах гибнут весной 1778 года две наши шхуны, «Глория» и «Доротея», первые корабли «Северобританской компании». Шестью месяцами позднее в том же районе судьбу обеих шхун разделяет яхта «Элли», а затем вот здесь, севернее острова, гибнет «Удача»… По вашим собственным наблюдениям, господа, все эти катастрофы связаны с появлением в водах острова некоего корабля-призрака, не так ли, мистер Трессель? Далее. Год спустя вот здесь, западнее мыса Доброй Надежды, подобное же загадочное судно сталкивается с нашим тяжелым фрегатом «Окрыленный», который с тех пор числится в списках затонувших кораблей. Из всего экипажа случайно были подобраны в море два матроса и капитан Дональд Блеквуд, от которых нам известны подробности катастрофы, столь же необъяснимые, как и… ваши впечатления на острове Чарльза, мистер Лорн. Вести о корабле-призраке после гибели «Окрыленного» прекратились, но… Два года спустя со стапелей нашей верфи сошли две первоклассные шхуны: «Персей» и «Форт оф Рединг». Первая из них, под командованием Мак-Райля, пошла в африканские воды. В устье Конго Мак-Райль начал успешно закупать невольников для колоний, но был атакован негритянскими отрядами. У этих черных оказалось легкое огнестрельное оружие и даже две пушки. Лишь с большими людскими потерями и трудностями шхуна покинула воды Конго. Это неслыханное преступление черных варваров, возмутившее цивилизованный мир, я не смог оставить безнаказанным. Следующая наша экспедиция, в составе четырех кораблей, уничтожила все негритянские поселки на довольно обширном пространстве в бассейне Конго, сожгла город правителя области Нгуди-Мианге и вывезла в Америку более двух тысяч усмиренных туземцев, принадлежащих к племенам баконго, басунди, майамбе и некоторым другим. Эта операция 1780 года, осуществленная под руководством мистера Джозефа Лорна, несколько вознаградила нас за предыдущие потери и восстановила честь наших вымпелов. К сожалению, это был наш последний успешный морской поход, ибо в океанах вновь появился «призрак» утонувшего корабля. И если встречи с «Летучим голландцем» стоили нам четырех судов, то новый капер причинил еще более тяжелые потери. Вы все, господа, встречали этот пиратствующий фрегат. Поэтому ответственную задачу уничтожить врага я решил возложить на вас. Корабль крейсирует под вымпелом с изображением трех скрещенных мечей и носит название «Три идальго», но уже нет сомнений, что этот корабль является не чем иным, как нашим капером «Окрыленный». В 1781 году в ста милях северо-западнее Азорских островов это капер подстерег четыре корабля упомянутой мною карательной экспедиции уже при ее возвращении из Америки. Мистер Лорн командовал тогда каравеллой «Добрый Бультон» и отделался лишь тяжелым повреждением судна в ночном бою, но все три остальных корабля были потоплены. В следующем году, у берегов Северной Америки, погиб мой лучший бриг «Френсис Райленд», подожженный тем же фрегатом «Три идальго», который действовал тогда под флагом американского повстанческого флота. Еще годом позже шхуна «Персей» была уничтожена в Атлантическом океане. Весной прошлого года наш бриг «Орион» встретился неподалеку от Кипра с кораблем «Три идальго», но укрылся в тумане. Капитан Гай Брентлей тогда впервые заподозрил, что тяжелый фрегат «Три идальго» – это восстановленный «Окрыленный». Четырьмя месяцами позже шхуна «Форт оф Рединг», шедшая с лесом из Архангельска, была потоплена в северных водах. Шхуна двигалась в кильватере «Ориона», которому вновь посчастливилось уцелеть. Наконец, неслыханное по наглости нападение произошло всего месяц назад, чуть ли не на бультонском рейде. Наша бригантина «Офелия», шедшая с грузом в Нью-Йорк, была подожжена в Ирландском море, в тридцати милях от побережья. Груз погиб, а разбитую бригантину выбросило на скалы. Этот бой имел возможность наблюдать мистер Дональд Блеквуд. Он подтвердил предположение Брентлея, что «Три идальго» и есть наш «Окрыленный», которым Блеквуд командовал несколько лет. Пора положить конец наглому пиратству! Почти весь торговый флот «Северобританской компании» уничтожен. Матросы отказываются выходить в море на наших кораблях. Убытки исчисляются в сотнях тысяч фунтов. Страховое общество «Маяк» заявило об отказе выплатить премию за гибель «Офелии». Адмиралтейство занято сейчас другими неотложными делами: революционные события во Франции – эти проклятые якобинцы! – начинают угрожать спокойствию Европы. Поэтому нам не приходится рассчитывать на помощь королевского флота. Адмиралтейство помогло нам лишь некоторыми сведениями о капере «Три идальго». Должен вас предупредить, джентльмены, что, по сведениям адмиралтейства, пиратами командует сын погибшего корсара Бернардито, молодой Диего Луис эль Горра. После недавней атаки в Ирландском море фрегат «Три идальго» взял курс на зюйд и был недавно замечен встречным судном уже к югу от островов Зеленого Мыса. Базируется он где-то в южноафриканских водах Индийского океана. Помощниками командира являются два совсем молодых человека. Позор! Три молокососа обращают в бегство хорошо вооруженные корабли и топят суда британской компании! Имена этих юнцов – Диего Луис, Маттео Вельмонтес и Алонзо де Лас Падос. Помнится, в молодости мне приходилось слышать эти имена в легендах о пирате Бернардито; по-видимому, сын решил возродить кое-какие отцовские традиции. Таков противник, с которым вам предстоит скрестить клинки. Предлагаю следующий план операции. Наш вооруженный бриг «Орион» следует сейчас вместе с караваном торговых судов в Капштадт. Оставив там караван, он направится в Индийский океан, курсом на остров Маврикия. «Орион» должен послужить приманкой. Задача вашей эскадры – укрыться в водах Мадагаскара и пристально следить за «Орионом». При появлении «Трех идальго», который, несомненно, погонится за одиночным кораблем нашей компании, вы осуществите маневр окружения и уничтожения пиратского судна. Адмиралтейством установлена значительная премия за головы трех молодых пиратов. От себя лично я добавлю по тысяче фунтов за каждого, а за поимку их живыми плачу вдвое. Для связи между вашими четырьмя судами послужит яхта «Южный крест», копия погибшей яхты «Элли». Командует ею мистер Хью Ольберт. Общее командование эскадрой я поручаю вам, мистер Дональд Блеквуд, вместе с мостиком нашего лучшего фрегата – «Короля Георга III»… Помните, господа, что старый Бернардито был мастером хитроумных и жестоких проделок. Сын, по-видимому, кое-что усвоил из опыта отца. Ваши призраки на острове – это почерк Бернардито. Не случайно капитану загадочного «Летучего голландца» был придан облик погибшего корсара. Более десяти лет мы не возобновляли попыток колонизовать открытый нами остров, чтобы не рисковать новыми встречами с темными и непонятными силами, но теперь решение всех этих загадок прошлого напрашивается само собою: все ваши «видения», господа, – это не что иное, как фокусы опытных мистификаторов. После уничтожения пиратов мы со временем вновь предпримем экспедицию на остров… Рассчитываю, джентльмены, что послезавтра, двенадцатого августа, ваша эскадра уже покинет Портсмут. Офицеры поднялись. В голубоватом сумраке нарядных покоев моряки еще долго размышляли о предстоящем бое и жевали мундштуки своих испытанных трубок.Джозеф Лорн открыл глаза с первыми проблесками рассвета. Он почувствовал прикосновение к своему лбу сухих надушенных пальцев и резко повернулся. Взъерошенный и хмурый, он недовольно уставился на раннего гостя. – Тише, Джузеппе! Нарушитель ночного отдыха мистера Лорна отвел полог постели в сторону. Моряк узнал лорда-адмирала. – Давно я не толковал с тобою по душам, Джузеппе. Какие новости ты привез из Бультона от Вудро? Джозеф Лорн зевнул и начал одеваться. – Вудро лечит ревматизм на соммерсетских водах и знать ничего не знает о заботах вашего лордства. Этот жирный индюк Кремпфлоу отплыл из Бультона на моем корабле «Адмирал Ченсфильд». Вчера я высадил его в Порт смуте. Он пересел на итальянское судно, которое идет в Неаполь. Говорит, очень выгодное частное дело. – По мелочам он не выезжает… Значит, все бультонские дела сейчас у Линса? – Да, и, по-моему, он очень неглуп. Работает куда лучше этого Кремпфлоу. – Несомненно. Недаром он один ухитрился унести ноги из Голубой долины. Растяпа Бернс влопался, царствие ему небесное! – Небесное-то царство и достается обычно растяпам! Ловкачи предпочитают земное. Ты держишь сейчас кого-нибудь в этой долине? – С тех пор как Диего Луис исчез оттуда, это осиное гнездо потеряло для меня интерес. Но работать там стало невозможно. Независимое государство, изволишь ли видеть, Соединенные Штаты! Мюррей полюбился этому свободолюбцу Джефферсону, сделался конгрессменом и сенатором, а также главным судьей и мэром основанного им города Голубой долины… Лет шесть назад я послал туда Шарля Леглуа. Но добрался он только до Винсенса. Там он принялся за расспросы, сразу влопался, просидел месяца два в тюрьме и был выслан. Все-таки кое-что ему удалось разузнать: мать и сын Бернардито уехали еще в 1779 году на побережье. Мальчишка Бингль и наш бывший матрос Дик Милльс ушли с ними. Увез их из долины некий мистер Чембей. Меня заинтересовала личность Чембея и люди его странной свиты, ибо это, вероятно, и есть кто-то из прежних приближенных Бернардито. Но узнать о нем удалось очень немногое: он со своими спутниками участвовал в захвате фортов Винсенса и Голубой долины, вместе с американскими партизанами провел два месяца в Голубой долине и весной 1779 года ушел с семейством Бернардито и всей своей черной свитой на речном баркасе вверх по Огайо. С тех пор он исчез бесследно. Сообщение адмиралтейства, что капер «Три идальго» находится в руках Диего Луиса, – первая свежая весть об этом оперившемся птенце. Короче говоря, устранение, сверх всяких ожиданий, бывшего главаря бультонских луддитов Элиота Меджерсона – вот и весь успех наших больших трудов и затрат в Голубой долине. Что касается самого Мюррея, то, по сведениям Леглуа, он был по горло занят своей Голубой долиной и политическими делами и как будто не помышлял о Ченсфильде… Теперь рассказывай, Джузеппе, что еще новенького там, на Севере? – Ничего особенного. Патер Бенедикт Морсини сумел поладить с протестантскими попами и заслужил у населения любовь. Ведет себя, как настоящий праведник. Перед отъездом я оставил ему пятьсот фунтов и отстоял мессу. – Прекрасно, Джузеппе. Истинную церковь нужно тайно поддерживать… Видел ты мою дочь? – Да, я застал ее с гувернанткой в капелле отца Бенедикта. Красавицей она будет, твоя Изабелла, скажу я тебе! Славная девчурка! И верно, самая богатая невеста на всем Севере. – Еще один год в пансионе – и семнадцать лет дочке. Действительно, невеста! Да что за толк в девчонке! Подумаешь, наследница! В чужие руки все уйдет… Не усыновить ли мне какого-нибудь юношу? – Чем гноить Эдуарда Мойнса в тюрьме, я бы на твоем месте именно его-то и усыновил. Ведь полиция, в сущности, не установила за ним ничего особенного. – Полиция? Она вообще ничего не установила. Мойнса раскусил Вудро. Судья влепил Мойнсу десять лет, как агенту мифических шотландских инсургентов и Томпсона, однако настоящей начинки Бингля не раскрыла ни полиция, ни судейские крысы. Дело с ним обстоит сложнее, чем ты полагаешь. Он был уже за решеткой, когда осенью 1779 года ребята Вудро сцапали в море двух ирландских рыбаков. Звали их О’Грейди, отец и сын. Обоих застрелили: у старого Майкла О’Грейди оказалось письмо Бинглю от Меджерсона. Бинглю предписывалось «собирать о графе Ч. дальнейшие сведения», понимаешь? Я решил держать этого Бингля вроде приманки. С него не спускают глаз, но парень хитер: Леглуа ничего не смог выведать у него в камере. Нынешняя служба, по сути дела, оставила Бингля в тюрьме. Отлучаться ему не разрешается, а отпуска он не получит до могилы. Чтобы он не сбежал, все его бумаги находятся у тюремного коменданта майора Древверса, а человек Линса ходит за Бинглем по пятам. В порту предупреждены все крысы… Нет, Джузеппе, неважного приемыша сосватал ты мне. Лишь особые соображения мешают удушить этого… художника. Лорн покачал головой, достал трубку и выбил пепел на паркет. Милорд поморщился. – Как поживает старый Мортон? – Старик совсем сдает. Одряхлел, обрюзг… Дженкинс шлет тебе почтительнейший привет. Он готовит сейчас для Леглуа французские ассигнации и делает их не хуже, чем французское казначейство… Их отправили к Леглуа в Париж… Джеффри Мак-Райль все собирается жениться, но пока не скучает и в «Чреве кита». В общем, в добром старом Бультоне все по-прежнему, старик.
4
Индийский океан неторопливо катил свои длинные волны. Октябрьские сумерки быстро перешли в непроглядную ночную темь. Старый боцман Ольсен велел матросу повесить фонари по обеим сторонам капитанского мостика «Ориона». – Опять мы в этих чертовых африканских водах! – ворчал Ольсен. Норвежец стоял на мостике рядом с Брентлеем. С палубы можно было видеть только две красные точки трубочных огоньков. – Восемь раз мы пересекли с вами экватор, мистер Брентлей, и все равно никак не привыкнешь к этому климату. То темно, то жарко, то дождь без конца. Либо шторм, либо безветрие, хоть сам в паруса дуй. Солнце светит с севера, холодом веет с юга. Норд-ост – тепленький, как парное молочко, зюйд-вест – ледяной. Весна в октябре, осень – в мае. А грозы! А ураганы! Волна в пятнадцать ярдов высоты! А уж вечера! Ну горе, а не вечер: солнце не успеет зайти – и уж тьма густеет, словно смола, вынутая из пекла. – Орудия готовы к бою, Ольсен? – Уже две недели как готовы, капитан. Марсовые все глаза проглядели. Канониры спят у лафетов. Весь экипаж бегает к ним за огнем для трубок – фитили горят по целым суткам. Только ребята толкуют – впустую все это. Не берут «Летучего голландца» ни бомбы, ни ядра. – Что? – Капитан Брентлей придал своему голосу предельную строгость. – Наслушались небылиц на баке? Повешу первого, кто заикнется о проделках проклятого пирата! Стыдитесь, Ольсен, повторять эту чепуху! Ступайте вниз, ободрите команду. Штурвальный, курс? – Норд-ост-ост. Капитан сверился с картой Индийского океана: – Взять два румба влево. Судно находилось на траверзе юго-восточной оконечности Мадагаскара, милях в семидесяти от берега. Небо на востоке сделалось красноватым, низкие края туч над горизонтом посветлели. – Сейчас луна взойдет. Бриз уже переменился и усиливается. Прибавить парусов. Первый помощник Брентлея поднялся на мостик. Было очень тихо, и неожиданный окрик вахтенного с высоты марса различила вся команда «Ориона». – Справа по курсу судно без огней! – Может быть, это наша эскадра? – спросил помощник у Брентлея. – Нет, корабль приближается с зюйда. Свистать всех наверх! Шестнадцать тяжелых каронад «Ориона» и двенадцать легких пушек, установленных дополнительно на палубе, давно стояли готовыми к бою. Боцманская дудка трелью разливалась на батарейной палубе. Сто двадцать четыре матроса занимали места по боевой тревоге. Внезапно справа, в четырех-пяти кабельтовых, среди густого мрака вспыхнул сноп красивых цветных огней. Это были так называемые фальшфейеры – бенгальские огни, служившие ночными сигналами для кораблей. Затем на невидимых мачтах чужого судна поползли наверх сигнальные фонари. Капитан Брентлей разбирал эту немую речь без помощи своего сигнальщика: «Командир корабля «Три идальго» шлет привет честному моряку Брентлею». – Что за черт! Вот диковина! За какие же заслуги я удостоился уважения пиратского главаря? Ну-ка, Ольсен, дайте-ка им ответ! Покажите им, что мы не нуждаемся в приветах разбойника! Капитан не успел договорить. Со стороны противника грянул одиночный выстрел из пушки. Выстрел был сделан, однако, не по «Ориону». Пушечный огонь сверкнул в ту же сторону, куда дул ветер. Брентлей хорошо понял этот знак: по старинному морскому обычаю, выстрел «под ветер» показывал дружеские намерения, тогда как выстрел против ветра означал приказ остановиться и предупреждал: «Буду действовать силой!» Брентлей и прибег к этому «враждебному» сигналу. По его знаку кормовая пушка «Ориона» бухнула холостым зарядом. Длинная багровая полоса огня и белое облако порохового дыма выметнулись во мглу против ветра! Это означало: «Нападайте и защищайтесь – ваш привет отвергнут!» Такой же сигнал был передан с помощью цветных фонарей. Из-за туч показался огромный лунный диск. В полумиле справа стал виден черный силуэт вражеского корабля. Расстояние между судами медленно уменьшалось. Позиция была невыгодной для «Трех идальго»: мачты капера ясно вырисовывались на фоне освещенных луною облаков, ветер тоже не благоприятствовал. Корабль Брентлея оставался в тени и был почти невидим. На борту неприятеля еще мерцали последние огоньки фальшфейеров и ветер еще нес в океан эти красивые цветные искры, а Брентлей уже развернул бриг правым бортом к противнику и скомандовал с мостика: – Батарея, залпом огонь! Пушки «Ориона» ударили почти одновременно. Ядра взмыли в воздух, пороховой дым густо окутал мостик и паруса. Вражеский капер продолжал посылать свои мирные сигналы. Он не ответил огнем орудий, он продолжал сигнализировать фонариками: «Огня не открою. Спускаю шлюпку. Примите парламентеров». Капитан Брентлей в глубочайшем недоумении повернулся к Ольсену: – Боцман, нам не подобало бы вступать в переговоры с этими разбойниками, но черт меня побери, если молодчики не ведут себя по-джентельменски. Хотел бы я знать, чему приписать такую честь! Вот что, Ольсен! Нашей эскадры пока не видно. Придется принять их посольство, чтобы выиграть время. Если мы одни ввяжемся в бой, капер разгромит нас раньше, чем подоспеют корабли из засады. Вон шлюпка их уже спущена… Видите фонарь под носовым трапом? На шлюпке они зажгли факел, чтобы мы не заподозрили ловушки… Ага, шлюпка приближается. Ну-ка, передай им в рупор, Ольсен: «Приму парламентеров для переговоров о сдаче судна и экипажа. При появлении неосвещенных шлюпок – беглый огонь без предупреждения!» Громогласный бас норвежца прорявкал в медный рупор слова Брентлея. Однако, несмотря на вызывающий тон командира «Ориона», пиратский капитан проявил редкостное терпение. Через четверть часа к трапу «Ориона» подвалила шлюпка. Четыре гребца-негра не покинули шлюпки. Два молодых человека в испанских беретах и бархатных камзолах ответили на приветствие часового и ступили на палубу. – Следите за противником, – шепнул Брентлей Ольсену и помощнику. – Поднимите на мачте сигнал, что у нас на борту находятся парламентеры. Наблюдайте, не собирается ли противник атаковать нас шлюпочным десантом. При малейшем подозрении – огонь! Брентлей шагнул навстречу прибывшим. Он холодно отдал честь и пригласил их в каюту. Оба посланца, при шпагах, но без огнестрельного оружия, переступили порог. Окна, завешенные шторами, не пропускали на палубу света из каюты. В стенных шандалах горело полдюжины свечей. Перед капитаном «Ориона» стояли два безбородых синьора с открытыми, решительными лицами. Одному едва ли перевалило за двадцать, другой выглядел лет на шесть старше. Заговорил младший. Мягкие волосы падали ему на плечи. Большие черные глаза блестели, румянец на щеках был нежен, как у девушки. Но у юношеских губ уже наметилась волевая складка. Каждый жест его говорил о пылкой и решительной натуре. – Вы видите перед собою только двух идальго*["118], ближайших друзей третьего, то есть капитана Диего Луиса. Он остался на корабле. Мы – его братья по оружию и уполномочены вести переговоры от лица всех. Мое имя – Алонзо де Лас Падос. – Маттео Вельмонтес, – склонил голову его спутник, человек с острыми, смешливыми глазами и налетом веснушек на переносице. – Капитан Брентлей! – продолжал синьор Алонзо. – Перед вами – сыновья Бернардито Луиса. Я – брат сеньора Диего. Важные услуги, некогда оказанные вами нашему отцу и его другу, известному вам под именем мистера Мюррея, явились причиной, почему оружие сыновей Бернардито никогда не будет поднято ни против вас, ни против корабля, принесшего спасение островитянам. Позвольте лишь задать вам вопрос: куда вы следуете и какова цель вашего плавания? – Синьоры, на этот вопрос я вынужден ответить молчанием. – Разрешите истолковать ваши слова в том смысле, что вы следуете с живым товаром, подобно остальным судам вашего хозяина. Нам известно, что из числа всех судов «Северобританской компании» только бриг Брентлея до сих пор не пятнал себя позором работорговли. Но, по-видимому, на этот раз и вы, капитан… На лбу Брентлея вздулись жилы. – Я сам лишь недавно узнал, что суда нашей фирмы доставляли закупленных и пленных невольников на плантации. Экипаж брига «Орион» не участвовал и не предполагает участвовать в такого рода операциях, пока я стою на капитанском мостике… Впрочем, я не вижу причины обсуждать с вами эти вопросы, господа. Я принял вас, чтобы выслушать, на каких условиях вы согласны вернуть корабль «Окрыленный» его законному владельцу, лорду-адмиралу Ченсфильду. Я, со своей стороны, готов просить адмирала о смягчении вашей участи. Довольно невежливый смех парламентеров показался капитану еще менее уместным, чем вся предыдущая беседа. Он сурово нахмурил седые брови и положил руку на эфес шпаги. У дона Алонзо, напротив, сдвинутые брови разошлись в откровенной улыбке. – Вы сами понимаете, капитан, что исход сражения между «Тремя идальго» и «Орионом» решился бы очень быстро. Сто наших каронад в десять минут изрешетили бы ваш бриг с дальней дистанции. Нет, цель нашего визита иная. Вы – человек чести, синьор Брентлей, и мы решили открыть вам тайну, побудившую нас объявить беспощадную войну так называемому лорду-адмиралу Ченсфильду. – В таком случае наша встреча бесполезна, – отрезал Брентлей. – Я не принадлежу к искателям разгадок частных тайн. Весьма польщен, но прошу вас не утруждать себя этим… повествованием. Мой глава, лорд-адмирал Ченсфильд… – Капитан Брентлей, я обращаюсь к чести британского моряка, к вашей чести! Знайте же, что названное вами лицо – низкий самозванец, тайный убийца, вор и злодей. Его настоящее имя Джакомо Грелли, ремесло – разбой; единственное место, подобающее ему по праву, – это виселица. – Молчать! – Лицо капитана потемнело. – Как вы смеете… у меня на борту… В этот миг кто-то постучал в дверь каюты. – Низкие клеветники! – В каюте никто не обратил внимания на стук. – Только правила о парламентерской неприкосновенности мешают мне вздернуть вас обоих на реях моего корабля и в таком виде доставить в первый английский порт. Ни слова больше! Я отвечу пушками на поругание одного из первых имен графства, как только вы покинете борт корабля. – Капитан, угодно ли вам припомнить мисс Эмили Гарди? – Молодой парламентер с огромным трудом сохранял самообладание. – Не припоминаете ли вы якорь бригантины «Офейры», обнаруженный мистером Уэнтом на острове? Так знайте, что островитянин, спасенный прибытием «Ориона» на остров, и был не кем иным, как подлинным виконтом Ченсфильдом, чей титул и наследственное имущество украл пират Грелли… Настойчивый стук в дверь повторился. Голова Ольсена просунулась в каюту. Он поманил Брентлея в коридор. Когда Брентлей вернулся в каюту, лицо его выражало досаду и какую-то свирепую жалость. Он хмуро взглянул на посланцев и проговорил глухим голосом: – Сдайте ваши шпаги, господа. Корабль «Три идальго» окружен боевыми судами британской эскадры. Отступление для вас отрезано. Синьор Алонзо обнажил шпагу: – Предательство! Маттео Вельмонтес кинулся к окну. В тот же миг оно с треском вылетело, и на обоих посланцев уставились пистолетные дула. Распахнулась дверь каюты. Десяток матросов с ружьями наперевес толпились в коридоре. На лентах матросских шапочек блестела золотом надпись: «Южный крест». Двое матросов с порога прицелились в парламентеров. Сеньор Алонзо переломил свой клинок о колено и с презрением швырнулобломки под ноги Брентлею. Маттео бросил свою шпагу на ковер. Раздвигая плотное кольцо матросов, через порог шагнули два офицера, Дональд Блеквуд и Джозеф Лорн. – Капитан Брентлей, прошу вас на мостик, – сказал Блеквуд. – Бриг вступает в сражение. Ваши батареи должны первыми открыть огонь. – Командир эскадры обернулся к матросам: – Вяжите пиратов! В коридоре звякнули цепи приготовленных кандалов и наручников. – Стой! – громовым голосом остановил матросов Брентлей. – Это парламентеры, мистер Блеквуд. Бриг не вступит в бой, пока парламентерам не будет обеспечено возвращение на их судно. – Старик рехнулся, – пробормотал Лорн и строго сказал: – Капитан Брентлей, вам никто не давал полномочий вести переговоры с разбойниками. Угодно ли вам посторониться и выполнить приказ? – А, это вы, Джузеппе Лорано, пират с каиновым пятном на лбу от ножа Фернандо Диаса! – бросил Алонзо де Лас Падос со страстной ненавистью. Лорн с обнаженной шпагой кинулся на безоружного посланца. Брентлей одним ударом сверху вниз вышиб шпагу из его руки. Один из матросов толкнул Алонзо сзади ружейным прикладом. Через несколько минут оба парламентера уже лежали на полу, связанные по рукам и ногам. – В трюмный карцер! – Капитан Блеквуд стал еще бледнее, чем владелец каюты. – Капитан Брентлей, я арестую вас за измену воинскому долгу. Мистер Лорн, возьмите у изменника шпагу. Багровая вспышка мелькнула в окне. Корабль содрогнулся от орудийного залпа. Помощник Брентлея уже командовал батареями «Ориона». Капитан Блеквуд поднялся на мостик брига. Залпы грохотали над морем, как мерные удары исполинских молотов. Весь горизонт полыхал красными зарницами. Эскадра из пяти кораблей сосредоточенно била по корпусу и палубным надстройкам капера «Три идальго».Приближение кораблей эскадры заметили с капера лишь в тот момент, когда под самым бортом «Ориона» выросли мачты какой-то быстроходной яхты. Одновременно с норда, зюйда и оста появились темные силуэты подкравшихся боевых кораблей. Сигнальные огни, зажженные на мачтах капера для ориентирования шлюпки парламентеров, послужили нападающим хорошей мишенью. Когда с «Ориона» грянул залп и одновременно заговорили сто двадцать стволов – половина артиллерии всей остальной эскадры, – на «Трех идальго» сразу вспыхнуло два пожара. Враг со всех сторон атаковал подбитый корабль. Диего Луис понял, что парламентеры схвачены. Он решил прорвать кольцо окружения и, выйдя из боя, сохранить корабль и экипаж. Капер развернулся в сторону слабейшего из атакующих судов. Это была каравелла «Добрый Бультон» с наименьшим числом бортовых орудий. Ветер благоприятствовал маневру. Под огнем противника люди поставили все паруса. С расстояния в три кабельтовых капер дал первый залп из сорока пяти каронад левого борта. Команда успела потушить один очаг пожара в центре палубы, и лишь огонь в кормовой части продолжал озарять снизу громаду парусов. Но и этот пожар уже ослабевал, а обшитые американским дубом борта не дали течи. Ни одно орудие не вышло из строя. Офицер, командовавший огнем пушек, был не кто иной, как синьор Антони Ченни, прошедший многолетнюю боевую выучку у капитана Бернардито. От его хладнокровия и точности зависела теперь судьба всего экипажа, и Антони Ченни, старший артиллерист «Трех идальго», понимал это. С расстояния в полкабельтова Антони Ченни хлестнул каравеллу картечью. Эффект картечного залпа был внушительным. Батареи каравеллы захлебнулись. Сорванные полотнища парусов смело за борт вместе с обломками палубных надстроек. Каперский корабль, осыпаемый градом горячего металла, подошел к «Доброму Бультону» почти вплотную и просверлил борт вражеского корабля сорока пятью тяжелыми ядрами на уровень ватерлинии. Капер едва успел разминуться со своей жертвой, как обе уцелевшие мачты «Доброго Бультона» накренились и остатки его огромных парусов заполоскались в море. Вода с ревом хлынула через вспоротый борт в трюмы, и осевший корпус стал погружаться в водоворот. С кораблем Тресселя было покончено. Тем временем «Адмирал Ченсфильд» и «Орион», по замыслу капитана Блеквуда, стали теснить «Трех идальго» на огнедышащие жерла «Короля Георга». Молодому капитану капера Диего Луису оставался один выход: проскочить между батареями вражеских кораблей. Капитан Блеквуд был уверен, что пираты не отважатся на этот смертельный риск. Но они неожиданно для атакующих сделали разворот влево, в сторону «Ориона», оторвались от наседавшего «Адмирала» и устремились прямо под огненный град. Стройный корпус «Трех идальго» содрогался, как тело солдата, прогоняемого сквозь беспощадный строй шпицрутенов. Снаряды рвали паруса, калечили снасти, ломали палубу. Капер огрызался точными, хорошо нацеленными залпами картечи, сметая с палуб «Короля Георга» и «Ориона» орудийную прислугу и верхние команды. Капитан Блеквуд стоял на корме «Ориона», когда форштевень «Трех идальго» возник в четверти кабельтова от правого борта. Осколок горячего чугуна ударил в грудь командиру эскадры. Корма капера еще скользила мимо брига, когда капитан Дональд Блеквуд перестал дышать. Ему уже не пришлось увидеть, как помощник капитана на «Короле Георге», который управлял этим кораблем вместо Блеквуда, сделал непоправимую ошибку: он не погнался сразу за подбитым капером, расстреливая его на параллельном курсе с расстояния в полкабельтова, а стал обходить «Трех идальго» с кормы, чтобы обрушить на капер всю мощь своих батарей, еще не принимавших участия в сражении. При этом маневре «Король Георг» своим корпусом прикрыл израненный капер от огня орудий «Адмирала Ченсфильда»… Незадачливый тактик на несколько драгоценных минут вывел из боя два самых сильных корабля экспедиции: «Адмирал Ченсфильд» почти не имел повреждений, «Король Георг» понес потери, но тоже представлял собою еще весьма внушительную силу. Пока потрепанный «Король Георг» неуклюже разворачивался, капер «Три идальго» вел жаркую дуэль с одним «Орионом», а капитан Джозеф Лорн, командир «Адмирала», проклинал небеса, воды, всех святых, кровь своих предков, собственные руки, ноги и бороду. Успевший лишь к концу боя вернуться с «Ориона» на свой корабль, Джозеф Лорн, положив право руля, попытался вновь взять капер на прицел… Увы, только мощный, но уже запоздалый залп «Короля Георга» прогремел вслед беглецу, исчезающему в глубоком мраке. Джозеф Лорн принял теперь командование эскадрой. Он отрядил на розыски капера яхту «Южный крест». Три остальных корабля эскадры получили приказание перестроиться из боевого порядка в походный и следовать за яхтой. Но ни «Король Георг», ни «Орион» уже не годились для преследования: у «Короля Георга» была пробоина в носовой части, наспех прикрытая парусиновым пластырем; корпус «Ориона» дал такую течь, что помпы не справлялись. Такелаж обоих кораблей был изорван и спутан. «Орион» потерял половину, а «Король Георг» – треть верхней команды… «Адмиралу» пришлось убавить скорость. Пасмурный рассвет застал растянувшуюся эскадру всего в двадцати милях от места боя. Низкие тучи и туманная дымка скрыли из вида не только капер, но и яхту «Южный крест». Лорн кусал губы от злости. К вечеру показалась яхта, отказавшаяся от бесплодных поисков. Эскадра прекратила преследование и легла курсом на Капштадт. С морскими почестями тело капитана Блеквуда было опущено в морскую пучину. Закованных пленников перевели с «Ориона» в глубину трюмных недр «Адмирала». На фрегате их заключили в самом суровом карцере, обшитом железными листами. Арестованный Лорном капитан Брентлей, без шпаги и эполет, сидел под охраной часового в одной из офицерских кают «Адмирала». «Король Георг» и «Орион» кое-как добрались до Капштадта и стали там на ремонт. «Адмирал Ченсфильд» в сопровождении яхты «Южный крест» направился в Англию.
5
Декабрьской ночью 1789 года комендант бультонской тюремной крепости майор Древверс послал стражника за тюремным художником. – Мистер Бингль, вам предстоит сегодня спешно сделать портреты двух важных государственных преступников. Портреты нужны для установления подлинных имен этих людей. Предупреждаю, что малейшая попытка вступить во время сеанса в переговоры с преступниками повлекла бы для вас тяжелые последствия. Придется вам поработать при свечах: дело не терпит отлагательства. – Речь идет об арестантах, доставленных вечером с фрегата «Адмирал Ченсфильд»? – Поменьше праздного любопытства, Бингль. Для вас эти два лица – просто секретные государственные узники. Очень советую вам быстро закончить дело, а затем еще быстрее забыть про эту встречу. Бингль спустился по двум лестницам в глухое тюремное подземелье, вырубленное в скале не для вечного покоя мертвых, а для вечного заточения живых. Тюремный надзиратель Джобб, самый мрачный служака крепости, ходил по каменным плитам коридора, закутавшись до бровей в теплый меховой плащ. Мягкая войлочная обувь делала его шаги беззвучными. За железной дверью в угловом каземате находились вновь прибывшие узники. – Чертовски холодно, Джобб, – сказал художник. – Чертовски, мистер Бингль, – согласился надзиратель. Джордж вернулся в канцелярию начальника тюрьмы. – Сэр, работать внизу невозможно. Прошу прощения, но у меня сводит руки. – Хорошо, проведем сеанс в следственной камере. Сейчас конвоиры приведут узников туда. Камера для следствия граничила с канцелярией и кабинетом майора Древверса. Бингль хорошо знал эту голую комнату с решетками на окнах; десять лет назад он выдержал здесь шесть месяцев еженощных допросов, угроз и ласковых увещеваний. Конвоиры ввели двух пленников, закованных в ножные кандалы. Их одежда, некогда богатая и нарядная, превратилась в пестрые лохмотья бархата и шелка. Обросшие лица посинели от холода, а косматые пряди спутанных волос падали на глаза. – Алонзо де Лас Падос и Маттео Вельмонтес? – вопросительным тоном осведомился майор. Он еще не видел этих пленников лорда-адмирала. – Вам придется позировать перед художником… Он отлично пишет портреты прелестных леди, но думаю, что справится и с портретами разбойников и пиратов. Приготовьтесь, сэры… Младший из узников, Алонзо де Лас Падос, сел перед мольбертом, сбросил с плеч рваный плащ и с наслаждением потянулся, радуясь теплу и блеску свечей. – Сэр! – Художник подошел к майору. – Мне нужно сказать вам несколько слов. – Побыстрей, Бингль! – Майор отвел художника в глубь комнаты. Маттео Вельмонтес изумленно поднял брови и сделал непроизвольное движение к художнику. К счастью, это осталось незамеченным. – Вы сегодня на редкость медлительны, Бингль! – недовольно проговорил майор Древверс. – Кончайте приготовления… – Но, сэр, вид у этих людей таков, что портреты будут совершенно бесполезными. Нужен парикмахер. – О чем же вы раньше думали, Бингль? Джобб, приведите цирюльника, а кстати, принесите мне из дому стакан тепленького хереса с сахаром. Лишь после того, как искусство тюремного цирюльника вернуло пленникам их молодость, а дону Алонзо вдобавок и его красоту, Джордж Бингль исполнил портрет этого синьора. Два конвоира сразу отвели дона Алонзо в подземелье. Следующим позировал Маттео Вельмонтес. Набрасывая карандашом его черты, Джордж убедился, что в лице его второй модели, в линиях черепа, носа, глазных впадин, равно как и в рыжеватой шевелюре, не было и намека на испанское происхождение синьора Маттео. Типичный англосакс, и к тому же северного происхождения, сидел перед мольбертом… Сеанс затягивался, и присутствующих одолевала дремота. В камине гудел огонь, распространяя тепло. Вдоль стены дремали четыре конвоира, а начальник тюрьмы, разморенный теплом и хересом, смежил очи за своим столом. Надзиратель Джобб, привычный к ночному бдению, прохаживался по камере. Для порядка он время от времени подбадривал сонных конвоиров. Второй надзиратель, Хирлемс, сначала глубокомысленно следил за работой художника. С этой целью он придвинул к мольберту стул, оседлал его и уткнул подбородок в гнутую спинку. В этой позе он и уснул; его худая шея вытянулась, а голова свесилась, как у мертвого жирафа. Прохаживаясь по комнате, мистер Джобб обратил внимание на муху, ожившую от тепла. Муха чистила крылышки, охорашивалась и терла лапками голову. Эти занятия показались Джоббу предосудительными, ибо насекомое предавалось им, сидя на носу его величества короля Георга III. Поясной портрет короля служил единственным украшением тюремного покоя. Мистер Джобб поднял с пола соломинку и почтительно удалил насекомое с августейшей ноздри. Совершая это верноподданническое деяние, мистер Джобб выпустил из своего поля зрения мольберт, пирата и художника. Карандаш Джорджа как раз воплощал на бумаге маленькую ямочку, украшавшую подбородок синьора Маттео. Тот сидел вполоборота к мастеру. Когда портретист снова перевел свой взор с бумаги на модель, обладатель ямочки на подбородке скосил глаза в сторону Хирлемса и почти беззвучно, с невыразимым презрением прошептал: – Эх, Джорджи, тюремная ты крыса! У мистера Бингля затряслись руки. Господи, да как же он сразу не узнал эту повзрослевшую веснушчатую физиономию!.. Детство… Меньшой брат!.. О боги судьбы! Обрывок бумаги, служивший художнику для заточки карандашей, был заткнут за портрет и свешивался с мольберта. Художник приподнял край листка, сделал вид, будто поправляет графит, и написал на обрезке: «Томми?» Уловив утвердительное движение ресниц модели, Джордж несколькими штрихами изобразил голову человека за тюремной решеткой и написал сбоку: «Я – 10 лет». Брат понимающе кивнул. Надзиратель Джобб уже подходил к мольберту. Джордж успел густо замазать обрезок с лаконическими словами и уже заканчивал рисунок. Портрет не принадлежал к лучшим произведениям мастера, сходство было весьма отдаленное. Майор Древверс приказал художнику набросать копии портретов и проследовал в свой кабинет. Получив утреннюю почту, он вскрыл пакет, прибывший с нарочным из Лондона, внимательно перечел письмо, прицепил шпагу к мундиру и отправился в поместье Ченсфильд. Семья лорда Ченсфильда, по обыкновению, проводила рождественские каникулы в своем поместье. В ожидании прихода фрегата «Адмирал» сэр Фредрик Райленд отдавал свой досуг мирным деревенским радостям. Он охотился, ездил верхом и снисходил даже до продолжительных бесед со своей дочерью. На холодное отношение матери мисс Изабелла тоже отвечала холодностью, но своего сурового батюшку она полюбила и весьма охотно коротала с ним зимние вечера, опоэтизированные плачем ветра в каминных трубах замка. Сорокапятилетняя мисс Тренборн, чопорная дама «из хорошей семьи», исполняла в доме обязанности гувернантки. В отличие от покладистой няньки Хельги Лунд мисс Тренборн неотступно терзала свою воспитанницу всевозможными назиданиями и педагогическими наставлениями. По желанию отца Изабеллы старый католический монах, отец Бенедикт Морсини, преподавал ей Закон Божий. Девочка очень привязалась к этому седому наставнику. Благодаря стараниям мисс Тренборн и старого иезуита наследница лорда Ченсфильда держалась безупречно и являла собою, в свои семнадцать лет, пример девицы, прошедшей, по выражению немецких педагогов, «хорошую домашнюю детскую». За несколько дней до сочельника Изабелла возвращалась вместе с отцом с верховой прогулки. У ворот замка она увидела во дворе наемный бультонский кеб. Изабелла обернулась к отцу: – К нам кто-то приехал, папа. – Судя по элегантному экипажу, верно, кто-нибудь из твоих поклонников, Белла, – шутливо вздохнул милорд. – Скоро они совсем лишат меня дочери. У богатейшей невесты британского Севера действительно не было недостатка в поклонниках, обожателях тайных и явных, бальных партнерах, кавалерах и кандидатах в кавалеры. Почта доставляла в Ченсфильд дюжины надушенных разноцветных, опечатанных символическими облатками конвертов. Сама Изабелла тоже не избежала сердечных ранений. Несколько лет ее воображением владел почтовый кондуктор с ярко начищенным медным рогом через плечо и синим мешком. Но однажды мисс Тренборн повезла пятнадцатилетнюю барышню на почтовых лошадях в той карете, где на козлах восседал предмет ее тайных вздохов. В пути Изабелла с волнением наблюдала, как бравый кондуктор лихо освобождал свой нос с помощью указательного и большого перстов. При этом он удивительно точно метил с высоты козел в прохожих, и пешеходы редко успевали увернуться от снарядов этого далеко не безобидного двуствольного аппарата. После удачных попаданий кондуктор и кучер раскатисто хохотали. В результате этих волнующих впечатлений сердце Изабеллы стало вновь свободным, пока сэр Уильям Блентхилл, юный наследник соседнего поместья Уольвсвуд, не сделался подозрительно частым гостем в Ченсфильде; его мать втайне уже обдумывала, который из двух замков, Уольвсвуд или Ченсфильд, следовало бы избрать в качестве резиденции молодой четы… Камердинер Мерч встретил сэра Фредрика и мисс Райленд на пороге вестибюля и доложил, что графа уже целый час ожидает майор Древверс, начальник бультонской крепостной тюрьмы. Дочь видела, как помрачнело лицо отца. Она переоделась в своей комнате, подождала ухода посетителя и резво впорхнула в отцовский кабинет с намерением рассеять его мрачные мысли. Владелец поместья угрюмо сидел перед столом и держал в руках какие-то портреты, исполненные карандашом. – Папа, можно к тебе? – спросила Изабелла, уже стоя посредине кабинета. – Покажи-ка мне рисунки. Кто это? Почему у обоих такой унылый вид? Застигнутый врасплох, лорд-адмирал не спрятал рисунка. Он с равнодушным лицом бросил портреты на стол, ибо вовремя учел, что при малейшей попытке укрыть рисунки дочь накинулась бы на него с расспросами. Расчет был бы верен: мисс Изабелла, подержав рисунки перед глазами, отложила бы их в сторону, если бы… если бы мистер Бингль не изобразил с такой точностью наружность синьора Алонзо де Лас Падоса! Изабелла всмотрелась в лицо молодого человека на портрете и горестно вздохнула: – Вот таких поклонников у меня никогда не было, папа! Это, наверно, молодой итальянец? Кто этот красивый юноша? Какое прекрасное лицо! И портрет совсем свежий! Скажи, папа, этот мальчик сейчас в Бультоне? – Нет, Белла, это просто повторение одного старого портрета. Он давно пришел в ветхость, и я приказал сделать новую копию. Человек этот – товарищ моей юности. Ему сейчас лет шестьдесят, если он жив. Изабелла надула губки и отложила рисунок в сторону. Милорд убрал портреты в стол. – Папа, этот толстый майор, что сейчас был у тебя, кажется, начальник здешней тюремной крепости? Лорд-адмирал уже начинал терять терпение: – Да, Белла, майор Древверс занимает именно эту должность. Но у меня сейчас нет времени, девочка, меня ждут неотложные дела. Вечером я опять буду всецело к твоим услугам. Кстати, сегодня большой вечерний спектакль в бультонском театре. Если хочешь, я закажу ложу. – Мне не хочется в театр, папа. Я подумала совсем о другом. Через несколько дней будет сочельник. Все готовятся к празднику, а там, в страшной тюрьме, томятся люди… Можно мне посетить этих несчастных вместе с отцом Бенедиктом? – Откуда у тебя эти мысли, Белла? В тюрьме сидят не безвинные агнцы, а мятежники, воры и… убийцы. Крепость полна крестьянами-бунтовщиками, браконьерами, луддитами… – Но они – люди и жестоко страдают. Позволь мне, папа… – Ни под каким видом, Белла! Нельзя потворствовать преступникам… Прости, но мне уже пора ехать по делам! Усаживаясь в седло, владелец Ченсфильда в недоумении пожимал плечами. «Откуда это в ней? Впрочем, черт бы побрал эти пустяки! Есть дела поважнее… Чертовски скверно складывается вся эта история…» Ветер раскачивал голые деревья ченсфильдской рощи. Граф и его слуга торопились в Бультон. У сэра Фредрика были веские причины хмурить высокое чело и спешно искать выхода из весьма затруднительного положения…6
Перед наступлением сумерек Вудро Крейг увидел перед окнами своего особняка всадника на потной лошади. Седок, по-видимому, очень торопился, ибо звон дверного колокольчика был вдвое громче обычных звонков посетителей. Мистер Крейг узнал камердинера лорда-адмирала. – Что-нибудь случилось, Мерч? – Не знаю, сэр. Его лордство сейчас находится в крепости, у майора Древверса. Капитан Лорн только что беседовал с его лордством и приказал мне немедленно ехать за вами, сэр. Было уже совсем темно, когда Вудро Крейг тихо вошел в неуютную следственную камеру, украшенную портретом короля Георга III. Решетки на окнах, холодный каменный пол, скупое освещение и сырой, затхлый воздух таких помещений производят гнетущее впечатление на любого человека, но особенно неприятные чувства они вызывают у тех людей, для кого подобная обстановка легко могла стать пожизненной. – Садись, Вудро! Выражение лица мистера Райленда было злое и встревоженное. Лорн жевал трубку и следил за возней воробьев на решетке за стеклом. – Чертовская история, Вудро! Майор Древверс получил из Лондона сообщение, что в Бультон выезжает секретная комиссия, назначенная его величеством. Вероятно, джентльмены уже в пути. В составе комиссии – прокурор, чиновник для особых поручений и начальник тайной канцелярии при военном министре. Ну и, разумеется, полная свита – младшие офицеры, секретари, писцы… Понимаешь? – Н-н-нет, ваше лордство, пока не совсем понимаю. Что же она собирается делать в Бультоне, эта уважаемая комиссия? Неужели такой шум из-за двух пленных пиратов? Его лордство коротко изложил ситуацию, как она явствовала из писем, полученных комендантом гарнизона и начальником тюрьмы. Посылка в Бультон лондонской комиссии была новым выражением милости его величества к лорду Ченсфильду. Получив доклад морского министра о бое эскадры сэра Фредрика с пиратским судном, король глубоко опечалился гибелью доблестного капитана Блеквуда и потерями, понесенными эскадрой. Доклад министра был составлен на основании донесения самого лорда Ченсфильда, который в ярких красках изобразил доблесть Блеквуда, Лорна и Тресселя, а также предательское поведение Гая Брентлея. Его величество высочайше утвердил приказ Лорна об аресте Брентлея, повелел заключить изменника в крепостном каземате и направить в Бультон следственную комиссию, дабы следствие по делу преступных пиратов было проведено с должной строгостью. Участь этих преступников должна была послужить в назидание всем пиратствующим морским судам, а посему его величество выразил желание, чтобы по окончании следствия преступники были доставлены в Лондон для предания военному суду и публичной казни. Вудро Крейг быстро понял всю затруднительность создавшегося положения. – Как вели себя пленники в пути? – осведомился он у Джозефа Лорна. Моряк сумрачно промолчал. Сэр Фредрик Райленд сам разъяснил Крейгу, что во время предварительных допросов, которые мистер Лорн пытался вести на борту «Адмирала», он добился от пиратских главарей лишь весьма недвусмысленных и сильных выражений по адресу лорда-адмирала, а от Брентлея – категорического утверждения, что никакого предварительного сговора с пиратами у него не было. Слушая графа, мистер Крейг сокрушенно кивал. У него вертелся вопрос на языке, но Лорн предупредил его: – Эти двое знают о нас все, ясно? – В голосе Лорна откровенно звучала злоба. – Не нужно было торопиться с извещением адмиралтейства о пленниках. Джакомо, своей поспешностью ты всем нам крепко занозил зады. – Я был слишком уверен, что король попросту поручит мне повесить их обоих, и Брентлея в придачу, на корабельных реях. Я просчитался. Но теперь нечего размусоливать насчет того, что было и могло бы быть. Смотреть надо вперед. Носы вешать рано. Бывало похуже, но выкручивались! Скажи, Джузеппе, кто они, по-твоему, на самом деле, эти молодцы? Лорн свирепо сплюнул: – Попробуй добейся от них толку! Твердят, что имена их самые подлинные. – Откуда у них сведения о нашем прошлом? Диего Луис никогда не видал в лицо своего отца. Никто из его окружения не мог знать… нашу историю. – Вудро Крейг в недоумении развел руками. – У тебя пропала сообразительность, Вудро. А Мюррей? А Эмили Гарди? Эх, не раздавили до конца змеиное гнездо в Голубой долине! Ветер дует оттуда. Этот дон Алонзо заявил Брентлею, будто он младший сын Бернардито. На вид ему лет двадцать, едва ли больше. Я не слыхал, чтоб Бернардито связывался с какой-либо другой женщиной, кроме Зоэ. Похоже, что Алонзо просто выдумал про это родство, да и в лице у него нет ничего общего с Бернардито. Сейчас я взглянул на него сквозь глазок в дверях. Красавец, черт его побери! Мистер Райленд положил перед Крейгом портреты Алонзо де Лас Падоса и его товарища. Вудро сунул рисунки в свой поместительный карман: – Попробую показать моим мальчикам. Как будто в этих физиономиях есть что-то знакомое. Вот этот Маттео… Пусть я издохну, если это испанец! – Пока мы тут гадаем, старики, лондонская комиссия свалится нам на голову, как снег, и пойдет потеха! – сердито произнес мистер Райленд. – В нашем распоряжении дни, а может быть, и часы. Действовать нужно завтра, сегодняшняя ночь уже потеряна. – Задушить их, и дело с концом, – предложил Лорн. – А Брентлей? – Крейг покрутил головой. – Он в другой камере. Да и едва ли один Хирлемс управится со всеми тремя, а других доверенных людей у меня в тюрьме нет. – Ну, отравить… Угостить их вином, что ли? – Не спрячешь следов. Не годится. – Тогда сами предлагайте что-нибудь, ваше лордство. – К черту лордство, волки! Вода набирается в трюме, каррамба, и помпы не качают. Думайте, старики, думайте быстрее! Эта работа для тебя, Вудро. – Стой, хозяин! В какой они камере? – Нижний угловой каземат. – Отлично! Окна выходят на заднюю стену? – Ну и… – На стене – двое часовых… А дальше – предгорья… – Хм! Мысль недурна!.. Застрелены при попытке к бегству, так, что ли? – Вот именно. Только нужны надежные ребята, хозяин. Полковник Хауэрстон не простачок! Я хорошо знаю этого любезного джентльмена… – Говоришь, нужны надежные ребята? Значит, придется самим тряхнуть стариной! Говорю: вода подступает к горлу… Вудро, разыщи Мак-Райля. Он болтается где-нибудь в городе, вероятно, пьян. Пусть сейчас же едет домой, я буду у него в полночь. Завтра к пяти вечера всем быть в моем особняке на Сент-Джекоб-стрит, восемнадцать. Все, что нам может понадобиться, имеется там в достаточном количестве. Джузеппе, ступай осмотри хорошенько заднюю стену крепости. Я отправлюсь сейчас к отцу Бенедикту. Посмотрим, на что он годится в серьезную минуту… Вытрезви Мак-Райля к полуночи, Вудро, любыми средствами. Нужно будет осторожно привлечь к делу Джорджа Бингля: потом уберем его вместе с теми двумя… – А как же с Брентлеем, хозяин?.. – Хм! С Брентлеем?.. Попытаюсь-ка я потолковать с Древверсом и устроить перевод Брентлея к тем двоим, в угловой каземат… Торопитесь, старики, время не ждет. Тюремный стражник держал под уздцы верхового коня лорда Ченсфильда. Знатный гость прощался с начальником тюремной крепости. Он сделал майору знак глазами, и тот, отослав стражника, сам взялся за недоуздок. – Послушайте, майор! Древверса удивил тон милорда – усталый, добрый, задушевный тон. – Нынче двадцать первое число, майор. Сочельник подходит! – Да, это самый лучший день в году, милорд. – Знаете, майор, эти двое там, внизу… В конце концов, вред они причинили главным образом мне… Жить им остается недолго… Ведь эта лондонская комиссия, августейше назначенная в моих интересах, повесит их обоих, а, майор? – Это так же верно, как то, что меня зовут Древверс, а вас – сэр Фредрик Райленд, милорд. – Так вот, Древверс, Господь создал нас с вами христианами. Они – преступники, пираты, злодеи, но пусть и их заблудшие души порадуются празднику. Дочь просила разрешения посетить тюрьму, чтобы чем-нибудь скрасить участь несчастных. Так вот, когда она приедет к вам… Вы понимаете?.. Конечно, не надо позволять ничего особенного… Но маленькое послабление ради близкого праздника… Кандалы, например. К чему они в таких стенах? Это же просто излишняя жестокость… Должно быть, они католики, эти молодые пираты? – Самые закоренелые паписты, милорд! – Что ж, и закоренелым папистам нужно пастырское утешение. Дочь приедет с отцом Бенедиктом, знаете, с этим добрым монахом из портовой капеллы. Ведь для них наступает последний сочельник! – Это так же верно, милорд, как… – …то что меня зовут Райленд. Я понимаю вашу мысль. Но, Древверс, пусть этот маленький сговор останется только между нами и никому не подаст повода к толкам об излишней снисходительности к закоренелым злодеям. Оставьте их в том же суровом каземате, но затопите печь. Снимите с них кандалы… Этот старый пройдоха Брентлей томится сейчас в одиночке… Послушайте, переведите и его к ним! Втроем им не будет так тоскливо… Но молчок, Древверс! – Могила, милорд, немая могила – вот кто такой Древверс, если это угодно вашему лордству. Граф потрепал майора по плечу. – Хирлемс не должен быть слишком строг, если отец Бенедикт передаст этим заблудшим овцам… В общем, если у них появится стаканчик чего-нибудь живительного и маленький пирог. А этого Бингля, художника, попросите сделать набросок моей дочери… Понимаете, среди заключенных, в тюремном каземате… Это же останется ей воспоминанием на всю жизнь, не так ли? Тюремщик чуть не задохнулся от восторга. – Понимаю, милорд, понимаю! Эдакая картина… луч света в царстве скорби… или даже, как бы сказать, хождение девы в преисподнюю… Будьте уверены во мне, милорд, не будь я майор Древверс!20. Терпин-бридж
1
Большой дилижанс королевского тракта Лондон – Бультон прибыл утром 22 декабря раньше расписания. Все десять внутренних мест дилижанса были заняты правительственными лондонскими чиновниками, и лишь наружные верхние сиденья оставались к услугам частных пассажиров. Сокращая стоянки и меняя лошадей на станциях вне всякой очереди, кучер сэкономил в пути несколько часов. Во дворе гостиницы «Белый медведь» из дилижанса вышли два джентльмена в больших париках и форменных мундирах. Джентльменов сопровождали три морских офицера различных рангов, канцелярист-секретарь и двое слуг. Прибывшие проследовали в общий зал, величественно раскланялись с публикой, томящейся здесь в ожидании карет, и сразу потребовали хозяина отеля. Рыжеусый человек с выправкой отставного военного подошел к приезжим. – Хозяин, мистер Крейг, к сожалению, в настоящую минуту отсутствует. Его главный компаньон мистер Кремпфлоу тоже находится в отъезде. Принимать посетителей и заботиться об их удобствах поручено мне. Я тоже скромный компаньон этого заведения, сударь. – Ваше имя, любезнейший? – осведомился один из джентльменов. – Линс, Уильям Линс, с вашего позволения, сэр. Вероятно, вам угодно получить комнаты? – Да, Линс, пока нам нужны всего три большие, спокойные комнаты. С завтрашней каретой должен приехать генерал и несколько чиновников. – Разрешите записать в книгу ваши имена, сэр. Важный джентльмен протянул Линсу свои документы, после чего поклоны третьего совладельца сделались еще почтительнее и, если это только было возможно, еще ниже. – Кого прикажете известить в городе о вашем прибытии, ваша милость? – Городского мэра и судью, коменданта гарнизона, начальника тюремной крепости майора Древверса и лорда-адмирала сэра Фредрика Райленда графа Ченсфильда. К майору Древверсу пошлите курьера немедленно и попросите этого офицера прибыть в гостиницу. Джентльменам отвели три лучшие смежные комнаты во втором этаже отеля. Прислуга могла наблюдать, как в коридоре перед дверью покоев занял пост один из слуг приезжих господ. Он уселся у двери, как цербер, разложив перед собою на столике толстую разграфленную тетрадь, несколько перьев и дорожную чернильницу. Удостоверившись, что канцелярия готова к приему посетителей, он положил локти на столик и погрузился в дремоту. Уже через час весь Бультон знал о прибытии в город лондонского прокурора сэра Голенштедта, адмиралтейского чиновника для особых поручений мистера Бленнерда и другого персонала лондонской комиссии. По городу молниеносно распространились самые невероятные слухи о целях приезда этих гостей. В иных конторах и частных домах запылали целые вороха бумаг, замелькали свечи в темноте подвалов, и немалое количество звонких желтых кружочков спешно обрело подземное упокоение под корнями садовых деревьев. Совладелец конторы «Мортон и Дженкинс», бывший клерк мистера Томпсона, тощий мистер Дженкинс, унимая учащенное биение сердца, придирчиво присматривался к малозаметному чулану во дворе своего жилья. Там рядом с несколькими литографскими камнями и всевозможными склянками находился небольшой медный пресс… Мистер Дженкинс опоздал в этот день в контору, ибо долго трудился во дворе: заколачивал двери чулана старыми досками, заваливал его поленьями и мусором. По прошествии двух часов с момента приезда комиссии полнотелый майор Древверс, затянутый поясом и перевязью наподобие портпледа, вошел в гостиницу «Белый медведь». Лондонский прокурор вручил ему приказ, самолично подписанный лордом-канцлером, об особо строгом режиме содержания двух арестантов с пиратского капера и их преступного сообщника капитана Гая Брентлея. Вместе с тем лондонский прокурор сообщил, что уполномочен произвести инспекцию бультонской тюрьмы. Когда майор умчался исполнять приказание начальства, члены комиссии велели заложить карету. Горожане кланялись этой карете ниже, чем соборному алтарю. Карета, сопровождаемая еще одним экипажем, проследовала к северному предместью, где на вершине каменистого холма столетиями царила над городом зубчатая стена бультонской крепостной тюрьмы.2
У наглухо закрытых крепостных ворот толпились понурые, бедно одетые женщины, подростки и старики с сумками и узелками в руках. Это были родственники здешних арестантов, надеявшиеся получить свидание с узниками или хотя бы вручить им приношения к празднику. Однако предупрежденная майором Древверсом стража сегодня не допускала родственников в пределы крепостных стен. Чуть поодаль от ворот храпели и топтались серые кони щегольской лакированной коляски. Стражники теснили понурую толпу от решетки и были глухи к уговорам и просьбам. Кучер нарядной коляски поворачивал коней назад, ибо седоки, по-видимому, уже потеряли надежду обратить на себя внимание суровых стражей. На заднем сиденье коляски восседала высокая пожилая дама. Она держалась так прямо, словно спина ее была выстрогана из цельной дубовой доски. Рядом с ней помещалось духовное лицо – старый монах в черной сутане и круглой шляпе. И наконец, переднее сиденье занимала молоденькая красавица в легкой меховой шубке. Она сидела спиною к вознице и старательно пряталась от любопытных взглядов за высоким лакированным бортом и стеклянным фонарем коляски. К тюремным воротам подкатили два экипажа с членами лондонской комиссии и представителями местных властей. Городской мэр мистер Хью Бетлер вгляделся в седоков коляски и, к своему немалому удивлению, узнал мисс Изабеллу Райленд. Но в этот миг ворота распахнулись, полдюжины солдат с алебардами выстроились под массивной аркой, оттесняя в стороны убогих просителей, чтобы освободить дорогу экипажам комиссии. Навстречу карете шел, придерживая шпагу, сам майор Древверс. – Кто эти люди у ворот? – осведомился лондонский прокурор. – Родственники заключенных, милорд. – Произнося эти слова, майор бросал вокруг устрашающие взгляды. – А эти леди и духовное лицо в коляске? Майор Древверс только теперь увидел обеих дам и отца Бенедикта. Кучер коляски уже поправил упряжь и собирался взобраться на козлы. Майор растерялся. – Простите, милорд, я не знал, что леди уже прибыли. Это, с вашего позволения, мисс Изабелла Райленд, дочь его лордства графа Ченсфильда… Движимая милосердием, она намеревалась… так сказать… принести утешение некоторым благонамеренным узникам. – Но почему же эти леди уезжают? Очевидно, ваша стража, майор, не допустила их к исполнению задуманного? И почему расходятся остальные люди, эти родственники? – Сэр, я полагал, что вашему лордству не будет угодно, как бы сказать, наличие постороннего присутствия в часы вашего, так сказать, пребывания! – Майор заикался, краснел от натуги и служебного рвения. – Вы, очевидно, полагаете, майор, что королевскому прокурору чужды разумная благотворительность и чувство христианского милосердия? Это глубоко ошибочное представление, мистер Древверс. Прикажите немедленно впустить сюда всех этих людей. Прошу вас, представьте этим дамам меня и мистера Бленнерда. Майор метнул свирепый взгляд на стражников. По знаку майора кучер коляски снова повернул лошадей к воротам. Через несколько мгновений мисс Изабелла вышла из экипажа на каменные плиты тюремного двора. Она удостоила майора Древверса не слишком приветливым кивком и сделала очень милый книксен членам королевской комиссии. В канцелярии тюрьмы прокурор приветливо осведомился у барышни о здоровье лорда-адмирала и одобрительно отозвался о христианских намерениях его дочери. Изабелла отвечала, краснела, приседала и улыбалась по всем правилам. Мисс Тренборн осталась довольной, патер Бенедикт вздыхал умиленно. Высокий, красивый офицер, которому подчинялись оба других военных и писарь, не сводил глаз с милой барышни. Даже угрюмый мистер Бленнерд глядел на нее благожелательно. Мисс Изабелла явно склоняла в свою пользу жрецов грозной богини юстиции! Прокурор поманил к себе высокого офицера. – Разрешите представить вам, мисс Райленд, кавалера де Кресси, моего ближайшего помощника. Если вам угодно осмотреть тюрьму в нашем обществе, он послужит вам проводником. Румянец Изабеллы еще чуточку усилился, а кавалер де Кресси поклонился ей с отменной учтивостью. – Прошу вас, господин де Кресси, приступить к делу, – распорядился прокурор. – Мисс Райленд, вам предстоит поскучать полчаса в обществе старых судейских джентльменов. Присядьте вот здесь, в этом уголке, – тут немного теплее. Мистер Древверс, теперь покажите мне портреты арестантов-пиратов. – Но, сэр, это совершенно секретные узники, и наличие здесь, как бы сказать, постороннего присутствия… – Не понимаю той таинственности, которой вы здесь окружили обыкновенных морских разбойников. Почему секретные? В недалеком будущем весь Лондон увидит их на виселице. Ваша единственная задача, мистер Древверс, – это предотвратить любые попытки к побегу этих отъявленных головорезов. Прошу, дайте сюда их портреты. Вся свита милорда прокурора не без любопытства принялась рассматривать кусочки белого картона. Было видно, что эти рисунки изготовлены почти мгновенно. Майор пояснил джентльменам, что это торопливые копии с портретов, а более тщательные портреты, сделанные с натуры, переданы в распоряжение лорда-адмирала и полиции. При этих словах мисс Изабелла разглядела в руках прокурора один из портретов. О боже, да ведь накануне она видела в отцовском кабинете изображение этих же самых лиц!.. Значит, отец сказал ей неправду? Странно: вчера он запретил ей ехать в крепость, а сегодня сам торопил и был таким добрым, ласковым… И оказалось, что отец Бенедикт уже поджидает ее в капелле со свертком гостинцев для бедных узников. Никогда не поймешь их, этих старших… Прокурор удивленно взирал на скупые штрихи рисунков. – Портреты выполнены рукой подлинного мастера. Кому вы заказывали их, майор? – Нашему тюремному портретисту, мистеру Джорджу Бинглю. – Тюремному художнику? – еще удивленнее переспросил прокурор. – Любопытное нововведение… И давно он служит у вас, этот художник Бингль? – С тех пор, как освободился из заключения: около полугода, милорд. – Кем он был осужден? – Бультонским судьей, милорд. Отбыл десять лет. – Вот как? Обращался ли он с кассацией к нам, в канцлерский суд? – Право, не припоминаю, милорд. Но он имел преступные намерения против государственных устоев и не мог ожидать снисхождения от канцлерского суда. – Пригласите-ка его сюда… Мистер Бленнерд, я хочу пока побеседовать с пиратом Алонзо, а также с капитаном Брентлеем. В ожидании привода заключенных прокурор внимательно рассматривал портреты. Наконец за дверью послышалось звяканье кандалов и металлический звук одновременного удара об пол двух ружей. Дверь распахнулась, и конвоиры ввели дона Алонзо. Арестант поддерживал левой рукой цепь своих кандалов, а правой сделал приветственный жест присутствующим. Он стал перед сэром Голенштедтом в небрежно-свободной позе, насколько это позволяли ему скованные запястья и щиколотки, и, глядя на чиновника, казалось, наивно удивлялся его важному, величаво-строгому лицу и наряду. – Вы находитесь перед главным прокурором канцлерского суда, Алонзо де Лас Падос, – проговорил майор. – Вижу, – весьма лаконично ответствовал пленник. – Станьте как подобает! Дон Алонзо не обратил, однако, внимания на окрик тюремщика, ибо лишь теперь заметил в углу два больших, очень красивых и участливых серых глаза. Он еще раз отвесил короткий поклон прокурору и значительно более продолжительный – неизвестной обладательнице серых очей. При этом он без труда рассмотрел, что эти последние стали довольно быстро заволакиваться чем-то прозрачным и блестящим, как роса на цветочных лепестках. – Алонзо де Лас Падос, предъявлено ли вам и вашему соучастнику обвинение? – спросил прокурор. – Нет, не предъявлено… – …сэр! – с возмущением подсказал майор Древверс. – Вы забываетесь, Алонзо де Лас Падос! Юноша не удостоил начальника тюрьмы даже взглядом. – Вы настаиваете на том, что ваше имя, а также имя вашего второго сообщника суть подлинные имена? – продолжал прокурор. – Они столь же подлинны, как и имя нашего противника, в чьей власти мы находимся благодаря низкому предательству. – Не понимаю… Вы имеете в видулорда-адмирала Ченсфильда? – Да, я подразумеваю лицо, которое уже много лет называет себя этим именем. – Признаете ли вы, что являетесь одним из главарей пиратского экипажа с корабля «Три идальго» и схвачены при попытке ограбления судна «Орион», принадлежащего «Северобританской компании»? – Не только не признаю, но отрицаю самым категорическим образом, господин королевский прокурор. Наш вольный корабль, под командованием сеньора Диего Луиса эль Горра, чьим первым помощником являлся я, никогда не был пиратским судном. Он служил делу американской революции, боролся против позора работорговли, мстил за попранные человеческие права… Только наше пленение помешало нам отдать наш корабль под знамена французских друзей свободы для борьбы с тиранией. В этот миг в комнату ввели капитана Брентлея. Старик узнал Изабеллу, притихшую в своем уголке, и поклонился ей. – Ваше имя и звание? – спросил Бленнерд. – Гай Рандольф Брентлей, капитан флота, сэр. – Что побудило вас, Брентлей, изменить присяге и воинскому долгу? Краска негодования бросилась в похудевшее лицо старого воина. – Ни единым помыслом я не изменял присяге и отечеству! Я намеревался лишь соблюсти международный обычай и не пятнать своего флага убийством безоружных парламентеров. – Подтверждаете ли вы, что пиратское судно «Три идальго» первым напало на ваш корабль с целью ограбить его? – Напротив, сударь. Капитан корабля «Три идальго» не ответил на мой орудийный залп и предложил мне свободно следовать своим курсом. – Подтверждаете ли вы, что находились в преступном заговоре с пиратами против лорда Ченсфильда? – Нет, сударь. Когда я услышал от этого молодого пирата речи, порочившие честь лорда Ченсфильда, я предложил Алонзо де Лас Падосу покинуть борт моего корабля и приготовиться к смертельному бою. – Хорошо, все это мы проверим. Господа, полагаю, что пока мы слышали достаточно. Майор Древверс, прикажите увести арестованных. В дверях арестанты столкнулись с запыхавшимся Джорджем Бинглем. Он растерянно остановился посреди комнаты и увидел свои рисунки в руках важного чиновника в очень пышном и кудрявом парике. – Мистер Джордж Бингль, художник? – Тон джентльмена был доброжелательным. – Да, сэр. Чиновник пристально вглядывался в него из-за стола. Под этим взглядом Джордж окончательно смешался. Глаза джентльмена с каждым мгновением делались строже. – Скажите-ка мне, Бингль… – В голосе прокурора появились зловещие, вкрадчивые нотки. – Скажите-ка мне, работая над портретом вот этого человека, вы… не нашли в нем… знакомых черт? Прокурор показывал Джорджу портрет синьора Маттео. Художник побелел так, что сделался похожим на восковую фигуру из паноптикума*["119]. – Нет, не нашел, сэр, – вымолвил он с огромным трудом. – Джордж Бингль, именем закона я арестую вас. Майор, возьмите этого человека под стражу и поместите вместе с обоими пиратами. Переведите к ним и Брентлея. По некоторым причинам я полагаю необходимым быстрее перевести их в лондонский Ньюгейт. Приготовьте к завтрашнему вечеру тюремную карету и надежный конвой. Мистер Бленнерд, мы отбудем одновременно лондонским дилижансом. Когда совершенно уничтоженный Джордж Бингль был взят под стражу и выведен из канцелярии, прокурор обратился к Изабелле: – Мисс Райленд, простите, что дела задержали нас и помешали вам приступить к исполнению ваших человеколюбивых намерений. Теперь мы готовы начать осмотр тюрьмы и, если вам угодно, приглашаем вас и ваших спутников последовать за нами. Глаза Изабеллы были сухими, побледневшее лицо выражало гордость, гнев и боль. – Очень вам признательна, милорд, за то, что вы сделали меня свидетельницей вашей беседы с этими людьми. Я слышала намеки, затрагивающие честь моего отца, и не могу оставаться равнодушной к ним. Простите меня, но я слишком взволнована, чтобы приступить сейчас к исполнению христианского долга. Мне придется выбрать для этого другой день. – Как вам угодно, сударыня, – сухо проговорил прокурор и сделал знак своей свите следовать за ним. В опустевшей канцелярии остались только обе дамы, патер Бенедикт и писец за столом. Он укладывал бумаги в большой мешок. Изабелла взглянула сквозь решетку в окно, отыскивая глазами экипаж во дворе. – Мы едем домой, мисс Тренборн. Святой отец, простите меня, но я не в силах оставаться дольше в этих стенах. – Ни слова больше, дочь моя, ни слова! Я понимаю вас. Но ваш благородный отец, Изабелла, просил меня приготовить кое-что для этих ослепленных грешников, томящихся в узилище… Там, под сиденьем в экипаже, я положил… – Хорошо, святой отец, делайте все, о чем просил папа, но не говорите мне больше об этих людях. Обе леди и монах вышли из канцелярии и сели в экипаж. Отец Бенедикт подозвал стоявшего во дворе тюремного надзирателя Хирлемса, достал из-под сиденья небольшой продолговатый сверток и вручил его тюремщику. Тот спрятал сверток под плащом и заторопился к дверям, ведущим в подвал главного корпуса. Коляска тронулась, но доехала только до крепостных ворот. Никакие уговоры открыть ворота и выпустить коляску из крепости не подействовали на стражников, они требовали пропуска или личного распоряжения майора Древверса. Расстроенная мисс Райленд выпрыгнула из коляски. Она знала, что майор сопровождает комиссию при осмотре тюрьмы, и раздумывала, как бы отыскать его. Бродить самой по мрачным дворам и расспрашивать охрану было неловко. Послать кого-нибудь к майору? Изабелла вошла в канцелярию. Писец еще возился с бумагами, а рядом с ним стоял молодой кавалер де Кресси. Он удивился, увидев Изабеллу одну, без спутников, и вдобавок с явно раздосадованным лицом. Офицер очень вежливо спросил девушку о причинах возвращения и сам вызвался немедленно уладить затруднение. Они вместе вышли. При солнечном свете Изабелла смогла хорошенько рассмотреть своего провожатого. Это был высокий, широкоплечий, очень молодой человек с гибкой, легкой фигурой. Румянец отличного здоровья заливал его щеки, темно-синие глаза глядели беззаботно и весело. Крепкая рука небрежно касалась эфеса шпаги, другая осторожно поддерживала локоток мисс Изабеллы. В наружности кавалера де Кресси было нечто до такой степени располагающее к себе, что Изабелла не смогла не улыбнуться молодому человеку. Он сильнее сжал ее локоток и остановился под сводом арки, соединяющей два внутренних тюремных двора. – Я очень рад, мисс Райленд, что благодаря исполнительности стражи мне представилась возможность сказать вам несколько слов наедине. Прошу вас поверить, что честь виконта… виноват, графа Ченсфильда дорога мне так же, как и… каждому вашему земляку. Мне хочется от всего сердца заверить вас, что фамильную честь имени Райленд я готов отстаивать ценой моей жизни… Изабелла подняла на него глаза в полном недоумении. Молодой человек с каждой минутой нравился ей все больше, и она не торопилась высвободить свою руку из плена, но невольно чувство тревоги нарастало в ней. – Не станете же вы утверждать, сэр, что самонадеянные и оскорбительные намеки этого пирата имеют под собой хоть какую-нибудь почву? – А разве не кажется вам, сударыня, что синьор Алонзо – тоже человек чести? – Я не могу отказать ему в большом чувстве собственного достоинства. Это испанец! Но самоуверенность его граничит с наглостью. Сначала он вызвал во мне некоторое участие, но его дальнейшие слова… О, будь я мужчиной и услышь я эти оскорбительные речи синьора Алонзо при иных обстоятельствах… я знала бы, как держаться с наглецом! – Мисс Райленд, разрешите мне свершить то, что и вы считали бы должным сделать в защиту фамильного имени. Я говорю не о мести безоружному пленнику, которого и без того ждет жестокая участь… Но мне известно многое… Вас ждут впереди немалые испытания и огорчения… За честь и доброе имя Райлендов еще прольется, быть может, кровь. И когда этот час настанет, я хочу иметь право написать на щите ваше имя и хранить в сердце ваш облик! – Боюсь, сэр, что вы слишком увлеклись собственным красноречием. По какому праву вы обращаетесь ко мне с этими странными речами, и что они значат? – Простите меня, мисс Райленд! Я действительно совершил ошибку, поддавшись невольному порыву… Теперь прощайте и, умоляю вас, сохраните нашу беседу в тайне. Совершенно сбитая с толку, растерянная и смущенная, Изабелла уселась на подушках коляски напротив мисс Тренборн. Как сквозь сон, она услышала властный голос кавалера, отдававшего приказания стражникам. Ворота распахнулись, коляска миновала длинную каменную арку и помчалась вдоль крепостной стены. Изабелла подставила лицо под струю свежего ветра с реки. Она не могла разобраться во всем ворохе неожиданных и противоречивых впечатлений. Резкие колебания в настроениях отца… Впервые замеченная отцовская ложь… Оскорбительный тон речей дона Алонзо… Странные слова молодого кавалера де Кресси… Голова юной леди шла кругом! И лишь в одном-единственном чувстве мисс Изабелла безошибочно отдала себе отчет: это было бог весть почему нахлынувшее чувство полнейшего равнодушия… к образу мистера Уильяма Блентхилла! …На почтовом тракте Изабелла еще издали разглядела встречную карету. На ее дверцах красовался тот самый фамильный герб, во славу которого хотел бороться де Кресси. Уже разминувшись с коляской, карета остановилась. Правое оконце опустилось. Лорд-адмирал выглянул из него и поманил к себе дочь. Очень сбивчиво, почти в слезах, дочь поведала отцу все впечатления, исключив из повествования лишь последний разговор. Милорд внимательно слушал. – За что же все-таки прокурор велел арестовать Бингля? – Я ничего не поняла, папа. Это вышло так неожиданно! – Да, странно… Где же отец Бенедикт? – Мы довезли его до самого порта. – Он передал пленникам сверток? – Да, он отдал сверток тюремному сторожу… Но, папа, скажи мне, как смел этот Алонзо… Милорд рассмеялся, не дал дочери договорить и потрепал ее порозовевшую щечку. Оконце кареты поднялось, экипаж тронулся. Когда коляска скрылась за поворотом дороги, граф снова открыл окно и подозвал камердинера Мерча, верхом сопровождавшего карету. – Этот пакет отвези в гостиницу «Белый медведь», вручи его сэру Голенштедту или мистеру Бленнерду и подожди ответа. Потом поезжай в порт и поговори с отцом Бенедиктом, он даст тебе записку для меня. Ответ сэра Голенштедта и записку патера ты доставишь мне в бультонский особняк. По дороге заверни в «Чрево кита», передай Линсу, чтобы тот наведался в крепость к Хирлемсу. Пускай Линс часам к пяти-шести тоже приедет в особняк. Я буду находиться там до вечера. Кучер, Сент-Джекоб-стрит, восемнадцать!3
Надзиратель Джобб сначала втиснул в узкую дверь тюремного подземелья объемистый мешок, за которым последовали матрац, набитый конским волосом, и одеяло. Пока стражники просовывали эти предметы в дверной проем, узникам каземата могло казаться, что вещи сами собою шествуют к ним в гости. Вещи свалили в самом дальнем углу, после чего в каземат был водворен и сам владелец этого скарба, капитан Гай Рандольф Брентлей. Седой моряк коротко кивнул двум старожилам каземата. С шестифутовой высоты собственного роста он осмотрел пожитки в углу, сердито воссел на убогом ложе и, отвернувшись к стене, раскурил трубку. Вступать в беседу с соседями он был явно не склонен. Двое «старожилов» располагались в противоположном углу. Они пошептались и решили не тревожить капитана расспросами. Тюремные надзиратели сменялись в полдень. На сей раз мистер Хирлемс явился в каземат не один. Узники удивились, увидев рядом с ним тюремного портретиста. Капитан Брентлей не повернул головы, а два бывших парламентера смотрели на художника, затаив тревогу. В отличие от капитана Брентлея мистер Джордж Бингль не имел при себе даже скромного узелочка. Вид у него бы убитый. Он остановился у двери, подождал, пока снаружи отгремят запираемые засовы, а затем, вероятно по старой арестантской привычке, сел прямо на пол, ибо мебели в каземате не имелось. Обхватив руками голову, он замер в позе человека, сраженного последним ударом судьбы. Когда затихли шаги Хирлемса в коридоре, Алонзо сделал синьору Маттео некий тайный знак глазами. Однако Маттео отрицательно покачал головой и произнес шепотом: – За нами, может быть, наблюдают. Мне не следует подходить к нему. Поговори с ним ты, Чарли. Дон Алонзо, откликавшийся и на более обыденное имя Чарли, положил руку на плечо сидящему. – Видно, и к вам фортуна повернулась спиной, синьор живописец? – спросил он громко. – Перебирайтесь-ка в наш жилой угол. Там найдется место на соломенном тюфяке. Он называется у нас ковром-самолетом… Здесь дует от двери! – добавил он многозначительно. Понурый мистер Бингль перешел в угол, на «ковер-самолет». Синьор Маттео следил за каждым его движением на редкость сердобольными взглядами, с трудом маскируя свои смятенные чувства. Дон Алонзо шепотом заговорил с художником: – Что случилось? За что вас сюда? Почему без вещей? Чужих ушей можете не опасаться: наш шепот им не слышен… – Меня неожиданно вызвал прокурор канцлерского суда… – Значит, арестовал вас господин прокурор? – удивленно протянул дон Алонзо. – Да, это сделал именно мистер Голенштедт. Сначала он показал мне портрет брата, спросил, знаю ли я этого человека, а затем велел арестовать меня. Нас всех повезут в Лондон. Прокурор велел готовить тюремный возок уже к завтрашнему вечеру. Дон Алонзо многозначительно переглянулся с синьором Маттео, а потом заслонил художника от дверного оконца: пользуясь спиной Алонзо как прикрытием от враждебных взглядов, оба брата Томми и Джордж, так неожиданно брошенные прихотливой судьбой в один тюремный каземат, торопливо расцеловались после шестнадцатилетней разлуки… Но обменяться словами привета, хотя бы короткими и бессвязными, им не пришлось. Лязгнул замок, оба мгновенно отвернулись друг от друга… В камеру вошел надзиратель Хирлемс. Его испитая физиономия была чуть менее угрюмой, чем обычно. Плащом он прикрывал какой-то сверток. Надзиратель подозвал синьора Алонзо, приложил палец к губам и опасливо оглянулся на дверной «глазок»: – Монах из католической часовенки посылает вам, господа, свое пастырское благословение. Он хоть и папист, как и вы, а человек добрый. Уж как он меня за вас упрашивал!.. Надзиратель протянул молодому человеку сверток. Внутри узелка что-то булькнуло. Хирлемс скривил свою физиономию, что долженствовало означать улыбку. – Только не подведите меня, господа. Если комиссия что-нибудь пронюхает… Упаси бог! Ну, да уж я надеюсь на своих арестантов. Так и быть, празднуйте Рождество, раз нашелся добрый человек… Виселица виселицей, а праздник праздником. Непривычно ласковый тон Хирлемса очень удивил узников. Дон Алонзо нащупал в свертке бутылку, ухватил ее и вытянул горлышко наружу. – Я ничего не вижу, господа, ничего не замечаю, – заволновался надзиратель, – но смотрите, чтобы никто не затевал шума и песен… Хм! Что бы там могло быть, в этом сосуде? – Не желаете ли вы, мистер Хирлемс, отведать, каково на вкус пастырское благословение? Хирлемс крякнул довольно неопределенно. Угадать сорт напитка по цвету было трудно, и лицо надзирателя приняло выражение мученика науки, готового к самоотверженному эксперименту. Алонзо вытащил пробку. Хирлемс подставил кружку под довольно густую струю и произвел дегустацию*["120]. – Кажется, ром с джином, – произнес дегустатор в раздумье и, чтобы окончательно рассеять сомнения, допил кружку до дна. – Это строго-настрого запрещено в тюрьме, господа. – Считайте, что это легкий портер, Хирлемс, и сделайте еще глоток. Мистер Хирлемс повторил пробу в удвоенной дозе и вытер губы рукавом. – Только в «Чреве кита» можно выпить хорошего рому, – заметил он убежденно. – Этот ром хорош, значит, взят он у мистера Линса. Доказав этим силлогизмом*["121] свою способность к глубоким философским умозаключениям, Хирлемс повернулся к двери и вышел из каземата. Не успели его шаги стихнуть в конце подземного коридора, как синьор Алонзо взялся за предметы, извлеченные из свертка. Узники избрали для первой трапезы плоский хлебец, несколько яблок и остаток напитка. «Ковер-самолет» превратился в «скатерть-самобранку». Алонзо разломил хлебец и… извлек из него две маленькие пилы, бутылочку жидкого масла и записку, сложенную вчетверо. Печатными буквами было написано следующее:«Сегодня к полуночи распилите решетку. После полуночной смены караулов выбирайтесь из каземата. Часовых на стене уберем и бросим вам веревочную лестницу. Верховые лошади будут за рвом.Записка быстро обошла всех трех узников и была уничтожена. Только Брентлей остался в неведении об отважном замысле тайных друзей. Лица пленников с корабля озарились радостной надеждой, но мистер Бингль, напротив, помрачнел и потупился. Он сделал знак брату и дону Алонзо. Те вытянулись на тюфяке рядом с Джорджем и, защитив лица одеялом, выслушали соображения Джорджа Бингля. Молодые люди узнали, что духовное лицо, приславшее «пастырское благословение», поддерживает довольно близкие отношения с владельцем поместья Ченсфильд… Оказалось также, что, по странной случайности, не кто иной, как именно надзиратель Хирлемс, некогда привел Шарля Леглуа к узнику четырнадцатой камеры… А хлебец, содержавший записку «друзей», не был ни надрезан, ни проколот для проверки…Друзья».
* * *
…Был пятый час дня, когда члены лондонской комиссии добрались, уже под конец инспекторского обхода, до углового каземата. В полутемном подземелье замерцал огонь свечей. Каземат наполнился мантиями, париками, мундирами и лентами. Позади блестящей свиты прятался надзиратель Хирлемс. Он вытягивал свою шею из-за перьев и эполет, чтобы не упустить замечаний прокурора, но при этом старательно прикрывал рукою рот и сдерживал дыхание, ибо оно испускало в атмосферу подозрительные пары.Прокурор молча осмотрел каземат и, уже собираясь уходить, задал скучающим тоном казенный вопрос: – Есть ли жалобы на тюремную администрацию? – Сэр, нас содержат в невыносимых условиях. Разрешите подать вам лично письменную жалобу. Брови прокурора удивленно поднялись, а затем недовольно сдвинулись. У майора Древверса задергалась щека. Он с наслаждением задушил бы собственными руками узников углового каземата. Жаловаться? Ну погодите, голубчики!.. – Господин де Кресси, – кислым тоном процедил прокурор, – прошу вас, примите от арестанта его жалобу. Мы возвращаемся в канцелярию. Кавалер де Кресси остался в каземате. Он велел Хирлемсу принести принадлежности для письма. Два конвоира стали за дверью… Хирлемс, тяжело дыша, протянул офицеру бумагу, перо и чернила. При этом обоняние офицера уловило винные пары. – Да вы пьяны, любезный? Хирлемс споткнулся, и офицер должен был встряхнуть его за шиворот. В довершение бед, арестанты каземата повели себя нагло и предъявили в своей жалобе незаконные и неумеренные претензии. Через четверть часа в крепости бушевал шторм. В угловом каземате, а также в опустевшем жилище Джорджа Бингля были произведены строгие обыски. У арестованных оказалась бутылка со свежими следами крепкого спиртного напитка и нашлись две пилки, что явно свидетельствовало о попытке к бегству. Надзиратель Хирлемс получил двадцать суток гауптвахты. Сэр Голенштедт наложил взыскание на майора Древверса. – Вы распустили арестантов, вы отучили их от почтительности, Древверс! – гневно кричал милорд прокурор. – Они собирались бежать, и на воле у них есть сообщники! Приказываю вам немедленно посадить этих наглецов в карцер, приковать их к стенным кольцам, не спускать с них глаз! Вы ответите перед законом за малейшее послабление тюремного режима!
В гостиной на Сент-Джекоб-стрит лорда-адмирала уже ожидали. Вудро Крейг мешал угли в камине, Джеффри Мак-Райль полировал ногти замшевой подушечкой, Джозеф Лорн расхаживал по комнате. Накрытый столик перед камином напоминал артиллерийскую батарею крупных калибров. Ассортимент отличался простотою и был рассчитан на чисто морской вкус. Мерилом для подбора служила главным образом крепость напитков. Граф Ченсфильд, эрл Бультонский, вошел стремительно. Не здороваясь с джентльменами, он сразу проследовал к столику, загородил его и свирепо оглядел присутствующих. – Ни глотка, пока не услышу разумного слова! Кстати, к вашему сведению: прокурор велел арестовать Бингля. – Вот те на! За что? – Пока неизвестно. Попробуем выяснить через Хирлемса. Вудро Крейг беспокойно заерзал на стуле. – Нет, Джакомо, причина ареста, пожалуй, и без Хирлемса понятна. Прокурор молодец! Недаром образина этого Маттео Вельмонтеса сразу бросилась мне в глаза… Я разгадал его. Знаешь, кто он таков, этот Маттео? – Не загадывай загадок. Кто же он? Англичанин? – Американец? – Достопочтенный гражданин бультонских мостовых, родом с чердаков Чарджент-стрит. Это мистер Томас Бингль, родной брат художника Джорджа. Помнишь рассказ о мальчишке с обезьяной? – Матерь божия! Кто же его узнал? – Уильям Линс. Как только глянул на портрет, так и узнал паренька из Голубой долины. – Значит, это стало известно и прокурору. Дело запутывается. Комиссия, похоже, пронюхала немало… Лорн, ты беседовал с ними? – Нет еще. Но советую тебе, Джакомо: перенеси-ка все наличное золотишко на борт моего «Адмирала» и держи наготове шлюпку! – Не вешайте нос, старики! Унывать рано. Алонзо еще не распознан? – Нет. Вероятно, это действительно испанец. – Послушайте, нет ли у него в самом деле сходства с Бернардито? Не может ли он оказаться самим Диего Луисом? – Чепуха, Джакомо. С Бернардито у него нет ничего общего. Уж скорее он похож на тебя. – На меня? Эх, Джузеппе, после гибели Чарли на меня в целом мире походить некому… Лорд-адмирал подошел к столу, смешал в стакане несколько напитков и выпил одним глотком. – Нынче предстоит работа. Членам комиссии я послал приглашение в Ченсфильд. Я задержу их там до утра. Джузеппе, побег пленников придется устраивать тебе. – А вы, ваше лордство, будете в это время угощаться с джентльменами шампанским и устрицами? Это приятнее, чем лазить по крепостным стенам и резать часовых… Граф Ченсфильд хватил кулаком по столу так, что одна из бутылок упала и все рюмки жалобно зазвенели. Лорн, ссутулясь, медленно подошел к столу, оперся на него обеими руками и, глядя прямо в злые глаза лорда-адмирала, проговорил негромко и решительно: – Не дури! После твоего островка меня трудно напугать кулаками и стуком. Нечего строить из себя милорда перед нами. Маши руками под носом прокурора Голенштедта! Его можешь взять за пуговицу или хоть за горло и вытрясти из него хлипкую юридическую душу. А старых друзей береги, Джакомо! Залетел ты высоко, но без нас тебе крышка, друг! Мы-то не много потеряем, коли придется переходить на новую «Черную стрелу», а вот ты, Джакомо… Тебе падать побольнее! – Хватит, Джузеппе! Давайте потолкуем о деле. Лорд-адмирал принял миролюбивый тон, но в глубине его расширенных зрачков тлела плохо скрытая злоба. Вудро и Джеффри Мак-Райль притихли. Четыре бультонских джентльмена уселись за столиком. Напитки убывали быстро. Со двора донесся звук подков, и камердинер Мерч в сапогах и плаще вошел в гостиную. За ним следовал Уильям Линс, владелец таверны «Чрево кита». Камердинер вручил лорду-адмиралу записку от патера Бенедикта. Граф пробежал ее и бросил в камин. – Мерч, ты видел милорда Голенштедта? Каков ответ? – Велено сказать вашей милости, что джентльмены изволили отклонить ваше любезное приглашение в Ченсфильд. Но милорд прокурор благоволил просить вашу милость нынче самолично пожаловать в гостиницу к девяти часам вечера. А часом раньше, к восьми, милорд прокурор приглашает к себе мистера Вудро Крейга. – Хорошо, можешь идти, Мерч. Граф Ченсфильд подождал, пока дверь за камердинером захлопнется. – Ну, Линс, выкладывайте новости. – Дела обстоят неважно, милорд. В крепости целая буря. Нашли пилки. Хирлемс взят под стражу. Пленников перевели в строгий карцер. Завтра всех повезут в лондонский Ньюгейт. Бультонский конвой должен сопровождать карету до Шрусбери. Оттуда карета пойдет под конвоем тамошних солдат. Сведения эти я только что получил от Древверса. Джентльмены отправятся завтрашним дилижансом… Они желали видеть в гостинице вас и мистера Крейга. – Знаю, благодарю вас. Поезжайте к себе. Уильям Линс откланялся по-военному и удалился. Граф Ченсфильд отставил стакан. – Да, план с побегом провалился. Просчет! Но, каррамба, мы еще подеремся! Черт его знает, что разнюхано комиссией и чего она еще не успела раскрыть. Так вот, Вудро, поезжай к ним сперва ты. А ты, Лорн, держись наготове. В девять поеду к ним я. Если там устроена ловушка и меня сцапают, тогда поднимай с Джеффри весь экипаж «Адмирала», выдайте ребятам побольше вина и штурмуйте бультонскую тюрьму. Когда выручите меня, удавим тех четверых – Брентлея, обоих Бинглей и Алонзо, – а потом поскорее все на борт! И держись тогда, добрый старый Бультон, держитесь купеческие кораблики нашего любезного короля! – Ишь развоевался, герой! – проворчал Лорн. – Может, незачем и в гостиницу ездить? Прямо на борт «Адмирала» – и фьюить? – Ну нет, будем держаться до последнего! Сейчас половина восьмого… Вудро, тебе пора к лондонским джентльменам… Кстати, Джузеппе, судно-то у тебя в порядке? – Судно в порядке, припасов хватит. – Хорошо! Держитесь, старики! Наша звезда еще не закатилась. В добрый час, Вудро!
В большом зале «Белого медведя» было оживленнее, чем в обычные предпраздничные дни. В этот вечер многие почтенные бультонцы явились в гостиницу, чтобы поглазеть на королевских чиновников из лондонской комиссии. В течение дня комиссия успела развить кипучую деятельность. Посещение тюрьмы ознаменовалось многими событиями, вроде приказа об освобождении всех крестьян-браконьеров, двух старух, незаконно торговавших печеным картофелем, многих бродяг и мальчишек, осужденных за нищенство; лишь пиратских главарей джентльмены приказали перевести на особенно строгий режим. Однако, к разочарованию любопытных, лондонские жрецы Немезиды*["122] не дали лицезреть себя в общем зале. Вскоре посетители увидели в вестибюле лишь скромную, хорошо знакомую фигуру мистера Вудро Крейга, самого владельца гостиницы, который, поклонившись гостям, проковылял на второй этаж. Получив разрешение войти в номер, мистер Крейг предстал перед милордом прокурором. Сначала мистер Голенштедт позволил эсквайру Крейгу вдоволь налюбоваться буклями своего пышного парика, ибо прокурор в течение целых десяти минут не отрываясь писал что-то на листах бумаги, в то время как мистер Крейг тихонько откашливался, поскрипывал костылями и потирал переносицу. Выдержав указанную паузу, прокурор пронзил мистера Крейга взглядом, острым, как дротик. Наконец, вглядевшись в оробевшего содержателя «Белого медведя» и узнав его, прокурор сделал более приветливое лицо. – Мистер Вудро Крейг, не так ли? – Да, сэр! Вам угодно было вызвать меня, ваше лордство? – Сущий пустяк, мистер Крейг, ничтожная безделица, но мне хотелось бы уточнить ее. Вот эта масляная копия с какой-то миниатюры… Она обнаружена при обыске на квартире Бингля. Вам известно происхождение этой копии или ее оригинала? – Я впервые вижу эту картину, ваше лордство. – Значит, мистер Кремпфлоу, ваш компаньон без вашего ведома заказал ее Бинглю? Последний утверждает, что это заказ вашего бюро, мистер Крейг. – Мне ничего не известно об этом заказе, милорд. – Что ж, значит и вы не смогли помочь мне распознать особу, изображенную на этой картинке… Очень жаль! Больше я вас не задерживаю, Крейг! Вы свободны. Вудро вышел из гостиницы, слегка пошатываясь. С масляной копии, чудесно выполненной Бинглем, на него только что глядела… синьора Молла, мать Джакомо Грелли… …По прошествии получаса мистер Лорн уже находился на борту фрегата «Адмирал». Сам владелец этого корабля сжег некоторые бумаги, которые хранились в особняке на Сент-Джекоб-стрит, и освидетельствовал содержимое своего бумажника. Лишь после этих приготовлений он сел в карету и приказал везти себя в гостиницу «Белый медведь». Граф Ченсфильд был сразу же приглашен в личные апартаменты милорда прокурора. Оба лондонских джентльмена – мистеры Голенштедт и Бленнерд – выразили глубокое сожаление, что оказались вынужденными потревожить столь высокую особу во время рождественских каникул. Затем мистер Голенштедт открыл большую папку, извлек из нее связку документов и попросил сэра Фредрика Райленда несколько утрудить память. С приветливой улыбкой прокурор сказал: – Я прошу вас припомнить, не приходилось ли вам когда-либо слыхивать такие имена: Леопард Грелли, Джузеппе Лорано, Черный Вудро, Лисица Мак? Эрл Бультонский удивился этим странным фамилиям и не припомнил ни одной из них. Тогда чиновник из адмиралтейства тоже сверился со своими записями и любезно спросил, не припоминает ли граф некоего капитана Бернса, экс-капитана Шарля Леглуа и синьора Джиованни Каррачиолу. Мистер Райленд смутно припомнил некоторые из этих имен и доставил этим, по-видимому, большое удовольствие обоим джентльменам. Засим они учтиво высказали свое огорчение, что служебные обстоятельства помешали им побывать в Ченсфильде, и пожелали его владельцу приятного времяпрепровождения на праздники. Самым последним посетителем прокурорской канцелярии оказался редактор и издатель оппозиционного «Бультонс адвертайзера» мистер Руби Розиниус. Это издание из года в год увеличивало свой тираж и приобрело солидный вес. – У меня к вам отнюдь не деловая просьба, – сказал редактору мистер Голенштедт, и лицо прокурора озарилось милой улыбкой. – Я даже в Лондоне изыскиваю время, чтобы читать ваш журнал, и нахожу прелестными ваши воскресные приложения для детей. – Я очень польщен, сударь, – пролепетал редактор. – Видите ли, я и сам в минуты отдыха пишу сказки для детей и рассказываю их моим собственным малюткам. Мистер Шеридан*["123], соединяющий государственный ум с талантом драматурга, не раз советовал мне отдать сказки в печать, и я хотел бы увидеть их в вашем воскресном приложении. – Вы оказали бы мне этим большую честь, милорд. – В таком случае не угодно ли вам прочесть вот эту сказочку? Редактор прочел короткую сказку, нашел ее высокохудожественной, глубоконравственной, захватывающей и поучительной. Он обещал напечатать ее в рождественском выпуске детского приложения к своему журналу и удалился, чрезвычайно польщенный и успокоенный. Отпустив редактора, лондонский джентльмен приказал закончить прием.
4
Глубокой ночью, перед наступлением рассвета 23 декабря, по дороге в Бультон шагали два молодых крестьянина. Их башмаки стоптались, заплечные мешки наполовину опустели – было видно, что пешеходы держат путь издалека. Рассвет чуть-чуть брезжил, когда путники добрались до глухого леса на землях поместья Уольвсвуд. Здесь дорога спускалась в большой овраг. Лента королевского тракта тянулась между лесными зарослями, словно между двумя рядами зубчатых крепостных стен. На дне лощины через мелкую речонку был пере кинут горбатый каменный мостик. По преданию, именно здесь произошло в старину убийство лукавого епископа из Ковентри. Знаменитый разбойник Дик Терпин подстерег епископа на этом мосту, и с тех пор не только самый мостик, но и весь участок дороги, а также прилегающие к оврагу лесные угодья носили название Терпин-Бридж. Переходя дугу мостика, где только-только могли разъехаться две почтовые кареты, пешеходы заметили человека, притаившегося под мостом. Поодаль от дороги валялись кирки и лопаты. В кустах на дне оврага, в стороне от моста, стояла подвода, груженная небольшими бочонками. Путники поднялись на противоположную сторону лощины. На маленькой почтовой станции у поместья Ченсфильд крестьяне вошли в трактир «Веселый бульдог», заказали себе по кружке пива и по куску жареной баранины с луком. После завтрака они закурили трубки и просидели за столиком больше двух часов, пока не дождались своего третьего спутника, по-видимому где-то отставшего. Это был полунищий старик с седыми усами и растрепанной бородой. Он опирался на грубую черную палку и тяжело переводил дух. Подгоняемый нетерпеливыми младшими спутниками, старик наскоро перекусил, пожелал трактирщику веселых праздников и устало поплелся дальше, позади своих грубоватых товарищей. Вскоре путники добрались до прибрежных скал, окаймляющих бухту. По крутому, извилистому спуску они подошли к строению купальни. Около бревенчатой стенки стояла наготове шлюпка, а в углублении между двумя скалами виднелись мачты небольшого корабля со спущенными парусами. Из узенькой трубы над камбузом шел дымок: корабельный кок готовил обед для команды. Хотя в облике трех пешеходов не было ничего даже отдаленно напоминающего рыбаков или матросов, они весьма уверенно сбежали на обледенелый причал, уселись в шлюпку и налегли на весла с такой сноровкой, какая редко встречается у английских овцеводов или свинопасов. Шлюпка подошла к маленькому носовому трапу, свисавшему на железных цепях. От нетерпеливо грубого обращения обоих молодых крестьян с их старшим спутником не осталось и следа. Они держали шлюпку у трапа, пока старик поднимался на палубу. Рослый негр заторопился навстречу, распахнул перед стариком дверь капитанской каюты и стал освобождать гостя от верхней одежды. В матросском кубрике переодевались и оба молодых крестьянина. Они сбросили шапки, куртки и башмаки и приняли вид заправских матросов. По прошествии получаса шлюпка вновь пошла в сторону купальни; с борта корабля отправился на берег молодой чиновник, одетый довольно щеголевато, с претензиями на моду. Он спрятал весла в купальне и почти бегом пустился по бультонской дороге. Попутный экипаж довез его до рыбачьего предместья Бультона; здесь чиновник взял кеб и, постукивая озябшими ногами в деревянную стенку экипажа, покатил в гостиницу «Белый медведь». Когда прокурору доложили о прибытии посетителя, последовал приказ сейчас же привести чиновника в кабинет.* * *
Узники углового каземата провели весьма неприятные сутки. Безжалостный прокурор велел держать их в карцере, приставить к ним караульного и приковать цепями к массивным стенным кольцам. На следующий день, уже перед наступлением сумерек, железная дверь распахнулась. Шестеро солдат, тюремный кузнец и сам майор Древверс вошли в карцер. Начальник тюрьмы был в теплом дорожном плаще поверх мундира. Затем перед узниками предстал строгий кавалер де Кресси. Он заговорил с пленниками внушительно и сурово: – Приготовьтесь к следованию в другую тюрьму. Предупреждаю, что при малейшей попытке к бегству вы будете застрелены на месте. Через час четырех пленников, с трудом передвигавших скованные ноги, вывели во двор. Им подставили железную подножку и помогли одному за другим влезть в окованный железом кузов тюремной кареты. В упряжке тяжелого экипажа стояли четыре сильные бельгийские лошади. Возок сопровождали шестеро конных конвоиров из крепостного гарнизона. Кавалер де Кресси сам проверил, надежны ли запоры кареты, и дал знак трогаться. Ворота распахнулись. Майор Древверс верхом на тощем клеппере выехал впереди кортежа. Де Кресси держался в арьергарде. Возок и кавалькада, миновав городской центр, выехали на загородный тракт. Здесь их ожидали в дилижансе все члены королевской комиссии, возвращавшиеся в Лондон, а также бультонский мэр Хью Бетлер и комендант гарнизона полковник Бартольд. Милорд прокурор, заметив приближение кортежа, высунулся из окна кареты, чтобы лично убедиться в надежности возка и конвоя. Затем он откинулся на подушку сиденья, колеса и копыта загремели, за окнами дилижанса неторопливо потянулись заснеженные дворики пригородных ферм. Так как на свете нет ничего скучнее долгой зимней езды по казенной надобности, да еще в ночное время и перед самым сочельником, голова мистера Голенштедта стала клониться вперед. Мистер Хью Бетлер почел нужным вывести высокого коллегу из состояния путевой дремоты и раскрыл дорожный сундучок. В руках у джентльменов появились стаканчики с гравированными на них силуэтами соборных башен Бультона. Несмотря на толчки экипажа, стаканчики были благополучно наполнены. Напиток оказался грогом, еще не успевшим остыть. Милорд Голенштедт предложил тост за бультонское гостеприимство. Таким образом, первые мили пути джентльмены провели в скромных дорожных удовольствиях. После шестого тоста королевский прокурор опустил оконце и подозвал кавалера де Кресси. – Не забудьте предупредить меня, когда мы приблизимся к ченсфильдской роще. Любезнейший, – обратился прокурор к маститому кучеру дилижанса, – там, на повороте шоссе около рощи, сделайте небольшую остановку. Луна уже взошла, когда из чащи уольвсвудского леса около Терпин-Бриджа выбрались на шоссе четыре человека. Трое без труда преодолели придорожную канаву, четвертый застрял в куче снега и вылез из канавы последним, кряхтя и бранясь. В руках у всех ночных джентльменов поблескивали ружья, лица были скрыты полумасками. Меховые плащи, низкие шляпы и сапоги с большими отворотами выглядели внушительно. Четыре лошади остались привязанными в чаще. Самый высокий из джентльменов осмотрелся по сторонам. – Не маячьте на дороге, старики. Пора становиться по местам. Если карета задержится у «Веселого бульдога», нам придется померзнуть лишний часик. Если же они проследуют без остановки, то вскоре мы их увидим. Полезай за свой куст, Вудро… Осторожнее с проволокой к мине, старый черт!.. Важно, чтобы захватить взрывом обе кареты сразу. Полтонны лучшего артиллерийского пороха – это даст хороший щелчок господам юристам. Джузеппе, ты занимай свое место на шоссе, впереди моста, на случай, если одна из карет проскочит мост. Бомбу бросай прямо внутрь кареты или под передние колеса. Я с Лисицей Маком отрежу отступление, если вторую карету или конвой не удастся взорвать вместе с мостом. Мак, ты бросишь тогда бомбу, а я перестреляю уцелевших. – Ни дать ни взять настоящий Гай Фокс! – пробормотал Джозеф Лорн. – Как бы не пришлось бультонцам таскать наши чучела на соборную площадь… Ты, Джакомо, зря не перевел «Адмирала» в бухту Старого Короля. – Чтобы каждый осел догадался, кем устроено дело на Терпин-Бридже? Нечего торопиться с бегством. Корабль наготове, отдать концы никогда не поздно, а нынешним ударом мы еще можем спасти многое. Я верю в свою звезду! Время уже за полночь; вон он стоит над лесом, мой Орион… Старики, сейчас будет славная потеха. – Я не прочь немного подкинуть в воздух этих джентльменов вместе с их мантиями и париками, но игра наша, кажется, проиграна, хозяин, – подал голос Вудро. Он уже возился под мостом. – Эти крысы добрались до всего, понимаете, до всего! Вчера на допросе душа могла уйти в пятки, не будь они у меня деревянными… Откуда взялся портрет синьоры Франчески, хотел бы я знать! – Миниатюру, с которой сделана копия, я помню с детства. Но этой эмали не было среди вещей моей матери. Вероятно, миниатюра была у матери украдена или же осталась в доме синьора Паоло д’Эльяно. – Оказывается, Алекс Кремпфлоу заказал Бинглю копию с этой эмали. – Значит, миниатюра побывала у Алекса? Может быть, он предатель, твой Алекс Кремпфлоу? А, Вудро? – Ну нет, хозяин, за него я ручаюсь головой. Нас он предать не может, он связан. Если миниатюра и была у него, он просто не знал, чье это изображение… Только странно, уехал-то он как раз в Италию. – Кремпфлоу дурак, – вмешался Лорн, – но с нами он честен. Еще на корабле он говорил мне, что едет в Италию на розыски сына какой-то синьоры… Уж не тебя ли он там разыскивает, Джакомо?.. Впрочем, сейчас об этом толковать поздно! Ясно одно – картинка уже попала в руки прокурора и, вероятно, он не хуже нас знает, кто на ней нарисован. Вудро прав: игра проиграна. Вчера был шах, завтра ожидай мата! – Не каркай, ворон! Еще рано сдавать партию, – сказал лорд-адмирал и скрипнул зубами. – Все, что прокурор нащупал, он может знать только от пленников. Если мы одним ударом раздавим и комиссию и арестантов, все концы опять уйдут в воду. Лишь бы кто-нибудь из комиссии не застрял в Бультоне! Тогда у нас действительно останется только… «Адмирал». За этот взрыв они послали бы на виселицу самого принца Уэльского! – Тише! – прошипел Лорн. – Топот! Едут из Бультона… Стояла тихая, чуть морозная ночь. Гром железных шин по мостовой слышался отчетливо, хотя экипажи были еще за целую милю от Терпин-Бриджа. Четыре ночных джентльмена исчезли с дороги, будто их сдуло ветром. Они затаились на своих постах, и лесной дом Терпин-Бридж с горбатым каменным мостиком в овраге вновь обрела пустынный и безлюдный вид. Вот на дороге показались всадники и кареты… Кучера обеих упряжек перевели лошадей на шаг и начали неторопливо съезжать к мостику. Спуск был пологим и не особенно скользким. – Милорд Голенштедт предостерегал против этого места, – сказал передний всадник своему соседу. Голос принадлежал коменданту бультонской тюрьмы майору Древверсу. Колеса кареты уже погромыхивали по мосту. Кучер причмокнул и дернул вожжами. Лошади, миновав мостовой настил, ступили на землю. Задний возок въехал на мостик… Внезапно мост, лес, земля вокруг и даже само звездное небо словно раскололись надвое от громового раската. На полмили кругом озарились лесные кроны с галочьими гнездами и снежными подушками на ветвях. Выше деревьев леса вымахнула со дна оврага пышная огненная роза, будто извергнутая кратером вулкана. Черно-серая туча едкого дыма, клубясь, заполнила весь овраг. Клочковатые облака этой тучи замутили бледное зимнее небо, заволокли деревья, звезды,дорогу… Когда свет луны и звезд пробился сквозь дымную мглу, на обоих откосах дороги возникли три крадущиеся человеческие фигуры. Они осторожно подобрались к месту катастрофы. Там, где пять минут назад двигались по мосту всадники и кареты, теперь громоздились груды развороченных камней и осыпи щебня. Пыль и прах далеко кругом загрязнили снег. Одна лошадь билась на дороге, и человек без шляпы лежал ничком в придорожной канаве. Лорд Ченсфильд – Леопард Грелли – повернул за волосы голову убитого и узнал майора Древверса. – Все ли целы, волки? – Голос Грелли звучал хрипло. – Где Вудро? Он славно сделал свое дело. Эй, Черный! Но Черный Вудро, пиратский боцман, не отозвался. Проволока к мине оказалась коротка: обломок камня размозжил череп владельцу гостиницы «Белый медведь». Три уцелевших друга вытащили его тело на дорогу, Грелли вздохнул: – Старику чертовски не повезло! Он стал короче на целую голову! С этой краткой эпитафией Вудро Крейг остался лежать на снегу. Три хищника подошли к развалинам моста, где постепенно разгорался маленький пожар. Горели остатки дилижанса, развороченного вдребезги. Тела кучера и кондуктора валялись впереди мертвых лошадей. Рядом лежал наполовину засыпанный щебнем начальник конвоя. Два истерзанных тела были зажаты между погнутыми железными перекладинами кузовной рамы дилижанса. Грелли осмотрел их и не без труда узнал по мундиру коменданта гарнизона полковника Бартольда, а по знакомому меховому плащу – городского мэра. Других тел среди обломков дилижанса не было. Грелли, хромая, спустился на самое дно оврага, где, перевернутый на бок, лежал тюремный возок. Упряжных лошадей разорвало на куски, но сам кузов, обшитый железом, не рассыпался. Он лежал на боку, без рессор и колес, придавив двух солдат-конвоиров. Задняя дверца вылетела; в тесной кабине лежали друг на друге тела двух стражников. Джеффри Мак-Райль вскрыл ломом вторую, внутреннюю, дверь и осветил горящей головней арестантскую камеру возка. Она была… совершенно пустой! – Что за черт? – услышал Грелли картавый говор Мак-Райля. – Где же узники? Джозеф Лорн, стоявший рядом, сорвал с себя полумаску и захохотал со злобной издевкой: – Ну, Леопард, кажется, нас порядком обошли на гандикапе! Поздравляю, ваше лордство! Вам дьявольски помогает ваш Орион! Грелли еще держал в руках заряженные пистолеты. Охваченный слепой яростью, он вскинул руку и, не целясь, выстрелил Лорну в лицо. Без единого стона Джузеппе Лорано рухнул под ноги Леопарду Грелли. Лисица Мак бросил головню. Он схватился за пистолет, но расчет Грелли был мгновенен: там, где погибли два соучастника, уже не стоило оставлять третьего!.. Джеффри не успел вскинуть оружие, Грелли выстрелил раньше… Отдышавшись, Грелли постоял на дороге и прислушался. Кругом была тишина, только огонь потрескивал на обломках. Весь овраг был теперь залит зеленоватым лунным сиянием. Что-то бесшумное, черное мелькнуло на снегу… Убийца вздрогнул и пробормотал проклятие: его испугало… движение собственной тени! – Волки, – бормотал он, нагибаясь над телами Лорна и Мака, – эх, волки! Леопарду стало тесно на одной дорожке с вами. Но, черт побери, вы можете сослужить мне еще и посмертную службу! Пусть ваша гибель окончательно запутает все следы. Если при взрыве погибли ближайшие друзья милорда Ченсфильда, значит, он сам безгрешен в этом деле, как овечка! Пожалуй, теперь лучше повременить с бегством на «Адмирале»: команда фрегата велика и не слишком надежна; едва ли удастся мне одному, без Джузеппе и Вудро, взять весь экипаж в железную узду! А на самый крайний случай у меня остается… ченсфильдское подземелье! Тридцать бочек отборного пороху… Уж коли наступит и мой черед выходить из игры, я уйду, громко хлопнув дверью, каррамба! Рассуждая вполголоса с самим собою, Леопард Грелли выбрался из развалин в чащу, перезарядил оба пистолета, подтянул отпущенную подпругу своего коня и вывел его на тракт. Не оборачиваясь назад, он поскакал в сторону Ченсфильда. Он летел карьером, точно фурии нахлестывали сзади его коня. Лишь достигнув пределов собственного владения, всадник перевел коня на рысь. Миновав ферму одного из арендаторов, Грелли подъехал к боковой калитке мортоновской усадьбы. С большой осторожностью он повел коня в конюшню, тихо отодвинул щеколду и поставил лошадь в пустующее стойло. Через минуту он уже чуть слышно стучался в окошко старого Томаса Мортона. Старик выглянул в окно и увидел в свете заходящей луны темную фигуру сэра Фредрика в плаще и шляпе. Мистер Мортон надел туфли и халат и со свечой в руке пошел навстречу гостю. По ступенькам задней лестницы, хромая, поднимался владелец Ченсфильда. Вид его был таков, что старик в ужасе выпустил ручку двери и отшатнулся назад. – Мортон, – услышал он хриплый голос, – помогите мне раздеться и дайте надеть что-нибудь домашнее. Приготовьте воды, мне надо умыться. Я нахожусь у вас со вчерашнего вечера, вы поняли меня, Мортон? Ни вы, ни я с вечера не выходили из вашей комнаты. Найдите какого-нибудь расторопного слугу, который все время видел нас вместе, вот здесь, в этом самом кабинете!.. Поторопитесь, надо затопить камин, чтобы сжечь всю мою одежду.5
Северный ветер напрягал паруса небольшого судна. Пенная дорожка тянулась за кормой от бухты Старого Короля. Позади громоздились береговые утесы с пятнами снега в ложбинах; луна озаряла их зеленоватым светом. Впереди, на островах Ирландского моря, мерцали огни маяков. Со скоростью в восемнадцать узлов судно шло на юг, к открытому океану. На мостике рядом с капитаном стояли, обнявшись, три молодых человека. Колесо штурвала держал четвертый моряк, красивый итальянец с живыми черными глазами. Все эти люди часто оглядывались назад, на очертания безлюдного скалистого берега. Вскоре после полуночи в небе над побережьем полыхнула дальняя зарница. В глубине холмов и лесов, миль за двадцать от корабля, расцвела и мгновенно исчезла огненная роза. Капитан перекрестился, пробормотал что-то вроде: «Суд Божий!» – и приказал поставить все дополнительные паруса. Попутный ветер усиливался, и судно «Толоса» достигло к утру наивысшего хода – двадцати узлов. На рассвете оно миновало Дублин, а в сумерках покинуло воды Соединенного Королевства. Капитан, отстоявший почти бессменно три вахты подряд, оглядел горизонт, где уже не виднелось ни островка, ни паруса, и передал управление кораблем одному из своих трех молодцеватых помощников. Это был смуглый, стройный, молодой человек. Ветер выхватил из-под берета непокорную прядь его волос, и она, будто черная ленточка, билась и трепетала у виска. Лицом и фигурой молодой человек очень походил на самого капитана. Старик сказал ему несколько слов по-испански и сошел с мостика. Когда капитан, сгибаясь под дверной притолокой, вошел в тесную кают-компанию, до отказа набитую людьми, его встретил неистовый гром приветствий, оглушительное «ура» и восторженный свист. – Довольно, довольно, товарищи! – просил капитан, но тишина водворилась далеко не сразу. – Джентльменов из «лондонской комиссии» и узников бультонской тюрьмы прошу ко мне в каюту. Остальным, кто свободен от вахты, отдыхать! В капитанской каюте набралось столько гостей, что размещаться им пришлось не только на письменном столе, но даже под ним. Там расположился веснушчатый «синьор Маттео Вельмонтес» – Томас Бингль. Капитан одной рукой обнял за плечи счастливого Чарльза – «дона Алонзо» – и другой притянул к себе Антони Ченни, только что смененного Диком Милльсом у штурвала «Толосы». Только Диего Луиса не было в каюте – капитанский мостик яхты был сейчас доверен ему. В продолжение последних тревожных недель Диего и Антони провели не одну бессонную ночь на этом мостике! – Капитан Брентлей, – обратился старый моряк к своему потрясенному коллеге и ровеснику, – узнаете ли вы меня, синьор? Или вы еще не успели догадаться, кто сыграл эту небольшую комедию с вашим бывшим патроном Джакомо Грелли? – Сударь, – отвечал Гай Брентлей, – я еще не в силах опомниться. Это слишком похоже на сон. И строить догадки о том, кто вы такой, я не берусь. Согласитесь, синьор, что не часто случается говорить с человеком, чью могилу вы сами забрасывали землей. А кроме того, отличительной чертой знаменитого корсара Бернардито Луиса было отсутствие одного глаза. – Прошу простить мне, синьор Брентлей, не совсем деликатный способ, избранный нами для вашего спасения. Что касается второго глаза, то это произведение негритянского искусства служит мне уже тринадцать лет… Итак, вы действительно видите перед собою Бернардито Луиса, который, с вашего позволения, не только не думал ложиться в землю пятнадцать лет назад, но весьма желал бы избежать этой постели еще и на будущие пятнадцать лет. Старый капитан обратился к другому спасенному: – А вы, мистер Джордж Бингль, не в обиде ли за ночлег в карцере и путешествие в кандалах? – Капитан, по странной случайности имя ваше стояло на клинке, подаренном мне Леопардом Грелли. Я много расспрашивал о вас бывшего трактирщика Вудро Крейга и моряков из его таверны. В тюрьме я не раз вспоминал этот клинок с вашим именем, ибо хотел бы обладать вашей непреклонностью и силой. Только… цели борьбы у нас с вами разные, синьор Бернардито. – Позвольте спросить, какую же цель вы поставили себе в жизни, мистер Бингль? В чем различие, о котором вы говорите? – Синьор, все силы вашего характера были отданы единому помышлению о расплате с многочисленными врагами. Вы платили злом за зло, причиненное вам, но этим лишь множили несчастья в нашем несправедливо устроенном мире. – А вы, мистер Джордж Бингль, разве придумали иной способ, чтобы устранять несправедливости? Не думаете ли вы, что зло, насытясь своими жертвами, свернется, как удав, и уснет? Разве лев, убивающий леопарда, не делает благого дела и для кроликов? – Тогда кролики пойдут в пищу не леопарду, а льву. – Чем же вы хотите помочь кроликам? Неужто вы верите, что леопарда можно сделать постником одними проповедями? – Нет, синьор, я знаю, что против леопарда помогает только добрая пуля. Но люди должны быть людьми, а не леопардами и кроликами. В тюрьме я годами читал сочинения мудрецов. Они учат, как люди должны жить между собой; они показывают путь к Солнцу для обездоленных и страдальцев. Этим путем я мечтаю идти; за это я готов бороться с леопардами, и для этого я хотел бы обладать силой вашего характера, капитан Бернардито. – Благодарю вас, мистер Бингль! Я вижу по глазам Чарльза – нашего «синьора Алонзо», – что ваши помыслы уже успели повлиять и на него… Ну, мой мальчик, дорого мог бы обойтись вам этот ваш самостоятельный рейс на «Трех идальго»! Грелли поймал вас, как пескарей на простую муху! Я думал, что после моей школы вы окажетесь осмотрительнее. Не разгадать такой бесхитростной ловушки!.. Теперь расскажи мне, мой маленький Ли, какие впечатления ты вынес о добром старом Бультоне? – Отец, самое сильное из моих тамошних впечатлений – это синьорина Изабелла Райленд. Капитан Бернардито потупился и сурово сдвинул брови. Томас Бингль – «синьор Маттео Вельмонтес» – в смущении отвернулся. Антони Ченни смотрел на Чарльза с тревогой и состраданием… В каюте сделалось очень тихо. – Чарльз, – заговорил наконец Бернардито, – настал час, чтобы посвятить тебя в важную тайну. Когда я выпускал вас – троих моих любимых сынов, Диего, Томми и тебя, – в море, чтобы подстеречь работорговые суда Джакомо Грелли, то ни я, ни Антони, которого я послал с вами как более зрелого вашего товарища, не могли предполагать, что судьба сведет тебя лицом к лицу с самим владельцем этих судов… Скажи мне, мальчик, довелось ли тебе в эти дни увидеть Джакомо Грелли или говорить с ним? – Мельком я видел его перед дверью нашего каземата. Сперва я взглянул сквозь дверной глазок на Грелли, а потом Грелли, через тот же глазок, разглядывал нас. – И оба вы, глядя друг на друга, не ведали, не подозревали, что в ваших жилах течет одна кровь… Мы, твоя мать и я, долго утаивали истину, но пришла пора раскрыть ее перед тобою, потому что с каждым днем приближается последняя схватка с Леопардом. Знай же, что ты – не мой родной сын. Джакомо Грелли, ненасытный паук, работорговец и кровопийца, – вот кто твой родной отец! На бледном лице Чарльза выразилась такая мука, и голова его так низко склонилась, что старый капитан с отеческой нежностью обнял молодого человека. Бернардито гладил его опущенные плечи и длинные завитки шелковистых кудрей и старался заглянуть в глаза своему питомцу. – Лучше мне было умереть, ничего не зная об этом, – произнес юноша с усилием. – Это хуже, чем быть просто сиротою… Не хочу даже в мыслях называть Леопарда словом отец… Бернардито поцеловал юношу в лоб. Чарльз прижал к сердцу руку старика: – Всю жизнь ты звал меня сыном и воистину был мне отцом. Скажи, позволишь ли ты по-прежнему называть тебя этим именем? – Мальчик, пусть сам Всевышний слышит мои слова. Нет в моем сердце различия между тобою и Диего! Твоя мать стала моей женой. Ты достался мне трехлетним младенцем, скрасил мою старость и не расставался со мною дольше чем на несколько недель. Могу ли я не видеть в тебе родного сына? Капитан отпустил Чарльза и протянул руку Томасу Бинглю: – Не хмурься и ты, мой ревнивый идальго Маттео Вельмонтес! Подойди ко мне, Томми, я обниму тебя! Разве я могу забыть, чем обязан тебе Диего, мой кровный сын? В годы его малолетства ты спасал его жизнь от злодейских рук. Теперь и для нас с Диего и Антони пришел черед спешить на выручку синьору Вельмонтесу!.. Друзья мои, судьба была милостива ко мне: на старости лет она послала мне не одного, а трех сыновей – Диего, Чарли и Томаса, моих благородных «трех идальго»! – Братья! – воскликнул Томас. – Прочь печаль! Мы снова вместе, снова на свободе. И попробуйте-ка представить себе, какое сейчас выражение у Леопарда Грелли! Вымолвив эти слова, Том осекся и в смущении взглянул на Чарльза Райленда. Тот уловил его взгляд, выпрямился и, тряхнув кудрями, сказал решительно и твердо: – Мой отец – вот он, здесь со мной. Леопард, обесчестивший мою мать, остается для меня таким же ненавистным врагом, как и для всех честных людей. Я не намерен опускать шпагу, друзья! – Хорошо сказано, сын! Голос чести должен быть громче голоса крови. Но не забывай этого второго голоса по отношению к твоей сестре Изабелле. Эту гордую, прекрасную синьорину ждут тяжелые испытания, но, теряя отца, она должна обрести любящего, нежного брата. А… нежного рыцаря она как будто уже обрела. Наш кавалер де Кресси что-то слишком часто оглядывается на английские берега! Молодому кавалеру пришлось смутиться и покраснеть. Чарльз порывисто обнял юношу, а капитан Брентлей, глядя на «старшего офицера» комиссии, силился припомнить, чьи же знакомые черты повторены в молодом привлекательном лице кавалера… Он как будто похож на… островитянина Мюррея! Только лицо его еще юношески нежное, лицо человека, не закаленного в упорной жизненной борьбе… Однако размышления Брентлея были прерваны Бернардито Луисом: – Теперь, господа Брентлей и Джордж Бингль, извольте поближе познакомиться с двумя важными джентльменами – милордом королевским прокурором и чиновником при первом лорде адмиралтейства… С этой минуты оба «милорда» слагают с себя свои государственные полномочия, но сам Джакомо Грелли едва ли станет отрицать, что мои ученики сыграли свои роли не хуже, чем это сделали бы актеры театра Друри-Лейн! Итак, разрешите просить вас, мистер Брентлей, более пристально взглянуть на милорда прокурора, в котором даже вы до сих пор не смогли узнать своего старого друга!.. В глубине полутемной каютки поднялся из кресла почтенного вида джентльмен в пышном парике с огромными буклями; щетинистые баки и седые брови придавали ему суровый вид. Под слоем пудры и румян лицо его было малоподвижным. Золотые очки украшали переносицу джентльмена, а на пуговице камзола висел еще и лорнет… Брентлею хорошо запомнился взгляд прокурора в следственной камере через этот лорнет… В данную минуту обладатель золотого лорнета отвесил капитану Брентлею церемонный поклон, а затем стал неторопливо стирать с лица толстый слой пудры и румян, которыми обычно пользовались франтоватые старики… Под пудрой и румянами обнажилась загорелая кожа щек, еще отнюдь не старческих… Вот с лица исчезли очки, баки, седые брови… Сверкнула знакомая улыбка… Отброшен в сторону пышный парик… – Матерь Божия, да это… мистер Эдуард Уэнт! Эдди, мой помощник с «Ориона», начинал у меня мичманом… Вот это встреча!.. Ошеломленный старик еще не успел освободиться из дружеских объятий своего бывшего помощника, как Бернардито Луис подвел к ним и «чиновника адмиралтейства». – Ну, капитан Брентлей, второй деятель нашей «комиссии» вам неизвестен. Это Джемс Кольгрев. Во всем этом предприятии он сперва оказал нам важные услуги как первоклассный гравер и каллиграф, а затем недурно справился с ролью мистера Бленнерда. Шестнадцать лет назад Кольгрев стал матросом капера «Окрыленный», но при захвате мною этого корабля осенью 1779 года бедный парень пережил сильный испуг и, как видите, совсем поседел. Наружность Кольгрева настолько изменилась, что даже Вудро Крейг и Джозеф Лорн, хорошо знавшие прежде Джемса Кольгрева в лицо, ничуть не заподозрили обмана. – Но скажите, синьор Бернардито, каким чудом вы подоспели нам на выручку? – Это чудо называется яхтой «Толоса». Капитан Брентлей, вы узнаете наш корабль? – Он напоминает погибшую яхту «Элли», но как будто тяжелее и с более высокой кормой. – Это и есть яхта «Элли», поднятая с подводной мели и перестроенная наново моряками с «Окрыленного». Мои мальчики дали ей имя «Толоса» – это название моего первого маленького корабля. Команда яхты состоит из остатков прежнего экипажа «Окрыленного», взятого нами в плен в 1779 году. Они сами выразили желание остаться на острове, в нашей маленькой свободной колонии Буэно-Рио. Вам известно, капитан Брентлей, что в течение последних лет наш капер, переделанный из «Окрыленного», изредка тревожил спокойный сон милорда-адмирала. При этом я сам руководил боями, всегда оставаясь в тени. Когда мои мальчики оперились и привыкли к морю, я пустил их в самостоятельный рейс, наказав по-прежнему щадить из всех кораблей Грелли только ваш бриг «Орион». Антони Ченни пошел в этот рейс старшим артиллеристом, а Дик Милльс – штурманом. Чем кончилось это плавание, вам хорошо известно. Отпуская их в море, я сам тоже отправился в путь; с грузом золота, добытого на приисках нашего острова, я ушел в Америку на яхте «Толоса» с целью навестить в Филадельфии моего старого друга Альфреда Мюррея. Голубую долину он покинул. Его постигло горькое разочарование насчет миролюбия и гуманности американских колонистов: в том же 1779 году, когда обманутые индейцы напали на поселок Голубой долины, а потом отпустили с миром своих пленников, убедившись с моей помощью в их невиновности, в индейские земли был послан из Пенсильвании карательный корпус генерала Селливана. Индейские деревни на большой территории были выжжены, посевы кукурузы вытоптаны, яблони вырублены, скот перебит… Тогда погибли тысячи индейцев. Можно сказать, был уничтожен целый народ ирокезов. Все это было проделано столь бесчеловечно, что потрясенный Мюррей не смог остаться в некогда основанном им поселке и переехал с семьей в Филадельфию. Там он приобрел новых друзей, мистера Джефферсона и мистера Франклина, знаменитого ученого. С ними он возобновил некоторые научные занятия, которые начал еще в молодости, живя в Индии. Мистер Мюррей стал членом конгресса, страстным аболиционистом*["124]. Он мог бы еще многое сделать, но силы его сдали – он умер за месяц до моего приезда. Обилие народа, шедшего за его гробом, воочию показало, сколь великую любовь он снискал у простых людей, и сам президент Соединенных Штатов Георг Вашингтон высказал сожаление о смерти такого крупного общественного деятеля. Вот так и вышло, что в Филадельфии я застал только миссис Эмили и ее детей, а также семейство Уэнтов, которое тоже покинуло Голубую долину. После смерти Мюррея мистер Уэнт затосковал по морю, и миссис Мери Уэнт ждет его теперь из плавания: мистер Уэнт намеревался поискать счастья на нашем островном золотом прииске. Но не с одним мистером Уэнтом я вернулся на остров из Филадельфии. Вдова мистера Альфреда Мюррея, леди Эмили, отпустила со мной своего сына Реджинальда. Позвольте представить вам моего старшего офицера «кавалера де Кресси» под его настоящим именем. Мистер Брентлей, перед вами – Реджинальд Мюррей, сын Альфреда Мюррея. Поглядите на этого кавалера, капитан, и вы поверите мне, что бедная миссис Эмили не слишком охотно расставалась с Реджи, отдавая его под опеку старого бродяги Бернардито. Но на этом настоял сам Реджинальд. Он знает историю своего отца и горит желанием вступить в решительную схватку с Леопардом, чтобы смыть позор с прежнего отцовского имени, запятнанного наглым самозванцем. Когда мы с Уэнтом и Реджинальдом прибыли на остров, оказалось, что мои три идальго не возвратились из своего похода, и это встревожило меня: я ожидал прибытия капера к началу октября. Переждав еще неделю, очень обеспокоенный, я вместе с Уэнтом и Реджинальдом вышел в море на розыски. В трехстах милях от острова мы встретили подбитый капер и узнали от Диего и Антони о судьбе доверчивых парламентеров. Я поручил Джону Бутби, бывшему боцману с «Окрыленного», довести «Трех идальго» до нашей островной бухты и приготовить остров к обороне на случай высадки врагов. Диего, Антони, Дика Милльса, Уэнта и Кольгрева я взял на борт «Толосы» и пустился догонять эскадру Грелли. В Капштадте мы застали два подбитых судна этой эскадры – бриг «Орион» и фрегат «Король Георг III». Мы узнали, что наши доверчивые парламентеры отправлены в Англию на фрегате «Адмирал Ченсфильд». В Плимуте, куда мы пришли за фрегатом, нам удалось установить, что «Адмирал» проследовал в Бультон. Газеты уже поместили подробности боя эскадры с «пиратским крейсером» и сообщили, что король повелел назначить в помощь лорду Ченсфильду целую комиссию для ускорения суда и следствия по делу преступного Брентлея и злодейских пиратов. По сведениям газет, комиссию возглавил новый канцлерский прокурор сэр Голенштедт, лишь недавно прибывший в Лондон после двадцатилетней службы в Индии. Это означало, что никто в Бультоне, в том числе и лже-Райленд, не знал этого господина в лицо… Об остальном, я полагаю, вы уже догадываетесь. Говоря коротко, я решил что моя «комиссия» должна непременно поспеть в Бультон раньше королевской. Мы шли на крупный риск, тем более что и сами не имели даже представления, как выглядит прокурор Голенштедт. Я привел свою яхту «Толоса» в укромную бухту Старого Короля близ Ченсфильда. А моя «комиссия» послала «из Лондона» письма начальнику бультонской тюрьмы и коменданту гарнизона и на другой день прибыла в Бультон. Кольгрев изготовил такие документы, что, глядя на них, я сам преисполнялся к ним почтением. Бультонцы же пали перед «комиссией» в прах, потому что у большинства из них – нечистая совесть. – Позвольте, – изумился Брентлей, – как же вам удалось пересадить нас на «Толосу», не возбудив подозрения тюремного конвоя? – О, это было несложно, когда весь Бультон уже трепетал перед «жрецами правосудия» и ни у кого не возникло даже малейшего подозрения… Майор Древверс и «сэр Голенштедт» получили «из Лондона» дополнительное секретное указание, в котором комиссия извещалась, что сообщники пиратов готовятся в пути напасть на кортеж и освободить узников. Поэтому в целях конспирации «предписывалось» отправить в Шрусбери пустую тюремную карету и сильный конвой, а узников тайно перевести на борт специального «полицейского судна». Благодаря Джорджу Бинглю мы вовремя узнали о стараниях Грелли склонить узников к побегу. Было ясно, что Грелли задумал под этим предлогом убийство пленников. Поэтому мы заранее взяли под наблюдение дорогу, а в тюрьме обезопасили узников, заточив их в карцер. Во время следования в Шрусбери тюремного кортежа «комиссия» добросовестно выполнила «секретное указание»: кареты остановились у ченсфильдской рощи, свернули к бухте и ссадили узников и «джентльменов» прямо на борт «полицейского судна». Если бы конвой что-нибудь заподозрил, он был бы мгновенно уничтожен на пустынном берегу. Но все прошло гладко и чисто. Когда узники уже находились на борту, «сэр Голенштедт» предупредил Древверса, Бартольда и мэра, чтобы они осмотрительно вели себя при подъезде к Терпин-Бриджу, так как, наблюдая под видом крестьян-прохожих за бультонским трактом, мы обнаружили подготовку к взрыву. Был ли наш совет принят во внимание, мы с вами не знаем. По вспышке над лесом видно, что взрыв произошел, но кто именно пал жертвой Грелли, выяснится позднее… – Куда же мы держим путь, синьор Бернардито? – Яхта зайдет в испанские воды и высадит в Кадиксе маленький десант. Дику Милльсу, братьям Бингль и Антони Ченни придется совершить путешествие в Италию. Джордж открыл нам удивительные вещи о происках некоего Кремпфлоу. – Алекса Кремпфлоу? Совладельца «Белого медведя»? Приспешника лжемилорда? – Похоже, синьор Брентлей, что это слуга двух господ, как говорится в одной доброй старой комедии… В Италии мои мальчики сядут ему на хвост… А «Толоса» возьмет курс на известный вам остров. Там, в моем доме, синьора Доротея с радостью окажет вам гостеприимство, капитан. Меня, Чарльза и Реджинальда ожидает потом дальняя дорога, и мистер Уэнт, махнув рукой на приисковое золото, намерен проделать ее вместе с нами: мы выжмем из «Толосы» все ее двадцать узлов, чтобы побывать в Калькутте и летом вернуться в Бультон. – А… ваш сын, синьор Диего?.. – Диего вернется на командный мостик «Трех идальго». Мальчик найдет этому кораблю доброе применение во Франции, где народ поднялся против тиранов. Вымпел корабля украсится девизом восставшего народа: «Свобода! Равенство! Братство!»6
Ночная катастрофа на Терпин-Бридже вызвала смятение в Бультоне. Граждане гадали о личности нового Гая Фокса. Иные проповедники усмотрели в этом событии новые происки Вельзевула, под чьим черным знаком протекал весь конец мятежного, богомерзкого века. Другие голоса не возводили напраслины на черта с его устаревшим арсеналом козней. Эти голоса по-иному толковали все происшествие: кто-то, мол, побряцал увесистой мошной, чтобы обратить в прах лондонских инспекторов… За истекшие две недели после взрыва граф Ченсфильд всего один раз покидал поместье: чтобы почтить своим присутствием похороны погибших. Бультонцев поразила страшная перемена в его облике. Прихрамывая, он пешком проследовал за гробами от собора до кладбища. Команда «Адмирала» почтила похороны своего капитана пушечным залпом. Он грянул с фрегата в ту скорбную минуту, когда граф Ченсфильд бросил первую горсть песка в могилу Джозефа Лорна. При звуке залпа лорд-адмирал вздрогнул… После возвращения с похорон потянулись дни затворничества. Изредка милорд прогуливался пешком по парку. В эти минуты никто не смел приближаться к нему. Лицо графа сделалось изжелта-бледным, взгляд – горящим и злым; он стал сильно сутулиться и на ходу смотрел не вперед, а в землю. В конце второй недели после сочельника, перед самым днем «Трех святых королей», бультонцы зашептались о прибытии из Лондона полковника Хауэрстона, начальника секретной канцелярии при военном министре. …Граф Ченсфильд, ссутулясь, сидел у огня и слушал ветер в трубе. Груда нечитаных газет валялась на столе и уже покрывалась пылью и трубочным пеплом. Владелец поместья гнал из кабинета прислугу, избегал расспросов дочери. Блюда камердинер приносил в кабинет; уносил он их почти нетронутыми. На столике около камина лежала длинная глиняная трубка. Граф потянулся за нею и нечаянно расплескал вино из серебряной чаши. Красный свет углей падал на пролитую жидкость… Зрачки лорда Ченсфильда расширились. Несколько мгновений он тупо смотрел на пятно. Ему казалось, что оно растет и что под ним не белая скатерть, а почернелый от копоти снег… Голос камердинера вывел графа из задумчивости. – Полковник Эмери Хауэрстон, сэр. – Что такое? – Угодно ли вашей милости принять полковника Хауэрстона? – Хорошо. Проси. Стой! Убери эту проклятую скатерть… Лорд-адмирал подошел к письменному столу и открыл ящик; маленький двуствольный пистолет молниеносно перекочевал оттуда в карман сюртука… Полковник, входя, по-военному отдал честь, а затем сердечным, дружеским жестом протянул обе руки навстречу хозяину. – Граф, позвольте выразить вам мое глубокое соболезнование. Сколько горестных утрат! Его величество скорбит вместе с вами, милорд! Наконец, эта неслыханная по наглости история с лондонской комиссией… – На действия комиссии я буду жаловаться его величеству, прося заступничества против низкой и возмутительной клеветы, сбором которой эта ваша комиссия занималась в Бультоне! – Да помилуйте, милорд, ни один член нашей комиссии не покидал Лондона. Вся история с комиссией – это же чистейшая мистификация! Тайные злоумышленники, очевидно, сообщники арестованных пиратов, обманули весь город и освободили пленников. Граф Ченсфильд, ошеломленный, не устоял на ногах. Он почти упал в кресло. Мозг его был еще не в силах охватить случившееся. Он, лорд-адмирал Ченсфильд, одурачен!.. Напрасно погублены ближайшие друзья. Он одурачен! Но кем же, кем?.. Лицо собеседника расплывалось в глазах Грелли. Сохранить самообладание почти не было сил! Полковник пожал плечами: – Ни одно судно в тот вечер не покидало Бультонского порта. Кортеж выехал из города и был взорван на Терпин-Бридже. Где же узники и их сообщники из мнимой комиссии или, по меньшей мере, их трупы? На небо они вознеслись, что ли? Владелец Ченсфильда ничего больше не слышал. Он задыхался и готов был рвать на себе одежду. Трубка, задетая его локтем, упала и разбилась. – Поверьте мне, милорд, сколь велико всеобщее сочувствие вам… – продолжал полковник. – Перед лицом революционных потрясений во Франции… Милостивое расположение к вам его величества и сэра Питта… Боже мой, сэр, позвольте поддержать вас! Люди! Слуги! Эй, кто там! Скорее сюда! Камердинер вбежал в кабинет. – За доктором, быстрее! Мне кажется, у милорда удар!Изабелла сидела у постели больного. Ее батюшка выздоравливал, но левая сторона его лица и левая рука отнялись. Консилиум врачей из Голландии и Англии предписал больному полный покой, успокоительное чтение вслух, а затем продолжительное лечение на водах. Изабелла сама посвящала все вечера успокоительному чтению для больного. – Папа, хочешь, я прочту тебе хорошую детскую сказочку про зверей? Ее напечатал «Бультонс адвертайзер» в своем рождественском приложении. Она очень смешная, немножко страшная и совсем не длинная. – Читай, девочка, – покорно согласился больной. Изабелла развернула цветное рождественское приложение и прочла заглавие занимательной новеллы: – «Сказка про кита, который раньше был леопардом, а потом сделался гиеной»… Папа, да что с тобой? Изабелла выронила газету и опрометью бросилась за леди Райленд. – Ему опять хуже! – закричала Изабелла в испуге. – У него опять перекосилось лицо!..
21. Пастырь и агнец
1
Около памятника герцогу Фернандо Медичи близ Ливорнского порта на скамье, предназначенной для отдыха пешеходов, развалился пожилой иностранец в коричневом плаще. Поза его была небрежной, физиономия, чуть-чуть обрюзгшая, выражала скуку и недовольство. Рыжую широкополую шляпу с пером он насадил на собственное колено, подставив лысеющее темя февральскому солнцу. Трость, довольно массивную, с набалдашником в виде головы борзой собаки, иностранец прислонил к скамье. Всякий раз, когда к его скамье приближался торговец фруктами или просто беспечный ротозей из уличных мальчишек, владелец трости брался за нее с таким сердитым видом, что зевака сразу ускорял шаги и уже издали опасливо оглядывался на свирепого синьора. Зато при виде каждой дамы, проходившей даже на самой дальней дистанции, иностранец на скамье приосанивался и победительно подкручивал усы, уже и без того напоминающие своей формой венецианскую гондолу с высоко поднятым носом и кормой. Искусственному черному колеру этих усов мог бы позавидовать любой из четырех бронзовых мавров, украшающих ливорнский памятник. Башенные часы на площади пробили два; этим они, по-видимому, положили конец продолжительному отдохновению усатого иностранца. Он надел шляпу, сунул трость под мышку и отправился к отелю «Ливорно». Нищий старик в рваном плаще, взывавший к милосердию прохожих только молчаливыми поклонами, поглядел вслед удаляющемуся господину. Когда тот пересек площадь, старик взвалил на плечи котомку и покинул свое место за памятником с четырьмя маврами. Позади усатого господина двигалась в одном с ним направлении кучка французских матросов. Они не спеша шли от набережной и присматривали себе местечко, где бы скоротать время до вечера. Нищий старик догнал матросов и побрел следом за ними, время от времени поглядывая через матросские плечи вперед, на рыжую шляпу иностранца. Вскоре шляпа скрылась в подъезде отеля, а нищий старик, отстав от матросов, завернул во двор какого-то торгового дома. Выбрав укромный уголок между ящиками и тюками, нищий снял с плеч поместительную котомку, выложил из нее вещи и вывернул наизнанку, превратив нищенскую суму в очень приличный дорожный мешок, куда он спрятал свои отрепья и жалкое подобие шляпы. В числе извлеченных вещей оказался легкий синий плащ, берет, кружевной галстук и зеркало. В две-три минуты нищий преобразился в типичного старого артиста или художника. Он расчесал волосы, удалил с лица бороду и придирчиво освидетельствовал перед зеркалом свои баки, чтобы убедиться, надежно ли они приклеены. Наконец, взяв за кожаную ручку дорожный мешок, старик бодро зашагал к гостинице «Ливорно». У хозяина отеля, восседавшего за конторкой, человек заказал себе на сутки номер, записав в книге приезжих свое имя: «Карло Морелли, художник. Верона». Делая эту запись, гость пробежал глазами всю страницу с именами постояльцев прибывших в последние дни; в верху листа он нашел запись: «Томазо Буотти, доктор богословия. Венеция». Против этой фамилии стояла цифра 12. Веронский художник проговорил с подкупающей вежливостью: – В прошлом году я жил у вас в двенадцатом номере. Меня пленил вид из окна. Я хотел бы занять снова именно этот номер. – К сожалению, он освобождается только завтра. Но точно такой же вид вы могли бы иметь из соседнего, десятого, номера, синьор. – Спокойные ли там соседи? Мне очень не хотелось бы попасть в соседство дам с детьми. – Синьор, в таком случае – это наилучший выбор! Номер двенадцатый, смежный с десятым, занят почтенным одиноким ученым. Сейчас у него находится первый посетитель за несколько дней. Лучшего соседа нельзя желать. Обычно мы сдаем оба номера вместе – они связаны между собою дверью, – но я ручаюсь вам, что это нисколько не нарушит вашего покоя, сударь. – Отлично! Могу ли я уже занять свою комнату? – Разумеется! Оставив в руке хозяина серебряное скуди и удостоившись титула «эччеленца», художник из Вероны поднялся во второй этаж. В полутьме коридора он с большой осторожностью вставил ключ в замочную скважину своего номера, опасаясь вызвать малейший шорох. Открыв дверь, он с такими же предосторожностями запер ее изнутри и огляделся. Слева в стене виднелась дверь, полускрытая за порть ерой. Художник на цыпочках пересек номер, отогнул портьеру и приник ухом к замочной скважине. В номере соседа-ученого шел негромкий разговор, и слова собеседников были отчетливо слышны веронцу, притаившемуся за портьерой. – Мистер Кремпфлоу, – говорил кто-то по-французски очень приятным голосом, – часть задачи вы, несомненно, решили. Я готов просить моего покровителя о выплате вам одной четверти установленной премии. Однако главное еще впереди: во-первых, нужны неоспоримые доказательства гибели Джакомо Молла, или, как вы его называете, Джакомо Грелли, а во-вторых, еще не собраны надежные сведения о потомках этого лица. – Детей у Грелли как будто не было, а сам он погиб, – отвечал сиплый голос с явным английским акцентом. – На разъезды по вашему делу я потратил полгода и порядком издержался, дакт. – Синьор Кремпфлоу, повторяю, что после доклада моему покровителю я, вероятно, смогу вручить вам чек на две с половиной тысячи. – Слушайте, дакт, давайте бросим эти недомолвки! «Мой покровитель»… Я давно знаю, кто этот покровитель. Это сам граф д’Эльяно, а Джакомо – его незаконный сын. Ну, что вы скажете? Можно водить за нос Алекса Кремпфлоу, а? Я скажу вам, дакт, что провести меня трудновато, будь проклята моя кровь! – Прошу вас по-прежнему хранить в тайне цель розысков… Главное же – найдите либо потомков Грелли, либо несомненные доказательства его бездетности. Что вами выяснено о связях Джакомо Грелли, синьор Кремпфлоу? – У пирата могли быть любовные делишки во всех странах, но его невестой считалась Доротея Ченни, эта рыбачка-красавица, которую вы, дакт, знали девчонкой. В Сорренто, в деревушке, где умерла ее мать Анджелика, поговаривают, будто бы у Доротеи за границей родился и погиб ребенок. Но черт же ее знает, чей это был младенец… – Мистер Кремпфлоу, этими выражениями… применительно к лицам, близким к синьору Джакомо, я… просил бы не злоупотреблять… Однако местопребывание Доротеи Ченни между 1769–1773 годами действительно очень важно выяснить! Возможно, что отцом ее ребенка и был синьор Молла. Собеседники помолчали. Затем снова зазвучал первый голос: – Какие подробности известны о потоплении шхуны «Черная стрела»? Можно ли считать несомненным что Джакомо Грелли погиб? – Гм!.. Известно, что французский корвет утопил шхуну со всей ее бандой в Индийском океане. Было это в апреле 1768 года… Мой компаньон мистер Крейг – вот знаток моря! Плавал боцманом, видел, быть может, и «Черную стрелу», пожалуй, знает подробности гибели этой пиратской шхуны… Придется мне съездить в Англию, выяснить кое-что, а потом взяться за розыски наследников синьора Паоло… Обещанный вами гонорар я хотел взять с собою. – Вам придется подождать, пока я вернусь из Венеции с чеком. Или же я перешлю деньги прямо в Бультон… – Благодарю покорно! Мне вовсе не нужно, чтобы каждая бультонская собака знала, откуда и какие суммы я получаю. Сколько времени займет ваша поездка в Венецию? – Боюсь не меньше месяца… У меня много других неотложных дел. Мистер Кремпфлоу, казалось, погрузился в раздумье. – Месяц! Ну, месяц отдыха я могу еще себе позволить. Съезжу еще раз в Сорренто и на Капри. Здесь, в Ливорно, пороюсь еще в полицейских бумагах чиновника Молетти. Только… согласится ли граф д’Эльяно заплатить за известие, что сынок его сделался пиратом? – Вы опять забываетесь, синьор! Скажите лучше, каким образом вам удалось напасть на след Джакомо Молла? – Э, дакт, вы желаете выпытать у меня профессиональную тайну! Но уж так и быть, скажу вам: фамилия Бартоломео Греллея, или Грелли, который стал отчимом Джакомо Молла, напомнила мне, что в Италии был пират с такой же фамилией. Оказалось, что этот разбойник носил имя Джакомо… Я ухватился за эту нить и нашел в старых полицейских актах приметы разбойника Грелли. Они совпали с тем, что было известно о наружности Джакомо Молла, воспитанника рыбака Родольфо Ченни… – Прошу вас приложить все силы, чтобы проследить и другие связи Джакомо Грелли. Быть может, кроме семейства Ченни, то есть Анжелики, Доротеи и Антони… Доктор Томазо Буотти не закончил своей фразы. Веронский художник услышал за портьерой звук отодвигаемого стула и шаги по комнате. Человек в тяжелых башмаках подошел к самой двери. Веронец смог уловить несколько слов, произнесенных англичанином про себя, будто в глубоком раздумье: – Анжелика! Доротея, Антони… удивительное совпадение имен, черт побери! Ведь в Ченсфильде жили какие-то Доротея и Антони… Уехали в семьдесят третьем, после второго брака виконта! Говорят, поехали в Италию… к Анжелике Ченни… Гм! Приметы Джакомо Грелли… высок… горбонос… Мальчик с медальона… О, черт! Англичанин за дверью повернулся на каблуках. Его вульгарный голос зазвучал торжеством: – Послушайте, дакт! Везите мне чек на четверть премии – и я отчаливаю. По дороге заеду в Марсель, наведу некоторые справки. А через полгода готовьте всю остальную сумму чистым золотом… Я вернусь к вам с вестями, от которых вы обалдеете, будь проклята моя кровь! …Веронский художник, не проронивший ни слова в этой беседе, простоял за портьерой до тех пор, пока мистер Кремпфлоу не удалился. Когда шаги его стихли на лестнице, художник подошел к столу, достал письменные принадлежности и написал письмо. Капнув на углы конверта горячим сургучом, он тщательно приложил к ним перстень с печаткой. На сургуче осталось крошечное изображение саламандры. Спрятав письмо, веронец накинул свой синий плащ, забросил его полу на плечо и вышел из гостиницы. Он долго шагал по улицам и очутился на городской окраине, когда солнце уже садилось и небо пылало. Извилистые улицы поднимались здесь вверх по склону холма и сходились на маленькой площади с каменным колодцем. Деревья палисадников свисали над щербатыми плитами пешеходных панелей. В углу площади стояла небогатая церквушка из серо-зеленого камня. Художник вошел в темный придел этого храма. Здесь царил многоцветный полусумрак, расцвеченный лучами заката сквозь красные и синие стекла. В молельной было пусто. Только из ризницы доносились негромкие голоса. Оттуда выглянул толстый немолодой капеллан. При виде пришельца он сказал недовольно: – Вы пришли слишком рано. Месса начнется только через час. Пришелец нетерпеливо вскинул руку. Капеллан изменился в лице, поймал и облобызал, протянутую руку и замер в низком поклоне: – Ваше преподобие, простите, я не узнал вас в этом… облике! – Брат Николо, где Луиджи Гринелли? – Он помогает мне в ризнице, ваше преподобие. Пришелец,сопровождаемый капелланом, проследовал в ризницу. Молодой монах, перевернув к себе тыльной стороной образ скорбящей девы, исправлял засорившийся механизм «слезотечения». Починка уже близилась к концу, и темноокой Мадонне была возвращена способность неустанно проливать масляные слезы над веком революций, безбожия и ересей. Брат Николо, капеллан храма, был отвлечен приходом его преподобия от благочестивого перетряхивания сена в деревянном корытце. Капеллан заменил пыльные, изъеденные мышами былинки свежими, после чего «подлинные ясли Христовы» вновь приняли свой трогательный и уютный вид, способный умилять даже каменные сердца. Луиджи Гринелли, служка домашней церкви графа д’Эльяно, тоже подошел под благословение. – Брат Луиджи, – сказал человек в плаще, – возьми этот пакет. Ты отправишься с ним в Англию, не теряя ни часа. Ночью уходит судно в Тулон. Ты должен успеть к нему. – Святой отец, я готов к отъезду. – Из Тулона ты поскачешь в Марсель и возьмешь моего всегдашнего провожатого Жака Перше. Он проводит тебя до Кале. Ты переправишься через Ла-Манш и поедешь в Бультон. Этот пакет вручи отцу Бенедикту и доставь мне его ответ. В пути забудь об усталости и отдыхе: в твоем распоряжении только месяц. Сегодня четвертое февраля. Через месяц ты должен привезти мне сюда, в Ливорно, ответное письмо патера Морсини. – Но, монсеньор, во Франции революция, дороги неспокойны… Возможны задержки, опоздания… Путь очень велик. Боюсь, что обернуться за один месяц невозможно. Чело иезуита Фульвио ди Граччиолани нахмурилось. – Брат Луиджи, для солдата ордена невозможного нет!2
Двухэтажный дом на Ольдпорт-сквере, окруженный вековыми липами обширного сада, был построен прихожанами бультонского собора для своего духовного главы. …Пасмурным вечером в конце февраля епископ Редлинг отдыхал в своем кабинете после утомительной соборной проповеди. Епископ тронул сердца паствы глубоко проникновенным истолкованием причин гибельных беспорядков во Франции, где грешный народ потрясает основы королевской власти, данной ему от Господа. Епископская проповедь усматривала корни этих явлений в том, что дьяволу, врагу человеческому, удалось посеять семена безбожия, из коих возрос отравленный злак французского революционного вольнолюбия… Фонари и луна очень скудно освещали пустынный Ольдпорт-сквер с его голыми каштанами; на дворе чуть-чуть морозило и летали редкие сухие снежинки. Заглянув в окно, епископ увидел портшез, несомый двумя носильщиками в суконных кепи и потертых плисовых куртках. Этим старомодным средством передвижения обычно пользовались в Бультоне престарелые леди, смешные пожилые франты, духовные особы и подагрические джентльмены. Портшез остановился перед крыльцом особняка. Через несколько минут секретарь епископа просунул в кабинет свою лисью мордочку: – Ваше преосвященство, угодно ли вам принять отца Бенедикта Морсини? Вопрос был бы способен озадачить любого прихожанина бультонского собора, с детства приученного видеть в «проклятых папистах» своих религиозных врагов и особенно ненавидеть католическое монашество. Невысокая, сутулая фигура отца Бенедикта возникла на пороге кабинета. В отличие от пышущего здоровьем епископа, католический монах был худощав, бледен и как-то неприметен в комнате. В его черных глазах вспыхивал неспокойный блеск. Но голос, на редкость мягкий и низкий, ласкал слух и успокаивал душу. В полусумраке исповедален этот голос производил чарующее действие на кающихся. Обладатель бархатных голосовых связок расположился в кресле. Епископ глядел на него выжидающе, с затаенным чувством беспокойства. – Ваше преосвященство, меня привело к вам неотложное дело, которое одинаково затрагивает и мои и ваши интересы. Разрешите осведомиться, известен ли вам мистер Александр Кремпфлоу? – Совладелец бультонского отеля «Белый медведь»? Это один из почетных прихожан собора. Правда, мужа сего едва ли можно назвать праведником, не прегрешая против истины, но услуги его благодетельны для спокойствия всех добрых граждан. – Простите, известно ли вашему преосвященству, каковы отношения между этим мистером Кремпфлоу и… интересующим нас лицом? Епископ почел за благо ответить осторожно: – Насколько мне известно, граф Ченсфильд покровительствовал покойному мистеру Крейгу. Разумеется, это покровительство распространяется и на его компаньона. – А между тем мною только что получено сообщение от святого отца Фульвио ди Граччиолани, что этот Кремпфлоу, находящийся сейчас в Италии, усиленно занят розысками следов синьора Джакомо Молла уже в течение полугода. Лицо епископа выразило удивление. – Какая странная новость! Кто же поручил мистеру Кремпфлоу эти розыски? – Некто доктор Томазо Буотти, хранитель научных коллекций и предметов искусства во дворце графа Паоло д’Эльяно. Он, несомненно, действует как лицо, уполномоченное самим графом Паоло. – Какова цель розысков? – Это должно быть вполне очевидно вашему преосвященству. Дело идет об огромном наследстве… Сэр Томас Редлинг беспокойно задвигался в кресле. Монах посматривал на него недобрым взглядом. – Если цепь розысков оборвется на гибели пирата Грелли в индийских водах, то усилия доктора Буотти и Алекса Кремпфлоу послужат нам лишь на пользу: граф д’Эльяно устранит оговорку из завещания, и святая римская церковь получит около пяти-шести миллионов. В этом случае наше давнишнее соглашение с вашим преосвященством сохранит свою силу: полмиллиона скуди поступят в распоряжение вашего преосвященства. Если же мистер Кремпфлоу добрался бы до истины, то… британский граф Ченсфильд может оказаться перед своеобразным выбором: либо сохранить свое нынешнее инкогнито, либо раскрыть свои карты за пять или шесть миллионов и итальянский графский титул в придачу. В этом последнем случае все усилия и ожидания церкви, работа десятков лет окажутся бесплодными. – Господь с вами, отец Бенедикт! Это совершенно невозможно! Представьте себе размеры катастрофы, которая разразилась бы в Северном графстве… – Согласен, ваше преосвященство, но признаюсь, что меня глубже волнуют размеры ущерба, угрожающего святой церкви. Позвольте мне поэтому обратиться с прямым вопросом: можем ли мы по-прежнему рассчитывать на помощь вашего преосвященства? – То, что для меня посильно, я готов сделать для… общей пользы церкви Христовой, несмотря на наши… гм… разногласия в вопросах истинной веры. – Аминь! – с облегчением вздохнул монах. – Я буду счастлив передать эту благую весть святому отцу. Праведник сей неусыпно бдит в ночи и не расстается со странническим посохом во имя сего богоугодного дела. Святой отец просит ваше преосвященство высказать свое суждение по поводу возникшей угрозы. – Я… право, затрудняюсь что-либо посоветовать. Но, на мой взгляд, мистер Кремпфлоу неминуемо раскроет истину, раз он уже стоит на верном пути. – Мы всецело разделяем прозорливые опасения вашего преосвященства. Поэтому святой отец, со своей стороны, не считал бы особенно желательным, чтобы мистер Кремпфлоу возвратился в Англию. – Боюсь, что такая утрата… явилась бы новым огорчением для милорда, отец Бенедикт, но, с другой стороны, действительно… гм… – Можно понять так, что со стороны вашего преосвященства нет существенных возражений против… любого решения, какое мы найдем нужным принять, не так ли? Епископ молча кивнул. – И наконец, отец Фульвио ди Граччиолани скорбит о тяжелых душевных потрясениях, выпавших на долю милорда. В его лице церковь Христова всегда имела могущественный оплот. Сей ливанский кедр, сей величественный муж ныне обессилен недугом и тяжкими утратами. Общество вашего преосвященства будет сладостным бальзамом для угнетенной души милорда. Его следует ограждать от нежелательных встреч, от… слухов, способных смутить скорбный дух… Полагаю, что пастырское бдение, столь благотворное для страждущего духа, вместе с тем отвратит и возникшую угрозу… Не смею дольше отнимать драгоценное время у вашего преосвященства!Полковник Эмери Хауэрстон и два штаб-офицера только в январе закончили расследование рождественских событий. Пока газеты и парламентские ораторы требовали новых ограничений въезда иностранцев и недвусмысленно советовали искать виновников злодеяния по ту сторону Ла-Манша, офицеры опросили большое число горожан и обследовали место происшествия. При участии бультонских полицейских властей лондонские офицеры установили, что взрыв на Терпин-Бридже был произведен наиболее сильным сортом морского артиллерийского пороха. Для подрыва пороховой мины злоумышленники протянули проволоку к нескольким заряженным пистолетам. Происхождение пороха установить не удалось: ни один склад в Бультоне, ни одна корабельная крюйт-камера, ни одна воинская саперная часть не отгружала в течение последних недель такого количества взрывчатого вещества. Офицеры и полиция склонились к выводу, что взрыв осуществили те же неизвестные, которые так ловко разыграли роль чиновников из мнимой лондонской комиссии. Но каким образом они при взрыве предотвратили гибель своих товарищей и куда скрылись спасенные пленники и их избавители, осталось неизвестным. Лишь в середине февраля, недели через две после отъезда офицеров в Лондон, доктор Грейсвелл разрешил больному милорду Ченсфильду первую прогулку по комнатам замка, а еще через три дня сам епископ Редлинг сопровождал выздоравливающего при его первом выезде из дому. В этот же день, вечерним дилижансом, прибыл в Ченсфильд курьер с письмом морского министра. В этом письме министр спешил известить лорда-адмирала, что его величество король повелел повысить премию за голову любого из главарей капера «Три идальго» до трех тысяч фунтов. Британскому флоту поручена поимка и уничтожение опасного капера. Вместе с тем король изволил пожелать скорейшего выздоровления сэру Фредрику. Отложив письмо, бультонский граф усмехнулся своей новой, кривой улыбкой паралитика и вытащил из письменного стола карту Средиземного моря. Доктор рекомендовал больному морское путешествие, и милорд задумался над маршрутом. Его цветной карандаш уткнулся в голубые просторы Адриатики и медленно пополз вдоль изломов итальянского побережья. …Тем временем мисс Изабелла Райленд тоже читала письмо, и слезы досады дрожали на ее ресницах. Письмо не имело обратного адреса и пришло из-за границы через Лондон тем же дилижансом, с которым прибыл курьер от морского министра. В небольшом нарядном конверте оказался надушенный листок со следующими строками:
«Прекрасная сеньорита, недалек час, когда вы почувствуете необходимость в поддержке преданных вам друзей. Позвольте предостеречь вас против лукавого иезуита Бенедикта Морсини. Попытайтесь правильно истолковать смысл сказки, напечатанной в рождественском приложении «Адвертайзера». Вас окружают опасности и ожидают горести. Умоляем вас сохранить в тайне это обращение, посланное с целью заверить вас в братской привязанности и сердечной любви к вам ваших верных друзейИзабелла никому не показала письма. В сердцах она разорвала его в клочки и швырнула их в корзинку. Однако по прошествии всего нескольких минут юная леди почувствовала немалое желание снова иметь перед глазами четкий почерк и твердые подписи обоих корреспондентов. Мисс Изабелла страшно рассердилась на самое себя, поборола преступное желание, уронила на руки кудрявую голову и проплакала чуть ли не до самого рассвета.Алонзо де Лас Падоса и Теодора де Кресси».
3
Иностранец с гондолообразными усами взял в Ливорно каюту до Ливерпуля на корабле «Эльмиона». По пути «Эльмионе» предстояла недельная остановка в Марселе… Итальянский портовый город встречал весну – пленительную пору цветения апельсиновых и гранатовых деревьев, благоухания лавров, олив и розмаринов. Мартовский ветер с моря, ласковый и свежий, подхватывал в садах розовые лепестки и осыпал ими ливорнские мостовые. Но щедрость итальянской весны была ничем по сравнению с щедростью, проявленной усатым иностранцем в портовой таверне. На прощание он показал «этим итальяшкам», на что способен джентльмен, завершающий свой отдых! Пышное украшение над верхней губой мистера Кремпфлоу топорщилось победительно. Он был доволен собой: прошло тридцать два дня после его продолжительной беседы с доктором Буотти в гостиничном номере, и теперь мистер А. Кремпфлоу имел при себе внушительный мешок крупных итальянских ассигнаций, полученных по чеку в «Банко ди Ливорно». Чемоданы джентльмена уже находились на борту, а сам он был центром внимания всей таверны. Лицо его покраснело, и, расплачиваясь, он швырял монеты на мрамор столика с такой силой, что серебряные скуди могли расплющиться. Щедрость синьора дошла до того, что он напоил и нескольких портовых забулдыг, шумевших за соседними столиками, в том числе голодного, но чрезвычайно веселого малого с плутовским лицом, осыпанным веснушками. Этот бывалый матрос, отставший от своего корабля и пропивший в таверне последние гроши, пустился провожать британского благодетеля до самого рейда. Они сели в шлюпку, и матрос доставил мистера Кремпфлоу до борта «Эльмионы». По дороге матрос развлекал джентльмена юмористическими историями о своих житейских неудачах в Ливорно. Когда последняя шлюпка пришвартовалась к трапу «Эльмионы», оказалось, что один из опытных матросов верхней команды не вернулся на борт корабля, вероятно окончив свои дни в какой-нибудь портовой драке. Капитан и боцман не подозревали, что на берегу два довольно почтенных джентльмена, говорившие по-итальянски с грубыми ошибками, долго убеждали этого матроса не возвращаться на корабль и в конце концов подкрепили свою просьбу весьма увесистым и звонким доводом. Матрос взял деньги, сунул руки в карманы и забыл об «Эльмионе». А веснушчатый провожатый мистера Кремпфлоу перед самым отходом судна обратился с поклоном к боцману и предложил ему свои услуги в качестве матроса верхней команды. – Бумаги-то у тебя в порядке? – подозрительно осведомился боцман. – В полном порядке, маат*["125], добрые гамбургские бумаги. Удостоверяют мою беспорочную службу на корабле «Альтона». – Фамилия? – Таумель. Ханс Вилли Таумель, маат. – Немец? – Гамбуржец, маат. – Давай бумаги. Матрос достал из-за пазухи бумаги, и боцман, прочитав их, отправился к капитану. Когда Кремпфлоу вышел из своей каюты, чтобы бросить прощальный взгляд на Ливорно, с высоты нижней реи фок-мачты ему подмигнул новый член экипажа матрос верхней команды Ханс Вилли Таумель. Мистер Кремпфлоу, успевший уже освежиться на ветру и горько пожалеть о лишних скуди, истраченных в порыве напрасной щедрости, сердито отвернулся от веселого немца. Вскоре к этому разбитному парню подошел рябой и сутулый кок, оказавшийся соотечественником Ханса. Он обратился к новому матросу на языке Шиллера и Гете, но Ханс хлопнул кока ладонью по спине, оскалил белоснежные зубы и весело заявил, что в итальянских водах он решительно намерен изъясняться только на языке прекрасных портовых мадонн этой страны. – Успеем наговориться по-немецки в Альтоне, друг! – закончил он свою тираду. – «Эх, Гамбург-Альтона, последняя крона…» – запел он звонко, отходя от земляка на другой конец палубы. Сдав свою вахту, Ханс поинтересовался у стюарда, нельзя ли пропустить маленький глоток чего-нибудь живительного. Стюард строго посмотрел на Таумеля и заявил, что матросу следовало бы «покончить с этим еще на суше». – Впрочем, господин из четвертой каюты заказал себе бутылку вина. Снеси, может, счастье тебе улыбнется, – смягчившись, сказал стюард матросу. Обрадованный матрос подхватил поднос с бутылкой и стаканами; ловко балансируя на гладких половицах коридора, он постучал в дверь. В каюте сидел унылого вида господин и двое его слуг. Один из слуг приоткрыл дверь. При виде матроса лицо пассажира утратило свое унылое выражение. Он широко улыбнулся вошедшему. Матрос торопливо обнял его и сердечно пожал руки обоим «слугам». – Мне нельзя задерживаться у вас… Все идет хорошо, Джордж. Но тебе обязательно нужно изменить лицо: Кремпфлоу может тебя узнать. Дика, слава богу, он не знает. – Ни я, ни Антони не собираемся выходить из каюты. Наша работа начнется в Марселе, когда он высадится. – Удалось ли тебе, Джордж, говорить с доктором Буотти? – Да, мы с Антони были у него в гостинице. Он очень удручен, боится, что Кремпфлоу водит его за нос. – А следят за Кремпфлоу люди доктора Буотти? – Нет, представь себе, Томми, что нет. Он очень удивился, когда я рассказал ему, что кто-то тайно следит за Кремпфлоу. Но слуга доктора Буотти, Джиованни, дал нам нить. Старик убежден, что духовник графа, патер Фульвио ди Граччиолани, путает карты. У отца Фульвио есть служка, Луиджи Гринелли, молодой монах. Это худощавый человек с острым подбородком и крючковатым носом. Над левой бровью у него след от старого ожога. Короче говоря, замеченный нами крючконосый человек, который теперь следит за Кремпфлоу, – это и есть Гринелли. Здесь, на корабле, у него отдельная каюта. Он сам идет нам в руки. – А нищий старик, что наблюдал за Кремпфлоу у «Четырех мавров», тоже на корабле? – Нет, старика я не заметил среди пассажиров. – Ты, Джордж, назвал себя и Антони синьору Буотти? – Меня он сам узнал сразу. Отнесся он к нам не особенно доверчиво. Я просил его никому не говорить о нашей встрече; сослался на свой побег из Англии. Он обещал молчать, поблагодарил за предостережение против Кремпфлоу, но держался сухо. – Ты предложил ему наши услуги для розысков? – Это было бы неосторожно. Буотти сбит с толку и склонен к подозрительности. Если бы я сделал ему такое предложение, он заподозрил бы в нас шайку мошенников… – Я должен уходить. Скажите мне еще: в какой каюте Луиджи Гринелли? – Вторая дверь справа от кают-компании. Каюта Кремпфлоу – почти напротив нее. Теперь беги, матрос Ханс Вилли Таумель! Когда веснушчатый матрос доставил на подносе серебряную монету, корабельный буфетчик одобрительно посмотрел на Ханса Вилли Таумеля и осведомился, достался ли ему глоток. – Не буду скрывать истины, синьор, – отвечал тот, смиренно потупляя взор, – глоток мне достался. – Однако ты ловкий парень, – промолвил буфетчик, пряча монету. – Забегай ко мне в свободные от вахты часы и если поможешь мне держать в чистоте посуду, то не пожалеешь. – О синьор, вы благородный человек! Это я давно понял по вашему лицу. Я растроган, ибо вижу, что вы сразу вознаграждаете добродетель, как только встречаете ее. Располагайте мною, и вы останетесь довольны, не будь я Хансом Вилли Таумелем. – Первый раз встречаю такого расторопного немца! – пробормотал итальянец-буфетчик, глядя вслед удаляющемуся матросу. Следующие дни медленного плавания и сложных маневров «Эльмионы» мистер Кремпфлоу редко показывался на палубе. Он изнывал в каюте от морской болезни и врачевал свой недуг коньяком и лимонным соком. На закате четвертых суток плавания «Эльмиона» покидала рейд Тулона. До Марселя оставалось менее сорока миль. В быстро густеющих сумерках мигал позади тулонский маяк. Вершина Монфарона*["126] уже сливалась с небом. Море успокоилось, «Эльмиону» чуть-чуть покачивало. На мачтах горели сигнальные огни. Поздним вечером матрос Ханс Таумель, сдав вахту, сидел в каморке стюарда. Хозяин вздремнул. Прислушиваясь к звукам в коридоре, чтобы не прозевать вызова в какую-нибудь из кают, матрос различил скрип открываемой двери. Пассажир второй каюты от салона вышел в тесный коридор. Там горели две свечи, и длинная тень человека легла на половицы. Ханс Вилли Таумель осторожно наклонил голову к оконцу для выдачи посуды и краем глаза разглядел характерный профиль Луиджи Гринелли. Пассажир на цыпочках подошел к первой от салона каюте, занимаемой мистером Кремпфлоу, склонился к замочной скважине и очень тихо постучался. Дверь открылась и впустила Луиджи. Изнутри дважды щелкнул замок. Матрос Ханс Вилли Таумель подкрался к двери. Сквозь крошечную скважину замка он увидел огонек свечи, горевшей на столе. Луиджи стоял посреди каюты, Кремпфлоу слушал его, полулежа на койке. Дрожащим от волнения голосом, заикаясь, пришелец говорил на дурном английском языке, заменяя неизвестные ему выражения французскими или итальянскими словами. – Сударь, я простой флорентийский купец. Меня зовут Микель Альбанти. В дальний путь я отправился впервые. Господь сподобил меня заметить, что нам обоим, сударь, мне и вам, грозит страшная опасность. Ваш носильщик, тот проклятый немец, которого вы привели на корабль, сговорился со стюардом убить вас и меня. Вопроса мистера Кремпфлоу матрос не разобрал. «Флорентийский купец» отвечал собеседнику: – Клянусь вам, синьор, это не ложные страхи! Матрос и стюард давно следят за нами. Они проведали, что у вас и у меня есть с собою деньги. Сегодня ночью, перед прибытием в Марсель, они хотят ограбить нас. – Однако это наглость! – пробормотал «проклятый немец». Он едва успел проскользнуть в каморку стюарда, как в дверях каюты снова щелкнул замок, и синьор Гринелли, только что назвавший себя купцом Микелем Альбанти, вернулся к себе. По прошествии пяти минут он перенес свой небольшой багаж в каюту мистера Кремпфлоу, и оба джентльмена вместе заняли оборону против ожидаемого нападения. Ханс Вилли Таумель подождал, пока в коридоре все утихнет. Условным стуком он вызвал на палубу Дика Милльса. Далеко на горизонте уже виднелся отблеск огней Марсельского порта. Палуба была пустой. – Затевается неладное, Дик. Похоже, что иезуит кое-что заподозрил и намерен от меня избавиться. Он решил, что корабельный стюард – мой сообщник. – Томми, в Марселе ты должен сразу исчезнуть с корабля, чтобы тебе здесь не вырыли яму. С подложными бумагами ты в опасности. Постарайся улизнуть с первой шлюпкой. Я прослежу за Кремпфлоу, Антони и Джордж не выпустят из виду иезуита. – Будьте и вы осторожны, чтобы этот Луиджи ничего не распознал раньше времени. На берегу я укроюсь в домике рыбака Александра Каридаса, марсельского родственника старика Георгия. Там я буду ожидать вестей от вас. Матросу пора было возвращаться на свою койку в кубрике. Боцман неодобрительно относился к дружбе «немца» со стюардом. Ханс разбудил разоспавшегося буфетчика, спустился в кубрик и залег под одеяло. Вскоре рассвело, и впереди по курсу корабля показались холмы, подковой окружающие Марсель. Джордж Бингль, Антони Ченни и Дик Милльс прислушивались из своей каюты к звукам, доносившимся из коридора. Они различили, как Луиджи Гринелли тихо покинул каюту мистера Кремпфлоу и тяжелой походкой поднялся на палубу. Он имел при себе дорожный мешок. Капитан уже приказал поднять на ноги всю команду. Судну предстояли сложные маневры при неблагоприятном ветре. Матрос Ханс Таумель подошел к боцману: – Маат, разреши мне съездить на берег и узнать, не здесь ли еще моя «Альтона». – Проваливай, только без бумаг. Они останутся на корабле, – отвечал боцман. К «Эльмионе» подошел катер. Таможенные чиновники освидетельствовали грузы и просмотрели список пассажиров. По окончании формальностей катер пошел к берегу. На нем отправился и матрос Ханс Вилли Таумель. Боцман выразительно помахал линьком вслед катеру, напутствуя веселого матроса: – Чтоб через три часа снова быть на борту, или ты заорешь у меня такой «майн готт», что в Германии слышно будет! Вскоре от борта «Эльмионы» отошла и шлюпка с пассажирами. На ней находилось несколько богомольцев, два-три французских негоцианта, унылый ливорнский пассажир с одним из своих слуг и «флорентийский купец Микель Альбанти». Пассажиры благополучно миновали все таможенные строгости и покинули набережную. «Унылый пассажир» шепнул своему «слуге»: – Синьор Ченни, вы лучше меня знаете итальянский, поэтому берите под наблюдение иезуита. Я здесь дождусь новостей от Дика. Нужно непременно сообщить ему, куда направится из Марселя крючконосая иезуитская змея Луиджи, этот «флорентийский купец Альбанти». Тем временем «купец» подозвал носильщика с осликом. Он отчетливо произнес адрес гостиницы и зашагал следом за длинноухим осликом, не спуская глаз с увесистого мешка, навьюченного на спину животного. – По крайней мере, я теперь знаю, где тебя не нужно будет разыскивать! – пробормотал Антони. – Мальчик, – позвал он черноглазого вертлявого подростка, торговавшего каштанами, – я куплю весь твой товар и дам тебе еще пару франков, если ты быстро принесешь мне адрес вон того купца, что шагает вслед за осликом. Ты найдешь меня в домике Александра Каридаса, в рыбачьем предместье. И, сунув мальчишке деньги, Антони забрал у него весь ящик с лежалыми каштанами. Не торопясь он отправился к предместью и встретил радушный прием в маленьком домике, где Томас Бингль уже восседал, как важный гость, на самом почетном месте, ибо в этом доме отлично помнили «пирейского мальчика с обезьяной»… После обеда в переулке застучали колеса фиакра. Джордж Бингль и Дик Милльс, весьма озабоченные и встревоженные, вошли в дворик Александра Каридаса. – Томми, – заговорил Бингль-старший, – тебя разыскивает вся марсельская полиция. Алекс Кремпфлоу найден зарезанным в своей каюте, и на ручке ножа вырезаны буквы «Х. В. Т.» – Ханс Вилли Таумель. – Марсельская полиция может искать сколько угодно этого интересного немца, – отвечал Том весьма хладнокровно. – Они могут отыскать только синьора Маттео Вельмонтеса, но и этот испанский синьор остережется от излишних встреч с полицией. Итак, отцы иезуиты перерезали Алексу Кремпфлоу горло? Видимо, они здорово озабочены, чтобы наследники графа д’Эльяно не были обнаружены. Однако у этого патера Фульвио верные слуги, а добрый доктор Буотти ходит по очень тоненькой дощечке, не ведая, что под нею бездна. – Нужно проследить за убийцей, – сказал Дик. – Вероятно, Луиджи Гринелли отправится из Марселя назад в Венецию. Свое дело он сделал и спрятал концы. Чистая работа! В этот миг во двор заглянула смуглая востроглазая рожица. Мальчишка сунулся к окну и… разглядел на стенном гвозде матросскую шапочку Томаса с «Эльмионы». Антони Ченни наклонился к своему «посланцу», и тот торопливо зашептал: – Дядя, адрес того купца – гостиница «Голубая Рона». Только он уже нанял верховых лошадей и провожатого на Север. Давайте мне мои франки, а сами вы… – Тут мальчишка еще понизил голос, притянул голову Антони к себе и, скосив глаза на шапочку, прошептал на ухо своему «заказчику»: – Сами вы мажьте пятки салом! Портовая полиция искала в таверне «Три апаша» матроса с «Эльмионы», который ночью зарезал богатого англичанина… Томас Бингль тоже подошел к окну и слышал слова мальчугана. Он добродушно ущипнул паренька за ухо: – У твоей матери есть один чертовски смышленый ребенок! И если он скажет нам, где можно побыстрее достать четырех добрых лошадей… – Лошадьми торгует старый папаша Ридо, барышник. Это за две улицы отсюда… Слушай, дядя, тот флорентинец, купец, наверно, поедет по авиньонской дороге… Снабдив мальчишку поощрительным подзатыльником вместе с дополнительной монетой, Томас Бингль предложил Джорджу, Дику и Антони, не теряя ни минуты, отправиться к барышнику за лошадьми……Ночью около деревянного креста на большой дороге между Марселем и Авиньоном четверо мужчин в полувоенных костюмах, треуголках и при шпагах с нетерпением ждали восхода луны. Но тучи заволокли небо, и дорога была темна, точно она шла в подземелье. Чтобы оставаться незамеченными с дороги, не нужно было даже прятаться в кустах. – Придется останавливать всех проезжих подряд, ребята, – шепнул Томас Бингль. – Хорошо, что вы достали фонарь со щитком. Кто-то едет, друзья! К придорожному кресту приближался экипаж. Среди путешествующих в нем господ оказался один чиновник, который довольно подозрительно отнесся к «проверке документов»: французский язык Антони Ченни, а тем более обоих братьев Бингль был далек от совершенства, и только один Дик, обязанный своим произношением миссис Милльс, урожденной Камилле Леблан, мог с грехом пополам сойти за француза. Следующая группа путешественников ехала верхом. Их было двое. Первый из опрошенных оказался марсельским крестьянином Жаком Перше, второй – купцом из Флоренции Микелем Альбанти. «Офицер» в треуголке, Антони Ченни, ухватился за повод лошади, на которой сидел купец. – Именем закона я арестую вас по подозрению в убийстве! Купцу Микелю Альбанти осталось только покорно слезть с лошади; однако при этом он довольно громко выражал свое возмущение по поводу произвола местных властей. «Полицейские» связали купцу руки и разрешили ему снова сесть на лошадь. «Патруль» повел задержанного купца и его провожатого по дороге в сторону Марселя. Один из патрульных держал в поводу четырех коней, принадлежавших «полицейским». Голос этого «патрульного» показался купцу подозрительно знакомым. Во мраке, на расстоянии половины лье*["127] впереди, уже замелькал фонарь придорожного трактира, когда луна проглянула сквозь просвет в облаках, позволив арестованному купцу отчетливо разглядеть физиономию матроса Ханса Вилли Таумеля. Друзьям осталось неизвестным, узнал ли путешественник остальных соседей по «Эльмионе» или вид одного Ханса Вилли вызвал у «купца» роковой прилив решимости, только все последующие события произошли почти мгновенно и заняли не больше полминуты. «Флорентийский купец» сумел освободить на ходу свои скрученные руки и достать из переметной сумы запасной пистолет. Он выпрямился в седле, с силой пришпорил коня и дернул его в сторону. Добрая лошадь взвилась на дыбы, вырвала повод из рук Антони Ченни, перемахнула через придорожную канаву и сломала изгородь чьего-то виноградника. Оттуда грянул пистолетный выстрел, и Антони Ченни, охнув, стал клониться к земле. Дик Милльс, державший наготове пистолет с граненым стволом, наугад выстрелил в кусты и услышал впереди шум падения тела с лошади. Тем временем Джордж Бингль стащил с коня второго всадника, Жака Перше. Тот не делал видимых попыток к бегству и был сильно напуган. Антони Ченни, раненный в ногу, лежал поперек дороги. Дик Милльс вышел из виноградника на дорогу. – Кто из вас ранен? – спросил он, но уже сам различил распростертого на дороге Антони. – Нужно быстрее убираться. Друзья перенесли Антони в кусты, помогли пленнику, у которого руки были связаны, перешагнуть канаву и спрятали коней в нескольких шагах от дороги. – Что с тем? – спросил Том. – Убит, – отвечал Дик. Том и Дик осветили фонарем тело Луиджи Гринелли. На груди убитого оказалась сумка. В ней лежал запечатанный пакет, обернутый в тряпицу. Не тронув печатей, друзья спрятали пакет. Усадив в седло раненого Антони и ведя пленного за собой, Дик Милльс и братья Бингль свернули с дороги и добрались до заброшенной каменоломни. Наступила очередь решить судьбу второго пленника, который, окончательно оробев, только шумно вздыхал и отдувался. – Назови нам свое настоящее имя, – приказал Джордж Бингль. – Сударь, меня решили назвать Жаком еще в мою бытность во чреве матери, а фамилия моя и моих отцов испокон веков была Перше. – Кто ты? – Крестьянин из пригорода Марселя, ваша милость. Пощадите меня, государи мои, я человек семейный, небогатый… – Давно ли ты знаешь Луиджи Гринелли? – Первый раз слышу это имя, сударь. – Не хитри перед лицом смерти, Жак Перше, ибо за единое слово лжи я тебя убью! – грозно вмешался Томас Бингль. – Разрази меня гром, сударь, если я хоть раз слышал это имя! – С каких пор ты знаешь флорентийского купца Микеля Альбанти? – Лет… шесть, государи мои, если не дольше. – Часто ты совершал с ним такие ночные прогулки? – Я сопровождаю его в третий раз. – И всякий раз по лионской дороге? – Это истинно так, ваша милость. Оба раза я провожал месье Альбанти до порта Кале. – Когда вы совершали с ним такую поездку в последний раз? – Около месяца назад, синьоры. – Месяца? Ты лжешь, этого не может быть, Жак! – Убей меня господь, если я лгу! Месяц назад мы доехали до Кале; он сел на корабль, а я остался ждать его. Через десять дней он воротился из Англии, и мы вернулись в Марсель. Мне еще в жизни не приходилось так спешить. Мы загнали четырех лошадей, но он хорошо заплатил. – А что он обещал тебе теперь? – Теперь он снова подрядился со мной до Кале и обещал заплатить еще лучше. Я в год не зарабатываю столько своим хозяйством, сколько мне платил синьор Микель Альбанти за одну такую поездку. Джордж Бингль задумался. Несколько минут все молчали. Джордж положил крестьянину руку на плечо: – Слушай, Жак Перше! Мы не грабители и убили не честного флорентийского купца, а хитрую иезуитскую змею, переодетого попа, слугу аристократов… Мы обезвредили паука, но нужно еще разорвать паутину. Если ты поможешь нам – сделаешь доброе дело для хороших людей и заработаешь еще больше, чем платил тебе иезуит… Согласен, Жак? Крестьянин переминался с ноги на ногу, мял в руках свою суконную шапочку и недоверчиво отмалчивался. Он еще не отделался от испуга и теперь опасался угодить «из огня да в полымя». – Не трусь, Жак! Получишь всех наших коней и еще сотню франков золотом, – продолжал уговаривать его Джордж. – Что же я должен за это сделать, господа? – Мы не господа, мы такие же люди труда, как и ты… А может, ты сам тайный иезуит, Жак? Хотя тон вопроса был шутливым, Жак сбросил с плеча руку Джорджа: – Иезуит? Всей деревней мы топили их, проклятых, в монастырском пруду… Если бы я знал, что этот Микель Альбанти – переодетый поп, спихнул бы его по дороге в Рону!.. Чего же вам от меня надо, граждане? – Жак, ты должен проводить до порта Кале… синьора Микеля Альбанти и его слугу. – Что-то я в толк не возьму, государи мои… Он же мертв, этот Альбанти? – Он жив, здоров и стоит перед тобой. Альбанти – это я. А вот этот человек – мой слуга. Понял ты мои слова, Жак Перше? – Понял, сударь. Вы – синьор Микель Альбанти, и никто вас нынче не убивал. А вот этот, синьор Дик, – ваш слуга. – Ты, кажется неглупый парень, Жак. Пиши теперь письмо своей жене и вели ей приютить двух человек, Тома и Антони, пока старший из них не поправит свое здоровье. Если что-нибудь случится в твоем доме – получишь пулю, Жак, а от твоего хозяйства останутся одни головешки. Марселец оказался человеком сообразительным. Ему дали перо, чернила и бумагу. Пока он, морща лоб и кряхтя, трудился над двумя строками письма к своей дочери, Мадлене Перше, Джордж Бингль рассматривал пакет, извлеченный из нагрудной сумки убитого. – Попробую-ка я вскрыть это письмо, друзья, но так, чтобы не оставить следов… Разведите огонь и согрейте воды, пока я достану из мешка мой шпатель. По прошествии получаса худые, узловатые пальцы Джорджа Бингля извлекли из вскрытого пакета исписанный листок. Письмо патера Фульвио ди Граччиолани было быстро скопировано, а затем Джордж восстановил первоначальный вид пакета столь искусно, что Дик и Томас ахнули от изумления. – Вот это ловко! – воскликнул восхищенный Дик Милльс. – Но каков святой отец, а? Послушай, Антони, вот что венецианский иезуит Фульвио ди Граччиолани пишет патеру Бенедикту Морсини в Бультон:
«Если брату Луиджи не удастся устранить в пути агента наших врагов, англичанина Кремпфлоу, примите все меры, чтобы воспрепятствовать его встрече с Джакомо. Опасность возрастает. Буотти с помощью Кремпфлоу уже на грани раскрытия тайны Джакомо. Предосторожность требует, чтобы дочь Джакомо покинула отцовский дом бесследно. Будьте все время настороже, оберегайте тайну Джакомо. Без колебаний любыми средствами пресекайте все попытки врагов проникнуть в нее. В случае успеха своего предприятия с Кремпфлоу Луиджи вручит вам все деньги, которые обнаружит у англичанина. Сумма равна двум с половиной тысячам скуди. Ваш ответ незамедлительно вручите брату Луиджи. Благословляю вас на труды и подвиги во имя общего дела.Томас Бингль вопрошающе взглянул на брата: – Для чего ты намерен ехать в Кале, Джордж?.. Ведь не собираешься же ты переправиться в Англию и явиться с этим письмом к патеру Бенедикту вместо Луиджи Гринелли? – Именно это я собираюсь сделать, друзья! Ростом и цветом волос я похож на Луиджи, а в остальном положусь на счастье! В Бультоне мне, конечно, придется работать осторожно… при дневном свете Морсини, разумеется, сразу обнаружил бы обман, значит, днем мне нельзя будет попадаться на глаза ни патеру, ни бультонским тюремщикам… Попытаюсь действовать ночью… Если удастся разведать планы патера Морсини, все карты отцов иезуитов будут нам окончательно ясны. Томас Бингль с сомнением покачал головой. Антони, морщась от боли в ноге, перебирал документы убитого. Ему попалась записная книжка. Джордж пристально вгляделся в характерные буквы чужого почерка. – Стой! Смотрите, вот почерк Гринелли. Патер Морсини несомненно знает эту руку!.. Это сильно облегчает нам задачу, друзья!.. …За двое суток Джордж Бингль и Дик Милльс доскакали до Лиона, но здесь их постигла неудача, случайно их опознал на улице тот самый чиновник, которого мнимый «патруль» остановил на лионской дороге близ Марселя. Друзья с трудом избежали ареста. Добродушный Жак Перше помог им бежать из Франции в Савойское герцогство, откуда они, длинным кружным путем, лишь через полтора месяца добрались до Дюнкерка. Переправившись в Дувр, «купец Микель Альбанти» и его «слуга» прибыли наконец лондонским дилижансом в Бультон.Ф. д. Г.»
4
Хельга Лунд, прежняя кормилица и нянька Изабеллы, убирала комнату своей молодой госпожи. Мисс Изабелла отправилась на верховую прогулку. Из-под столика наследницы Ченсфильда Хельга извлекла плетеную соломенную корзинку, наполовину засыпанную обрывками бумаг, лоскутами шелковых ленточек, сломанными пуговицами, шпильками и прочим невинным хламом. Хельга укоризненно покачала головой, вытряхнула содержимое корзинки прямо на пол и отправилась вниз за совком и ведерком. Именно этой минутой удачно воспользовался духовный пастырь и наставник Изабеллы. Отец Бенедикт Морсини никогда не упускал случая «ненароком» заглянуть в девическую келью Изабеллы, когда хозяйка покидала ее. Патер, войдя в пустую комнату, немедленно наклонился над кучкой мусора на полу и перебрал два-три смятых конверта. Расправив один из них, он не узнал почерка отправителя, притом почерка, по всем признакам, мужского. Это заинтересовало патера, ибо он достаточно подробно изучил руку всех корреспондентов Изабеллы. Тут же, среди мусора, патер заметил клочки бумаги, исписанные тем же почерком. Отец Морсини стал торопливо извлекать эти клочки из маленькой груды, что было нетрудно, так как рука, нервно разорвавшая письмо, столь же нервно скомкала клочки и швырнула их в корзину. Когда Хельга Лунд вернулась в комнату, патер Бенедикт, которого шведка, кстати, не жаловала своим расположением, уже стоял у широкого подоконника и задумчиво глядел на голые прутья тополей под окнами… Вечером, вернувшись домой, он сложил и распрямил листочки, нахмурился при виде двух подписей и принялся наклеивать разорванное письмо на листок бумаги.На пасхальной неделе лорд Ченсфильд почувствовал себя настолько бодрым, что присутствовал с женой и дочерью на праздничном богослужении в бультонском соборе; на другой же день в Ченсфильде состоялся первый прием гостей, а в конце недели владелец поместья впервые после болезни сел в седло и совершил небольшую верховую поездку по своим угодьям. Дочь милорда, тоже только что возвратившаяся с прогулки, вошла в кабинет розовая и свежая. – Поскучай с больным стариком, Белла, – сказал отец, потрепав кудри девушки, – и помоги ему разобраться в этом скучнейшем бумажном хламе. Отец откинулся в кресле, закрыл глаза и, казалось, погрузился в дремоту. Изабелла вскрывала конверт за конвертом и читала фамилии отправителей или названия фирм. В большинстве случаев отец, не открывая глаз, сразу делал отстраняющий жест ладонью, и письмо непрочитанным летело в большую папку для бумаг. Изабелла взяла в руки большой серый пакет с тремя печатями и штампом «Калькутта». Обратный адрес гласил: «Ост-Индия, Бенгалия, порт Калькутта, юридическая контора Ноэль-Абрагамс и Мохандас Маджарами». Сон довольно быстро слетел с графского чела, а его полузакрытые очи отверзлись не без удивления. – Старинная фирма! – пробормотал он. – Любопытно, что им понадобилось. Прочти-ка мне письмо, Белла. На плотной бумаге с витиеватой золотой каймой рукой писца-каллиграфа был выведен тушью следующий текст:
«Его светлости лорду-адмиралу графу Ченсфильда, эрлу Бультонскому. Высокочтимый сэр Фредрик Райленд! Льстя себя приятной надеждой, что наименование нашей скромной индийской конторы, к числу клиентов коей мы некогда имели честь причислять и вашу светлость, не совсем изгладилось из памяти вашей светлости, мы позволяем себе обратиться к вашей светлости с выражением глубочайшего уважения…»– Пропусти эту болтовню, Белла, посмотри в конце, о чем они просят. Изабелла перевернула страницу и в конце второго листка прочла:
«…не оставите без милостивого покровительства контору, некогда имевшую честь ввести вашу светлость в права наследства. Позволяем себе выразить надежду, что ваша светлость соизволит милостиво принять в Бультоне, где мы открываем филиал нашей конторы, нашего внука и внучатого племянника, которые сочтут для себя высокой честью и удовольствием лично засвидетельствовать вашей светлости свое уважение и преданность. Готовые всегда к услугам вашей светлости– Значит, внуки этихиндийских дельцов должны пожаловать к нам в Бультон и открыть филиал конторы? Уж не воображают ли они, что я стану ловить простачков для их лавчонки? – Не горячись, папа. Ради бога, не горячись! Это послание такое смешное, смиренное и почтительное! Если эти индийские внуки явятся, я встречу их и отошлю к Мортону. – Хорошо, Белла. Отнеси письмо старику и попроси его написать ответ. Как зовут их, этих калькуттских внуков? Изабелла заглянула в письмо: – Лео Ноэль-Абрагамс и Наль Рангор Маджарами. По-видимому, они уже в Лондоне и вскоре должны быть здесь. Наль Рангор Маджарами – это, наверное, настоящий индус? Это немножко таинственно. Я обязательно хочу посмотреть на него. – Белла, если эти бумаги еще не надоели тебе, погляди, нет ли чего-нибудь интересного в газетах, – попросил отец. В лондонском «Обсервере» коротко сообщалось, что сеньор Диего Луис эль Горра, командир частного вольного крейсера «Три идальго», базирующегося где-то на Африканском побережье, обратился с письмом к Учредительному собранию Франции, предлагая свой корабль в распоряжение революционного народа. По словам газеты, маркиз Лафайет, участвовавший в Войне за независимость американских штатов, вспомнил и высоко оценил за слуги экипажа этого корабля в боях против врагов американской революции и рекомендовал собранию принять предложение молодого командира. В ближайшее время вольный корабль должен был вступить в строй военных судов революционной Франции. Граф заставил перечесть эту короткую заметку дважды. От него не укрылось, что Изабелла при чтении краснела и бледнела. В заметке ничего не говорилось об остальных офицерах этого корабля, но и отец и дочь довольно ясно представляли себе лица на командном мостике «Трех идальго». Изабелла, опасавшаяся вызвать у отца новый приступ болезни, поторопилась отложить «Обсервер» и взять лондонскую «Газету». Камердинер доложил о прибытии Уильяма Линса. – Оставь нас, Белла… – приказал лорд-адмирал. – Какие новости вы привезли, Линс? – Милорд, несчастья продолжают нас преследовать… Получено сообщение из Марселя… Мистер Алекс Кремпфлоу… Я опасаюсь, сэр, что новая весть может опять ухудшить ваше здоровье. – К черту здоровье, Линс! Какую новость вы привезли мне про этого Алекса? Он мне не нравится, черт побери! – Теперь это больше не имеет значения, сэр. Алекс Кремпфлоу ограблен и убит на борту корабля «Эльмиона». В убийстве подозревается матрос – немец Х.В. Таумель. Мистер Кремпфлоу погребен на марсельском кладбище… Это чертовски большая потеря, сэр. – Нет, Линс, это не слишком большая потеря. Удалось ли вам выяснить что-нибудь о причинах его поездки в Италию? – Полагаю, что удалось, сэр. Он поехал по важному частному делу. Оно было поручено ему синьором Томазо Буотти, хранителем домашнего музея венецианского вельможи, графа Паоло д’Эльяно. Сэр Фредрик Райленд привскочил в кресле: – Графа Паоло д’Эльяно, говорите вы? Что же поручил Алексу этот Томазо Буотти? – Мне удалось это выяснить случайно. На днях я сидел за кружкой пива со старым Слипом. Он шестнадцать лет служил у покойного Вудро… – К черту эти подробности, я знаю людей Вудро. – Итак, Томазо Буотти явился в прошлом году. Кремпфлоу сразу послал Слипа за художником Бинглем, и тот скопировал с итальянской эмали портрет какой-то женщины с ребенком… – Так вот откуда попала к Бинглю эта копия! Продолжайте, Линс, у вас на плечах – не кочан капусты, будь проклята моя кровь! Польщенный сержант покрутил усы и приосанился. – Сразу после беседы с Буотти Алекс Кремпфлоу собрался в дорогу. Через две недели после его отъезда Слип выслал копию портрета по адресу «Ливорно, до востребования, эсквайру Кремпфлоу». Все это Слип рассказал мне на днях за кружкой… – Но как вы узнали, что этот Буотти служит у графа д’Эльяно? – Доктор Буотти сначала явился ко мне и назвал свое имя и звание. Я сам послал его на Ольдермен-Кросс. – А характер поручения неизвестен? – Он явно связан с поисками лиц, изображенных на портрете. – И вы полагаете, что поручение разыскать эти лица исходит от самого графа д’Эльяно? – Может ли в этом быть хоть малейшее сомнение, сэр? – У вас хорошо проветривается чердак, Линс! Я сделаю вас наследником Крейга, черт побери! Слушайте, Линс, оставьте Слипа в «Чреве кита», а Джоуса – в «Белом медведе». Поезжайте в порт, дайте распоряжение капитану Ольберту приготовить «Южный крест» к плаванию. Мы едем с вами в Италию. Это мне, черт побери, посоветовали врачи, понимаете, Линс! Через неделю поднимаем паруса!Заломон Ноэль-Абрагамс Мохандас Сами Маджарами».
Самым запущенным уголком в Ченсфильде стала усадьба престарелого управляющего поместьем, мистера Томаса Мортона. Формально владелец Ченсфильда не сместил старика с этой должности, но уже ни один человек не обращался к нему за хозяйственными распоряжениями. Старый Мортон доживал свой век. Половина коттеджа, где некогда свили свое первое гнездышко Эдуард и Мери Уэнт, была теперь заколочена досками. Майским вечером хозяин поместья удостоил усадьбу Мортона поздним визитом. Мистер Мортон сидел у закрытого окна в сад. В комнате пахло остывшей золой и плесенью. Граф Ченсфильд смахнул шторой пыль с подоконника, отчего штора существенно не изменила своего цвета. Из окна виднелся пруд. Черная его поверхность уже успела зацвести ярко-зелеными пятнами ряски. Над прудом и аллейками, поросшими травою, носилось множество летучих мышей. Хозяин поместья расположился на подоконнике. Ничье присутствие не воскрешало в его памяти картин прошлого с такой силой, как присутствие Мортона. При нем лорд-адмирал становился самим собою – пиратом Джакомо Грелли. Эксцентрическая поза на подоконнике вполне соответствовала его необычному душевному состоянию. Его тянуло на мужскую откровенность. Причиной этому были вновь полученные вести. Грелли считал, что перед «старой рухлядью в кресле», как он именовал Мортона, можно не стесняться ни в позах, ни в выражениях. Тем не менее перед всеми своими серьезными начинаниями лорд-адмирал советовался и откровенничал со стариком, находя, что его мозг еще способен «высекать искру мысли». – Послушайте, Мортон, вы всегда были добрым отцом и примерным семьянином. Но скажите, если бы у вас оказался незаконный сын, плод обманутой вами женщины, как бы вы отнеслись к нему? – Право, не знаю, сударь. У меня не было… таких женщин. – Но если бы вы узнали… – Не будьте жестоким ко мне, сэр. Я и без того сурово взыскан Господом. Моя дочь бросила меня… и, видит бог, виною тому – моя встреча с вами! – У нас одна судьба, старик. Вы не забыли Чарльза? Послушайте: мой отец разыскивает меня. – Ваш отец? Позвольте… Ах, этот венецианский патриций? Так он… еще не благословил земное? Кажется, имя его… – Граф Паоло Витторио Альберто Джорджио д’Эльяно. – Сколько же лет его сиятельству? – Лет на пять больше, чем вам. Поздновато он вспомнил о маленьком Джакомо, сыне обманутой им певички, а, Мортон? – Кто принес вам весть, что граф разыскивает вас? Уж не отец Бенедикт ли? – Отец Бенедикт? Гм! Отец Бенедикт?.. Нет, не он. Я узнал это от Линса. В Англию приезжал человек, графский служащий, некий доктор Буотти, который по всей Европе ищет Джакомо Молла. И представьте себе, Мортон: этот Буотти нанял нашего Алекса Кремпфлоу, чтобы разыскивать Джакомо! Забавно, а? – Значит, мистер Кремпфлоу с этой целью и отправился в Италию? – Да, очевидно. Только… ему там не особенно повезло: его зарезали во время этих поисков. За два с лишним десятилетия, прожитые Мортоном бок о бок с Грелли, мирный солиситор перестал вздрагивать при словах «зарезать», «застрелить». Известие о смерти Кремпфлоу старик принял равнодушно. – Что вы думаете об этом убийстве, Мортон? – О сударь, любой юрист, даже такой незначительный, как я, даст вам один ответ: ищите того, кому это было выгодно. Вероятно, у графа д’Эльяно есть наследники? – Потомков у синьора не осталось. Отец Бенедикт, помнится, как-то говорил мне, что граф завещал свое имущество не то родному городу, не то какому-то монастырю, не то храму… – Кстати, сударь, насколько я припоминаю ваш рассказ об Италии, отец Бенедикт принадлежал прежде к ордену Иисуса? – Да, принадлежал и, надо полагать, принадлежит и сейчас. Что вы хотите сказать этим, Мортон? – Решительно ничего, сударь. Об отцах иезуитах предпочтительнее молчать. Джакомо Грелли глубоко задумался. Майские сумерки медленно сгущались в саду. Лоскутья тумана неподвижно повисли над водой. Почти под самым окном находилась лужайка. На ее краю недавно сожгло молнией старый, высохший дуб. Мертвое дерево чернело среди молодых дубков. – Я решил побывать в Италии, Мортон. – С какой целью, сударь? – Хочу взглянуть на своего отца. – Раньше вы… не вспоминали о нем. – Да, пока не знал, что он вспоминает обо мне. – Велико ли его богатство, сударь? – Его богатство? Пять-шесть миллионов. Это не окупит сиротских лет Джакомо Молла. – Я плохо понимаю вас, сэр. – Попробуйте поставить себя на мое место, Мортон! Кто же, по-вашему, превратил сына в приютского приемыша? Граф Паоло д’Эльяно! По чьей милости Джакомо подыхал бы сейчас в лачуге, в нищете, если бы сам не выбрался на свою дорогу и не научился делать золото? Плевал я теперь на него! И я хочу швырнуть ему назад подачку, которой он надеется откупиться от нечистой совести. Старый Мортон посмотрел в лицо Джакомо Грелли и тяжко вздохнул. – Бог с вами обоими, сударь! – сказал он с укоризной. – Не мне судить, угоден ли Богу такой поступок, но… вы успокоили бы им отцов иезуитов! Грелли искоса взглянул на старика и рассмеялся: – Вы могли бы стать государственным человеком, Мортон, если бы ваша совиная мудрость не сочеталась с заячьей душой… Да, чуть не забыл: если сюда явятся с визитом эти два новых калькуттских юриста, что открывают контору в Бультоне, жена примет их. Сами вы отнеситесь к ним поласковее! Как ни говори, этой фирме я обязан Ченсфильдом. – Но, сэр, не опасно ли… – Опасно? Со дня гибели «Офейры» минуло двадцать два года, и Альфреда Мюррея уже нет в живых. Прошлое умерло, старик!
5
Портовый матрос, тащивший с пирса багаж двух пассажиров из Калькутты, уже изнемогал от усталости, когда слуга приезжих подъехал к пристани и помог матросу погрузить тяжелые чемоданы в кеб. – Вероятно, господа остановятся в «Белом медведе»? – осведомился матрос, пряча в карман заработанную полукрону. – Нет, мы уже выбрали частную квартиру. Кебмен, Гарденрод, дом госпожи Таубе… Наклейка о сдаче внаем уютного домика, некогда служившего квартирой мистеру Джеффри Мак-Райлю, появилась на окнах особняка лишь недавно, через полгода после гибели старого жильца. Она-то и привлекла внимание двух молодых иностранцев, совершавших первое путешествие по городу. Они учтиво осведомились у хозяйки об условиях и пришлись старой немке по душе. С этого майского утра приезжие адвокаты Лео Ноэль-Абрагамс и Наль Рангор Маджарами вместе с их стариком слугою сделались жильцами фрау Таубе. Молодые юристы довольно быстро придали домику вид заправской конторы. Фрау Таубе с неудовольствием увидела, что ее домик оказался превращенным в учреждение, но молодые люди успокоили старуху обещанием небольшого дополнения к установленной плате. Кроме того, она убедилась, что поток посетителей, которого она опасалась, оказался уж не столь бурным. За первую неделю существования молодого учреждения, уже зарегистрированного в мэрии под названием «Юридическая контора Абрагамс и Маджарами в Калькутте, бультонское отделение», мистеры Лео и Рангор приняли одного-единственного посетителя, каковой оказался сборщиком королевских податей и налогов, явившимся для определения возможной прибыли казне от нового предприятия. Вторая неделя дала некоторым бультонцам основание с известным одобрением поглядывать на эмалированную дощечку, столь недавно украсившую зеленые ворота особнячка на Гарденрод. Мистер Лео, выступая перед специальным жюри в суде присяжных по делу старосты строительной артели, обвиненного в растрате порученных ему подрядчиком денег, проявил столь редкое красноречие и такое умение прибегать к хитроумным юридическим уловкам, что приговор оказался в пользу ответчика. Адвокатом истца выступал сам старый Томас Мортон, потерпевший поражение от калькуттского новичка. В результате первого успеха у новой конторы уже к концу второй недели стали появляться клиенты. И лишь после этого оба джентльмена послали свои визитные карточки в Ченсфильд. В ответ они получили очень любезное приглашение от своего коллеги и недавнего противника на суде мистера Томаса Мортона. Оказалось, что сам владелец поместья неделю назад отплыл в Италию для поправления здоровья, но поручил мистеру Мортону, а также своей дочери, мисс Изабелле, заверить обоих молодых юристов в своем весьма благожелательном отношении к ним. Оба джентльмена, явившись в Ченсфильд, были представлены леди Райленд и удостоились получасовой беседы с виконтессой, проявившей любознательность в вопросе об одеяниях индийских женщин. Мистер Рангор очень живо рассказал о некоторых обычаях своей родной страны. Леди была потрясена известием, что священные коровы без помех разгуливают по калькуттским тротуарам, и совсем невероятным показалось ей сообщение, что священные грифы, каковые в ее представлении были чисто геральдическими птицами, служат в Калькутте мусорщиками, исправно очищающими город от помоев и отбросов. Пока Наль Рангор Маджарами развлекал миледи этнографической беседой, мисс Изабелла показывала второму гостю, мистеру Лео, охотничий кабинет сэра Фредрика. В отличие от леди Райленд, сохранившей очень приятные воспоминания о беседе с образованным индусским гостем, мисс Изабелла осталась после отъезда джентльменов в странно угнетенном состоянии духа.6
Патер Бенедикт Морсини жил в том самом домике на территории порта, где когда-то старый Эндрью Лоусон сдавал комнаты «респектабельным приезжим». Передняя часть дома была перестроена под католическую часовню. Узенькая дверь соединяла помещение капеллы с жилыми покоями монаха. В распоряжении отца Бенедикта оставался прежний слуга Лоусона, Грегори Вебст, и благодаря наблюдательности и разговорчивости этого прислужника патер был отлично осведомлен о делах лиц, вызывавших интерес любознательного монаха. После превращения в капеллу домик Лоусона изменился до неузнаваемости. На первый взгляд казалось, что серое здание часовни с цветными стеклами в узких оконцах никогда не предназначалось для иных целей, кроме чисто церковных. Среди унылых и неуютных портовых строений часовня патера Бенедикта выглядела как умилительное украшение, нежное и чистое. В один из майских субботних вечеров мисс Изабелла Райленд приехала в капеллу отца Бенедикта. – Я должна проститься с вами, святой отец, – сказала наследница Ченсфильда. – Завтра я уезжаю с мамой в Лондон. Теперь я не увижусь с вами до окончания моего пансиона. Я хочу проститься с нашей капеллой. В молельной царила полумгла, озаряемая огоньками двух лампад перед ликами святых. Патер Бенедикт возжег свечи перед большим черным Евангелием на алтаре и взглянул на Изабеллу очами, полными скорби. – Не отвлекла ли я вас от благочестивых размышлений, святой отец? Мне кажется, вы огорчены чем-то. – Я давно поджидал вас, дочь моя, – отвечал монах прочувствованным голосом. – Но вы правы, Изабелла, я скорблю, глубоко скорблю о горестной утрате. – Быть может, я была бы в силах чем-нибудь смягчить вашу скорбь, святой отец? Отец Бенедикт положил руку на золотые локоны девушки, с нежностью поцеловал ее чистый, высокий лоб и вздохнул еще горестнее: – Это всецело в вашей власти и в ваших силах, Изабелла, ибо утрата, которую я оплакиваю, – это доверие моей духовной дочери. Я скорблю, что лишился его, вашего доверия, Изабелла. – Но, святой отец, чем же я виновата перед вами? – У нас, пастырей духовных, более прозорливые глаза, нежели у мирян, даже у родных отцов. С некоторых пор, Изабелла, я почувствовал, что в душе вашей появились тайны от меня, коих ранее не было. Я не могу постичь причин этого, но слишком хорошо знаю ваше сердце, чтобы не понимать, как далеко оно сейчас от искренности со мною. Сильное смущение девушки, ее молчание и опущенные глаза лучше прямого признания подтвердили духовному лицу, что и она страдает под бременем некоей невысказанной тайны. Вкрадчивый, бархатный голос, нежный и чуть-чуть зловещий, стал еще мягче и печальнее. Отблеск свечей и лампад падал на черную книгу, белый с золотом крест распятия и бронзовую бороду святого Франциска. Глаза Изабеллы наполнились слезами, – так задушевно, так мило ее сердцу было это убежище от всех мирских горестей и скорбей. – Святой отец, у меня на душе действительно лежит большая тайна… И я давно бы пришла к вам за советом, за разрешением от мучительного, тревожного сомнения, если бы… Если бы именно это, именно обращение к вам, не было прямо запрещено мне. – То, что позволено Господом, не может быть запрещено людьми. Только грех против Духа Святого не прощается даже в небесах. А неискренность перед Богом или его служителем есть грех против Духа Святого, Белла. – Отец мой, поймите меня: тайна принадлежит не мне одной. Ее разделяют несколько человек. Я не давала им никаких обязательств молчания, но я чувствую, что эти странные люди не хотят мне зла. – Белла, подчас даже закоренелый преступник, злодейский убийца, что подкрадывается с ножом к спящему, обходит встреченный цветок, чтобы не растоптать его, если он свеж и прекрасен… И никогда не думайте, что тайна, которую вы поведаете служителю Бога, есть раскрытая тайна, ибо нет для священнослужителя более тяжкого греха, чем нарушение тайны исповеди. Вы не ведаете, дочь моя, какие сокровеннейшие дела человеческие покоятся на глубоком дне моей памяти и доверяются мною лишь единому Богу… Облегчите свое сердце исповедью перед Всевышним, Белла! В молитвенном экстазе девушка опустилась на колени. Он ласково поднял ее, усадил на скамью и еще раз поцеловал в лоб. От движений его широких черных рукавов пламя свечей поколебалось, и лик Пречистой Девы будто ожил в игре смутных теней. На долю секунды Изабелле почудилось, будто костяная рука Девы пошевелилась и подержала палец у губ. Изабелла подняла к лику Девы заплаканные глаза. Узкое костяное лицо с выдолбленными неподвижными зрачками было безучастным, неживым, кукольным… В наступившей тишине Изабелла различила звук капли воска, упавшей на каменную плиту пола. Прерывисто вздохнув, девушка обхватила обеими руками длинную кисть патера и зашептала: – Отец, вы помните наше посещение тюрьмы? Вы помните узника – испанца дона Алонзо де Лас Падоса? – Да, я помню этого человека. Продолжайте, моя дорогая дочь, – услышала она нежно-зловещий голос монаха. – Он… не погиб при взрыве и скрылся. – Сие мне известно, дочь моя. – Сначала я получила его письмо, почтительное и нежное… – И в нем он просил сохранить его обращение к вам в тайне, правда? И даже советовал скрыть его от меня, предостерегая мою дочь против ее духовного пастыря! – Это правда. И я до сих пор молчала. Откуда вы все это знаете, отец? – Очи духовные зорче простых человеческих глаз. Продолжайте свою исповедь, Белла! – Третьего дня Ченсфильд посетили два молодых калькуттских юриста. Я познакомилась с ними, папа перед отъездом просил меня передать им сердечный привет и пообещал содействовать их новому предприятию. – Помощь ближним – христианнейшее из всех помышлений милорда, Белла. – Этот мистер Лео Ноэль-Абрагамс… – …крещеный иудей, насколько мне известно? – Отец мой, он только принял облик крещеного иудея из Калькутты. Этот человек – Алонзо де Лас Падос. Исповедуемая почувствовала, как дрогнула рука ее духовника, но голос, спокойный и ровный, как прежде, произнес: – Я давно догадываюсь об этом, Изабелла! – Боже, святой отец, и вы тоже… храните это в тайне от всех людей? Как заблуждается в вас этот несчастный! Он убежден, что в новом гриме остался никем не узнанным. – Он беседовал с вами наедине, Изабелла? – Да, святой отец, и он сказал мне то, от чего я до сих пор не могу опомниться. Он сказал мне, что его настоящее имя… – Продолжай, дочь моя, ибо мне известно и это… – О святой отец, он открыл мне – могу ли я верить? – что его зовут Чарльз и что он мой родной брат по отцу, мой брат, которого все считают погибшим в трехлетнем возрасте… Тоненькая восковая свечка вдруг затрещала и наклонилась, готовая упасть. В капелле, сыроватой и прохладной, сделалось чуть темнее. Отец Бенедикт выпрямил свечу, снял нагар, и маленький огонек замерцал снова. Он тихо обнял девушку за талию и, увлекая ее из молельной, заговорил убедительным, ласковым тоном наставника: – Белла, судить о том, с какими целями этот молодой человек, под угрозой разоблачения и смерти, явился в Бультон, нам с вами не дано. Не дано нам и знать, правду ли говорят его уста или же он просто хитрый самозванец, задумавший обмануть вашего отца. – Но он ненавидит моего… то есть, по его словам, нашего отца! Он не хочет открывать ему свое имя. Он преисполнен вражды и ненависти к богатству и славе отца. – Не будем судить его, Белла. У нас нет этого права. Вы исполнили свой долг перед Всевышним, и он просветит ваш разум. Но ради сбережения сил вашего отца, подорванных недугом, боже вас упаси сделать ему хотя бы малейший намек об этих открытиях. Не вздумайте написать ему в Италию про эти тайны. Скажите, больше никто о них не догадывается? И еще: кто же его спутник, этот индус Наль Рангор Маджарами? Уже на пороге молельни Изабелла задержалась. Патер заметил румянец, выступивший у нее на лице. – Этот человек тоже участвовал в той странной игре, в… обмане городских властей… Он выдавал себя за офицера королевских войск, кавалера де Кресси. Вы помните его, святой отец? – Да вознаградит вас Господь за вашу веру в его недостойного слугу! Остерегайтесь этих людей, Изабелла, ибо мы не знаем их намерений! Избегайте их. Пишите мне из Лондона обо всем, что будет тревожить и смущать вашу чистую душу. И, осенив склоненную голову девушки крестным знамением, отец Бенедикт открыл дверь в свою приемную, где гувернантка Изабеллы мисс Тренборн уже начала проявлять признаки нетерпения. Однако старая леди устыдилась этих чувств, взглянув своей воспитаннице в лицо. Оно было просветленным, и, казалось, сама небесная благодать незримо снизошла на это детски-невинное лицо с большими правдивыми глазами.22. Старый роялист
1
Лондонская почтовая карета высадила перед подъездом «Белого медведя» путешественника в потертом дорожном плаще и его слугу. В гостинице приезжий взял номер и стал подробно расспрашивать лакея о деятельности бультонских таверн, ресторанов и прочих заведений, промышляющих виноторговлей. В книге постояльцев приезжий записал свое имя и звание: Микель Альбанти, купец из Флоренции, со слугою; собственная виноторговая фирма, существует с 1677 года. Купец открыл в номере бутылку порто, не украшенную никакой наклейкой, но распространившую благоухание, способное в несколько минут лишить любое общество трезвости всех его членов. Приезжий предложил лакею сделать глоток, и тот ощутил на нёбе нечто вроде дуновения живительного ветерка из розового сада. По словам купца, запас этого вина в шестьсот галлонов и побудил его предпринять путешествие в английский северный город, чтобы порадовать любителей доброго итальянского вина. Поговорив о ценах и возможных торговых конкурентах, купец закончил беседу вопросом, имеются ли в Бультоне жители итальянского, французского или испанского происхождения. Лакей отвечал приезжему утвердительно, назвав оперного тенора, двух представителей корабельных компаний, священнослужителя католической капеллы, две-три семьи французских эмигрантов-роялистов и одного ювелира. Затем тоном глубочайшего пренебрежения лакей добавил. – Есть еще в порту итальянская шваль: грузчики, докеры и носильщики, но они предпочитают напиваться джином. – Адреса названных вами синьоров, кроме докеров, разумеется, потрудитесь принести мне в номер вместе с заказанным обедом, – попросил иностранец. Получив адреса и сунув довольно объемистую пачку своих итальянских кредиток в желтую кожаную сумку, синьор под вечер отправился в порт. За пирсами набережной, где с пришвартованных кораблей выгружались колониальные товары, виднелись суда на ближнем рейде, уже готовые к отплытию. Купец осведомился об их маршрутах и услышал, что датский бриг «Король Улаф» готовится после полуночи поднять якорь. Ближайший заход намечался в Кале. Капитан «Короля Улафа» оказался как раз на берегу. Дымя трубкой прямо в лицо синьору Альбанти, он в ответ на очень вежливую просьбу купца предложил ему место на палубе. Будущий пассажир «Короля Улафа» выразил согласие, уплатил капитану вперед и пошел вдоль набережной, отыскивая глазами строение католической часовенки по приметам, сообщенным ему гостиничным слугою. На западе сгустились темные дождевые тучи, и портовые фонари уже замигали расплывчатыми желтыми пятнами сквозь серую туманную мглу. В задних оконцах часовни, еле заметных сквозь туман и темно-зеленую чащу садика, тоже затеплились огоньки. Это был отблеск свечей из жилых покоев капеллана. Решетчатые окна молельни оставались темными. Он обошел часовню и огляделся: поблизости не было ни души. Синьор Альбанти поднял горсть гравия и тихонько швырнул ее в освещенное окно. Он плотнее завернулся в плащ, накинул капюшон на голову и с минуту постоял под окном, косясь на занавеску. Заметив, что занавеска дрогнула, он повернулся и медленно пошел к выходу из порта. В тишине вечера синьор Альбанти услыхал позади звук открываемой калитки. Смутно различимая фигура в большой шляпе и черном одеянии возникла у решетки садика, захлопнула за собой калитку и торопливой, семенящей поступью направилась к дальним воротам в портовой ограде, следом за человеком в капюшоне… Купец замедлил шаги. Миновав фонарь, купец рассчитанно неторопливым жестом достал из-под плаща желтую плоскую сумку. Монах прошел мимо… Он узнал желтую сумку и знакомый плащ с капюшоном! Патер Бенедикт понял: перед ним был Луиджи Гринелли, тайный посланец отца Фульвио из Венеции. Монах пошел тише; теперь он не торопился покинуть последний неосвещенный промежуток между фонарем и воротами на улицу. За спиной он услышал легкие, быстрые шаги. Рука его ощутила мимолетное прикосновение холодных пальцев, державших кожаную ручку сумки. Мгновенно и незаметно сумка исчезла под сутаной монаха, а человек в плаще быстро ушел вперед. Не оглядываясь, он миновал алебардщика у портовых ворот и скрылся в тумане. Монах не изменил избранного направления и долго шагал по мрачной, безлюдной Чарджент-стрит, ощупывая под сутаной кожаную сумку. Он дошел до унылых корпусов дома общественного призрения и постучал в дверь бокового флигеля. Сердитый прислужник открыл дверь и грубо спросил: «Чего надо?», но, узнав гостя в лицо, стал приветливее. – А, святой отец, – сказал он благожелательно, – сироты вас заждались. Пожалуйте. Обойдя дортуары приюта, добрый пастырь успел побеседовать со многими старшими воспитанниками, поиграть с маленькими и раздать целый мешочек лакомств тем и другим. Молва широко разносила по всему Бультону эти пастырские подвиги милосердия. Приютское начальство из тщеславия охотно поддерживало слухи о «нашем святом», ибо эти слухи поднимали репутацию сиротского дома, чьи питомцы выглядели бледнее и болезненнее костяных фигур католической капеллы. Исполнив свои христианские обязанности, патер изъявил желание отдохнуть. Одна из дам-патронесс, супруга бультонского педагога, госпожа Чейзвик, пригласила патера наверх, где он смиренно уселся в уютной приемной. Монах извлек из-под полы желтую кожаную сумку, вытащил из нее наспех сунутую туда записку и прочел несколько карандашных строк, бегло начертанных по-итальянски:«За мной следят. Прежний способ передачи опасен. Будьте с ответным письмом на второй скамейке справа от входа в Ольдпорт-сквер в 10 вечера. В письме подтвердите получение двух с половиной тысяч скуди. Обменять их на английские бумаги я не успел. Покидаю Бультон немедленно.Приоткрыв сумку, монах ощупал тугую пачку казначейских билетов и белый пакет с тремя печатями, хранящими оттиск крошечной саламандры; точно такой же символ украшал печатку его собственного перстня. Часы в приемной показывали двадцать одну минуту девятого. Когда миссис Чейзвик снова появилась в приемной с чашкой душистого чая, патер извлек из кармана небольшой сверток, аскетически перевязанный шпагатом. – Досточтимая леди, – сказал он своим проникновенным, грудным голосом, – мои прихожане снова возрадовали небеса посильными щедротами. Горе этих малюток наполняет мою душу скорбью, и я прошу вас, высокочтимая леди, принять взнос моих добрых прихожан на приютские расходы. Здесь, в этом свертке, шестнадцать фунтов, девять шиллингов и одиннадцать пенсов – все, что собралось в кружке за истекшую неделю благодаря щедротам паствы. А теперь прошу вас, досточтимая леди, оставить меня на короткое время в одиночестве, дабы с глазу на глаз с богом я мог вознести молитву о ниспослании благодати сему дому… Миссис Чейзвик, принимая деньги, уронила две слезы умиления. Сбежав по обеим сторонам ее острого носа, эти капли оросили дар святого отца. Когда растроганная дама-патронесса удалилась, отец Бенедикт взрезал пакет тонким стилетом и прочел письмо патера Фульвио ди Граччиолани. Морща и потирая лоб, патер глядел, как письмо и конверт с печатями истлели на угольях камина. Затем он уселся за стол, обрезал ножницами кончики двух гусиных перьев, придвинул сургуч, песочницу, склянку чернил и написал письмо. Разогрев сургуч на пламени свечи, он запечатал пакет перстнем с агатовой печаткой, сунул письмо в желтую сумку, извлек из нее пачку ассигнаций и порознь спрятал деньги и сумку с письмом в своих широчайших карманах.Брат Л. Г.».
Старуха в черной накидке и длинном салопе уныло плелась к Ольдпорт-скверу, позади темного фасада бультонского собора с его двумя остроконечными башнями. Пустынный сквер озаряли по углам четыре фонаря. Констебль медленно прохаживался по площади и скверу, с неодобрением посматривая на поздних прохожих. Бедная старуха, по-видимому, проделала долгий путь пешком, ибо она со вздохом опустилась на скамью, вторую справа от входа, и горестно перевела дух. С высоты соборных башен раздалось десять ударов колокола, и на дорожке сквера показалась фигура католического монаха в черной сутане. Констебль равнодушно наблюдал, как монах, минуя скамью со старухой, окинул взглядом ее сгорбленные горем и годами плечи. Монах участливо покачал головой: вид чужого страдания, очевидно, никогда не оставлял его равнодушным. Констебль, пересекая сквер, уже отдалялся, и до ушей его не донесся почти беззвучный шелест слов, произнесенный монахом: – In nomini Jesu!*["128] – Amen!*["129] – дохнуло в ответ. Старуха еще ниже склонила лицо и прижала к глазам платок. Монах увидел клок седых волос, выбившихся из-под темной накидки, и синеватое пятно над левой бровью – след от старого ожога… – Дочь моя, – произнес монах громче, и ноты христианского участия звучали в мелодичном, грудном голосе, – возьми этот небольшой кошелек. В нем содержится немного, но, быть может, эти гроши помогут тебе в твоей горькой нужде. Всегда обращайся к Господу в часы скорби и отчаяния. Старуха соскользнула со скамьи на колени и облобызала руку монаха. Тот вручил ей желтую сумку, участливо погладил ее плечи, помог занять прежнее место на скамье, вздохнул и пошел дальше своей дорогой, оставив женщину в сквере. Когда патер прошел мимо констебля, издали смотревшего на эту сцену, и взглянул ему прямо в лицо своим приветливым взором, полицейский поклонился священнослужителю и пробормотал растроганно. – Хоть вы, не во гнев будь сказано, и папист, но сделали доброе дело, сэр. От этого можно даже прослезиться. Оглянувшись на старуху, констебль подивился той прыти, с какой обрадованная женщина, прижимая к груди неожиданный подарок, вскочила со скамейки, пересекла площадь и скрылась за углом собора.
2
В одиннадцатом часу вечера, когда юридическая контора на Гарденрод оградилась от внешнего мира запорами, оконными ставнями и непроницаемым мраком, в задней комнате дома отдыхали за шахматами Рангор Маджарами и его старый слуга. В тот момент, когда молодой юрист объявил шах, кто-то постучал в закрытый ставень. Игроки переглянулись. Слуга накинул кафтан, обшитый кожаными валиками вместо галуна, и направился к заднему крылечку. – Кто здесь? – спросил слуга. Раздраженный голос ответил: – Подмастерье портного Мейсона. Хозяин просит уплатить ваш долг сегодня, ибо завтра утром он должен внести налоги. – Капитан, это, кажется, голос Джорджа Бингля, – прошептал мистер Маджарами на ухо своему слуге. Дверь приоткрылась, и темная фигура, отдуваясь и кашляя, поднялась на ступеньки крыльца. – Вы напрасно беспокоите господ в такой поздний час, – громко сказал слуга в темноту. – Молодые господа отдыхают. Мейсон мог бы быть повежливее… Когда дверь заднего крыльца вновь оказалась запертой на все замки и засовы, составлявшие гордость фрау Таубе, вошедший шепотом спросил у слуги: – Есть у вас посторонние на борту, капитан? Слуга поднес свечу к лицу гостя, а затем с силой потряс его руку. – Дома один Реджинальд. Какими судьбами, Джордж? Что нового ты привез из Италии? – Важные новости, капитан Бернардито. Но в распоряжении у меня только полтора часа. В полночь я должен быть на борту «Короля Улафа». Через пятнадцать минут Бернардито Луис и Реджинальд Мюррей знали все, что за последние недели произошло в Ливорно, Марселе и Бультоне, а также прочли копию инструкции, присланной из Венеции патеру Бенедикту. Затем Джордж извлек из желтой сумки пакет, опечатанный перстнем патера. – Черт меня побери, если мои ученики не превзошли своего учителя! Сегодня вы совершили нечто бесподобное, мой дорогой Джордж. Провести за нос отцов-иезуитов! Мне еще в жизни не случалось делать этого!.. Теперь посмотрим, что же пишет патер Бенедикт своему главе, его преподобию Фульвио ди Граччиолани. Давай-ка пакет! Церемониться с ним уже нет нужды! Бернардито вскрыл кинжалом обертку письма и начал читать итальянский текст послания вслух:– «Святой отец! Ваши указания получены. Моя духовная дочь находится сейчас в лондонском пансионате. Ее последняя исповедь обогатила нас важнейшими подробностями. Открывшаяся недавно в Бультоне юридическая контора «Абрагамс и Маджарами» – обман. Это логово противников Джакомо, тех же, что осуществили взрыв. Мнимый Лео Ноэль-Абрагамс признался моей духовной дочери, что он – спасшийся с необитаемого острова сын Джакомо, Чарльз. Во время недавних событий он именовался Алонзо де Лас Падос. Лицо, выдающее себя за его компаньона, – тоже участник мнимой «лондонской комиссии», выступавший под именем Теодора де Кресси. Кто он таков, мне еще не удалось установить…»Лицо Бернардито сделалось страшным. Бумага чуть не вывалилась из его рук, и отборные проклятия посыпались, как дробь из вспоротого мешка. Слушателям казалось, что потолок чернеет на глазах и стены уже готовы рухнуть. Наконец, перебрав всех небожителей, угодников, праведников и святых, все живое на суше, в воде и в воздухе, сочетав из зверей, рыб и пресмыкающихся самые чудовищные гибриды, капитан набрал воздуху, чтобы нанизать прекрасную половину рода человеческого на острие земной оси и затем повергнуть этот титанический вертел в океан кипящей смолы. Мгновенной паузой удачно воспользовался Реджинальд Мюррей. – Читайте уж до конца, капитан, – произнес он очень мягко и при этом покраснел до корней волос. – Тогда замолчите, щенки! – свирепо рявкнул Бернардито, хотя в наступившем молчании уже не раздавалось ни звука. – Полушки я не дам теперь за то, что мы выберемся отсюда! Будь прокляты бабьи языки! Я зашил бы ей рот, этой девчонке! Она утопила нас, как щенят в проруби! Каррамба! – Капитан перевел дух и снова поднес бумагу к единственному глазу.
– «…еще не удалось установить. Джакомо – на пути в Италию. Пока эти подробности от него скрыты. Он наметил по возвращении из Италии совершить поход на необитаемый остров. Экспедиция будет насчитывать пять-шесть кораблей. Ваше поручение об устранении наследницы я полагаю необходимым сочетать с устранением упомянутых «калькуттских юристов». Разумеется, одними своими силами я не в состоянии исполнить эту важнейшую задачу и посему принял следующий план действий: я окажу содействие бегству наследницы с обоими синьорами и наведу Джакомо на их след, распалив его гнев, с тем чтобы он сам одним ударом покончил с беглецами. При этом будет нетрудно принять в случае необходимости дополнительные меры. Благословите на сей подвиг вашего смиренного слугу, недостойного раба божия Б. М.».Часы уже показывали начало двенадцатого. Каждая минута была на счету. Но капитан набил трубку, раскурил ее и окутался облаками, как вершина горы. – Где Чарльз? – шепотом спросил Джордж Бингль у младшего товарища. – У Мортона. Выцарапывает копию его рукописи. Бернардито метнул из-под бровей молнию. Собеседники потупились и замолчали. Минут пять протекло в полной тишине. Бернардито взмахнул трубкой. – Есть решение! – сказал он. – Пойдем снова на большой риск, но поставим все на свои места. Джордж, вам придется отправить в Марсель, к Антони и Томми, вашего «слугу» Дика Милльса. Пусть они втроем поедут в Венецию, добьются тайной встречи с доктором Буотти и откроют ему все до конца. Поручи им от моего имени оберегать старого графа Паоло. – А что вы поручаете мне, капитан Бернардито? – Вам, Джорджи, предстоит переплыть Атлантический океан. В Кале вы найдете подходящее судно. Отправляйтесь в Филадельфию и разыщите там вдову Мюррея, миссис Эмили. Она должна вернуться в Европу вместе с вами, вы послужите для нее провожатым. И пусть приезжает с дочерью. Я пошлю ей дополнительное письмо отсюда. Теперь простимся, Джордж. Привет Дику Милльсу. Вам обоим нужно поскорее покинуть английскую землю. …В первом часу ночи бриг «Король Улаф» поднял паруса. Минут за десять перед отплытием он принял на борт флорентийского купца Микеля Альбанти и его слугу. Лакей в гостинице «Белый медведь» нашел на столе плату за номер, а под столом – несколько дорожных предметов, оставленных постояльцами. Он подивился, обнаружив среди этого брошенного хлама длиннополое женское платье, черную накидку и старомодный салоп, какие обычно носят почтенные особы, утратившие интерес к обновкам и модам не менее четверти века назад…
3
В последних числах июля 1790 года из порта Филадельфия вышел в плавание американский четырехмачтовый коммерческий корабль «Каролина». Он держал курс на восток, к берегам Великобритании. Две каюты в кормовой части «Каролины» были заняты английским джентльменом средних лет, который путешествовал вместе с очаровательной юной леди, по-видимому, в качестве ее опекуна. Спутница его выделялась среди всех пассажиров легкостью и грацией движений, но было заметно, что она еще не совсем освоилась с модными туалетами, кружевами и оборками. Очаровательная девушка находилась под неусыпным попечением старенькой негритянки, тетушки Полли. Это была хлопотливая, добродушная, весьма разговорчивая особа, неизменно впадавшая в панику от каждого всплеска за бортом или содрогания корабельного корпуса. Океанские волны, длинные, с широкими ложбинами, похожими на горные впадины, катились за кораблем, словно пытались догнать его. Уже отстали белые чайки, провожавшие «Каролину» от самого Американского континента… А над старыми пристанями Европы, по ту сторону океана, реяли другие стаи чаек, поджидая судно издалека. Навстречу кораблю вставало солнце. Ветры чередовались с затишьем. Над тугими полотнищами парусов загорались и гасли созвездия, плыли, словно в раздумье, медлительные тучи; мгла и туман сменялись прозрачной синью. Изредка на краю этой неподвижной, вечно изменчивой пустыни возникал встречный корабль. Его встречали и провожали взглядом. Паруса чужого судна исчезали, и тогда снова оставались вокруг только размашистые гривы волн. В пути Дженни Мюррей позировала Джорджу для большого поясного портрета. Он писал ее в легком платье, на фоне парусов и утреннего морского пейзажа. Портрет был почти закончен. Натура уже не нужна была мастеру. Художник вынес мольберт и установил его на палубе, под окнами своей каюты, чтобы поработать над фоном картины. – О, Джорджи, вы перенесли меня в необыкновенное царство! Из полупрозрачной золотистой дымки фона выступали башни и дворцы сказочного города. Пронизанные солнечным светом, вздымались фантастические кроны деревьев, голубели заливы с пятнами парусов, угадывались поля цветов на горных склонах, реяли стаи белых птиц. И на этом золотисто-синем фоне нежно выступал образ юной девушки, живой и в то же время глубоко символический. Зримо ощущалось движение корабля, который нес ее к берегам сказочной страны. Платье девушки трепетало на морском ветру; взгляд ее летел вперед, к приближающимся светлым берегам. – Скажите, Джорджи, разве есть где-нибудь на свете такой счастливый край? – Это Город Солнца, – очень серьезно ответил Джордж, – и если его еще нет, то нужно непременно помочь людям создать его. Создали же древние свой акрополь на голой, безводной и бесплодной скале. И это сделали рабы под беспощадными бичами, жалкие рабы с колодками на ногах. А Город Солнца должен быть заложен и воздвигнут рукамисвободных творцов, руками людей, которые добровольно объединятся в братскую общину. – Вы верите, что это возможно, Джорджи? – Я живу ради того, чтобы сделать это возможным! – Джорджи, милый, боюсь, что мечта увидеть людей счастливыми навсегда обречена остаться только мечтою. Мой отец тоже мечтал о Городе Голубой долины. Он вложил в него всю душу, отдал ему все свои силы, но… очень редко испытывал радость. Под конец мы даже покинули созданный им город, ибо он стал таким же царством несправедливости и жестокости, как любой другой молодой город Америки. Где же, в какой части света, в какой стране вы надеетесь осуществить свою мечту? – Мисс Дженни, не знаю, выпадет ли мне радость полностью воплотить мою мечту, не знаю, увижу ли я Город Солнца окончательно завершенным, но он будет заложен! Пройдет, быть может, много времени, но этот город справедливости и свободы возникнет! И это не в легендарной Утопии, не в стране мечты… – Где же, Джорджи? – В далеком Индийском океане, на Солнечном острове.4
Десять просторных книжных залов Мраморного палаццо, некогда служивших графу д’Эльяно для торжественных приемов и празднеств, были превращены синьором Буотти в дворцовый музей. Картины, статуи, гравюры, драгоценные изделия средневековых оружейников, ковры, фарфор, коллекции камей и эмалей – все эти сокровища, извлеченные из подвалов и тайников палаццо, стали доступными обозрению знатоков и любителей искусства. Редкий путешественник уезжал из Венеции, не осмотрев нижнюю анфиладу залов Мраморного палаццо. Посетителей-знатоков встречал сам хранитель собрания доктор Буотти, а студентов, праздношатающихся туристов и зевак-земляков провожал по десяти залам старый Джиованни Полеста. …Два гостя, назвавшие свои английские фамилии, показались служителю достойными особого внимания. Старик пожалел, что синьор Буотти покинул с вечера дворец, обязав своего слугу и помощника никому не сообщать о его отсутствии. Джиованни уже начал перед важными посетителями свое обычное предисловие, что дворец, собственно, является частным жилищем, как вдруг тишина нарушилась: по ступеням парадной лестницы пробежал слуга в бархатном камзоле. На ходу он торопливо сказал что-то Джиованни, а затем на верху лестницы появился высокий седовласый старик. Полеста метнул на посетителей молниеносный предостерегающий взгляд и с возгласом «Эччеленца!» кинулся навстречу седовласому господину, чтобы успеть поправить отогнувшийся край ковра, куда старик должен был ступить, сойдя с лестницы. Следом за старым синьором спустился по лестнице высокий монах в черной шелковой сутане. Величественный старик взглянул на обоих туристов, стоявших у запертых дверей зала, ответил на молчаливый поклон гостей и приветливо сказал по-французски: – Я вижу, что вы приезжие и намереваетесь осмотреть мой дом. Если вы любите искусство, то среди всевозможной пачкотни вы найдете в этих комнатах две-три сносные картины. Тем временем слуга в бархатном камзоле вышел на улицу и окликнул гондольера, дремавшего на носу большой черной гондолы, которую он машинально удерживал багром за бронзовое кольцо, вделанное в гранитную стенку канала. Гондольер перебрался на корму и схватил весло, а слуга приподнял балдахин над низкой кабиной гондолы. Старший из гостей, так неожиданно встретивших в вестибюле самого владельца палаццо, учтиво поклонился и, слегка грассируя, заговорил на чистом итальянском языке: – Еще в Англии я слышал о восхитительном собрании предметов искусства в Мраморном дворце графов д’Эльяно и счастлив видеть ваше сиятельство лично. Позвольте представиться: английский моряк Фредрик Райленд. – Сэр Фредрик Райленд? Лорд Ченсфильд? Адмирал флота? – спросил изумленный синьор. – Милорд, ваше блестящее знание моего родного языка делает беседу с вами еще более отрадной. Я непременно отложил бы сейчас мой отъезд, если бы не срочный вызов к дожу. Умоляю вас оказать честь моему дому повторным визитом. Простите мне прямой вопрос: где вы изволили остановиться в нашем городе, лорд Ченсфильд? – В венецианской лагуне, ваше сиятельство. – Вы прибыли на корабле? Долго ли он останется в наших водах? – Это моя собственная убогая ладья, граф. – Уж не британская ли яхта «Южный крест», что привела в восхищение всех наших знатоков мореплавания? – Да, синьор, таково название моего суденышка. – О боже! Вы заставляете меня мучительно краснеть за этот прием в вестибюле у запертых дверей! Умоляю вас, дорогой лорд, распоряжайтесь этим домом, как своим собственным. Отец Фульвио, я прошу вас остаться с милордом. Прошу вас, отец Фульвио, задержите милорда хотя бы до моего возвращения. Увы, я уже рискую опоздать! С этими словами старый вельможа сердечно пожал сухие пальцы лорда-адмирала и в сопровождении верного слуги уселся в гондолу. – Отроду не видал более обязательного джентльмена! – пробормотал рыжеусый спутник лорда-адмирала. Его преподобие Фульвио ди Граччиолани, мягко овладев рукою гостя, повел его по анфиладе парадных залов. Заканчивая осмотр, милорд остановился перед портретом покойной графини Беатрисы. Британский гость пристально взглянул на ее сверкающие плечи, на черные глаза, полные жизни и ума, отвернулся с безразличным видом и вслед за патером проследовал своей хромающей походкой к выходу из парадных залов. Отец Фульвио увлек милорда в один из покоев второго этажа. У накрытого стола уже хлопотал молодой проворный слуга. Усадив гостя за стол, иезуит незаметно снял с указательного пальца перстень с агатовой печаткой. Уверенным движением длинных белых пальцев он отвернул камень и нащупал под ним крошечный тайничок… Слуга сервировал вина и стаканы. Два одинаковых резных бокала из больших цельных кусков горного хрусталя привели гостя в восхищение. Граф Ченсфильд поднял один из них и подержал его против света. Искусный узор стоил венецианскому гранильщику долгого, кропотливого труда! Патер Фульвио, не сводя с лица гостя пристального взгляда, молниеносным движением наклонил над вторым бокалом перстень; из него выпала прозрачная крупица. Струя столетнего вина, душистая и густая, наполнила оба сосуда до краев. – Лафкадио, – сказал патер слуге, – отодвиньте этот поднос. Пусть вино немного отстоится и осадок опустится на дно. Нас еще не было на свете, милорд, – добавил он мечтательно, – когда трудолюбивый виноградарь собрал сей благовонный сок и укрыл бочонок в глубоком подвале… Сбор 1699 года! Я прошу вас, синьор, осушить бокал и принять его в дар на память о посещении нашего дома. Гость поклонился: – Мне приходится сожалеть, святой отец, что обязанности уже зовут меня назад… С большой охотой я провел бы еще месяц на Средиземном море, но, увы, во Франции якобинцы грозят трону новыми потрясениями. Фландрия охвачена бунтом, и над отечеством моим сгущаются тучи. Английскому воину пора вернуться к своему боевому коню! Нынче я покидаю Венецию. – Но просьба графа, синьор? Он не простит мне поспешного отъезда вашего лордства! Он, несомненно, пожелает сам показать вам свой дом и собрание. – Я посредственный знаток искусства. Из всего собрания мне запомнился только портрет графини д’Эльяно. – Вам известна ее судьба, синьор? – спросил иезуит вкрадчиво. – Я слышал о ней. Она была убита артисткой Франческой Молла. Но смерть графини была не единственной жертвой… – Кого вы еще изволите иметь в виду, синьор? – Гибель сына артистки Молла, синьора Джакомо, презренного пирата, который бесславно пал в морском сражении, можно сказать, на моих глазах. Его историю я слышал… Вероятно, граф д’Эльяно никогда не вспоминает о своем несчастном отпрыске? – Нет, граф долго разыскивал Джакомо Молла. – Вот как? Известна ли ему плачевная участь сына? – Мы… скрываем от него истинную судьбу Джакомо Молла, дабы уберечь сердце графа от потрясения. Монах взял с подноса свой бокал и, заглядывая гостю в глаза, подвинул ему второй бокал. Голос его был ровен, в нем звучала грусть. – Но граф Паоло еще не потерял надежды отыскать потомков погибшего синьора Джакомо; их ожидало бы огромное наследство… У лорда Ченсфильда зажегся в глазах дьявольский зеленый огонь. – Ручаюсь вам, святой отец, что вы нигде в мире не сыщете этих потомков! Джакомо Молла унес в свою могилу память о сиротском приюте, куда граф д’Эльяно без колебаний позволил поместить этого ребенка. Дальнейшая судьба Джакомо Молла после этих трех злополучных лет была бурной, но он создал ее сам, без отцовской помощи. Золото, машины, рабы – вот его вера, любовь и утешение! Графа д’Эльяно постигла кара – он умрет бездетным. Я понимаю тяжесть этой участи, ибо сам лишился единственного сына, Чарльза Райленда… Сходство наших судеб, моей и графа д’Эльяно, давно занимало мои мысли, и я рад, что встретился лицом к лицу с таким же злополучным одиноким стариком, как я… – Не судите, да не судимы будете! – Слова графского духовника прозвучали торжественно и веско. Свой бокал он снова поставил на поднос. Зеленый блеск в глазах милорда стал похожим на мерцание зрачков раненого леопарда. Медленно, глядя прямо в глаза иезуиту, он сказал, отчеканивая слова: – Граф д’Эльяно навеки потерял право называть Джакомо своим сыном. Синьор Паоло не оставит потомков: это приговор мстящей судьбы! Однако, святой отец, меня давно привлекает это чудесное вино! Кажется, осадок уже осел. За ваше здоровье и за продление дней нашего очаровательного хозяина! Граф Ченсфильд протянул руку к бокалу и уже притронулся к его граням, как вдруг лицо патера Фульвио ди Граччиолани приняло озабоченное выражение. – Мой дорогой гость, пока мы беседовали, в ваш бокал угодила соринка… Лафкадио, наполните другой бокал синьору, а этот сполосните хорошенько: милорд окажет нам честь принять его в память нынешней встречи!Доктор Томазо Буотти, потрясенный до ошеломления и еще неспособный до конца осознать все услышанное, беспомощно переводил взгляд с одного собеседника на другого и молчал. Доктор Буотти провел бессонную ночь в обществе трех молодых синьоров. Встреча происходила в частном венецианском доме, избранном синьорами в качестве штаб-квартиры. Антони Ченни распахнул окно. Табачный дым устремился из комнаты в синеву июльского утра. – Итак, наше повествование окончено, синьор Буотти. Мы не могли посвятить вас раньше в эти подробности, ибо до сего времени нам не хватало доказательств. Теперь перед вами документы: вот письмо Фернандо Диаса к леди Райленд, вот копия записки патера Фульвио к его бультонскому агенту, отцу Бенедикту Морсини, и вот, наконец, подлинный ответ отца Бенедикта своему духовному главе… Корабль преступного Джакомо Грелли, как вы знаете, сейчас находится в водах венецианской лагуны, и, вероятно, злодей навестит дом своего отца. Его намерений по отношению к старому графу мы пока в точности не знаем, это скоро выяснится. Родной сын Джакомо, Чарльз Райленд, сейчас находится в Бультоне и готовится к последней схватке с ченсфильдским извергом и тамошним крестовым пауком в сутане. Рука возмездия настигла Гринелли близ Марселя. Этот иезуит Луиджи в каюте «Эльмионы» убил нанятого вами сыщика Кремпфлоу. Ваши деньги, отданные Кремпфлоу, пошли на благо очковой змее, патеру Бенедикту, который, несомненно, отравил мою несчастную мать, Анжелику Ченни, а сейчас готовится умертвить Изабеллу Райленд. Мы ждем вашего решения, синьор Буотти! Томас Бингль взглянул на часы. – Друзья, уже десять часов! Третий день яхта Грелли стоит в лагуне. Его визит в Венецию не может быть случайным. Один из нас должен взять под наблюдение корабль, а затем лететь в Англию, к старику, чтобы известить его о событиях. Итак, доктор, удалось ли нам убедить вас? Согласны ли вы действовать по нашему плану? – Синьоры, все мои силы – к вашим услугам! – Доктор Томазо, в таком случае нужно оставить здесь, в Мраморном палаццо, синьора Антони Ченни под видом нового служителя музея, чтобы наблюдать за иезуитами, а вам – без промедления отправиться в Лондон. Генерал Хауэрстон должен отнестись к вам с доверием. – Я готов к отъезду хоть нынче, друзья мои!
5
Генерал Хауэрстон, начальник тайной военной канцелярии, принимал в своем лондонском кабинете гостя из Италии. Беседа уже близилась к концу. Генерал сидел в кресле с невозмутимым лицом, подносил время от времени сигару к губам и озабоченно следил за тем, чтобы с кончика длинной гаваны не упал пепел. Доктор Томазо Буотти не мог прочесть по лицу англичанина, серьезно ли он относится к услышанному. Наконец пепел сигары обвалился на бумаги, разложенные перед генералом. – Благодарю вас за эти необычайные сведения, доктор, однако представленные вами документы, равно как и изложенные вами факты, требуют, согласитесь сами, тщательной проверки. – Но те смелые люди, решившие разоблачить злодея, нуждаются в вашей поддержке, генерал. Они подвергают себя смертельному риску во имя защиты своих справедливых прав. Целая цепь тайных злодеяний тянется к мрачному замку этого Цезаря Борджиа наших дней: банкир Сэмюэль Ленди, адвокат Ричард Томпсон, сэр Генри Блентхилл, граф Эльсвик, не говоря уже о кровавой трагедии в Голубой долине и о жертвах Терпин-Бриджа. Мои друзья осуществляют смелый план разоблачения преступного самозванца, но без поддержки властей, хотя бы тайной, им невозможно будет восстановить попранную справедливость. С этой целью я и доставил вам все нужные документальные доказательства. Генерал стряхнул пепел с бумаг и вновь перебрал их одну за другой. – Ну-с, посмотрим, чем мы располагаем!.. Письмо пирата Фернандо Диаса – он же Роджерс, Ханслоу и Поттер, – адресованное леди Райленд; это подлинник… Копия записки Мери Уэнт ее отцу… Копия письма Фульвио ди Граччиолани патеру Бенедикту… Подлинник ответа патера Бенедикта… Записка с подписью «Ч», скопированная Бинглем… адресовано капитану Бернсу. Две копии художественных миниатюр: Джакомо Молла с матерью – датировано 1743 годом, и виконт Ченсфильд с сыном Чарльзом – датировано 1772 годом. Портрет сэра Фредрика Джонатана Райленда, исполненный в Калькутте и датированный 1767 годом… Портрет американского сенатора мистера Альфреда Мюррея, исполненный в Филадельфии в 1787 году, за два года до его смерти… Портрет Томаса Мортона… Портрет мисс Эмили Гарди… Гм! Синьор Буотти, говорю вам откровенно, все это не лишено… как бы сказать… загадочности, но еще далеко не достаточно, чтобы доказать присвоение пиратом Грелли титула и имущества сэра Райленда! – О, господин генерал, – воскликнул доктор Буотти, – мои смелые друзья немало потрудились над тем, чтобы неопровержимо доказать свою правоту! Все подготовлено таким образом, чтобы вы могли схватить за руку убийцу и его тайных сообщников прямо на месте нового покушения. Чтобы убедить вас поддержать смелый замысел капитана Луиса, мы не ограничились только вышеперечисленными документами. У нас есть еще один веский аргумент: из Калькутты нами приглашен престарелый индусский юрист Мохандас Маджарами. Позвольте заметить, что он никогда не видел обоих портретов сэра Райленда, которые лежат перед вами. Мистер Маджарами ожидает в гостинице вашего приглашения. Угодно ли вам послать за ним? Генерал вызвал своего помощника, майора Бредда, и представил ему итальянского богослова. – Господин майор, потрудитесь послать мой экипаж за мистером Маджарами, по адресу Темпль, гостиница «Золотой сокол». В ожидании этого свидетеля генерал внимательно перечитал все представленные ему документы. При этом он все более сосредоточенно жевал потухшую сигару и морщил лоб. Синьор Буотти провел довольно томительный час в созерцании стен и потолка генеральского служебного кабинета. Наконец майор Бредд доложил, что мистер Маджарами, калькуттский юрист, находится в приемной. – Просите, – приказал Хауэрстон. В кабинет вошел высокий худой старик в головном уборе, похожем на митру, и в длиннополом одеянии, напоминающем рясу священнослужителя. Он скрестил руки на груди и низко поклонился британскому офицеру. Генерал назвал свое имя и должность. – Прошу извинить за столь позднее приглашение, мистер Маджарами. Позвольте задать вам несколько деловых вопросов. Вы – владелец юридической конторы в Калькутте и ваше имя Мохандас Сами Маджарами? – Да, сагиб. – Старик поклонился еще ниже. – С какого года существует ваша контора в Калькутте? – С 1736 года, сагиб. – Ее основателем явились вы? – Да, сагиб, соединив наши усилия с усилиями господина Заломона Ноэль-Абрагамса, мы совместно с ним положили начало существующей ныне юридической конторе. – Какую роль в ней играл мистер Мортон? – Сагиб, мистер Томас Мортон не был одарен богатством способностей и до конца своей службы в нашей конторе оставался в ней простым солиситором. – Бультонский филиал фирмы – подлинно ваш филиал? – Сагиб, нас убедили помочь правому делу, не посвящая в подробности. – Благодарю вас. Вы знавали сэра Райленда лично? – Весьма хорошо, сагиб! И я полагаю себя вправе утверждать, что сэр Фредрик Райленд некогда питал ко мне расположение. Я знал его почти со дня рождения. – Мистер Маджарами, будучи лицом, стоящим на страже законности, прошу вас во имя справедливости давать мне правдивые показания, вне зависимости от ваших личных взглядов и интересов. Индусский гость выразил согласие и был приведен к присяге. Генерал продолжал свои вопросы. – Скажите, после вступления сэра Фредрика в права наследства вы не встречались с ним больше? – Нет, обстоятельства этому препятствовали. До моего нынешнего путешествия в Европу я не покидал Индии, а милорд никогда не возвращался под родной небосклон. – Извольте взглянуть на этот портрет. Вы узнаете, кто на нем изображен? – Это мистер Томас Мортон, сагиб. – А это? Генерал взял со стола портрет мужчины с орлиным носом и короткими бакенбардами. – Сагиб, я уже имел честь заверить вас, что очень хорошо знал сэра Фредрика Джонатана Райленда в годы его молодости. Это его изображение. Генерал крякнул и предложил старику взглянуть на портрет виконта Ченсфильда, сделанный в 1772 году. – Не скажете ли вы нам, чье это изображение? Старик долго держал портрет перед глазами, пристально всматривался в него и наконец покачал головой: – Этого господина я не имею чести знать, сагиб! Доктор Буотти искоса бросил на генерала взгляд, полный скрытого торжества.Поздно ночью в гостиницу «Золотой сокол» явился офицер. Он осведомился, находится ли дома итальянский доктор богословия синьор Томазо Буотти, и попросил разрешения наведаться к нему. Слуга проводил посетителя наверх и показал двери номера. Доктор еще работал за письменным столом. – Господин майор Бредд? От генерала? Так поздно? – Синьор Буотти, – сказал ночной посетитель, прикрывая дверь, – генерал принял решение оказать со действие вашим друзьям. Мне и лейтенанту Бруксону поручено приняться за ченсфильдское дело. Обоих нас в Ченсфильде видели зимой. Поэтому нам, обоим офицерам тайной канцелярии, придется действовать под маской простых слуг. Решено придерживаться рискованного плана, который предложен вашими друзьями, чтобы поймать Грелли и преступного иезуита с поличным… Считаете ли вы, что дочери и сыну Грелли грозит реальная опасность? – О, мистер Бредд, я вижу в этих молодых людях не детей преступного Грелли, а внуков моего покровителя, графа д’Эльяно. Им обоим несомненно грозит крайняя опасность, ибо только они имеют законное право на венецианское наследство, от которого из страха перед тайным орденом отказался сам Грелли. Иезуиты пустят в ход любые средства, чтобы устранить обоих молодых людей – эту реальную «живую» опасность давно взлелеянным планам ордена. – Ну что ж, синьор богослов, это все придется проверить. Если наши предположения основательны, промедление опасно. Я отправлюсь в Ченсфильд заранее, Бруксон, мой помощник, – попозже. Он послужит лондонским «гонцом от агента»… Не советую и вам мешкать с выездом на поле сражения, если вы принимаете столь близко к сердцу судьбу детей лжемилорда. Итак, до скорой встречи в Ченсфильде, синьор!
6
В конце лета, когда яблоки в английских садиках порозовели и стали сладкими, яхта «Южный крест» вернулась в Лондон. В августе корабль стал на якоре в устье Темзы. Лорд Ченсфильд застал жену и дочь в сборах: миледи пожелала провести конец августа и сентябрь на лоне ченсфильдской природы. Неотложные дела удержали милорда на некоторое время в столице, и леди Эллен отправилась в Ченсфильд в обществе дочери и нескольких слуг. В Шрусбери, во дворе гостиницы «Северный олень», кареты леди Райленд и ее челяди остановились, чтобы в последний раз переменить лошадей. В ожидании карет леди Эллен, госпожа Тренборн и мисс Изабелла проследовали в зал гостиницы. Утро было прохладным; дождевые капли с налета ударяли в оконные стекла и разбивались в пыль. В камине пылал огонь, и какой-то старый господин, очень почтенного вида, похожий на путешествующего иностранца, собственноручно помешивал горящие угли. Увидев трех дам, иностранец церемонно раскланялся и предложил миледи свое место у огня. Господин оказался старым французским роялистом, нормандским бароном Бернаром де Бриньи, вынужденным покинуть свою страну, где «взбунтовались эти канальи», как барон выразился по адресу французских крестьян. Старый барон направлялся в Бультон для некоторых встреч с роялистами-эмигрантами, нашедшими приют на английском Севере. Он довольно бегло изъяснялся и по-английски. Леди Ченсфильд назвала свое имя, но гость оказался мало осведомленным в аристократической генеалогии островной империи, и благородное имя миледи прозвучало для него, по-видимому, как новое. После того как дорожное знакомство завязалось и упрочилось, старый барон намекнул, что в его миссии заинтересован французский двор, сама королева Мария-Антуанетта и ее августейший брат, австрийский император Леопольд II… – Но и в вашей стране не должно оставаться безучастных к нашим страданиям, – проникновенно говорил старый французский аристократ, – ибо и у вас начинает распространяться опасный заговор, имеющий целью уничтожить вековые права знати и поставить на их место теорию прав человека. Ваше правительство, закон, собственность, религия и все другие учреждения, дорогие британцам, находятся в опасности и могут быть сметены, как это уже произошло в моей Франции… Дух якобинства проникает и к вам!.. Однако, заметив, что собеседницу пугает и расстраивает беседа о политике, галантный барон поспешил переменить тему и заговорил о достопримечательностях Бультона. – Простите, господин барон, где вы предполагаете остановиться в Бультоне? – осведомилась миледи. – Где придется, – отвечал жизнерадостный старый француз. – Вероятно, в этом старом городе нет недостатка в гостиницах. Глядя на барона со стороны, Изабелла заметила, что его левый глаз отличается странной мертвенной неподвижностью, представляющей резкий контраст с живым блеском правого ока. – Не угодно ли вам воспользоваться нашим домом? – предложила графиня. – Он, правда, в двенадцати милях от Бультона, но вам было бы у нас удобнее, чем в гостинице. Через несколько дней в Ченсфильд должен прибыть и мой супруг, чтобы подготовить свои корабли к новому военному походу в Индийский океан. Предложенное гостеприимство явно обрадовало и тронуло французского дворянина. Он рассыпался в изъявлениях благодарности. Для слуги барона, немолодого долговязого человека, по имени Франсуа Буше, нашлась запасная верховая лошадь, а весь багаж уместился на запятках второго экипажа. Из своей кареты графиня выпроводила камеристку, и господин барон занял ее место. Благодаря живой и увлекательной беседе с гостем заключительная часть путешествия пролетела незаметно. В Ченсфильде тайному поверенному Марии-Антуанетты были отведены две удобные комнаты во втором этаже. В первой из них, небольшой приемной, поместился слуга Франсуа. За ужином в замке господин барон де Бриньи был несколько менее оживлен, жаловался на головную боль и слегка покашливал. Своего слугу он послал в порт, чтобы осведомиться о прибывших кораблях. Вернулся тот с известием, что к бультонским водам приближается американский корабль «Каролина» из Филадельфии. Вскоре после ужина весь ченсфильдский дом погрузился в сон, тишину и мрак. Утром, когда миледи Эллен спустилась к завтраку, слуга старого француза подошел к ней с озабоченным лицом и осведомился, имеется ли в Ченсфильде врач: господин барон в дороге простудился и не в состоянии покинуть постель. Графиня встревожилась, приказала заложить карету и послать ее в Бультон за доктором Рандольфом Грейсвеллом. После полудня больному стало хуже, и слуга Франсуа Буше сообщил хозяйке дома, что положение старика внушает серьезные опасения, ибо налицо все признаки воспаления легких и горячки. Месье де Бриньи, по-видимому, и сам отдавал себе отчет в своем положении, ибо передал графине через Франсуа покорнейшую просьбу уведомить о его болезни местного католического священника. Очень скоро легонькая двуколка доставила в Ченсфильд священника портовой капеллы патера Бенедикта Морсини. Слуга барона провел монаха к ложу больного. Старый роялист лежал с полузакрытыми глазами, дышал прерывисто и тяжело. Он увидел незнакомого монаха в сутане и глазами сделал слуге знак удалиться. – Наклонитесь ко мне, святой отец, – прошептал он чуть слышно. Священник вопросительно взирал на больного. Тот выпростал руку из-под одеяла, и монах увидел на указательном пальце больного перстень с печаткой. Это украшение походило на перстень с саламандрой, находящийся в обладании самого патера! Неужели новый посланец отца Фульвио ди Граччиолани?.. – Ed majorem dei gloriam! – многозначительно прошептал больной. – Аmen! – отвечал монах, склоняясь еще ниже к изголовью. – Недавно я посетил Венецию и беседовал с отцом Фульвио. – Голос больного был слаб. Он задыхался и делал большие усилия, чтобы говорить отчетливо. – Лорд Ченсфильд навестил Мраморное палаццо и был принят графом Паоло д’Эльяно. Сюда направляется доктор Буотти. Я прибыл раньше, чтобы предупредить вас об этих событиях. Святой отец благословляет задуманные вами начинания и просит не медлить ни часа… – Простите, ваше превосходительство, отец Фульвио не вручил вам письма для меня? – Условия нашей встречи исключали такую возможность. Он вручил мне вместо пароля и письма этот перстень… Промедление грозит крушением нашего святого дела… Он просил вас позаботиться не только о судьбе вашей духовной дочери, но и не забывать… юридической конторы Ноэль-Абрагамс и Маджарами. Насколько я понял, патер Фульвио считает нужным, чтобы Лео Ноэль-Абрагамс разделил судьбу наследницы… – Ваше превосходительство, вы утомились… Не утруждает ли вас долгая беседа? – Брат Бенедикт, я стою в преддверии… Прошу вас, брат мой, известить отца Фульвио, что Бернар де Бриньи исполнил перед кончиной свой долг!.. Поздно вечером в Ченсфильд прибыл доктор Рандольф Грейсвелл. Он был очень утомлен и не слишком обрадован перспективой провести бессонную ночь у одра умирающего чужестранца. Слуга барона проводил врача в покой. В свете ночника виднелся полог, свисающий над постелью больного. Врач подошел к постели. – Дайте сюда больше свечей, – приказал он отрывисто и отвел полог в сторону. К немалому изумлению врача, постель оказалась пустой; в то же мгновение на плечо доктора Грейсвелла тяжело опустилась из-за полога чья-то рука. Сощурив близорукие глаза, доктор всматривался в лицо высокого седого старика. Человек стоял в небольшой стенной нише за пологом, рядом с постелью. Он был в ночном одеянии и халате. – Доктор Грейсвелл, – заговорил этот странный больной, – я вызвал вас сюда под предлогом моей болезни. Приношу тысячи извинений за причиненное вам беспокойство, но дело не терпит отлагательства. Речь идет о важной тайне. – Кто вы? – Доктор испытывал нечто весьма похожее на испуг. Его собеседник поднял ночник и приблизил свое лицо к глазам врача. – Доктор! Вы видите перед собою капитана Бернардито Луиса эль Горра. От неожиданности доктор Грейсвелл чуть не сел мимо стула. – Синьор Грейсвелл, – продолжал Бернардито, – вы должны понять, что я не открыл бы вам своего настоящего имени, если бы замыслил нанести тайный вред законным владельцам этого дома. Садитесь в это кресло, зажгите сигару и выслушайте, что привело меня сюда под именем французского роялиста… А вы, майор Бредд, – повернулся «барон» к своему мнимому слуге, – оставайтесь у двери и следите, чтобы нас никто не вздумал подслушать… …Через три часа доктор Грейсвелл вошел в будуар хозяйки дома. – Миледи Райленд, – сказал он бесстрастным врачебным тоном, – у вашего гостя барона де Бриньи тяжелая форма воспаления легких. Обстоятельства не позволяют мне остаться в Ченсфильде, но больной так плох, что нуждается в заботливом уходе. Я пришлю из Бультона сиделку, но она сможет приехать только утром. Не смогла бы мисс Изабелла взять на себя труд немного побыть у постели страждущего? Это знатный дворянин, а ваша дочь хорошо умеет ухаживать за больными. Леди Эллен послала за дочерью, и доктор повторил ей свою просьбу. Мисс Изабелла покорно отправилась в покой к больному французу. Мисс Тренборн обещала сменить свою воспитанницу через два часа.* * *
В ченсфильдском доме у патера Бенедикта Морсини имелась как бы временная резиденция, которая по традиции сохранялась за патером с тех пор, когда он еще давал уроки латыни малолетней наследнице поместья. Некогда в этой комнате со стрельчатыми оконцами, занимавшей самый верх левой замковой башенки, жил и трудился над своими рисунками юный живописец Эдуард Мойнс… Бывая в Ченсфильде, патер всегда останавливался в этом уединенном покое, куда вела крутая железная лесенка. Слуги замка так и прозвали эту комнату «кельей» и редко туда заглядывали. Здесь, в своей «келье», отец Бенедикт ожидал теперь отъезда доктора Грейсвелла, чтобы отправиться с ним и Бультон в одной карете. Ему не терпелось услышать врачебный приговор над своим знатным французским единоверцем. Сойдя вниз, в столовую, он услышал от миледи, что положение больного является угрожающим и что временно роль сиделки приняла на себя мисс Изабелла. Патер отыскал доктора в вестибюле; врач дожидался кареты. – Достопочтенный мистер Грейсвелл, – обратился иезуит к врачу столь вкрадчивым голосом, будто он просачивался сквозь щели запертых дверей, – вы позволите мне разделить с вами место в карете? – Пожалуйста, – ответил врач безразличным тоном. – Надеюсь, ваши сборы не будут слишком долгими? Карету скоро подадут. Монах торопливо поднялся наверх. Но отправился он не в свою «келью», а в покои больного француза. Прошмыгнув через переднюю, где дремал слуга Франсуа Буше, патер приоткрыл дверь в опочивальню барона. На столике у постели горела лампа, свет ее падал на лицо добровольной сиделки, мисс Изабеллы Райленд. Патер Бенедикт никогда еще не видел Изабеллу в состоянии такой глубокой душевной подавленности. На побледневшем, осунувшемся лице наследницы Ченсфильда появилось новое выражение горечи, тревоги и скрытого гнева. Покрасневшие веки отяжелели, глаза потеряли блеск и задор. Даже губы, еще недавно полудетские и пухлые, как у веселых ангелов с полотен итальянских мастеров, стали как будто тоньше и суше. Эти сжатые губы сделали все лицо Изабеллы более взрослым, зрелым; в нем ничего не осталось от шаловливой ребяческой беспечности. Бенедикт Морсини почувствовал сразу, что причина этой перемены не имеет никакого касательства к близкой кончине старого француза. Изабелла боязливо покосилась на постель и знаком попросила монаха отойти в дальний угол. Патер покачал головой, ибо не считал необходимым остерегаться ушей месье де Бриньи. – Говорите спокойно, дочь моя. Душа этого человека – около врат царства. Земное уже недоступно ей. – Святой отец, я в страшной тревоге. Мне представлены неопровержимые доказательства, что человек, называвший себя Алонзо де Лас Падосом, а ныне зовущийся Лео Ноэль-Абрагамсом, – действительно мой родной брат Чарльз Райленд. – Белла, я догадываюсь: вы были у них в этой… мнимой юридической конторе? – Да, отец мой, я вчера виделась с братом… Боже мой, я теперь жизни своей не рада! День ото дня все страшнее, все непонятнее… Вчера Чарльз показал мне свой медальон. Сомнений нет: человек этот – мой родной брат. Мы подошли с ним к зеркалу… Господи! Он гораздо лучше меня, но у нас одни и те же черты!.. Мне хочется спрятаться от людей… Я не могу больше! Изабелла отвернулась и зарыдала. Больной пошевелился в постели и глубоко, тяжко вздохнул. Слова девушки были сбивчивы, но патер Бенедикт уловил их смысл. Он ласково тронул ее за плечо, и мисс Райленд повернула к нему измученное лицо. – Скажите мне, моя возлюбленная дочерь во Христе, знает ли ваш брат, что вы… ничего не утаили на исповеди от служителя Бога? – Да, святой отец, Чарльз это знает, и он устыдился своего прежнего недоверия к вам. Он понял, как глубоко было его заблуждение, ибо иначе он давно был бы схвачен… А его намерения… Боже мой, я не могу повторить его страшные слова… – Что предлагает вам брат, Изабелла? – Чарльз умоляет меня покинуть этот дом. Если верить Чарльзу, наш отец – величайший злодей, уголовный преступник, убийца, вор, укравший чужое имя. Мой брат задумал разоблачить его стародавний обман. Он уже послал письмо в Лондон. – Письмо в Лондон? И он раскрыл в нем свое настоящее имя? Кому он послал это письмо? – Он послал его генералу Хауэрстону, но в письме назвался юристом Лео Ноэль-Абрагамсом и обещал генералу важные разоблачения. Доверить их бумаге он не мог. Хауэрстон, вероятно, приедет в Ченсфильд. Чарльз убежден, что наш отец не пощадит никого и ничего вокруг, когда правосудие потребует его к ответу. – Изабелла, если в Ченсфильде должны разыграться столь грозные события, я готов согласиться с вашим братом: вам следует покинуть этот дом. Но как же Чарльз намерен устроить ваш отъезд? – Сопровождать меня должен Наль Рангор Маджарами, то есть кавалер де Кресси, как он назвался, когда первый раз прибыл в Бультон. – Скажите мне, Белла, ваш брат открыл вам настоящее имя этого кавалера? – Его имя… Реджинальд Мюррей. Это сын мистера Альфреда Мюррея, человека, которого мой отец лишил всего – подлинного имени, имущества, невесты – и которого бросил умирающим на необитаемом острове. Чарльз намерен восстановить права Реджинальда на все, что потерял его отец. – Дочь моя, но каковы же дальнейшие планы вашего брата? Неужели он откажется от своей доли Ченсфильда? Может быть, он рассчитывает на… чье-нибудь другое богатство? – Нет, святой отец, Чарльз поклялся восстановить права Реджинальда на титул и поместье единственно во имя справедливости. Сам он хочет вернуться на далекий остров в Индийском океане и создать там новое поселение. У него есть очень умный, начитанный друг – Джордж. Они вместе задумали создать какой-то Город Солнца для обездоленных людей… Этот город должен стать царством света, справедливости и братства. Все богатства там должны быть разделены между людьми поровну… – Это опасные помыслы, дочь моя. Господь не создал своих детей равными и освятил разделение людей на бедных и богатых. – Я боюсь, что Чарльз не тверд в вере, святой отец!.. Но, святой отец, больной дышит все тяжелее. – Вероятно, его час близится… Белла, благословляю ваше решение покинуть Ченсфильд. Вероятно, Реджинальд Мюррей намерен бежать с вами на каком-нибудь корабле? – Святой отец, не произносите этого имени… Пусть даже стены слышат только имена: Лео Ноэль-Абрагамс и Наль Рангор Маджарами… Да, вы, как во всем, прозорливы. Брат и его друг предлагают мне бежать на португальском судне «Санта-Роза». Оно должно уйти из Бультона в воскресенье. – В воскресенье? Через двое суток? Когда же вы должны покинуть отчий кров и где вы намерены ожидать отплытия корабля? – Где-нибудь в порту. Я должна буду надеть мужское платье и завтра, в субботу, встретиться с Реджинальдом. – Белла, я помогу вам. План вашего брата наивен. Он не знает, что весь порт кишит соглядатаями. Вас немедленно схватят, и гнев вашего отца обрушится на обоих молодых людей, которые, насколько я понимаю, уже сделались близки вашему сердцу. Я укрою вас до отхода корабля в моей капелле. Там никто не станет вас разыскивать. Я заранее подготовлю ко всему своего служку Грегори. В ночь на воскресенье он незаметно доставит вас в лодке на борт португальского корабля… Но я слышу во дворе карету… Доктор Грейсвелл уезжает, он обещал довезти меня до города!.. Мисс Райленд, да благословит Вас Всевышний за вашу христианскую помощь больному!.. Завтра утром я вернусь сюда… Когда патер спустился во двор, доктор Грейсвелл уже садился в карету. Но не успел этот экипаж тронуться с места, как в открытые для него ворота медленно въехала пропыленная наемная коляска. Оба экипажа разминулись на подъездной аллее. В окно кареты доктор Грейсвелл и патер Бенедикт разглядели незнакомого приезжего, который сошел с подножки коляски на каменные ступени подъезда. В свете двух фонарей над крыльцом отъезжающие увидели невысокого полного человека в обычной одежде ученых итальянских богословов. Патер Бенедикт понял: в Ченсфильд прибыл доктор Томазо Буотти! Медлить дальше невозможно! Судьба наследницы Ченсфильда и ее брата решена бесповоротно: оба должны немедленно… исчезнуть!Субботним вечером мистер Грегори Вебст, прислужник бультонской католической капеллы в порту, прохаживался у дверей этого маленького храма. Двери капеллы стояли открытыми, но прихожанам на этот раз пришлось довольствоваться лишь преклонением колен перед статуей Девы, ибо, по разъяснениям Грегори, болезнь отца Бенедикта помешала патеру отслужить обычную вечернюю мессу. Грегори уже собирался запереть двери и погасить лишние свечи, чтобы завтра пустить их снова в коммерческий оборот. Служитель подошел к дверям и прикрыл одну створку. В этот миг два молодых итальянца робко заглянули в часовню. Вошедший первым был высок ростом, крепкого телосложения и глядел на божий свет большими очами редкостного темно-синего цвета, похожего на утреннюю морскую даль. Второй юноша отличался изяществом, стройностью, чрезвычайно нежным, тонким лицом и кудрявыми локонами, стянутыми красной косынкой; одет он был в бархатную блузу, какие часто носят художники. Мистер Грегори, видимо, ожидал прихода этих молодых людей, ибо он торопливо запер изнутри двери на засов и засуетился у чугунной плиты, служившей как бы широким подножием к порогу. Грегори приподнял кольцо, вделанное в металл, просунул в него железный ломик и с усилием сдвинул плиту с места. Заметив его старания, рослый молодой человек взял из рук прислужника ломик, поднажал на него коленом, и чугунная плита наполовину отошла в сторону, открыв доступ в черный люк. В отблеске свечей стала видимой верхняя ступенька железной лестницы, ведущей в подземелье. – Все ваши вещи уже там, – прошептал Грегори. – Возьмите по свече и спускайтесь. Там сыро и холодно, поэтому теплее укутывайтесь в плащи. Внизу вы найдете дверь. Молодые люди не раздумывая спустились по лестнице, освещая подземелье свечами. Ступени оканчивались против узкой металлической двери с засовом. Рослый синьор, спустившийся первым, отодвинул засов и ввел своего юного спутника в подземный тайник под часовней. Широкая скамья, заранее покрытая суконным пледом, стояла вдоль длинной стены, и под нею, на каменном полу, были сложены два небольших, аккуратно перевязанных ремнями тюка. Рослый молодой человек сразу распаковал один из тюков, заботливо усадил своего спутника на скамью, укутал его с головы до ног плащом, придвинул к скамье небольшой стол, стоявший рядом с распятием, и, выпростав из-под плаща обе руки юноши, принялся усердно растирать их и гладить. – Завтра я доставлю вас на борт «Санта-Роза» с помощью ялика, который принадлежит отцу Бенедикту, – пояснил служитель из-за двери. При этом он загремел наружным засовом. – Грегори! – крикнул ему спутник Изабеллы. – Зачем вы запираете дверь? – Так приказал святой отец, чтобы полиция, если ей вздумается заглянуть сюда, нашла дверь вашего тайника запертой. А я уж сумею убедить чиновников, будто дверь не открывалась много лет.
23. Охотники за леопардом
1
Карета с отдыхающим львом на гнутой дверце уже миновала мост через Ченси и приближалась к «Веселому бульдогу». Лошади шли рысью, железные шины однообразно и надоедливо гремели по булыжнику. – Сверни на луговую дорожку, мне осточертела эта тряска от самого Лондона, – приказал кучеру владелец поместья Ченсфильд. Левое окно кареты было опущено. Граф Ченсфильд вглядывался в очертания обеих башен своего дома, серевших вдали, на фоне вечернего неба. В этот миг какой-то всадник обогнал карету. Она съехала с булыжной мостовой и уже катилась по чуть приметным колеям проселка, служившего для вывоза сена с лугов. Обскакав карету, верховой придержал потного коня, поравнялся с экипажем и наклонился к открытому оконцу. Лорд-адмирал не узнал всадника. Тот назвался слугою мистера Кленча, лондонского агента его светлости. – Срочное известие от мистера Кленча, ваша милость. Мистер Кленч велел непременно догнать вас в дороге! – Скачите вперед, предупредите привратника, – сказал виконт, откидываясь на подушку. В карете было темно, и прочесть письмо сразу он не смог. Как любой другой смертный, лорд-адмирал ощутил неприятный холодок тревоги: видно, письмо содержало немаловажные вести, если лондонскому агенту понадобилось отрядить следом за каретой специального гонца. Небосклон посинел. Дом и парк вдали стали черными и слились вместе. Над шпилями обеих башен замерцали звезды. Кое-где в окнах второго этажа виднелись огни. Нижние залы не были освещены или же ставни не пропускали света наружу. У главных ворот, распахнутых настежь, стоял седой привратник. Старик низко поклонился хозяину, когда четверка лошадей промчала экипаж по полукругу подъездной аллеи. Граф Ченсфильд глядел в окошко кареты, но не видел никого на ступенях главного подъезда. В полутемном вестибюле старик мажордом едва успел зажечь две свечи в стенных бра, в дополнение к тусклому огарку, который чадил над гардеробной стойкой. Он принял у хозяина шляпу и плащ. Удивленный и раздосадованный оказанным приемом, лорд Ченсфильд коротко спросил, здорова ли миледи. В ту же минуту она сама появилась на пороге. Супруг сразу заметил, что она рассержена и озабочена. – Ты не слишком торжественно обставила встречу мужа, Нелль, – проговорил он громко. – Черт побери, я не узнаю… – Тише, бога ради тише, Фредди! – прервала его леди Эллен. – Дом полон посторонних… У нас гости и… – Какие к черту гости? – Фредди, у нас остановился французский барон… К несчастью, он тяжело заболел и, кажется, умирает… Только вчера вечером прямо из Италии прибыл еще какой-то ученый богослов, доктор Томазо Буотти Он говорит, что послан к тебе графом Паоло д’Эльяно, венецианским патрицием, у которого ты побывал в гостях. Впрочем, это все маловажно. У нас есть забота посерьезнее… Миледи увлекла супруга в его охотничий кабинет, где камердинер уже успел засветить свечи в настольном шандале. Граф, хмуря брови, смотрел в глаза леди Эллен. Она заговорила торопливым шепотом: – Фредди, сегодня днем Изабелла не вернулась с верховой прогулки. Мисс Тренборн уже несколько дней находила Беллу в каком-то странно угнетенном состоянии духа. Перед сегодняшней поездкой она была как будто взволнована, озабочена и бледна. Поехала она, как всегда, в сопровождении грума. В ченсфильдской роще ее встретил какой-то всадник; очевидно, он заранее поджидал ее. Грум видел его впервые. Изабелла отослала грума домой, а сама не вернулась в замок. – Так, черт побери, нужно обыскать окрестности! Может быть, с девочкой что-нибудь случилось? Почему этот болван грум… – Тише, Фредди, в доме посторонние… Грума я сразу послала назад в рощу, но он уже не застал там ни Изабеллы, ни ее кавалера. По их следам грум определил, что они выехали на шоссе и пустились в сторону города. – Это что еще за новости! Чего смотрит старая дура Тренборн, черт ее побери? Ты послала в Бультон? – Ты сам разрешил дочери сумасбродные верховые поездки… В Бультон я никого не посылала. – Почему? – Это настойчиво отсоветовал мне патер Бенедикт. – Вот как? Где он? – У больного барона, наверху. – Зачем тебе понадобился этот барон? Откуда он свалился нам на голову? – Это придворный французской королевы, Фредди, очень влиятельный старик. Я познакомилась с ним в пути и не могла не предложить ему гостеприимства. Болезнь его явилась неожиданностью. Но слушай, Изабелла оставила в своей комнате записку. Полюбуйся, что пишет тебе твоя дочь. Лорд-адмирал схватил письмо, уже вскрытое его супругой.«Дорогой отец! Несколько дней я провела в большом горе и решила покинуть твой дом, пока ты не докажешь свои права на это владение, а также подлинность твоего имени. Мне представлены доказательства темных и страшных поступков, совершенных тобою против законных владельцев титула и поместья. Тебе предстоит доказать ложность этих тяжелых обвинений или навсегда лишиться уважения твоей несчастной дочери.Бормоча проклятия, владелец Ченсфильда скомкал бумагу и швырнул ее в холодный камин. – Где иезуитская змея? – прошипел он, сам похожий на удава, готового проглотить дюжину кроликов. – Постой, покажи-ка ты мне сперва этого француза, этого «умирающего француза», будь проклята моя кровь! Уж не данайского ли коня ты привела ко мне в дом? Хромая, милорд стремительно взбежал по лестнице. Миледи Эллен семенила за мужем, шелестя юбками. В нижней столовой зале часы отзвонили одиннадцать. Супруг злым полушепотом нетерпеливо проговорил на ходу: – Ступай в столовую, Нелль, позови Буотти к ужину и не выпускай его из виду. Это, вероятно, тоже гость не случайный! Дверь в первую из комнат, отведенных барону, он открыл без стука. Слуга господина барона Франсуа Буше всхлипывал, держа у глаз большой фуляровый платок. При виде милорда он привскочил с растерянным видом. Владелец поместья бросил на слугу сумрачный взгляд и прямо направился к дверям второго покоя. Франсуа Буше сделал было движение, чтобы удержать его от неосторожного вторжения к больному, но хозяин дома уже распахнул дверь. Тяжелый запах камфары, мяты и спирта еще с порога ударил в нос милорду. Юная сиделка вздрогнула от неожиданности при виде злого, дергающегося лица вошедшего. С колен сиделки скатился под постель больного клубок белой шерсти, и вязанье выпало у нее из рук. На ночном столике у постели, среди пузырьков и склянок, горела одна свеча. В самой глубине комнаты от стены отделилась невысокая черная фигура: патер Бенедикт сделал шаг навстречу графу, но, заметив выражение его лица, замер на месте. Вошедший схватил подсвечник и резко отодвинул полог над постелью. Он увидел недвижное лицо старика с остекленевшим глазом. Лоб и другой глаз были прикрыты пузырем со льдом. Прерывистое дыхание вырывалось из полураскрытого рта. Сухие пальцы рук обирали одеяло. Человек явно умирал. Священник приблизился к постели, перекрестил больного и осторожно поправил полог, прикрывая лицо старика от света. – Отец Бенедикт, благоволите сойти со мною вниз, – проговорил милорд, с трудом соблюдая пониженный тон. Той же стремительной, прихрамывающей походкой он пересек приемную и, не оглядываясь, пошел по коридору. Позади него смиренно поспешал монах, широко развевая черные полы и рукава сутаны. В нижних залах, около буфетной, навстречу графу попался лондонский посланец агента Кленча. Этот слуга был в пропыленном дорожном камзоле, и только при виде этого человека хозяин дома вспомнил о пакете, оставшемся в кармане плаща. Почти втолкнув отца иезуита в охотничий кабинет, граф послал камердинера за пакетом и угрожающе взглянул патеру в лицо. Оно выражало скорбь и смирение. Милорд был готов схватить монаха за горло. – Почему вы помешали жене вернуть Изабеллу? – произнес он свирепо. Бровь его плясала, рот кривился, глаза были страшны. – Уж не сами ли вы дали ей совет тайком удрать из дому? – Я поддержал ее в этом намерении, сын мой. Рука милорда вцепилась в плечо монаха с такой силой, что пригнула его вниз. – Патер! Видит бог, вы готовите себе злую участь! – Я служу Богу, и жизнь моя – в его руках, равно как и жизнь вашей дочери. Мне, грешному, удалось предотвратить попытку вашей дочери покончить с собою, и я почел за благо предоставить ей тайный временный приют. Там душа ее успокоится под моим пастырским оком, и дочь вернется к вам, когда вы, милорд, успеете расправиться с вашими врагами. Слова монаха прозвучали так проникновенно, что граф отпустил его плечо. – Врагами? Какими врагами? – Сын мой, вас окружают сети коварства. Враги крадутся в ночи, но клянусь вам именем святого Игнатия, у вас нет сейчас более верного помощника и друга, чем я, смиренный служитель Божий. Так повелел мне не только долг христианина, но и мой высокий духовный глава. – Скажите мне, кто этот умирающий француз? – Синьор, вы один достойны знать сию величайшую тайну. Бернар де Бриньи – сын тайного ордена, такой же, как и я, но могущественнее и знатнее. Это посланец его преподобия Фульвио ди Граччиолани. Даже близость смерти не помешала этому воину Христову выполнить важнейшие поручения святого отца. Минуты его жизни сочтены, и душа его мучительно долго расстается с телом. – Простите мне мою резкость, отец Бенедикт. До сих пор я не имел причин сожалеть об оказанной вам поддержке. Сейчас я выслушаю вас, но сначала должен прочесть одно срочное письмо. Разорвав помятый конверт, милорд прочел письмо, принесенное в кабинет камердинером.Изабелла».
«Дорогой сэр! Посылаю к вам гонцом своего слугу Каринджа, дабы срочно уведомить, что следом за вами выехал дилижансом в Бультон генерал Хауэрстон. Его сопровождают два офицера. Отъезд их был весьма поспешен. Если они не догонят вас в пути, то прибудут через несколько часов после вас. Генерал Хауэрстон на днях принимал тайного посланца из Ченсфильда.– А, черт! – в сердцах сказал владелец поместья. – Похоже, что вы правы, патер: здесь действуют мои враги. Бегство Изабеллы, приезд Буотти, выезд в Бультон офицеров тайной канцелярии… – Вы изволили забыть еще… открытие в Бультоне подозрительной юридической конторы и приезд калькуттских юристов, сын мой! – Да, целый заговор… Недаром Мортону эти юристы сразу показались опасными… Просчет! Но, патер, мы сильнее их, черт побери! И если снова одним ударом покончить со всем этим клубком… Патер Бенедикт хихикнул угодливо и трусливо: – Я счастлив, ваше сиятельство, что вы преодолели тягостные чувства и вернули себе всегдашнюю решительность воина… – Постойте, их план мне не совсем ясен… Что вы успели разузнать? – Все, сын мой, решительно все! Искренность вашей дочери помогла раскрыть весь заговор ваших злокозненных супостатов. Вот, милорд, взгляните на это письмо… Патер достал из кармана листок с наклеенными на нем обрывками письма, адресованного двумя кавалерами наследнице Ченсфильда мисс Изабелле. Владелец поместья прочел текст письма. Бровь его снова задергалась. – Спокойствие, ради бога, спокойствие, синьор! – умоляющим тоном прошептал патер. – Вы сокрушите врагов могучей десницей, если не отдадитесь во власть справедливому гневу… Это послание, милорд, было первым звеном в цепи заговора. А остальные звенья помогла раскрыть все та же искренность вашей дочери со мной, смиренным служителем Бога. Эти молодые люди, Алонзо де Лас Падос и Теодор де Кресси, потом приняли облик калькуттских юристов Лео Ноэль-Абрагамса и Наля Рангора Маджарами. – А на самом деле кто же они, эти молодые люди? Ответ иезуита был хорошо продуман. Гнев взбешенного милорда нужно было направить против… его собственного сына. Для этого нужно было хитро обмануть отца, выдав Чарльза за другое лицо, ненавистное лжемилорду. – На самом деле… это ваши злейшие враги, милорд! Они-то и вызвали в Ченсфильд генерала Хауэрстона. Лео Ноэль-Абрагамс – это Диего Луис, сын пирата Бернардито Луиса, вашего старого врага. А сообщник его, называющий себя Налем Рангором Маджарами, – это отпрыск другого вашего врага, Альфреда Мюррея. – Так вот где собака зарыта! Значит, мертвецы Бернардито и Мюррей объявили мне тайную войну… Ну, падре, вы вовремя раскрыли мне глаза. Когда мы расправимся с ними, я озолочу вас, вы станете моим вторым Вудро… Что же они могут представить Хауэрстону? – У них и руках некоторые документы, старые портреты, письмо Фернандо Диаса… Но враг знает, что все эти документы несостоятельны против вашей несокрушимой защиты. И потому они вступили в сговор с этим венецианским доктором Буотти. Они побудили доктора прибегнуть к чудовищной хитрости: Буотти должен склонить вас принять наследство от графа д’Эльяно, дабы вам не пришлось сожалеть о потере прав британского милорда. Лорд Ченсфильд сощурил глаза и несколько минут собирался с мыслями. Лицо его делалось все более асимметричным, и внезапно весь он затрясся от взрыва бешеного хохота: – Ха-ха-ха! Недурно! Вы хороший следователь, падре! Теперь-то мне понятны ваши старания, мой черный друг! Ха-ха-ха! Да, патер Морсини, в вашем лице я поистине имею лучшего из союзников, ибо вы больше всего опасаетесь, как бы наследство графа д’Эльяно не проплыло мимо рук его преподобия Фульвио ди Граччиолани! – Синьор, – лепетал обескураженный монах, – не ради сребролюбия, но единственно во имя святой церкви… – Молчите, падре! Вот теперь мне действительно понятно все до конца. Больше всего, скажу вам откровенно, меня смущала ваша «бескорыстная любовь» ко мне, патер Морсини. Я не верю в праведников и еще не встречал в жизни ни единого бессребреника. Теперь ваши «бескорыстные» побуждения ясны мне, и я знаю, что воистину вы верный союзник… милорда Ченсфильда… Ха-ха-ха! Вошедший камердинер доложил, что для прибывших накрыт стол к ужину. Граф злобно топнул ногой. Камердинер попятился в страхе. – Что прикажете доложить миледи, сэр? – Доложите, что через четверть часа милорд будет иметь удовольствие вкусить трапезу в обществе миледи, мистера Мортона и доктора Буотти, – торопливо сказал патер, выпроваживая слугу из кабинета. Милорд уже взялся за ручку двери. Патер Морсини зашуршал сутаной следом за хозяином дома. В дверях граф Ченсфильд резко остановился: – Стойте! Вы так и не сказали мне, патер: где же вы спрятали Изабеллу? – В моей капелле, сын мой! – Ловко! Она там одна? – Ее оберегает Грегори, мой служитель, и… – Договаривайте, падре! Кого вы спрятали вместе с Изабеллой? – Синьор, я лишь… предоставил беглецам убежище, дабы… они не успели попасть на борт португальского судна «Санта-Роза». Но склонил вашу дочь к побегу не кто иной, как тот же… Реджинальд Мюррей в обличье калькуттского юриста Наля Рангора Маджарами. Изабелла открыла мне… – Святой отец, мое терпение не безгранично! Договаривайте, черт вас побери! – Изабелла призналась мне, что она – невеста Реджинальда. Он сам просил меня… обвенчать их. Джакомо Грелли чуть не задохнулся от бешенства. – Сын мой, сын мой, ради бога! Ради бога, не теряйте власти над собою! Изабелла в безопасности, ибо можно не сомневаться в… джентльменском поведении мнимого Наля Рангора Маджарами по отношению к своей невесте. – К своей невесте! Невесте Реджинальда Мюррея! Ну хорошо же! Мы сыграем ему свадьбу, падре! Ступайте вперед, нас ожидают к столу…Кленч, лондонский агент «Северобританской компании».
* * *
…За ужином итальянский богослов сухо и коротко изложил цель своего приезда в Ченсфильд. Оказалось, что граф Паоло д’Эльяно все еще медлил с подписанием завещания. Плохое состояние здоровья побудило старика обратиться к милорду Ченсфильда с покорнейшей просьбой прислать письменное документальное свидетельство для венецианских душеприказчиков о гибели последнего прямого потомка графа, пирата Джакомо Грелли, при катастрофе шхуны «Черная стрела» в Индийском океане. С получением в Венеции этого документа миллионное графское наследие шло в руки церкви… Через час после ужина в кабинет милорда был приглашен Томас Мортон. Вместе с патером Бенедиктом они составили документ, за которым прибыл доктор Буотти. Владелец поместья пробежал глазам заготовленную бумагу и вопросительно взглянул на патера. – Скажите, падре, почему же Буотти даже не попытался осуществить свое намерение – уговорить меня принять венецианское наследство взамен… Ченсфильда? – О, это так очевидно, сын мой! Он понял, что посланец святой церкви, господин барон, уже опередил его! Он ясно увидел вашу благостную решимость не отступиться от Ченсфильда и не идти против интересов могущественного тайного ордена! Смею вас заверить, сын мой, получи Буотти другой документ… он едва ли вернулся бы в Италию! Милорд передернул плечами. Патер понизил голос и оглянулся на безучастного Мортона, который, окончив свой труд над составлением документа, дремал в кресле. – Сын мой! Буотти уже отказался от попытки перехитрить орден. Вам остается лишь покончить с его бывшими сообщниками. Милорд, ведь этот приготовленный документ необходимо еще юридически засвидетельствовать и заверить… Прекрасный случай, чтобы пригласить сюда этого «юриста» Лео Ноэль-Абрагамса!.. – Пригласить сюда? Ах так… Пригласить… и… исправить нашу старую пирейскую неудачу? – Поистине так, сын мой! Ведь лондонский дилижанс с генералом проследует… через несколько часов. – Хорошо! – отрывисто проговорил милорд. – Но как вызвать сюда Диего Луиса из Бультона, не возбуждая у него подозрений? Единственный из моих приближенных, кто ухитрился усыпить их подозрительность и войти к ним в доверие, это вы, падре: иначе Реджинальд Мюррей не прятался бы у вас в капелле! – Это истинно так, сын мой. Поэтому поручите вашему смиренному слуге быстро и незаметно доставить сюда мнимого Лео Ноэль-Абрагамса. – Ну что ж, отлично. Сначала заезжайте в таверну «Чрево кита» и пошлите сюда мистера Уильяма Линса. – О, рука сего воителя не дрогнет! Это поистине наилучший выбор… – Берите на конюшне пару любых коней – для себя и для этого Лео Ноэль-Абрагамса… Слушайте, падре, а Реджинальд Мюррей, спрятанный у вас в капелле… Он, полагаю, тоже… не покинет ее стен? Владелец поместья криво усмехнулся. – Вы, падре Бенедикт, были бы настоящим кладом для шайки покойного Бернардито, ибо обладаете тремя способностями сразу: творите грехи, отпускаете их и отправляете души грешников прямо в рай! Желаю успеха!.. В седле-то вы умеете держаться? – Сын мой, во имя святой цели солдат ордена должен уметь все!2
Доскакав до Бультона, всадник в черной монашеской одежде направился сразу на улицу Портового Маяка. Спешился всадник во дворе таверны «Чрево кита». Здесь, в заднем, самом дальнем углу двора, рядом с большими воротами конюшни, находилась отдельная дверь, ведущая к стойлу древней водовозной клячи, скотины смиренной и почти столь же флегматичной, как сам водовоз таверны, горький пьянчуга Флетчер. Когда-то служивший кучером у адвоката Томпсона, этот полуслепой старик доживал свой век в «Чреве кита» почти из милости. Спешившийся всадник увидел, как два незнакомых джентльмена, в которых можно было за милю угадать помощников шерифа, усаживали старого Флетчера в тележку. Рядом с тележкой стоял владелец таверны, бывший сержант Уильям Линс. Монах юркнул в дверь черного хода и взбежал по лестнице. В полутемном коридоре навстречу ему попался трактирный слуга. Патер попросил слугу вызвать со двора мистера Линса. Несколько минут он пробыл в одиночестве, прислушиваясь к пьяным выкрикам из-за стены, женскому визгу и хохоту, обрывкам матросских песен и звону посуды. Патер различил шум проехавшей по двору тележки и вскоре увидел перед собою мистера Линса. Усы бывшего сержанта имели несколько запущенный вид, а выражение лица было не из приветливых. – Что там у вас стряслось, патер? Вы из Ченсфильда, что ли? – Прямо от милорда, мистер Линс. Неотложное дело… Слушайте внимательно… Через четверть часа хмурый и сумрачный Линс уже сидел в седле. За пазухой у бывшего сержанта тихонько позвякивали… инструменты его профессии! Доверенный милорда мистер Уильям Линс спешил по вызову своего патрона, но выражение лица у бывшего сержанта отнюдь не было геройским. Оно отражало крайнее неудовольствие и озабоченность. Между тем черный всадник в сутане и широкополой шляпе, держа в поводу вторую лошадь, уже успел добраться до уютного особнячка фрау Таубе на Гарденрод. Привязав обеих лошадей к прутьям ограды, монах вошел в палисадник. За одной из ставен он разглядел полоску света и постучал в это окно. Через минуту дверь домика приоткрылась, молодой человек в одежде, обычной для адвокатов, вышел на крыльцо. Монах поднялся к нему по ступенькам и смиренно поклонился. – Патер Бенедикт? – прошептал человек в дверях. – В такой час? Боже мой, что с Изабеллой? – Мистер Чарльз Райленд, – шепотом заговорил монах, – не извольте тревожиться о вашей сестре, она в безопасности, спрятана в моей капелле, под охраной вашего друга Реджинальда Мюррея. – Что же случилось, патер Бенедикт? – Сэр, в Ченсфильде немедленно требуется юридически засвидетельствовать и заверить один важнейший документ. – Почему этого не может сделать мистер Мортон? – Он сам подписал эту бумагу как свидетель. Поэтому и его подпись должна быть заверена. Главное же, дорогой мистер Чарльз, я просто хочу дать вам возможность… прочесть эту важнейшую бумагу. – Ах вот как! Благодарю вас, патер Бенедикт. Мы можем отправиться тотчас же. – А разве вы не хотите предупредить слугу, что выезжаете за город, Чарльз? – Патер Бенедикт, предосторожности ради называйте меня только Лео Ноэль-Абрагамсом… Дома сейчас я один. Слугу я отослал в порт. – Что ж, тогда не будем медлить! Не забудьте ваших печатей и гербовой бумаги. Юриста мистера Лео Ноэль-Абрагамса ждет сейчас с нетерпением весь Ченсфильд! Молодой человек удалился в дом. В темной прихожей он зашептал на ухо другому человеку: – Мистер Эдуард Уэнт! Я еду в Ченсфильд. Вы слышали мою беседу с иезуитом? – Слышал, Чарльз! Видно, события в Ченсфильде идут к развязке. Передайте там привет нашему капитану… и… держитесь молодцом, Чарльз!.. Молодой человек сошел с крыльца, держа в руках мешок для бумаг. Патер уже отвязал лошадей. Молодой человек легко вскочил в седло. – Вы поедете со мной, патер? – Нет, сын мой, у меня есть еще неотложное дело – нужно соборовать умирающего единоверца. Поезжайте один, эта добрая лошадь домчит вас в Ченсфильд к рассвету… К утру документ должен быть оформлен, ибо он уйдет нынче же с кораблем в Италию! Счастливого вам пути, сын мой! Утром и я прибуду в Ченсфильд. – Что ж, до скорой встречи, святой отец! Ободрите Изабеллу и Реджинальда! – Не тревожьтесь о них. Через несколько часов они уже будут… далеко, сын мой! Монах неторопливо затрусил к своей капелле. В порту все спало. Рассвет брезжил, в сизо-сиреневом сумраке стали чуть различимы очертания кораблей на рейде и у причалов. Патер отыскал глазами место, где покачивалось на волне португальское судно «Санта-Роза», и насмешливо улыбнулся… Нет, этот корабль не зачислит в список пассажиров ни Изабеллы, ни Реджинальда… Патер ввел лошадь в ограду садика и тихонько окликнул своего служителя, Грегори Вебста. Тот позаботился о лошади и следом за своим хозяином прошел в молельню. Здесь стояла обычная тишина. Все было спокойно. Патер указал взглядом на подполье: – Они… там? Грегори кивнул молча. – Что они делали и говорили, Грегори? – Они шептались… Мисс много плакала, и он… целовал ее. – Идем к ним. Утро близится… Засовы загремели, дверь тайника раскрылась и впустила в подземелье патера Бенедикта. Грегори оставался на ступеньках в ожидании приказаний. – Дети мои, – проникновенно проговорил монах, – я только что из Ченсфильда. Там буря, друзья мои. Чарльз умоляет вас уехать сегодня. Тверды ли вы в этом намерении, мисс? За Изабеллу ответил Реджинальд Мюррей: – Решение мисс Изабеллы окончательное. Когда «Санта-Роза» поднимет паруса? – Нынче в полдень, дети мои. Мисс Изабелла, – обратился монах к переодетой наследнице Ченсфильда, – здесь очень холодно. Не угодно ли вам глоточек вина? Это согрело бы вас и подкрепило бы ваши силы. И, не ожидая ответа Изабеллы, патер обернулся к служителю: – Грегори, принесите вина и какой-нибудь еды для мисс Райленд. И побыстрее: эти молодые люди сделали много миль верхом от бультонского шоссе до ньюкаслского и немало прошли пешком, бросив лошадей, не так ли, дети мои? Служитель удалился и вернулся из покоев капеллана с пузатым графинчиком красного церковного вина, двумя стаканами и тарелкой сэндвичей. Он поставил все эти запасы на стол и удалился. Патер Бенедикт ободряюще кивнул молодым людям и последовал за своим служкой. Тяжелый засов он задвинул сам и, выбравшись из люка, вместе с Грегори водворил на место чугунную плиту. В подземном тайнике молодой человек осмотрел оба стакана и наполнил их вином. Но воспользовался он не графином патера Бенедикта. Пока патер и служитель возились с тяжелой чугунной плитой, молодой человек выплеснул под скамью половину вина из пузатого графина; в стакан Изабеллы он вылил содержимое плоской фляги, извлеченной им из кармана вместе с яблоком, а собственный стакан оставил пустым. Графин, принесенный Грегори с остатком вина, он отодвинул на самый дальний краешек стола. – Мисс Райленд, – сказал он, поднося стакан прямо к губам Изабеллы, – вы непременно должны выпить это вино. Так мне приказано, и я умоляю вас делать все, чтобы облегчить Чарльзу и вашим друзьям их задачу. Они все находятся сейчас в смертельной опасности. Изабелла покорно осушила до дна небольшой стаканчик. Не прошло и десяти минут, как веки наследницы Ченсфильда стали тяжелеть. Она успела бросить на своего спутника грустный, удивленный взгляд. Голова ее стала клониться. Девушка подняла руку ко лбу для крестного знамения, застонала и откинулась назад. Охваченная непреоборимым сном, похожим на глубокий обморок, девушка уже не слышала, как Реджинальд укутал ее вторым плащом и подложил ей под голову свернутый плед. В эту минуту наверху утихла возня с чугунной плитой. Реджинальд торопливо задул одну свечку, а вторую спрятал под стол и прикрыл ее свет. Внимательно всматриваясь в темный потолок, он вдруг обнаружил в нем, прямо над собою, узенькую полоску света. Она чуть-чуть расширилась; оттуда донесся неуловимый шорох… Молодой человек схватил свечу и поднес ее к лицу Изабеллы. – Боже мой, патер Бенедикт! – простонал он тоном насмерть перепуганного человека. – Скорее на помощь, Грегори! Патер! Ни звука не раздалось ему в ответ. Он бросился к двери и ударил по ней кулаком с такой силой, что все здание часовни наполнилось гулким металлическим звоном. Полоска света на потолке померкла, но края ее были различимы… Наблюдатели, очевидно, легли на пол и приложили глаза к потайной щели. – Отец Бенедикт! – вопил человек в подземелье. – Да откройте же двери! Мисс Изабелле дурно! Пусть все идет к черту, нужно спасти ее! Оповещайте людей, зовите врача! Мертвая тишина царила наверху. Голос человека в подземелье глушили каменные гробоподобные своды, наверх проникал только слабый металлический гул от сотрясаемой двери… Внезапно сам Реджинальд схватился за сердце и медленно опустился на пол у входа. Ни один актер в мире не потрясал толпу зрителей таким мастерством исполнения роли Ромео в склепе у тела бездыханной Джульетты, с каким Реджинальд Мюррей разыгрывал подобную же роль перед своими двумя зрителями! Эти зрители, лежавшие на плитах пола перед алтарем, пристально наблюдали сквозь щель за агонией второй жертвы: стоя на коленях перед скамьей, Реджинальд поник головой на грудь бездыханной Изабеллы, замер в этой позе на несколько секунд, а затем, потеряв последние силы, грузно осел на пол, между столом и скамьей… Подземный тайник стал могильным склепом обоих отравленных! Под столом еще горела свеча, и в отблеске ее огонька иезуит и его сообщник смогли различить неподвижные тела Изабеллы Райленд и ее верного рыцаря.Патер Бенедикт чувствовал сильнейшую усталость, но сознание свершенного долга поддерживало его силы! В успехе миссии мистера Линса он не сомневался, а Изабелла уже мертва! Устранена грозная опасность святому делу, ибо патер отлично сознавал, что один взгляд эччеленца Паоло на свою внучку или внука или даже на их портреты поставил бы под угрозу весь замысел отца Фульвио! Теперь эта угроза миновала окончательно… Монах решил, несмотря на утомление, все же вернуться в Ченсфильд. Он отдал Грегори все необходимые распоряжения, касающиеся инсценировки самоубийства обеих жертв, а сам с легким сердцем вышел из капеллы. Застоявшийся конь заржал и нетерпеливо ударил копытом. Грегори подтянул подпругу и помог патеру сесть в седло… Дома, заперев часовню изнутри на все запоры, Грегори вновь отодвинул чугунную плиту и спустился в люк. Откинув засов, он вошел в тайный склеп. Служитель поправил светильник, разжег его, осмотрелся, достал из кармана готовую записку и бросил ее на стол. Поверх записки он положил маленький карандашик. Затем он налил из пузатого графина немного вина в оба стакана, а сам графин взял за горлышко с большой осторожностью, чтобы не замочить пальцев. Держа этот сосуд в одной руке, он прихватил один из светильников, еще раз тщательно окинул взором стол, скамью, лежащие тела, а затем торопливо повернулся к выходу… Очень спокойный голос скомандовал ему из-под стола. – Руки вверх, отравитель! Стой и не шевелись! Графин выпал из руки Вебста и разбился вдребезги. Служитель, вобрав голову в плечи, метнулся к двери, но пистолетный выстрел наполнил дымом все подземелье. Грегори выронил свечу и повалился на ступеньку открытого потайного хода. Реджинальд Мюррей выбрался из-под стола, взглянул на раненого и прежде всего перезарядил свое оружие.
3
Над Ченсфильдом занималась утренняя заря. Осенний парк загорался золотом и багрянцем. Ветерок шевелил увядающую листву; этот слабый шорох смешивался с отдаленным шумом морского прибоя. Калькуттский юрист мистер Лео Ноэль-Абрагамс уже выполнил все, что от него потребовали Мортон и Буотти. Юрист засвидетельствовал подлинность подписей на составленном документе, заверил его печатью конторы «Ноэль-Абрагамс и Маджарами» и удалился после свершения всех формальностей в угловую башенку, где нашел временный приют в «келье» отца Бенедикта. Не раздеваясь, молодой человек лежал на койке в ожидании лондонского дилижанса. Тем временем владелец поместья с тревогой расспрашивал Уильяма Линса о последних событиях в Бультоне. Цепь неожиданностей все росла! – Не пойму, что творится в Бультоне, – разводил руками экс-сержант. – Нынче ночью шериф приказал арестовать Дженкинса, совладельца конторы «Мортон и Дженкинс». У него сделали обыск и… вскрыли чулан во дворе. Вся партия французских бумажек… попала в руки помощника шерифа. Милорд чертыхнулся. – Как это случилось? – Дурак он, ваша милость, этот Дженкинс! Решил попытать счастья: обменял на бирже… несколько своих бумажек, приготовленных для Леглуа по вашему приказанию. Делает он это, может быть, и не первый раз. Раньше сходило, вчера влопался. – Есть у вас еще что-нибудь, Линс? – Да, есть. Мой водовоз Флетчер… Помните его, милорд? – Флетчер? Ах, этот… пьяница, что служил… – …кучером у Ричарда Томпсона, ваша милость. Он арестован нынче ночью тем же помощником шерифа. – Гм! Действительно странно… Какая-то цепь… Впрочем, все это не слишком опасно. О бумажках для Леглуа известно высоким лицам в Лондоне! Что касается кучера Флетчера… то он ведь знал только Вудро Крейга да еще этого… как его… Алекса Кремпфлоу… С них обоих теперь взятки гладки, как говорится. А вот то дело, ради которого вы прибыли сюда, мистер Линс, действительно спешно и важно. Вы… готовы? – Готов, милорд. Где он, этот калькуттский юрист? – В левой башне… Кто там еще приехал? Я слышу топот. Уильям Линс подошел к окну кабинета. – Это патер Бенедикт вернулся из Бультона. – Позовите его сюда, в кабинет. Патер вошел, пошатываясь от усталости. – Вы прибыли кстати, падре… Все ли благополучно в капелле? – Дочь ваша сильно угнетена, милорд… – Ничего, образумится. Не сбежал бы только этот… ее спутник. Реджинальд Мюррей! – О, милорд, о нем не тревожьтесь! Он за такими засовами, что с ними не справился бы и Самсон! – Остается, значит, один Диего… Вы, падре, мастер на золотые советы, и, если к ним прибавить еще и… умелые руки мистера Линса, хлопот будет немного… Ступайте-ка вдвоем, да поторапливайтесь: не почтовый ли рожок слышен вдали! Оба вышли из кабинета в прилегающий зал. Патер прошептал экс-сержанту: – Он, наверно, уснул… Идите туда, в башню, а потом… я помогу вам убрать… следы. Сначала я должен посетить больного барона. Быть может, он еще возрадуется перед кончиной! А вы, мистер Линс, торопитесь, пока в доме еще все спят. Утренний сон сладок, никто вам не помешает! …Патер Бенедикт, миновав комнату со спящим слугою барона, вошел на цыпочках в покой больного и приблизился к ложу. Юная сиделка, уронив голову на столик, спала, отвернувшись от лампы. Завешанные окна не пропускали дневного света. Патер приподнял полог. Больной пошевелился и сразу открыл глаза. Он не только дышал ровнее, он оживал! Исчезла мертвенная бледность, пузырь со льдом лежал на подушке, и в комнате пахло не ладаном, а… табаком! Чудесное исцеление тайного посланца отца Фульвио наполнило новой радостью сердце патера Бенедикта. Он счел это добрым предзнаменованием. Склонившись к ложу больного и озираясь на спящую девушку, монах зашептал барону об исполнении всех заданий ордена. Больной слушал патера с ясным, вполне осмысленным взглядом. Затем окрепшим голосом он спросил: – Итак, если мне доведется снова встретить отца Фульвио ди Граччиолани, я могу передать ему, что вы, как верный ученик Игнатия Лойолы, направили руку Джакомо Грелли против его собственного сына, уверив Грелли, будто в лице калькуттского юриста он убивает сеньора Диего Луиса, сына корсара Бернардито? – Сие свершится во имя высшей цели, брат мой. – И это должно произойти… – …через несколько минут, брат мой. – А дочь Грелли, вы говорите, уже… – …покончила с собой в минуту… грешного отчаяния. Больной барон приподнялся на ложе. Юная сиделка повернула к свету свою хорошенькую головку. В то же мгновение отворилась дверь, и слуга барона Франсуа Буше вошел в комнату… По крутым ступенькам железной лестницы экс-сержант Линс поднялся к уединенной келье в левой башенке. Дверь он нашел запертой. Потоптавшись у порога, он заглянул в замочную скважину. Молодой юрист спал одетым на койке. Уильям Линс осторожно потянул за ручку двери. Сквозь дверную щель стал заметен железный крючок, которым дверь была заложена изнутри. Экс-сержант достал из-за пояса узкий стилет и просунул его в щель. Клинком приподняв крючок, Линс приоткрыл дверь и переступил порог. Спящий не пробудился… Помедлив мгновение, Линс взял стилет в левую руку, а правую опустил в карман и продел пальцы в отверстия тяжелого кастета… Он коротко размахнулся, нацеливаясь в висок жертвы, и… обомлел: из стенной ниши, завешанной простыней, выступил какой-то незнакомец в пропыленном дорожном камзоле слуги, а на пороге кельи выросла, будто из-под земли, высокая фигура незнакомого монаха с накинутым на голову черным капюшоном сутаны. Это… не патер Бенедикт!.. Несколько сильных рук скрутили локти бывшего сержанта.4
Лорд-адмирал Ченсфильд один бодрствовал в своем охотничьем кабинете. Шелест ветра в саду был слышен через каминную трубу. Издали, с бультонского тракта, неслись звуки почтового рожка. Завешанные окна пропускали мало утреннего света. Он бликами лежал на полу, оставляя внутренность покоя в полумраке. Этот слабый голубой отсвет из окон мешался с желтым блеском двух свечей на письменном столе. Полосы табачного дыма поэтому казались то сизыми, то изжелта-серыми. В кресле перед потухшим камином спал Мортон. Осторожные шаги послышались в зале, примыкавшем к охотничьему кабинету. Милорд прислушался. Леди Райленд в легком ночном пеньюаре и чепце с лентами без стука вошла в кабинет и с удивлением взглянула на спящего Мортона. Глаза старика были полураскрыты, как у мертвеца, и из-под полуопущенных ресниц виднелись белки с желтыми прожилками. – Фредди, вы узнали что-нибудь о вашей дочери? – спросила графиня холодным и недовольным тоном, словно забота о наследнице была делом одного хозяина дома. – Мне сейчас не до нее. Пройдет время – найду и накажу девчонку. Пора ее выдать замуж. Отдам ее за Уильяма Блентхилла. Придурковат, но покладист. – Вы ничего не имеете сказать мне, мой друг? – Приготовься к встрече гостя, Нелль. Генерал Хауэрстон может пожаловать с минуты на минуту. Дилижанс уже у «Веселого бульдога»… Помер наконец твой француз там, наверху? – Фредди, я бы предпочла другой тон нашей беседы. Почему мистер Мортон здесь? Вы могли бы предупредить меня, по крайней мере, что здесь находится постороннее лицо… Видите, я не одета. – Я не приглашал тебя сюда, Нелль. Миледи, уязвленная невежливостью супруга, не нашла достойного ответа, закусила губу и повернулась к двери. В этот миг кто-то постучал настойчиво и резко. Человек за дверью, не ожидая приглашения, распахнул дверную створку и переступил порог. Это был монах в черной сутане. Голову его скрывал поднятый капюшон, и по этой причине милорду представилось, будто рост патера Бенедикта заметно увеличился. Черноризец так низко наклонил голову, что хозяин дома не мог видеть его лица. Монах приблизился к столу, сжимая в кулаке какой-то маленький предмет. Не поднимая головы, он метнул взгляд из-под капюшона в сторону миледи. Рассерженная дама, уловив нетерпеливый жест супруга, вышла из кабинета и захлопнула дверь. – Вы покончили с делом, падре? – спросил лорд Ченсфильд, поворачиваясь к монаху. У того еще ниже опустился черный капюшон. – Он уже мертв, – произнес монах глухо. – А эту ладанку я снял с его груди. – С этими словами монах подошел к окну и отдернул штору. Яркий голубой свет залил комнату. Лорд-адмирал схватил овальный золотой медальон. Тонкая золотая цепочка обвилась вокруг его пальцев. С силой надавив на вделанный сбоку синий сапфир, он раскрыл медальон… Два портрета на эмали, его собственный, слева, и… кудрявая головка Чарльза Райленда, маленького виконта Ченсфильда, глянули на него со створок медальона. – Что это… что это такое? – хрипло выговорил владелец Ченсфильда. – Это… расплата, Джакомо Грелли! Только теперь голос монаха показался лжемилорду чужим и в то же время отдаленно знакомым. Лорд-адмирал вскочил и вцепился в капюшон сутаны мрачного собеседника… Две сильные руки стиснули его запястья. Монах рывком откинул назад черное покрывало с головы. Серебряно-белые пряди его волос упали на отворот капюшона. Узкое морщинистое лицо наискось пересекала черная тряпица, прикрывая левый глаз человека в сутане. Сверлящее единственное око вперилось прямо в обезумевшие, как у дикой кошки, зрачки лжемилорда. – Бернардито! – отступая, произнес владелец поместья. На миг его руки оказались свободными, и он упал бы навзничь мимо кресла, если бы черный гость не удержал его, схватив за кружевное жабо. – Здорово, помощник! – раскатисто загремел голос человека в сутане, как некогда он гремел с мостика «Черной стрелы». – Вижу, ты будто и не рад встрече с капитаном? – Будь ты… проклят, Одноглазый Дьявол! Уйди отсюда… Рассыпься… Сгинь в свою преисподнюю!.. – В преисподнюю ты хотел послать моего сына Диего, а отправил туда… своего Чарльза, гиена! – Пусти меня, дьявол… Эй, люди! Сюда! Ко мне! На помощь! – Кого ты кличешь, Гиена Грелли? Уж не своих ли дружков, Черного Вудро и Джузеппе Лорано? Ты свернул им шеи на Терпин-Бридже, хромой припадочный пес, и на помощь тебе они не поднимутся из могилы… Стой, не вертись, помощник!.. От меня тебе не вырваться, моя хватка крепче! – Пощады, синьор Бернардито! Пусти меня взглянуть на Чарльза, капитан! Пощады!.. – Поздно, Джакомо Грелли! Пощады проси у сатаны, кому продался и служил… Приспешники твои предали тебя так же, как ты сам предавал и убивал их. Дочь твоя тоже мертва! Иезуит отравил ее за венецианские миллионы… Теперь пришел час и вашего пиратского лордства, каррамба! Генерал Хауэрстон держит тебя за глотку, и виселица тебе готова. Спасать тебя от нее больше некому, ад и молния! В твоем замке уже распоряжается генеральская свита! Старый Мортон, разбуженный этой пиратской схваткой у стола, в ужасе наблюдал за двумя главарями «Черной стрелы». Едва черный гость произнес последние слова, Мортон услышал странный нарастающий звук, исходивший словно из глубины тигриного горла. Сам Бернардито непроизвольно отступил назад и отпустил жабо под горлом своего врага. Как раненный насмерть бык, пригнув голову, Джакомо Грелли рванулся вперед, едва не сбив Бернардито с ног. От страшного толчка плечом обе половины двери, чуть не сорванные с петель, распахнулись в зал. Со звериным воем, не разбирая ничего перед собой, хромой пират Леопард Грелли, бывший помощник с «Черной стрелы», ринулся в коридоры ченсфильдского замка. Несколько человек уже выбежали из разных комнат, преследуя обезумевшего лжемилорда, но в сутолоке они потеряли его среди лабиринта коридоров и ходов. Он ускользнул от преследователей в неприметную дверцу подпольного коридора, который начинался под лестницей вестибюля и вел в подземелье замка. Сбежавшиеся в вестибюль челядинцы и остальные преследователи услышали голос безумца уже из-под пола. Странные крики доносились оттуда, из глубины нижнего потайного коридора: – Джузеппе! Вудро! Бейте королевских егерей! Осторожней с проволокой, Вудро! Подавай «Черную стрелу» в бухте, капитан! Я прыгну на борт с утеса… Вдруг по всем закоулкам старого дома разнесся истерический женский вопль: – Схватите, схватите его! Он бежит к пороховому складу под замком! Кричала леди Райленд. С растрепанными волосами, в ночной одежде, она выбежала на площадку лестницы и опрометью бросилась к выходу. Кто-то схватил ее за руку и увлек назад, в вестибюль. Она билась, стонала и вырывалась с бешенством отчаяния, пытаясь достичь выходной двери. Внизу, под полом, гулко бухнул выстрел, за ним второй, третий… Леди Райленд пронзительно вскрикнула. Высокий монах в черной сутане подхватил бесчувственную даму за талию и усадил на скамью. Леди Эллен открыла глаза и увидела перед собою одноглазого человека в монашеской сутане. Это был не патер Бенедикт! Горящий глаз незнакомого монаха, казалось, был способен прожигать камень. – Покажите мне вход в подземелье, – грозным тоном приказал он виконтессе. – Это уже излишне, капитан, – прозвучал чей-то уверенный и хладнокровный голос. – Я предусмотрел попытку взрыва. Но даже моего вмешательства не потребовалось: сама смерть остановила руку злодея. Под лестницей стояли два человека в камзолах слуг. Они только что выбрались из дверцы потайного хода и стряхивали пыль со своих рукавов. Это были Франсуа Буше, пожилой слуга французского барона, и Кариндж, «посланец лондонского агента Кленча». – Кто же стрелял внизу, господин майор? – спросил Бернардито старшего из них, Франсуа. – Это вы сейчас узнаете, синьор. Драма окончилась! – И, обернувшись к оторопевшимслугам, мнимый Франсуа Буше приказал им покинуть вестибюль. – Только вы останьтесь здесь, – сказал он Каринджу. Когда растерянные слуги удалились, переодетый майор подошел к миледи. Она походила на безумную леди Макбет. На глазах у дамы мнимый слуга снял парик и фальшивые седые брови. – Сударыня, я вынужден арестовать вас, – произнес он тихо. – Имею честь спросить, угодно ли вам узнать меня? – Майор Бредд! Боже мой, что все это значит? – Вынужден просить извинения за себя и лейтенанта Бруксона, извольте простить нам, сударыня, маскарадные костюмы слуг. Потрудитесь теперь удалиться к себе и не покидать вашей комнаты. Я буду иметь удовольствие пригласить вас позднее для… небольшой беседы. Вас, капитан Бернардито, прошу вниз в подземелье. Там вас ожидает не особенно приятное зрелище. Дверца под лестницей оставалась открытой. Бернардито взял свечу и последовал за майором в потайной коридор. Этот узкий, извилистый ход, постепенно понижаясь, привел к подвалу. Перед входом в подвал коридор расширялся. Тяжелая металлическая дверь подвала стояла распахнутой настежь. У порога лежал ничком, раскинув руки, владелец замка. Рядом валялись три старинных турецких пистолета с закопченными стволами. Запах порохового дыма еще не успел рассеяться в сыром воздухе подвала. На полке рядом с дверью горела свеча в медном шандале. При ее свете Бернардито увидел, что владелец замка убит выстрелом в висок. Капитан заглянул в подвал. – Осторожнее со свечой, синьор Бернардито Луис! – предостерег его майор Бредд. Около тридцати пороховых бочонков, уложенных боком один на другом, громоздились вдоль двух стен подвала, почти достигая потолка. Десятка два вощеных пороховых фитилей вились по полу. Концы шнуров были вделаны в пробки бочонков. – Как вы догадались о существовании этого подвала, майор? – спросил Бернардито. – Лейтенант Бруксон, сыгравший роль слуги Кленча, обследуя замок, заметил потайную дверь под лестницей. Ночью я обнаружил этот пороховой запас. Шнуры сильно запылились – значит, замок давно приготовлен к взрыву. А на полке перед дверью, рядом с приготовленной свечой, я сразу заметил эти три старинных заряженных пистолета; хозяин явно припас их на тот случай, если бы ему взбрело на ум разом покончить и с собою и с замком. Бернардито зябко передернул плечами… Оказывается, все живое в Ченсфильде поистине сидело на пороховой бочке! – Как же вам удалось помешать синьору Грелли… отправить всех нас в поднебесье? – Мне пришлось все время быть начеку. Ключ от этой двери был в замочной скважине. Когда, связав попа Бенедикта и обезвредив Линса, вы отправились в поповской сутане в кабинет Грелли, я спустился в подвал и за перся в погребе изнутри: было нетрудно предвидеть, что Грелли решится на свой последний роковой шаг. Расчет был верен: Грелли стал ломиться в металлическую дверь. Он бился об нее, но, разумеется, железная дверь не поддалась напору. Вскоре следом за Грелли в подземелье бросился и лейтенант Бруксон. Лжемилорд схватил два пистолета и выстрелил из обоих по своему преследователю, но, к счастью, промахнулся. Обезумев от ужасной развязки своей ченсфильдской эпопеи, Грелли осознал все же, что партию… пора сдавать! Он это и сделал… последним выстрелом в висок!.. А вот и лейтенант Бруксон идет сюда. До прибытия властей ему придется побыть здесь, внизу. Будем надеяться, что и в капелле паписта все обстоит благополучно. Сейчас же пошлите карету за мистером Реджинальдом Мюрреем и мисс Изабеллой. …Выйдя из подземелья, Бернардито увидел, как два дюжих челядинца несут к карете связанного и спеленатого патера Бенедикта. Черты его лица были искажены злобой и страхом. На подушках кареты кое-как усадили монаха рядом с притихшим, будто пришибленным Уильямом Линсом. Доктор Томазо Буотти, мисс Дженни Мюррей, освободившаяся от обязанностей сиделки и свидетельницы, доктор Грейсвелл и престарелый Томас Мортон смотрели вслед разоблаченным приспешникам Грелли. Вечером того же воскресного дня погода испортилась. Закатные солнечные блики погасли в зеркале ченсфильдского озера, с моря наползли тучи. Однако в замке все окна стоили распахнутыми настежь, словно жители этого дома задались целью дать побольше простора освежающему морскому ветру. Притихшая прислуга безропотно подчинялась майору Бредду и седому одноглазому капитану. Из Бультона уже прибыли шериф с помощником. Полицейские вынесли тело хозяина-самоубийцы в бильярдную и взяли под охрану пороховой подвал.5
Ночь с воскресенья на понедельник прошла в Ченсфильде незаметно. По всем углам старого дома шелестел шепот, раздавался тревожный приглушенный говор. Шушукались горничные, лакеи, личные слуги. Никто не выходил из дому. Многих слуг вызывали и опрашивали прибывшие из города джентльмены. Камердинер Мерч бродил по замку, как тень; при его приближении шепот слуг смолкал, но лишь только камердинер отдалялся, шушуканье возобновлялось и достигало силы осеннего ветра в листве. Утром майор Бредд уехал в Лондон, а лейтенант Бруксон, вежливый и бесстрастный, уже заканчивал допрос старого Мортона. Беседа велась в охотничьем кабинете, в присутствии капитана Бернардито и доктора Буотти. Испуганный старик, так неожиданно утративший свою надежную опору, раскрывал теперь факт за фактом, событие за событием всю историю Джакомо Грелли. Доктору Буотти чудилось, что он присутствует при операции злокачественного нарыва, вскрытого скальпелем хирурга. – Только ваш возраст, мистер Мортон, избавляет вас от участи быть заключенным в тюрьму в качестве сообщника пирата и злодея… Но если бы вы пожелали искупить хоть часть вашей вины, то… случай вам вскоре, быть может, представится. Ступайте, вы свободны. Голос офицера был холоден, сух и суров. Мортон с усилием поднялся; он еще подыскивал какие-то слова оправдания, но лейтенант уже не глядел на него. Буотти поддержал старика под локоть. – Я помогу вам добраться до дому, – проговорил итальянский богослов и вывел Мортона из кабинета. Они прошли мимо высокого констебля в парадных дверях и, сославшись на позволение лейтенанта, спустились с крыльца. На дворе было светло и свежо. В садах и парках Ченсфильда, расцвеченных красками увядания, стояла особенная, осенняя тишина. Листья быстро желтели. Лес, еще недавно полный жизни и летней свежести, теперь алел багряными тонами осени. Едва приметные льняные кудельки вянущего мха, отцветший вереск, рыжие, высохшие полоски нескошенных луговин придавали августовскому пейзажу грустный, нежный и чисто английский оттенок. Тихие, словно отгоревшие в розовом пламени утренние облака на востоке, летающая в воздухе паутина, похолодевшая голубизна озерных вод предвещали скорое наступление ненастья и заморозков. – Что же побуждало вас, мистер Мортон, так долго и стойко поддерживать обман и помогать коварству? – спросил доктор Буотти. Мортон уловил в его голосе ноту сострадания. – Любовь к моей дочери, сударь, и убеждение, что, пользуясь поддержкой столь возвеличенного человека, она никогда не узнает нужды, холода и унизительной заботы о куске хлеба. – Но если вы сами так сильно чувствуете отчую любовь, как же вы смогли, не колеблясь, отнять у другого старца последнюю надежду отыскать потомков? Мортон еще ниже опустил голову: – Вы подразумеваете документ для графа д’Эльяно? Синьор Буотти молча кивнул. – Сударь, я просто выполнил приказание. Ведь это могла быть очередная уловка. Впрочем… Грелли так и не простил своего отца. Бог ему судья! – Позвольте спросить, мистер Мортон, сколько вам лет? – Семьдесят два, господин доктор. Я намного пережил свою дочь. – Позвольте, разве вы считаете свою дочь умершей? – Моя дочь погибла. Грелли признался мне, что в числе жертв индейского налета на Голубую долину была и моя Мери. – Грелли обманул вас, мистер Мортон. Джордж Бингль привез вам из Филадельфии письмо от вашей дочери. – Как! Письмо от Мери? Мне?.. Грех вам, синьор, испытывать меня напрасной надеждой! – Мистер Мортон, разрешите вручить вам этот пакет. – Бога ради, позвольте мне ваши очки, доктор! Свои я, наверно, забыл в кабинете. О господи, какой день! Синьор Томазо Буотти протянул Мортону вместо очков сильную лупу. Старик надорвал узкий голубой конверт, напряг зрение до предела и увидел сквозь линзу строки родного почерка.«Эсквайру Томасу Мортону Ченсфильд, Бультон Милостивый государь, хорошо известные вам причины, некогда побудившие меня решиться на весьма тягостный разрыв, снова дают мне повод обратиться к вам после пятнадцатилетней разлуки. Обстоятельства открывают вам возможность искупить тяжелую вину перед людьми, которых Грелли при вашей помощи лишил имущества и фамильного имени. Если вы поможете этим людям выполнить принятую ими на себя миссию, я готова предать забвению прошлое и уничтожить разделяющую нас пропасть.Кое-как прочитав письмо, Мортон уронил и лупу и бумагу. Доктор Буотти поднял эти предметы с влажной травы. Собеседники стояли под старым вязом в усадьбе Мортона. У старого стряпчего подкашивались ноги. Он оперся о ствол дерева. – Говорите скорее, синьор, что вам угодно потребовать от меня. – Содержание письма вашей дочери известно мне. Угодно ли вам, мистер Мортон, совершить со мною путешествие в Венецию и… – Тут доктор Буотти огляделся по сторонам, убедился, что кругом нет никого, и прошептал Мортону несколько фраз на ухо. Мортон вытер пот со лба: – Это тяжелая обязанность, сударь! – После исполнения этой задачи вы отправились бы в Америку и прожили бы остаток жизни в счастливой семье вашей дочери… Вы увидели бы ваших внуков… – Но, сударь, будет ли мне дозволен выезд из Англии? – Хауэрстон готов посмотреть сквозь пальцы на ваш отъезд в Венецию, и лейтенант об этом осведомлен. – Хорошо, господин доктор, ради встречи с дочерью я готов исполнить ваше поручение. – О, вы снимете все грехи с ваших плеч, мистер Мортон! И чтобы обрадовать вас еще больше, я открою вам: яхтой «Толоса», на которой мы немедленно отбудем в Венецию, командует не кто иной, как… супруг вашей дочери, мистер Эдуард Уэнт. Из Венеции вы оба вернетесь к вашей Мери в Филадельфию!Мери».
Вскоре после отплытия из Бультона на яхте «Толоса» доктора Буотти и старого Мортона Изабелла Райленд, привезенная в Ченсфильд, проснулась от долгого сна. Открыв глаза, она увидела рядом с собой мисс Тренборн и Хельгу Лунд. При первом же движении Изабеллы гувернантка и кормилица всхлипнули в один голос и зарыдали. Изабелла узнала затемненный шторами, сумрачный покой «больного француза». Она с трудом приподнялась на локте и стала напряженно восстанавливать в памяти все совершившееся. В ее прояснившемся сознании воскресли подробности бегства из родительского дома и зловещая обстановка подземного тайника в часовне. Голова ее сильно болела; чувствовала она себя не освеженной сном, а разбитой и больной. Медленно, как туча, уплывающая с горизонта, таяло сонное забытье, но вместе с этим в сердце Изабеллы возрождалось чувство тревоги и неуверенности. В ту же минуту открылась дверь и синеглазый «кавалер де Кресси» стремительно вторгся в обитель тишины и покоя. Реджинальд едва не опрокинул стулья с сиделками, опустился на колени перед ложем девушки и прижал к губам ее руку. – Скажите мне, где мой отец? – выговорила наконец Изабелла, приподнимаясь на ложе. Мисс Тренборн мгновенно сделалась пегой от пятен румянца, а Хельга Лунд беспомощно воззрилась на Реджинальда. Обеих сиделок вывело из крайнего затруднения появление в том же покое двух новых лиц: капитан Бернардито и его названный сын Чарльз приблизились к ложу Изабеллы. Капитан слышал вопрос девушки. Он положил брату и сестре руки на плечи и проговорил ободряюще: – Не тревожьтесь, дети, и знайте, что все опасности миновали. Вас ожидает счастливое будущее в окружении преданных друзей и любящих сердец. Поцелуй сестру, мой маленький Ли, а вы, мисс, гордитесь таким братом. Он заменит вам отца, ибо Джакомо Грелли нет больше в живых! Теперь, господа, прошу вас, оставьте нашу «воскресшую» наедине с братом. У них есть о чем поговорить друг с другом!
24. Солнечный остров
1
Началась уже третья неделя со дня отъезда в Лондон майора Бредда. Тело Джакомо Грелли, заключенное в свинцовый гроб, покоилось в подземелье ченсфильдского дома. В город начали просачиваться первые слухи о смерти лорда-адмирала, но лейтенант Бруксон решительно отклонил все просьбы журналистов дать в печать какие-нибудь сведения о кончине милорда. Ченсфильд по-прежнему жил замкнутой жизнью, его обитатели не показывались за пределами поместья, никто извне не допускался в его усадьбы и фермы. Таково было приказание властей. Утром 15 сентября 1790 года капитан Бернардито отправился в трактир «Веселый бульдог» к почтовому экипажу из Лондона: отсутствие вестей из столицы уже тревожило всех «охотников за леопардом». Когда громоздкий экипаж, гремя железными шинами и оглашая окрестности кондукторским рожком, подкатил к трактиру, Бернардито увидел в окне дилижанса офицерскую треуголку майора. На империале восседали шестеро солдат в красных мундирах и долговязый сержант. С первых же слов Бредда капитан понял, что вести из Лондона плохи. – Ведите солдат к замку, сержант, – приказал майор Бредд, – и доложите лейтенанту Бруксону, что вы прибыли с командой сменить его на посту охранителя владений Ченсфильда. Солдаты построились в «походный порядок» и затопали к замку. Бредд проводил их взглядом и предложил капитану выпить по кружке эля в трактире. Они уселись за уединенным столиком. – Я прислан сюда генералом Хауэрстоном, чтобы усилить охрану владений покойного милорда Ченсфильда… Бернардито в недоумении взглянул на собеседника. Тот с невозмутимым видом рассматривал напиток в кружке. Сделав глоток, майор продолжал: – Следом за мною уже выехали из Лондона сам генерал Хауэрстон, директор «Северобританской компании» мистер Норвард и правительственный чиновник с полномочиями от лорда-канцлера. Это мистер Бленнерд, на сей раз… подлинный! – Сделав это добавление, майор невесело усмехнулся. – С какой же целью едут сюда эти господа? – спросил Бернардито, сразу почуяв недоброе. – Принести соболезнования безутешной вдове, ввести ее в права наследства и… загладить ошибки, совершенные бестактным и неумным майором Бреддом! Завтра торжественные похороны графа Ченсфильда, мистер Бернардито Луис! Оттолкнув пустую кружку, Бернардито кивком указал Бредду в окно, на башенки Ченсфильда: – Я плохо понимаю вас, господин майор! А… как же законные наследники этого дома? – Кого вы изволите иметь в виду, капитан? – Как – кого! Разумеется, Реджинальда Мюррея и его сестру Джен. – Видите ли, капитан, в наши тревожные дни революционных потрясений на континенте лорд-канцлер, с одобрения его величества, принял решение не волновать умы граждан оглашением тех тайн, над раскрытием которых мы с вами потрудились с излишним рвением… Никаких разоблачений относительно прошлого Джакомо Грел… я хочу сказать, покойного лорда-адмирала, сделано не будет. В случае появления в печати каких-либо инсинуаций соответствующие номера подлежат запрещению. На одной из площадей Бультона покойному будет воздвигнут бронзовый памятник. – Значит, присылка сюда этих солдат… – Это мера, чтобы обезопасить владения милорда и миледи Райленд от… подозрительных и нежелательных иностранцев. Надеюсь, вам ясно, кого генерал Хауэрстон имеет в виду? – Кажется, ясно. Очевидно, меня и… – …и ваших друзей. Неужто вы, капитан, человек столь проницательный, все еще не догадываетесь, ради чего я постарался прибыть… раньше остальных членов комиссии? – Сударь, законные наследники с надеждой ожидали вашего возвращения! – Эти надежды не оправдались. Единственное, что в моих силах, – это предостеречь вас, то есть исполнить долг честного союзника по трудной борьбе. Приездом своим я этот союзнический долг по отношению к вам исполнил. Теперь… вы поняли меня, капитан? Бернардито поднялся и посмотрел Бредду в глаза: – Угодно ли вам будет переговорить и с самими… наследниками, сударь? – Хорошо. Идемте в замок. Я покажу им некоторые выписки из протокола комиссии канцлерского суда. Это рассеет ваши сомнения, и вы сможете тогда поступать по собственному усмотрению. …В охотничьем кабинете Ченсфильда, у пыльных шкафов и полок с ружьями, собрались в тесный кружок все «победители леопарда». Майор Бредд увидел себя в обществе старого капитана, обоих наследников – Реджинальда и Дженни Мюррей, – мисс Изабеллы Райленд, мистера Джорджа Бингля и стройного синьора Чарльза. Бредд достал из сумки несколько листов бумаги, бегло исписанных канцелярской скорописью. Бернардито, Чарльз и Джордж Бингль склонились над бумагой. Минуя скучные юридические формулы и ссылки на статьи и параграфы, Джордж Бингль, лучше других разбиравший почерк канцеляриста, стал читать вслух самые примечательные места этого документа: – «…В наши дни всеобщих потрясений…». Так… «Высочайше утвержденная тайная комиссия канцлерского суда…». Так… «Приняла решение не волновать умы британских граждан…». Вот-вот, слушайте, друзья: «Его величество изволил предложить комиссии тщательно взвесить права нынешних претендентов на титул и владения покойного… Комиссия же по рассмотрению всех обстоятельств самоубийства милорда категорически отказывает сыну Альфреда Мюррея в признании прав наследника, ибо мистер Альфред Мюррей юридически подтвердил на борту брига «Орион» 31 декабря 1772 года свою непричастность к титулу и имуществу виконтов Ченсфильд, а впоследствии вел в Америке военные действия против вооруженных сил британской короны, став тем самым ее врагом и способствовав отторжению от Соединенного Королевства его западных колониальных владений. А посему никакие имущественные претензии со стороны самого Мюррея или его потомков не могут быть приняты во внимание». Догадайся майор Бредд взглянуть на Реджинальда, он удивился бы отнюдь не горькой улыбке на лице человека, теряющего свои наследственные права. Но майор глядел в сторону и не видел, как мисс Изабелла незаметно протянула руку развенчанному наследнику. – Реджи! – прошептала она очень нежно. – Милый! Теперь Ченсфильд стал мне совсем чужим! И если вы должны его покинуть… я тоже не хочу этого наследства… И я могу теперь дать ответ, которого вы… давно ждете, Реджи! Тут остальные оглянулись на них. Изабелла покраснела и смолкла. Реджинальд глядел на нее с восхищением, а Джордж Бингль продолжал быстро бормотать выдержки из протокола: – «Со смертью лица, носившего титул графа и лорда Ченсфильда, эрла Бультонского и адмирала британского флота, таковой титул перестает существовать, все владения же покойного, как то: поместье, замок, банк, верфь, промышленные предприятия, городские дома в Бультоне, Лондоне и других городах, сельскохозяйственные фермы, сданные в аренду, морские суда и все движимое имущество, равно как и капиталы, находящиеся в ценных бумагах и золоте, а также удобные земли на острове в Индийском океане, передаются по праву наследства вдове покойного, высокочтимой и глубоконравственной миледи Эллен Райленд, графине Ченсфильд, известной своей благотворительностью и заслужившей неизменную благосклонность королевской семьи за ее всегдашнюю преданность трону. Комиссия канцлерского суда просит сию высокорожденную знатную даму временно сохранить управление всеми указанными владениями и средствами в руках досточтимого мистера Норварда, который пользовался доверием покойного милорда и готов содействовать дальнейшему процветанию фирмы и предприятий, созданных трудами покойного. Представитель комиссии мистер Бленнерд назначается временным губернатором острова Чарльза в Индийском океане. В целях установления на этой земле нормального колониального режима и поддержания там порядка мистеру Бленнерду надлежит после похорон снарядить экспедицию из трех военных кораблей и утвердить на острове законную британскую власть решительными мерами. Комиссия выражает надежду, что миледи Райленд окажет материальное покровительство этому начинанию, исполняя волю покойного супруга…» – Посмотри-ка, Джордж, нет ли там чего-нибудь поинтереснее! – со злобой проговорил Бернардито. – Читайте быстрее, похоже, что нам всем больше нечего делать в этом гнезде дьявола! – «…Выслушав в секретном заседании сообщение офицера тайной канцелярии мистера Бредда… предложить американским гражданам Реджинальду и Дженни Мюррей, а также французскому подданному Бернардито Луису эль Горра в суточный срок покинуть пределы Соединенного Королевства. В случае отказа подвергнуть аресту и высылке…» А вот тут и про тебя, Чарли, и… про меня, друзья! «Что касается Чарльза Райленда, то таковой считается умершим во младенчестве и погребенным на острове, носящем его имя, а лицо, называющее себя ныне Лео Ноэль-Абрагамсом или Чарльзом Чембеем, равно как и опасный социалист и якобинец Джордж Бингль подлежат немедленному аресту и доставке в Лондон…» Ну, братцы, кажется, достаточно! Все ясно! – громко объявил «якобинец» Джордж и возвратил бумагу в руки майора Бредда. – Постойте, майор, а что же будет со всей шайкой? – вмешался Бернардито. – Что ждет попа-отравителя, трактирщика-убийцу Уильяма Линса, всех этих Флетчеров, Грегори, Дженкинсов и прочих пауков в сутанах и камзолах? – Пожизненная тюрьма, – ответил майор. – Эта участь могла бы миновать одного Дженкинса, если бы он не рискнул на злоупотребление в корыстных личных целях. Поймав его за изготовлением французских ассигнаций, я, признаться, не подозревал, что сей фальшивых дел мастер выполнял, так сказать, государственный заказ из Лондона… Заказ был передан через покойного милорда. Правительство, видимо, заинтересовано в этом деле… – Скажите, мистер Бредд, а сами вы считаете справедливым все это решение комиссии? – спросила у офицера Дженни Мюррей. – Сударыня, я подаю в отставку, и его величеству было угодно известить меня через генерала, что моя отставка будет принята. После окончания дела в Ченсфильде и торжественных похорон милорда моя служебная карьера окончится. – И поводом к вашей отставке… – …послужило то крайнее неудовольствие, с которым его величество встретил, даже не желая вникать в них, разоблачительные материалы. По мнению его величества, столь преданное служение короне, каким отличался покойный, делало его достойным участия даже в совете «королевских друзей»… Но у нас остается мало времени, господа. Комиссия может прибыть с часу на час. …В тот же вечер небольшая команда, навербованная из докеров-итальянцев, уже готовила в путь яхту «Южный крест». Тем временем мисс Изабелла Райленд сухо прощалась со своей матушкой, пораженной новостями отнюдь не меньше законных наследников… – Вы оставляете меня одну, дочь моя? – холодно спросила миледи. – Быть может, вы не отдаете себе отчета, что теряете право на богатство и на доброе имя родителей? – От позорного и преступного родительского богатства я отрекаюсь навсегда, а честное имя надеюсь заслужить в семье будущего супруга! – твердо отвечала Изабелла.2
Утром 14 сентября под неярким осенним солнцем яхта «Южный крест» покинула бультонский рейд. Команда, навербованная за одну ночь из числа итальянских докеров и праздношатающихся матросов в порту, насчитывала девять человек. У штурвала стояли капитан Бернардито и Чарльз Райленд. Когда солнце поднялось выше, яхта развернулась по ветру и взяла курс на юг. Пассажиры стояли на палубе. Скалистое побережье уже скрывало от них глубокий вырез бультонской бухты, островерхие городские крыши, серые башни собора, холм с крепостью и путаницу корабельных снастей у портовых причальных пирсов. Со стороны покинутого порта вслед кораблю неслись мерные, заунывные удары обоих соборных колоколов. Похоронный звон то замирал, когда звук относило ветром, то становился слышнее. Простым глазом можно было различить с яхты черные людские потоки, запрудившие улицы предместья. Огромные толпы народа двигались из Бультона по направлению к холмам Ченсфильда. Было объявлено, что лорд-адмирал скончался, и по этому прискорбному случаю весь город отправился провожать останки своего знатного земляка к его фамильному склепу. – Наша миссия здесь, в Бультоне, окончилась, сынок, – говорил капитан Бернардито. – У нас есть добрый корабль «Три идальго», и мы еще подеремся за молодую Францию. Согласен ли ты принять мое имя, имя старого бродяги и изгнанника, врага королей? Я хочу видеть тебя счастливым, сынок! – Отец мой, вы предлагаете мне то, что заслуживал бы самый любящий родной сын. Но ведь истинное счастье человека заключается в том, чтобы помогать другим людям тоже стать счастливыми. Меня захватила идея Джорджа о Солнечном острове. Он будет действительно счастливым, потому что солнце там должно светить одинаково для всех. Там люди будут жить справедливой жизнью, трудиться сообща, поровну делить плоды своего труда, сами выбирать себе руководителей для разных видов работ, сами строить свой Город Солнца… – Стой, замолчи! Я плохо разбираюсь в красивых мечтах, но убей меня бог, если святая церковь не объявит тебя еретиком за эти помыслы, мой мальчик! Где же это видано, чтобы один человек не завидовал другому, не обманывал другого, не пытался бы подчинить себе другого? Но даже если бы это и было возможно, то разве позволят земные владыки, чтобы где-нибудь выросла такая колония? Вас объявили бы опасными безумцами и поторопились бы стереть с лица земли вместе с вашим Городом Солнца. – Но, отец, мы потому и избрали остров в Индийском океане, что там некому мешать нам. Там мы будем вдалеке от королей, пап и губернаторов. И там не пустыня, там живут деятельные люди. Там многое уже подготовлено к тому, чтобы Город Солнца вырос очень быстро. Мы с Джорджем… – Сынок, ты слышал, что сказал генерал Хауэрстон про военную экспедицию на остров Чарльза? Одной этой причины достаточно, чтобы отбросить мысль о «справедливой» колонии на этом острове. Нашим людям придется оттуда уходить. Увидишь: через год вместо города вашей мечты там будут английские невольничьи плантации и каторжные рудники. – Скажи, отец, разве не может население острова выдержать осаду? За счастье нужно бороться. Ты с шестью неграми победил экипажи двух разбойничьих работорговых кораблей! Мы… прогоним оттуда этого английского губернатора. – Мы? Чарли и Джорджи, да? Эх вы, мои братья-мстители! Наши островитяне – народ более благоразумный, они-то знают, что у гидры вместо одной отрубленной головы вырастают три новые… Но я знаю, Чарльз, как трудно бывает расстаться с давно взлелеянной мечтой. Разочаровывать я тебя не хочу, мальчик! После Италии мы отправимся на остров и посмотрим, как жители примут весть о скором приезде губернатора. Если люди цепко держатся за свою землю и свободу – может, они и впрямь пойдут за нее на смерть. Если так, не отстану от вас и я, хоть и не больно я верю в ваш Город Солнца. Тебя-то я не оставлю в минуту опасности.3
Отец Фульвио ди Граччиолани пребывал в глубоком раздумье уже не первый месяц. Неизменное покровительство, которым удостаивали его кардинал, папский нунций*["130] в Венеции, и епископ, глава тайного трибунала святейшей инквизиции в республике, уступило место весьма ощутимому «похолоданию». Оба прелата имели достаточно поводов быть недовольными деятельностью подпольного воинства, подчиненного отцу Фульвио. Это рассеянное по всем темным углам воинство занималось мелким шпионажем, редело от тайных интриг и не вполне оправдывало возлагаемые на него надежды. В народе множились ереси, распространялись атеистические учения. Приток цехинов и гульденов в церковные кассы ослабевал. Чело иезуита было пасмурным и отражало озабоченность. От отца Бенедикта из Бультона давно не было никаких вестей. Посланный к нему Луиджи Гринелли ожидался в июне – июле, но отец Фульвио напрасно прождал своего верного служку до осени. Исчезновение брата Луиджи не на шутку тревожило патера: тайные братья не прощали измены!* * *
В пятницу 5 октября в венецианской лагуне стало на якорь небольшое судно. Судя по узелкам на снастях и почерневшему дереву бортов, эта легкая быстроходная шхуна или яхта оставила за кормой не одну тысячу миль. Скромный вид судна и отдаленный уголок, избранный его капитаном в качестве места для якорной стоянки, отсутствие на борту любителей платить деньги за сувениры или за подвиги ныряльщиков, – все это привело к тому, что даже портовые мальчишки и торгаши очень скоро перестали обращать внимание на маленькую «Толосу». На другой день после прихода судна в Венецию перед фасадом Мраморного палаццо неуклюже выбрался из гондолы какой-то плохо выбритый иностранец в нескладном парике и коротком плаще, открывавшем для всеобщего обозрения пару чулок, черных гетр и тяжелых ботинок с бульдожьими носами. «Бакалавр искусств» синьор Антони Ченни, которого доктор Буотти принял на службу в домашний музей под именем Антонио Карильо, находился в небольшой комнатке, отведенной ему рядом с первым парадным залом. Он вышел было навстречу иностранцу, но, когда тот вступил во дворец и, отдуваясь, приподнял перед зеркалом свой парик, чтобы вытереть вспотевшую лысину, синьор Антонио, наблюдавший отраженные зеркалом движения иностранца, вдруг переменился в лице и чуть не поскользнулся на вощеном паркете. – Будет ли позволено мне, как дальнему путешественнику, осмотреть музейное собрание этого дворца? – спросил гость скрипучим голосом по-английски. Ни одного человека, владеющего английским языком, не оказалось в вестибюле, кроме самого синьора Антонио, который знал язык Альбиона. Синьор Антонио сделал, однако, движение, чтобы ускользнуть в свою комнату. Это удалось бы ему, если бы вездесущий Лафкадио, служка отца Фульвио, не появился в этот миг около иностранца. – Антонио Карильо! – крикнул он укоризненным тоном. – Разве вы не слышите, что синьор просит показать ему музей? Служителю не осталось ничего другого, как приблизиться к иностранцу и открыть перед ним дверь в первый зал. Монотонным голосом он начал объяснения. Иностранец проявил к ним редкостное равнодушие. Кроме того, глаза его были так слабы, что он с явным трудом вглядывался в полотна. – Ваше имя, кажется, Антонио Карильо? – прошептал гость. – Да, синьор. – Послушайте, мне известно, кто вы… да и в лицо я узнаю вас, синьор Ченни. Не усматривайте во мне врага… Потом, позднее, вы все поймете. А пока спрячьте скорее это письмо. Оно от синьора Томазо Буотти. Прочтите его так, чтобы отец Фульвио ничего не узнал о нем. Антонио Карильо торопливо спрятал письмо. – Послушайте, мой друг, – шепотом продолжал иностранец, – постарайтесь скорее окончить этот осмотр. Искусство меня совершенно не интересует. Мне необходимо, будто ненароком, повстречать здесь патера Фульвио. Антонио Карильо заметил на руке чужестранца перстень с большой агатовой печаткой. Он посмотрел на своего собеседника подозрительно и удивленно, но, услышав в соседнем зале шелковый шелест сутаны, мгновенно возобновил свои пояснения. – Вот эта картина, синьор, принадлежит кисти Чимабуэ*["131]. Сюжет ее взят из… Иностранец обернулся и нарочито медленным движением поднял ко лбу руку с перстнем, словно осеняя себя знамением креста. Фульвио ди Граччиолани сказал, обращаясь к служителю: – Сын мой, вкусите отдых. Я сам продолжу объяснения. Итак, вы остановились перед полотном Чимабуэ, синьор. Кисть его, подобно бессмертному искусству Гирландайо, чьи творения украшали дворец Джезу*["132] в Риме, усердно прославляла благие деяния творца. Антонио Карильо выскользнул из дверей и, замкнувшись в своей комнате, разорвал пакет, врученный ему иностранным туристом. Этого туриста синьор Карильо узнал еще в вестибюле: в Мраморное палаццо пожаловал… престарелый атерни Томас Мортон.Патер Фульвио давно не получал столь успокоительных известий: тайные тревоги, заботы и треволнения последних месяцев уступили место чувству глубокого удовлетворения. Долг свершен! Из Ченсфильда доставлен некий важный документ. Графские миллионы вскоре заполнят пустующую орденскую кассу и упрочит положение Христовой церкви. Брат Бенедикт Морсини обрел перед тайным орденом великую заслугу! Беседа отца Фульвио с иностранным гостем, начатая в музее перед полотном Чимабуэ, продолжалась в личных покоях священника. Испытующим взором монах глядел в водянистые, бесцветные глаза приезжего. Томас Мортон выдержал этот пристальный взгляд, молча снял с пальца перстень с печаткой и положил его на стол перед священником. Перс тень отца Бенедикта! Тайный опознавательный знак, которым бультонский капеллан снабдил своего посланца – Томаса Мортона. – Позвольте спросить, доставленный вами документ находится при вас, синьор? – осведомился духовник графа. – Он здесь, ваше преподобие, зашит в моем жилете. Мой друг отец Бенедикт пожелал, чтобы я принял эту маленькую меру предосторожности. Мистер Мортон с усилием стал освобождаться от своего старомодного фрака, напоминающего по цвету табачную пыль. – Лафкадио! – позвал патер. Молодой служка явился мгновенно. По единому взгляду иезуита он понял свою задачу и весьма ловко и быстро помог мистеру Мортону снять фрак, расстегнуть жилет и обнажить свежий шов, под которым слабо похрустывала бумага. Через десять минут вспоротый шов был аккуратно вскрыт, и на столе перед патером появился слегка помятый пакет. Спрятав перстень и письмо, Фульвио ди Граччиолани осведомился, какую квартиру избрал себе в Венеции мистер Мортон. Английский адвокат отвечал, что намеревается отдохнуть недели две в одной гостинице на Риальто*["133], после чего ему предстоит обратная дорога в добрый старый Бультон. Священник проводил гостя до самой гондолы, вернулся в кабинет и вскрыл письмо. В пакете, кроме присланного документа за подписями Фредрика Райленда, Томаса Мортона и юриста Лео Ноэль-Абрагамса, находился еще и чистый лист плотной белой бумаги, сложенной вчетверо. В нижнем левом углу листа иезуит обнаружил неприметный крестик. Это был, очевидно, знак, что бумага вложена неспроста! Повертев ее в руках, монах на ощупь определил, что поверхность листа подвергалась какой-то обработке. Фульвио ди Граччиолани запер двери, зажег свечу и подержал бумагу над пламенем. По всему листу стали отчетливо проступать темно-коричневые строки тайного письма, написанного молоком. Текст послания был на латинском языке.
«In nomini Dei!*["134] Сим извещаю ваше преподобие о свершении мною, недостойным служителем Бога, возложенного на меня поручения. Опасность, грозившая нашему святому делу, устранена. Злокозненные тайные враги милорда, готовившие его разоблачение, повергнуты во прах, но в единоборстве с оными змиями пал и сам милорд. Перед смертью он, по наитию свыше и наущению вашего смиренного брата во Христе, подписал приложенный при сем документ, который является формальным, юридически заверенным свидетельством о гибели незаконного графского отпрыска пирата Джакомо Грелли и об отсутствии у означенного Грелли прямых потомков. Сын милорда, Чарльз, враждебно настроенный против своего отца, покинул земную юдоль, не успев открыть своего настоящего имени никому, кроме собственной сестры Изабеллы. Она же в отчаянии отравила себя ядом. Ее судьбу разделил и Реджинальд Мюррей, неправедный, но опасный претендент на титул. Тайна милорда умерла с этими лицами. Да простит Господь все прегрешения малых сих, и да войдут души их в царствие небесное! Ave Mariа!*["135] Напрасно прождав очередного прибытия ко мне брата Луиджи, постоянного курьера вашего преподобия, я, движимый единым побуждением ускорить отсылку сих вестей, почел за благо самостоятельно изыскать надежного посланца к вам. В неразумии своем я принял во внимание преклонный возраст и недуги нашего сиятельного завещателя, что и побудило меня поспешить с доставкой по назначению сего важного документа. Посему я уговорил мистера Томаса Мортона, как ближайшего сподвижника своего усопшего благодетеля, совершить путешествие в Венецию, дабы вручить настоящий пакет в собственные руки вашего преподобия. Приложенный документ должен устранить все последние сомнения и грешные колебания завещателя. Amen! Смиренный брат ваш во ХристеПатер перекрестился и спрятал документ в своей тетрадочке. Он послал слугу наверх, в графские покои, чтобы пригласить эччеленца Паоло к вечерней субботней мессе. Лафкадио застал графа вкушающим сон после продолжительной прогулки в гондоле на взморье, предпринятой графом до полудня. Превозмогая усталость, дряхлый граф спустился в молельную. Во время мессы он сидел на скамеечке, поддерживаемый новым дворцовым служителем, Антонио Карильо. За последние недели старый синьор с особенной охотой обращался к Антонио за такого рода услугами, ибо молодой человек оказывал их без тени раболепия и угодливости. Дворцовую челядь изумляло умение молодого служителя ободрять и развлекать дряхлого, разбитого немощами вельможу. После короткой мессы священник поднялся вместе с графом Паоло в его покои. Гондола, спешно посланная патером Фульвио, доставила во дворец несколько должностных лиц – главного нотариуса графа д’Эльяно с его помощниками и писцами, а также душеприказчиков, назначенных по воле самого эччеленца Паоло. Фульвио Граччиолани встретил синьоров в вестибюле, проводил в графские покои и пояснил, что их приглашение во дворец вызвано необходимостью устранить, по воле эччеленца, известную им оговорку в графском завещании. Некий полученный из Англии документ отнял у завещателя последнюю надежду разыскать и обеспечить потомков. Граф Паоло был глубоко удручен этой вестью. В присутствии отца Фульвио прибывшие синьоры исправили текст завещания. Ночью нотариус со свитой покинул Мраморное палаццо, а патер Фульвио по отъезде душеприказчиков и юристов отправился во дворец кардинала. В сей поздний час одна высокая духовная особа спешила к другой с благими вестями.Бенедикт.29 августа 1790 года.Город Бультон».
4
Шла вторая неделя после вызова душеприказчиков к эччеленца Паоло д’Эльяно. За это время он редко покидал свои покои, находился в глубокой задумчивости, иногда утрачивал нить разговора, засыпал во время трапез и томился бессонницей на ложе. Граф Паоло с трудом передвигал отекшие ноги, был раздражителен и очень страдал от одиночества. Однако беседы с отцом Фульвио утомляли его, и духовник графа не докучал ими старику. Зато дворцового служителя Антонио Карильо граф по-прежнему охотно допускал к своей особе. У синьора Антонио был приятный голос; он целым часами читал больному его любимых поэтов – Данте и Петрарку. Лишь одну посетительницу принял за эти дни старый граф Паоло – престарелую сеньору Эстреллу Луис эль Горра. Она высадилась с французского военного корабля «Три идальго», которым командует ее внук. В Тулоне престарелая сеньора ступила на землю Европы. Она не смогла отказать себе в удовольствии заехать в Венецию, чтобы навестить старого друга – графа д’Эльяно. Патер Фульвио мельком видел ее в вестибюле и даже вздохнул вместе с нею о быстротечности струй в реке времен. Иезуит не ведал, что после отъезда сеньоры граф Паоло с волнением читал следующую записку:«Эччеленца, если повторное путешествие в гондоле не утомит вас, я вновь буду ожидать вас на борту известного вам судна. Затем мы должны совершить поездку на «Виллу цветов», где некая, давно обещанная вам счастливая встреча заставит вас позабыть все душевные и телесные недуги. Глубоко преданный вам Буотти».Граф оделся с помощью двух камердинеров и, опираясь на плечо синьора Антонио, дошел до гондолы. В кабине, устланной ковром, во множестве громоздились мягкие подушки. «Плавучая карета» служила своему хозяину уже много лет. Ароматы духов и восточных благовоний перемешивались в кабине с запахом стоячей воды, старой штофной обивки и подгнившего дерева. Антонио опустил шторы и уселся напротив старика. Гондола закачалась. Кормчий и второй гондольер вывели свое судно на Большой канал. День был безоблачно голубым и теплым. На встречных гондолах гребцы распевали песни. Когда графская «плавучая карета» подошла к водам лагуны, эччеленца Паоло приподнял штору. В чистом, изумительно прозрачном воздухе четко виднелись мачты и реи судов, отраженные в зеркале Венецианской гавани. Пока граф окидывал взором толчею лодок в устье канала, дворцы, залитые светом, флажки, вымпелы, людные уличные панели и далекие силуэты торговых кораблей, Антонио Карильо внимательно смотрел назад, за корму гондолы. Как он и ожидал, ни одна лодка не кралась за ними следом: по-видимому, недреманное око патера Фульвио, успокоенное исправленным завещанием, отвратило свой взор от синьора Паоло. В одном из дальних уголков лагуны стояло на причале маленькое, неприметное судно. Паруса на его высоких мачтах были туго скатаны. На палубе ходил вахтенный матрос, а у самого носового трапа виднелась фигура полнотелого пассажира в длинном платье, похожем на монашеское, и черной докторской шапочке. Гондольер медленно подвел свою ладью к трапу. Перед Антонио блеснули золотом выпуклые буквы надписи: «Толоса». Полнотелый синьор в докторской шапочке спустился с палубы в гондолу. Балансируя с трудом, корабельный пассажир нырнул в кабину и… угодил прямо в объятия графа Паоло, распростертые ему навстречу. – Вилла дей Фиори! – крикнулдоктор Буотти гондольерам. Черная ладья понесла своих пассажиров на взморье, к загородной вилле графа д’Эльяно. Она славилась своим садом, где цветы, кусты, деревья и травы были подобраны так искусно, что, отражаясь в прудах или фонтанах, они как бы окрашивали воду: с одного берега вода в пруде отливала тонами малахитовой зелени, с другого казалась голубой или нежно-лиловой. В этой сложной игре света и красок оживали мраморные фигуры наяд. Чудилось, что эти нагие красавицы лишь на мгновение замерли в своих стыдливых движениях и готовы ускользнуть от нескромного взгляда в густую прибрежную зелень. А живые лебеди на воде будто застывали и казались изваяниями из камня Каррарц. По дороге к вилле граф горько жаловался синьору Буотти на свои старческие немощи. – Последние дни вынужденного одиночества и тревожного ожидания были для меня особенно тягостными, мой друг, – говорил старик. – Я еще боюсь верить в ваш успех. Мне все казалось, что я не доживу до нынешнего дня и что вы понапрасну лишали меня вашего общества. – Сегодня вы убедитесь, эччеленца, как ошибочна была вся ваша «восточная философия». Я всегда верил в свои предчувствия, и, к счастью, самые смелые надежды оправдались! Теперь, когда сеньора Луис эль Горра окончательно убедила вас, что Чарльз и Изабелла являются вашими родными внуками… Взволнованный этими словами, синьор Паоло задышал чаще, и Антонио Карильо знаком предостерег богослова, чтобы тот не подвергал ослабевшее старческое сердце чересчур сильным испытаниям. Наконец гондола причалила, и небольшой остаток пути до виллы граф проделал на носилках. Одолеть восемь пологих мраморных ступеней крыльца синьору Паоло было труднее, чем Сципиону*["136] овладеть стенами Карфагена, но старик поднялся по лестнице сам, отвергнув даже помощь Антонио Карильо. В средней гостиной, выдержанной в янтарных тонах сиенского мрамора, доктор Буотти усадил графа в кресло. Антонио Карильо укрыл пледом ноги старика. Томазо Буотти попросил разрешения на несколько минут удалить синьора Антонио из гостиной. – Нет, нет, пусть Антонио останется здесь, со мной. Не вы ли сами, мой друг, поручили меня заботам этого милого молодого человека? Он был так терпелив, так приветлив и весел, что стоил один целой сотни докторов медицины. – Эччеленца! Простите нам, мне и Антонио, один непродолжительный обман. Он был вынужденным, ибо я решил с научной тщательностью проверить все открытия и догадки, прежде чем сообщить вам истину… Голос Буотти был так торжественно-приподнят и отражал столь сильное душевное волнение, что у старика затряслись руки. – Не останавливайтесь на полпути, мои друзья, – произнес граф умоляюще. – Какова же истина, которую вы хотите открыть мне, мой дорогой доктор Буотти? – Синьор Паоло, вы видите перед собою молодого человека, который родился, можно сказать, на моих глазах, в той семье, где вырос и воспитался ваш сын, Джакомо Молла. Перед вами – синьор Антони Ченни! Он близко знал синьора Джакомо. А в продолжение последних тревожных недель он втайне оберегал вас от иезуитских козней. – Антони Ченни? – медленно переспросил старый граф. – Сын рыбака Родольфо с Капри? Мальчик мой, помнишь ли ты моего Джакомо? – Я помню его, синьор Паоло, – отвечал Антони, – только… – Договаривай, мой мальчик! Скажи мне, вспоминал ли Джакомо когда-нибудь о своем… отце? Или сердце его было всегда полно ненависти ко мне? Неужели мне суждено умереть без прощения единственного сына? У Антони сжалось сердце. Он поцеловал старческую руку, но спасительница-ложь никак не шла ему на помощь. – Ваши внуки от всей души прощают вам стародавний грех против их родителя, – проговорил за Антони доктор Буотти. – Сейчас вы обнимете их, синьор. – Поспешите, друзья мои, ибо силы мои кончаются! Внуки мои… где они… я боюсь умереть… Доктор Буотти открыл двери в соседний зал. Там, за дверью, несколько человек, затаив дыхание, прислушивались к происходящему в гостиной. Граф Паоло различал осторожные шаги. – Эччеленца! – прозвучал голос Буотти. – О, как вы счастливы в вашем потомстве! Превозмогите недуг, соберитесь с силами! Смотрите, синьор, вот ваше бессмертие! У самого доктора Буотти стояли в глазах слезы, крупные, как виноградины. Он повернулся к дверям. – Входите все, друзья, входите, синьор Карлос д’Эльяно, и вы, синьорина Изабелла. Эччеленца, перед вами брат и сестра, Карлос и Изабелла, родной сын и родная дочь синьора Джакомо. Обнимите ваших внуков, эччеленца, они достойны, чтобы вы гордились ими! В радостном приливе животворных сил старик приподнялся в кресле, встал на ноги и сделал шаг на встречу своим внукам. Он оперся на плечо доктора и смотрел на Изабеллу и Чарльза прояснившимся, не отуманенным взором. Чуть склонив головы, стояли перед ним юноша и девушка редкостной, чистой красоты. Уже не нужно было ни юристов, ни доказательств, ни медальонов! Два живых лица видел перед собой старый Паоло д’Эльяно, и в обоих сквозили и повторялись черты маленького Джакомо Молла, его несчастной матери Франчески и… самого синьора Паоло!.. Одинокий старик, жертва стародавнего обмана, вдруг увидел себя в кругу тех, о встрече с которыми думал всю жизнь, не смея даже надеяться! И эти родные, совсем иные люди, эти взрослые дети, вдобавок прекрасны! У них светлые, чистые лица, в них нет ни тени корысти, раболепия, ожидания подачки… Счастливая минута, самая счастливая за все последние десятилетия! Одного за другим старик обнял и перекрестил обоих своих внуков. Он клал им руки на плечи, заглядывал в глаза и целовал их нежным поцелуем первой встречи… Наконец, вспомнив о том, кому он обязан этой встречей, старик обернулся к Буотти, хотел произнести какие-то новые слова благодарности вернейшему из друзей… и не успел. Волнение старика оказалось чрезмерным, дряхлое сердце не выдержало! Минута первой встречи стала и минутой последнего прощания внуков с их дедом. Когда умирающего подняли и перенесли на диван, рука его еще поднялась для крестного знамения, а губы разжались, чтобы прошептать последние слова: – Я прощен и умираю счастливым! Дети, не забывайте меня! Люди молча склонились над его ложем. Он еще дышал, но лицо его уже становилось прозрачным и белым. Исчезла старческая расплывчатость черт. Они обострились и стали четкими. Удивительное сходство Чарльза и Изабеллы с их дедом обозначилось еще резче, когда седая голова графа Паоло неподвижно замерла на подушке, как гипсовая маска. Еще два человека, торопливо крестясь, приблизились к ложу. Сеньора Эстрелла Луис опустилась на колени у изголовья, когда пальцы Изабеллы уже легли на неподвижные полуопущенные веки покойного. Старая сеньора прошептала слова молитвы. Ее сын, капитан Бернардито, молча поцеловал скрещенные руки графа Паоло и тихо вышел из обители смерти.
Весть о кончине графа д’Эльяно повергла в горе многих обитателей Мраморного палаццо. Гроб с телом графа, доставленный во дворец, стоял на высоком постаменте в самом большом из залов нижней дворцовой анфилады. Все предметы искусства были вынесены, и лишь портреты графини Беатрисы и самого графа д’Эльяно украшали две противоположные стены. Людской поток в залах был нескончаем. В течение двух дней вся Венеция прощалась с прахом одного из своих старых меценатов. В величественной скорби стоял у гроба, плотно сжав тонкие губы, патер Фульвио ди Граччиолани. Многие венецианцы узнали и доброго доктора Томазо Буотти, о котором говорили, что он попал на похороны прямо с корабля. Огромная толпа народа запрудила берега канала, когда погребальная процессия проследовала на гондолах к площади Святого Марка. Сам дож Венеции возложил в соборе венок на гроб с прахом старого вельможи и произнес траурную речь. В тот же день тридцать священников во главе с кардиналом опустили гроб синьора Паоло в фамильный склеп и установили его рядом с мраморным саркофагом графини Беатрисы. После похорон, ранним вечером, в Мраморное палаццо стали собираться люди, получившие приглашение присутствовать при вскрытии завещания. В том зале, где паркет еще хранил следы вынесенного постамента, слуги установили кафедру. Душеприказчики графа разослали более ста приглашений. Не меньшее число гостей прибыло во дворец по приглашениям патера Фульвио и доктора Буотти. Среди этого множества светских и духовных лиц, важных сановников и красивых дам находилось немало простых смертных, проникших в палаццо из любопытства. Эти «малозначащие» гости ухитрились воспользоваться протекцией дворцовых слуг, чтобы впоследствии с важностью рассказывать домочадцам о своем участии в ареопаге первых имен республики. Блестящее собрание возрастало с каждой минутой. В нижней анфиладе залов дворца запах ладана, хвои и свечей уже смешался с ароматом духов и легким дымком итальянских сигарет. В залах мелькали расшитые мундиры, шелковые рясы, черные сутаны, траурные вуалетки, пышные эполеты, перья, ленты и перевязи. Присутствовал папский нунций и высшие должностные лица. Служитель Джиованни Полеста проводил к одному из почетных кресел престарелую сеньору Эстреллу Луис, прибывшую по приглашению душеприказчиков. Позади пяти рядов бархатных кресел стояли стулья, обитые красным плюшем; предназначались они для «господ попроще». И наконец, притиснутые уже почти к самой дальней стене, тянулись ряды простых жестких стульев, доставшихся в удел вовсе «малозначащим» гостям. Между этими последними рядами стульев почти отсутствовали проходы, и люди, разместившиеся здесь, лишались возможности двигаться. В крайнем ряду этих жестких стульев, в самом дальнем уголке залы, прижатая вплотную к мраморному бюсту графа Паоло, сидела небольшая группа иностранцев, одетых весьма скромно. Синьор Буотти мимоходом пояснил патеру Фульвио, что эти иностранцы являются пассажирами корабля, на котором доктор вернулся в Венецию. Днем эти дорожные знакомые доктора присутствовали на похоронах. Когда в зал вошли юристы, писцы и седовласый графский нотариус, разговоры смолкли. Только невежливые иностранцы еще продолжали шушукаться в своем углу. – Посмотри-ка на патера Фульвио, – шепнул Бернардито своему названому сыну, которого величал теперь не иначе, как доном Карлосом. – Видит бог, я не вспоминал о графских миллионах, когда наблюдал из-за дверей за вами и добрым синьором Паоло, но сейчас я испытываю досаду. Дорого нам стоило уберечь сердце графа от последнего потрясения! – Бог с ними, с этими миллионами, отец! Иезуиты получили документ британского лжемилорда, и старик не узнал, как насмеялся над ним его Джакомо! Он поверил, наш бедный дед Паоло, что Грелли давно погиб. Перед концом он утешился, и слава богу! – Смотри, смотри, – не унимался Бернардито, – у святых отцов даже искры в глазах прыгают от жадности. Шесть миллионов, подумать только! Не уйти ли нам отсюда, мальчик? Я боюсь, что не выдержу! Меня так и тянет на старое… Эх, влепить бы этому Фульвио одну горячую в переносицу – и паруса на реи! – Тише! – пронеслось по залу. – Тс-сс! Огромный пакет, опечатанный пятью красными сургучными печатями, был извлечен из шелкового платка. Нотариус с поклоном вручил пакет духовнику графа. В зале стало так тихо, что даже шорох кусочков сургуча, упавших на пол, разнесся до самых крайних уголков анфилады. Фульвио ди Граччиолани надменно взглянул на очень бледного доктора Буотти, смиренно стоявшего в стороне, в одной группе с нотариусом и писцами. Раздался треск разрываемой обертки, и в руках у патера Фульвио оказался большой голубоватый лист гербовой бумаги, с пространным текстом, несколькими подписями и печатями. Люстра, сиявшая девятью десятками свечей, висела прямо над кафедрой. Чтобы не застилать бумаги тенью собственной головы, патер Фульвио сделал шаг назад и начал читать размеренным, торжественным голосом: – «Я, наследственный и потомственный дворянин Венецианской республики, член Большого Совета, граф Паоло Витторио Альберто Джорджио д’Эльяно, находясь в здравом уме и твердой памяти, движимый чувством раскаяния в своих прегрешениях перед Господом и людьми, любовию к своему дорогому отечеству и стремлением к справедливости, выражаю настоящим свою волю касательно судьбы всего моего движимого и недвижимого имущества после моей, уже недалекой, кончины. Я завещаю принадлежащий мне в Венеции Мраморный дворец со всеми его художественными и научными собраниями моему родному городу Венеции, с тем чтобы управление дворцом-музеем до тех пор осталось в руках нынешнего хранителя собрания, высокоученого доктора Томазо Буотти, пока он сам не пожелает снять с себя эту должность». При чтении этого места чело патера Фульвио ди Граччиолани омрачила легкая тень, но он отыскал глазами доктора Буотти и изобразил на лице сладчайшую из улыбок. Буотти, в свою очередь, отвечал очень вежливым поклоном. – «Все мое остальное движимое и недвижимое имущество, за вычетом указанных ниже статей единовременного или постоянного расхода, я распределяю следующим образом. Земли и поместья, расположенные на юге Франции, в Ломбардии, Генуе и самой Венеции, кроме Мраморного палаццо и Виллы дей Фиори, и мои денежные средства, помещенные в ценные бумаги на сумму два миллиона скуди, я оставляю моему внуку графу Карлосу д’Эльяно, воспитаннику испанского сеньора Бернардито Луиса, носившему доселе условные имена Алонзо де Лас Падос и Чарльз Чембей». Парики, тонзуры и прически дам, видимые залу над спинками кресел перед кафедрой, пришли в движение. В зале зашелестел приглушенный шепот. Глаза патера Фульвио беспокойно забегали по всему листу. Группа иностранцев в углу, около бюста графа Паоло, пришла в волнение. Старый синьор в морском камзоле энергично жестикулировал, шептался с соседями и потрясал трубкой, зажатой в кулаке. – «Сокровища потайного подвала Мраморного палаццо, содержащего драгоценные каменья и фамильное серебро, общей стоимостью в полмиллиона скуди, передаю моей внучке Изабелле в виде свадебного подарка ко дню ее бракосочетания с виргинским эсквайром мистером Реджинальдом Мюрреем. Введение в права наследства моих внуков, Карлоса и Изабеллы, я поручаю стародавнему доверенному лицу моей семьи сеньоре Эстрелле Луис эль Горра и совместно с нею моему другу и благодетелю синьору Томазо Буотти, коим завещаю: первой, то есть сеньоре Эстрелле Луис эль Горра, сумму в сто тысяч скуди, а второму – мою венецианскую пригородную виллу, именуемую Вилла дей Фиори… По мере того как патер Фульвио ди Граччиолани оглашал этот документ, голос его становился все более глухим и хриплым. Епископ, глава тайного трибунала святейшей инквизиции в республике, застыл в кресле. На епископских губах застыла улыбка, похожая на оскал черепа… О, как хорошо понимал духовник графа, сколь мало добра сулит ему эта улыбка инквизитора!.. Патер Фульвио с огромным трудом сохранял присутствие духа. Он мельком пробежал глазами остаток текста. Буквы прыгали, будто повинуясь ритму его пульса. Они исполняли дикий балет отчаяния, чудовищный танец смерти! Усилия многих десятилетий рушились… Лоб чтеца покрылся блестящими капельками испарины. Прыгающие буквы сложились наконец в некое длинное имя… Оно мелькнуло в следующем абзаце текста. Это было имя самого патера Фульвио… Священник вгляделся в бумагу… Нет, продолжать размеренное чтение он был уже не в состоянии. Произошла томительная пауза, во время которой патер Фульвио ди Граччиолани делал жесты, как бы отыскивая очки… Старший из душеприказчиков, синьор Умберто Гротто, заметил затруднительное положение графского духовника и приблизился к кафедре под люстрой. – Зрение несколько изменяет мне, – пробормотал патер Фульвио. Бумага едва держалась в его руках. Он, не глядя, сунул ее старшему душеприказчику. Тот с поклоном принял документ. Иезуит сошел с кафедры и окинул зал невидящим взором. Двинуться к дверям он не мог – плотная толпа слуг загораживала выход из залы. Второй душеприказчик подвел священника к пустующему креслу, и патер Фульвио тяжело плюхнулся на бархатное сиденье, спиной к притихшей аудитории. Старший душеприказчик оглашал дальнейший текст: – «Сумму в пятьсот скуди оставляю моему духовному отцу, патеру Фульвио ди Граччиолани, для покрытия расходов, связанных с его переездом в прежнее легатство, откуда он некогда прибыл в наш дом». От неслыханного оскорбления иезуит содрогнулся. Даже видимая залу лысина патера приобрела лиловый оттенок. – Пятьсот скуди, чтобы убраться к черту! – шепнул Чарльзу восхищенный Бернардито. – Сынок! Этот доктор Буотти вдвое хитрее меня! А каким добродушным простаком он глядит, черт побери мою душу! Как он обтяпал все это дельце! Каррамба! Потрясенные наследники с трудом слушали чтеца, еле-еле улавливая заключительные волеизъявления завещателя. Сто тысяч скуди граф оставил в пользу сирот приюта Святой Маддалены во францисканском монастыре близ Ливорно. Наконец, следовали небольшие пожертвования церквам и благотворительным заведениям Венеции. Когда весь текст завещания был оглашен, зал загудел, как потревоженный в улье пчелиный рой. Патер Фульвио покинул зал, как только замолк голос чтеца и посторонились слуги в дверях. Кардинал удалился, еле кивнув душеприказчикам. За ним последовал и епископ. Длинные вереницы гондол, носилок и пешеходов потянулись во всех направлениях по прилегающим каналам, улочкам и мостикам. В залах Мраморного палаццо стало тихо. Слуги гасили парадные люстры. Патер Фульвио затворился один в своей опочивальне. Усталый Джиованни запер наружные двери парадного вестибюля, а синьор Томазо Буотти впустил с черного хода четырех дюжих полицейских стражников. Доктор шепнул им несколько слов и многозначительно кивнул на запертую дверь личных покоев графского духовника. Обезопасив таким образом дворец, ставший общественным музеем, от всякого рода неожиданностей, доктор Буотти вернулся к своим друзьям. – Эччеленца Карлос и синьорина Изабелла, – сказал он весело, – позвольте поздравить вас, друзья мои! Доктор держал в каждой руке по бокалу шампанского. Друзья выпили их, уже не опасаясь белых крупинок патера Фульвио ди Граччиолани.
Когда отзвучали первые краткие застольные речи, весьма торжественные и весьма прочувствованные, капитан Бернардито повернулся к своему соседу, доктору Буотти. Эти два лица занимали самые почетные места за столом – честь, которую охотно уступили им молодые наследники. – Бога ради, объясните же мне скорее, синьор Буотти, как вам удалось сыграть такую злую шутку с отцами иезуитами? Никто не ожидал подобного исхода! Ведь граф исправил завещание и устранил оговорку. Иезуиты были уверены, что все достанется им одним! – Видите ли, успокоив «тайным письмом», привезенным в Венецию Мортоном, опасения иезуитов, я встретился с графом, которого через Антони известил о своем приезде. Во время прогулки графа на взморье я сообщил ему, что через две недели в Венецию прибудет старый друг графа Паоло д’Эльяно, сеньора Эстрелла Луис, чтобы убедительно подтвердить сеньору Паоло полный успех розысков. «А вскоре, – сказал я графу, – вы обнимете ваших внуков – Чарльза и Изабеллу, которые прибудут с кораблем из-за границы». Мне пришлось солгать графу Паоло лишь относительно фамилий и возраста Чарльза и Изабеллы, чтобы не упоминать имени милорда Ченсфильда. Старик мог не вынести известия о жестокости Джакомо… После беседы с доньей Эстреллой граф вручил сеньоре официальное распоряжение для нотариуса уничтожить прежнее завещание и срочно составить второе. Она проследила, чтобы это было немедленно исполнено. Согласно высокому профессиональному долгу, душеприказчики, оформив этот документ, сохранили его в тайне. Вот и все! Из всех нас только одна сеньора Эстрелла Луис знала о последней воле завещателя. Предлагаю тост за здоровье вашей матушки, капитан! В этот миг Джиованни Полеста подошел к столу и тихо сообщил что-то синьору Буотти. Доктор пригласил капитана Бернардито, Чарльза и Антони в сад, к окнам опочивальни патера Фульвио ди Граччиолани. За отогнувшимся краем портьеры они различили на письменном столе оплывшую свечу. Ее отблеск слабо озарял неподвижную фигуру человека в кресле. – Он сидит так уже часа три, – прошептал Джиованни. Дверь опочивальни была заперта изнутри. – Ломайте! – приказал доктор Буотти. Тяжелая дверь долго не поддавалась. Пока стражники ломали замок, ни один звук не донесся из опочивальни. Когда люди вошли наконец в покои графского духовника, они застали его уже холодным. Со сложенными на груди руками он сидел в кресле; перстень с отвинченной печаткой валялся на полу, а стакан со следами красного вина упал на открытую страницу книги. Доктор Буотти сразу узнал черный фолиант «Истории деяний ордена Иисуса» из графской библиотеки.
5
Через два месяца после всех этих знаменательных событий в Мраморном палаццо легкокрылое морское суденышко «Южный крест» приближалось к берегам Америки. На причале в Филадельфии эту яхту давно ожидала красивая дама, державшая за руку хорошенькую девочку. Когда «Южный крест» на всех парусах подлетел к внешнему рейду, дама замахала платочком, а еще через пол часа здесь же, на причале Филадельфийского порта, про изо шла еще одна счастливая встреча престарелого отца со своими потомками: семья Эдуарда Уэнта встретила не только своего главу – самого капитана Уэнта, но вместе с ним эта семья вернула в свое лоно и старого отца миссис Мери. Бывший калькуттский солиситор, раскаявшийся и прощенный агент Джакомо Грелли, со слезами обнимал на филадельфийском причале свою дочь и внучку… Тем временем другая яхта, с надписью «Толоса» на почерневших боках, летела к острову Чарльза. В последних числах января 1791 года корабль достиг полосы подводных рифов к северу от острова. Капитан яхты дон Бернардито Луис эль Горра имел все причины торопиться к острову: по выходе из Гибралтара яхта обогнала эскадру кораблей британского военно-морского флота, державшую курс на юг. В ближайшем из марокканских портов, Рабайте, капитан Бернардито выведал, что эскадра в составе фрегатов «Виндзор», «Адмирал Ченсфильд» и «Король Георг III» шла в африканские воды Индийского океана. На борту «Виндзора» находился правительственный чиновник мистер Бленнерд. Получив эти сведения, Бернардито приказал идти под всеми парусами, чтобы далеко опередить эскадру быстроходных боевых судов. Когда яхта достигла подводной гряды к северу от острова, эскадра отстала от них суток на пять-шесть пути. До острова оставалось восемьдесят миль. Перед наступлением темноты яхта преодолела гряду подводных рифов и вновь полетела полным ходом. Была сильная, январская жара, но дымка испарений застилала горизонт. Лунный свет еле пробивался сквозь облачную мглу. Бернардито и Дик Милльс стояли на мостике. Моряки нетерпеливо всматривались в ночной мрак. – Заждались наши островитянки, – сказал Бернардито своему штурману. – Черт побери! Моей синьоре Доротее и во сне небось не грезится, что ее сын сделался наследником венецианского графа! Что ты скажешь, Дик? Дик Милльс, тоже предвкушавший счастливую встречу со своей Камиллой, сверился с курсом и указал капитану на светло-серую гряду облаков, всползавших на юге. – Гроза будет или шторм, – сказал Бернардито. – Вероятно, балет начнется еще до рассвета! Похоже, что это будет славная джига! Томас Бингль вышел на палубу «Толосы». – Сынок! – подозвал его Бернардито. Молодой человек был в испанском берете и при шпаге. Он поднялся на мостик и отвесил капитану рыцарский поклон. – Ты один остался теперь со мною, – сказал Бернардито. – Твой брат Джордж собирается строить свою колонию на острове, если удастся его отстоять. Чарльз должен распорядиться огромным богатством. Реджинальд с Изабеллой вернутся в Голубую долину. А куда денемся мы с тобой, сынок? – О, мы найдем себе дело на вашей новой родине, капитан. Едва ли сеньор Диего Луис, командир «Трех идальго», выйдет в море сражаться за будущую французскую республику без своего помощника Маттео Вельмонтеса. И у них будет славный военный наставник, не так ли, сеньор капитан?..…У бушприта яхты Чарльз и Антони беседовали с Джорджем Бинглем. – Счастливые люди, – рассуждал Джордж, сидя на массивном бревне утлегари, – становятся, как правило, эгоистами. Вы, синьор Карлос, стали богачом и, верно, вскоре женитесь на какой-нибудь красавице вроде Дженни Мюррей. Скажите мне откровенно: разве теперь ваши взгляды и ваша жизненная цель не изменились? – Нет, Джордж! Философы говорят: «Человек – это сложная машина». Но случалось ли вам замечать, Джорджи, что эта машина только тогда способна ткать счастье, когда она работает не на самого себя. Человек похож на пчелу: она не выпивает весь мед, который накоплен ею и сотах. Она питает им и себя и других. Нет, моя жизненная цель не изменилась, но стала выше. Я обрел нечто гораздо более важное, чем графское наследство. – О чем вы говорите, Чарли? – Я обрел родину. Самым тягостным в моей прошлой жизни была моя неприкаянность в мире. Я был человеком без отечества, без национальности, даже без имени. Горько мне было спрашивать себя: «Кто я? Англичанин? Испанец? Итальянец? Где мое отечество?» Его у меня не было! Я был листком, оторванным от ветки. Любой ветер гнал меня куда хотел. Поэтому я так горячо принял к сердцу вашу мечту о Солнечном острове, Джорджи! Я хотел создать родину для бесприютных, обездоленных людей, таких же, каким был я сам. Теперь же я всем сердцем почувствовал себя итальянцем. Вы понимаете, что это счастье, Джорджи! – Что вы намерены делать на родине, синьор? – Она стонет, моя прекрасная страна! Великий народ задавлен, измучен. Когда его терпение истощается, он, как раненый зверь, бросается на своих мучителей и его снова усмиряют дубиной и усыпляют религией. Родина истерзана раздорами, порабощена чужеземцами, опустошена нищетой. Я отдам все свои силы освобождению и счастью Италии. – Как же вы намерены осуществить эту цель? – Мы с моим дядей Антони Ченни решили действовать сообща. Мое неожиданное «графство» поможет нам, сыну и брату неаполитанской рыбачки, – ведь у нас теперь будут большие средства! Будем исподволь готовить силы, оружие, тайно собирать молодежь, чтобы выгнать из отечества иноземных поработителей. И тогда, в свободной стране… – …возникнет Город Солнца? – Да, возникнет, и не один. – Но даже в «свободной Италии» останутся герцоги, тюремщики и попы! Я по-прежнему стою за Солнечный остров! Нужно, чтобы несколько сотен честных свободных людей соединились вместе и чтобы никто не смог помешать им построить справедливую жизнь. – Сдается мне, – сказал Антони, – что бороться за народное счастье нужно все-таки со всем народом. Колония, даже самая справедливая, – это малая горстка людей, а народ – он ведь как этот океан: ни конца ему нет, ни края, сокрушает он самые твердые скалы!.. Настанет час – он сметет поработителей… – Капитан! – раздался голос штурмана Дика Мильса. – Зарево на горизонте, прямо по курсу!
Луна, пробиваясь сквозь мглистую дымку, давала мало света, и в этом неясном освещении океан имел необыкновенный вид. На закате солнца ветер не превышал трех баллов. После полуночи он усилился; белые гребни стали возникать на волнах, но эти волны не были похожи на обычные океанские волны, длинные и величаво-медлительные. В эту ночь волна была мельче, и она не «катилась», а будто вставала на месте, переламывалась и проваливалась. Бернардито хмурился, глядя на этот странный танец воды. Теперь и он различал впереди, далеко на юге, багрово-красный отблеск по всему нижнему краю туч. Отблеск то усиливался, то почти исчезал. Время уже близилось к рассвету. Капитан вызвал наверх всю небольшую команду, приказал убавить парусов и пояснил, что где-то поблизости происходит землетрясение, вероятно, подводное. Небо все более чернело, ветер крепчал и становился порывистым. Северо-восточный край небосвода заалел, и этот рассветный отблеск почти смешался с темным заревом на юге. Когда команда выполнила маневр с парусами, до слуха моряков долетел отдаленный грохот, а на южной части горизонта появилась темная удлиненная полоса. Казалось, что это низкая туча или длинная гряда невысоких гор, невесть откуда взявшихся среди океана. Бернардито вцепился в поручни мостика и стиснул зубы. Он первым понял, что темная гряда – это не туча и не горы, а исполинская волна, поднятая из океанских недр подземным толчком или взрывом. Она занимала полгоризонта. Очевидно, под огромной толщей воды на миг разверзлась пропасть провала и мгновенно сомкнулась вновь, вытолкнув устремившиеся в нее воды океана. С глухим ревом, похожим на шум сотен ниагарских водопадов, морское чудовище валило навстречу кораблю. Все потемнело вокруг, словно в глубоком ущелье. Застилая небо ревущим гребнем, черная гора накатилась на «Толосу». В следующий миг яхта уже взбиралась на страшную кручу, и, хотя взлет длился секунды, каждый из моряков припомнил за этот миг всю свою жизнь и приготовился к смерти. На взлете яхта со всеми парусами и снастями погрузилась в кипящий водоворот гребня, а вынырнув, стрелой полетела в глубину провала, скользя по черной спине водяного чудовища. Четырех матросов не досчитался капитан Бернардито – они были смыты с палубы гребнем волны. Следом за первой прошли еще три водяные горы, ни они были меньшего размера и не переламывались. Много дней спустя старый Бернардито признался сыну, что за всю свою жизнь не испытывал такого чувства ужаса, как в минуты приближения волны-исполина. При сером утреннем свете Бернардито искал остров и не находил знакомых очертаний скалистого пика. Там, где моряки привыкли узнавать этот пик, стоял черный столб дыма, похожий на гигантскую пинию. Ее плоская крона раскинулась на полнеба. Иногда этот черный гриб озарялся снизу багровой вспышкой, и к небу вздымались облака белого пара. Затем сквозь пар и дым прорывались искры: огненные потоки ползли по долинам. В подзорную трубу можно было видеть взлетающие вверх каменные глыбы. Сквозь плеск воды у бортов и шум ветра в снастях яхты моряки отчетливо слышали глухие громовые раскаты: на острове действовал вулкан, открылись два новых кратера, и раскаленная лава текла по склонам в виде нескольких огненных рек. Извержение вулкана сопровождалось подземными толчками и гулом. Оживший островной вулкан представлял собою центр землетрясения, и сила извержения была такова, что все живое на острове превращалось в пепел и прах, а скальное основание острова разрушалось. Преодолевая волну, «Толоса» сохраняла прежний курс. К морским запахам еще примешивалась едкая серная вонь, а клочья пепла все гуще оседали на корабельных палубах. Ветер непрестанно менялся. Его беспорядочные порывы то помогали движению корабля, то гнали ему навстречу черные облака дыма. Томас Бингль первым заметил с мостика «Толосы» темное, вытянутое в длину пятнышко на воде. Оно ныряло в волнах на расстоянии пяти миль от «Толосы» к востоку от основного курса. Капитан Бернардито определил, что это большой плот, и повел «Толосу» на сближение с ним. Через полчаса моряки с яхты смогли простым глазом разглядеть бревенчатый плот, усыпанный людьми. Посреди плота возвышались мачты, укрепленные распорками. На мачтах была натянута парусина. Плот, связанный в виде отдельных звеньев, колыхался на волнах, напоминая движение мочального хвоста у детского змея. Несколько десятков людей действовали веслами. В подзорную трубу капитан «Толосы» узнал старика Брентлея в его треугольной шляпе и морском мундире. Бернардито повел «Толосу» к плоту. Принять людей с плота на корабль при сильной качке было делом нелегким. Связанные канатами звенья колыхались, повторяя все колебания морской зыби, а легкая яхта то ныряла в провалы, то выскакивала из воды, обнажая днище чуть ли не до киля. Матросы спустили кранцы, чтобы уберечь борт от пролома, и приготовили багры. Люди на плоту приняли швартовы с корабля. По пляшущим штормтрапам, хватаясь за услужливо предлагаемые линьки, спасенные карабкались на борт. Из рук в руки люди передавали кричащих детей, завернутых в одеяла и простыни. Наконец все пассажиры с плота благополучно перебрались на корабль. Облака дыма и пара целиком укрыли остров и далеко разостлались над водой. Очень сильные толчки вновь всколыхнули поверхность океана, вызвав появление новых водяных гор. Поднялся вихрь. Он срывал пену с гребней и крутил целые тучи оседающего пепла. Когда корабль лег на обратный курс, вокруг него сделалось темно: взвихренный пепел застлал горизонт, словно над морем разгулялась небывалая черная метель. До самого вечера корабль не решался приблизиться к подводной гряде: после землетрясения здесь могли возникнуть новые рифы. Океан еще волновался, но тучи утратили свой багровый оттенок; огненные реки на острове померкли. Из-за морских гребней поднялось солнце, малиново-красное сквозь дымовые облака. Ветер принял прежнее юго-западное направление и развеял удушливый серный запах. Волнение ослабело. Среди людей, спасенных «Толосой», была и жена Бернардито. Чарльз и Антони встретили ее у трапа. Пока Доротея крестила и целовала сына и брата, Бернардито стоял в стороне и улыбался. Капитан Брентлей рассказал, что подземные толчки начались ночью третьего дня и уже через сутки разразилось катастрофическое землетрясение. После первых грозных толчков Брентлей собрал все население острова на песчаной отмели. В его распоряжении имелось всего несколько мужчин-негров, так как почти все мужское население поселка Буэно-Рио ушло с капером «Три идальго» во Францию. Брентлей заставил жителей разобрать на берегу несколько бревенчатых построек и связать плот. Опытный старый моряк велел сделать его в виде связанных друг с другом поплавков, и благодаря его предусмотрительности этот гибкий плот устоял против волн-исполинов. Но гребнем первой волны смело за борт плота половину островитян и часть припасов. Несколько человек погибли на самом острове: они провалились в трещины или заживо сгорели. Жена Дика, Камилла Милльс, была тоже спасена только благодаря мужеству и хладнокровию Брентлея. Грозная катастрофа окончилась. Четыре древние стихии – воздух, вода, земля и огонь – успокоились, и капитану Бернардито захотелось поближе рассмотреть свой остров. Свежий ветер разогнал тучи дыма, пепла и тумана. Капитан долго всматривался в трубу, затем развернул яхту и приблизился к острову на десяток миль. Антони и Чарльз стояли рядом с капитаном. Все трое молча взирали на беспорядочные, сплошь покрытые пеплом каменные груды и остроконечные рифы. Из моря вставали замысловатые арки и ворота, образованные застывшей лавой. Волны перекатывались через голые, почерневшие глыбы, лизали нагромождения изверженных пород. Это было все, что осталось от цветущего острова Чарльза и поселка Буэно-Рио. Над развалинами кружились стаи птиц; они тоже не могли узнать свои скалы и гнездовья. Острова Чарльза больше не было. – Бьюсь об заклад, – сказал наконец капитан Бернардито, – что мистер Бленнерд, вновь назначенный губернатор острова, не допустит и мысли о землетрясении. Всем старым лордам в парламенте и адмиралтействе он с великим негодованием расскажет, как пират Бернардито Луис выкрал у него из-под носа целый британский остров!
6
Ночью корабль достиг гряды подводных рифов. Луна поднялась, и пассажиры яхты высыпали на палубу. На корабле сделалось очень тесно, люди разместились в глубине трюмов, но они уже приходили в себя после пережитых потрясений. Островитяне узнали, что они пойдут пока в Италию, где молодой синьор д’Эльяно поможет им устроить новую жизнь. Кое-где на палубах уже раздавался смех, звенела гитара и несмело рождалась первая песня. Корабль стал на якоре перед полосою подводных скал. Ночь была теплая. Под луной матово чернели острия новых рифов, голые и скользкие. Судорога, сотрясшая земные недра, выдвинула на поверхность океана эти каменья, и они торчали над водой, похожие на оскал хищной пасти. Чарльз сидел на корме «Толосы» вместе с матерью. Он рассказывал Доротее последнюю страницу ченсфильдской хроники, ту мрачную страницу, которой завершилась старая детская сказка про Леопарда. С восходом солнца люди подняли якорь и двинулись в путь, навстречу своим новым судьбам. Далеко на севере скрылись белые паруса, и воды погибшего острова опустели. Посреди океанской пустыни остались громады мертвого, опаленного камня. Много лет прошло, прежде чем на нем снова зазеленели травы и свили гнезда птицы. Самый бурный из океанов по-прежнему мерно чередовал под созвездием Южного Креста свои приливы и отливы, сотрясая штормами твердь, и прибой превращал острые обломки камня в круглую, обточенную гальку… …А на летящем вперед суденышке под белыми парусами смелые люди, испытанные в боях с невзгодами, до самой ночи говорили и пели о новой жизни. Звезды, океан и ветер слышали их слова. Не об одних близких думали они, но и про то, какой дорогой люди должны идти в будущее. В светлых и смелых мечтах своих они продолжали верить, что среди мира насилия и рабства им удастся заложить первый Город Солнца. Но они понимали, что воздвигнуть Город Солнца для всей огромной семьи человечества смогут лишь новые поколения отважных людей на вольных просторах земли, освобожденной от страшной власти золота. Они надеялись, что это будет скоро!..Послесловие
Глубокая любовь к отцу и преклонение перед его памятью позволили мне взять на себя смелость попытаться чисто фактологически изложить то, что я помню из рассказов отца и матери, то, чему была свидетелем сама, и то, что рассказывали близкие друзья нашей семьи, за долгие годы не единожды делившие с нами и горе, и радости. В конце войны, в 1944 г., после очередного ранения и госпиталя отец получил новое назначение – ему предложили работу в Генеральном штабе в качестве заместителя начальника редакционно-издательского отдела. В ночь с 3 на 4 апреля 1945 г., как раз в день рождения, его арестовали. Главной виной было то, что он, человек с немецкой фамилией, работает в Генштабе! Ордер на арест был подписан лично Берией. Отцу было предъявлено обвинение по статье 58-10, на которую тогда не скупились «правоохранительные» органы, и в рекордно короткие сроки по приговору «тройки» он получил десять лет исправительно-трудовых лагерей. Свой срок отец начинал отбывать сперва под Москвой, а затем в Абези. Вот тут-то и пригодилась его военная специальность – топограф: его распределили на работу в техническое бюро. «Абезьяне» (как они сами себя называли) строили железную дорогу на Салехард, и отец говорил, что под каждой шпалой той дороги лежит по 2–3 «врага народа». Отец получил назначение на 31-ю колонну в качестве геодезиста-топографа. Некоторое время отцу пришлось работать на лесоповале. Вскоре последовал неожиданный вызов к начальству. Начальником колонны значился спившийся майор, который заботился только о режиме и конвое. Во всем же, что касалось работы, он полагался на нарядчика Василевского. Людям, знакомым с лагерной жизнью, не нужно объяснять, что именно от нарядчика зависело всё и вся в лагере, начиная от условий работы и кончая возможностью элементарно выжить. Вот этот-то «царь и бог» и вызвал к себе отца. Василевский был одиозной фигурой, крупным вором, сидевшим уже не первый срок. Данная отсидка была за неудачный угон эшелона кровельного железа. Другие участники этой «экспроприации», не фигурировавшие в обвинительном заключении, обещали Василевскому, что семья его ни в чем не будет нуждаться, да и сам он в лагере будет иметь все, что нужно, – и сдержали слово. Но об этом отец узнал уже много позже от самого Василевского. Отец был ошеломлен роскошью жилья: кроме деревянных нар и стола в комнатке стояли тумбочка и табуретка, покрытые марлей (!), а на окошке висели марлевые же занавески (!!!). Василевский спросил: «Ты литератор?» – «Да, в некотором роде…» – «Романа пишешь?» – «Нет, не приходилось…» – «А повестя?» – «Тоже не писал». – «Так какой же ты литератор? Что же писал-то?» – «Так… Критические статьи, литературные обзоры, очерки…» – «Ну ладно. А если роман нужно написать – сможешь?» – «Можно попробовать… А кому это нужно?» – «Мне». В это время в комнатке появился «шестерка» и принес так называемое «премблюдо»: полную миску румяных пончиков. (В зоне это блюдо считалось премиальным и выдавалось лучшим работникам сверх положенной баланды. «Вкушать» это премиальное блюдо можно было только в горячем виде – остывая, оно превращалось в камень.) Василевский извлек из тумбочки две алюминиевые кружки, в которых заварил «чифирок». Выпили, заели деликатесными пончиками – и разговор пошел дальше: «А зачем же вам, Василий Павлович, нужен роман?» – «Ну что ж ты за непонятливый такой! Если человеку нужен костюм – кому заказывают? Портному! Если сапоги – сапожнику! А роман – литератору!» (На поставленный вопрос Василевский так и не ответил.) «Хорошо, Василий Павлович, я подумаю. Трудно так, сразу-то…» Василевский показал отцу переплетенную тетрадь. На обложке значилось: «В.П. Василевский. Писатель. Позднее признание. Роман». (Ударение, по всей видимости, было на первом слоге.) Работодатель с воодушевлением прочел вслух первую фразу: «По улицам английского города Берлина ехала карета с потушенными огнями…» Отец перелистал рукопись. Бросилась в глаза фраза: «Граф держал графиню за бедро…» «Дома», в бараке, отцу посоветовали: «Давай соглашайся. Василевский – маньяк, обязательно хочет стать писателем. Кто-то сказал ему, что Сталин только приключенческую литературу читает, вот он и решил, что пошлет Сталину роман (под своей, разумеется, фамилией), да еще из таких мест, где сам генералиссимус когда-то отбывал ссылку. Сталин прочтет, умилится, удивится, что такой хороший писатель сидит понапрасну, – и освободит его. У Василевского прямой расчет, отбывать ему еще около десяти лет. А ты, Батя, уже немолодой (отцу был тогда 41 год!), полсрока оттянул, осталось всего ничего. Соглашайся, чтобы на лесоповал всерьез не загреметь. Здоровьесбережешь». Отец решил согласиться. На следующем «совещании» Василевским были поставлены условия: 1) чтобы действие происходило не в России, 2) чтобы оно было не ближе чем за 200 лет до нашего времени, 3) чтобы там было что-нибудь «очень страшное» («А что, Василий Павлович, самое страшное на свете?» – «Охота на льва!») и 4) чтобы было что-нибудь очень жалостливое. («А что самое жалостливое!» – «Похищение ребенка».) «Через сколько времени напишешь роман?» – «Да примерно через год…» «На «Позднее признание» ушло полгода, а ты – литератор, образованный. Месяца три хватит». Пришлось объяснять, что чем больше опыта и знаний, тем больше требуется времени, чтобы использовать их в книге. Со своей стороны Василевский обещал устроить отца на привилегированную лагерную работу – «вошебоем» (дезинфектором) при бане, да и то исполнять эту должность придется изредка, во время начальнических проверок, а все остальное время – жить на чердаке той самой бани и писать. Василевский поставляет бумагу, чернила, курево и – самая главная приманка! – месяца через два (очевидно, в зависимости от скорости и качества написания) достает пропуск на бесконвойное хождение. Итак, соглашение было достигнуто. Отец переселился на банный чердак, куда были втащены свежесрубленный стол и табуретка. Чернильницей служил перевернутый большой электрический изолятор, ручку сделали из обструганной палочки, прикрутив к ней ниткой перо № 86, – и с Богом! Это было 17 мая 1950 года. Прошло два месяца чердачного писания. Каково же было изумление отца, когда Василевский вручил ему пропуск на бесконвойное хождение! Когда он первый раз вышел за ворота зоны без «аккомпаниатора» – слезы потекли сами собой… Отец говорил, что даже потом, после окончательного освобождения, он не испытывал такого чувства свободы и радости… Работа иногда занимала по 18–20 часов в сутки. Он очень вжился в нее, полюбил своих героев. Все приходилось выдумывать и вспоминать: ни о каких справочных пособиях не могло быть и речи (в зоне во обще не было никаких книг). Один раз память подвела: в первоначальном варианте рукописи Тридцатилетняя война попала в XVIII век… Вскоре, правда, ошибка была исправлена. Часто, ложась спать, отец давал себе задание: вспомнить во сне тот или иной исторический эпизод, фамилию, дату. Просыпался с повышенной температурой, с головной болью, но «задание» было выполнено: все вспоминалось. Василевский придумал для лучших работников премию: раз в неделю, вечером, у костра отец вслух читал написанное. Аудитория слушала с огромным интересом и вниманием. Василевский начал задумываться. Работа близилась к завершению. Отец ощущал какое-то беспокойство, мешали недобрые предчувствия и ожидание предательства со стороны Василевского. На всякий случай, если с ним что-либо произойдет, чтобы все-таки была узнана правда, отец зашифровал в романе три слова: «Лжеписатель, вор, плагиатор». В главе 23 «Охотники за леопардом», в третьем абзаце 5-го раздела, было написано: «Листья быстро Желтели, лес, Еще недавно Полный жизни И летней Свежести, теперь Алел багряными Тонами осени. Едва приметные Льняные кудельки Вянущего мха, Отцветший вереск, Рыжие высохшие Полоски некошеных Луговин придавали Августовскому пейзажу Грустный, нежный И чисто Английский оттенок. Тихие, словно Отгоревшие в Розовом пламени…» – и т. д. Об этом шифре знали только самые близкие люди. Тем временем «Наследника» переписывал каллиграфическим почерком один из заключенных, бывший бухгалтер. Незадолго до этого в лагерь пригнали новый этап из Прибалтики, и у кого-то из вновь прибывших чудом сохранилась синяя шелковая рубашка. Она тотчас же была пущена на переплет. Художник Иван Лейко украсил форзац книги портретом Василевского, раскрасил акварелью заглавные буквы каждой главы, каждого раздела. А люди, слушающие чтение у костра, на все лады расхваливали «Батю-романиста». И Василевский задумал… убить отца. Тем временем Василевскому посоветовали отправить написанную часть романа кому-нибудь на «рецензию» – человеку, с его точки зрения, грамотному и знающему: а вдруг это только им нравится книга, а на самом деле она и ломаного гроша не стоит. Василевский к совету прислушался – и отправил гонца с рукописью к вольнонаемному прорабу на соседнюю колонну, бывшему сотруднику Института мировой литературы, вкусу которого Василевский вполне доверял. На обратном пути, через несколько дней, гонец завернул в избушку склада ГСМ. При гонце имелось письмо, которое они вместе с отцом расклеили над паром. Смысл послания был приблизительно таков: «Дорогой Василий Павлович! Брал в руки твое новое произведение, предвкушая, что всласть повеселюсь, но увидел – что это настоящее. Советую подумать о соавторстве. Сам не справишься». На следующий день Василевский примчался к отцу в избушку: «А скажи мне, старик, кто такие альгвасилы?» И потом: «Ты знаешь, я хочу предложить тебе соавторство». Отец для вида попытался отказываться, но потом дал Василевскому уговорить себя, составил для него словарь «непонятных» слов и написал краткий конспект книги – чтобы легче было разбираться в повествовании. Роман был закончен, последние правки вносились уже опять в зоне. Книга называлась «Наследник из Калькутты», с подзаголовком «Фильм без экрана». На титульной странице под фамилией «Василевский» была скромно приписана фамилия «Штильмарк». Так имя отца появилось на его будущей книге. В один из последующих дней к отцу в барак прибежал «шестерка» Василевского и под предлогом всеобщего обыска забрал рукопись. Зайдя зачем-то в домик вахты, отец обратил внимание на бумажку, лежавшую рядом с селектором. Это был список с именами переводимых в другие колонны. В нем было 16 фамилий, 17-я была приписана характерным почерком Василевского: Штильмарк. В этот же день, так и не встретившись со своим «соавтором», отец был переведен… Вскоре в зоне собралось воровское «толковище», решавшее более чем серьезные вопросы: что делать с Батей-романистом, что делать с Василевским? Мнений было много, но окончательное решение было вынесено после выступления старого «пахана». Толковище постановило: Батю не убивать, потому что он ничего плохого ворам не делал, а наоборот, скрашивал их жизнь, «тиская» разные интересные истории, роман им читал и не предавал их. Деньги Василевскому не возвращать – не обеднеет, все равно с «мужиков» наберет. (Об этом «убийственном» решении Василевского и лагерном «толковании» отцу рассказали уже много позднее участники данной церемонии.) Получилось, что жизнь была первым гонораром отца. После смерти Сталина в 1953 г. оставшийся срок был заменен отцу ссылкой, которую предстояло отбывать в поселке Маклаково, в 60 километрах от Енисейска. Туда же приехали и мы с матерью. Несколько лет отец ничего не знал ни о Василевском, ни о «Наследнике». И вот в конце 1953 г. в Маклаково пришло от Василевского письмо, которое начиналось так: «Старик! Меня изыскали ограничить изъятием у меня нашего «Наследника»…» Из письма становилось понятно, что на одном из этапов у него были отобраны три красиво переплетенных тома. Черновик, писанный отцом, Василевскому уда лось сохранить. Книги, как он выяснил, находятся в Москве, в ГУЛАГе. Вариант «добывания» «Наследника» предлагается такой: он и отец шлют доверенности моему старшему брату Феликсу, тогда уже 22-летнему юноше, тот идет с ними в ГУЛАГ и пытается что-либо предпринять на месте. Так и было сделано. Наступали новые времена, и Феликс, преодолев большое количество формальностей, все же получил рукопись из ГУЛАГа. Уже весной 1954 г. Феликс дал «Наследника» на прочтение своему учителю и другу, профессору университета биологу А.Н. Дружинину. И.А. Ефремов вспоминал, что однажды он позвонил Дружинину: «Александр Николаевич, дорогой, выручайте! Защищается мой аспирант, а оппонента нет и сразу не найти: поздно, учебный год кончается! Что угодно для вас сделаю!» – «Хорошо, Иван Антонович, буду оппонировать. Но я беру взятки борзыми щенками: прочитайте рукопись моего ученика». – «Присылайте, уж так и быть…» – без энтузиазма согласился Ефремов. Очень уж не хотелось писателю браться за рукопись: ему изрядно надоели «молодые таланты»… Рукопись какое-то время лежала без движения, а потом ее прочел сын Ефремова, а затем и его друзья-одноклассники. Вскоре Иван Антонович стал замечать, что лексикон мальчиков обогатился какими-то «пиратскими» словечками: «каррамба», «абордаж», «одноглазый дьявол» и т. д. Затем и его жена включилась в мальчишечьи разговоры. Тогда Иван Антонович и сам взялся за чтение. Быстро «проглотил» первый том и стал с нетерпением ждать продолжения. А Феликс не торопился – Иван Антонович велел ему приходить не раньше чем через месяц. Наконец Феликс позвонил, и Ефремов набросился на него: – Где продолжение? Прочитав роман, Иван Антонович написал короткую, но очень добрую рецензию, послал ее отцу в Сибирь, а три тома рукописи отнес в Детгиз, в редакцию приключенческой литературы. Книга вышла в свет в начале 1958 г. Получив гонорар, отец выслал Василевскому 20 экземпляров романа и довольно большую сумму денег. Он говорил: «Я сполна расплатился с Василевским за лагерную баланду, из расчета сто рублей за миску». Однако через некоторое время отец стал получать от Василевского письма с угрозами. Детгиз решил предъявить Василевскому обвинение в ложном авторстве. Решение суда было категорическим: установить единоавторство Штильмарка и передать в Книжную палату копию решения. Летом того же 1959 г. отец увидел перед книжным магазином огромную толпу. Оказалось, что люди стоят в очереди за «Наследником из Калькутты». Отец подумал было, что это последний завод детгизовского издания, попросил посмотреть книгу у добывшего ее счастливчика, но оказалось, что эти книги были напечатаны в Иркутске «пиратским способом», так как издательство не дало себе труда связаться с автором и либо не получило, либо проигнорировало решение суда: на обложке красовалась фамилия Василевского. Третье, и последнее, издание «Наследника из Калькутты» на русском языке вышло в Алма-Ате под одной отцовской фамилией. Тень Василевского еще раз возникла в нашей жизни в 1964 г. От него, вновь из мест заключения, пришло письмо, в котором он жаловался на то, что ему «опять не повезло». Больше мы о нем ничего не слышали. Е.Р. Штильмарк-ВолодкевичВисенте Рива Паласио Пираты Мексиканского залива

Часть первая. ДЖОН МОРГАН

I. ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА
В середине семнадцатого века на обширном богатом острове Эспаньола процветало селение Сан-Хуан-де-Гоаве; славилось оно не только живописностью природы, но и своими обитателями. Это поистине чарующее селение утопало в зелени садов, а вокруг расстилались густые леса и тучные луга, на которых паслось несметное множество диких быков. Местные жители, охотники и живодеры, торговали кожей и салом. Кого здесь только не было: негры и белые, мулаты и метисы, испанцы и французы, англичане и индейцы. Но все они вели одинаковый образ жизни, все обращались друг с другом, как сыновья одного народа, все трудились в поте лица, чтобы разжиться горстью-другой звонкой монеты, а заработанные деньги спускали в пьяном угаре за игорным столом или в обществе веселых девиц, в которых здесь не было недостатка. Эти колонисты жили удивительной жизнью: они упорно трудились и предавались изощренным порокам, отличались безупречной честностью в делах и крайней развращенностью нравов, были по-братски добры к обездоленным и ненасытно алчны в игре. И в добродетелях и в пороках они не знали меры. Добродетели и пороки теснились в одной груди. Так в сказках о золотом веке овцы и волки спят под сенью одного дерева, ястреб и голубка отдыхают на одной ветке, тигр и косуля пьют из одного источника. Все это кажется загадкой в цивилизованном девятнадцатом веке, когда мирный горожанин навряд ли уснет спокойно под одной кровлей с жандармом. Однажды в сельской таверне, над входом в которую красовался намалеванный сажей бык и надпись «У черного быка», за простым некрашеным столом собрались трое. Перед ними стоял кувшин с агуардьенте и три стакана, и они непринужденно беседовали, опершись локтями о стол, не снимая шапок и покуривая большие, грубо вырезанные деревянные трубки. У всех троих были густые, длинные волосы и борода. Все они выглядели сверстниками, только двое из них, русые и голубоглазые, походили на англичан, а третий, смуглый, с черными глазами, черноволосый и чернобородый, очевидно, был южанином. Одеты они были одинаково, но описать их одежду, пожалуй, будет нелегко: кожаные штаны в обтяжку, кожаные сапоги, туго обхватывающие икры, и длиннополая кожаная куртка. Шапка тоже из кожи, а на поясе – нечто вроде портупеи с висящим на ней широким длинным ножом. Таков был странный наряд наших героев, которые лениво перебрасывались словами, утопая в густых клубах табачного дыма. – Железная Рука прав, – произнес один из англичан. – Тоска тут смертная, а с заработками не густо. – Не густо, – подтвердил другой англичанин. – Особенно когда приходится иметь дело с этими чертовыми гачупинами,*["137] как он их называет, которые таскаются сюда торговать из самого Асо. – Я здесь просто умираю со скуки, – отозвался, выпустив клуб дыма, тот, кого назвали Железная Рука, – и, кажется, готов тосковать по родине. – Неужто твоя родина красивее, чем этот край? – Еще бы, Ричард, – со вздохом ответил Железная Рука. – Мексика – лучшее место на земле. – Зачем же ты оставил ее? – спросил другой англичанин. – А, длинная история. – Бедность погнала? – Я был там богат, как принц. Англичане с сомнением переглянулись. – Тогда из-за любви? – Расскажу как-нибудь в другой раз. Но пока что мне здесь все опротивело. – О! И это говоришь ты, человек, заслуживший любовь Принцессы-недотроги? – Хватит болтать об этой девушке. В Сан Хуане достаточно других женщин. – Но не таких красивых. – И не таких привлекательных. Добрая сотня охотников мрет от зависти, глядя, как ты шагаешь с ней по дороге в Пальмас-Эрманас. Эта рощица – сущий рай, должно быть, вы там недурно проводите время. – Во всяком случае, не так, как вы думаете. Я люблю Хулию, как сестру, и хватит об этом. – Нет, нет, давай договорим до конца, Антонио, – серьезно возразил Ричард. – У тебя действительно ничего нет с этой девушкой? – Нет, – отвечал Железная Рука. – Ее отец, француз, был, как вы знаете, моим другом. Когда он умер от чумы, я стал для Хулии и ее матери защитником и покровителем, вот и все. А почему ты об этом спрашиваешь? – Я спрашиваю, – равнодушно ответил Ричард, – потому что если ты ее любишь, то не мешало бы предупредить тебя, что в твои воды зашел соперник. – Кто же это осмелился?! – воскликнул Антонио, сверкнув глазами и вспыхнув от гнева. – Ага, значит, что-то между вами есть. В конце концов мое дело сторона, но мы друзья, и я тебя предупреждаю. Пока что он дрейфует, но у него хорошая оснастка, и при первом шторме он тебя пустит ко дну. – Но кто же он? – Будь начеку и верь, что я тоже не зеваю. Можешь рассчитывать на мою дружбу… Молодые люди горячо пожали друг другу руки. Лицо Антонио заметно омрачилось, но в светлых глазах англичанина по-прежнему отражалось безмятежное спокойствие души. Третий охотник продолжал курить, как ни в чем не бывало, словно ничего и не слышал. – Ты, я вижу, обеспокоен, – сказал Ричард после долгого молчания. – Пойдем прогуляемся, может быть, подвернется до вечера какое-нибудь дельце. Если же нет, думаю, лучше всего воспользоваться полной луной и к ночи отправиться в наши любимые горы. Там тебе будет легче. – Ты прав, – отозвался Железная Рука, – уйдем отсюда, этот воздух наводит на меня тоску. – Встряхнув черной головой, будто отгоняя навязчивую мысль, он встал, и все трое вышли из таверны. На улицах селения было полно народу. В этот день приехали купцы из города Асо, чтобы, как обычно, закупить либо выменять на ткани и мелочной товар шкуры у охотников и живодеров Сан-Хуана. Вечер был ясный и теплый, дул легкий ветерок, женщины спешили на площадь посмотреть, какие диковины выставили на продажу заезжие торговцы. Трое охотников смешались с толпой и направились к лавке, в которой было разложено напоказ множество бычьих кож. Англичане вошли в лавку и повели разговор с хозяином, а Железная Рука остался на улице. В это время невдалеке показались две женщины. Впереди шла старшая, лет сорока, а за ней следовала девушка лет шестнадцати, тоненькая, изящная и стройная, с белокурыми волосами и зелеными глазами, такими темными, что казались они черными. На обеих женщинах были почти одинаковые синие платья, белые фартучки и белые шляпки. С первого взгляда можно было определить, что они небогаты и, по-видимому, принадлежат к французской колонии Сан-Хуана. Заметив охотника, девушка вся вспыхнула и, воспользовавшись тем, что мать не видит ее, остановилась рядом с молодым человеком. – Антонио, – спросила она, – ты сердишься? – Нет, Хулия, – ответил охотник, силясь улыбнуться. – Не скрывай, Антонио, ты чем-то встревожен. Что с тобой? – Нам надо поговорить. – Когда? – Сегодня вечером. – Хорошо. Где? – В Пальмас-Эрманас. – Я приду, Антонио, приду. Только не сердись. Прощай. – До вечера. И девушка побежала вдогонку матери, та была занята своими мыслями и ничего не заметила. Зато рядом находился тайный соглядатай, не пропустивший ни слова из их беседы. Это был приземистый, тучный человек, с выпуклой грудью, втянутой в плечи головой и короткими, жирными руками, волосатыми, словно у обезьяны. Черные волосы, брови и борода разрослись у него необыкновенно густо, а маленькие, заплывшие бурые глазки сверкали, как горящие угли. Одежда этого странного человека не походила на кожаные костюмы охотников. Должно быть, он был богат, если судить по золотой цепи, золотым пуговицам на суконной куртке и пряжке из драгоценных камней, украшавшей его широкополую шляпу. То был богатый живодер и скотопромышленник, испанец по имени Педро Хуан де Борика, известный в деревне под кличкой «Медведь-толстосум».II. ПЕДРО-ЖИВОДЕР
Педро пристал к берегам Эспаньолы на корабле, направлявшемся в Новую Испанию. Хотя у него не было ни родни, ни знакомых на острове, он решил присоединиться к населявшим его охотникам и живодерам. Обосновавшись в Сан-Хуан-де-Гоаве, Педро стал помогать кому-то из своих земляков, а потом и сам занялся торговлей; вскоре удача да к тому же еще упорство и выносливость помогли ему стать одним из самых богатых людей в округе. Медведь-толстосум, как все теперь называли его, никогда не играл, для этого он был слишком скуп. Лишь единственный раз сразился он в карты с одним из своих друзей и проиграл. На следующий день его друга нашли в поле с кинжалом в сердце. Все обвиняли Педро, но никто не сказал ему ни слова. В здешних краях принято было мстить только за собственные обиды. Педро не раз заводил знакомство с веселыми девицами, разделявшими жизнь охотников, но все они бежали от него, – уж слишком он был груб и скареден. Богатый живодер жил один, без семьи, в просторном удобном доме и держал множество слуг, которые помогали ему пасти стада, загонять в крааль скот, забивать быков и продавать кожи. В день, которым началось наше повествование, Педро долго стоял на площади, беспокойно посматривая по сторонам жадно сверкавшими глазами. Когда в торговых рядах появились Хулия с матерью, он пошел следом за ними и незаметно подслушал разговор Хулии с возлюбленным. Если б кто-нибудь взглянул в тот момент на живодера, то заметил бы, как он побледнел и скрипнул плотными белыми, словно браслет слоновой кости, зубами. Но в густой толпе рабов, охотников и торговцев, валом валившей на площадь, некому было обращать на это внимание. Хулия и ее мать продолжали свой путь, а Педро оставил их в покое и, грубо расталкивая всех встречных, направился в уже знакомую читателям таверну «У черного быка». В тот час таверна была почти пуста. Начало смеркаться, и весь народ потянулся на рыночную площадь. Живодер уселся за столик в укромном углу и властно крикнул, словно подзывая бессловесную скотину: – Исаак! Исаак! В тот же миг перед ним появился высокий, тощий, бледный старик, с большой шапкой в руках. – Поди-ка сюда, иудейский пес, – сказал живодер, схватив его за руку и силком усаживая рядом с собой. – Садись, сын Моисея.
– Обращенный, обращенный, если изволите помнить, милостивый сеньор, – ответил старик, низко кланяясь и не выказывая никакого неудовольствия. – Обращенный, ибо хотя здесь и нет инквизиции, а все же лучше, чтобы все было ясно, как божий свет.
– Провались ты хоть на тот свет! Брось свои увертки и отвечай. Ты обманул меня?
– Да накажет меня бог отцов моих, если я когда-нибудь вас обманывал!
– Не говорил ли ты мне, что этот проклятый мексиканец Железная Рука вовсе не возлюбленный Хулии?
– Я говорил, что ничего об этом не знаю, но никогда не уверял, что этого нет, а между двумя такими утверждениями немалая разница.
– Ах ты собака, да я сдеру с тебя шкуру, как с теленка!
– Да убережет меня бог Давида от такой напасти! Впрочем, вы все равно ничего мне не сделаете.
– Ничего не сделаю? А почему это ты так уверен?
– Слишком уж я вам нужен и слишком много вам помогаю, чтобы вы решились на подобное безрассудство.
– Ну и хитрец же ты. Однако нам есть о чем подумать. Я твердо знаю, что Хулия и охотник любят друг друга.
– Возможно, – уклончиво заметил старик.
– Возможно? Говорю тебе, я в этом уверен, жалкий пес! – крикнул с раздражением живодер и изо всех сил стукнул кулаком по столу.
– Потише, – с величайшим хладнокровием ответил Исаак, – потише, вы сломаете стол, а он сделан из отличного дерева, и вам это дорого обойдется.
Живодер презрительно взглянул на него и слегка оттолкнул от себя стол.
– Что же нам предпринять? – продолжал он. – Эта любовь путает мне все карты. Хулия не захочет стать моей женой. Теперь я понимаю, почему она всегда пренебрегала мною, все из-за этого охотника! Проклятые охотники, и они еще смеют презирать нас и обзывать мясниками, а сами-то просто воры! Все смазливые девушки в деревне только для них, не говоря уж о тех, что они привозят себе из Санто-Доминго, из Асо и откуда попало. Хоть бы их всех чума унесла, вот когда остров Эспаньола станет сущим раем!
– Гм! – усмехнулся Исаак.
– Что же все-таки делать? Посоветуй. Я плачу тебе достаточно, чтобы ты помогал мне в моих делах.
– Вам надо похитить Хулию.
– Вот так совет! Чтобы охотник, узнав об этом, проткнул меня копьем или всадил мне пулю в лоб, как дикому быку? Нет, я не так глуп. Придумай что-нибудь другое.
– Да ведь у вас хватит сил убить быка одним ударом, взвалить его на плечо и потом еще и съесть, словно Милон Кротонский.
– Не важно, я не хочу ссориться с охотниками. Итак, что ты можешь придумать еще?
– Почему вы думаете, что Хулия и Железная Рука любят друг друга?
– Да я сегодня собственными ушами слышал, как они назначали друг другу свидание на вечер.
– Где?
– За селением, в роще Пальмас-Эрманас.
– Отлично. Тогда слушайте: наверняка охотник придет в рощу из лесу, где он ночует со своими друзьями-англичанами, а Хулия – из своего дома. Не правда ли?
– Возможно.
– А распрощавшись – ведь волей-неволей им придется расстаться, – он отправится в свою хижину, а она к себе домой?
– Должно быть, так.
– И Хулия придет в рощу и уйдет оттуда одна.
– Так оно и будет.
– Тогда спрячьтесь, подкараульте ее при возвращении, убедитесь в том, что она одна, а когда она пройдет мимо вас, хватайте ее, – бьюсь об заклад, она вас не узнает, – и тащите в лес, а потом придете ко мне и сами скажете, так ли уж хочется вам взять Хулию в жены или вы предпочитаете оставить ее охотнику.
– Понятно, – со смехом ответил живодер. – А вдруг она меня узнает?
– А вы переоденьтесь. Ночью, да еще переодетого, ни за что не узнает. К тому же перепугается…
– Но как же мне переодеться?
– Обрядитесь в костюм охотника, наденьте кожаную маску да закутайтесь в плащ.
– Превосходно! Если все сойдет удачно, то либо я и думать забуду о своей прихоти, либо девчонка перестанет ломаться и выйдет за меня замуж. А уж если дело сорвется, придумаем что-нибудь похитрее.
– Чего уж хитрее!
– Ну, прощай, пойду все подготовлю. Ах да, пришли ко мне кого-нибудь из слуг, я передам с ним телячью кожу для твоего маленького Даниила… Не забудь только.
Педро был так увлечен своей затеей, что, столкнувшись в дверях таверны с высоким человеком в черном плаще и черной шляпе, украшенной пером гуакамайи, почти не обратил на него внимания.
А новый пришелец направился прямо к хозяину и тоном человека, привыкшего повелевать, спросил:
– Кто это был здесь?
– Сеньор, – ответил Исаак, – его зовут Хуан, по кличке Медведь-толстосум.
– Моряк?
– Нет, сеньор, он – живодер.
– А! – протянул незнакомец с глубоким презрением. – Я почему-то решил, что он моряк. А о ком он говорил?
– О Хулии, одной из местных девушек.
– О какой же это Хулии?
– О Хулии Лафонт.
– Дочери Густава Лафонта?
– Да, сеньор.
– Отважного моряка, который умер в этих краях от чумы?
– Того самого.
– Негодяй! Пусть только попробует, гнусный мясник, тронуть хоть волос с головы этой девушки, – пробормотал, словно про себя, незнакомец. – Значит, свидание состоится сегодня вечером? – продолжал он.
– Да, сеньор.
– В Пальмас-Эрманас?
– Да, сеньор, на юге от…
– Я не нуждаюсь в объяснениях. Возьми!
– Что вы мне даете?
– Испанскую унцию.
– Но за что, сеньор?
– За твое сообщение. Прощай.
Старик, пораженный такой щедростью, рассыпался в благодарностях, но незнакомец даже не взглянул на него и, закрыв лицо плащом, вышел из таверны.
– Бог Израиля! – воскликнул старик. – Бог Авраама! Не иначе это герцог! Какое, не герцог, а принц! Больше того – король! Золотая унция за такую малость!
И он поспешил на свою половину, чтобы рассказать жене о невероятном событии и спрятать золото.
Когда Педро-живодер вышел из таверны, уже начало темнеть. Не мешкая, он направился домой, решив взглянуть по пути на дом Хулии, стоявший почти на окраине селения в густых зарослях цветущего кустарника.
Медведь-толстосум, крадучись, как шакал, подстерегающий добычу, обошел вокруг изгороди.
Из окон дома лился свет. Притаившись там, где изгородь подходила поближе к дому, Педро услыхал голоса. Хулия разговаривала с матерью.
– Она еще здесь, – злорадно прошипел Педро. – Ну что ж, увидимся ночью.
И он зашагал к своему дому, предвкушая удачу, словно тигр, почуявший запах крови.
– Поди-ка сюда, иудейский пес, – сказал живодер, схватив его за руку и силком усаживая рядом с собой. – Садись, сын Моисея.
– Обращенный, обращенный, если изволите помнить, милостивый сеньор, – ответил старик, низко кланяясь и не выказывая никакого неудовольствия. – Обращенный, ибо хотя здесь и нет инквизиции, а все же лучше, чтобы все было ясно, как божий свет.
– Провались ты хоть на тот свет! Брось свои увертки и отвечай. Ты обманул меня?
– Да накажет меня бог отцов моих, если я когда-нибудь вас обманывал!
– Не говорил ли ты мне, что этот проклятый мексиканец Железная Рука вовсе не возлюбленный Хулии?
– Я говорил, что ничего об этом не знаю, но никогда не уверял, что этого нет, а между двумя такими утверждениями немалая разница.
– Ах ты собака, да я сдеру с тебя шкуру, как с теленка!
– Да убережет меня бог Давида от такой напасти! Впрочем, вы все равно ничего мне не сделаете.
– Ничего не сделаю? А почему это ты так уверен?
– Слишком уж я вам нужен и слишком много вам помогаю, чтобы вы решились на подобное безрассудство.
– Ну и хитрец же ты. Однако нам есть о чем подумать. Я твердо знаю, что Хулия и охотник любят друг друга.
– Возможно, – уклончиво заметил старик.
– Возможно? Говорю тебе, я в этом уверен, жалкий пес! – крикнул с раздражением живодер и изо всех сил стукнул кулаком по столу.
– Потише, – с величайшим хладнокровием ответил Исаак, – потише, вы сломаете стол, а он сделан из отличного дерева, и вам это дорого обойдется.
Живодер презрительно взглянул на него и слегка оттолкнул от себя стол.
– Что же нам предпринять? – продолжал он. – Эта любовь путает мне все карты. Хулия не захочет стать моей женой. Теперь я понимаю, почему она всегда пренебрегала мною, все из-за этого охотника! Проклятые охотники, и они еще смеют презирать нас и обзывать мясниками, а сами-то просто воры! Все смазливые девушки в деревне только для них, не говоря уж о тех, что они привозят себе из Санто-Доминго, из Асо и откуда попало. Хоть бы их всех чума унесла, вот когда остров Эспаньола станет сущим раем!
– Гм! – усмехнулся Исаак.
– Что же все-таки делать? Посоветуй. Я плачу тебе достаточно, чтобы ты помогал мне в моих делах.
– Вам надо похитить Хулию.
– Вот так совет! Чтобы охотник, узнав об этом, проткнул меня копьем или всадил мне пулю в лоб, как дикому быку? Нет, я не так глуп. Придумай что-нибудь другое.
– Да ведь у вас хватит сил убить быка одним ударом, взвалить его на плечо и потом еще и съесть, словно Милон Кротонский.
– Не важно, я не хочу ссориться с охотниками. Итак, что ты можешь придумать еще?
– Почему вы думаете, что Хулия и Железная Рука любят друг друга?
– Да я сегодня собственными ушами слышал, как они назначали друг другу свидание на вечер.
– Где?
– За селением, в роще Пальмас-Эрманас.
– Отлично. Тогда слушайте: наверняка охотник придет в рощу из лесу, где он ночует со своими друзьями-англичанами, а Хулия – из своего дома. Не правда ли?
– Возможно.
– А распрощавшись – ведь волей-неволей им придется расстаться, – он отправится в свою хижину, а она к себе домой?
– Должно быть, так.
– И Хулия придет в рощу и уйдет оттуда одна.
– Так оно и будет.
– Тогда спрячьтесь, подкараульте ее при возвращении, убедитесь в том, что она одна, а когда она пройдет мимо вас, хватайте ее, – бьюсь об заклад, она вас не узнает, – и тащите в лес, а потом придете ко мне и сами скажете, так ли уж хочется вам взять Хулию в жены или вы предпочитаете оставить ее охотнику.
– Понятно, – со смехом ответил живодер. – А вдруг она меня узнает?
– А вы переоденьтесь. Ночью, да еще переодетого, ни за что не узнает. К тому же перепугается…
– Но как же мне переодеться?
– Обрядитесь в костюм охотника, наденьте кожаную маску да закутайтесь в плащ.
– Превосходно! Если все сойдет удачно, то либо я и думать забуду о своей прихоти, либо девчонка перестанет ломаться и выйдет за меня замуж. А уж если дело сорвется, придумаем что-нибудь похитрее.
– Чего уж хитрее!
– Ну, прощай, пойду все подготовлю. Ах да, пришли ко мне кого-нибудь из слуг, я передам с ним телячью кожу для твоего маленького Даниила… Не забудь только.
Педро был так увлечен своей затеей, что, столкнувшись в дверях таверны с высоким человеком в черном плаще и черной шляпе, украшенной пером гуакамайи, почти не обратил на него внимания.
А новый пришелец направился прямо к хозяину и тоном человека, привыкшего повелевать, спросил:
– Кто это был здесь?
– Сеньор, – ответил Исаак, – его зовут Хуан, по кличке Медведь-толстосум.
– Моряк?
– Нет, сеньор, он – живодер.
– А! – протянул незнакомец с глубоким презрением. – Я почему-то решил, что он моряк. А о ком он говорил?
– О Хулии, одной из местных девушек.
– О какой же это Хулии?
– О Хулии Лафонт.
– Дочери Густава Лафонта?
– Да, сеньор.
– Отважного моряка, который умер в этих краях от чумы?
– Того самого.
– Негодяй! Пусть только попробует, гнусный мясник, тронуть хоть волос с головы этой девушки, – пробормотал, словно про себя, незнакомец. – Значит, свидание состоится сегодня вечером? – продолжал он.
– Да, сеньор.
– В Пальмас-Эрманас?
– Да, сеньор, на юге от…
– Я не нуждаюсь в объяснениях. Возьми!
– Что вы мне даете?
– Испанскую унцию.
– Но за что, сеньор?
– За твое сообщение. Прощай.
Старик, пораженный такой щедростью, рассыпался в благодарностях, но незнакомец даже не взглянул на него и, закрыв лицо плащом, вышел из таверны.
– Бог Израиля! – воскликнул старик. – Бог Авраама! Не иначе это герцог! Какое, не герцог, а принц! Больше того – король! Золотая унция за такую малость!
И он поспешил на свою половину, чтобы рассказать жене о невероятном событии и спрятать золото.
Когда Педро-живодер вышел из таверны, уже начало темнеть. Не мешкая, он направился домой, решив взглянуть по пути на дом Хулии, стоявший почти на окраине селения в густых зарослях цветущего кустарника.
Медведь-толстосум, крадучись, как шакал, подстерегающий добычу, обошел вокруг изгороди.
Из окон дома лился свет. Притаившись там, где изгородь подходила поближе к дому, Педро услыхал голоса. Хулия разговаривала с матерью.
– Она еще здесь, – злорадно прошипел Педро. – Ну что ж, увидимся ночью.
И он зашагал к своему дому, предвкушая удачу, словно тигр, почуявший запах крови.
III. В РОЩЕ ПАЛЬМАС-ЭРМАНАС
Время близилось к полуночи. В селении Сан-Хуан царила глубокая тишина, лишь изредка нарушаемая пением одинокого петуха или ревом быка в загоне. Домик Хулии был окутан мягким полумраком, струившимся над землей, ожидавшей восхода луны. Казалось, все было погружено в глубокий сон: ни проблеска света в окнах, ни звука за плотно закрытой дверью. Только позади ограды маячило неясное темное пятно. Там стоял какой-то человек, и человека этого, очевидно, одолевало нетерпение. Он то принимался ходить взад и вперед, то останавливался и заглядывал через изгородь, пытаясь рассмотреть, что делается в саду. Так прошло немало времени. Тайный наблюдатель уже готов был уйти, когда, заглянув в последний раз через изгородь, он уловил легкое движение в доме. Затаив дыхание, напрягая слух, он пытался проникнуть взглядом сквозь густой сумрак, витавший в саду. Но вот дверь дома тихонько приоткрылась, из нее выскользнула легкая тень, и дверь закрылась так же бесшумно. – Она! – шепнул стоявший за оградой незнакомец, переведя дыхание. – Она, Хулия! Девушка спустилась в сад и, боязливо оглядываясь, пошла по дорожке. Вдруг она испуганно остановилась, ей показалось, что кто-то бежит за ней. Обернувшись, она увидела великолепную черно-белую борзую – таких собак держали почти все охотники острова Эспаньола. – Ох, Титан, – оправившись от испуга, проговорила девушка. – Ну и напугал же ты меня! Оставайся здесь, будешь стеречь дом, пока я не вернусь. Умный пес повиновался, а Хулия подошла к ограде, сплошь заросшей вьюнком и лианами, и, раздвинув гибкие стебли, нырнула в темное отверстие. – Вот оно что, – прошипел соглядатай. – Здесь есть неизвестная мне лазейка. Будем знать и при случае воспользуемся ею. Девушка, проскользнув сквозь изгородь, вышла в поле и внимательно огляделась по сторонам. Человек припал к земле и замер, затаив дыхание. А Хулия, решив, что никто ее не видит, успокоилась и, плотнее запахнув широкий черный плащ, словно легкая тень, двинулась дальше. Она прошла так близко от притаившегося в кустах незнакомца, что пола ее плаща задела его по лицу. Если бы верный пес сопровождал свою хозяйку, он, без сомнения, почуял бы врага, но Хулия была так рассеянна, так занята своими мыслями, что ничего не заметила и без колебаний направилась в Пальмас-Эрманас по узкой тропинке, змеившейся среди разбросанных по широкому лугу кустов и деревьев. Дав девушке отойти подальше, человек встал и пошел за ней. Хулия, не замечая преследования, скользила среди деревьев. Лес становился все гуще и гуще. Преследователь порой терял ее из виду, и ему приходилось ждать, пока слабый свет луны, пробившись сквозь зеленые своды, озарит силуэт Хулии, продолжавшей свой путь. Но вот девушка вышла на большую открытую поляну и, не задерживаясь, зашагала дальше по протоптанной в траве тропинке. Поляну замыкала роща, над которой горделиво возвышались пышные кроны двух высоких пальм. – А вот и Пальмас-Эрманас, – шепнул человек. – Пожалуй, лучше остаться здесь и подождать возвращения белой телочки. Отсюда я увижу, одна ли она выйдет из рощи, и успею приготовиться. Надо быть начеку… Только вот устроиться бы поудобнее… сдается, что ждать придется долгонько. – И он уселся под деревом, весь укрывшись в его тени. Тем временем Хулия вошла в рощу и, осмотревшись вокруг, тихонько позвала охотника. В тот же миг, словно ветер, пронесся в кустах, и к ногам Хулии бросились две огромные борзые, похожие на ту, что оставила она стеречь дом. Растянувшись на земле, они махали хвостами и радостно повизгивали. – Добрый вечер, Тисок, добрый вечер, Мастла, – говорила девушка, гладя головы могучих псов своими маленькими белыми ручками. – Где же ваш хозяин? Кусты снова зашелестели, и перед Хулией появился охотник, с мушкетом в руке, одетый так же, как утром. – Антонио! – воскликнула девушка, протягивая ему руки. – Хулия, бедняжка моя, – ответил охотник, обняв ее и едва коснувшись губами ее лба, – тебе очень страшно было, дорогая? – Нет, Антонио. Разве мне может быть страшно, когда я иду к тебе? Охотник нежно посмотрел на нее и снова прижал к груди.
– А здесь, со мной, ты ничего не боишься, радость моя?
– Чего же мне бояться, когда я с тобой, Антонио? Ведь ты мой возлюбленный, мой отец, мой брат. Рядом с тобой мне ничто не страшно.
– Ребенок!
– Это правда, Антонио, ты для меня – все. Садись вот на этот пень и слушай. Раз ты сам спросил, я отвечу тебе.
Хулия уселась рядом с охотником и начала говорить, рассеянно играя длинными кудрями юноши. Свет луны скользил по смуглому лбу охотника, отражаясь в его блестящих глазах, и озарял пылающее лицо девушки.
– Выслушай меня, Антонио, но только не смейся. Когда я была совсем крошкой, матушка научила меня молиться на ночь моему ангелу-хранителю, и я полюбила его. Ведь ангелы так добры! Матушка говорила, что ангел красивый, сильный, что он защитит меня и от дьявола, и от врагов, что он будет сражаться со всяким, кто захочет обидеть меня, и обязательно победит. Тогда я была ребенком и пыталась вообразить, какой он из себя, этот ангел, такой сильный, такой смелый и отважный. Я верила в него и никогда не боялась. Но, поверишь ли, Антонио, с тех пор как я тебя узнала и ты сказал, что любишь меня, я поняла, что мой ангел-хранитель всегда был похож на тебя. Такой же красивый, отважный и добрый, он, как и ты, думал и заботился обо мне непрестанно. Ведь это правда?
– Хулия! – воскликнул растроганный охотник, слушавший ее с улыбкой восхищения. – Хулия, мое доброе, невинное дитя!
– Ах да, – встрепенулась девушка, – что ты хотел мне сказать?
– Ничего, – ответил охотник, устыдившись, что мог хоть на мгновение заподозрить этого ребенка. – Ничего, кроме того, что люблю тебя с каждым днем все больше.
– Нет, нет. Ты был чем-то опечален, неужели я не знаю тебя? Скажи, что с тобой? Скажи, не то мне тоже станет грустно.
– Послушай, Хулия, ты никогда не ревновала меня?
– Ревновала? А что такое ревность? Я слышала, что люди ревнуют, но не понимаю, что это значит.
– Это значит – бояться потерять меня, бояться, что я полюблю другую женщину, что другая женщина полюбит меня.
– Ах, страх потерять тебя, да, это я знаю. Люди говорят, что в лесах есть свирепые дикие быки, которые бросаются на охотников и могут убить их. И когда я думаю об этом, мне становится страшно за тебя и я молюсь пресвятой деве. А бояться, что ты полюбишь другую или тебя кто-нибудь полюбит? О, если бы ты знал, как я бываю довольна, когда девушки говорят о тебе: «До чего хорош этот мексиканец! Какой храбрец Антонио Железная Рука!» Я с ума схожу от радости и думаю: «Он мой, только мой, и любит меня больше жизни». Правда?
– Правда, Хулия, правда. А другие мужчины не говорят тебе о своей любви?
– О, очень многие. Они посылают мне цветы и записки, смотрят на меня, вздыхают, бедняжки. А я думаю, могут ли они сравниться с моим Антонио? Но я радуюсь, когда говорят, что я хороша. Ведь если я нравлюсь им, значит, могу и тебе понравиться, а больше мне ничего не нужно.
– Ты прелесть! И ты действительно так любишь меня?
– Очень, очень люблю. И рада повторять это без конца тебе или самой себе, когда поливаю цветы и занимаюсь хозяйством. Я говорю так, словно ты стоишь рядом и слышишь меня: «Антонио, я очень люблю тебя; люби меня всегда; я не могу жить без тебя; когда же мы будем вместе?» И в этих словах я ищу утешения. А в свободное время я сажусь в саду и смотрю на горы, где ты охотишься. Помнишь, однажды ты пришел в наш сад после дождя? И земля была еще сырая? Нет, правда, помнишь? След твоей ноги остался на дорожке, и я много дней оберегала этот отпечаток. Как я огорчилась, когда ветер стер его! У тебя очень маленькие ноги, совсем как у женщины…
Девушка смотрела на охотника и улыбалась счастливой улыбкой.
Вдруг собаки подняли головы и насторожились. Хулия заметила это.
– Что случилось, Антонио? – спросила она. – Ты видишь, твои псы забеспокоились.
– Не бойся, радость моя. Наверное, они почуяли быка. Если бы грозила опасность, ты бы сразу увидела: эти твари знают лучше, чем люди, когда надо поднять тревогу.
Собаки словно поняли похвалу и, завиляв хвостами, снова улеглись у ног Хулии и Антонио.
– Умницы, – сказала девушка, лаская собак. – Я очень люблю их. Ведь они всегда с тобой и охраняют тебя так же, как меня охраняет Титан, которого ты мне подарил.
– О, этот пес стоит любого раба.
– Мне пора, – вдруг заторопилась Хулия.
– Так быстро?
– Да, боюсь, как бы матушка не проснулась…
– Бедная сеньора Магдалена. Мне неприятно обманывать ее.
– Верно, но она сама виновата. Любит тебя, как сына, а вбила себе в голову, что выдаст меня только за кого-нибудь из наших земляков, за француза. А я вот люблю тебя, хоть ты и мексиканец.
– Со временем мы уговорим ее.
– Дай-то бог, но боюсь, что не удастся… Прощай…
– Прощай, Хулия, прощай. Я провожу тебя.
– Нет, нет; кругом все спокойно, идти мне недалеко, и я так хорошо знаю дорогу, что, право, не стоит труда провожать меня. Прощай!
Хулия привстала на цыпочки и обменялась с Антонио поцелуем. Завернувшись в плащ, она побежала легче газели и скрылась в гуще гуаяканов.
Охотник некоторое время прислушивался к шелесту ее одежды, цеплявшейся за ветки кустов, а когда все затихло, вздохнул и, положив мушкет на плечо, зашагал в противоположном направлении. Вскоре и он затерялся в чаще леса.
Хулия вышла из рощи, в задумчивости пересекла поляну и снова вступила под сень деревьев.
Но едва она сделала несколько шагов, как услыхала треск ветвей. Она обернулась. Неожиданно из-за дерева вынырнул какой-то мужчина и грубо схватил ее в объятия.
Девушка в страхе закричала, но у нее перехватило горло, и крик был едва слышен. Она попыталась сопротивляться, но нападавший не давал ей пошевельнуться, и, содрогнувшись от ужаса и отвращения, девушка почувствовала на своих губах его поцелуй.
Хулия прятала лицо, пытаясь спастись от поцелуев, а незнакомец тащил ее куда-то в сторону от дороги.
Как раскаивалась она в том, что не позволила Антонио проводить себя, даже не взяла с собой Титана! Они защитили бы ее, а теперь она совсем одна.
Борьба была бесполезна, кругом, куда ни глянь, – глухая лесная чаща.
– Здесь, красотка, – заявил похититель, – здесь ты скажешь, любишь ли ты меня; здесь ты станешь моей по доброй воле или насильно.
– Негодяй! – крикнула Хулия. – Нет, нет и тысячу раз нет!
– Кто же поможет тебе? – продолжал тот, сжимая ее в своих железных объятиях и пытаясь поцеловать.
– Бог, – в смертельной тоске произнесла девушка.
– Бог, – повторил в густых зарослях глубокий властный голос.
Похититель в страхе поднял голову, а Хулия радостно вскрикнула. Сухие ветки затрещали под чьими-то шагами, и из тьмы появился высокий человек, с головы до ног завернутый в черный плащ.
Тут похититель, который был не кто иной, как Медведь-толстосум, проявил неожиданную отвагу. Схватив Хулию за руку, он прикрыл ее своим телом и обнажил огромный нож.
Сталь сверкнула под бледным светом луны, однако незнакомец бесстрашно шагнул вперед, и живодер отступил, потащив за собой ошеломленную, растерянную Хулию.
– Оставь эту девушку, – повелительно произнес незнакомец.
Но Медведь-толстосум решил не сдаваться и, набравшись храбрости, крикнул:
– А ты кто такой, чтобы мне указывать и вмешиваться не в свои дела? Иди своей дорогой и оставь меня в покое, если тебе дорога жизнь!
– Ах! Не уходите, сеньор, – взмолилась Хулия. – Защитите меня!
– Молчи, – прорычал живодер, стиснув руку девушки.
Хулия вскрикнула от боли.
Незнакомец не стал дольше ждать. Словно тигр, бросился он на живодера, вырвал у него из рук нож и швырнул негодяя на землю, прежде чем тот успел опомниться. Медведь-толстосум вскочил и, даже не оглянувшись, пустился наутек, приговаривая:
– Господи Иисусе, спаси нас! Это сам дьявол, сам дьявол!
– Пойдем, дитя мое, – сказал незнакомец, обращаясь к помертвевшей от ужаса Хулии. – Пойдем, я провожу тебя до дому.
Сама не зная почему, девушка прониклась доверием к неизвестному ей человеку и, не произнеся ни слова благодарности, смело оперлась на его руку.
Незнакомец рассмотрел при свете луны отнятый у живодера нож и с презрением отшвырнул его прочь.
Оба молча направились к селению.
– Мы пришли, спасибо, сеньор, – проговорила девушка.
– Это твой дом, дитя мое?
– Да, сеньор. Прощайте.
Хулия отошла от незнакомца, но внезапно вернулась и застенчиво спросила:
– Как вас зовут?
Незнакомец на мгновение заколебался, но потом, как бы решившись, сказал:
– Джон Морган.
– Джон Морган?
– Да, но храни это в тайне. Прощай. – И, не произнеся больше ни слова, он быстро удалился.
Охотник нежно посмотрел на нее и снова прижал к груди.
– А здесь, со мной, ты ничего не боишься, радость моя?
– Чего же мне бояться, когда я с тобой, Антонио? Ведь ты мой возлюбленный, мой отец, мой брат. Рядом с тобой мне ничто не страшно.
– Ребенок!
– Это правда, Антонио, ты для меня – все. Садись вот на этот пень и слушай. Раз ты сам спросил, я отвечу тебе.
Хулия уселась рядом с охотником и начала говорить, рассеянно играя длинными кудрями юноши. Свет луны скользил по смуглому лбу охотника, отражаясь в его блестящих глазах, и озарял пылающее лицо девушки.
– Выслушай меня, Антонио, но только не смейся. Когда я была совсем крошкой, матушка научила меня молиться на ночь моему ангелу-хранителю, и я полюбила его. Ведь ангелы так добры! Матушка говорила, что ангел красивый, сильный, что он защитит меня и от дьявола, и от врагов, что он будет сражаться со всяким, кто захочет обидеть меня, и обязательно победит. Тогда я была ребенком и пыталась вообразить, какой он из себя, этот ангел, такой сильный, такой смелый и отважный. Я верила в него и никогда не боялась. Но, поверишь ли, Антонио, с тех пор как я тебя узнала и ты сказал, что любишь меня, я поняла, что мой ангел-хранитель всегда был похож на тебя. Такой же красивый, отважный и добрый, он, как и ты, думал и заботился обо мне непрестанно. Ведь это правда?
– Хулия! – воскликнул растроганный охотник, слушавший ее с улыбкой восхищения. – Хулия, мое доброе, невинное дитя!
– Ах да, – встрепенулась девушка, – что ты хотел мне сказать?
– Ничего, – ответил охотник, устыдившись, что мог хоть на мгновение заподозрить этого ребенка. – Ничего, кроме того, что люблю тебя с каждым днем все больше.
– Нет, нет. Ты был чем-то опечален, неужели я не знаю тебя? Скажи, что с тобой? Скажи, не то мне тоже станет грустно.
– Послушай, Хулия, ты никогда не ревновала меня?
– Ревновала? А что такое ревность? Я слышала, что люди ревнуют, но не понимаю, что это значит.
– Это значит – бояться потерять меня, бояться, что я полюблю другую женщину, что другая женщина полюбит меня.
– Ах, страх потерять тебя, да, это я знаю. Люди говорят, что в лесах есть свирепые дикие быки, которые бросаются на охотников и могут убить их. И когда я думаю об этом, мне становится страшно за тебя и я молюсь пресвятой деве. А бояться, что ты полюбишь другую или тебя кто-нибудь полюбит? О, если бы ты знал, как я бываю довольна, когда девушки говорят о тебе: «До чего хорош этот мексиканец! Какой храбрец Антонио Железная Рука!» Я с ума схожу от радости и думаю: «Он мой, только мой, и любит меня больше жизни». Правда?
– Правда, Хулия, правда. А другие мужчины не говорят тебе о своей любви?
– О, очень многие. Они посылают мне цветы и записки, смотрят на меня, вздыхают, бедняжки. А я думаю, могут ли они сравниться с моим Антонио? Но я радуюсь, когда говорят, что я хороша. Ведь если я нравлюсь им, значит, могу и тебе понравиться, а больше мне ничего не нужно.
– Ты прелесть! И ты действительно так любишь меня?
– Очень, очень люблю. И рада повторять это без конца тебе или самой себе, когда поливаю цветы и занимаюсь хозяйством. Я говорю так, словно ты стоишь рядом и слышишь меня: «Антонио, я очень люблю тебя; люби меня всегда; я не могу жить без тебя; когда же мы будем вместе?» И в этих словах я ищу утешения. А в свободное время я сажусь в саду и смотрю на горы, где ты охотишься. Помнишь, однажды ты пришел в наш сад после дождя? И земля была еще сырая? Нет, правда, помнишь? След твоей ноги остался на дорожке, и я много дней оберегала этот отпечаток. Как я огорчилась, когда ветер стер его! У тебя очень маленькие ноги, совсем как у женщины…
Девушка смотрела на охотника и улыбалась счастливой улыбкой.
Вдруг собаки подняли головы и насторожились. Хулия заметила это.
– Что случилось, Антонио? – спросила она. – Ты видишь, твои псы забеспокоились.
– Не бойся, радость моя. Наверное, они почуяли быка. Если бы грозила опасность, ты бы сразу увидела: эти твари знают лучше, чем люди, когда надо поднять тревогу.
Собаки словно поняли похвалу и, завиляв хвостами, снова улеглись у ног Хулии и Антонио.
– Умницы, – сказала девушка, лаская собак. – Я очень люблю их. Ведь они всегда с тобой и охраняют тебя так же, как меня охраняет Титан, которого ты мне подарил.
– О, этот пес стоит любого раба.
– Мне пора, – вдруг заторопилась Хулия.
– Так быстро?
– Да, боюсь, как бы матушка не проснулась…
– Бедная сеньора Магдалена. Мне неприятно обманывать ее.
– Верно, но она сама виновата. Любит тебя, как сына, а вбила себе в голову, что выдаст меня только за кого-нибудь из наших земляков, за француза. А я вот люблю тебя, хоть ты и мексиканец.
– Со временем мы уговорим ее.
– Дай-то бог, но боюсь, что не удастся… Прощай…
– Прощай, Хулия, прощай. Я провожу тебя.
– Нет, нет; кругом все спокойно, идти мне недалеко, и я так хорошо знаю дорогу, что, право, не стоит труда провожать меня. Прощай!
Хулия привстала на цыпочки и обменялась с Антонио поцелуем. Завернувшись в плащ, она побежала легче газели и скрылась в гуще гуаяканов.
Охотник некоторое время прислушивался к шелесту ее одежды, цеплявшейся за ветки кустов, а когда все затихло, вздохнул и, положив мушкет на плечо, зашагал в противоположном направлении. Вскоре и он затерялся в чаще леса.
Хулия вышла из рощи, в задумчивости пересекла поляну и снова вступила под сень деревьев.
Но едва она сделала несколько шагов, как услыхала треск ветвей. Она обернулась. Неожиданно из-за дерева вынырнул какой-то мужчина и грубо схватил ее в объятия.
Девушка в страхе закричала, но у нее перехватило горло, и крик был едва слышен. Она попыталась сопротивляться, но нападавший не давал ей пошевельнуться, и, содрогнувшись от ужаса и отвращения, девушка почувствовала на своих губах его поцелуй.
Хулия прятала лицо, пытаясь спастись от поцелуев, а незнакомец тащил ее куда-то в сторону от дороги.
Как раскаивалась она в том, что не позволила Антонио проводить себя, даже не взяла с собой Титана! Они защитили бы ее, а теперь она совсем одна.
Борьба была бесполезна, кругом, куда ни глянь, – глухая лесная чаща.
– Здесь, красотка, – заявил похититель, – здесь ты скажешь, любишь ли ты меня; здесь ты станешь моей по доброй воле или насильно.
– Негодяй! – крикнула Хулия. – Нет, нет и тысячу раз нет!
– Кто же поможет тебе? – продолжал тот, сжимая ее в своих железных объятиях и пытаясь поцеловать.
– Бог, – в смертельной тоске произнесла девушка.
– Бог, – повторил в густых зарослях глубокий властный голос.
Похититель в страхе поднял голову, а Хулия радостно вскрикнула. Сухие ветки затрещали под чьими-то шагами, и из тьмы появился высокий человек, с головы до ног завернутый в черный плащ.
Тут похититель, который был не кто иной, как Медведь-толстосум, проявил неожиданную отвагу. Схватив Хулию за руку, он прикрыл ее своим телом и обнажил огромный нож.
Сталь сверкнула под бледным светом луны, однако незнакомец бесстрашно шагнул вперед, и живодер отступил, потащив за собой ошеломленную, растерянную Хулию.
– Оставь эту девушку, – повелительно произнес незнакомец.
Но Медведь-толстосум решил не сдаваться и, набравшись храбрости, крикнул:
– А ты кто такой, чтобы мне указывать и вмешиваться не в свои дела? Иди своей дорогой и оставь меня в покое, если тебе дорога жизнь!
– Ах! Не уходите, сеньор, – взмолилась Хулия. – Защитите меня!
– Молчи, – прорычал живодер, стиснув руку девушки.
Хулия вскрикнула от боли.
Незнакомец не стал дольше ждать. Словно тигр, бросился он на живодера, вырвал у него из рук нож и швырнул негодяя на землю, прежде чем тот успел опомниться. Медведь-толстосум вскочил и, даже не оглянувшись, пустился наутек, приговаривая:
– Господи Иисусе, спаси нас! Это сам дьявол, сам дьявол!
– Пойдем, дитя мое, – сказал незнакомец, обращаясь к помертвевшей от ужаса Хулии. – Пойдем, я провожу тебя до дому.
Сама не зная почему, девушка прониклась доверием к неизвестному ей человеку и, не произнеся ни слова благодарности, смело оперлась на его руку.
Незнакомец рассмотрел при свете луны отнятый у живодера нож и с презрением отшвырнул его прочь.
Оба молча направились к селению.
– Мы пришли, спасибо, сеньор, – проговорила девушка.
– Это твой дом, дитя мое?
– Да, сеньор. Прощайте.
Хулия отошла от незнакомца, но внезапно вернулась и застенчиво спросила:
– Как вас зовут?
Незнакомец на мгновение заколебался, но потом, как бы решившись, сказал:
– Джон Морган.
– Джон Морган?
– Да, но храни это в тайне. Прощай. – И, не произнеся больше ни слова, он быстро удалился.
IV. ОХОТНИКИ
Антонио Железная Рука взбирался по крутой тропинке в гору с такой легкостью, будто шагал по устланному коврами гладкому полу; вслед за ним весело бежали борзые. По временам он останавливался и замирал в глубокой задумчивости. Но не усталость прерывала его путь, а воспоминание о Хулии. Вдруг псы тихонько зарычали и насторожились. Однако охотник был погружен в свои мысли и продолжал путь, не обращая на них внимания. Собаки снова забеспокоились, и тут наконец Железная Рука очнулся. – Эй, Тисок! Что случилось? Что с тобой, дружище? – спросил он, наклонившись к собаке. Борзые принюхивались, повернув головы на юг. – Что-то там происходит, – пробормотал охотник. – Эти твари никогда не ошибаются. – И он проверил, заряжен ли мушкет. – Почем знать, может, кто из чужих заблудился в лесу. Пойти взглянуть, все равно спать уже не придется. Антонио сжал в руке ружье, свистнул собак и ласково сказал: – Пошли, малыши, пошли! Собаки сорвались с места и бросились напрямик сквозь чащу, поминутно оглядываясь назад, словно желая убедиться, что хозяин следует за ними. Первое время они бежали, не придерживаясь точного направления и беспокойно принюхиваясь. Но вот они напали на след и помчались вперед, пригнув головы к самой земле. Теперь охотник потерял собак из виду; они скрылись среди бурелома, и только слышно было, как трещали под их лапами сухие ветки. Антонио шел следом, стараясь не отставать. Вдруг раздался неистовый лай. – Разошлись не на шутку! – воскликнул охотник и, приготовив мушкет, со всех ног помчался туда, где заливались борзые. Выбежав на небольшую прогалину, он сразу понял, в чем дело. У подножия могучего гуаякана огромный бык отражал нападение Мастлы и Тисока, которые яростно скакали вокруг, пытаясь вцепиться зубами в его бока. Прижавшись крупом к стволу, бык поворачивал из стороны в сторону тяжелую голову, увенчанную мощными острыми рогами, грозя ударом, но ни на секунду не отрываясь от дерева. Собаки увертывались от рогов и снова бросались на приступ, отчаянным лаем призывая охотника. – Что за невидаль! – удивился Железная Рука. – Бык не бежит, а стережет дерево, словно часовой, да и псы никогда так из себя не выходили. Обогнув лужайку, Антонио встал прямо против быка. «Отсюда я попаду без промаха, – подумал он. – Только бы собакиоставили его на минуту в покое». – Тисок, Мастла, сюда! – крикнул охотник. Он свистнул, и борзые, услышав знакомый сигнал, бросились к нему. Бык, избавившись от преследования, не покинул своего поста. Напротив, он поднял голову и уставился горящими глазами на юношу. Охотник с поразительным самообладанием вскинул мушкет и, медленно приподняв дуло, на мгновение застыл. Сверкнула красная молния, грянул выстрел и, раскатившись по лесу, замер в глухих зарослях. Бык ринулся вперед и рухнул у ног охотника – пуля попала ему прямо в лоб. Собаки, сорвавшись с места, набросились на быка. – Слава пресвятой деве Марии, избавившей меня от опасности, – неожиданно раздался мужской голос с вершины дерева, служившего прикрытием быку. Охотник поднял глаза и увидел, что с дерева не без труда пытается слезть какой-то человек. – Кто вы? Что с вами случилось? – спросил Железная Рука. – Кто я? Неудачник, попытавшийся заняться чужим ремеслом. Не подоспей вы вовремя, мне бы конец пришел. На человеке был охотничий костюм, а лицо его скрывалось за кожаной маской. – Однако вы охотник? – спросил Железная Рука, указывая на его одежду. – Нет, упаси меня бог. Я надел этот костюм просто из прихоти, и, клянусь всевышним, больше уж этого не случится. – А что же вы сейчас собираетесь делать? – Принести вам свою благодарность и отправиться обратно в селение, откуда мне и выходить-то не следовало. – Ладно, идите с богом. – Не хотите ли продать вашего быка? Ведь он ваш, раз вы его убили. – Хочу. Цену вы, очевидно, знаете. – В таком случае отметьте тушу, а завтра утром я за ней пришлю. Железная Рука вытащил короткий нож, отрезал у быка уши и, протянув их покупателю, сказал: – Ну вот, теперь он ваш. – Отлично. Деньги получите завтра в таверне «У черного быка». А как вас зовут? – Меня называют Железная Рука, – ответил юноша. Тут собеседник вздрогнул, словно его укусил скорпион. – Что с вами? – спросил охотник. – Ничего, ничего. Нездоровится. Должно быть, от волнения и ночной сырости. – Возможно, – согласился юноша. Он снова зарядил мушкет, с невозмутимым воинственным видом вскинул его на плечо, свистнул собак и скрылся в лесу, не произнеся более ни слова. Мнимый охотник остолбенел, сжимая в руке бычьи уши. – Вот поди же! – воскликнул он. – Сущие чудеса! Думал ли я, что меня спасет тот самый человек, у которого я чуть было не отбил девчонку. О, если бы он знал, то наверняка всадил бы пулю в мой лоб и уши отрезал не у быка, а у меня. Надо быть начеку! Итак, сегодня ночью Хулию спас сам дьявол, явившийся невесть откуда, а меня спас жених Хулии… Но что касается девчонки, рано или поздно она будет моей. – И, зажав в руке бычьи уши, живодер отправился в селение, непрерывно озираясь по сторонам, в страхе перед новой встречей с быком или охотником. День уже занимался, когда Железная Рука добрался до горного убежища бесстрашных охотников. В глухих лесных дебрях стояли сплетенные из пальмовых листьев шалаши, опорой им служили могучие стволы кедров, пальм и гуаяканов. Тут проводили охотники дни своей суровой жизни, преследуя быков и вепрей, отсюда спускались они в селения и города острова, чтобы сбыть кожи и мясо живодерам, земледельцам или морякам. Охотники были хозяевами почти всего обширного острова Эспаньола. Отважные и закаленные, они отлично знали свой край и не боялись ни дикого зверя, ни грозы, ни чумы, ни испанских солдат, стоявших в Санто-Доминго и Альта-Грасиа. Под властью испанцев находилась всего лишь треть острова, остальную территорию занимали охотники и земледельцы, не признававшие никакого закона, а при случае даже выполнявшие повеления французских королей. Железная Рука подошел к своему шалашу, который по убранству мало чем отличался от остальных: бычьи шкуры, кое-какое оружие, несколько древесных пней, заменявших стулья и стол. Против ожидания юноша застал всех охотников в сборе. Они с жаром о чем-то беседовали, поедая свое неизменное блюдо – жаренное на вертеле мясо и подобие салата из нежных побегов пальмы. Очевидно, Железная Рука пользовался среди охотников большим уважением, ибо, завидев его, все поднялись, уступая ему место. – Наконец-то ты пришел, – сказал один из охотников. – А мы уж удивлялись, почему тебя нет. – Я всю ночь пробродил по лесу, – небрежным тоном ответил мексиканец. – Недавно мы услыхали выстрел, – заметил другой охотник, – и Ричард уверял, что это стреляешь ты. Он говорил, будто всегда угадает по звуку твое ружье. – Я и сейчас это говорю, – откликнулся Ричард. – Ты прав, – сказал Антонио. – Я подстрелил бычка там внизу. Но почему вы все еще не спите? – У нас важные новости, – ответил Ричард. – Новости? Какие же? – Сегодня вечером к нам приходил Джон Морган. – Джон Морган? – воскликнул пораженный Антонио. – Он самый, – с гордостью подтвердил Ричард.Для того чтобы читатель понял магическое воздействие имени Джона Моргана на этих железных людей, следует сказать несколько слов о человеке, который будет играть немалую роль в нашем повествовании. Джон Морган родился в Англии, в Уэльсе. Его отец был почтенным и богатым земледельцем, но юноша не питал склонности к сельскому хозяйству, он мечтал о море и опасных приключениях. Нанявшись юнгой на судно, он отправился на остров Барбадос, а там владелец судна продал его в рабство. Моргану удалось добиться свободы и перебраться на Ямайку, где он присоединился к пиратам, которые к тому времени уже начали тревожить испанский флот. Легендарная отвага, беспримерная щедрость и неизменно сопутствующая ему удача вскоре сделали Джона Моргана любимым героем всех пиратов, а также населявших Антильские острова охотников и земледельцев, которые только и ждали его призыва, чтобы встать под черное пиратское знамя. Джон Морган был не просто вождем этих людей, он был их мессией. Дело в том, что земледельцы, пираты и охотники не были дикарями, живущими вне общества, не задумываясь о будущем. Нет, их всех объединял высокий политический замысел, который ждал лишь появления вождя, чтобы воплотиться в жизнь. Эти люди мечтали завладеть Антильскими островами и создать там могучую державу, независимую от власти Франции, Испании и Англии. Один за другим острова должны были подпасть под владычество пиратов, но прежде всего предполагалось захватить Эспаньолу и Тортугу. Большой и богатый остров Эспаньола и без того был почти целиком в руках земледельцев и охотников; пиратам же предстояло овладеть островом Тортугой. Франция хорошо понимала, какие преимущества давало Испании господство над Антильскими островами. Поэтому она поддерживала, хотя и втайне, замыслы пиратов и даже направила под водительством Ле Вассера судно с войсками, чтобы содействовать изгнанию испанцев с острова Тортуги. Таким образом, все недовольные ждали только вождя, чтобы открыть военные действия против испанских колонистов, против испанского торгового и военного флота. Такого вождя они нашли в Джоне Моргане. Вот почему все, даже мексиканец Железная Рука, загорались воодушевлением при одном только имени знаменитого пирата.
– Так он был здесь? – снова спросил Железная Рука. – Здесь, на том самом месте, где ты стоишь. – И что же он сказал? – Вот это и есть самое главное. Он пришел известить нас, что готовит восстание и ему нужны люди и продовольствие. – Превосходно! – в восторге воскликнул мексиканец. – Он обещал нам год, богатый событиями и приключениями, сулил знатную поживу на море и на суше. Одним словом, он готов перевернуть весь мир. – Великолепно! А вы что ответили? – Одни взялись обеспечить его продовольствием, другие решили идти вместе с ним. – А ты, Ричард? – Я? Я иду с ним! – Я тоже, – воскликнул Железная Рука. – Где мы с ним встретимся? – Завтра вечером в Сан-Хуан-де-Гоаве. Но надо хранить тайну, чтобы ничего не дошло до ушей испанского губернатора. – И что же дальше? – Если ты решил присоединиться к нам, я все тебе расскажу. – Я решил. – Отлично. Завтра, едва стемнеет, отправимся в селение. Охотники продолжали оживленно беседовать. Железная Рука вошел в свой шалаш, растянулся на бычьей шкуре, собаки улеглись рядом, и он крепко заснул.
V. СЕНЬОРА МАГДАЛЕНА
В селении Сан-Хуан-де-Гоаве всегда жило много народу, но народ это был бродячий, одни приходили, другие уходили, никто не заживался подолгу. Сан-Хуан был как бы столицей и главным штабом охотников, туда толпами стекались женщины легкого поведения, которых всегда влечет звон золота, а золото лилось тут рекой. Легко понять, что в Сан-Хуане было немало красивых девушек, но ни одна из них не могла соперничать с Хулией, которая славилась не только своей красотой, но также скромностью и целомудрием, снискавшими ей всеобщее уважение. Хулия, как все порядочные девушки, сторонилась шумного сонма погибших созданий и водила знакомство только с почтенными семействами селения. Недовольные такой замкнутостью, которая казалась им высокомерием, веселые девицы окрестили Хулию «Принцесса-недотрога». Отец Хулии, французский моряк, умер от чумы вскоре после того, как переселился на Эспаньолу вместе с дочерью и женой, сеньорой Магдаленой, как называли ее в селении. На деньги, оставшиеся ей от мужа, сеньора Магдалена купила домик в Сан-Хуане и посвятила себя воспитанию дочери и торговле кожами. В обоих этих занятиях ей сопутствовала удача. Хулия была настоящий ангел, а бедность никогда не заглядывала к ним в дом. Сеньоре Магдалене было лет сорок, но выглядела она тридцатилетней, и в селении находилось немало охотников поухаживать за ней. Но до сих пор никто из них не мог похвалиться ее благосклонностью; правда, никто и не заговаривал с цветущей вдовушкой о женитьбе. Одним из самых влиятельных жителей Сан-Хуана был, несомненно, Исаак, хозяин таверны «У черного быка». Друг христиан во всем, что могло принести ему выгоду, Исаак был центром сложных любовных интриг, хранителем всех тайн, связанных с замыслами пиратов, и, кроме того, ростовщиком. Понятно, что, обладая подобными достоинствами, он был всем известен и всем необходим. Таверна Исаака была построена так ловко, что в ней хватало места и для свидания влюбленных, и для заговора пиратов, и для трапезы охотников, причем все чувствовали себя в полной безопасности и так мало мешали друг другу, словно одни находились в Испании, а другие – на Ямайке или Тортуге. Невзирая на все вышесказанное, Исаак пользовался высоким доверием испанского губернатора, которому сумел внушить, что является его агентом и может сообщать ему о всех замыслах пиратов и охотников, к тому времени ставших пугалом для испанской короны. На следующий день после свидания Хулии с ее возлюбленным в Пальмас-Эрманас таверна «У черного быка» была почти пуста, и Исаак без помехи разливал из бочонка вино, благоразумно подбавляя в каждую бутылку малую толику воды. В дверь постучали. Поспешно спрятав воду, Исаак крикнул: – Войдите! На пороге появился Педро-живодер. – Да благословит вас Господь, – увидев его, лицемерно воскликнул старик. – Добрый день, маэсе Исаак, – сказал Медведь-толстосум, не снимая шляпы, – ты один? – Один и готов служить вам. – Отлично. Брось-ка все это, садись, побеседуем. Исаак забил втулку, придвинул живодеру табурет, а сам уселся на бочонке. – К вашим услугам, – сказал он. – Прежде всего довожу до твоего сведения, что ночная затея не удалась. – Не удалась? Почему? Девушка не пришла на свидание? – Прийти-то она пришла. Но случилась одна вещь… В общем, тебе дела нет до того, что случилось, и я не собираюсь тебе рассказывать. Просто ничего не вышло. Что теперь делать? – Что делать? Не так-то легко сказать. Особенно когда не знаешь, что же произошло ночью. – А вот этого ты не узнаешь, любопытный мошенник. – Нет, сеньор, ничуть я не любопытен. Но мне бы следовало знать, в чем дело, не то я могу дать вам неподходящий совет. – Ладно, ладно, давай свой совет, а я сам тебе скажу, подходит он мне или не подходит. – Воля ваша. Вы твердо решили сделать эту девушку своей? – Да. – И ради этого готовы пожертвовать чем угодно? – Да, лишь бы только не пришлось драться на ножах с этими проклятыми охотниками. – Понятно. Сейчас я вам предложу единственный возможный план. А вы сами скажете, не слишком ли это дорогая цена за девчонку. – Посмотрим. – Главная помеха на вашем пути к желаемой цели – этот проклятый охотник Железная Рука, которого любит Хулия, не так ли? – Именно так. – А если бы не было ни его, ни сеньоры Магдалены и вы оказались бы с Хулией один на один, все бы вышло по-вашему? – Без всякого сомнения. Ты, я вижу, не дурак. – Значит, надо найти удобный случай… – Вот, вот, удобный случай. – Тогда женитесь на сеньоре Магдалене. – Пречистая дева Мария! – подскочив на месте, воскликнул Медведь-толстосум. – Да ты с ума сошел или вздумал смеяться надо мной! – Спокойствие, сеньор. Ни то, ни другое. Сеньора Магдалена не так уж стара или безобразна, чтобы вы пренебрегли ею, не будь вы влюблены в дочку. – Пожалуй. – Вы женитесь на сеньоре Магдалене, уедете с острова, отправитесь в Мексику или Панаму с обеими женщинами, а дорогой матушка может умереть или свалиться в воду, и вы останетесь один с девчонкой, далеко от всех охотников мира, да к тому же еще получите двойную выгоду – позабавитесь и с матерью и с дочкой. Признаться, мне самому очень нравится сеньора Магдалена, может быть, потому у меня и родился этот план. Живодер задумался. Дело показалось ему достойным внимания. Наконец он поднял голову. – Ну что ж, все это не плохо, совсем не плохо. Будущая супруга мне не противна, а с этого проклятого острова так или иначе пора убираться; с этими дьяволами только и знаешь, что дрожишь за свою жизнь. Денег у меня хватит… но… как вы думаете, согласится ли сеньора Магдалена? – Вот это уж зависит от того, как вы приметесь за дело. – А как бы это сделать половчее? Начну, пожалуй, нежно поглядывать на нее, вздыхать с томным видом… – Ну, этак-то вы просто останетесь в дураках. Женщину ее возраста этим не возьмешь, если речь идет о браке. Она высмеет вас, как мальчишку. – Тогда как же? – Берите ее на абордаж, без боковых заходов, без ухаживаний! Придите к ней домой, попросите разрешения поговорить с ней наедине и прямо так и выкладывайте, что для вас обоих ничего не может быть лучше, чем пожениться и уехать с этого острова. Предложите ей руку, и я уверен, что она немедля согласится. – А если она скажет, что не любит меня?.. – Даже если она скажет, что обожает вас, не обольщайтесь. Тут не может быть других соображений, кроме выгоды. А в ее возрасте и при ее обстоятельствах брак с таким человеком, как вы, ей выгоден, уж можете мне поверить. – А если ничего не выйдет? – О, тогда и подумаем, что делать дальше. А пока смелей, и на абордаж! – Правильно, завтра же пойду. – А почему бы не сейчас? – Сейчас? – Почему же нет? Чем скорее, тем лучше. Сомнение – самая страшная из мук ада. – Правильно. Сейчас и пойду. И, решительно встав с места, живодер вышел из таверны. Сеньора Магдалена с иглой в руках сидела в саду у дверей дома. Рядом с ней Хулия тоже занималась шитьем. Должно быть, они вели беседу о каких-то серьезных и важных делах, ибо не раз то одна, то другая, глубоко задумавшись, роняла работу на колени. – Больше всего тревожит меня, – говорила сеньора Магдалена, – мысль о том, что в нежданный день Господь призовет меня к себе и ты, такая юная, останешься одна, без помощи и защиты. – Не говорите так, матушка, – возражала Хулия. – Вы полны сил и еще молоды. Не скоро придет этот страшный день. – Не думай, что смерть настигает только стариков. Могу умереть и я. Может быть, живи мы в другой стране, я так не боялась бы за тебя. Но здесь, среди этих людей… О, если бы мы могли уехать отсюда, я умерла бы спокойно, даже зная, что оставляю тебя круглой сиротой. – Не убивайтесь так, матушка… – Если бы ты, по крайней мере, вышла замуж, устроила свою жизнь… Девушка зарделась. – Но за кого можно выйти замуж на этом острове? – продолжала сеньора Магдалена. – Если и есть здесь какие-нибудь молодые французы, то они тоже охотники, а разве можно отдать девушку за кого-нибудь из этих ужасных людей? Тут Хулия так побледнела, что мать, без сомнения, заметила бы это, если бы ее внимание не отвлек неожиданно появившийся в саду человек. То был Педро-живодер. Он подошел поближе и вежливо, хотя и не без некоторого смущения, поклонился. – Простите, – обратился он к сеньоре Магдалене, – что я осмелился без приглашения прийти к вам в дом, но мне необходимо поговорить с вами о важном деле. – Говорите, сеньор, – ответила сеньора Магдалена. – Я хотел бы поговорить с вами наедине. Мать подала знак Хулии, и девушка немедля удалилась. – Можете говорить, – сказала сеньора Магдалена. – Так вот, сеньора, – начал Педро, запинаясь и ерзая на табурете, – дело в том… что… что… по правде говоря, я не знаю, с чего и начать. – Говорите же, – улыбаясь, подбодрила его сеньора Магдалена. – Так вот, сеньора, человек я честный и работящий. – Без сомнения. – Я довольно богат. – Верю. – Я не молод, но и не стар. – Это всякому видно. – И я хотел бы, то есть… мне подошло бы… вернее, мне надобно… в общем, я хочу жениться. – Очень разумное желание. – Еще бы не разумное. Но дело в том… что женщина… то есть дама, которую я избрал… которая, прямо говоря, мне подходит, это – вы… Вот я все и сказал… Сеньора Магдалена ждала, что он попросит у нее руки Хулии, и уже готова была ответить презрительным смехом, но, узнав, что речь идет о ней самой, она онемела. Медведь-толстосум вертел в руках шляпу, явно чувствуя себя не в своей тарелке. – И вы говорите это вполне серьезно? – спросила наконец сеньора Магдалена. – Да, сеньора. Я хорошо все обдумал и полагаю, что этот брак выгоден нам обоим. – Выгоден обоим? Почему же? – Судите сами, сеньора. Ни вы, ни я уже не молоды, и нам не нужны все эти детские ухаживания. Не правда ли? – Совершенно верно. – А между тем и я не могу больше жить один и вам нужен мужчина, который заботился и пекся бы о вас и вашей дочери… Что ж… в конце концов… я кое-чего стою. Есть у меня капиталец, человек я работящий, а вы, женщина хозяйственная, опытная… да и личико у вас свежее и румяное, словно у пятнадцатилетней девочки… Сеньора Магдалена залилась краской, но, несомненно, была польщена. – Говорю вам, – продолжал живодер, – нам обоим выгодно пожениться и покинуть этот остров. В самый негаданный час здесь такое начнется… Ведь один бог знает, чего можно ждать от этих людей… А нам и без того здесь не сладко… Что же вы скажете на это? – Вы сами понимаете, – проговорила сеньора Магдалена, – что на такой вопрос сразу не ответишь. Мне необходимо подумать. Откровенно говоря, я никогда не помышляла о вторичном замужестве. Кроме того, вы, испанцы, как мужья не внушаете мне большого доверия. – Ах, сеньора, вы предубеждены. Примите мое предложение, и вам не придется раскаиваться. Очень скоро вы убедитесь, что как муж я стою не меньше лучшего из французов. – Хорошо, я подумаю. Вы узнаете о моем решении… – Сегодня вечером? – Нет, не так быстро. Через три дня. – О сеньора! Это слишком долго. Изберем золотую середину между вашей осторожностью и пожирающим меня нетерпением. Завтра я узнаю ваше решение, и, смею надеяться, оно будет благоприятным. – Этого я сама еще не знаю. Но чтобы показать свою сговорчивость, я согласна, приходите завтра. – Утром? – Нет, вечером. – Будь по-вашему. До завтра. – До завтра. Живодер вышел на улицу в отличном настроении. «Признаться, вдовушка тоже недурна, – думал он. – Пожалуй, не вскружи мне голову эта девчонка, я был бы весьма доволен. Все мы, мужчины, таковы!» После его ухода сеньора Магдалена глубоко задумалась и до самого вечера не произнесла ни слова. Хулия с беспокойством наблюдала за ней и ломала себе голову, пытаясь догадаться, чем мог этот человек так взволновать ее мать. Уже стемнело, когда сеньора Магдалена позвала дочь к себе и плотно закрыла дверь. Девушка дрожала от страха: а вдруг мать узнала о ее любви к Антонио? – Дочь моя, – начала сеньора. – Мне нужно сообщить тебе важную новость. – Какую, матушка? – Ты сама понимаешь, доченька, что живем мы тут одни, без защиты, без поддержки, одним словом, без мужчины в семье… – Да, матушка. – Что со всех сторон нам грозит опасность, особенно тебе, такой молодой и красивой… Хулии показалось, что она догадывается, в чем дело. – Значит, надо нам смириться перед судьбой, надо, чтобы к нам в семью вошел мужчина как наш законный защитник и увез нас с этого острова. – Матушка! – воскликнула Хулия, уверенная, что ее хотят выдать замуж. – Дочь моя, Хулия, так надо. Я понимаю твои чувства, но это необходимо. – Но, сеньора!.. – начала Хулия и разразилась слезами. – Не мучай меня, доченька, мне и самой это нелегко. Но так лучше для нас обеих, и я твердо решила выйти замуж. – Ах! – воскликнула девушка, чувствуя, как камень свалился с ее сердца. – Что ты об этом думаешь? – Сеньора, вы сами себе госпожа. Если вы довольны своим выбором, то буду довольна и я. – Я все обдумала и вижу, что в этом единственная надежда уехать отсюда. – А кто же, сеньора, человек, заслуживший ваше доверие? – Ах, дочь моя, я ничего от тебя не скрою. Он приходил к нам сегодня днем. – Педро! – Он самый. Он человек порядочный, хотя и грубоватый… Тебе он не нравится? – Если он будет любить вас и вы будете счастливы, матушка, я полюблю его, как родного отца. – Да благословит тебя бог! Сеньора Магдалена поцеловала Хулию в лоб и, успокоенная, вышла из комнаты. В эту ночь сеньора Магдалена, вновь почувствовав себя невестой, видела счастливые сны.VI. ВЕРБОВКА
Живодер Педро Хуан де Борика так и сиял от радости, покидая дом вдовы Лафонт. Он считал дело улаженным и понимал, что срок, назначенный сеньорой Магдаленой, означал лишь соблюдение приличий. До вечера он успел сообщить о предстоящей женитьбе всем, кого только ни встретил из своих знакомых, и, полагая, что эта сделка им кажется столь же удачной, как и ему, совсем возгордился своей победой. Разумеется, на деле было не так. Все потешались над помолвкой глупого, трусливого урода с пожилой вдовой, и весь вечер в селении только и было разговору, что о будущей свадьбе Педро и сеньоры Магдалены. В этот вечер, против своего обычая, почти все охотники собрались в таверне «У черного быка». Они пили, курили и беседовали так беззаботно, словно на острове Эспаньола не осталось ни одного быка. Исаак, разумеется, был безмерно доволен, вечер сулил ему богатую поживу. Но, вероятно, он принадлежал к немногим в селении, кто не удивлялся этому неожиданному сборищу. За одним из столов, несколько в стороне от других охотников, сидели, увлеченные беседой, Антонио Железная Рука и его друг Ричард. – Я вижу, ты неверно рисуешь себе ту жизнь, какую предлагает нам Джон Морган, – говорил англичанин. – Чего ты боишься – опасности или наказания? – Ни того, ни другого, – ответил Железная Рука. – Тогда что же удерживает тебя от участия в нашем деле? Ты страдаешь морской болезнью? – Нет, нисколько. Но непреодолимые препятствия мешают мне покинуть остров. – Скажи какие? – Невозможно. – Ладно, ты разрешаешь мне угадать? – Да. – Но с условием: если я угадаю, ты не станешь отпираться. – Согласен. – Слушай же: ты не хочешь покидать остров, потому что ты влюблен. – Ричард! – Ты не отрицаешь, значит, это правда. Кроме того, влюблен ты в Хулию, прекрасную француженку, Принцессу-недотрогу. – Черт возьми! Правда. – Однако раньше ты отрицал это. Теперь я понимаю, почему ты так взволновался, когда вчера я сказал тебе о тайном сопернике. – Ты прав, но объясни мне… – К счастью, я могу тебе сообщить самые успокоительные сведения и надеюсь, они повлияют на твое решение. – Говори. – Так вот, знаешь ли ты Педро Хуана де Борику? – Как же – Педро-живодер, Хуан Медведь-толстосум, испанец. Ему бы надо родиться быком или обезьяной. – Он самый. Так вот несколько дней назад я узнал, что он повадился бродить вокруг дома твоей Хулии. – Гром и молния! – прорычал Железная Рука, вскочив, как тигр. – Спокойно, спокойно, дорогой сеньор, – невозмутимо продолжал Ричард. – Тебя бы следовало называть не Железная Рука, а Пороховое Сердце. Садись и слушай. – Но этот жалкий шут смеет посягать на мою святыню… – О, право, я пожалел бы тебя, если бы это было так. – Тогда ж чем же дело? – Выслушай меня, и ты все поймешь. Железная Рука сел, чувствуя, как бушует буря гнева в его сердце. – Когда Медведь-толстосум стал кружить, как ворон, вокруг дома Хулии, – продолжал англичанин, и Железная Рука снова чуть не вскочил с места, – то, поскольку единственной молодой, красивой, привлекательной особой там была твоя Хулия, все сразу смекнули: «Он охотится за Хулией». Я и сам так подумал. Но теперь все разъяснилось, и мы узнали поразительную новость: Педро-живодер, Хуан Медведь-толстосум, женится на почтенной сеньоре Магдалене, вдове Лафонт. – Неужто! – воскликнул озадаченный охотник. – Да, может быть, это клевета или шутка? – Все уже знают об этом, кроме тебя, хотя ты должен бы узнать первый. – Но это невозможно. Хулия рассказала бы мне. – Наверное, она сама не знала. Когда ты говорил с ней? – Вчера вечером. – А это все произошло сегодня. – Я поражен. – Кроме того, могу сообщить еще одну интересную для тебя новость. – Говори. – Свадьбу сыграют очень скоро, и счастливая парочка, захватив, разумеется, Хулию, покинет остров, чтобы пустить корни в Мексике или Гватемале. – Этого не может быть. Хулия не могла бы скрывать от меня… – Уверяю тебя, это правда. А если Хулии не будет, зачем тебе тут оставаться. Не лучше ли столковаться с Джоном Морганом? – И в самом деле, – задумчиво отвечал Железная Рука, – но я должен удостовериться… – Вот это правильно. Проверь все как следует, и если больше ничто тебя не удерживает, то какого дьявола! Отправляйся с нами. – Да, да. Пойду поищу Хулию, пусть сама мне скажет. – Ступай, поговори с ней. Но торопись, не забудь, сегодня ночью Морган назначил встречу всем, кто хочет принять участие в деле, а завтра на рассвете он уходит в море. – Бегу и скоро вернусь. А если я уже не застану тебя? – Исаак скажет тебе, где можно нас найти. – Прощай! И мексиканец, надев шляпу, вышел из таверны. – Жаль, если Железная Рука не примкнет к нам, – сказал Ричард. – Он умен и отважен. – А разве он отказывается? – спросил какой-то охотник. – Надеюсь, теперь не откажется. Были у него помехи, но все уже позади, и, думаю, он будет с нами. – Это находка! – откликнулся охотник, опорожнив стакан агуардьенте. И все принялись пить, не вспоминая больше о Железной Руке. Ночь стояла темная. Молодой охотник подошел к дому Хулии, не встретив никого на своем пути. В доме еще не спали, окна были открыты, и из них лился свет. Обойдя вокруг ограды, Антонио остановился там, где она была пониже, а на земле лежал большой камень, оказавшийся здесь, разумеется, не случайно. Юноша стал на камень и заглянул в сад. Прямо перед ним было освещенное окно. Железная Рука засвистал, подражая пению дрозда, и почти в тот же миг в окне появился темный силуэт Хулии. Заметив ее, охотник снова свистнул. Хулия отошла от окна, но тут же вернулась со свечой в руке и, дунув на огонь, погасила ее. Комната погрузилась в темноту. На условном языке влюбленных это означало: «Моя матушка еще не спит. Жди, я выйду к тебе». Охотник отошел от изгороди и уселся неподалеку от лазейки, через которую выскользнула прошлой ночью Хулия. Сидел он долго, не шелохнувшись. Он был уверен, что Хулия еще не может выйти, и терпеливо ждал. Наконец зашелестела трава, и Антонио услышал тихий голос: – Ты здесь, Антонио? – Здесь, Хулия, – ответил, подойдя к ней, охотник. – Время терять нельзя. Матушка не спит, она очень взволнована, а мне нужно столько сказать тебе. – Что случилось? – спросил Железная Рука, делая вид, что ничего не знает. – Что случилось? Плохие новости. Сегодня матушка сказала мне, что решила выйти замуж. – Замуж? Но за кого? – За отвратительного человека, за Педро Хуана де Борику. – Уж не сошла ли с ума сеньора Магдалена? – Это еще не все, Антонио; самое ужасное, что мы покидаем остров, а это убьет меня. – И Хулия залилась слезами. – Хулия, дорогая, не плачь, – утешал ее охотник. – Ты слишком добра, чтобы бог оставил тебя без помощи. – Не видеть тебя! О боже мой, боже мой! Какое горе! – Но, Хулия, как все это произошло? – Не знаю, ничего не знаю. И не знаю, как только я не разрыдалась, когда матушка мне обо всем рассказала. – О Хулия! Нас невозможно разлучить, ты никуда не уедешь! – А кто может помешать этому? – раздался чей-то голос за спиной Хулии. Хулия испуганно вскрикнула, она узнала голос сеньоры Магдалены. – Антонио, – повелительно произнесла сеньора Лафонт, – напрасно питаете вы страсть, которой я не одобряю. Вы никогда не станете мужем Хулии. – Почему, сеньора? – спросил Антонио, который взял себя в руки, услышав, что сеньора Магдалена говорит спокойно. – Потому что каждая мать желает добра своему дитяти, а я не знаю, ни кто вы, ни кто ваши родители и ваши предки. Я любила вас, как друга. Но этого мало, чтобы доверить вам будущее моей дочери. Да и та жизнь, какую вы ведете, не внушает мне спокойствия. Вы понимаете, что я хочу сказать? – Да, сеньора, – ответил охотник. – Хулия, иди в свою комнату, – строго приказала сеньора Магдалена. Хулия заколебалась, умоляюще посмотрела на мать, но, увидев непреклонное выражение ее лица, опустила голову и, рыдая, направилась к дому. – Сеньора! – грозно крикнул Железная Рука, едва сдерживая ярость. – Сеньора! – Вы угрожаете мне? Что ж, очень хорошо. Угрожайте слабой, беспомощной женщине, матери, которая на основании священных прав требует покоя для своей дочери. Грозите ей, ударьте ее – это подвиг, достойный охотника, известного под кличкой Железная Рука. – Сеньора! – снова воскликнул юноша, не зная, что и говорить. – К вам относились в нашей семье, как к сыну, а вы соблазнили мою дочь и за благородную, бескорыстную любовь хотите отплатить разорением и горем. – Сеньора, я люблю Хулию и хочу назвать ее своей женой. – А какое имя дадите вы бедной девочке, если все знают вас только под прозвищем Железная Рука? – Сеньора, я не менее знатен и богат, чем принц крови. – Назовите тогда свое родовое имя, объясните, почему скитаетесь вы здесь, разделяя дикую, бродячую жизнь охотников? – Впоследствии вы все узнаете. – В таком случае впоследствии вы и сможете мечтать о руке дочери Густава Лафонта. А пока, если вы действительно дорожите спокойствием и честью Хулии, оставьте ее. – Но ради бога… – Я все сказала, – остановила его сеньора Магдалена и удалилась, не произнеся более ни слова. Охотник долго стоял в задумчивости. Наконец, словно приняв решение, он тряхнул кудрявой головой. – Пусть так: впоследствии! – сказал он и хотел уже уйти, как перед ним снова появилась Хулия. – Антонио, – проговорила девушка, рыдая, – неужели нет надежды? – Верь, Хулия, все равно ты будешь моей. – Против воли матушки? Никогда. – Мы уговорим ее. – Когда? – Очень скоро, если ты обещаешь не забывать меня. – О, никогда, никогда! – Тогда верь мне, мы будем счастливы. – Прощай, – сказала Хулия, – поцелуй меня последний раз. – Прощай, – ответил охотник, прижавшись губами к ее лбу. – Прощай, – повторила Хулия и, поцеловав руку Антонио, бросилась бегом обратно в сад. – Ты будешь моей женой, и скоро! – крикнул охотник ей вдогонку и решительно направился в таверну «У черного быка». Когда он пришел туда, в таверне было пусто, чадный огонек едва мерцал в светильнике, свисавшем с потолка на позеленевшей медной цепочке. – Исаак, маэсе Исаак! – крикнул охотник. Дверь скрипнула, и на пороге показался Исаак. – Ах, это вы! – сказал он. – А я уже собирался запирать, думал, вы не придете. – Где они ждут меня? – Поглядите туда, – сказал еврей, выйдя с ним вместе на улицу. – Видите вон там, прямо, рощицу? – Да. – Справа от нее будет тропинка. Идите и идите по ней, пока не наткнетесь на развалины. Там и найдете то, что ищете. – Отлично, – ответил охотник и зашагал в указанном направлении. Неподалеку от дома действительно росла купа деревьев, а справа от нее вилась в траве тропинка. Луна светила достаточно ярко, чтобы не сбиться с дороги, к тому же охотник знал тут каждую пядь. Он пересек небольшой луг и снова оказался среди деревьев, но тропинка бежала вперед, не прерываясь. Пройдя еще немалое расстояние, Антонио внезапно увидел перед собой какое-то мрачное строение. – Здесь, – сказал он. – Поищем входа. Едва он собрался обойти вокруг ограды, как кто-то окликнул его по имени. Антонио узнал голос англичанина. – Как дела, Антонио? – нетерпеливо спросил Ричард. – Я – с вами. – Дай руку, ты настоящий мужчина. Теперь идем к Моргану, он ждет тебя. – Разве он меня знает? – Он много о тебе слышал. – Пошли. Они пересекли большой двор, заросший травой и кустарником, потом – заброшенные, освещенные лишь лунным светом комнаты с обвалившимися потолками, и очутились, наконец, перед открытой дверью, из которой падали дрожащие красные отсветы. – Здесь? – спросил Железная Рука. – Дальше. Они вошли в просторное помещение, озаренное огнем, пылавшим в большом очаге. Вокруг него сидели какие-то люди, жарившие на вертелах разрубленные на куски бычьи туши. Никто не оглянулся на вновь прибывших. Англичанин и Железная Рука, пройдя через всю комнату, оказались перед другой дверью, за ней слышался разноголосый шум. – Здесь, – сказал англичанин. Он толкнул дверь, мексиканец последовал за ним и увидел перед собой многолюдное и весьма необычное сборище. Комната, чуть поменьше соседней, лишенная всякой обстановки, была заполнена толпой охотников, моряков, земледельцев, живодеров. Кто сидел на камне, кто на своем плаще, а кто и просто на полу. Посередине стоял Джон Морган, опершись на один из деревянных столбов, поддерживающих кровлю. Яркий свет факелов озарял эту сцену. Крутой высокий лоб и горящие глаза сразу обличали в Моргане главаря всех собравшихся, правда, об этом можно было догадаться и по глубокому почтению, чуть не восторгу, сквозившему в каждом устремленном на него взгляде. При виде Железной Руки Морган приветствовал его изысканным поклоном, показавшим, что человек этот отличался по своему воспитанию от окружающей его толпы. Антонио Железная Рука занял место рядом с другими, Морган продолжал свою речь среди почтительного молчания. – Я задумал, – говорил грозный пират, – великий план. Ваша отвага поможет мне быстро осуществить его. Вы знаете, что Мансвельд, наш бывший адмирал, скончался. Губернатор Большой Земли Хуан Перес де Гусман одержал над нами победу у острова Санта-Каталина. Но я обещаю вам отомстить за это поражение. Нам достанутся все острова, принадлежащие сейчас испанцам. Нашими будут все города и селения на побережье. Мы станем хозяевами и владыками Антильского моря, хозяевами и владыками всех морей, омывающих берега Индий. Я обещаю вам: золота, женщин – всего будет у вас в изобилии. Но для этого нужно, чтобы вы шли за мной и помогали мне, чтобы я полагался на вас, как на свою руку и свое сердце, чтобы я мог приказывать вам, как своей руке и своей шпаге, управлять вами, как управляю своим кораблем. Согласны ли вы? – Да здравствует адмирал! – раздался общий восторженный крик. Долго не мог Морган сдержать разноголосый гам. Наконец все успокоились, и Морган продолжал: – Как вы знаете, у нас существует обычай скреплять договор своей подписью. Каждый из вас должен прихватить с собой нужное количество пороха и пуль. Прежде всего вам придется внести долю на жалованье судовому плотнику и врачу. Что касается судов, то вы их получаете даром – целая флотилия стоит у меня наготове. Тот, кто потеряет в сражении правую руку, получит в возмещение шестьсот песо или шесть рабов; если левую – пятьсот песо или пять рабов, столько же за правую ногу; за левую ногу – четыреста песо или четырех рабов; за один глаз – сто песо или одного раба. Эти суммы выплачиваются из общей добычи в первую очередь. Затем капитан получает долю, равную доле пяти человек. Остальное делится поровну между всеми. Вот мои условия. Договор готов. Подписывайте! Один из сопровождавших Моргана людей развернул большой пергамент и достал чернильницу с несколькими перьями. – Вы – первый, – обратился Морган к Антонио. Железная Рука взял перо и подписался. Пират наклонился, чтобы прочесть его подпись, но увидел лишь: «Антонио Железная Рука». Все собравшиеся подходили один за другим и скрепляли договор своей подписью. Неграмотные ставили крест, а имя писали за них товарищи. Когда обряд был закончен, Морган заговорил снова: – Теперь вы торжественно скрепили наш договор. Как выполняем мы договоры, вам известно. Через две недели у мыса Тибурон, на западном побережье острова, появится корабль, и корабль этот всех вас примет на борт. Условным знаком будет желтый вымпел на фок-мачте, пароль – «Морган, Санта-Каталина», ибо не пройдет и месяца, как остров Санта-Каталина будет наш и десяток лучших наших кораблей встанет у южных берегов острова Кубы невдалеке от портов Сантьяго, Баямо, Санта-Мария, Тринидад, Сагуа и мыса Корриентес. Там, на виду у испанцев, близ самого богатого из испанских островов, мы соберем военный совет и решим, какую крепость мы захватим первой. Все поняли меня? – Да, – раздался общий ответ. – Тогда я, Джон Морган, никогда ничего не обещавший впустую, обещаю сделать вас богатыми и могущественными. – Да здравствует адмирал! – Теперь расходитесь и помните: полная тайна! Присутствующие начали бесшумно расходиться. Этот человек обладал какой-то непостижимой властью над людьми, каждое его слово принималось как безоговорочный приказ. Железная Рука тоже направился к выходу, но Морган остановил его. Все вышли, и пират с охотником остались вдвоем. Морган сел и знаком велел сесть и охотнику. Антонио повиновался. Некоторое время оба молчали.VII. ПЛАНЫ И ПРИЗНАНИЯ
– Так вы и есть знаменитый мексиканский охотник по прозвищу Железная Рука? – спросил Морган. – Да, – ответил юноша. – Вас зовут Антонио? – Так подписал я наш договор. – Не скажете ли, почему вас прозвали Железная Рука? – Сеньор, – отвечал мексиканец. – Я покинул страну не мальчиком, а мужчиной. На моей родине мужчины привыкли к борьбе с самыми свирепыми быками. Они укрощают их при помощи копья или набрасывают им на шею лассо; они убивают их в бою, пользуясь только шпагой и плащом. Здешним охотникам неизвестно это искусство, я же владею им в совершенстве. Вот чем и заслужил я свое прозвище. – Отлично. Однако ни это прозвище, ни имя Антонио не являются настоящими вашими именами. Охотник, заметно раздосадованный словами пирата, бросил на него свирепый взгляд, но Морган продолжал невозмутимо: – Я не знаю вашего настоящего имени, да пока и не хочу знать. Вы отважны, у вас ясный ум и твердая рука, этого для меня достаточно. Вам ненавистно испанское владычество? – О да! – воскликнул Железная Рука. – Вы поняли мой замысел? – Думаю, что понял. Речь идет о том, чтобы лишить Испанию господства над здешними морями и владычества над островами. Речь идет о том, чтобы прервать морские коммуникации Испании и уничтожить ее флот. – И как вы относитесь к такому плану? – Это прекрасно. Настолько прекрасно, что, не колеблясь ни мгновения, я примкнул к вам, ничуть не думая о такой жалкой приманке, как золото. – Отлично! Отлично! – с радостью воскликнул пират. – Такие люди, как вы, мне и нужны. – Боюсь только, что у нас мало сил для осуществления столь грандиозного предприятия. – И это говорите вы? Молчите, юноша! Отважный человек никогда не должен сомневаться в своих силах. Моя воля так же сильна, как ваша рука, и верьте: не пройдет и месяца, как Антильские острова будут наши. Мы захватим испанские суда, поднимем наш флаг на их мачтах и направим их пушки на флот кастильских королей. Наши имена прогремят по Новому и Старому Свету, внушая ужас морякам всех народов, а береговые страны станут платить дань нашим воинам. Все это сбудется, слышите? Я верю: непременно сбудется! И тогда любая земля, о которой я скажу – «она моя», станет моей. Мои корабли, бороздя простор океана, проведут незримую границу, преступить которую не посмеет ни один моряк… И повсюду, где только шумят морские волны, наша власть будет равна власти королей. Охотник в волнении слушал речь Моргана. Отвага, страх, воодушевление заражают собеседника, если они и впрямь обуревают говорящего. Глаза пирата сверкали фосфорическим блеском, лицо пылало, голос звучал вдохновенно, верой дышало каждое его слово, каждое движение. Казалось, он видит воочию нарисованную его воображением картину, видит, как реют на испанских кораблях его флаги, слышит сигнал боевой тревоги, ружейную стрельбу, гром пушек, крики пиратов. Чувствует на своем лице жар огня и дыхание ветра, дующего с берегов Мексики или Большой Земли. Морган был упоен своим видением. Железная Рука разделял воодушевление и веру пирата. Глаза его сверкали, рука невольно тянулась к рукояти ножа. – Да будет так! – воскликнул он, не в силах сдержаться. – Нашими будут острова, нам будут принадлежать моря, испанский флаг не осмелится появиться в этихводах, и Мексика будет свободна, свободна, потому что мы вырвем ее из-под власти Карла V и Филиппа II. – Юноша, – сказал пират, – я вижу, вера воспламенила и ваше сердце. – Я жажду начать борьбу, жажду того часа, когда с горстью смельчаков возьму на абордаж великолепно оснащенный корабль наших поработителей… – Вы моряк? Вы хорошо владеете оружием? – Я моряк и так же хорошо владею кинжалом и абордажным топором, как мушкетом охотника. – Хотите ли вы дождаться корабля, который придет за вашими товарищами, или предпочитаете отправиться со мной? – Я хотел бы отправиться с вами, если до этого у меня хватит времени проститься с женщиной, которую я люблю. – Вы любите? – Всем сердцем! – Теперь вы нравитесь мне еще больше. Сердце, способное любить с таким жаром, – большое сердце, способное на великие страсти и героические подвиги. Если женщина эта живет недалеко, вы успеете проститься. Сейчас уже рассвело, но я отплываю только завтра на рассвете. В вашем распоряжении целый день и почти вся ночь. – Этого достаточно. Я отправляюсь с вами. – Но знайте, путь наш полон опасностей. Мы можем попасть в руки испанцев, можем пойти ко дну, ведь нам придется пересекать океан на шлюпке. – Пустое, можете рассчитывать на меня. – Тогда завтра на рассвете. – А где мы встретимся? – Вы найдете меня на мысе Тибурон. – Я буду без опоздания. Они с жаром пожали друг другу руки и вместе вышли из дома. Морган почти сразу затерялся в лесных зарослях, а Железная Рука зашагал по дороге в Сан-Хуан-де-Гоаве. День занимался. Развалины, где собирались заговорщики, обезлюдели, и о ночном сборище можно было догадываться лишь по легким струйкам дыма, которые поднимались над подернутыми пеплом, угасающими кострами. Когда охотник подошел к селению, оно уже проснулось. Во многих домах были открыты двери и горел огонь, разгоняя предрассветный сумрак. Исаак стоял, как страж, на пороге таверны. Железная Рука прошел мимо него не поздоровавшись и последовал дальше в такой глубокой задумчивости, что долгое время не замечал следовавшую за ним по пятам собаку. Наконец он остановился, собака остановилась рядом: тут он увидел ее и узнал Титана, подаренного им Хулии. На шее у пса был надет нарядный ошейник. Очевидно, ошейник этот имел какое-то значение, понятное влюбленному юноше, потому что глаза его радостно сверкнули, а лицо просветлело. Не задерживаясь ни на минуту, даже не приласкав собаку, он быстрым шагом направился к ближайшей роще. Забравшись в чащу кустарников, он внимательно огляделся по сторонам и, убедившись, что кругом никого нет, подозвал пса и снял с него ошейник. В ошейнике был потайной кармашек, сделанный из той же кожи и скрытый так искусно, что непосвященному найти его было бы невозможно. В кармашке лежала записка, Антонио осторожно вытащил ее и развернул. Там было сказано:«Антонио, мы очень несчастны. Надеешься ли ты на бога, как я? Приходи в полночь и жди меня в саду.Хулия».
Охотник сорвал нежный лиловый цветок гуаякана и положил его на место записки. Это был ответ. Он снова надел на Титана ошейник и сказал, указывая на дорогу: – Теперь домой, домой! И умный пес, опустив уши, помчался. Антонио перечел записку еще раз десять, спрятал ее в карман и, миновав деревню, направился в горы. Примерно через час охотники заметили, как он прошел, глубоко задумавшись, и уединился в своем шалаше. Любовь, патриотические чувства, честолюбие, стремление к славе, надежды на будущее бушевали в груди этого человека, который чувствовал себя способным на великие дела и видел, что союз с Морганом открывает перед ним дорогу к необыкновенным подвигам; он понимал, что мог быть счастлив с Хулией и теперь терял ее, он знал, что окончательно порывает с обществом и навеки уходит от любимой женщины. Весь день Антонио не выходил из своего шалаша и притворялся спящим всякий раз, как кто-нибудь из охотников заходил поговорить с ним. Картины прошлого и будущего, страхи и надежды сменялись в его воображении, он предавался мучительным сомнениям, как всякий человек перед решающим шагом в своей жизни. Под вечер Антонио задремал, ему приснилось, будто Хулия и Морган бросают жребий: кому достанется его сердце. Он очнулся в холодном поту и вернулся к действительности. Выиграл пират.
VIII. ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ
Педро Хуан де Борика не преминул явиться к сеньоре Магдалене за ответом, хотя заранее не сомневался в благоприятном исходе. Как все глупцы, Педро Хуан был тщеславен и, как все люди, страдающие этим недостатком, очень заботился о своей внешности и полагал, что лишнее кольцо, новая золотая цепь или богатая пряжка на шляпе – лучшее украшение для жениха и соблазнительная приманка для женщины. Подобные люди считают женщину глупой птицей, которую можно ослепить солнечным зайчиком, и придерживаются в отношении возвышенной и прекраснейшей половины рода человеческого того мнения, какого заслуживают сами. Сеньора Магдалена уже поджидала Хуана. Она не была заурядной женщиной, способной соблазниться пышным нарядом или драгоценностями живодера. Но в сорок лет заполучить богатого и глупого мужа – перед таким искушением устояли бы немногие. Предложение живодера явилось для матери Хулии, которая и не помышляла о вторичном замужестве, как бы чудом, нечаянным даром судьбы. Потому-то она с нетерпением и не без легкой тревоги поджидала испанца, опасаясь, не раздумал ли он. Все это было вполне естественно, и никто не мог бы осудить благоразумную вдову Лафонт. При виде появившегося в саду живодера сеньора Магдалена, невзирая на свои сорок весен, зарделась как маков цвет и приняла томный вид, хотя сердце ее бешено колотилось. Женщина всегда трепещет перед тем, как ответить «да», но безмятежно произносит «нет». Наблюдение, говорящее не в пользу прекрасного пола. – Сеньора, – низко поклонившись, начал Хуан, – я пришел услышать свой приговор. – И про себя подумал: «А бабенка недурна, как только я раньше этого не приметил?» – Кабальеро, – пролепетала сеньора Магдалена, потупив очи и еще больше заливаясь краской, – я почти и не думала об этом… – Не думали, сеньора? Неужели вы так пренебрегаете мною? – Пренебрегаю? О нет, скорее наоборот. – Так, значит, вы согласны стать моей супругой! – воскликнул живодер, взяв в свои руки все еще нежную ручку сеньоры Магдалены. – Не знаю, что и сказать, – отвечала она, не отнимая, впрочем, руки. «Смелее!» – подумал Хуан и, поднеся ее руку к губам, воскликнул: – Сеньора, не заставляйте меня больше страдать! Будете ли вы моей женой? – Да, – трепеща, ответила сеньора Магдалена и почувствовала на своей руке страстные поцелуи Медведя-толстосума. В этот момент Хуан воображал, будто и впрямь любит свою невесту, она же и вовсе этому поверила: в ее груди даже шевельнулось какое-то чувство к этому человеку. Любовь подобна горному склону, – стоит лишь ступить на него, а дальше уже спускаешься без труда: достаточно поверить, что любишь, чтобы, действительно полюбить. – Магдалена, – сказал живодер, почувствовав себя свободно, – когда вы хотите назначить нашу свадьбу? – Когда вам будет угодно, – робея, ответила сеньора Лафонт. – В таком случае, чем раньше, тем лучше, – я хочу как можно скорее уехать с этого острова. Вы согласны, красотка моя? Много лет уже не слыхала сеньора Магдалена, чтобы ее называли «моя красотка», и эти слова живительной влагой оросили ее сердце. – Да, да, чем раньше, тем лучше, – заговорила она, воодушевляясь. – Уедем отсюда и, если вы согласны, прежде всего покинем это селение. – Разумеется; к счастью, я могу превратить в деньги все мое имущество в течение одного дня, я говорю о еще не проданных товарах. А ваш дом купят, лишь только узнают, что он продается. Мы тут же отправимся в Санто-Доминго и там, в городе, сможем без помехи обдумать, где бы нам обосноваться и зажить спокойно и счастливо. – Это вы очень хорошо придумали, очень хорошо. Так, мечтая об ожидавшей их безоблачной жизни, строя планы и перемежая их любовными объяснениями, – которые сеньора Магдалена выслушивала с удовольствием, а Хуан Педро произносил почти от чистого сердца, – они проговорили больше часа. Наконец живодер распрощался и пошел готовиться к свадьбе и к отъезду. – Пожалуй, я останусь не в накладе, – раздумывал он, шагая к дому, – если даже придется всегда жить с матерью; эта вдовушка весьма аппетитна и к тому же любезна, а ручки у нее… Вот она, порода, порода… люблю француженок!.. Хулия не слыхала, о чем говорили сеньора Магдалена с Хуаном; но она все поняла, когда увидела, с каким самодовольным видом вышел из дома живодер, и заметила счастливую улыбку на пылающем лице матери. Неожиданное сватовство произвело такое впечатление на сеньору Магдалену, что она почти перестала упрекать Хулию за ее любовь к Антонио. Увлеченная мыслями о собственном счастье, мать совсем позабыла о дочери. Сначала Хулия опасалась семейной грозы. Но проходил час за часом, а сеньора Магдалена по-прежнему улыбалась и ласкала ее. Девушка приободрилась и, осмелев, назначила Антонио свидание. Настал вечер, Хулия нетерпеливо считала минуты, ей казалось, что сеньора Магдалена слишком медлит с отходом ко сну. Однако ей удалось скрыть свое волнение. Наконец в доме все затихло. Убедившись, что мать крепко спит, Хулия села у окна, выходившего в сад, и стала ждать. Ночной ветерок нежно и печально шелестел листвой деревьев, луна озаряла небосвод слабым зеленоватым светом. Глубокое молчание лесов нарушалось лишь пением ночных птиц да мычанием коров. Хулия ждала долго. Она вспоминала прошлое, вопрошала судьбу о будущем, с тоской думала о настоящем. Мысли девушки были далеко, когда легкий шум в саду вернул ее на землю. При свете луны она узнала молодого охотника. – Подожди меня, – шепнула Хулия. Железная Рука спрятался в тени густого дерева, и вскоре Хулия была рядом с ним. – Моя мать спит крепко, – сказала она, – но все же, я думаю, нам спокойнее будет в лесу. И, не дожидаясь ответа, она направилась к потайной лазейке, скрытой вьюнками и кустарником. Железная Рука молча последовал за ней. Они вышли на дорогу и углубились в небольшой лесок. – Антонио, – сказала Хулия, внезапно остановившись, – не правда ли, мы очень несчастны? – Да, моя Хулия, это правда. – Что же ты думаешь делать? – Хулия, если бы я не любил тебя такой чистой любовью, если бы страсть моя не равнялась моему уважению, я сказал бы: «Хулия, иди со мной, бежим, и ты будешь принадлежать мне в глухом лесу, будешь жить в моей хижине, станешь женой охотника, и дни наши пронесутся в счастье и радости, как проносится легкий ветер над цветами». Но нет, любовь моя, я слишком сильно люблю тебя. Я понимаю, что хотя мы будем счастливы, но я оторву тебя от общества, от света, куда мы рано или поздно должны вернуться. Я хотел бы привести тебя в мой дом и с гордостью назвать своей супругой. Я понимаю, что если ты убежишь со мной, оставишь свою мать, то после первых счастливых дней настанет для тебя пора раскаяния, печали, отвращения, и ты разлюбишь меня. – Не говори так, Антонио! – Нет, ангел мой, я говорю так, потому что это правда. Я – дворянин, я принадлежу к знатному роду. Не смотри на то, что я живу в горах вместе с охотниками. Не думай, что я искатель приключений без имени, без семьи, без состояния. Нет, Хулия. В эту ночь перед долгой разлукой я хочу открыться тебе. Кто я – ты в свое время узнаешь. Теперь же, радость моей жизни, тебе достаточно знать, что я человек, достойный твоей любви. – Кем бы ты ни был, Антонио, дворянином или простолюдином, богачом или нищим, маркизом или охотником, я люблю тебя и буду любить вечно, тебя самого, только тебя. Я буду хранить твою тайну, не пытаясь проникнуть в нее, я подчинюсь любому твоему решению, потому что я обожаю тебя, потому что нет у меня другой воли, чем твоя, других желаний, чем твои, других надежд, чем твои. Говори, приказывай, Антонио! Я твоя, и тебе принадлежит моя жизнь, моя честь, мое будущее. – О, ангельская душа! – сказал охотник, сжимая Хулию в объятиях, – твоя невинность и твоя любовь – вот защита твоей добродетели. Выслушай меня: утром мы должны расстаться. Поклянись, что останешься верна мне, и я ручаюсь за наше будущее и обещаю тебе, что мы будем счастливы. – Клянусь! – пылко воскликнула девушка. – Что бы ни случилось с тобой или со мной? – Да! – Даже если ты услышишь обо мне самое дурное, что только может быть на свете, если тебе скажут, что я изменил твоей любви, что я умер? – Да, да! – рыдая, повторяла Хулия. – Хулия, не забывай этой клятвы, принесенной здесь, в лесу, перед лицом бога. – Никогда! – с еще большим жаром воскликнула Хулия. Их души слились в долгом поцелуе. – Прощай, Антонио, – произнесла, выскользнув из его объятий Хулия. – Прощай. Скоро я увижу тебя? – Нет, Хулия. На рассвете я уезжаю. – Ты уезжаешь? – в ужасе воскликнула девушка. – Но куда? Куда? – Сам не знаю. Я иду, следуя велению судьбы, иду, чтобы завоевать свободу и отомстить за мою родину. – Объясни, что это значит, объясни, ради бога! Твои слова пугают меня, в них кроется тайна. Куда ты идешь? Что собираешься делать? – Хулия, утром я покидаю селение вместе с Морганом. Теперь я заодно с ним. – Боже правый! Ты – с Морганом, Антонио! Ты, такой благородный, такой добрый, уедешь с этим пиратом, одно имя которого внушает ужас! Ты тоже стал пиратом? О боже мой, боже мой! Что будет со мной? Что будет с нами? – Успокойся, ангел мой, успокойся! – Успокоиться, Антонио? Неужели ты думаешь, я не понимаю, какие опасности грозят тебе? Не знаю, что тебя ждут ужасные кровопролитные сражения? Разве мне неизвестно, что все пираты приговорены к казни, к позорной казни на виселице? И ты хочешь, чтобы я была спокойна, зная, что тучи собрались над твоей головой? Это невозможно, невозможно… Ломая руки, Хулия рыдала как безумная. – Хулия! Хулия! – уговаривал ее охотник, потрясенный этим взрывом отчаяния. – Ради бога, во имя нашей любви, умоляю тебя, успокойся, выслушай меня! – Как можешь ты говорить, чтобы я успокоилась? Ты рискуешь своей жизнью, забыв, что жизнь эта принадлежит мне, что одна мысль о грозящей тебе опасности может убить меня!.. – Хулия, дорогая, все дело в том, что ты веришь людским толкам об этих ужасных опасностях. Нет, любовь моя, все это преувеличения и выдумки. Послушай, помнишь, как расписывали тебе жизнь охотников? Как ты дрожала за меня поминутно? И что же? Разве со мной что-нибудь случилось? Разве я не здесь, с тобой, живой и невредимый? О Хулия! Не верь этим россказням, они только лишат тебя покоя. – Антонио, ты обманываешь меня. Ты говоришь все это, чтобы меня утешить, но сам не веришь своим словам. Жизнь охотников опасна, но разве можно сравнить ее с жизнью пиратов? Я это знаю, Антонио, знаю. И если я дрожала за тебя, когда ты охотился в лесах, то что буду испытывать я теперь, когда ты будешь вместе с пиратами, с этим Морганом, этим бесчестным негодяем? Я ненавижу его! Он пришел погубить меня, отнять у меня покой, счастье, жизнь! – Не думай так, Хулия, ты разрываешь мне сердце. Я люблю тебя больше жизни, я ничего не делаю, ничего не говорю без мысли о тебе. Ты моя душа, моя жизнь, мое вдохновение. Ради тебя я стремлюсь к славе и почестям, ради тебя хочу жить, ради тебя презираю опасность. А без тебя – путеводной звезды моей жизни – что может привлекать меня на земле или на небе? Кто я без твоей любви? Сухое дерево, иссякший источник, угасший костер. Печальный, жалкий призрак, который влачится по земле без веры, без надежды, без будущего. И, зная, что я так тебя люблю, что думаю только о тебе и о твоей любви, ты, Хулия моя, можешь поверить, будто я хочу погубить свою жизнь, расстаться с тобой навеки и ранить твое сердце? С каждым словом Железной Руки лицо Хулии оживлялось, глаза ее снова заблестели радостью, ночной ветерок осушил слезинки, сверкавшие в шелковых ресницах, а на ее свежих алых губах расцвела счастливая улыбка. – Антонио, любовь моя! – воскликнула она, не в силах сдержать свои чувства. – Как я счастлива, что ты так любишь меня! Как я счастлива! Боже мой! Боже мой, ниспошли мне все беды мира, только не отнимай у меня эту любовь! Антонио, я больше не плачу, ты любишь меня, наше счастье в твоих руках! Прощай, прощай! Делай, что хочешь, только люби меня и будь счастлив! – Прощай! – воскликнул охотник. И девушка, выскользнув из его объятий, легче газели побежала к дому и скрылась в саду.IX. ПЕРВОЕ ДЕЛО
Прошел лишь месяц после прощания Хулии с возлюбленным, но за этот месяц многое переменилось. Живодер Педро Хуан де Борика женился на сеньоре Магдалене и, покинув вместе с супругой селение Сан-Хуан-де-Гоаве, поселился в городе Санто-Доминго, надеясь при первом удобном случае отплыть в Новую Испанию. Хулию сеньора Магдалена, разумеется, взяла с собой. После того как Педро-живодер сбыл свой товар, он оказался очень богат, дом Хулии был продан по выгодной цене, и все говорили, что живодер вывез изрядный капитал. Теперь он собирался заняться в Мексике крупной торговлей. В то же время из округи исчезли многие охотники, никто не сомневался, что они примкнули к пиратам. Это известие, облетевшее весь остров, встревожило испанские власти в Антильских владениях, и они немедленно отправили донесения в столицу Испании, сообщая, что грозный пират Джон Морган замышляет какие-то серьезные действия против испанской короны. Однажды в водах, омывающих южное побережье Кубы, на самом горизонте, появился едва заметный парус. Постепенно ускоряя свой бег, он стал приближаться к острову. Вдруг за ним показался второй, затем третий, четвертый парус, пока не набралось их целых двенадцать, и все они, подобно стае белых цапель, летящих над морской гладью, стремительно понеслись к берегу. Вечерело. Море было спокойно, волны, едва колебля поверхность огромной чаши с жидким серебром, тяжело и лениво набегали на прибрежные скалы. Попутный ветер надувал паруса, и корабли могли беспрепятственно пристать к берегу и высадить своих людей. Однако случилось иначе. Когда суда были уже совсем близко, резкий крик лоцмана, замерявшего глубину, возвестил, что можно отдать якоря, и передовой корабль, словно конь, почувствовавший узду, вздрогнул и замедлил ход. Раздался скрежет цепей, послышалась дудка боцмана, потом удар якоря о воду, и корабль закачался на волнах. Остальные суда повторили тот же маневр, и вскоре вся флотилия встала на якоре в виду острова. На шканцах первого корабля можно было увидеть человека, который с равнодушным, даже пренебрежительным видом наблюдал за всеми передвижениями. Едва суда встали на якорь, человек этот отдал приказ, и в тот же миг на грот-мачте взвились флаг и вымпел. Остальные суда немедля спустили на воду шлюпки, бросили трапы, по ним сошли капитаны, и шлюпки понеслись на веслах к флагманскому кораблю. Все они подошли почти одновременно; капитаны поднялись на борт, а шлюпки, окружив корабль, остались их ждать. Человек, подавший сигнал, был Джон Морган, адмирал пиратской флотилии. Он призвал к себе капитанов, чтобы держать с ними первый военный совет, как было обещано при встрече на Эспаньоле. Пираты, собравшиеся в южных водах острова Кубы, располагали внушительными силами. Теперь им предстояло решить судьбу испанской торговли и испанского флота, а также назначить время и место первого морского сражения. Морган сдержал свое слово. День стоял ясный. Свежий бриз играл флагом и вымпелом на мачте адмиральского корабля. На палубе пираты держали совет, подобно генералам армии, собравшимся в лагере перед битвой. – Испанская эскадра, – начал Морган, – должна прибыть на днях к острову Эспаньола. Ее назначение – охрана груженых золотом судов и барж, которые отправляет за океан вице-король Новой Испании. Кроме того, эскадре поручено сопровождать корабли с богатым грузом, следующие из Маракайбо в Веракрус. Вместе с флотом прибудут также несколько судов из Испании и адмирал флота дон Алонсо-дель-Кампо-и-Эспиноса. Итак, настало время действовать, и я хочу посвятить вас в свои планы. Пираты удвоили внимание. – Мы встанем в виду испанской эскадры и постараемся использовать любой удобный случай, чтобы завладеть каким-нибудь кораблем, но только не вступая в бой. Если судьба нам поможет – отлично! Если же нет, то, выждав, пока испанцы направятся к берегам Юкатана или в Веракрус, мы нападем на Панаму или на Картахену, а там посмотрим. Согласны? – Да, – ответили пираты. – Однако этот план потребует изменения существующего у нас порядка. Наша флотилия будет разделена на две части: одна двинется впереди испанских кораблей, отвлекая их внимание. Вторая – командование над ней приму я сам – пойдет на захват острова Санта-Каталина. Там будет наш главный оплот, оттуда мы сможем вести наступление на города и порты Большой Земли. Капитаны молча выразили согласие. – Бродели! – позвал Морган. Поднялся один из капитанов, человек необыкновенно высокого роста. – Я назначаю тебя, – сказал Морган, – вице-адмиралом и начальником второй флотилии. Отбери себе нужные корабли, действуй так, как было сказано, и по выполнении возвращайся на остров Санта-Каталина – к тому времени он будет наш. Сегодня вечером я вручу тебе письменный приказ. И если ветер будет благоприятный, еще до рассвета вся флотилия должна поднять якоря. Понятно? Все молча наклонили головы. – Можете идти. Пираты встали и, разойдясь по шлюпкам, направились к своим кораблям. Тут были англичане, французы, итальянцы, но все они беспрекословно подчинялись приказам выбранного ими адмирала: среди этих людей царили дисциплина и послушание, которым мог бы позавидовать королевский флот Испании. На корабле Моргана, словно дожидаясь дальнейших приказаний, остался только итальянец, который отозвался на имя Бродели и так просто был назначен вице-адмиралом. – Слушай меня внимательно, – обратился к нему Морган, – твоя задача заключается не только в том, чтобы отвлечь внимание противника, ты должен, кроме того, разведать количество и подготовку его людей, его вооружение, запасы продовольствия, и если удастся, то его намерения, а также характер и личные качества адмирала. – Слушаюсь, – отвечал Бродели. – И вот как следует для этого действовать: испанская эскадра остановится у берегов Эспаньолы; один из наших, самый отважный, самый сообразительный и надежный, должен высадиться на острове и добраться до порта, в котором будет стоять эскадра. Там он разведает все, что сможет. Потом ему следует попасть на службу к испанскому адмиралу, пусть служит усердно и постарается войти к нему в доверие, а затем, когда он раздобудет нужные сведения, пусть приложит все силы, чтобы снова соединиться с тобой или со мной, это уж безразлично. – Но разве это возможно? – Он должен попытаться. Если погибнет – такова уж его судьба. Если все выполнит – таков его долг. – А кто же этот человек? Мне кажется, в нашей флотилии нет ни одного, способного на такое дело. – Просто ты еще не знаешь людей; сейчас я приведу его. Оставив итальянца одного, Морган спустился в трюм и вскоре вернулся в сопровождении Железной Руки. – Вот он, – сказал адмирал. Бродели окинул испытующим взором необычное лицо мексиканца, который стоял перед ним, рассеянно глядя на волны, лизавшие борт корабля. – Он что-нибудь смыслит в морском деле? – Стоит лучшего лоцмана. – Знает ли он, что ему нужно делать? – Да. Кроме того, ты сам ему это скажешь. – Отлично. Он пойдет со мной? – Немедля. – Как его зовут? – Антонио. – И все? – На море – все. – Ну что ж. А письменный приказ? – Держи, – сказал Морган, протягивая итальянцу толстый свиток пергамента. – Здесь все сказано. – Мне можно идти? – Иди, и до свидания на берегах Санта-Каталины. – Следуйте за мной, – сказал Бродели, обращаясь к Антонио. Юноша молча пошел за итальянцем. Ступив на трап, он почувствовал, что кто-то взял его за плечо. Антонио обернулся – Морган протягивал ему руку для прощального пожатия. Антонио крепко стиснул руку адмиралу и сел в шлюпку. Вскоре они взошли на корабль, которым командовал Бродели. Ночь набросила черное покрывало на морские просторы. В темноте раздавались слова команды, свистки, скрип снастей. Когда снова блеснула заря, все корабли исчезли бесследно, лишь на горизонте едва можно было различить удалявшиеся паруса. Началось время жестоких сражений, которые дорого обошлись испанской монархии.X. «САНТА-МАРИЯ ДЕ ЛА ВИКТОРИЯ»
Морган сказал правду: вскоре обитатели острова Эспаньола увидели у своих берегов мощную эскадру, которая шла под кастильским флагом, конвоируя торговые суда, направлявшиеся в Новую Испанию. Эскадра собиралась бросить якорь ненадолго. Шел слух, будто адмирал получил приказ зайти в эти воды с тем, чтобы начать преследование и уничтожение пиратов, открывших враждебные действия против испанского флота. Многие офицеры сошли на берег, и остров сразу ожил, взбудораженный вестью о приходе судов. На второй день после прибытия эскадры несколько моряков с корабля «Санта-Мария де Грасия», оживленно беседуя, прогуливались по набережной. К ним подошел молодой еще человек, судя по одежде принадлежавший к бедному сословию. – Простите, ваша милость, – обратился он к старшему по чину. – Я не знаю, как принято говорить о таких делах среди сеньоров, но видите ли, я хотел бы отправиться на каком-нибудь из этих кораблей. – Отправиться? Куда же? – спросил офицер, решив посмеяться над простаком. – Куда угодно. В общем, я хочу наняться, завербоваться. – Что ж! Это нетрудно, если ты хоть что-нибудь смыслишь в морском деле. – В этом, ваша милость, не сомневайтесь. – И ты знаешь название всех снастей и умеешь выполнять все маневры? – Да, сеньор, все, что угодно вашей милости; класть найтовы, подхватывать тросом грузы, брать рифы, крепить паруса. – Отлично, а умеешь ли ты грести? – Багром я орудую – лучше не надо, а шлюпку умею направлять и рулем, и кормовым веслом. – А еще что ты умеешь? – Знаю компасные румбы и могу управляться с компасом, как полагается рулевому. Моряк начал присматриваться к собеседнику с интересом. – Ты был моряком? – спросил он. – Нет, сеньор. – Откуда же ты все знаешь? – Мой отец, испанец, был богатым человеком, у него было несколько кораблей. Много лет мы жили в порту, вот почему я и знаю морское дело. – А теперь? – спросил моряк, попав на удочку и помогая незнакомцу рассказывать выдуманную им историю. – Теперь моего отца уже нет, он разорился и умер в нищете, а я остался один и хочу сам зарабатывать себе на хлеб. – И что же ты хочешь, стать матросом или солдатом на корабле? – Да кем придется. Помогите мне получить какое-нибудь место, и я буду по гроб жизни вам благодарен. – А умеешь ли ты обращаться с пушкой? – Когда-то я присматривался к этому делу. Думаю, мне нетрудно будет вспомнить. – Отлично. Завтра утром жди на этом же месте. За тобой придут. – Слушаю, сеньор. Человек отступил с дороги и низко поклонился, а моряк, пройдя мимо, весело сказал своим товарищам: – Я знаю береговых жителей, этот парень для нас сущая находка… На следующее утро к борту корабля «Санта-Мария де ла Виктория» пристала шлюпка; первым вышел из нее и поднялся по веревочному трапу человек, который беседовал накануне с офицером. Читатели, без сомнения, догадались, что новый доброволец испанского флота был не кто иной, как охотник Антонио Железная Рука. Адмирал дал приказ поднять якоря на следующий день, и вот на берегу и на борту, особенно на торговых судах, закипела работа. Жители острова Эспаньола были встревожены недавним появлением пиратов, и многие из них только и ждали надежной охраны, чтобы отправиться в другие края. Теперь им представился удобный случай, и немало семейств собиралось переселиться на Большую Землю или в Мексику. В порту царило необычное оживление. Лодки и каноэ бороздили воды залива по всем направлениям. Набережная была заполнена толпами зрителей, а на палубах торговых судов путешественники, быть может, навсегда покидавшие этот край, печально всматривались в знакомые берега. Военные корабли, казалось, не удостаивали вниманием это трогательное зрелище, на палубах не видно было ни одного матроса. Только часовые стояли на посту, неподвижные, как корабельные мачты, равнодушные ко всему, что происходило вокруг. Волны то мягко, то с неожиданной силой бились о борта кораблей, соскальзывали с них потоками серебра и брильянтов и снова продолжали свой вечный бег к берегу. Один за другим корабли распускали белые паруса, и вскоре эскадра, до тех пор напоминавшая дубовую рощу с облетевшей листвой, стала подобна большому городу с высокими стройными зданиями. Грянул пушечный залп, и, разрезая водную гладь, суда двинулись вперед, оставляя за собой кипящий пенистый след, который долго еще отмечал путь уходящих кораблей. Свежий попутный ветер надувал паруса, корабли скользили по волнам, грациозно склонившись набок. Такое отплытие считается у моряков хорошим предзнаменованием. День прошел в однообразии морской жизни. Волны и небеса оставались неизменны, одни – в вечном движении, другие – в вечном покое. Земля постепенно исчезала в тумане, затянувшем горизонт, подобно пороховому дыму; солнце клонилось к западу. Вечерние тени тронули серым налетом сначала волны, потом небесную твердь. Но вот свет померк, и только фосфорические вспышки время от времени нарушали печальное однообразие моря, прорывая черный креп, окутавший весь мир. Флагманский корабль зажег три фонаря на корме и один на марсе, и немедля все остальные суда зажгли по одному фонарю на корме. – Что это за сигнал? – спросил Антонио у матроса, с которым постарался подружиться. – На нашей эскадре такой сигнал означает – опасности нет. – А какая же может быть опасность? – Тысяча чертей! Откуда ты свалился? Разве ты не слышал об этих дьяволах пиратах? Да их здесь полно. – Я жил на берегу, а там их не боятся. – Не боятся? Проклятье! Значит, ты полагаешь, будто я их боюсь? – Нет, нет, клянусь тебе… – Да пусть приходят хоть все, вместе со своим Морганом! У нашей «Санта-Марии де ла Виктории» столько медных глоток, и она даст этим разбойникам столько советов, что их посудина сразу станет похожа на мою дырявую рубаху. – Да уж наверное… – А потом, наш капитан дон Андрес Савалоситен – настоящий зверь! Взять его на абордаж – все равно что меня заставить служить мессу. – Храбрец? – Гром битвы – для него музыка. Хотел бы я, чтобы началось дело – ты бы получил удовольствие, клянусь душой своего отца! – И долго мы будем плавать в этих водах? – Чего не знаю, того не знаю. Поговаривают, что до тех пор, пока не покончим с пиратами и не доставим его величеству головы всех этих псов, будь они неладны! В это время вдали сверкнула молния, как бы возникшая в глубинах океана, и следом за ней прокатилось гулкое громыхание. – Выстрел! – воскликнул Железная Рука. – Сигнал, – спокойно ответил матрос. Капитан мгновенно появился на палубе, а все матросы и солдаты стали напряженно прислушиваться. Прошло несколько секунд, затем один за другим прозвучали три пушечных выстрела, и снова все смолкло. – А это что значит? – шепотом спросил Антонио. – Замечены подозрительные корабли. – А кто дал этот сигнал? – Одно из разведывательных судов, посланных вперед. Капитан стоял не шелохнувшись. На марсе флагманского корабля погас фонарь, и немедля все остальные суда погасили фонари на корме. – Возможно, ничего и не будет, – сказал матрос, – а это очень жаль, ведь опасность грозит только торговым судам. Первая же пуля пробьет их скорлупу. Снова раздался выстрел, затем второй, а после минутного перерыва – пять выстрелов подряд. – Вражеская эскадра, но она бежит от нас, – сказал матрос. Теперь Антонио все понял: вторая флотилия Моргана под командованием вице-адмирала начала маневрировать согласно полученному наказу. Объявленная тревога должна была или затянуться, или привести к сражению. Сигналы следовали один за другим, и матрос объяснял Железной Руке их значение. – Противник идет на фордевинд. – Разведчики просят разрешения продолжать преследование. – Флагманский корабль дал согласие. Так прошло около часа. Но вот прозвучал сигнал, после которого матрос в удивлении поднял голову. То был один выстрел, потом три, потом еще три. – Что случилось? – спросил Антонио. – Противник лег на другой галс. – Ты думаешь, он хочет сражаться? – А зачем же тогда менять галс? Разве что они хотят сдаться… – Еще сигнал? – Да… идет в крутой бейдевинд. С флагманского корабля дали два выстрела, потом один, а за ним еще два. – Наконец-то! – выпрямившись во весь рост, сказал матрос. – Что это? – Принять боевой порядок. – Без боевой тревоги? – Этот сигнал дается раньше. Все пришло в движение на кораблях, и тут же прозвучал сигнал боевой тревоги. Словно ретивые кони, направляемые твердой рукой всадника, двинулись корабли занимать назначенное им место и вскоре, несмотря на ночную темноту, можно было понять, что боевой порядок образован, а торговые суда помещены в арьергарде. Теперь началась подготовка к сражению.XI. «ЗНАМЕНИТЫЙ КАНТАБРИЕЦ»
Среди торговых судов, следующих под охраной испанского королевского флота, был корабль, который держался на воде скорее благодаря каким-то чарам или воле своего капитана, нежели благодаря своей оснастке и прочности кузова. Эта старая, разбитая посудина, носившая пышное название «Знаменитый кантабриец», ныряла в волнах, подобно чайке с подбитым крылом, и, даже подняв все свои паруса, с трудом поспевала за мощными судами королевской эскадры. Капитана, который вел это чудо мореплавания, звали дон Симеон Торрентес. Старый морской волк, мрачный брюзга изрыгал проклятия, от которых дрожали корабельные мачты, а с экипажем обращался не более почтительно, чем торговец мулами из Новой Испании со своим товаром. Матросы подобрались под стать капитану; шатаясь по морям на своей посудине, они обросли бородами и поседели, и можно было сказать без ошибки, что даже юнги на «Знаменитом кантабрийце» были стариками. На этот-то корабль попали пассажирами трое наших знакомых, направлявшиеся в Веракрус: сеньора Магдалена, ее дочь Хулия Лафонт и Педро Хуан де Борика, бывший живодер из селения Сан-Хуан-де-Гоаве. Больше никто не решился доверить свою жизнь ненадежной палубе «Знаменитого кантабрийца», и, возможно, поэтому, а быть может, по другим нам неизвестным причинам дон Симеон Торрентес был раздражен сверх меры. Педро Хуан, Медведь-толстосум, и его новое семейство были приняты на борту корабля весьма сухо. – Ну и злющее же лицо у этого человека, – шепнул Педро сеньоре Магдалене. – Как у всех испанцев, – равнодушно ответила она. – Магдалена! Магдалена! – укоризненно воскликнул Педро. – Так-то ты выполняешь свое слово. Ведь в день нашей свадьбы ты пообещала не говорить плохо об испанцах. – Верно, верно, прости меня. Но иной раз я говорю это, даже не думая. Тут Хуан почувствовал первые признаки морской болезни и решил подняться на палубу, в надежде что свежий морской ветер подкрепит его силы. «Знаменитый кантабриец» шел на всех парусах, тяжело зарываясь в волны и продвигаясь с быстротой погребального шествия. Капитан стоял на палубе, покуривая трубку, когда неожиданно над одним из люков появилась голова живодера. Капитан, увидев его, процедил сквозь зубы какое-то проклятие и с досадой отвел глаза. Было ясно, что Хуан пришелся не по душе дону Симеону Торрентесу. Медведь-толстосум поднялся по трапу и, устроившись на палубе, устремил печальный взор в морскую даль. Дон Симеон продолжал спокойно курить, выпуская густые клубы дыма и время от времени бросая свирепые взгляды на Хуана, который даже не видел его. Теперь «Знаменитый кантабриец», казалось, двигался еще медленнее. Дым из трубки капитана, не рассеиваясь, тучей навис над его головой, едва заметно поднимаясь легкими спиралями в небо. Ветер стих, и паруса заполоскали. – Тысяча молний в пороховой погреб! – прорычал старый капитан. – Этот ветер подводит нас… Он стал всматриваться в горизонт. – И без всякой причины, без всякой причины, – продолжал он. – Да поглотят меня хляби морские, если где-нибудь есть хоть одна неблагоприятная примета. А между тем «Знаменитый кантабриец» идет так тяжело, будто под нами не вода, а мед. Клянусь дьяволом, виновата скверная рожа этого пассажира. У него дурной глаз. Свидетель бог, если он не спустится в трюм, я его отправлю на ужин акулам. Хуан, искавший на палубе свежего ветерка, нашел только солнце и совершенно неподвижный, воздух. Не почувствовав никакого облегчения, он снова направился к люку и скрылся. Случайно в тот самый миг, когда капитан потерял его из виду, порыв свежего ветра подернул рябью водную гладь, наполнил паруса «Знаменитого кантабрийца» и запел в старых снастях. Однако дон Симеон Торрентес разразился не радостным, а гневным криком: – Все бури ада! Теперь ясно: на беду свою я взял этого проклятого пассажира, похожего скорее на медведя, чем на христианина! Он-то и пугает ветер, теперь мне все ясно! Он еще принесет нам несчастье… Но если море разбушуется, клянусь прахом моих предков, я швырну его в воду, и пусть там спознается с акулами. Ветер дул до самого вечера, но снова внезапно стих, едва на палубе показался Хуан вместе с Магдаленой. В этот момент капитана поблизости не было, однако он не мог не заметить, что корабль замедлил ход, и поспешно поднялся на палубу, с беспокойством поглядывая на бессильно повисшие паруса. Осмотревшись вокруг, он увидел Хуана и сеньору Магдалену. Ярость вспыхнула в нем с новой силой, ведь, по его мнению, именно Хуан пугал и прогонял ветер, а значит, он-то и был виновен в задержке, которая грозила им опасной встречей с пиратами, если они действительно были близко. Дон Симеон решительно направился к Хуану, который, глядя на море, мирно беседовал с сеньорой Магдаленой. Подойдя незаметно и остановившись у них за спиной, капитан заорал и затопал ногами в таком бешенстве, что любая менее привычная палуба непременно провалилась бы: – Клянусь всеми чертями и дьяволами ада!.. Хуан и его жена в испуге оглянулись. Капитан, стиснув зубы и сжав кулаки, смотрел на живодера, вертя во все стороны головой. Педро Хуан рад был бы отступить, но деваться было некуда. – Гм! – произнес Симеон, стараясь сдержаться. – Что вам угодно? – пролепетал через силу Хуан. – Смотрите! – сказал дон Симеон, хватая его за руку и указывая на повисшие паруса. – Нам грозит непогода? – простодушно спросил Хуан. – Вам грозит то, что я запрещаю вам ступать на палубу в продолжение всего нашего плавания. – Мне? – Да, вам. И, клянусь душами всех утопленников, я швырну вас в море, если вы посмеете ослушаться. Хуан побледнел. – Но почему? – решительно вмешалась сеньора Магдалена. – Почему? И вы еще спрашиваете, сеньора! Гром и молния! Разве вы не видите, что ветер стихает, едва только этот человек выходит на палубу? – Что за чепуха! Какое это имеет отношение? – Сами вы, сеньора, ни к чему не имеете отношения, а море знаете не больше, чем я папу римского. Все это не женского ума дело. Идите в трюм и вяжите там носки, а если вам так уж нужен этот человек, забирайте его с собой, потому что, клянусь тем днем, когда сожрут меня акулы, я могу не сдержаться и прикажу бросить вас в море, если матросы не сделают это раньше по собственной воле. – Да сохранит нас господь! – воскликнул Хуан. – Но это несправедливо, – сказала сеньора Магдалена. – Что вы в этом понимаете? Справедливо или не справедливо, а судно не идет и может погибнуть, а отвечаю за него я, и командую здесь тоже я, и никто иной. – Пойдем, – сказал оробевший Хуан и, взяв под руку сеньору Магдалену, направился вниз в свою каюту. Все эти дни Хулия провела в печальном молчании. Она верила в обещания и любовь Антонио, но, однако же, не могла изгнать из своего сердца глубокую грусть и принималась плакать всякий раз, как оставалась одна, а в обществе родных только и думала что о Железной Руке. Ей вспоминались леса острова Эспаньола, горы, в которых бродили охотники, далекие улицы селения Сан-Хуан-де-Гоаве, и все воспоминания были милы бедняжке Хулии, хотя и ранили ее сердце. О разлуке говорили многие: кто – плохо, кто – хорошо, кто – превосходно, но никто не поймет всей горечи разлуки, не испытав ее хотя бы однажды. Тоска в разлуке с любимым – один из самых тяжелых случаев болезни, которую принято называть ностальгией. Это – противоречие между желанием и неотступными воспоминаниями, неспособность воли погасить память или подчинить себе сердце. Против подобного недуга есть только два средства, но они почтил недостижимы: забыть или разлюбить. Другими словами, вспоминать без страсти или предать былую страсть забвению. Такая борьба приводит к отчаянию, скорби и даже смерти. Хулия теряла последние силы, вспоминая остров Эспаньола, где прошла вся ее жизнь. Ей казалось, что, если она и встретится снова с Антонио, нигде они не будут так счастливы, как в селении Сан-Хуан. Бедной девочке довелось увидеть лишь одну грань брильянта, называемого жизнью, и, как все, едва ступившие на ее порог, она считала, что брильянт блестит лишь с одной стороны. Хулия видела мир через замочную скважину и не понимала его. Сеньора Магдалена, переживая свой второй медовый месяц, едва обращала внимание на дочь, а Хуан поглядывал на Хулию все с большим вожделением, тайно предвкушая день своего торжества, казавшийся ему столь же близким, сколь несомненным. Повседневные встречи с девушкой все более разжигали его воображение. Когда мужчина загорается любовью к женщине и все время находится с ней рядом, то любовь эта, если онабезответна, превращается в пылкую страсть и адскую муку. Какая-нибудь случайность или неосторожность может на миг показать несчастному бесценные сокровища прелести и грации, самая недоступность которых еще сильнее возбуждает тайную страсть. Так случилось и с Педро Хуаном: он твердо надеялся, что добром или силой, а Хулия будет принадлежать ему, и все же его неотступно преследовала жажда ускорить желанную развязку. Медведь-толстосум боролся с искушением, но не мог от него избавиться и оттого еще больше маялся морской болезнью и, чувствуя, что задыхается в своей каюте, стремился на палубу подышать свежим воздухом. Когда Педро Хуан и сеньора Магдалена вернулись в каюту, Хулия притворилась спящей, чтобы не отрываться от своих мыслей. Бедняжка думала об Антонио, который, наверное, был очень, далеко от нее и, без сомнения, подвергался грозным опасностям. Живодер, хотя и не посмел ни слова возразить капитану, был взбешен, и жена всячески старалась успокоить его. – Это неслыханно! – вопил Хуан. – Запрещать человеку, который заплатил деньги, да, собственные деньги, и желает путешествовать с удобствами, запрещать ему подниматься на палубу подышать воздухом. Подлый изверг! – Успокойся, – уговаривала его сеньора Магдалена, – успокойся, эти испанские моряки всегда так ведут себя. – Что? Опять испанцы? Ты, наверное, забываешь, что я тоже испанец? – Нет, нет, я не хотела тебя огорчать. Ты мой муж, и я не могу сказать о тебе ничего дурного. Но ты видишь, какой грубиян этот испанец… – Да при чем тут испанцы? То же самое мог сказать любой француз… – Нет, нет, Хуан! Мои земляки совсем другие… – Готов об заклад биться, что этот негодяй – француз! – Оставим это, друг мой. Пусть он будет кем угодно, лишь бы не грубил тебе. Но успокойся, уже недолго осталось терпеть. – Да, совсем недолго, недели две, а то и побольше, или бог его знает, сколько… – Уверяю тебя… – А эти капитаны кораблей – сущие тираны, они обращаются с нами, сухопутными людьми, как с грузом, хуже того – как с рабами. – Это бесчестно! – Не правда ли? Но я не обязан ему подчиняться! Он не король Испании, и, хочет он или не хочет, я буду подниматься на палубу, а если мне вздумается, то и на самую грот-мачту, или как она там называется… – Господи спаси! – Я скоро опять туда пойду. – Делай что хочешь, но только будь благоразумен, старайся не попадаться ему на глаза, – просто чтобы избежать неприятностей. – Ладно, ладно. Там видно будет. Дух Педро Хуана несколько успокоился, но тело его жестоко страдало от морской болезни. Он прилег и попытался заснуть, – ничего не получалось. Ночь была душная, Хуан ворочался с боку на бок, не находя удобного положения. Наконец, в ярости вскочив с койки, он взбежал по трапу и снова очутился на палубе. Свежий ночной ветер охладил ему голову и сразу принес облегчение. Бешеного дона Симеона нигде не было видно, полные паруса не полоскали. Некоторое время Педро Хуан провел в глубокой задумчивости. Только что ему удалось увидеть ножку Хулии, и эта ножка, освещенная каким-то дьявольским светом, витала перед ним в воздухе, чудилась ему в темных небесах и в черной глубине моря. Он замотал головой, пытаясь прогнать наваждение, но вместо этого перед ним заплясало множество ножек, и Педро Хуан облизнулся, как гончая, почуявшая дичь. В это время, разорвав тишину, до обитателей «Знаменитого кантабрийца» докатилось звучное эхо первого пушечного выстрела. И мгновенно, словно призрак, вызванный заклинанием, появился грозный капитан в сопровождении нескольких матросов. Они о чем-то говорили, сыпали проклятиями, не обращая внимания на Хуана, а тот с ужасом прислушивался к их беседе, которая становилась все более оживленной, по мере того как звучали все более тревожные сигналы и один за другим исчезали огни на корме кораблей. «Знаменитый кантабриец» тоже погасил свой фонарь. – Клянусь преисподней! – рявкнул капитан. – Дело серьезное! Черт побери, кто знает, может завязаться бой, а «Знаменитому кантабрийцу» придется плестись в обозе, ведь у него нет даже самой завалящей пушки. Сигналы следовали один за другим, и эскадра начала маневрировать, принимая боевой порядок. Ветер донес до ушей капитана сигнал боевой тревоги. – Тысяча чертей! Боевая тревога! Теперь-то завяжется настоящее дело!.. Он как безумный бросился к борту и налетел прямо на притаившегося Педро Хуана. – А! – взревел он при виде несчастного живодера. – Это вы, это вы! Теперь понятно, все и стряслось, оттого что вы тут! У вас дурной глаз… Сейчас же велю бросить вас в море! И он повернулся, чтобы кликнуть матроса. Педро Хуан понял, что в этот момент капитан способен на все, и, несмотря на свою неповоротливость, проворно юркнул в люк. Когда капитан оглянулся, его жертва уже скрылась. Быть может, он и бросился бы в погоню, но в это время новый пушечный выстрел привлек его внимание. – Противник идет в крутой бейдевинд! – воскликнул он. – Пора приготовиться. И он принялся отдавать распоряжения на случай опасности.XII. СРАЖЕНИЕ И БУРЯ
Когда адмирал эскадры услыхал сигнал – «противник лег на другой галс», а затем – «противник идет в крутой бейдевинд», он понял, что пираты готовятся к нападению. Не зная толком ни кораблей, которыми располагал неприятель, ни даже их количества, он решил собрать все силы и немедля дал приказ кораблям, идущим кильватерной колонной под ветром, принять боевой порядок. Эта операция в морской тактике подобна тому, что в пехоте зовется быстрым развертыванием. Авангард эскадры ложится в дрейф, затем центр ее и колонна, идущая с наветренной стороны, подтягиваются и тоже ложатся в дрейф, пока не подоспеет подветренная колонна и не установится общая линия. При быстром развертывании каждое судно стремится занять свое место, не дожидаясь тех, кто отстал, но уступая путь тем, кто подходит вовремя. Этот маневр применяется лишь в самых крайних случаях, когда непосредственно возникшая опасность не дает времени установить другой боевой порядок. Известность, которую приобрели пираты своими сказочно дерзкими и смелыми налетами, заставляла испанских адмиралов принимать все меры предосторожности против безвестных людей, превративших свой флот в несокрушимую морскую державу. Трубный глас боевой тревоги продолжал звучать, подготовка к сражению шла с величайшей поспешностью. Солдаты и матросы были разбиты на отряды, и каждый занял свое место. Десять артиллеристов встали у каждой 36-фунтовой пушки, по девять – у 18-фунтовых и по семь – у 12-фунтовых. Второй кормчий с двумя людьми стоял наготове у порохового погреба. На шканцах первый кормчий, окруженный помощниками и офицерами, наблюдал за штурвалом и сигналами флажков и фонарей. Часть орудийной прислуги и юнги, расставленные в разных местах, готовились переносить убитых и раненых, остальные рассыпали в пороховом погребе порох по мешкам и подносили их к люкам. Боцманы со своими людьми расположились на баке и на шканцах. Меж тем матросы, которым надлежало идти на абордаж или отражать врага, в мрачном и грозном молчании получали кто ружья, пистолеты, сабли, ручные гранаты и пороховницы, кто абордажные багры, копья, концы троса с крючьями и топоры. На корабле кипело движение, но все совершалось в глубокой тишине. Матросы сооружали парапеты, освобождали от цепей и готовили к бою пушки, складывали запасы пуль, ядер и картечи. Наконец все было готово: установлен общий план сражения и везде – на шканцах, на баке, на юте и на батареях вывешены листы пергамента с четко выписанными приказами к сведению всех действующих здесь людей. Капитан «Санта-Марии де ла Виктория» сделал последний обход, и капеллан, благословив в молитвенной тишине моряков, идущих на бой, дал им отпущение грехов. Вслед за тем командиры подразделений громким голосом возвестили, что каждый, кто проявит трусость, покинет свой пост или не подчинится приказу, будет расстрелян на месте. Захлопнулся люк порохового погреба, и все, словно недвижные, безмолвные статуи, замерли в ожидании боя. Антонио находился на баке вместе с помощником капитана. Хотя Антонио был человеком не робкого десятка, все эти приготовления не могли не взволновать его. Он знал железный характер и несгибаемую волю пиратов, видел дисциплину и решимость, испанских матросов и понимал, что, кто бы из них ни пошел на абордаж, бой будет жестоким. Пристально всматриваясь в морскую даль, пытаясь проникнуть взглядом сквозь скрывавший ее мрак, Антонио ждал первого выстрела. Он боялся, что, ослепленный яростью битвы, может броситься на людей Моргана, на своих товарищей, если разум и осторожность не придут ему на помощь. Все корабли эскадры подняли условный сигнал – связанные крестом две реи с фонарем на каждом конце. Линия боевого порядка была подобна созвездию в ночном небе. Пиратская флотилия не дала ни одного сигнала. Антонио продолжал свои наблюдения. Внезапно блеснул огонь, совсем близко грянул выстрел, и ядро пронеслось среди мачт «Санта-Марии», срезав трос, на котором держался флаг, однако не причинив большого урона. В тот же миг корабль содрогнулся, один из его бортов оделся пламенем и дымом, и ядра полетели в ответ на приветствие пиратов. Так началось большое морское сражение: пираты ответили на залп, и вскоре почти вся линия испанских кораблей открыла огонь. День занялся в тучах порохового дыма. С каждой минутой красные вспышки, вылетавшие из пушечных жерл, блекли в лучах утренней зари. Упавший флаг «Санта-Марии» снова взвился под гром канонады. Дневной свет придал бодрости оробевшим; нет ничего страшней неизвестности, ничто так не пугает, как бой в темноте, нет более угнетающей мысли для человека, чем мысль о смерти среди полного мрака, – ведь это все равно что умереть на чужбине, вдали от родных и друзей, покинуть мир, не сказав ему последнее прости. Многие из тех, кто презирает смерть при ярком свете дня, трепещут, встретившись с ней под покровом ночи. Душа испытывает ужас перед мраком и неизвестностью, она стремится к истине и свету, хотя бы они несли в себе смерть и небытие. Человек хочет видеть, даже если он знает, что больше уже не увидит ничего. Ибо человеческий дух и самую смерть хочет принять в личине жизни, а жизнь есть свет. Рассвело, но день казался зловещим. Море было так неподвижно, словно оно внезапно оледенело: ни ветерка, ни тучки. Покой, неожиданный мертвый покой; ничто не шелохнется ни на море, ни в небе. Солнце поднималось, разливая огненные потоки. Вяло повисли на мачтах штандарты, флаги и вымпелы. Обессилевшие паруса запутались в снастях, и, словно вены на коже исполина, выделялись на них канаты и тросы. Клубы пушечного дыма, окутавшие корабли, держались в воздухе подобно огромным хлопьям ваты, едва заметно рассеиваясь тяжелыми медленными спиралями. Обе вражеские эскадры застыли друг против друга на расстоянии пушечного выстрела, словно сев на мель. Но не пески, а море захватило в плен корабли, подобно мертвецу, сжавшему в своих ладонях дружескую руку. Смертный холод сковал руки покойника, они никогда не разожмутся, и живой останется в плену у смерти. Однако на обеих эскадрах понимали, что страшней, чем сражение с врагом, будет борьба со стихией. Мрачное затишье предвещало бурю. После бури приходит покой – говорят поэты. Но пусть поэты говорят что угодно, а моряки знают: покой есть предвестие шторма. Природа должна сосредоточиться, прежде чем вступить в борьбу с жалкими, слабыми людишками. Она сзывает свои вихри, воды и электрические разряды, подобно полководцу, собирающему рать перед штурмом: вот что означает этот покой. Темно-синее небо, прозрачное зеленое море, подернутый рыжей дымкой горизонт… Все взгляды устремлены на море, а пушки продолжают стрелять, как бы помимо человеческой воли. И вдруг, одновременно, словно охваченные общей тревогой, словно повинуясь приказам одного адмирала, и пираты и испанцы стремительно приступили к выполнению маневров. Все паруса были спущены, все рифы забраны. Можно было подумать, что малейший лоскуток на рее грозил смертельной опасностью, так торопились матросы обнажить все мачты. На кораблях убирались последние остатки парусов, когда над морской гладью пронесся порыв легкого свежего ветра – так ласточка пролетает над озером, чертя крылом зеркало вод. То был разведчик, глашатай бури. Море приветствовало его появление. Морская глубь закипела, и тысячи мелких волн, увенчанных легкой белой пеной, разбежались в разные стороны с тихим ропотом, постепенно перераставшим в глухой грозный рев. Воздух на горизонте начал сгущаться: буря не приближалась, казалось, она назревает там, вдали. Мы часто видели, как приходит буря, но где и как она зарождается? Тайну этого рождения знают лишь горцы да моряки. Ветер можно угадать, увидеть или почувствовать, когда природу охватывает дрожь ужаса. Но что дрожит? Не море, не корабли, не люди. Так что же? Нечто неведомое, нечто понятное, но необъяснимое, – душа мира, то, что называют природой, то, чего никто не знает, и, однако, все постигают, не умея объяснить, не умея даже обозначить его именем. Но вот налетел ветер, снасти ответили ему протяжным стоном. Тросы запели, засвистали, заныли, каждый на свой лад, но так зловеще, словно предчувствовали и предсказывали опасность и смерть. Печальный хор! Отовсюду, где болтался хоть один незакрепленный конец, где светился хоть один паз между досками, несся заунывный, протяжный вой. Кто не слышал завывания ветра? Но слышал ли кто-нибудь более тоскливый и раздирающий сердце звук, чем эти стоны, подобные предсмертному воплю слабого, павшего духом существа? Началась борьба со стихиями, и бой между людьми прекратился. Солнце померкло и скрылось в желтоватом тумане. Но вот туман, постепенно сгущаясь, превратился в тяжелые, мглистые тучи причудливой формы и окраски; подсвеченные по краям, они теснились, словно сбившиеся в отаре овцы. Там в небе клубились все самые мрачные оттенки серого цвета – от темной сепии до неподдающейся определению окраски пыльного вихря. В скопище туч угадывались потоки воды, бешеные зигзаги молний, зловещие силы, готовые низвергнуться на океан, вздымавший, бросая вызов буре, свои могучие волны. Тяжелая громада туч, не в силах больше парить в воздухе, стлалась по воде. Буря сходила с высоты медленно, плотная, угрожающая. Но вот, как бы желая разбудить ее, повеяло мощное дыхание урагана, и, словно осенние листья, подхватило и закружило тяжелые военные корабли. Обе эскадры оказались в самом средоточии бури. Наступила полная тьма, тучи наползали на мачты и снасти. Все было пропитано влагой, хотя ливень еще не начался. Непрерывно со всех сторон вспыхивали ослепительные молнии, не то падая с неба, не то взлетая вверх из морской пучины. Гроза наконец грянула, и электрические разряды загрохотали, словно артиллерийские залпы двух воюющих миров. Море бушевало вместе со всей природой. Мощные валы вздымались, сталкиваясь между собой, били в борта кораблей, прокатывались по палубе, неся ужас и разрушение. Казалось, надежды на спасение нет. Все люки были плотно задраены, штурвалы и паруса стали бесполезны, всякое управление – невозможно, и брошенные на произвол судьбы, суда носились по воле волн, то целиком зарываясь в воду и пену, то появляясь, как фантастические украшения на гребне могучего вала. Офицеры, матросы и солдаты бездействовали, беспомощные, как муравьи, уносимые на сухой ветке течением реки. Испанские и пиратские суда беспорядочно метались по волнам, едва ли не соприкасаясь бортами, но противники не узнавали, а порой и не видели друг друга. Сам бог велел им заключить мир перед лицом общей опасности. «Знаменитый кантабриец» терпел бедствие. Уже рухнули мачты, и старый кузов грозил с минуты на минуту дать течь и навеки похоронить свой груз на дне океана. Капитан перестал изрыгать проклятия. Педро Хуан сидел в полном отупении. Сеньора Магдалена и Хулия пытались молиться.XIII. ПЕРВАЯ ДОБЫЧА
Буря бушевала почти сутки, то затихая, то приходя в неистовство. На следующее утро солнце осветило безмятежно спокойное пустынное море и ясное, прозрачное небо. Эскадру рассеяло по всему океану, и ни с одного корабля не видно было в бескрайних просторах ничего, кроме воды и неба: ни паруса, ни гавани – ничего. Вода и небо, волны и синяя твердь. Но вот с одного из кораблей удалось разглядеть вдали какую-то темную точку. Корабль этот был «Санта-Мария де ла Виктория», и капитан его, исследуя морское пространство, обнаружил на горизонте странный предмет, который хотя и не походил на судно, все же не мог быть и ничем иным. Попутный свежий ветер надувал паруса «Санта-Марии», и загадочный предмет, возбудивший любопытство всего экипажа, быстро приближался, увеличиваясь в размерах. Вскоре его уже можно было рассмотреть как следует. – Это корабль! – крикнул кто-то из матросов. – Потерявший всю оснастку, – добавил стоявший тут же Антонио. – Интересно, погибли ли люди? – Нет, видите, на палубе кто-то движется… – Они подают сигналы. – Просят о помощи… – Смотрите, поднимают флаг на шесте! «Санта-Мария» была уже близко от потерпевшего крушение судна. – Ах! – воскликнул Антонио, – видите, на палубе человек с рупором. Он хочет говорить. – Молчание! – приказал офицер. Человек поднес рупор ко рту и крикнул: – Помогите! Помогите! – А ну-ка, ребята, – сказал капитан, – спустить шлюпки на воду и снять этих людей. В одно мгновение шлюпки заплясали на волнах, и тут же от корабля, просившего о помощи, тоже отвалила шлюпка. Антонио остался на «Санта-Марии». Вскоре три шлюпки с людьми пристали к борту военного корабля, не оставив на тонущем судне ни одного живого существа. «Санта-Мария» всех приняла на борт, и тут старая, разбитая посудина, словно только этого и дожидалась, начала трещать, погружаться в воду, затем стремительно перевернулась и исчезла в пучине, оставив за собой бурлящий водоворот. И волны снова сомкнулись. Таков был трагический конец «Знаменитого кантабрийца». Антонио Железная Рука принимал на борту спасенный экипаж. Капитан, боцман, рулевой, матросы – все остались невредимы. Но как ни странно, среди моряков оказались две женщины. Когда они стали подыматься по трапу, Антонио почувствовал, будто сердце у него остановилось: он узнал сеньору Магдалену и Хулию. При одной мысли об угрожавшей им опасности Антонио пришел в ужас. Хулия вскарабкалась по трапу первая, Антонио поспешил помочь ей. Девушка еще не пришла в себя и боялась даже глаза поднять. Вдруг она почувствовала, что ее обнимает чья-то рука. Узнав Антонио, Хулия вскрикнула не то от радости, не то от испуга. Антонио сразу оттащил ее в сторону, пока другой матрос помогал сеньоре Магдалене. – Молчи, Хулия, ради бога молчи! – шепнул он девушке. – Что случилось, дочь моя? – спросила подбежавшая к ним сеньора Магдалена. – Что с тобой? Железная Рука отошел как бы затем, чтобы помочь другим потерпевшим. – Ничего, матушка, – отвечала Хулия с напускным спокойствием. – Просто я невольно вскрикнула от радости. – Благословен господь, спасший нас от смерти, – проговорил присоединившийся к женщинам Педро Хуан. Хулия терялась в догадках и с волнением следила за Железной Рукой. Она знала, что ее возлюбленный ушел к пиратам, к самому Джону Моргану. Что же он делает здесь? Не попал ли он в плен во время сражения? А может быть, Антонио так же, как она, нашел на испанском судне прибежище после кораблекрушения? Или они, сами того не ведая, попали на пиратский корабль? Хулия не знала, что и думать. Однако последнее предположение показалось ей самым вероятным. Не выдержав, она спросила у Хуана: – Что это за судно? – Испанский военный корабль, – преисполнившись национальной гордости, ответил Медведь-толстосум. – Сейчас узнаю, как он называется. Хуан подошел к одному из офицеров, и вернувшись к женщинам, объявил, пыжась, как павлин: – Военный корабль его католического величества короля Испании (да хранит его бог), названный в честь победы, одержанной над голландцами, «Санта-Мария де ла Виктория», имеющий по сорок пушек на каждом борту и двести человек морской пехоты – гроза голландцев и пиратов, страж торговли Западных Индий. Произнеся эту торжественную реляцию, Педро Хуан с самодовольным видом поднял шляпу над головой, а сеньора Магдалена ответила ему легким реверансом. – Теперь, мои дорогие, вы видите, – продолжал Медведь-толстосум, – что его католическое величество располагает не менее мощным флотом, нежели христианнейший король Франции. Такие корабли с честью несут герб испанской монархии в этих водах. И Медведь-толстосум показал женщинам на красно-желтый флаг, словно язык пламени, вьющийся на свежем утреннем ветру. Хулия чувствовала, что сомнения ее растут, и хотела любой ценой разрешить их. – А что произошло с пиратами? – спросила она. – Я сам думал об этом, – ответил Хуан, – и задал тот же вопрос офицеру. Он сказал, что, едва началась канонада, буря разметала обе эскадры по всему океану, и теперь неизвестно, спаслись ли какие-нибудь корабли или нет. Единственное судно, которое им повстречалось, было наше. Теперь Хулии стало ясно, что испанцы не могли подобрать Антонио в море. Что же он делал на этом корабле? Неужели он обманул ее? Нет, все, что угодно, только не это! Измученная сомнениями, она решила во что бы то ни стало объясниться с возлюбленным. Антонио и сам искал случая поговорить с Хулией, но это было почти невозможно. Суровая дисциплина военного корабля связывала его по рукам и ногам, а сеньора Магдалена и Педро Хуан не отходили от Хулии ни на шаг, боясь оставить ее одну среди солдат и матросов. Ревность влюбленного отчима и материнская любовь в союзе с воинской дисциплиной воздвигли непреодолимую стену между Железной Рукой и Хулией. Они обменивались взглядами, но глаза влюбленных способны произносить только одну фразу: – Я обожаю тебя! Больше они ничего не умеют, а если даже и пытаются сказать что-нибудь другое, то все равно говорят лишь: – Я люблю тебя! Словарь безмолвного языка очень ограничен, но зато есть взгляды красноречивее слов, и они знакомы влюбленным. Итак, все попытки оказались бесплодны, и влюбленные довольствовались только взглядами. Антонио к тому же все время старался избегать сеньоры Магдалены и Педро Хуана, опасаясь, как бы они не узнали его. Корабль «Санта-Мария де ла Виктория» отбился от эскадры и потерял первоначальный курс. Однако согласно наказу адмирала, данному на случай бури или разгрома, все корабли, которым не удалось бы соединиться с эскадрой в море, должны были направляться к острову Куба. Капитан взял курс на запад. Он плохо знал эти воды, и ему необходимо было определиться: книги и советы никогда не дают полной уверенности, если им не сопутствует практическое знание. Дул благоприятный ветер, корабль летел как на крыльях. Так прошло утро. После полудня ветер стих, и пришлось свернуть паруса. Это грозило серьезной опасностью. Если пираты были близко, то отставшее от своей эскадры судно легко могло попасть в плен. Капитан в лихорадочном волнении поглядывал то на бессильно повисший флаг, то на пустынный горизонт. Антонио отлично понимал, какие мысли одолевают капитана. Помня, что главной его задачей было завоевать доверие главы корабля, он подошел и почтительно обратился к нему: – Сеньор! – Что тебе надо? – высокомерно спросил капитан. – Разрешит ли ваша милость доложить? – Говори и убирайся. – Сеньор, я хорошо знаю эти воды… – Отлично, и что из этого? – Сеньор, ветер слабеет, почем знать, так может пройти несколько дней. Наступает штиль. – Это я и сам вижу. Что дальше? – Дело в том, что тут есть течение, оно идет по направлению к Кубе. – Где же оно проходит? – Прямо по нашему курсу. Если бы удалось дотянуть до него, мы бы могли быстро достигнуть берега. – И ты можешь его отыскать? – Да, сеньор. – Что ж, начнем маневрировать. Судьба, казалось, благоприятствовала Антонио. Судно медленно продвигалось вперед, а хитроумный охотник пристально вглядывался в пляшущие волны. Так прошел час. Вдруг Антонио крикнул: – Вот оно! – Где? – спросил стоявший рядом капитан. – Смотрите, сеньор, – отвечал охотник, указывая вдаль. – Верно! – воскликнул капитан. – Попутное течение. И в самом деле, впереди зоркий морской глаз мог различить гладкую полосу воды чистого голубого цвета. Это и было течение. Его границы обозначались как бы легким кипением волн, – вне полосы течения воды залива достигали значительно большей глубины. Все признаки, по которым моряки распознают течение, оказались налицо. Корабль вскоре достиг цели и, подхваченный мощным током воды, помчался вперед. Неожиданно был дан сигнал «земля», и в ту же минуту от появившегося в поле зрения маленького островка отвалило легкое судно. Вдали показалось еще несколько парусов. – Что это за остров? – спросил капитан у Антонио, к которому уже проникся доверием. – Ормигас или один из островов Моранте? – Наваса, сеньор. – А паруса эти, сдается мне, неприятельские?.. – Это пираты, – сказал Антонио. Его слова поразили команду корабля, словно удар грома. Положение было безвыходное. Лечь на другой галс – невозможно: «Санта-Мария» была слишком тяжела, чтобы бежать от преследования пиратов. Пристать к острову – тоже невозможно: капитан знал, что только у западного побережья Навасы глубина океана достигала полумили, но именно там высадка представлялась особенно трудной, – бриз поднял слишком большое волнение. А кроме всего, было бы позорно бежать от сражения, посланного самой судьбой. Паруса приближались и вскоре подошли на расстояние пушечного выстрела. На «Санта-Марии» все было готово к бою. Антонио узнал корабль, которым командовал Бродели. От корабля отвалила шлюпка и подошла к борту испанского военного судна. В шлюпке сидели только два гребца и один из главарей, поэтому ей и позволили подойти. Старший из пиратов подал знак, ему бросили трап, и он решительно поднялся на борт. Капитан «Санта-Марии» вышел к нему навстречу. – Бродели, вице-адмирал великого Моргана, – надменно произнес пират, – предлагает тебе, капитану испанского военного судна, сдаться и предоставить ему корабль и все, что на нем находится, а взамен обещает свободу и жизнь тебе и всем твоим людям. – Можешь передать своему начальнику, – с величественным спокойствием ответил капитан, – что моряки, которые служат королю, моему повелителю, не знают слова «сдаваться», что испанцы не складывают оружия перед пиратами, а нашей жизнью и свободой вы можете распоряжаться, как вам вздумается, когда захватите нас в плен. Мы готовы умереть на службе его величества, но никогда не утратим чести ради собственной выгоды. Иди и передай все, что услышал. Пират, не произнеся ни слова, повернулся на каблуках, сошел по трапу в шлюпку и вскоре снова был на корабле Моргана. Через мгновение облачко дыма поднялось над пиратским судном и первая пуля впилась в борт «Санта-Марии». То был сигнал к сражению. Пираты твердо решили завладеть добычей, испанцы готовились защищать свой корабль ценой жизни. Однако капитан «Санта-Марии» полагал, что до этого дело не дойдет. Он надеялся на свои пушки, на искусство своих бомбардиров и был уверен, что мгновенно потопит или же лишит оснастки все вражеские корабли. Но еще не рассеялся дым первого залпа, как пираты пошли на абордаж. Они походили не на людей, а на свору бешеных псов. Вооруженные топорами и кинжалами, они карабкались на нос судна и бросались на испанцев, которые отчаянно защищались. Палуба была завалена трупами; люки, ведущие в трюм, – выбиты; повсюду хлестала кровь. Капитан, сраженный ударом топора, лежал на шканцах без чувств. Пираты стали хозяевами «Санта-Марии де ла Виктория». Полчаса боя принесли им победу и первую добычу. Бродели, вице-адмирал Моргана, первым ворвался на корабль. Забрызганный кровью, со взлохмаченными волосами, держа широкую саблю в правой руке, а пистолет – в левой, он повел своих людей к каюте капитана. Там укрылись Хулия, сеньора Магдалена и Педро Хуан де Борика. Живодер трясся от страха, женщины рыдали и молились. Пираты выломали дверь, и Бродели бросился к женщинам. Это была его военная добыча. Женщины принадлежали тому, кто первый захватит их, если только он сам не отдаст их своим подчиненным. Красота Хулии поразила вице-адмирала, несмотря на обуревавшее его яростное возбуждение. Эту добычу он не собирался делить ни с кем. Пират засунул пистолет за пояс и хотел уже схватить за руку помертвевшую от страха Хулию, когда неожиданно какой-то человек с силой оттолкнул его и громко воскликнул:
– Простите, сеньор! Эта женщина принадлежит мне!
Бродели в изумлении остановился, стараясь рассмотреть, кто этот дерзкий, осмелившийся перечить воле вице-адмирала. Но, не узнав его, отступил на шаг и схватился за саблю.
– Спокойно, сеньор, – продолжал незнакомец, – не обнажайте против меня оружия, это вам дорого обойдется.
– Да кто же ты! – воскликнул вице-адмирал, пораженный таким бесстрашием и хладнокровием.
– Антонио Железная Рука.
Бродели опустил оружие и скрипнул зубами.
– А почему эта женщина принадлежит тебе?
– Потому что это моя жена. Я посадил ее на корабль, когда был на Эспаньоле. Адмирал приказал мне поступить на испанское судно, вот почему и она оказалась здесь. Если бы не этот приказ, она была бы на одном из наших судов.
– Куда же ты везешь эту женщину?
– На Санта-Каталину или Тортугу, где мы вскоре должны обосноваться. Я имею на это право, я служу хорошо, я честно выполняю свой договор и вправе требовать уважения. Не правда ли, друзья? – спросил он, обращаясь к пиратам, которые с удивлением следили за неожиданной стычкой.
– Верно, он прав, – откликнулись все.
Бродели до крови закусил губу, стараясь скрыть свою ярость.
– А другая женщина? Эта-то, надеюсь, не твоя и ею мы можем распоряжаться!
Сеньора Магдалена побледнела, боясь, что она не попадет под защиту Железной Руки.
– Эта женщина, – торжественно произнес Антонио, – приходится моей жене матерью, а это ее муж. Все трое – моя семья, и она должна быть священной для моих начальников и товарищей. А если кто-нибудь посмеет проявить к этим людям малейшее неуважение, все мои товарищи встанут на их защиту, и оскорбитель погибнет, хотя бы он был самим адмиралом. Таков наш закон. Семью и честь каждого из нас защищают все, ибо если сегодня оскорбят меня, а все останутся равнодушны, завтра сами они окажутся жертвой, и все узы между нами будут порваны… Не правда ли, друзья?
– Правильно, правильно, – закричали пираты.
Взбешенный Бродели прорычал какое-то проклятье и вышел, уведя пиратов с собой.
В каюте остались Железная Рука, Хулия, сеньора Магдалена и Педро Хуан.
– Вы – настоящий мужчина, – сказал Хуан, пожимая руку Антонио.
– Благодарю вас, благодарю вас, – плача повторяла сеньора Магдалена.
Хулия, улучив минуту, когда никто не смотрел на них, прижала к губам руку Антонио и шепнула:
– Ты ангел, Антонио… Я обожаю тебя.
Антонио затрепетал от восторга.
Меж тем с палубы доносились стоны раненых, крики пиратов и голос вице-адмирала, отдававшего приказания.
– Выслушайте меня, – сказал Антонио. – Мы должны поговорить раньше, чем кто-нибудь вернется сюда. Опасность еще не миновала. Кто знает, быть может, опьяненный успехом или агуардьенте, которую пираты найдут на судне, вице-адмирал снова вспомнит о своих притязаниях. Знайте, я буду защищать вас до последнего вздоха. Хулия должна считаться моей женой. Корабль пойдет сейчас на Санта-Каталину. Этот остров Морган избрал для своей главной квартиры. Когда мы прибудем туда, я помогу вам, если милостив бог, отправиться в Мексику. Там вы заживете спокойно.
– А ты? – вырвалось у Хулии.
– Я, – ответил Антонио, – последую за тобой, как только смогу.
Сеньора Магдалена была так перепугана, что не обратила внимания на эти слова.
– Поклянись, – сказала Хулия, пользуясь тем, что мать не слушает ее.
– Клянусь! Верь мне, – ответил Антонио, и девушка крепко сжала его руку.
Снасти заскрипели, корабль двинулся в путь.
Бродели, вице-адмирал Моргана, первым ворвался на корабль. Забрызганный кровью, со взлохмаченными волосами, держа широкую саблю в правой руке, а пистолет – в левой, он повел своих людей к каюте капитана. Там укрылись Хулия, сеньора Магдалена и Педро Хуан де Борика. Живодер трясся от страха, женщины рыдали и молились. Пираты выломали дверь, и Бродели бросился к женщинам. Это была его военная добыча. Женщины принадлежали тому, кто первый захватит их, если только он сам не отдаст их своим подчиненным. Красота Хулии поразила вице-адмирала, несмотря на обуревавшее его яростное возбуждение. Эту добычу он не собирался делить ни с кем. Пират засунул пистолет за пояс и хотел уже схватить за руку помертвевшую от страха Хулию, когда неожиданно какой-то человек с силой оттолкнул его и громко воскликнул:
– Простите, сеньор! Эта женщина принадлежит мне!
Бродели в изумлении остановился, стараясь рассмотреть, кто этот дерзкий, осмелившийся перечить воле вице-адмирала. Но, не узнав его, отступил на шаг и схватился за саблю.
– Спокойно, сеньор, – продолжал незнакомец, – не обнажайте против меня оружия, это вам дорого обойдется.
– Да кто же ты! – воскликнул вице-адмирал, пораженный таким бесстрашием и хладнокровием.
– Антонио Железная Рука.
Бродели опустил оружие и скрипнул зубами.
– А почему эта женщина принадлежит тебе?
– Потому что это моя жена. Я посадил ее на корабль, когда был на Эспаньоле. Адмирал приказал мне поступить на испанское судно, вот почему и она оказалась здесь. Если бы не этот приказ, она была бы на одном из наших судов.
– Куда же ты везешь эту женщину?
– На Санта-Каталину или Тортугу, где мы вскоре должны обосноваться. Я имею на это право, я служу хорошо, я честно выполняю свой договор и вправе требовать уважения. Не правда ли, друзья? – спросил он, обращаясь к пиратам, которые с удивлением следили за неожиданной стычкой.
– Верно, он прав, – откликнулись все.
Бродели до крови закусил губу, стараясь скрыть свою ярость.
– А другая женщина? Эта-то, надеюсь, не твоя и ею мы можем распоряжаться!
Сеньора Магдалена побледнела, боясь, что она не попадет под защиту Железной Руки.
– Эта женщина, – торжественно произнес Антонио, – приходится моей жене матерью, а это ее муж. Все трое – моя семья, и она должна быть священной для моих начальников и товарищей. А если кто-нибудь посмеет проявить к этим людям малейшее неуважение, все мои товарищи встанут на их защиту, и оскорбитель погибнет, хотя бы он был самим адмиралом. Таков наш закон. Семью и честь каждого из нас защищают все, ибо если сегодня оскорбят меня, а все останутся равнодушны, завтра сами они окажутся жертвой, и все узы между нами будут порваны… Не правда ли, друзья?
– Правильно, правильно, – закричали пираты.
Взбешенный Бродели прорычал какое-то проклятье и вышел, уведя пиратов с собой.
В каюте остались Железная Рука, Хулия, сеньора Магдалена и Педро Хуан.
– Вы – настоящий мужчина, – сказал Хуан, пожимая руку Антонио.
– Благодарю вас, благодарю вас, – плача повторяла сеньора Магдалена.
Хулия, улучив минуту, когда никто не смотрел на них, прижала к губам руку Антонио и шепнула:
– Ты ангел, Антонио… Я обожаю тебя.
Антонио затрепетал от восторга.
Меж тем с палубы доносились стоны раненых, крики пиратов и голос вице-адмирала, отдававшего приказания.
– Выслушайте меня, – сказал Антонио. – Мы должны поговорить раньше, чем кто-нибудь вернется сюда. Опасность еще не миновала. Кто знает, быть может, опьяненный успехом или агуардьенте, которую пираты найдут на судне, вице-адмирал снова вспомнит о своих притязаниях. Знайте, я буду защищать вас до последнего вздоха. Хулия должна считаться моей женой. Корабль пойдет сейчас на Санта-Каталину. Этот остров Морган избрал для своей главной квартиры. Когда мы прибудем туда, я помогу вам, если милостив бог, отправиться в Мексику. Там вы заживете спокойно.
– А ты? – вырвалось у Хулии.
– Я, – ответил Антонио, – последую за тобой, как только смогу.
Сеньора Магдалена была так перепугана, что не обратила внимания на эти слова.
– Поклянись, – сказала Хулия, пользуясь тем, что мать не слушает ее.
– Клянусь! Верь мне, – ответил Антонио, и девушка крепко сжала его руку.
Снасти заскрипели, корабль двинулся в путь.
XIV. ПУЭРТО-ПРИНСИПЕ
Словно дикий бык, затравленный охотничьими псами, шел испанский корабль среди пиратских парусников. Победа так воодушевила людей Джона Моргана, что теперь они не боялись встречи даже со всей испанской эскадрой. Суда взяли курс на расположенный близ Кубы островок Санта-Каталина, чтобы соединиться с главными силами адмирала. На второй день после сражения на горизонте показались паруса. Бродели решил принять бой, если это испанские военные суда, а если торговые – то пуститься в погоню. Пираты приготовились действовать, но вскоре поняли, что перед ними флотилия под началом Моргана. Корабли соединились, и Морган, выслушав донесение обо всех событиях, дал Бродели приказ следовать в кильватере его судов курсом на Пуэрто-Принсипе. Предводитель пиратов обязан был объяснять цель каждого своего распоряжения, и вскоре даже простые матросы знали, что город Пуэрто-Принсипе решено взять штурмом. Выбор пал именно на этот город, потому что он ни разу не подвергался нападению и его обитатели сохранили все свои богатства. Антонио пользовался уважением Моргана и имел большое влияние на своих товарищей, бывших охотников с Эспаньолы; благодаря его заботам Хулия, Педро Хуан и сеньора Магдалена ни в чем не нуждались. Они остались вместе с Антонио, который был зачислен в команду захваченного в плен испанского судна. Морган превратил «Санта-Марию» в свой флагманский корабль и сам принял над ним командование, это значительно улучшило положение Хулии и ее родных. Адмирал не видел Хулии, он только знал, что на корабле находится семья Антонио. Зато мстительный вице-адмирал Бродели глубоко затаил злобу против Антонио, из-за которого лишился своей законной добычи, и ждал только случая, чтобы погубить его. Вскоре неразумный патриотизм Медведя-толстосума предоставил ему этот случай. Вдали уже показались очертания Пуэрто-Принсипе. Пираты, охваченные жаждой наживы, ослабили надзор, и пленные испанцы теперь могли более свободно общаться между собой. Воспользовавшись суетой, царившей на корабле Моргана перед высадкой, дон Симеон Торрентес, капитан «Знаменитого кантабрийца», пробрался в каюту к Педро Хуану. Они узнали друг друга, но общая беда заставила их позабыть о былой неприязни. – Сам дьявол преследует нас, – пожаловался дон Симеон. – Да, да, – отвечал Хуан, – а в довершение несчастья, эти разбойники собираются напасть на Пуэрто-Принсипе. Они разграбят все до нитки, ведь бедняги жители ни о чем не подозревают. – Клянусь дьяволом, будь я помоложе и посильнее, я, как истый испанец, добрался бы вплавь до берега и предупредил губернатора. Но я стар, а больше сделать это некому. – Спокойней, земляк, уж не слишком ли сильно сказано! Хоть вы хороший испанец и настоящий слуга господа бога и его величества, а я, быть может, не хуже вас. – Черт побери! Да если бы мне ваши силы и ваши годы да та свобода, которой вы пользуетесь, я бы давно уже плыл к берегу. Но вы наверняка не умеете плавать! – Я плаваю, как рыба. И доберусь ли я до земли или пойду на дно, а уж докажу, какой я испанец! – Черт побери! Вы способны на это? – Почему же нет? – Тогда заверяю вас, король не замедлит вознаградить ваш подвиг. Вы дворянин? – Нет. – Он сделает вас дворянином, услуга стоит того. И, как знать, может быть, пожалует вам герб с золотой рыбой на красном поле… – Его величество, конечно, будет знать, как наградить меня, – ответил, раздуваясь от самодовольства Хуан, который уже видел себя дворянином и обладателем родового герба, – хотя, я полагаю, тут больше подойдет серебряное поле с золотыми кругами. – Клянусь душой дьявола! Да разве вы не знаете, что сочетание двух металлов в гербе дозволяется только на щитах королевского рода. Ладно, его величество сам во всем разберется, боюсь только, что у вас не хватит духу на это дело. – И вы полагаете, что это будет большой заслугой в глазах повелителя нашего – короля? – Величайшей. – И полагаете, что его величество действительно наградит меня? – Уверен. – Тогда считайте, что дело сделано. Я доплыву до берега. – И станете дворянином. Тут поблизости появилось несколько пиратов, и дон Симеон поспешно отошел от Хуана. Идея капитана Торрентеса глубоко запала в душу Педро Хуана де Борики. Он обдумывал ее и так и эдак, и всякий раз задача казалась ему все проще, а награда все заманчивее. Он ничего не говорил сеньоре Магдалене, боясь, что та воспротивится его намерениям. И вот, оставив на себе только самую необходимую одежду, Хуан улучил момент, когда на него никто не смотрел, и прыгнул в воду. Шум падения привлек внимание какого-то матроса, раздался крик: – Человек за бортом! Несколько матросов приготовились спасать утопающего, который, как все полагали, случайно упал в море. Они внимательно вглядывались в воду, собираясь прыгнуть вниз, как только тело всплывет на поверхность. Но напрасно. Педро Хуан был искусным пловцом, и, когда он вынырнул, чтобы глотнуть воздуху, корабли уже остались далеко позади. Однако один из пиратов заметил его и закричал: – Вот он! Это сбежал кто-то из пленных. Все посмотрели в указанном направлении и различили вдали беглеца, который плыл во всю мочь и был уже совсем близко от берега. – Спустим шлюпку, – предложил один. – Бесполезно, – возразил другой, – через минуту он будет на берегу. Надо немедленно доложить адмиралу. Моргану тут же сообщили о происшествии, и он приказал проверить пленных. Вскоре один из командиров принес известие, что все пленные налицо, кроме мужа сеньоры Магдалены, матери Хулии, которая считалась женой Антонио. Во время этого доклада вице-адмирал Бродели находился у Моргана и все слышал. – Что ты думаешь об этом? – спросил его Морган. – Думаю, что здесь нечто более серьезное, чем просто побег пленного. – Что же? – Этот неизвестно откуда появившийся человек слывет родственником Антонио Железной Руки и, возможно, знает больше, чем нужно, о наших планах. – Но какое это имеет значение? – А вдруг он предупредит жителей города? – Даже если так, неужели ты думаешь, что они способны дать нам отпор? – Как знать, если их предупредят заранее, они могут сделать попытку. Во всяком случае, добро свое они припрячут, и мы потеряем по меньшей мере две трети добычи. – Да, ты прав. Это большая оплошность. – Если не преступление. Уж не думаете ли вы, что этот человек бежал только затем, чтобы вернуть себе свободу? Ведь он даже не был пленником. И неужто без серьезной причины он покинул бы свою жену и дочь, если только эта девушка действительно его дочь? Здесь кроется какая-то тайна, если не измена. Морган глубоко задумался, опустив голову. Бродели с любопытством наблюдал за ним. – Антонио! – воскликнул адмирал. – Нет, он не способен на предательство. Я понял его характер, а я никогда не обманываюсь в людях… – Антонио, возможно, ничего не знает, – примирительно ответил Бродели, убедившись, что адмирал непоколебим. – Однако он виноват в том, что не захотел поместить этого человека вместе с остальными пленными. – Но если этот человек действительно его родственник? – Тогда он должен знать, почему тот сбежал. – А мог и не знать, – возразил Морган, решив отстаивать Антонио до конца. – С чего бы беглец стал откровенничать с Железной Рукой, зная, что он с нами заодно. – Во всяком случае, – продолжал Бродели, стараясь перенести спор на другую почву, – для общего блага необходимо произвести быстрое и решительное расследование, и начать с женщин. Может быть, они-то и прольют свет на причину побега и на свои истинные отношения с Антонио. – Вы упорно стремитесь посеять недоверие к этому юноше. Ну что ж. Я произведу расследование в вашем присутствии и постараюсь убедить вас. – Дай-то бог. Морган кликнул одного из командиров и приказал привести к себе Хулию и сеньору Магдалену. О бегстве Педро Хуана уже стало известно всем, и женщины сразу поняли, зачем их зовут. Трепеща от страха, вошли они в каюту адмирала. – Сеньоры, вы должны говорить мне только правду, – сурово обратился к ним Морган. – Только правду, иначе я прикажу вздернуть вас на рее. Понятно? – Да, сеньор, – отвечала сеньора Магдалена. – Прежде всего, сеньора, ваша дочь действительно жена Антонио? Сеньора Магдалена подумала, что если она солжет, то пират сразу догадается об этом по ее лицу. – По правде говоря, нет, сеньор. Морган невольно взглянул на Бродели, следившего за ним с дьявольской усмешкой. – Я говорил вам! – воскликнул тот. – Хорошо. Прикажите взять Антонио Железную Руку под стражу. – Что вы хотите с ним сделать? – в ужасе спросила Хулия. – Скоро увидите, – ответил Морган, в ярости оттого, что дал себя обмануть, и чувствуя свое унижение перед торжествующим Бродели. – Сеньор, сеньор! Что хотите вы сделать с Антонио? – повторила Хулия, придя в отчаяние от суровости адмирала. – Сеньора, только смерть будет достойным наказанием за обман. – Смерть! Смерть! Боже мой! Но что же сделал Антонио? Какое преступление совершил он? Не убивайте его, сеньор! Молю вас на коленях! Чем он разгневал вас? – Он помешал нам завладеть добычей, и очень хорошей добычей, – ответил Бродели. – Он виноват и в том, что с корабля бежал человек, который, без сомнения, поднимет тревогу в Пуэрто-Принсипе. – Но он-то чем виноват? – повторила Хулия, все еще стоя на коленях. – Тем, что обманул нас, выдав вас за свою жену, хотя даже ваша мать говорит, что это неправда. – Матушка! Матушка! Что вы наделали! – Но я только сказала правду, – возразила сеньора Магдалена. – Слышите? – спросил Морган. – Сомнения нет, этот человек обманул нас, посмеялся над нами, и он умрет. – Нет, не умрет! – воскликнула Хулия, стремительно поднявшись. – Не умрет? – переспросил Морган. – Не умрет или вы совершите величайшуюнесправедливость. То, что сказал вам Антонио, – правда! Я его жена! – Хулия! – воскликнула сеньора Магдалена. – Хулия! Что ты говоришь? – Это правда! Правда! Я его жена. – Пусть так. Но как вы это докажете, если даже ваша мать утверждает обратное. – У меня есть доказательства. – Дайте их. – Есть свидетель, который может все подтвердить, и его слова спасут меня. – Кто же этот свидетель? Назовите его, – сказал Морган. – Вы! – ответила Хулия. – Я?! – воскликнул Морган. – Да вы, адмирал Джон Морган. Бродели, сеньора Магдалена и все остальные в изумлении переводили взгляд с адмирала на Хулию. – Я?! – повторил Морган. – Да, выслушайте меня. Я стала женой Антонио без ведома и против воли матери. – Недостойная! – воскликнула сеньора Магдалена. – Пусть продолжает, – сказал Морган. – Когда моя мать спала, я потихоньку ходила на свидания с Антонио. Мы жили на острове Эспаньола, Антонио был охотником. Однажды ночью, когда я возвращалась со свидания из Пальмас-Эрманас, на меня напал какой-то человек и потащил в чащу леса. Я чувствовала, что погибаю, человек этот был слишком силен. Я закричала и стала молить бога о помощи. И бог послал мне спасителя. Напавший на меня человек бежал. Мой спаситель проводил меня до самого дома, и там я спросила его: «Как ваше имя?» – «Джон Морган, – ответил он, – только молчите». Я хранила молчание до этого часа, повинуясь воле моего спасителя, и не сказала ни слова даже Антонио, ибо я знаю, к чему обязывает благодарность. Помните ли вы, сеньор, об этом происшествии? Морган внимательно слушал рассказ девушки. Едва она кончила, пират встал и пожал руку Хулии. – Все это правда! Вы сохранили мою тайну, хотя для вас она не имела значения, вы повиновались мне из благодарности. Я верю, что вы говорите правду: тот, кто так поступает, не может лгать. Сеньора, несмотря на то что вы сказали, эта девушка – жена Антонио. Можете возвращаться в каюту, к вам будут относиться с должным почтением. Все командиры были довольны такой развязкой, и только Бродели помрачнел. – Что ты наделала, несчастная? – запричитала сеньора Магдалена, оставшись с дочерью вдвоем. – Ты обесчестила себя… – Я спасла его, матушка, в благодарность за то, что он спас нас! Спасла своего супруга, это мой долг!XV. ПУЭРТО-ПРИНСИПЕ (Продолжение)
Педро Хуан благополучно достиг берега. Выйдя на сушу, он оглядел морское пространство, опасаясь, как бы пираты не выслали в погоню за ним шлюпку. Убедившись, что погони нет, он присел отдохнуть, прежде чем отправиться дальше. Эти края были ему совершенно незнакомы, и он не знал, какая из дорог ведет в город, но, твердо решив оказать великую услугу испанской короне, Медведь-толстосум встал и без колебаний избрал первую попавшуюся тропинку. Ему повезло, и через несколько часов пути, измученный и истомленный, он был уже в городе. Рассказ о приближении пиратов взбудоражил всех жителей Пуэрто-Принсипе, и вскоре Хуан, представ перед лицом самого губернатора, поведал ему все, что знал о задуманном пиратами нападении и грозившей городу опасности. Сообщение Педро Хуана вызвало тревогу и ужас. Одни торопились спрятать свои сокровища или увезти их в близлежащие горы. Другие решили дать отпор врагу. Немало было и таких, кто, зная, что терять им нечего, спокойно ждали нашествия Джона Моргана и его пиратов. Губернатор разослал во все стороны гонцов с просьбой о помощи и, не теряя времени, принялся сзывать ополчение и готовиться к защите. На всех дорогах, ведущих от моря к городу, выросли заграждения из обломков скал и древесных стволов. Губернатор уже собрал свое войско, когда караульные донесли, что пираты высаживаются на берег. Морган по-прежнему не сомневался в верности Антонио. Однако объяснение между Морганом и Хулией стало известно Железной Руке, и он понял, что вице-адмирал Бродели затаил против него злобу, а сеньора Магдалена тоже питает к нему неприязнь. Таким образом, он и Хулия оказались среди врагов. Мать Хулии, опасаясь Антонио, всячески старалась скрыть свое нерасположение и делала вид, будто всем довольна и хочет только одного: соединиться вновь с Педро Хуаном и отправиться в Новую Испанию. Настало время высадки; вельботы и шлюпки с пиратами отвалили от судов и помчались к берегу. – Вы оставляете Железную Руку на корабле? – спросил Бродели у Моргана. – Да, – ответил адмирал. – Пожалуй, он будет полезнее на берегу. Он – охотник и скорее может пригодиться вам при высадке и во время сражения, чем мне на корабле, где я остаюсь в полной безопасности. Морган не знал или позабыл о неприязни Бродели к Антонио и поддался на обман. – Вы правы, – сказал он, – я беру его с собой. И приказал Антонио взять команду над одним из отрядов. Хотя Антонио ничего не знал об этом разговоре, тяжелое предчувствие сжало его сердце, когда он прощался с Хулией. И все же он до конца не понимал, какая беда им грозила. Бродели теперь командовал флотилией, Антонио отправлялся на берег, и Хулия оказалась во власти вице-адмирала без всякой защиты. Ричард, бывший охотник, остался для охраны кораблей и, по счастью, принадлежал к команде флагманского судна. На него возлагал Антонио все свои надежды. – Ричард, – сказал ему Антонио, – я буду командовать отрядом при высадке. – Счастливец, – отвечал англичанин, – наконец-то ты заживешь другой жизнью, будешь сражаться, узнаешь опасности и тревоги, а я по-прежнему буду помирать со скуки и только ждать известий с земли. – Выслушай меня, Ричард. Я покидаю на корабле свою жизнь, половину своей души. Хулия остается здесь… – Я понимаю тебя, но верю, что с тобой ничего не случится. А ты можешь быть спокоен – ведь Хулии здесь ничто не угрожает. – Напротив, друг мой, я в большой тревоге. Хулии грозит здесь величайшая опасность. – Опасность? Но какая? – Слушай же. У вице-адмирала дурные намерения, я это понял. Увидев, что она одна, без всякой защиты, он, без сомнения, захочет воспользоваться случаем. – О, это ему не удастся! Разве нет здесь твоих друзей! Неужто мы так слабы? – Ричард! Мои друзья – единственная моя надежда, а особенно ты! – Да, я буду заботиться о ней, как о родной сестре. – Ты обещаешь мне, Ричард, охранять мою Хулию? – Отправляйся со спокойной душой, Антонио. Ничто не остановит меня, я на все готов ради этой девушки. Даже убить Бродели, если это понадобится. Наши друзья-англичане помогут мне. Будь спокоен и не бойся за Хулию. Я остаюсь с ней. – Спасибо, спасибо, ты вернул мне счастье! – воскликнул Антонио, с жаром пожав руку Ричарду. – Когда-нибудь я отблагодарю тебя за услугу. Прощай! И друзья расстались. Удаляясь в шлюпке от корабля, Антонио не сводил глаз с Ричарда, Бродели, Хулии и сеньоры Магдалены, которые смотрели ему вслед. Какие разные мысли волновали эти четыре сердца! «Ты унес с собой мою душу», – думала Хулия. «Я победил», – торжествовал Бродели. «Я выполню свою клятву», – говорил Ричард. «Хорошо бы ты встретил там смерть», – желала сеньора Магдалена. А Антонио предавался размышлениям и уповал на бога. Джон Морган высадился первый, а за ним и все его не слишком многочисленное войско. Разведав дороги, пираты убедились, что все они перерезаны. Испанцы надеялись помешать продвижению неприятеля. Однако этих людей ничто не могло остановить. Помехи и преграды только распаляли их боевой дух и поддерживали решимость. Морган построил свой отряд в колонну и без всякой дороги, определяя направление по компасу, вступил в глухой лес, отделявший их от города. Этот переход был чудовищно труден; заросли колючих кустарников вставали стеной, на каждом шагу приходилось прорубать проходы в плотной сети лиан, деревья стояли так тесно, что едва можно было протиснуться между двумя стволами. Водопады, потоки, скалы преграждали путь, сама природа препятствовала пиратам, грозила им гибелью; за каждым поворотом можно было ждать засады или неожиданного удара. Но пираты не отступили бы даже перед силами ада. У Моргана была железная воля, и он знал своих людей. Охотники с Эспаньолы, привычные к суровой жизни в горах, сыграли в этом походе главную роль. Они служили разведчиками и саперами боевой колонны, они исследовали местность, прорубали проходы в чаще абордажными топорами и широкими охотничьими ножами. Этим передовым отрядом командовал Антонио. В самые трудные минуты образ Хулии не покидал его: порой ему казалось, что она спокойна и думает о нем, и тогда силы его удваивались; порой он видел, как беспомощно бьется она в руках Бродели, и тогда топор валился у него из рук и он боялся сойти с ума от страшных мыслей. Ревность и любовь боролись в душе Антонио, и каждый час казался ему вечностью. Два дня пробивалась колонна пиратов сквозь лесные дебри, а на третий, когда солнце стояло уже высоко в небе, раздался радостный крик разведчиков. Они вышли на опушку леса. Перед ними расстилалась бескрайняя долина, а вдали маячили первые городские строения. Теперь положение пиратов изменилось. Они почувствовали, что желанная цель близка. Голова колонны вышла из леса и почти одновременно вдали показался легкий кавалерийский отряд, скакавший навстречу врагу. Сам губернатор города встал во главе эскадрона, надеясь запугать противника, обратить его в бегство и разбить наголову. Но он не знал ни повадок, ни мужества пиратов. Морган приказал развернуть знамена, построил своих людей полукругом и под гром барабанов повел их прямо на испанский отряд, который стремительно мчался вперед. Возможно, в наши дни, когда успехи тактики и военной науки превратили кавалерию в мощное средство прорыва, тот боевой порядок в форме подковы, какой придал Морган своему войску, не устоял бы перед первым же ударом не только эскадрона, но даже взвода. В те времена думали иначе, и исход сражения часто решала не пушка, а человеческая мысль. Морган и губернатор Пуэрто-Принсипе приблизились друг к другу на расстояние выстрела. Грянул один мушкет, за ним другой, третий, и сражение началось. Испанцы и пираты дрались с ожесточением. Бой длился уже три часа, а предугадать исход было невозможно. Испанский губернатор объезжал свои ряды, воодушевляя солдат, а случалось, и сам брался за мушкет, если пираты начинали теснить его войско. То же делал и Морган. Борьба продолжалась с переменным успехом. Антонио сражался, как лев, на виду у испанских воинов, кровь его кипела, он позабыл о Хулии и думал только о битве. Он совершал чудеса храбрости, и адмирал смотрел на него с восхищением. – Молодец, Антонио! – бросил он ему, оказавшись с ним рядом. – Надо наступать, эти испанцы оказались храбрецами. – Будь здесь хотя бы два десятка моих земляков верхом на конях, – отвечал Железная Рука, – все было бы уже кончено. Морган, ничего не ответив, улыбнулся мексиканцу и продолжал обход войска. Железная Рука вместе с горсткой охотников вырвался далеко вперед. Губернатор заметил это и, взяв с собой нескольких всадников, бросился на врага. Схватка была неизбежна, отступать у охотников уже не было времени. Им оставалось сопротивляться до конца и либо отразить удар, либо умереть. Антонио зарядил мушкет и остановился, поджидая неприятеля. Охотники последовали его примеру. В густых клубах пыли мчались, словно ураган, испанские всадники. Впереди, подбадривая их криками и собственным мужеством, скакал губернатор. Антонио и его охотники взяли всадников на прицел. Блеснул огонь, грянул залп, засвистели пули, и все скрылось в клубах дыма и пыли. Однако кони, очевидно, продолжали свой бег, потому что поднятая ими туча пыли приближалась. Когда рассеялся дым, стало ясно, что удача была на стороне пиратов. Антонио своим выстрелом настиг самого губернатора, немало всадников было убито, а их кони, не чуя больше узды, рванулись вперед и, налетев на пиратов, кое-кого, в том числе и Антонио, сшибли с ног. Уцелевшие испанцы, отступив, соединились со своими главными силами и сообщили печальную весть о гибели губернатора. Однако боевой пыл испанцев не угас, и бой продолжался с прежним ожесточением. Железная Рука поднялся с земли и увидел, что конь губернатора в испуге мечется среди пиратов. Он бросился к нему, схватил его за узду и так ловко вскочил в седло, что пираты разразились криками восторга. Теперь Антонио почувствовал себя во всеоружии. Нескольким пиратам тоже удалось захватить коней, оставшихся без седоков, и вскоре Железная Рука оказался во главе небольшого кавалерийского отряда. Этого только он и хотел: теперь победа будет за Морганом. Антонио и его всадники сеяли смерть повсюду, где появлялись, пешие пираты теснили врага со всех сторон, и вскоре в рядах защитников города поднялось смятение. Морган понял это и решительно двинулся вперед. Пираты с торжествующим криком бросились за ним. Испанцы начали отступать, ища спасения в лесу. Однако лес был далеко, а конница пиратов преследовала и разила врага, захватывая все новых лошадей. Сражение длилось долго и под конец превратилось в бойню. Немногим испанцам удалось скрыться в лесу – почти все они полегли мертвыми на поле боя. Морган, не теряя времени, собрал всех своих людей. Его потери, по сравнению с потерями противника, были ничтожны, и он дал приказ немедля двинуться на город. Колонна, состоявшая теперь из кавалерии и пехоты, выступила в путь и через несколько часов подошла к Пуэрто-Принсипе. Там пиратов ожидал новый бой, хотя и не столь упорный, как в поле. Губернатор оставил в городе гарнизон и, несмотря на печальный исход первого сражения, защитники города приготовились к сопротивлению. Вскоре, однако, гарнизон сдался. Отдельные жители пытались обороняться в своих домах, но тоже вынуждены были сложить оружие. До этого часа Антонио еще по-настоящему не знал людей, с которыми свела его судьба. Он думал, что все россказни о жестокости пиратов – клевета, измышления испанцев. Но то, что он слышал, не могло сравниться с тем, что увидел он собственными глазами. Почувствовав себя хозяевами города, пираты набросились на мирных жителей. Мужчины, женщины, дети, старики, рабы – все без исключения были заперты в церквах, а в опустевших домах начался самый разнузданный грабеж. Антонио наблюдал, как пираты тащили из жилищ разное добро, как складывали и увязывали свою добычу, готовясь переправить ее на корабли. Возмущение вспыхнуло в груди юноши, и он отправился на поиски адмирала, желая узнать, как же сам он смотрит на поведение своих людей. Джон Морган не принимал участия в бесчинствах пиратов. Спокойно отдыхал он в доме, ранее принадлежавшем губернатору. Увидев Железную Руку, адмирал сразу понял, что происходит в душе молодого охотника. Они были наедине, и Морган мог говорить свободно. – Готов прозакладывать голову, – сказал адмирал, – что знаю, чем так взволнован мой новый друг. – Навряд ли, сеньор. Боюсь, я и сам не решусь открыться вам. – Напрасно. Это означает, что вы плохо знаете людей. – Возможно, сеньор. – Тогда слушайте: вы – честный, отважный юноша, не способный ни на что дурное и стремящийся лишь к благородным и возвышенным целям, – пришли в ужас, увидев, что творят мои люди в городе, не так ли? – Да, сеньор, – согласился Антонио, ободренный искренней сердечностью Моргана. – Вы правы. Вот почему я нигде не показываюсь и сижу здесь взаперти… – Но если вас возмущают эти бесчинства, отчего вы их не запретите? – Вы очень молоды, и у вас еще мало жизненного опыта. Вы думаете, что так легко было бы запретить грабежи? А не думаете ли вы, что я стал бы первой жертвой, если бы попытался сдержать моих солдат? А если бы это даже удалось, поверьте, через двадцать четыре часа мы с вами, хотя бы и сохранив жизнь, оказались бы в совершенном одиночестве. – Тогда зачем же вы стали во главе дела, которое повсюду сеет лишь ужас, разорение и смерть? – Выслушайте меня, Антонио. Я открою вам свое сердце, потому что только вы один способны понять и поддержать меня. Здесь, вот здесь, – и Морган прикоснулся ко лбу, – храню я свой замысел. Великий замысел, о котором многие догадываются, цель, к которой все тщетно стремятся. Достичь ее дано только мне. Цель эта – независимость Западных Индий. – Независимость!.. – Да. Выслушайте меня, не прерывая. Я объездил все колонии, которыми владеет Европа на материке. Я наблюдал, как тирания и рабство разъединяют людей, но я провижу свет грядущей свободы и верю, что принесу народам освобождение. Как я могу это сделать? Судите сами: есть в океане острова, возникшие из морской пучины, похожие один на другой. Вы знаете их: Куба, Эспаньола, Ямайка… Жители и гарнизоны этих островов дрожат от одного нашего имени, трепещут, завидев парус на горизонте. Но эти острова – ключ от океана, стена между Старым и Новым Светом. Создать там единую нацию, могучую своим богатством, грозную своим флотом, прервать сообщение между Европой и ее колониями, разбить морские силы угнетателей, воодушевить угнетенных, помочь им поднять восстание, которое не смогут задушить их владыки, – разве не значит это даровать свободу половине мира? Снять оковы с сотни народов? И ради этого можно прибегнуть к любым способам, стать пиратом, привлечь на свою сторону всякий сброд, отщепенцев, действующих только из корысти. Внушая ужас, мы внушим уважение к себе, заставим считать нас великими, хотя сейчас мы еще ничтожны. Но завтра, о, завтра! Верьте мне, настанет день и пиратские корабли превратятся в мощные эскадры, которые будут подчиняться законам нравственности так же, как эскадры испанского короля. Города и селения не станут больше трепетать при нашем приближении, они назовут нас своими спасителями, и над нашими судами взовьется наш флаг, прекрасный флаг новой нации, свободной, великой и могущественной. Короли вступят с нами в переговоры, как равные с равными, и мы унизим их гордыню. Мы создадим народ, который, подобно римлянам, взяв начало от горсти разбойников и пиратов, завоюет полмира. И народ этот поставит на колени тиранов. Ты понимаешь меня, Антонио? – Да, да, я все понимаю, сеньор, и я последую за вами! – Пусть эти ничтожества делят свою добычу. Они думают лишь о сегодняшнем дне. Рожденные ползать по трясине, они не видят неба! Но я превращу этот сброд, этих злодеев без сердца и мысли, эти отбросы общества в великую нацию, и те, кто теперь называют меня низким пиратом, будут благословлять меня как освободителя и воздвигать в мою честь памятники и статуи. Если бог, которому ведомы мои замыслы, дарует мне помощь, не пройдет и года, как весь мир узнает, чего я стою и на что способен… Железная Рука слушал Моргана с восторгом. Он хотел ответить ему, но внезапно на улице послышались крики и шум. Адмирал и охотник подошли к окну и увидели внизу всех англичан, участвовавших в походе. Оглашая город воплями ярости, они несли на руках чей-то труп. Одни взывали к правосудию, другие – к мести, и вот вся шумная толпа ринулась в дом адмирала. Лицо мертвеца было накрыто платком. Морган снял его, и у Антонио вырвался крик ужаса. То был Ричард, друг Железной Руки, которому поручил он защиту Хулии.XVI. РИЧАРД И БРОДЕЛИ
Хулия почти все время проводила в каюте, боясь даже показываться на палубе. Она чувствовала себя одинокой, безмерно одинокой – сеньора Магдалена едва с ней разговаривала. По мнению сеньоры Магдалены, Хулия обесчестила семью, объявив себя женой Антонио Железной Руки, который в лучшем случае был охотником на быков, а в худшем – пиратом. Ричард и Бродели следили за девушкой неотступно, один – чтобы спасти ее, другой – чтобы погубить. Однако преимущество было на стороне Ричарда. Он знал, кто его враг, а тот и не подозревал, что на корабле есть хоть один человек, кроме сеньоры Магдалены, который озабочен судьбой Хулии. Прежде всего англичанин решил сообщить девушке, что Антонио оставил ей защитника. Однажды, воспользовавшись тем, что Хулия оказалась на палубе без сеньоры Магдалены, Ричард заговорил с ней: – Хулия, – шепнул он, подойдя поближе. Девушка, не узнав его, с удивлением подняла голову: – Что вам угодно? – Я должен поговорить с вами. – Говорите. – Я буду краток, за нами следят. Антонио поручил мне заботиться о вас, помогать вам. Скажите, что вам нужно? – Благодарю вас. Сейчас – решительно ничего. – Во всяком случае, знайте, что у вас есть друг. Может быть, Антонио говорил вам обо мне. Меня зовут Ричард. – Да, – ответила Хулия и, просияв, протянула ему руку. – Я знаю, вы – настоящий друг. – Тогда рассчитывайте на мою дружбу и прощайте, мне кажется, Бродели за нами наблюдает. Не забывайте, я – рядом с вами. Пожав руку Хулии, Ричард поспешно отошел. И, в самом деле, он почти тотчас же столкнулся с вице-адмиралом, который сердито спросил у него: – Не можете ли вы сказать, что за дела привели вас к этой девушке? – Просто подошел поздороваться с ней. – Похвально; надеюсь, однако, что больше это не повторится. – Не повторится? Почему же? Разве я нарушаю этим наш договор? – Договор не договор, а установившиеся среди нас обычаи. Да и о благоразумии не следует забывать… – Что это значит? – Муж этой женщины отправился в поход с Морганом, и ему не очень понравится, если он узнает, что вы тем временем любезничали с его женой. Это может вызвать недовольство среди товарищей… – Но если я… – Кроме того, мы уважаем чужие права. Эта женщина оставлена под защитой начальников ее мужа, а они должны блюсти честь каждого воина, как собственную… – Но… – Дайте мне кончить. Если мы будем терпеть подобные вольности, то, отправляясь в бой, никто не сможет спокойно оставить свою семью, каждый будет бояться, как бы в его отсутствие над ним не посмеялись… – Но у меня не было ни малейшего намерения… – Я сужу не о намерениях, а о поступках, и предупреждаю вас под страхом сурового наказания, чтобы больше вы не беседовали с этой девушкой. Понятно? Ричард сообразил, какое коварство кроется за этими неожиданными обличениями, и до крови закусил губу. Бродели искусно плел сети, желая удалить его от Хулии и оставить ее без защиты под лицемерным предлогом, будто охраняет честь сражающихся воинов. Ричард решил затаиться и молча наблюдать. Вице-адмирал до самого вечера ходил дозором вокруг Хулии, выжидая удобный случай и измышляя способы захватить ее в свои руки. За день до того, как пираты взяли город, Ричард, который неотступно следил за Бродели, заметил, что тот беседует с капитаном корабля «Лебедь», принадлежавшего самому Бродели. Незаметно подкравшись к ним, Ричард прислушался: – Держи все наготове, – говорил Бродели, – завтра утром мы поднимем паруса. Нечего нам здесь терять время с Морганом, да еще делить барыши с этими чертовыми англичанами, когда мы можем сами найти себе настоящее дело! – Ты прав. Пять кораблей в нашей флотилии принадлежат французам, они последуют за нами. А это судно тоже нам пригодится, оно – наша добыча. – Вот именно. Но надо действовать осторожно. Я хотел бы разойтись с Морганом и его англичанами по-хорошему, без всяких споров. Когда все будет готово к отплытию, я высажусь на берег и сообщу ему о своем решении. – Отлично! – А теперь слушай: завтра на рассвете я отправлю тебе женщин. Обе они хороши: молодая – будет моей, сбереги ее для меня и относись к ней с уважением. Другую, если хочешь, можешь взять себе или отдать от моего имени, кому вздумаешь. – В котором часу их ждать? – Перед рассветом пришлешь за ними шлюпку. Я отправлю их с четверкой надежных матросов, а то еще вздумают сопротивляться. – Будет сделано. Завтра перед рассветом. Бродели и капитан говорили по-французски, но Ричард знал этот язык и не упустил ни слова. План Бродели был ясен. Он хотел похитить Хулию и увести у Моргана все французские корабли. Ричард ломал голову, придумывая способ спасти Хулию и предупредить измену вице-адмирала. Стража, охранявшая испанских пленников, состояла из англичан. Ричард поговорил с ними и узнал, что у них не было приказа запрещать пленным ходить по кораблю, им полагалось следить лишь за тем, чтобы испанцы не подняли бунт. Это и нужно было Ричарду. Он начал присматриваться к пленникам, пытаясь понять, кому из них можно довериться, и в конце концов остановился на старом капитане, доне Симеоне Торрентесе. – Послушайте, друг, – сказал он, подойдя к нему поближе. Капитан зарычал в ответ и отвернулся. – Послушайте, – продолжал Ричард, – хотите бежать? – Гм… – проворчал дон Симеон, – что вы говорите? – Я спрашиваю, хотите ли вы бежать отсюда? Хотите получить свободу? – Это вы без обмана? – Без всякого обмана. – Тогда какого дьявола спрашивать, хочет ли пленник получить свободу? – Полагаю, что вы этого хотите. Но я желал бы еще знать, хватит ли у вас отваги, чтобы бороться с опасностями, стоящими на пути к свободе. – Еще бы не хватит! Но кто мне поручится, что вы поступаете со мной честно, что это не ловушка, грозящая смертью? – А что мне проку в вашей смерти? – Не знаю. Но всегда лучше соблюдать осторожность. – Вы должны поверить мне. Мне нечем доказать честность моих намерений. Хотите – верьте мне, не хотите – разойдемся по-хорошему. Ничего не поделаешь. Дон Симеон немного подумал и наконец воскликнул: – Сто тысяч дьяволов! Я вам верю и передаю свою судьбу в ваши руки. Если вы меня обманете, дадите ответ богу. Что нужно делать? – Прежде всего выберите среди своих товарищей еще троих смельчаков и к тому же хороших гребцов. – А потом? – Сегодня вечером вы получите от меня такую же одежду, как наша, чтобы вас не узнали. Ждите, пока я вас не позову, и тогда хватайте силой тех двух женщин, которые находятся на корабле, и сажайте в присланную за ними шлюпку. Затем, когда шлюпка отойдет подальше, вы нападете на пиратов-французов, которых там увидите, убьете их, пошвыряете в море и, завоевав бот и свободу, поплывете к берегу, а там – помогай вам бог! – А если все сойдет хорошо, что нам делать с этими женщинами? – Вот в этом и заключается условие, которое я вам ставлю. Спасите их от французов и высадите на землю в безопасном месте. – Так. А если вы меня не позовете? – Тогда терпение. Это будет знак, что дело провалилось. – Сейчас пойду подыщу себе товарищей. Ричард отошел, раздумывая, как бы подставить четырех испанцев вместо матросов, которые должны были сопровождать Хулию и сеньору Магдалену. Он думал почти весь вечер, отнес дону Симеону и его товарищам одежду, а нужная мысль все не приходила в голову. Неожиданная случайность вывела его из затруднения. Прошла ночь, близился рассвет, как вдруг перед англичанином появился Бродели. – Чтобы доказать, что я не сомневаюсь в твоей верности, – сказал он, – я хочу дать тебе поручение. Ричард задрожал, решив, что вице-адмирал хочет отправить его с корабля на берег. – Отбери четырех самых надежных матросов, они должны препроводить на «Лебедь» этих женщин, из-за которых вышел у нас сегодня утром спор. Ричард не поверил своим ушам. Ему и во сне не снилось, чтобы Бродели мог избрать его для подобного поручения. С притворным равнодушием он спросил: – К какому времени должны быть готовы эти люди? – Тотчас же. Отправляйся за ними. Ричард, как бы желая показать свое рвение, бегом бросился за пленниками. – Вперед, – сказал он дону Симеону. – Пора? – спросил старик. – Да, где ваши помощники? – Здесь. Все четверо последовали за Ричардом. Когда Ричард появился рядом с Бродели, шлюпка «Лебедя» уже раскачивалась на волнах у трапа. – Вот они, – сказал англичанин, показав в темноте на своих людей. – Спустись с ними вниз и добром или силой приведи сюда обеих женщин. Ричард повиновался, испанцы последовали за ним. Хулия и сеньора Магдалена спали одетые. В страхе вскочили они при виде неожиданных пришельцев. – Следуйте за мной, сеньоры, – сказал Ричард. – Но куда? – Там узнаете. Следуйте за мной. – Ричард! – воскликнула Хулия. – Куда нас ведут? – Не знаю, сеньора. Таков приказ вице-адмирала. – И, подойдя ближе, он шепнул: – Идите, не бойтесь, умоляю вас. – Идем, матушка, – сказала Хулия. – Идем, – откликнулась сеньора Магдалена. Ричард поднялся на палубу, за ним шли женщины, окруженные матросами. – Вот они, – сказал Ричард. – Они сопротивлялись? – Так яростно, что, пожалуй, надо за ними присматривать. Как бы еще они не бросились в море с отчаяния. Хулия в ужасе посмотрела на Ричарда: это была страшная ложь. – Ладно, сажайте их в шлюпку. По два человека на каждую женщину. Двое матросов схватили сеньору Магдалену, другие двое Хулию. Их посадили в шлюпку, где находилось только двое гребцов и рулевой. Ричард спустился по трапу вместе со всеми, а покидая шлюпку, тихо сказал дону Симеону: – Все идет так, как я предполагал. Смелее! – Не беспокойтесь! Все будет отлично! Англичанин поднялся на корабль, и шлюпка отчалила. Хотя приготовления начались глубокой ночью, сейчас уже брезжил рассвет. Ричард пришел в отчаяние: первых проблесков зари было достаточно, чтобы разглядеть все, что происходило в море, а вице-адмирал не отрывал взгляда от удалявшейся шлюпки. Вдруг Бродели воскликнул: – Что это? Что там происходит? Похоже, что на шлюпке дерутся! И в самом деле, дон Симеон со своими товарищами, вооруженные огромными ножами, набросились на гребцов. Захваченные врасплох, пираты сопротивлялись недолго. Все они были перебиты, и их трупы один за другим полетели в море. Схватка продолжалась одно мгновение. Испанцы, завладев веслами, принялись грести как одержимые. – Они взбунтовались и похитили бот, – не помня себя от ярости, заорал Бродели. – Спустить шлюпки! Огонь по боту! Огонь! Но шлюпки оказались привязаны, артиллерия – не готова, а беглецы тем временем приближались к берегу. Когда пираты собрались наконец их преследовать, они уже сошли на землю и затерялись в лесных зарослях, бросив спасительный бот на волю волн.XVII. СПАСЕНИЕ
Ярость вице-адмирала не знала границ. Вдруг, словно молния, его пронзила догадка, что бегство пленников – дело рук Ричарда. Он тут же потребовал его к себе. – Что это за матросов ты выискал для сопровождения женщин? – прорычал он, задыхаясь от гнева. – Четверых, как вы приказывали. – Кто они такие? – Почем я знаю? – пренебрежительно ответил Ричард. – Связать этого негодяя! – крикнул Бродели матросам. – Горе тому, кто осмелится тронуть меня, – выхватив нож, воскликнул Ричард. Матросы, в большинстве своем англичане, ненавидевшие вице-адмирала, притворились напуганными и не двинулись с места. – Вы что, не слышите? – продолжал Бродели. – Вяжите его, трусы! Никто не шелохнулся. – Значит, вы не подчиняетесь мне? Взбунтовались со страху? Ладно, трусы… То, что не смеете сделать вы все, сделаю я один… И, произнеся эти слова, он шагнул к англичанину. – Бродели! – крикнул Ричард. – Предупреждаю: если ты только прикоснешься ко мне, ты мертв. – И ты осмелишься? – Да, осмелюсь. – Я – вице-адмирал. – Ты – чудовище! Пользуясь своим положением, ты хотел соблазнить и похитить жену нашего товарища, а он сейчас сражается за нас! Я помешал этому… – Значит, ты сознаешься в том, что помог бежать этим женщинам? – Да, это сделал я. – Тогда казнь будет еще ужаснее. И, сделав вид, будто хочет уйти, Бродели внезапно выхватил пистолет и выстрелил в Ричарда. Пуля пронзила сердце молодого англичанина. Ричард застонал, выронил нож, и тело его рухнуло к ногам Бродели. Крик возмущения вырвался у англичан, и они бросились к вице-адмиралу. – Отмщение! Отмщение! – раздался общий призыв. Бродели вытащил из-за пояса второй пистолет и приготовился к защите. Но взбешенные англичане продолжали наступать. Люди, объединившиеся вокруг Моргана, представляли собой сборище выходцев из всех стран, всех народов. Были среди них итальянцы, испанцы, африканцы, американцы, даже китайцы. Но больше всего было англичан и французов. Англичане, набранные самим адмиралом, были ярыми его приверженцами и не ладили с французами, которые шли за Бродели. Не раз требовалась вся сила престижа Моргана, чтобы гасить распри, вспыхивавшие из-за этого постоянного соперничества. Естественно, что, приняв командование над «Санта-Марией», адмирал образовал экипаж из англичан, и теперь вице-адмирал оказался среди людей, которые его ненавидели, и не мог рассчитывать ни на одного защитника. Бродели отлично понимал свое положение и знал, что спасти его может лишь дерзкая отвага. Отступая и держа под дулом пистолета угрожавших ему матросов, он дошел до борта. Тут он выстрелил в первого попавшегося англичанина, остальные отступили, и, прежде чем рассеялся пороховой дым, прежде чем кто-нибудь успел опомниться, Бродели прыгнул в воду и вплавь добрался до одного из французских судов. С борта бросили трап, и вице-адмирал, изрыгая проклятия, поднялся на корабль. На борту «Санта-Марии» восстановилось спокойствие. Друзья Ричарда перенесли его труп в шлюпку. Они решили отправиться на берег и, представ перед Морганом, потребовать правосудия или мести. Вот почему появились они в городе у дома, который занял адмирал. Морган бесстрастно выслушал отчет о случившемся. Он обещал англичанам справедливый суд и сообщил, что вечером все пираты должны вернуться на борт своих кораблей. Железная Рука был подавлен горем. Ричард погиб, желая оказать ему услугу; он сдержал слово и спас Хулию. Но где теперь сама Хулия? Что сталось с ней? Блуждая в глухом лесу с людьми, которые совсем не знали этого края, она могла снова попасть в руки к пиратам или умереть с голоду в непроходимой чаще. Антонио решил отправиться на поиски и сказал об этом адмиралу, к которому относился теперь с полным доверием. – Это невозможно, – ответил Морган. – Почему? – Вы не знаете местности, а через несколько часов мы должны поднять паруса. Наши дозорные перехватили гонца, при нем были письма, адресованные захваченным в плен горожанам. В письмах дается совет не платить выкупа. Утром ожидается мощная подмога, – испанская эскадра разыскивает нас, чтобы отомстить за захват «Санта-Марии» и снова вернуть ее. Нельзя терять ни минуты. – Как могу я покинуть Хулию, одинокую и беззащитную? – Но где же выход? Остаться здесь одному, чтобы вас повесили без всякой пощады, возможно, на глазах у женщины, которую вы ищете? – Пусть я умру, но покинуть Хулию я не в силах! – Антонио! – Сеньор, если вы доверяете мне, разрешите мне остаться. Вскоре я присоединюсь к вам. Каким образом? Господь наставит меня. В противном случае – велите отвести меня на свой корабль, как пленника, по доброй воле я не покину этот остров, пока не буду уверен, что Хулия в безопасности. – Поступайте как знаете, Антонио. Но я советую вам не задерживаться надолго. Завтра испанские войска будут здесь. – Бесполезно об этом говорить, сеньор. Я решил искать Хулию, решил найти ее, и я буду ее искать и найду… – Вы свободны!.. Прежде всего Антонио позаботился о том, чтобы сменить одежду. Затем, не теряя времени, он вышел из города и зашагал в том направлении, где, по рассказам англичан, скрылись испанские пленники вместе с женщинами. Долго шел он, никого не встречая среди безлюдных лесов. Но вот он заслышал шум волн. Очевидно, море было близко. Антонио вышел из лесу и оказался на морском берегу. Грозные черные скалы вздымались из воды, и огромные волны, увенчанные султанами сверкающей белой пены, с грохотом разбивались о камни каскадами жемчуга и алмазов. Антонио понял, что попал на побережье, противоположное месту высадки пиратов. Может быть, здесь нашла себе прибежище Хулия. Узкая тропинка вилась по песку. С одной стороны лежали густые заросли, с другой – простирался океан. Антонио решительно двинулся по тропинке. Местами океан отступал, и волны, удаляясь, расстилались, словно необъятное покрывало, потом снова бушевал прибой и замирал у самого подножия деревьев. Заслышав приближение волны, Железная Рука замирал на месте, вода заливала его по пояс, потом откатывалась, и он снова продолжал путь. Тропинка углубилась в лес, отклонившись от берега. Антонио тоже повернул и, прошагав немалое время среди чащи, снова услышал шум морского прибоя. Он взглянул вперед и увидел большую бухту. Там было полно народу. Вдали стояли на якоре корабли, а жители острова с берега наблюдали за высадкой солдат. Безотчетным движением Антонио бросился назад и скрылся в лесу. Если бы его узнали, он, без сомнения, был бы повешен. Прячась за деревьями, Антонио внимательно присматривался ко всему, что делалось на берегу. С кораблей высадилось большое войско с артиллерией. Солдаты построились в колонны и по одной из дорог двинулись в глубь острова. Это и было подкрепление, прибывшее для разгрома пиратов. Но Антонио не сомневался, что, пока испанцы дойдут до города, Морган уже поднимет паруса. День угасал, океан покрылся дымкой, вечерний сумрак залил леса. Глаз едва различал пенящиеся гребни волн, деревья смутно проступали на темной синеве небес. Торжественно звучал прибой, а над лесной чащей поднимался смутный гул: звон насекомых, пение птиц, ропот ручья, хруст ветвей, однообразное гудение ветра в листве. Ночь – на воде, ночь – на суше, затерянной среди океана. Опасная тишина, нарушаемая лишь ударами волн о скалы. В лесу – неясный шум да изредка какие-то странные звуки, недоступные пониманию человека. Антонио все ждал и ждал. Огни на судах погасли, но он знал, что там бодрствуют часовые. На берегу догорали костры. Глубокое безмолвие царило в неожиданно возникшем поселении, лишь изредка раздавался собачий лай в ответ на далекое рычание лесного зверя. Наконец Антонио решился покинуть свое убежище и при скупом свете звезд пустился в путь. Крадучись, стараясь слиться с густым кустарником, он дошел до места, где ему послышались приглушенные голоса. Сделав еще несколько шагов, он увидел каких-то людей, сидящих кружком на земле; все они были вооружены. Должно быть, здесь скрывались местные жители, бежавшие из города, – неподалеку от костра стояли сундуки, а рядом, прямо на земле, спали несколько женщин. Антонио притаился и стал прислушиваться к разговору. С первых же слов ему стало ясно, что он – у цели. – Теперь вы видите, – говорил один из этих людей, – что бог еще при жизни вознаграждает человека за хорошие поступки. Вы – на свободе и в добром здравии, да еще и встретились со своей семьей, чего уже вовсе не ждали. – Да, мне есть за что благодарить всевышнего, – ответил голос, слишком хорошо знакомый Железной Руке. – И как, вы сказали, вас зовут? – спросил третий. – Дон Педро Хуан де Борика-и-Ленгуадо, – отвечал человек со знакомым голосом, который оказался не кем иным, как нашим живодером, уже вполне уверенным в своем дворянском титуле. – И вы собираетесь остаться с нами? – Разумеется, нет, – возразил Педро Хуан, – при первой же возможности отправлюсь с эскадрой в Новую Испанию. – И хорошо сделаете. На этом острове такое творится, что жить здесь никак нельзя. Да и бедные сеньоры столько натерпелись, что им необходим покой, а здесь его не дождешься. – Бедняжки! – сказал Педро Хуан. – Только бог был в силах спасти их из рук подлых пиратов. Тут разговор перешел на пиратов и их обычаи. Живодер принялся расписывать нравы пиратов самыми мрачными красками, какие только мог найти в скудной палитре своего воображения. Теперь Антонио был уверен, что Хулия и сеньора Магдалена в безопасности и вновь соединились с Педро Хуаном, который, казалось ему, был послан самим провидением для защиты бедных женщин. Он мог спокойно уйти, ему нечего больше бояться за свою возлюбленную, да и ничего он не мог для нее сделать. Так подсказывало ему благоразумие. Но Железная Рука был влюблен, а влюбленные почти никогда не внемлют голосу благоразумия. Эта добродетель им только мешает, и Антонио не был исключением из общего правила. Он, разумеется, собирался уйти, но хотел, чтобы раньше Хулия узнала, что он тревожился за нее, разыскивал, был рядом и ушел лишь тогда, когда увидел ее в безопасности. Однако заговорить с ней сейчас было невозможно. Может быть, написать? Но как? И тут Антонио вспомнил былые счастливые времена. Он обошел вокруг лужайки и, приблизившись к месту, где лежала Хулия, засвистал песенку, которой вызывал девушку на свидание, когда они жили в Сан-Хуане. Мужчины, разумеется, не обратили на это никакого внимания. Но Хулия, которая не спала, решила, что ей пригрезился знакомый мотив, и залилась слезами. Однако вскоре она убедилась, что это не сон; наверное, кто-нибудь случайно насвистывал песенку, навеявшую столько печальных воспоминаний. Она попыталась не слушать. Антонио засвистал другую мелодию, и тут уж Хулия вскочила, чувствуя, что сходит с ума. – Антонио, – шептала она, – Антонио! Невозможно! Каким образом? Железная Рука продолжал насвистывать, сеньора Магдалена не просыпалась, и Хулия наконец поняла, что ее возлюбленный близко. При неверном свете угасающего костра Антонио увидел, как поднялась с земли какая-то тень. Он не мог хорошо рассмотреть ее, но знал, что ни одна женщина, кроме Хулии, не могла обратить внимание на условный сигнал. Теперь они оба узнали друг друга, оба поняли, что они совсем рядом, и оба стремились найти какой-нибудь способ поговорить. Хулии, робкой и пугливой, это показалось невозможным, зато для отважного и влюбленного Антонио все было просто. Охотник пополз среди кустарника, который становился все реже и реже. Педро Хуан еще не спал и продолжал разговаривать, он легко мог заметить Антонио. Но юноша хотел поговорить с Хулией и решил добиться этого любой ценой. К счастью, мужчины были увлечены беседой, а сеньора Магдалена спала очень крепко. Антонио удалось подползти совсем близко. – Антонио, ради бога! – прошептала девушка. – Что ты делаешь? Тебя заметят. – Хулия! Неужели ты думаешь, что я могу покинуть тебя? – Но будь разумен, Антонио! Я – в безопасности. Беги! Уходи отсюда! Спасайся, умоляю тебя. – Не бойся, ангел мой. Я уйду. Но раньше я хотел поговорить с тобой. Ты должна знать,что я забочусь о тебе, что я не оставлю тебя. – Неужто я в этом сомневалась? Разве я не знаю тебя? Но уходи ради бога! Ради нашей любви! Я боюсь, я так боюсь за тебя. Если тебя схватят, я умру от горя. Сделай это для меня, уходи, любовь моя! – Хорошо, Хулия, я подчиняюсь. Но не забывай меня ни на миг. – Никогда, никогда! Я думаю только о тебе. – Ты всегда будешь любить меня? – Всегда, всегда! – Прощай! Верь моим обещаниям. – Прощай! Верь и ты моим клятвам! Хулия протянула руку, Антонио нежно сжал ее и запечатлел на ней тихий поцелуй, такой тихий, что даже легкий морской ветерок не мог его подслушать. Затем так же осторожно он скрылся в зарослях. Хулия долго прислушивалась к тишине. Малейший шум, шелест ветра в траве пугал ее, – ей казалось, что Антонио пойман. Неумолчные удары волн о берег, мешавшие ей слушать, приводили ее в отчаяние. Так прошло более часа. Наконец она воскликнула: – Слава богу, теперь он, наверное, в безопасности! Радостный и гордый ушел Антонио от Хулии и, никем не замеченный, ловко и бесшумно достиг опушки леса. Для человека, который любит по-настоящему, самая славная победа – это одобрение любимой женщины. В ней заключается для него весь мир, и, если она довольна, презрение всего общества ему безразлично. Женщина, заслужившая такую любовь, может с гордостью сказать: «Я вдохновила на этот подвиг; мне обязана родина этим героем; мне обязано человечество этой книгой, этим благим деянием. Я поддерживаю это мужество в бою, этот ум в науке, эту душу в добродетели. Ибо человек этот все совершает для меня, для одной меня». Железная Рука размышлял о любви и гордился своей Хулией. Думая о ней, он прилег у подножия дерева и крепко заснул. Молодость и усталость помогают заснуть даже среди величайших опасностей. Антонио и не подумал о том, в каком неподходящем месте он устроился. Спал он долго и видел во сне Хулию. Внезапно он почувствовал, что кто-то трясет его за плечо. Открыв глаза, он увидел вокруг себя множество народу. – Это не иначе как из пиратов, – сказал один. – Да, это пират, – подтвердили остальные. – Вставай! – крикнул кто-то из них и грубо дернул Антонио за руку. Антонио встал. – Отвечай: ты – пират? – Я пришел вместе с ними, – бесстрастно ответил Антонио. – Значит, пират? – Если бы это было так, разве спал бы я здесь так спокойно? Довод этот, очевидно, показался достаточно убедительным, все растерянно переглянулись. – Как же ты пришел вместе с ними? – продолжал допрашивать его тот же человек. – Меня взяли в плен на Эспаньоле. – Неплохо бы спросить других пленников, – вмешался еще один. – Правильно, правильно, – закричали остальные. – Теперь это уже невозможно, – возразил тот, кто казался их главарем, – видите, корабль, на котором они отправляются, поднял паруса. Все взглянули в сторону моря, и Железная Рука увидел, как величественно скользит по волнам большой военный корабль. Напряженно взглядываясь в даль, он рассмотрел на палубе Хулию. Невольный вздох вырвался из груди Антонио. Почем знать, быть может, им предстояла вечная разлука, и эта мысль так поразила его, что он дал себя связать, не оказав ни малейшего сопротивления. Вскоре Железная Рука шагал по направлению к городу под конвоем разъяренных островитян, готовых убить его на месте.Часть вторая. РОД ГРАФОВ ТОРРЕ-ЛЕАЛЬ

I. СЕМЬЯ ГРАФА
Одним из самых прекрасных зданий, построенных в Мехико испанскими конкистадорами и их потомками, был, несомненно, дом, принадлежавший графам де Торре-Леаль. Как все другие резиденции местной знати, он стоял на главной улице Икстапалапа. На этой улице новые властители воздвигали роскошные здания, которые в Мехико скромно именовались домами, но в любом другом месте были бы названы дворцами. Графы де Торре-Леаль происходили из древнего кастильского рода. Если верить родословным книгам новой колонии, предки их, запершись в крепостной башне, отразили нападение мавров и отстояли целую область то ли для Альфонсо Завоевателя, то ли для другого из королей иберийского полуострова, которые сохраняли и расширяли свои владения лишь благодаря героическому величию своего сердца и мощи своей руки. На щите с родовым гербом графов красовалась в память о достославном подвиге золотая башня на голубом поле, а род их принял имя Торре-Леаль.*["138] Хроники и предания гласят, что первый граф прибыл в Мексику как солдат Эрнана Кортеса в погоне за приключениями. Ему понравился этот край, и конкистадор превратился в колониста. Он получил от Кортеса землю, выстроил дом, обзавелся семьей. Его потомки обосновались в Новой Испании, и с каждым днем возрастало их богатство, значение, а вместе с тем и гордыня. В те годы, о которых хотим мы повести свой рассказ, титул графа Торре-Леаль принадлежал старому дону Карлосу Руис де Мендилуэта; супругой его была донья Гуадалупе Салинас де Саламанка-и-Баус. Граф прожил уже шестьдесят зим, а донья Гуадалупе едва достигла двадцать второй весны. Разница была велика, и объяснялась она тем, что дон Карлос решился на второй брак только после долгих лет вдовства. Выбор его пал на красивую и благонравную, но бедную девушку, которую он случайно увидел в церкви на ранней мессе. Эта девушка была Гуадалупе. Граф наблюдал за ней во время службы, пошел ей вслед до самого дома и выведал у соседей ее имя и звание. Через неделю он приехал просить ее руки. Граф был знатен, богат, добрый христианин и честный человек. Гуадалупе сравнялось пятнадцать лет, она слыла превосходной девушкой. Брачный союз был решен, и вскоре дон Карлос повел к алтарю свою юную невесту, красневшую под любопытными взглядами толпы, заполнившей церковь. У дона Карлоса было двое детей от первого брака: старший – Энрике вел веселую, праздную жизнь, младшая – донья Консуэло приняла обет в одном из монастырей Мехико. Когда дон Карлос вступил во второй брак, Энрике не выразил ни малейшего недовольства. Напротив, зная, что одиночество могло быть губительно для отца, он радовался его счастью, словно своему собственному, и принял Гуадалупе, если не как почтительный сын, чего не допускал ее юный возраст, то как любящий брат. Старый граф был этим от души доволен. Через год Гуадалупе стала матерью, и Энрике понес младенца к купели. В Мехико жил брат доньи Гуадалупе, который был старше ее на много лет. Звали его дон Хусто, по слухам, он отличался мрачным, скрытным нравом, скупостью и коварством. Через месяц после крещения сына доньи Гуадалупе дон Хусто явился в дом графа, чтобы поздравить сестру. Гуадалупе была одна. Брат придвинул кресло к ее кровати и сел. – У тебя красивый ребенок, благодарение богу, – сказал дон Хусто. – Да, неправда ли, он очень красив? – спросила Гуадалупе с материнской гордостью. – Очень. Словно ангел! Да простит мне бог это сравнение. Гуадалупе поцеловала сына, посмотрела на него и снова принялась целовать. – Да сохранит его бог, сестра, и да ниспошлет ему счастье. Бедняжка! – добавил дон Хусто с удрученным видом, – как мне его жаль! – Почему? – в испуге спросила Гуадалупе. – Почему? Ладно, ты сама отлично знаешь. Не притворяйся. – Да нет же! Говори, ради бога, моему сыну грозит беда? – Нас никто не слышит? – Никто. – Тогда слушай, – шепотом продолжал дон Хусто. – Разве не кажется тебе величайшей бедой то, что этот ангелочек, в жилах которого течет наша кровь, не наследует титул графа де Торре-Леаль, а будет жалким сегундоном?*["139] – Такова воля божья, – отвечала Гуадалупе. – Но граф меня очень любит, он не оставит нашего сына в нищете… – Нет, нет, этого я не думаю… Но представь себе… если бы ты была матерью графа, а я его дядей… – Но право принадлежит тому, кто родился раньше моего сына. – А если бы это можно было изменить?.. – Изменить? – с удивлением переспросила Гуадалупе. – Что ты хочешь сказать? – Сейчас поймешь… Единственным препятствием к тому, чтобы твой сын стал графом, является этот праздный гуляка дон Энрике. – Законный наследник?! – Да. Но если бы его не было… – Тогда мой сын стал бы графом. – Что ж, он легко может умереть. – Кто? – Дон Энрике. – Боюсь, что так. Эта разгульная жизнь, дуэли и бог знает, что еще… Как огорчает он своего доброго отца. – Неплохо было бы помочь судьбе… – Каким образом? – Очень просто. Постараться, чтобы дон Энрике исчез. – Ты замышляешь преступление! Боже, какой ужас! – О нет. Зачем же преступление? – Что же тогда? – Да так, есть у меня один план. Не знаю, как объяснить тебе… – Нет, Хусто, не говори мне об этом. Так велел бог, и я буду верна его воле. – Подумай хорошенько… – Об этом нечего и думать, Хусто… – Но судьба твоего сына… – Бог позаботится о нем. – Ты ребенок, ты ничего в этом не смыслишь. Но, в конце концов, это мой племянник, и я сам буду действовать. – Хусто, забудь об этом. Умоляю тебя! – Предоставь все мне. – Нет, нет! – Ты просто глупа, сестрица. Прощай. – Хусто… Хусто!.. – крикнула ему вслед Гуадалупе. Но дон Хусто, не отвечая, поспешно вышел из ее покоев.II. ПЕРВАЯ ЗАПАДНЯ
Редкая женщина могла бы устоять перед таким юношей, как дон Энрике. Обладатель несметного богатства, стройной фигуры и ясного ума, наследник старинного дворянского титула, ловкий наездник, – он был отважен до дерзости, искусен во владении оружием и во всех видах физических упражнений, а романсы и сегидильи сочинял с той же легкостью, с какой владел копьем. Одаренный столь незаурядными достоинствами, дон Энрике чувствовал себя хозяином земли и был готов к любому приключению, с равным безразличием относясь и к опасности и к славе. Сердце дона Энрике было еще прекраснее, чем его тело. Он без колебаний мог броситься в огонь, чтобы спасти неизвестного ему человека, или вступить в бой с негодяем, обидевшим ребенка. Не раз он переводил через дорогу беспомощного слепца, не думая о том, какой разительный контраст являет его цветущая юность и шитый золотом бархатный камзол с грязными лохмотьями и печальной старостью жалкого нищего. Дона Энрике знали и любили все жители города. Однако дьявол не раз искушал его приманками любви, а так как дьяволу нетрудно угадать слабую струнку каждого человека, то вскоре он понял, что именно в любовных делах может победить эту сильную душу. Стоило дьяволу мигнуть, и дон Энрике оказывался влюблен по уши. Девушки, которым, как всем дочерям Евы, глаза даны на их же погибель, не могли не оценить достоинства молодого сеньора. Несмотря на слухи о ветрености юноши, каждая, не доверяя чужому опыту, надеялась пленить его своими чарами. Но, увы, все они, одна за другой, оказывались желанными, любимыми и покинутыми. Правда, дон Энрике обладал даром лишать даму своей любви, не теряя при этом ее дружбы. В то время, о котором идет наш рассказ, дон Энрике увивался, как говорят в народе, вокруг прекрасной доньи Аны де Кастрехон, единственной дочери богатого испанца, умершего несколько лет назад. Донья Ана принадлежала к тем девушкам, которых в наши дни называют кокетками. Она жила вдвоем с матерью, щедро тратила деньги, посещала все балы и развлечения, всегда была окружена сонмом поклонников, причем со всеми поддерживала добрые отношения, – одним словом, была истым доном Энрике среди прекрасного пола. Ана и дон Энрике встретились в обществе и, сразу увидев и оценив друг в друге сильного врага, не решались помериться силами. Каждый понимал, что если борьба начнется, то она будет слишком опасной. Долгое время оба прикрывались равнодушием, втайне поджидая, когда противник первым пойдет в наступление, чтобы тут же разбить его или подчинить себе навеки. Но ни один не решался взять на себя начало. «Эта женщина, – думал Энрике, – хочет увлечь меня, чтобы надо мной посмеяться и отомстить за свой пол. Внимание!» «Этот мужчина, – думала донья Ана, – делает вид, будто не замечает меня, чтобы задеть мое самолюбие и тем легче одержать победу. Внимание!» А молодые люди спрашивали у дона Энрике: – Как это ты, такой волокита, пренебрегаешь случаем поухаживать за красавицей доньей Аной? – Сам не знаю, – отвечал Энрике. А девушки спрашивали у доньи Аны: – Как это случилось, что до сих пор ты не заставила дона Энрике пасть к твоим ногам? – Да я никогда об этом и не думала, – отвечала донья Ана и заговаривала о другом. Так проходили дни. Дон Энрике и Ана встречались постоянно, делая вид, что даже не глядят друг на друга, но в действительности все их помыслы были направлены на будущую победу, которая для каждого стала делом чести, ибо сердце тут уже никакой роли не играло. Наконец настал день, когда судьба свела их на балу. Они долго беседовали. Никто не прерывал их беседы, ибо все поняли, что пробил долгожданный час, и хотели знать, кто победит. – Давно уже я замечаю, – говорила донья Ана, – что вы печальны. – Это была ложь, но Ане казалось, что так легче завязать бой. – Сеньора, – отвечал дон Энрике, понимая намерения дамы и принимая вызов, – когда ранено сердце, трудно изображать на лице радость. – Уж не влюблены ли вы? – сказала девушка, прямо переходя к делу. – Кто в молодости не влюблен, сеньора? – возразил дон Энрике, уклоняясь от удара. – Возможно, это болезнь молодости. Но, очевидно, либо я не молода, либо принадлежу к особой породе. Я не знала еще этой болезни. – Это почти невозможно, сеньора. – Поверьте мне. – Вы так прекрасны, так умны, окружены таким поклонением!.. – Уж не стихами ли вы заговорили? – Сеньора, если правда – это поэзия, то я говорю стихами. – Вы грезите. – Я говорю то, что вижу и чувствую… – Сегодня вечером вы слишком любезны. – Сегодня вечером я говорю то, что думал не один вечер. – Это правда? – Клянусь. Донья Ана бросила на Энрике взгляд, полный огня, и он ответил ей таким же пылким взором. С этого часа их отношения становились все ближе. Донья Ана не переставала нежно улыбаться другим своим обожателям, дон Энрике также не упускал случая поухаживать за другими дамами, но все видели в этом лишь дань старым привычкам; было ясно, что из любви или из тщеславия дон Энрике и донья Ана хранят верность друг другу. В конце концов все кругом поверили, будто два эти существа преданы друг другу навеки и дело близится к свадьбе. Мать доньи Аны звали донья Фернанда. Она так гордилась красотой и любовными победами своей дочери, что ей никогда не приходило в голову остановить ее. Донья Ана стала полной хозяйкой в своем доме, она всегда поступала, как хотела, и матери оставалось лишь сопровождать ее на вечеринки и развлечения. Любовь Аны и дона Энрике несказанно обрадовала донью Фернанду: выдать дочь за наследника рода Торре-Леаль казалось ей высшим счастьем. Хотя почтенная сеньора никогда не говорила с дочерью о подобного рода делах, на этот раз она решила посоветовать ей добиваться заключения брака, надеясь своей опытностью помочь красоте и соблазнительности Аны. Однажды вечером, оставшись с дочерью наедине, донья Фернанда приступила к делу. – Дочь моя, – сказала она, – возможно, мои слова покажутся тебе странными, ведь до сих пор я никогда не вмешивалась в твои дела. Но в нынешних обстоятельствах благоразумие и долг велят мне быть твоей советчицей. – Вот чудо, матушка! А главное, вы поздно спохватились. Кажется, я уже совершеннолетняя и приобрела достаточный опыт в жизни!.. – Даже к старости, дочь моя, жизненный опыт не бывает достаточным. Послушай, далеко ли зашли твои отношения с доном Энрике? Ана с удивлением посмотрела на мать, слегка раздосадованная этим неуместным допросом. – Не удивляйся, – продолжала донья Фернанда. – Ты моя дочь, и я желаю тебе добра. Именно в отношениях с доном Энрике ты должна соблюдать величайшую осторожность. – Уж не думаете ли вы, матушка, что я ребенок, которым Энрике может играть по своей прихоти? – Нет, надеюсь для этого ты слишком умна. Я боюсь не того, что он посмеется над тобой, а того, что у тебя не хватит ловкости заставить его жениться. – Да я об этом даже не думала. – Вот в том-то и беда, об этом я и хотела поговорить с тобой. – Так поговорим, матушка. – Ана, ты молода и красива, живя со мной, ты ни в чем не нуждаешься, а в тот день, когда я умру, ты станешь очень богата. Но одинокая женщина не может занять достойное место в обществе. Мы, женщины, рождены, чтобы выходить замуж. Ты тоже должна иметь мужа, и я не вижу никого, кто подходил бы тебе больше, чем граф де Торре-Леаль. – Он еще не граф. – Но будем им, и очень скоро. Теперь перейдем к главному: говорил ли он тебе когда-нибудь о супружеских узах? – Никогда. Он говорил только о любви. Разве этого не достаточно? – Вот они, молодые люди! Наплетут вам нежных слов, а вы и довольны… – Да что же я могу сделать, если он не думает о женитьбе? – Заставить его, заставить. – Но как? – Ты призналась, что любишь его? – Да, матушка. – Потому-то они так ветрены! Никаких препятствий, никакой борьбы! Все течет легко, как вода в ручейке, все само идет им в руки… – Но, матушка! – Потому-то так трудно теперь уберечь девушку. В мои времена, дочь моя, «да» говорили лишь в ответ на предложение руки. Мы были очень благоразумны… – Полно, матушка, меня не проведете. Я уверена, что и вам моя бабка говорила то же самое, и сама она слышала те же слова от своей матери… – Поступай как хочешь, но я говорю тебе истинную правду. – Ладно, пусть так. Но что же вы мне посоветуете теперь, когда дон Энрике уже добился взаимности без всяких условий? – Посмотрим, посмотрим. Чтобы распалить его страсть, нужно поставить перед ним непреодолимые препятствия, но это уже должна делать не ты, а я. – Вы? – Да, я. Скажешь ему, что я против вашей любви, так как узнала о его легкомыслии. Скажешь, будто я пригрозила, что скорее заточу тебя в монастырь, чем соглашусь на ваш брак. – Но если он ничего не говорит о браке… – В таком случае я первая заговорю об этом, понимаешь? И слово, которое ты вложишь в мои уста, а он услышит от тебя, сразу направит ваши отношения по другому пути. – А если это охладит его любовь? – И не думай! Ты не знаешь мужчин. Возможно, вначале ему это не понравится, но потом страсть в нем вспыхнет еще жарче. А кроме того, скажу тебе по секрету, дон Хусто, брат доньи Гуадалупе, сообщил мне, будто Энрике уже начинает скучать. – Боже мой! Матушка!.. – Вот что случается, когда нет никаких препятствий, этому я и хочу помешать. Ты только верь мне и делай все, что я говорю, тогда сама увидишь… – Хорошо, матушка, я на все согласна. – Теперь запомни хорошенько: я – самый лютый враг вашей любви, и я запрещаю тебе видеться с ним. Почаще плачь, назначай ему свидания в самое неподходящее время, делай вид, что дрожишь и боишься. Едва увидев его, убегай, проговорив второпях: «Уходите, ради бога, уходите, дон Энрике, сюда идет моя мать! Мы погибли!» Ана весело расхохоталась при одной мысли о предстоящей комедии. Таких любовных приключений у нее еще не было, и все показалось ей очень забавным. – Но, – продолжала донья Фернанда, – иной раз я не буду пускать тебя на балы и прогулки… – Ах, матушка, какая досада! – Это необходимо. Иначе он ничему не поверит, а мы ничего не выиграем. – Очень жаль! – Нередко я буду запирать тебя, и ты не будешь видеть ни его, ни кого другого. Тогда можешь послать ему письмо, полное отчаяния и любовных жалоб. – Да ведь я едва умею написать свое имя, и это ужасно, потому что и вы пишете не лучше. – Пустое. Я-то не сумею, но верный друг, хотя бы тот же дон Хусто, который обещал во всем помогать мне, напишет все, что нужно. А не то попросим отца Хосе из монастыря кармелитов. – Нет, лучше уж дон Хусто. Ведь фрай Хосе мой духовник, и мне придется нелегко. – Ладно, как хочешь, это пустое. Было бы добро, все равно от кого. – Отлично, вот это мне по вкусу. – Значит, теперь ты понимаешь? – Понимаю, понимаю. – Тогда за дело. Начинай завтра же и расскажешь, как все удалось. Уверяю тебя, не пройдет и нескольких месяцев, – если только будет на то воля божья, и старенький граф отправится вкушать небесный покой, – как ты станешь сеньорой графиней де Торре-Леаль. – Бог поможет нам, ведь научили же вы меня желать того, о чем я и не помышляла. Вот увидите, я выполню все ваши советы, да еще и не то придумаю. Донья Фернанда удалилась, гордясь уроком, преподанным дочери, а также и ее понятливостью. С этого дня Ана спала и видела себя графиней де Торре-Леаль. Ей мерещились гербы на дверцах кареты, вензеля, вышитые в уголке носового платка, ливреи лакеев, роскошь и блеск старинного дворянства. Раньше Ана стремилась восторжествовать над доном Энрике, заполучив его себе в поклонники. Теперь она хотела заполучить его в мужья.III. ИНДИАНО
В те времена одним из самых заметных людей в Мехико был дон Диего де Альварес, известный в городе под прозвищем Индиано. Он был холост, сказочно богат, щедр, любил повеселиться и слыл в обществе блестящим молодым человеком. Дону Диего было около тридцати лет, лицо его выдавало несомненную принадлежность к чистой индейской расе. Стройный, сильный, с гладкими черными волосами и бронзовой кожей, безбородый, с тонкими усиками над губой, он казался прямым наследником Монтесумы. Индиано приехал в Мехико богачом, но никто не знал его прошлого. Одни говорили, будто он родом из внутренних провинций, другие – из Антекеры, третьи – из Семпоалы или с берегов Грихальвы, а иные были уверены, что он явился с Кубы или Эспаньолы. Сам дон Диего не пускался ни в какие объяснения, и его прошлое было окутано тайной. О нем создавались невероятные легенды, что только способствовало его успеху у женщин. Несмотря на разноречивые слухи и пренебрежение, с каким относились тогда к индейцам, богатство дона Диего заставило умолкнуть всех недоброжелателей, и он был с почетом принят в высшем обществе Мехико. Только вице-король и вице-королева, не отказавшись от своих сомнений, проявляли подозрительность и продолжали следить испытующим взором за всеми, даже самыми невинными поступками Индиано. Дон Диего принадлежал к наиболее пылким поклонникам доньи Аны, и он-то лишился и ее благосклонности, когда любовь красавицы завоевал молодой наследник рода Торре-Леаль. Между обоими претендентами сразу же вспыхнуло соперничество. Разжигаемое равнодушием дамы к одному из них и благосклонностью к другому, соперничество это вскоре превратилось в лютую ненависть, и оба, затаившись, ждали только случая, чтобы найти ей выход. Однажды дон Энрике публично похвалился тем, что похитил сердце дамы у соперника, а тот гордо объявил, что первым властелином несравненной красавицы был он. Неосторожные слова, подхваченные еще более неосторожными друзьями, сделали невозможным всякое примирение. Дон Диего готовился к мести, и Энрике, зная это, был все время настороже. Донья Ана, пользуясь мудрыми советами своей матушки, изменила тактику по отношению к возлюбленному. Иногда ему по нескольку дней не удавалось с ней встретиться, и в конце концов он поверил, что между ними стоят непреодолимые преграды. Разумеется, все эти маневры не могли не оказать желаемого действия, и вскоре дон Энрике, который начал домогаться любви доньи Аны только из прихоти, был страстно влюблен. А попав в расставленные сети, мужчина, как бы он ни был умен, как бы ни гордился своей волей, будет, как дитя, подчиняться всем желаниям любимой женщины, не понимая, что его обманывают, и с гневом отвергая уговоры друзей, пытающихся предостеречь его. Всю свою жизнь он отдаст этой женщине, которая может стать для него либо спасением, либо гибелью. Жертвами этой ужасной болезни сердца обычно становятся или старики, или так называемые светские люди. Дон Энрике и дон Диего захворали опасным недугом одновременно, и страсть их была обращена на одну и ту же женщину. Дон Диего внезапно утратил любовь доньи Аны, на пути страсти дона Энрике возникли неожиданные преграды, и эти перемены, казалось, еще больше воспламенили обоих. Дон Энрике чувствовал себя способным на любую жертву ради Аны, но мысль о женитьбе на ней казалась ему кощунством. Ни за что на свете он не отказался бы от этой женщины, однако понятия о чести рода, внушенные ему с детства, делали для него невозможным брак с дочерью даже не сельского идальго, а торговца, да еще легкомысленной кокеткой, весьма благосклонно относившейся к своим бесчисленным поклонникам. Близилось тринадцатое августа – день святого Ипполита, и город Мехико готовился пышно отпраздновать годовщину падения империи ацтеков и вступления Кортеса в Теночтитлан. Дамы готовили наряды и драгоценности; молодые люди собирали конные отряды для участия в процессии; жители заранее украшали фасады своих домов. На улицах, по которым должны были торжественно пронести знамя завоевателя, воздвигались помосты для зрителей. Даже в храмах собирались отметить день славы для испанцев, день траура и печали для индейцев. В народе толковали, что Мехико никогда еще не видывал подобной роскоши. Капитул и местные власти решили в этом году затмить всех своих предшественников, все было призвано доказать их верность и преданность его величеству – музыка и конные состязания, балы и празднества, восхваления и шутовство. Накануне великого дня город был оживлен сверх обычного. По всем улицам сновали портные, шорники, золотошвеи, ювелиры, слуги и рабы; с величайшей осторожностью оберегая свой груз, несли они, кто – китайский фаянс, кто – шитые золотом пышные юбки или бархатные панталоны и камзолы, кто – украшенные золотыми и серебряными бляхами седла и сбрую, кто – перья, цветы, драгоценности, парчу – словом, вещи неслыханной ценности, об истинном назначении которых не всегда даже можно было догадаться. Балконы домов были задрапированы парчой и камчатной тканью, шитой разноцветными шелками, и убраны выставленными напоказ золотыми и серебряными блюдами, японским фарфором, редкими растениями и цветами в фантастических китайских вазах. Все это нагромождение богатств стоило целого королевства. Дон Энрике прогуливался с друзьями по улицам, наслаждаясь общим оживлением. Он рассчитывал увидеться во время торжеств с доньей Аной и, пользуясь праздничной суетой, незаметно поговорить с ней. Проходя по площади мимо часовни шорников, – называвшейся так, потому что за порядком в ней следили члены этого цеха, – Энрике заметил, что за ним неотступно следует какой-то негритенок, подавая ему таинственные знаки. Юноша заколебался, не зная, к нему ли обращается негритенок, но вскоре, увлеченный беседой, позабыл о нем. Так дошли они до угла улицы Такуба. Дон Энрике разглядывал балконы, а негритенок, оттесненный толпой, пытался догнать его. Наконец юноша остановился. Негритенок, воспользовавшись моментом, подбежал к нему и тихонько дернул за полу. Дон Энрике обернулся, и мальчуган показал ему записку, одновременно поднеся палец к губам в знак молчания. Увидев, что они стоят у какого-то дома, дон Энрике вошел под навес, негритенок последовал за ним. Друзья, догадавшись, что речь идет о любовном приключении, остались на улице, загородив вход в дом, и дон Энрике, скрытый от любопытных взглядов, развернул записку и принялся читать:«Любовь моя! Завтра я надеялась увидеться и поговорить с тобой, но это невозможно. Я очень несчастна. Моя мать знает, что ты участвуешь в шествии со своим отрядом всадников, и не разрешила мне выходить днем на улицу, а вечером не пускает меня на бал. Если ты любишь меня, если хочешь доставить мне радость поговорить с тобой и даже пожать твою руку, завтра в полночь я буду ждать тебя у оконной решетки на первом этаже нашего дома. Придешь? Надеюсь, что придешь, ведь ты не захочешь, чтобы я умерла с горя в тот день, когда все будут радоваться и веселиться.Твоя до гроба Ана».
– А на словах твоя сеньора ничего не велела передать? – спросил Энрике, прочитав письмо до конца. – Сеньор, молодая госпожа говорит, что целует руки сеньору и что вы ее господин; и еще говорит, завтра молодой госпоже нельзя выйти, нельзя видеть сеньора. А в полночь она будет ждать у решетки внизу, у окна, что выходит на улицу, в такое время, когда старая госпожа ляжет спать. – Отлично. И ты думаешь, ей удастся прийти туда? – Да, мой сеньор. Это комната Фасикии, кормилицы молодой госпожи. Она знает все дела сеньоры так же хорошо, как я. Фасикия постережет, чтобы не пришла старая госпожа. – Тогда скажи молодой госпоже, что я не пишу ей, потому что ты вручил мне письмо на улице. Но скорее солнце завтра не встанет, чем я не приду на свидание. Дон Энрике достал из роскошного кошелька золотую монету и, протянув ее негритенку, ласково добавил: – Беги и не забудь, что я сказал тебе. – Нет, мой сеньор, – ответил негр и, поцеловав монету, выбежал на улицу. Дон Энрике бережно спрятал записку и вышел. Друзья последовали за ним. Эта сцена не обошлась без свидетеля, который хотя ничего не слышал, но легко обо всем догадался. По воле случая у окна дома напротив стоял Индиано. Увидев с высоты второго этажа, как дон Энрике вместе с негритенком вошел под навес, он стал наблюдать за их беседой. Дон Диего сразу узнал своего соперника, и волнение, охватившее его душу, подсказало ему, что дело касается доньи Аны. Это письмо; негритенок, так таинственно беседовавший с доном Энрике; радость, озарившая лицо будущего графа де Торре-Леаль; осторожность, с какой он прятал письмо; золотой, подаренный мальчугану, – все наводило дона Диего на подозрения. Едва негритенок вышел из дома, он взял шляпу и, взглянув, в каком направлении зашагал слуга доньи Аны, бросился в погоню. Негритенок шел очень быстро. Однако ненависть и ревность воодушевляли Индиано, и неподалеку от главной площади он нагнал мальчишку. Почувствовав, что кто-то взял его за плечо, негритенок обернулся и замер в изумлении перед столь роскошно одетым кабальеро. – Ты раб сеньоры доньи Аны?.. – Да, сеньор мой, – прервал его негритенок, – я раб моей сеньоры доньи Аны и к услугам вашей милости. – Хочешь, я сделаю тебя самым богатым негром на свете? – Как вам будет угодно, сеньор мой, – отвечал негритенок, все больше удивляясь. – Но для этого ты должен кое-что рассказать мне. – Да, сеньор мой. – Что ты делал и о чем говорил только что с этим кабальеро? – Сеньор мой, ни с каким кабальеро я не говорил, – притворно захныкал негритенок. – Ладно, не притворяйся. Как тебя зовут? – Хуаникильо. Так зовет меня молодая госпожа. – Хорошо, Хуаникильо. Так что же ты сказал тому кабальеро, с которым говорил на улице Такуба? – Ай, сеньор мой, я не могу. Госпожа будет меня бить. – Но если она ничего не узнает, а я тебе подарю одну вещицу… – Нет, нет, она узнает, узнает и побьет меня. – Ну что ты, не будь дурачком. Скажи мне все и посмотри-ка, что я тебе подарю. – Тут Индиано показал негритенку чудесную золотую цепь, висевшую у него на шее. Хуаникильо бросил жадный взгляд на цепь и невольно протянул к ней руку. – Она станет твоей, – сказал Индиано, отступив, – но прежде ответь на вопрос. Негритенок подумал и наконец решился. – Хорошо, я все скажу сеньору. Только бедному Хуаникильо придется потом уйти к беглым рабам. – Нет, нет, не сразу. Я хочу, чтобы ты остался в доме и рассказывал обо всем, о чем я буду тебя спрашивать. – И всякий раз сеньор будет давать мне золотые цепи? – обрадовался негритенок. – И цепи и кое-что получше. – Вот хорошо, сеньор мой. – Это тебе подходит? – Да, Хуаникильо очень нравятся всякие хорошие и дорогие вещи. – Скажи же, о чем вы говорили? – Мы говорили, что молодая госпожа послала письмо дону Энрике и будет ждать его завтра в полночь. – Где? – Дома, у оконной решетки в комнате Фасикии – это черная кормилица молодой госпожи. – А он что ответил? – Что придет, сеньор мой. – Отлично. Получай цепь и послезавтра днем приходи сюда же. Только внимательно следи за всем, что творится в доме. – Хорошо, господин. – Ты можешь подслушать, о чем они говорят? – Старая и молодая госпожа? – Да. – Ну еще бы! – Послезавтра мне нужно знать каждое слово. – Сеньор все узнает. – А теперь отправляйся. Индиано снял свою великолепную цепь и опустил ее в руку негритенка. Хуаникильо посмотрел на цепь, сунул ее за пазуху и бегом бросился домой. Индиано постоял, пока негритенок не исчез за углом улицы Икстапалапа, а затем, пройдя по улице Такуба, вернулся в тот же дом, из которого вышел.
IV. МАРИНА
Дом на улице Такуба был велик и роскошен. Слуги и рабы, собравшиеся в патио, при виде Индиано склонились в почтительном поклоне. Дон Диего поднялся по лестнице и через анфиладу богатых покоев прошел в прекрасную залу. Мебель, ковры, украшения – все в ней было подобрано с изысканным вкусом. Но сразу бросалось в глаза, что в убранстве испанские обычаи боролись с обычаями коренных обитателей страны. Комнату украшали пышные султаны из разноцветных перьев, ковры были расшиты золотом, у подножия кресел и диванов лежали огромные шкуры львов, ягуаров и медведей с искусно сохраненными головами и золотыми или серебряными когтями. Столы были заставлены фигурками из золота и серебра, японскими вазами, прекрасными благоухающими цветами. Когда дон Диего вошел, зала была пуста, но почти в тот же миг отворилась другая дверь и на пороге появилась женщина. Она была молода, и никто бы не усомнился, что в ее жилах течет чистая индейская кровь. Черные глаза сверкали; волосы отливали синевой, словно вороново крыло; между тонкими пунцовыми губами блистали ровные, белые, как слоновая кость, зубы. Цвет лица у этой женщины отливал не бронзой, как у дона Диего, а золотом. Одета она была в голубую, шитую черным шелком тунику без рукавов и корсажа, стянутую вокруг талии золотой цепью с двумя свободно падающими концами. На обнаженных руках сверкали золотые запястья, узкий золотой обруч поддерживал черные волосы. Увидев ее, Индиано встал и пошел к ней навстречу. – Дон Диего! – воскликнула девушка. – Мне было так грустно, я думала, ты не вернешься. – Тебе было грустно, Марина? – Разве могут быть веселы цветы, когда скрывается солнце? – Но ведь солнце всегда возвращается; оно знает, что его ждут цветы, и светит только для них. – Это правда? – Сеньора, зимой, когда нет цветов, печальное солнце скрывается в тучах. – Нет, нет, дон Диего, это розы умирают, оттого что прячется солнце. – Марина, а почему сегодня так медлило мое счастье, почему я не видел тебя раньше? – Когда я вышла, тебя уже не было. Тебе надоело ждать меня? – Я уходил, но тут же вернулся, чтобы сказать тебе о своей любви. Донья Марина ласковым движением взяла дона Диего за руку и усадила рядом с собой. – Дон Диего, – сказала она с нежностью, – почему ты так упорно не хочешь уезжать отсюда? Этот воздух гибелен для нас. Дерево, возросшее в дикой сельве, в городе чахнет; полевой цветок умирает в саду. Уйдем отсюда, сеньор мой, вернемся в наши леса и луга, где ты говорил мне такие прекрасные слова при бледном свете луны, туда, где ветер пел о нашей любви, где каждый ручей повторял наши поцелуи. Здесь все вокруг нас мрачно и печально, нет ни цветов, ни деревьев, ни ручьев. Женщины и мужчины смотрят на нас с любопытством; повсюду я вижу торжествующих завоевателей. Зачем, зачем ты принуждаешь мою любовь жить в темнице? – Ты права, Марина. Нам надо бежать из этого отравленного мира. Женщины здесь любят не сердцем, а головой. Рука, которая пожимает твою руку, лишь хочет испытать ее силу, прежде чем начать бой. Самый воздух насыщен здесь ядовитым дыханием рабства. Да, мы уйдем. Но только позже, немного позже. – Почему позже, сеньор мой? Уж не потому ли, что ты не любишь меня, как прежде? И глаза мои теперь уж не так хороши, и голос не звонок, и лицо не прекрасно? – Донья Марина, не говори таких слов! С каждым днем я люблю тебя все больше. Я сравниваю тебя с другими женщинами, и если одна из них хоть на мгновение смутит мою душу, то при одном воспоминании о тебе красота ее меркнет, как звезда при появлении солнца. – О! Какое счастье! Я обожаю тебя, дон Диего. Я твоя, я принадлежу тебе еще с дней нашего детства. Ты тоже любил меня, но ты хотел поехать в Мехико, а я молчала и плакала. Я плакала оттого, что боялась потерять тебя. Потом я подумала: что ж, пусть едет, пусть едет. Он убедится, что нет в мире девушки, которая способна любить так, как я его люблю. Пусть уходит, пусть узнает, сколько лжи, сколько лицемерия таится в груди этих женщин, о которых нам рассказывали путешественники. Пусть любит их, они заставят его страдать, и тогда он снова обратит свой взор на меня и увидит, что я достойна его и сохранила свою любовь, как розовый бутон сохраняет свой аромат. Так я сказала себе и утешилась, дон Диего. Цветы закрываются, когда прячется солнце, чтобы с рассветом вновь раскрыть свои лепестки. Настала ночь разлуки, и душа моя закрылась, поджидая рассвета твоей любви. Я ждала, ждала и с ветром, летящим вдаль, посылала тебе мои поцелуи и вздохи, а у встречного ветра спрашивала о тебе и искала твой образ под сенью рощи и на берегу ручья. Но солнце вставало и заходило, луна умирала и возрождалась вновь, а я все ждала. Деревья роняли листву и зеленели снова, и когда я увидела свежие почки, я сказала себе: раньше, чем опадут эти листья, он будет здесь. Холодный ветер развеял сухие листья по лесу, а я все плакала, потому что тебя не было со мной. Две слезы скользнули по лицу девушки. Дон Диего прижал ее к груди и нежно поцеловал в лоб. – Наконец я решилась. Я чувствовала, как приближается ко мне смерть, но боялась не смерти, а боялась умереть вдали от тебя, не увидев тебя в последний раз. Я пустилась в путь и после долгих, долгих дней оказалась здесь, с тобой, в этом городе, где все меня поражает, все мне внушает страх. Ах, дон Диего! А каким я нашла тебя? Печальным, мрачным. Померк веселый блеск очей, и тень страдания легла на твое лицо. Ты был несчастен здесь. Вот почему я ненавижу этих женщин. Не потому, что они похитили у меня несколько дней твоей любви, а потому, что не могли понять тебя. Где этим робким и лживым голубкам следовать за мощным полетом лесного орла! – Донья Марина! Я преступник! Никогда я не должен был глядеть ни на кого, кроме тебя! Ты благородна, ты прекрасна, ты одна достойна любви. Но небо жестоко отомстило мне. Я не понял ни твоей любви, ни величия твоей души, а эти женщины не поняли меня и моих высоких помыслов. – Дон Диего, эти женщины внушают мне ужас. Я знаю твое сердце и понимаю, как ты страдал. Но, любовь моя, вернись ко мне, вернись! Я обожаю тебя, как всегда. Душа моя чиста перед тобою, огонь любви не угасал в моей груди, и я боюсь лишь одного, боюсь, что ты уже не тот, что раньше. – Марина! Марина! Холод несчастия иссушил мой лоб, погасил жар моего взгляда, но сердце мое осталось девственным. Ведь эти женщины, которые, смеясь надо мной, играли моими чувствами, не способны любить и не могут внушить истинную страсть, ту пылкую чистую страсть, которая всегда жила в моей душе, но скрылась в смущении перед утехами и суетой так называемого общества. – Тогда почему нам не уехать? – Донья Марина, мы скоро вернемся на родину, мне нужно всего лишь несколько дней. – Зачем? – Чтобы отомстить! – Отомстить? Кому? – Мужчине, который смеялся надо мной; женщине, которая меня презирала. В глазах девушки сверкнула молния ярости. – Ты любишь эту женщину? – глухо спросила она. – Я не люблю, я ненавижу ее! – Значит, любил? – Тоже нет. Я думал, что полюбил ее, но она отвергла меня. – А этот мужчина? – Он ее возлюбленный. – Ты ревнуешь? – Я сказал, что не люблю эту женщину. – Клянешься? – Клянусь! – Памятью наших предков? – Памятью наших предков. – Твоя месть потребует много времени? – Надеюсь, немного. – Я помогу тебе, если хочешь; но потом уедем немедля. – В тот же день. – Как зовут эту женщину? – Донья Ана де Кастрехон. – А ее возлюбленного? – Дон Энрике Руис де Мендилуэта. – Я помогу тебе, если ты веришь в мои силы. – Как знать, быть может, ты – орудие, посланное мне богом. Донья Марина бросилась в объятия Индиано и прижалась к его губам жарким поцелуем. День угасал, в вечернем сумраке, словно звезды, горели глаза Марины.V. ЗНАМЯ КОРТЕСА
Тринадцатого августа тысяча пятьсот двадцать первого года, после семидесяти пяти дней осады, пала, отдавшись во власть испанцев, столица могущественной мексиканской империи, и Эрнан Кортес завершил завоевание обширной, густо населенной и богатой территории, увенчав последней победой замысел, наиболее дерзкий, быть может, наименее обдуманный, но несомненно требовавший больше искусства и мужества, нежели все деяния, запечатленные историей со времен легендарных подвигов полубогов. Куатемок, с героическим упорством и мужеством защищавший столицу своей империи, попытался бежать из плена, чтобы продолжать войну. Он отчалил от берега в том месте, где впоследствии был основан монастырь кармелитов, и вышел на каноэ в озеро; за ним последовала его семья, несколько военачальников и вожди Такуба и Акулуакан. Однако посланный в погоню бриг под командой Гарсиа де Олгина нагнал его и захватил в плен. Несчастный вождь не просил у победителей другой милости, кроме смерти. Ежегодно капитул и все население города Мехико торжественно знаменовали эти события. Об одном из таких празднеств мы поведем речь в своем повествовании. Меж тем как Индиано беседовал с доньей Мариной, начались церемонии и торжества, приуроченные к кануну праздника, другими словами, наступил вечер двенадцатого августа. Дон Энрике спрятал письмо, полученное из рук негритенка, и в глубокой задумчивости пошел влево по улице Такуба, направляясь к новому монастырю францисканцев. Всяулица, от дворца вице-короля до угла улицы святого Франциска и дальше до церкви святого Ипполита, была запружена народом, поджидавшим, пока в церковь внесут знамя Кортеса. Отсюда на следующее утро должна была двинуться торжественная процессия, сопровождающая знамя до здания консистории. Все улицы, по которым лежал путь процессии, были убраны арками; окна, двери и карнизы домов – украшены гирляндами и цветными полотнищами. Дон Энрике настолько погрузился в свои мысли, что не замечал ничего вокруг. Членам благородного семейства де Торре-Леаль почти вменялось в обязанность находиться в свите, сопровождающей знамя. Королевский знаменосец шел впереди, а за ним следовали вице-король, члены аудиенсии, муниципалитета и всех цехов. Дон Энрике не собирался уклоняться от своего долга, но полученное им письмо настолько раздосадовало его, что он совсем позабыл о торжестве. Затерявшись в толпе, дон Энрике равнодушно смотрел на шествие и почти против воли двинулся вместе с народом, повалившим вслед. Процессия подошла к церкви святого Ипполита. Город был взят в день этого святого, вот почему святой Ипполит и стал патроном Мехико. Знамя внесли в церковь, отслужили торжественную вечернюю мессу, и толпа растеклась по улицам, окутанным ночной тьмой. Растеряв всех своих друзей, дон Энрике возвращался по улице святого Франциска, как вдруг его остановила с таинственным видом какая-то старуха. – Вы кабальеро дон Энрике Руис де Мендилуэта? – спросила она. – Он самый, сеньора, – ответил дон Энрике. – Возьмите! – Что это? – Письмо, как видите. – От кого? – Буквы сами скажут. Прощайте. – Но послушайте… – Мне нечего добавить. Прощайте. И старуха затерялась в толпе. При свете фонарей, восковых свечей и смоляных факелов, пылавших в окнах, на балконах и крышах по случаю торжества, старухе нетрудно было узнать дона Энрике, но, для того чтобы прочесть письмо, свет был слишком слаб. Дон Энрике подошел к одной из стоявших среди улицы жаровен. На пакете не было ни печати, ни герба, решительно ничего, что помогло бы узнать, кто направил ему это послание. Молодой человек вскрыл письмо и прочел:«Дон Энрике! Если самомнение меня не обманывает, я полагаю, что хороша собой, скромна и принадлежу к знатному роду. Вы сможете судить, справедливо ли это, завтра, когда будете проходить со своим конным отрядом по улице Такуба. Мой дом будет со стороны вашего сердца. Если вы найдете меня красивой, быть может, завтра сбудется то, что сейчас мне кажется волшебной мечтой. Больше не скажу ни слова».
Подписи под письмом не было. Дон Энрике прочел его несколько раз, пытаясь проникнуть в тайну, скрывавшуюся за этими строками. Он понял лишь, что какая-то дама хочет, чтобы он увидел ее, однако прямого объяснения в любви записка не содержала. Дон Энрике, с письмом в руке, раздумывал, следует ли отнестись к предложению дамы, как к шутке, или принять его всерьез. Как бы скромен ни был мужчина, подобное письмо от женщины, да еще незнакомой, не может не польстить его тщеславию и не возбудить в нем любопытства. – Я увижу эту даму, – решил дон Энрике, пряча письмо. – А вдруг она хороша? К тому же таинственное приключение поможет развеять тоску, обуявшую меня после записки Аны. И, завернувшись в плащ, он поспешил домой. Занялся рассвет тринадцатого августа, дня святого Ипполита, и с первыми лучами солнца в городе воцарилось шумное оживление. В это утро процессия, сопровождавшая знамя, должна была пройти по улице Такуба, обогнуть дома маркиза дель Валье, там, где ныне проложена улица Эмпедрадильо, а затем направиться к зданию консистории. На всем пути, так же как на улице святого Франциска, красовались арки и цветы, повсюду блистали роскошью сказочные богатства тех далеких времен. Арки были обтянуты китайской тканью, расшитой многоцветными шелками, балконы – задрапированы парчой; сверкали на солнце золотые и серебряные сосуды. Народ толпился на тротуарах, заполняя улицу чуть не до середины, прелестные дамы сидели на балконах, блистая своими нарядами, драгоценностями и красотой. Верхом на великолепном, черном, как ночь, горячем коне, храня горделивую осанку, свойственную искусному наезднику, появился перед церковью святого Ипполита дон Энрике Руис де Мендилуэта в сопровождении пышного отряда всадников на вороных конях. Седло и уздечка дона Энрике сверкали золотом. И он, и сопровождавший его отряд всадников были одеты одинаково: фиолетовые панталоны и камзолы с белыми прорезями на рукавах, полусапожки оленьей кожи с золотыми шпорами, широкополые шляпы, украшенные белыми перьями, и парадная шпага на расшитой золотом портупее.
 В то же время с другой стороны подъехал к церкви отряд на белых конях, одетый в пунцовые с белым наряды, с красными перьями на шляпах. Во главе отряда гарцевал Индиано верхом на огневом белом коне с наброшенной на седло тигровой шкурой; такие же шкуры лежали на седлах у остальных всадников. Оба отряда встали рядом, и начальники их обменялись поклонами, столь сдержанными, что заметить их удалось лишь по легкому колыханию перьев. Однако кони врагов с силой забили копытами, почуяв, очевидно, нервную дрожь в руке седока и острые шпоры на своих боках.
Процессия начала строиться в принятом порядке – все участники были верхами. Королевский знаменосец взял в руки знамя, по обе стороны от него разместились вице-король, алькальды, все власти и коронные должностные лица, а за ними встали цехи и гильдии. Настало время занять место и для обоих отрядов. Наиболее почетным было место, непосредственно следующее за представителями власти. Идти впереди считалось особым отличием, также как в иных случаях почетнее бывает замыкать шествие.
Все всадники, без сомнения, знали об этом, ибо едва прошли цехи, как оба отряда, не соблюдая ни малейшей осторожности, ринулись занимать первое место. Разумеется, они столкнулись друг с другом, и, так как никто не хотел уступить, столкновение это грозило превратиться в схватку. С той и с другой стороны иные всадники были выбиты из седла, лошади опрокинуты наземь. Те же, кто твердо держался в стременах, вскипев, схватились за шпаги и бросились в бой, распознавая врагов по масти коней или по цвету одежды и перьев.
Нетрудно предположить, что дон Диего и дон Энрике немедля устремились друг к другу. Старая вражда вспыхнула в их сердцах, а кроме того, каждый чувствовал себя обязанным сражаться за честь своего отряда. Однако в общей свалке и густых клубах пыли почти невозможно было отыскать ненавистного врага.
Смятение возрастало, все громче звучали крики бойцов и зрителей, бой разгорался, в тучах пыли то и дело сверкало под лучами солнца оружие, слышен был грозный топот копыт. Оробевшие зеваки попятились, процессия остановилась, как вдруг послышались слова, неизменно оказывающие магическое действие:
– Подчиняйтесь его величеству! Подчиняйтесь правосудию! Именем короля! Именем правосудия!
Сам вице-король в сопровождении множества кабальеро, алькальдов, алебардистов и представителей правосудия прибыл к месту сражения.
– Подчиняйтесь королю!
– Дорогу его светлости!
– Именем его величества! – кричали альгвасилы.
Едва прозвучали эти слова, как словно по волшебству все лошади замерли неподвижно, все шпаги опустились, все языки онемели, пыль рассеялась, и теперь можно было рассмотреть, что же тут произошло.
А вокруг вице-короля, повторяя клич: «Именем короля! Именем правосудия!» – начали собираться все вооруженные участники шествия.
К счастью, раны, полученные в стычке, были незначительны. Всадники, вооруженные короткими шпагами, едва могли достать друг друга, лишь у немногих были разрезаны камзолы и выступило несколько капель крови.
Вице-король сурово отчитал виновных, однако, увидев, что потерь не оказалось, убедившись, что горячность бойцов объяснялась лишь их приверженностью к его величеству, а также принимая во внимание торжественный день, милостиво простил нарушителей порядка и повелел, чтобы оба отряда соединились и вместе выступили в процессии под началом обоих своих воинственных предводителей.
На вид все как будто успокоилось. Дон Энрике и Индиано, с изысканной любезностью уступая друг другу лучшее место, двинулись в путь, но сердца их были охвачены жгучей ненавистью и стремлением к мести. Напротив, среди остальных кабальеро, не питавших никакой взаимной враждебности и обманутых мнимым дружелюбием предводителей, вскоре воцарились согласие и веселье.
В горячке утренних событий дон Энрике совсем позабыл о полученном накануне письме незнакомки. Но, выехав на улицу Такуба, он вспомнил о нем и, сосредоточив все свое внимание, решил среди бесчисленного множества сеньор, сидевших у окон и на балконах, распознать по какому-нибудь тайному знаку ту, что написала письмо.
Итак, он принялся рассматривать всех дам, помня, что в письме говорилось о доме, стоящем со стороны его сердца. Улица уже подходила к концу, а он все еще не мог разгадать загадку. Но вот его взгляд остановился на балконе, убранном с ослепительной роскошью. Там сидела только одна женщина, но женщина эта была прекрасна. На ее черном платье, в черных волосах, на шее, на пальцах и запястьях, словно маленькие солнца, сверкали брильянты. В этой женщине было что-то фантастическое, она походила на царицу ночи из индейской легенды. Эта женщина, на которую, замирая от восторга, смотрели все, была донья Марина. Донья Марина равнодушно наблюдала за проходившей мимо процессией.
– О, если бы это была она! – воскликнул про себя дон Энрике, завороженный ее сказочной красотой.
Донья Марина, увидев юношу, сделала невольное движение, не укрывшееся от его зоркого взгляда, и выронила из рук цветок.
«Она!» – подумал юноша и, подскакав на коне к дому, взял цветок у человека, который подобрал его с земли.
Дон Диего с насмешливой улыбкой посмотрел на Энрике и, подняв голову, обменялся с дамой понимающим взглядом. Дон Энрике приколол цветок к груди и снова занял свое место рядом с Индиано.
В то же время с другой стороны подъехал к церкви отряд на белых конях, одетый в пунцовые с белым наряды, с красными перьями на шляпах. Во главе отряда гарцевал Индиано верхом на огневом белом коне с наброшенной на седло тигровой шкурой; такие же шкуры лежали на седлах у остальных всадников. Оба отряда встали рядом, и начальники их обменялись поклонами, столь сдержанными, что заметить их удалось лишь по легкому колыханию перьев. Однако кони врагов с силой забили копытами, почуяв, очевидно, нервную дрожь в руке седока и острые шпоры на своих боках.
Процессия начала строиться в принятом порядке – все участники были верхами. Королевский знаменосец взял в руки знамя, по обе стороны от него разместились вице-король, алькальды, все власти и коронные должностные лица, а за ними встали цехи и гильдии. Настало время занять место и для обоих отрядов. Наиболее почетным было место, непосредственно следующее за представителями власти. Идти впереди считалось особым отличием, также как в иных случаях почетнее бывает замыкать шествие.
Все всадники, без сомнения, знали об этом, ибо едва прошли цехи, как оба отряда, не соблюдая ни малейшей осторожности, ринулись занимать первое место. Разумеется, они столкнулись друг с другом, и, так как никто не хотел уступить, столкновение это грозило превратиться в схватку. С той и с другой стороны иные всадники были выбиты из седла, лошади опрокинуты наземь. Те же, кто твердо держался в стременах, вскипев, схватились за шпаги и бросились в бой, распознавая врагов по масти коней или по цвету одежды и перьев.
Нетрудно предположить, что дон Диего и дон Энрике немедля устремились друг к другу. Старая вражда вспыхнула в их сердцах, а кроме того, каждый чувствовал себя обязанным сражаться за честь своего отряда. Однако в общей свалке и густых клубах пыли почти невозможно было отыскать ненавистного врага.
Смятение возрастало, все громче звучали крики бойцов и зрителей, бой разгорался, в тучах пыли то и дело сверкало под лучами солнца оружие, слышен был грозный топот копыт. Оробевшие зеваки попятились, процессия остановилась, как вдруг послышались слова, неизменно оказывающие магическое действие:
– Подчиняйтесь его величеству! Подчиняйтесь правосудию! Именем короля! Именем правосудия!
Сам вице-король в сопровождении множества кабальеро, алькальдов, алебардистов и представителей правосудия прибыл к месту сражения.
– Подчиняйтесь королю!
– Дорогу его светлости!
– Именем его величества! – кричали альгвасилы.
Едва прозвучали эти слова, как словно по волшебству все лошади замерли неподвижно, все шпаги опустились, все языки онемели, пыль рассеялась, и теперь можно было рассмотреть, что же тут произошло.
А вокруг вице-короля, повторяя клич: «Именем короля! Именем правосудия!» – начали собираться все вооруженные участники шествия.
К счастью, раны, полученные в стычке, были незначительны. Всадники, вооруженные короткими шпагами, едва могли достать друг друга, лишь у немногих были разрезаны камзолы и выступило несколько капель крови.
Вице-король сурово отчитал виновных, однако, увидев, что потерь не оказалось, убедившись, что горячность бойцов объяснялась лишь их приверженностью к его величеству, а также принимая во внимание торжественный день, милостиво простил нарушителей порядка и повелел, чтобы оба отряда соединились и вместе выступили в процессии под началом обоих своих воинственных предводителей.
На вид все как будто успокоилось. Дон Энрике и Индиано, с изысканной любезностью уступая друг другу лучшее место, двинулись в путь, но сердца их были охвачены жгучей ненавистью и стремлением к мести. Напротив, среди остальных кабальеро, не питавших никакой взаимной враждебности и обманутых мнимым дружелюбием предводителей, вскоре воцарились согласие и веселье.
В горячке утренних событий дон Энрике совсем позабыл о полученном накануне письме незнакомки. Но, выехав на улицу Такуба, он вспомнил о нем и, сосредоточив все свое внимание, решил среди бесчисленного множества сеньор, сидевших у окон и на балконах, распознать по какому-нибудь тайному знаку ту, что написала письмо.
Итак, он принялся рассматривать всех дам, помня, что в письме говорилось о доме, стоящем со стороны его сердца. Улица уже подходила к концу, а он все еще не мог разгадать загадку. Но вот его взгляд остановился на балконе, убранном с ослепительной роскошью. Там сидела только одна женщина, но женщина эта была прекрасна. На ее черном платье, в черных волосах, на шее, на пальцах и запястьях, словно маленькие солнца, сверкали брильянты. В этой женщине было что-то фантастическое, она походила на царицу ночи из индейской легенды. Эта женщина, на которую, замирая от восторга, смотрели все, была донья Марина. Донья Марина равнодушно наблюдала за проходившей мимо процессией.
– О, если бы это была она! – воскликнул про себя дон Энрике, завороженный ее сказочной красотой.
Донья Марина, увидев юношу, сделала невольное движение, не укрывшееся от его зоркого взгляда, и выронила из рук цветок.
«Она!» – подумал юноша и, подскакав на коне к дому, взял цветок у человека, который подобрал его с земли.
Дон Диего с насмешливой улыбкой посмотрел на Энрике и, подняв голову, обменялся с дамой понимающим взглядом. Дон Энрике приколол цветок к груди и снова занял свое место рядом с Индиано.
VI. ЗАМЫСЛЫ ДОНА ХУСТО
Тем временем дон Хусто днем и ночью ломал себе голову, раздумывая, как бы ему убрать с пути дона Энрике и добиться того, чтобы титулы и богатства рода Торре-Леаль унаследовал его племянник. Дон Хусто смотрел далеко в будущее. Граф уже стар, и смерть его не за горами. Если убрать Энрике, наследником станет сын доньи Гуадалупе. Сестра, без сомнения, сама призовет дона Хусто управлять всем имуществом, и тогда он может считать, что ухватился за колесо фортуны. Все было очень просто, единственная трудность состояла в том, чтобы найти подходящий способ избавиться от законного наследника. Впрочем, образ жизни дона Энрике мог предоставить немало удобных случаев. Его влекли любовные интриги и опасные приключения, а при таком характере человеку легко случается погибнуть на поединке или пасть от руки убийцы. Но, как назло, этот юноша так искусно владел оружием, что редкий забияка отваживался задеть его, а открытый, благородный, жизнерадостный нрав завоевал ему всеобщую любовь. Дон Хусто потерял сон в поисках выхода, он повсюду допытывался, нет ли у дона Энрике какого-нибудь врага. Когда человек думает лишь об одном, когда он добивается своего любой ценой и обладает достаточной волей, чтобы изо дня в день неустанно стремиться к осуществлению задуманного плана, ему редко не удается достичь цели. Однажды дон Хусто пробудился в хорошем расположении духа. Наконец-то он нашел если не решение, то хотя бы путь к нему. Сестра дона Энрике дала монашеский обет в монастыре Иисуса и Марии, а с настоятельницей этой общины дон Хусто некогда состоял в дружеских отношениях и сохранил их по сей день. В монастыре и решил лукавый человек начать свои козни. Он поспешно оделся, наскоро позавтракал, вышел на улицу и, не теряя ни мгновения, устремился к монастырю Иисуса и Марии. Справившись о настоятельнице, он попросил разрешения поговорить с ней. Но то ли настоятельница была занята, то ли у нее не было желания беседовать с доном Хусто, а так или иначе пришлось отложить разговор до следующего дня, то есть на тринадцатое августа – день торжественного празднества, когда, по справедливому предположению дона Хусто, мало кто пожелает прийти в монастырь повидаться с монахинями. Однако и этот вечер не прошел даром для дона Хусто. Он узнал, что из-за любви дона Энрике к донье Ане дон Диего Индиано стал смертельным врагом наследника рода де Торре-Леаль. – О! Поистине судьба ко мне благосклонна! – размышлял дон Хусто. – При такой поддержке, да еще после беседы с настоятельницей, победа останется за мной, если только я не самый безмозглый человек на земле. Завтра в одиннадцать утра отправлюсь в монастырь, а днем навещу Индиано, который охотно поможет мне погубить его врага. И дон Хусто, навестив донью Гуадалупе, от которой, разумеется, скрыл все свои замыслы, раньше обычного отправился домой. На следующее утро, выйдя из дому около одиннадцати, он сразу же узнал от знакомых о столкновении на улице святого Ипполита между двумя отрядами, участвовавшими в шествии. Как всегда бывает в подобных случаях, весть эта, переходя из уст в уста, приобретала новые подробности и в совершенно преображенном виде с чудесной быстротой распространялась по всему городу. Когда она долетела до дона Хусто, речь шла уже о десятках убитых и раненых. Очевидцы рассказывали об ударах шпаги, которыми обменялись капитаны, и, считая стычку преднамеренной, поскольку все всадники оказались вооружены до зубов, искали причины происшествия в любовной игре доньи Аны с обоими кабальеро. В сущности, толпа открыла истинное объяснение, хотя пришла к нему благодаря своей фантазии, а не осведомленности. При каждом новом сообщении дон Хусто потирал руки и радовался про себя. – Прекрасно, великолепно, чудесно! Все идет лучше, чем я мог надеяться, все складывается превосходно. Мои дела и в монастыре и с доном Диего устраиваются одновременно. С этими мыслями он дошел до монастыря Иисуса и Марии. На этот раз судьба ему улыбнулась, и меньше чем через полчаса он уже беседовал с матерью настоятельницей. – Я счел необходимым, – начал дон Хусто, – довести до сведения вашего преподобия о событиях, которые происходят в свете; они не слишком благоприятны для вашего монастыря. – Господи, спаси и помилуй! – воскликнула перепуганная настоятельница. – Что случилось, братец? Уж не грозит ли беда нашей бедной обители? – Пока еще нет, матушка. Но все может случиться. – Пресвятая дева заступница! Неужто мы, смиренные служанки Иисуса, Марии и Иосифа, могли дать к тому повод? Или, может быть, мы, избави бог, послужили причиной какого-нибудь происшествия в миру? – Прошу прощения у вашего преподобия за то, что из любви к вашей почтенной общине и из уважения к ее достойной матери настоятельнице я осмеливаюсь огорчить вас. Да простит меня господь бог и да зачтет мне это во искупление моих грехов, ибо я сам страдаю. – Аминь. – Но я почел своим долгом сообщить вашему преподобию о том, что может бросить тень на вашу почтенную обитель, вызвать величайший шум в обществе и явиться, как сказано в Священном писании, семенем раздора. – Говорите же, братец. Такое вступление меня пугает, я молю бога дать мне силы выслушать весть, столь печальную для его смиренной служанки. Deus in adjutorium meum intende!*["140] – Domine, ad adjuvandum me festina.*["141] – Так говорите же, ради бога, братец. – Сейчас скажу, матушка, хотя и не знаю, с чего начать. В вашей священной обители есть сестра монахиня, которая является дочерью графа де Торре-Леаль. – Да, да, добродетельная, примерная, святой жизни монахиня. – Тем хуже. – Почему же тем хуже, брат мой? – Говорю тем хуже, матушка, а почему – это ваше преподобие услышит далее. Как известно вашему преподобию, сеньор граф женат вторым браком на моей сестре донье Гуадалупе. – Да, на одной из святых наших благодетельниц, да пошлет ей бог здоровье и благо на многие лета. – Вот почему меня должно интересовать дело, имеющее отношение к этому семейству. – Истинно, истинно. – У сеньора графа есть сын, который наследует его титул и богатства, на горе отцу, моей семье, а также и вашей обители. – Как же так? – Именно так, ибо да будет известно вашему преподобию, что юноша этот, от которого отвернулся сам господь бог, оскорбляет человечество своей распутной жизнью и порочными нравами. Вместо того чтобы быть честью своего рода и опорой старости сеньора графа, он только и занят что любовными похождениями да пирушками, не думая ни о боге, ни о добром имени своего дома. Вот как ведет он себя во вред своей семье и к позору для вашей обители, где, как всем известно, живет монахиня, одной с ним крови и одного рода. – Пресвятая дева Мария, что я слышу! – Зло это страшнее, чем кажется. Ведь никто не упоминает о брате без того, чтобы не заговорить о сестре, а как заговорят о ней, тут уж вспомнят и о святых монахинях этой общины. Дня не проходит без какого-нибудь скандала или бесчинства, и вот каждый божий день нечестивые языки треплют имя святой обители, а ведь те, кто не уважает ни святынь, ни всеми признанных добродетелей, не слишком осмотрительны в выборе слов. – Иисусе, не остави нас! Ну и дела, ну и дела! Как же бороться с таким злом? – Прежде всего я почел нужным прийти к вам, а затем, побеседовав с кем должно, хорошо бы прибегнуть к помощи его светлости вице-короля, представляющего здесь величие и могущество нашего католического монарха (да хранит его бог), дабы соизволил он, как покровитель и защитник церкви и чести ее, принять решение, ибо указывать ему не в нашей власти. – Совет мне кажется разумным, братец, и я глубоко вам признательна. Немедля побеседую обо всем с отцами капелланами, а они уж, если сочтут то подобающим, доложат сеньору архиепископу. – Так и следует поступить вашему преподобию. А я и далее буду делать все, что в моих силах, дабы спасти честь вашего монастыря. – Благодарствуйте, братец. – Все мы должны благодарить господа! Собеседники расстались, дон Хусто – вполне довольный оборотом дела, монахиня – пораженная полученным известием и обеспокоенная, как бы не пострадало доброе имя ее монастыря. «А теперь, – думал дон Хусто, – поскольку здесь, благодаря простодушию матери настоятельницы, семя упало на добрую почву, следует тотчас же отправиться к дону Диего. Коли он такой уж враг дону Энрике, я найду в нем могучую опору. А тогда, если даже и не удастся столкнуть их лицом к лицу и навеки убрать дона Энрике с моего пути, я, по крайней мере, добьюсь того, что бесчинства молодого сеньора будут повторяться все чаще и с еще большим шумом… Это дело решенное». К двум часам дня торжества закончились, знамя Кортеса было водворено в здание муниципалитета, и все разошлись по домам для положенной в это время трапезы. Дон Хусто почел за благо последовать общему примеру, ибо, не говоря уж о том, что сам он был человеком, не лишенным человеческих потребностей, в те блаженные времена обеденный час означал прекращение всех дел. В два часа дня все двери запирались на ключ, и во время обеда и сиесты, которую соблюдали семьи, пользующиеся известным достатком, их дома не открывались ни перед кем и ни для чего. Считалось непростительным нарушением приличий стучаться в эти часы даже к близкому другу, и привратник, подчиняясь обычаю и полученному приказу, не задумываясь, оставлял непрошенного гостя на улице. Все это было отлично известно дону Хусто, а посему он, последовав обычаю, пообедал, замкнувшись на ключ, и расположился поспать, отложив на вечер задуманное посещение дона Диего Индиано.VII. НОЧНОЙ ПЕРЕПОЛОХ
Донья Ана де Кастрехон неукоснительно выполняла все советы своей матери и, пользуясь любыми средствами, доводила до отчаяния дона Энрике. Той же цели служило и письмо, врученное ему накануне дня святого Ипполита с ведома доньи Фернанды, которая направляла все эти хитрости и уловки. Донья Ана отнюдь не собиралась лишать себя удовольствия посмотреть на процессию в день праздника, она лишь позаботилась, чтобы дон Энрике не узнал, откуда она будет наблюдать за торжествами, и поспешила спрятаться при его приближении. Однако никто не остался в обиде, потому что в этот момент влюбленный кабальеро больше, нежели о донье Ане, думал о даме, пославшей ему таинственную записку. А после того, как он узнал ее или возомнил, будто узнает, его заботило не столько назначенное на вечер свидание, сколько стремление разведать, кто эта загадочная и прекрасная незнакомка. Когда шествие закончилось, донья Ана в закрытой карете отправилась домой готовиться к комедии, которую собиралась разыграть ночью, а дон Энрике вернулся на улицу Такуба в поисках доньи Марины. Но увы, окна ее дома были плотно закрыты, и за ними никто не показывался. Он приготовился ждать, уверенный, что если уж эта женщина решилась написать ему, то, без сомнения, она найдет или придумает способ получить ответ. Ночь приближалась, и донья Ана, пожертвовавшая ради коварных замыслов своими желаниями и развлечениями, надела вместо сверкающих драгоценностей и соблазнительного бального наряда скромное темное платье. Ей предстояло изображать жертву, и начинать надо было с одежды. – Надеюсь, – говорила донья Фернанда, – сегодня ты добьешься успеха и заставишь его просить твоей руки. – Он так пылко любит меня, что я не сомневаюсь в победе, ведь теперь единственная оставшаяся ему надежда – это брак, – ответила донья Ана. – Постарайся также, чтобы он не только из любви, но и из самолюбия и из гордости сдержал свое слово. – А вдруг он предложит мне сегодня ночью бежать? Донья Фернанда ответила не сразу. – Пожалуй, – подумав, сказала она, – лучше будет согласиться. Тогда скандал неизбежен, и замять его можно только свадьбой. – А если после всего он откажется? – Нетрудно будет заставить его судом. – И далеко я должна бежать с ним? – Нет. Тут же уведомишь меня, я брошусь в погоню и верну тебя домой, а сопровождающие меня люди будут свидетелями похищения. – Что ж, придумано неплохо… – Главное, чтобы тебе удалось любыми средствами распалить его любовь, не бойся, это дело свято, ведь твоя цель – законный брак. Мать и дочь беседовали до позднего вечера, и, так как эта любовь по расчету ничуть не волновала их сердца, обе устали и почувствовали скуку. – Который час? – лениво спросила донья Ана. Донья Фернанда взглянула на роскошные настольные часы. – Едва лишь половина одиннадцатого, – зевая, ответила она. – Еще целых полтора часа! – Да и потом пройдет немало времени. – А все веселятся на балу… Вот счастливцы! – Да, говорят, бал великолепный. – Я почти жалею, что не поехала, а осталась ждать своего беднягу жениха. Сейчас бы я танцевала, вместо того чтобы помирать со скуки… Никогда больше не сделаю такой глупости! – Всегда ты рассуждаешь, как ребенок, Ана. Вот беда – одним балом больше или меньше, когда речь идет о твоем будущем! Балов много, а таких мужей, как дон Энрике, раз, два – и обчелся. Погоди, сама скажешь, стоило ли жалеть о балах в тот день, когда тебя назовут сеньорой графиней и ты сможешь развлекаться, сколько душе угодно. Донья Ана улыбнулась, и обе умолкли. Время от времени тишина нарушалась веселым пением, доносившимся с улицы, и тогда донья Ана спрашивала: – Который час? Донья Фернанда поднимала посоловевшие, то ли от дремоты, то ли от яркого света, глаза и отвечала: – Одиннадцать. – Что за бесконечный вечер! – восклицала донья Ана, и снова дочь погружалась в мечты, а мать – в дремоту. Наконец на вопрос Аны донья Фернанда ответила: – Вот-вот пробьет двенадцать. – Слава тебе, господи! Бегу к Фасикии в каморку поджидать дона Энрике. – Накинь шаль, – посоветовала мать. – Ночь сегодня холодная, а тебе придется пройти через патио. Донья Ана встала и принялась рассматривать себя в маленьком зеркале, висевшем в углу покоя. Она, очевидно, выбирала нужные к случаю взгляды и улыбки и могла бы еще долгое время провести за этим занятием, если бы донья Фернанда не напомнила: – Двенадцать. – Иду! – воскликнула донья Ана и поспешно вышла, накинув черный шерстяной плащ. Донья Ана легко сбежала по лестнице и вошла в комнату на нижнем этаже. Там сидела и шила при свете свечи старая негритянка, повязанная платком в алую и желтую полосу. – Фасикия! – позвала донья Ана. – Девочка моя! – подняв голову, откликнулась негритянка. – Погаси свечу, няня, и уходи. Уже пора. Негритянка встала и собралась задуть свечу. – Погоди, погоди! – крикнула девушка. – Я хочу открыть окно, а в темноте я до него не доберусь. Старуха подождала, пока Ана подошла к окну, задула свечу и вышла, закрыв за собой дверь. Тогда донья Ана осторожно приоткрыла створки окна, забранного толстой решеткой, и с любопытством выглянула на улицу. Неподалеку стоял человек, до самых глаз закутанный в черный плащ. Кругом было пусто, всю улицу заливал сияющий лунный свет. Дом доньи Фернанды стоял на углу, передним фасадом на главную улицу Икстапалапа, а торцом – в узкий переулок. В этот переулок выходило и окно, у которого уже не раз встречалась Ана с доном Энрике. Едва человек в плаще заметил, что окно приоткрылось, он приблизился бесшумными, медленными шагами. – Дон Энрике, – шепнула донья Ана. – Ангел мой, – ответил юноша. – Подойди, счастье мое! О, как мне страшно… – Страшно? Но кто может тебя обидеть, когда я с тобой, радость моей жизни? – Ах, дон Энрике! Того, кто мешает нашему счастью, не может поразить твоя шпага. – Твоя мать, Ана? За что она ненавидит меня? Может быть, она не любит тех, кто любит тебя? Но разве я недостаточно знатен, разве я не достоин назвать тебя своей? – Не говори так, дон Энрике. Ты – настоящий кабальеро. Твой род не ниже королевского, и счастлива женщина, которая будет носить твое имя и называть тебя своим. Но… – Что? Говори, любовь моя, не бойся… – Дон Энрике, моя мать слушает твоих врагов, она думает, что ты не любишь меня, что хочешь лишь посмеяться над ее дочерью. – И ты веришь, что я не люблю тебя? Да ведь я не понимал, что такое любовь, пока не узнал тебя! Какое мне дело до того, что она не верит в мою любовь, если ты мне веришь! Ради тебя одной я хочу быть добрым и благородным. Скажи, Ана, ты веришь, что я люблю тебя? – Если бы я не верила, я бы умерла! – А ты любишь меня? – С каждым днем все больше. Девушка прижалась лицом к решетке, дон Энрике склонился, и их уста слились в поцелуе, который, казалось, не прервется никогда. – Ана! – воскликнул юноша, безраздельно отдавшись захватившей его страсти. – Ана! Ты сказала, что любишь меня? – Больше, чем можешь вообразить. – И ты способна сделать то, что я скажу тебе? – Даже если ты мне прикажешь убить себя! – Свет души моей! Слушай же, Ана! Беги со мной! – Бежать?! – воскликнула девушка с ужасом, которого отнюдь не испытывала, ибо только и ждала подобного предложения. – Бежать! Но куда? – Со мной, в моих объятиях, ко мне… – Дон Энрике! Ты любишь меня и предлагаешь мне побег, огласку, бесчестие? – Нет, Ана, нет, это не бесчестие. У меня ты найдешь любовь и счастье; твоя мать не будет больше противиться, она на все согласится, и вскоре ты станешь графиней де Торре-Леаль. Ана, ты не хочешь уйти со мной? – О, ты настоящий кабальеро, я обожаю тебя, Энрике! Я пойду за тобой на край света. – Какое счастье ты даришь мне! – Когда мне уйти из дома? – Сейчас же! – Как, так скоро? – Каждое мгновение без тебя кажется мне вечностью, любовь моя. Иди, не медли. – Хорошо, иду, иду, жди меня, – сказала донья Ана, убегая. – Встретимся в патио! – крикнул вдогонку дон Энрике, охваченный нервным возбуждением. – Нет, здесь же. – Не задерживайся, мой ангел! – Скоро я буду с тобой. Видишь, как я люблю тебя! Окошко захлопнулось. Дон Энрике завернулся в плащ и приготовился ждать. Донья Ана поспешно вышла из комнаты и, взбежав по лестнице, бросилась в спальню доньи Фернанды. – Что случилось?! – воскликнула мать. – Час настал, матушка! – Он предложил тебе бегство или брак? – И то, и другое. – Что же раньше? – Бегство, – улыбнувшись, ответила донья Ана. Донья Фернанда тоже улыбнулась. – Он не дурак, да и я не глупа. Теперь мы знаем, что делать. – Идем, матушка, как бы ему не наскучило ждать. – Дитя, плохо же ты знаешь мужчин! Самый нетерпеливый рад целый день ждать девушку, которая ему нравится. – Все же пойдем скорей. – Похоже, что тебе тоже не терпится, хотя уйдете вы недалеко. – Как хотите, матушка, но надо торопиться. – Следует уведомить дона Хусто, сегодня он решил провести здесь ночь, чтобы помочь нам. – Дайте ему знать, пока я собираюсь. Донья Фернанда вышла, а донья Ана стала прихорашиваться у туалетного столика. Ей хотелось появиться перед возлюбленным еще более прелестной. Мать вернулась вместе с доном Хусто. – Мы готовы, – сказала она. – Идемте, – ответила донья Ана. И все трое спустились в патио. – Сначала ты выйдешь одна, – по дороге наставляла донья Фернанда свою дочь. – Мы дадим вам немного отойти, а затем пустимся в погоню и освободим тебя. – Вы будете вдвоем? – Нет, возьмем с собой слуг, вот они уже наготове, – ответил дон Хусто, указывая на собравшихся в глубине патио слуг с фонарями и секирами. – Ох, матушка, мне стыдно становится, как подумаю, сколько народу узнает об этом деле. – Вот глупышка! Да завтра о похищении узнает весь Мехико. Что же за беда, если сегодня несколько человек увидят тебя? – Но весь Мехико меня не увидит, а эти люди будут присутствовать… – Если боишься – еще не поздно. – Нет, – решительно ответила донья Ана и, распахнув двери, вышла на улицу. Дон Хусто запер дверь изнутри. В тот же миг раздался крик доньи Аны и какой-то шум, похожий на борьбу. – Слышите? – в испуге сказала донья Фернанда. – Выйдем на улицу. – Успокойтесь. Должна же она для виду оказать сопротивление. Оба замолчали, снаружи тоже все утихло. Они уже собирались выйти, как снова раздался шум и звон шпаг. – Скорее, скорее! Кто знает, что там происходит! – воскликнула донья Фернанда. – Да, теперь пора, – ответил дон Хусто, открывая дверь, и оба в сопровождении слуг выбежали из дома.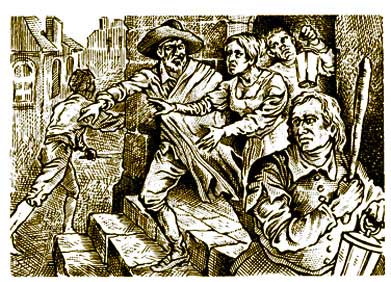 На углу улицы какой-то человек со шпагой в руке отбивался от яростно нападавших на него троих или четверых неизвестных. Он едва успевал отражать удары и постепенно отступал. Еще немного – и он упал бы, но тут подоспели дон Хусто, донья Фернанда и слуги. Нападавшие убежали, а донья Фернанда и дон Хусто узнали в спасенном ими человеке дона Энрике.
– Где моя дочь? – в ужасе спросила мать доньи Аны.
– Не знаю, сеньора, – ответил дон Энрике.
– Не знаете?! – позабыв об осторожности, воскликнула донья Фернанда.
– Да как же вы можете не знать, если она ушла из дому, чтобы бежать с вами?
– Честью клянусь вам, это правда, – отвечал дон Энрике, не заметив, что эта женщина говорит о том, чего не должна была знать. – Она сказала мне, чтобы я ждал ее на углу, а вместо нее появились четверо убийц.
– Но где же моя дочь? Дон Хусто, моя дочь! Ищите ее! Эти крики, эта борьба!.. О, недаром я говорила, что нам следует выйти!
– Скорее, бегом по всем ближним улицам! – крикнул слугам дон Хусто. – Не возвращайтесь, пока не найдете след.
Слуги разбежались в разные стороны, разнося весть о происшествии по всему городу.
Донья Фернанда, опираясь на руку дона Хусто, в отчаянии вернулась домой, а дон Энрике, не зная, что ему и думать, завернулся в плащ и отправился куда глаза глядят, надеясь найти ключ к этой загадке.
Перед рассветом один за другим начали возвращаться слуги. Никому не удалось ничего узнать. Но зато весть о бегстве доньи Аны и о ночном скандале, неизвестно каким образом, мгновенно распространилась на балу, устроенном по случаю праздника в муниципалитете, где собралась вся высшая знать города.
На углу улицы какой-то человек со шпагой в руке отбивался от яростно нападавших на него троих или четверых неизвестных. Он едва успевал отражать удары и постепенно отступал. Еще немного – и он упал бы, но тут подоспели дон Хусто, донья Фернанда и слуги. Нападавшие убежали, а донья Фернанда и дон Хусто узнали в спасенном ими человеке дона Энрике.
– Где моя дочь? – в ужасе спросила мать доньи Аны.
– Не знаю, сеньора, – ответил дон Энрике.
– Не знаете?! – позабыв об осторожности, воскликнула донья Фернанда.
– Да как же вы можете не знать, если она ушла из дому, чтобы бежать с вами?
– Честью клянусь вам, это правда, – отвечал дон Энрике, не заметив, что эта женщина говорит о том, чего не должна была знать. – Она сказала мне, чтобы я ждал ее на углу, а вместо нее появились четверо убийц.
– Но где же моя дочь? Дон Хусто, моя дочь! Ищите ее! Эти крики, эта борьба!.. О, недаром я говорила, что нам следует выйти!
– Скорее, бегом по всем ближним улицам! – крикнул слугам дон Хусто. – Не возвращайтесь, пока не найдете след.
Слуги разбежались в разные стороны, разнося весть о происшествии по всему городу.
Донья Фернанда, опираясь на руку дона Хусто, в отчаянии вернулась домой, а дон Энрике, не зная, что ему и думать, завернулся в плащ и отправился куда глаза глядят, надеясь найти ключ к этой загадке.
Перед рассветом один за другим начали возвращаться слуги. Никому не удалось ничего узнать. Но зато весть о бегстве доньи Аны и о ночном скандале, неизвестно каким образом, мгновенно распространилась на балу, устроенном по случаю праздника в муниципалитете, где собралась вся высшая знать города.
VIII. ШАГ НАЗАД
Для того чтобы объяснить непонятное исчезновение Аны, нам придется вернуться на несколько часов назад. В день святого Ипполита дон Хусто встал после дневного сна в четыре часа и, одевшись с величайшим тщанием, вышел на улицу, положив прежде всего навестить Индиано, в котором надеялся найти могучего союзника. Благодаря своему богатству Индиано пользовался в Мехико большой известностью, и дону Хусто нетрудно было отыскать его жилище. Великолепный дом дона Диего стоял справа от дворца вице-короля, на продолжении улицы Икстапалапа в сторону церкви Гуадалупской богоматери. Дон Хусто явился туда, спросил у слуги, дома ли его хозяин, и узнал, что тот собирается на прогулку верхом. В самом деле, перед домом конюх держал в поводу горячего буланого жеребца с черной гривой и черным хвостом. Гордый конь в богатой сбруе беспокойно поднимал голову, бил копытом и жевал удила, как бы стремясь поскорее вырваться на простор и блеснуть своей резвостью и красотой. Дон Хусто поднялся по лестнице и в галерее столкнулся с Индиано, который уже направлялся к выходу. – Да хранит вас бог на долгие годы, – произнес дон Хусто. – Рад служить вам. – Мне необходимо поговорить с вами о важном деле, если вы расположены уделить мне несколько минут. – Для меня это будет только честью. Прошу вас. – Честь оказываете мне вы своей благосклонностью. Индиано пригласил дона Хусто в небольшой, убранный с изысканным вкусом покой. – Сделайте милость, садитесь, – сказал он, указывая на одно из кресел сандалового дерева, обитых златотканой парчой. – После вас. Не могу я сидеть, если стоит столь почтенный кабальеро. – Что ж, сядем оба. Они уселись, и дон Хусто, сам не зная, с чего начать, заговорил несколько неуверенным тоном: – Кабальеро, должно быть, вас удивляет мой приход. Ведь до сегодняшнего дня я не имел чести быть с вами знаком. – Знакомство с вами – честь для меня. Оба привстали и церемонно поклонились. Дон Хусто продолжал: – Однако бывают случаи, когда два человека, сами того не зная, заинтересованы в одном и том же деле. И тогда им обоим крайне выгодно объединиться. Вы согласны? – Вполне согласен, – ответил дон Диего, подумав про себя: «Куда это он клонит?» – Вам еще неизвестно мое имя: ваш покорный слуга дон Хусто Салинас де Саламанка-и-Баус… – Рад служить вам, сеньор мой, – ответил Индиано, и оба снова привстали с полупоклоном. «Впервые слышу это имя», – подумал Дон Диего. – Брат, – добавил дон Хусто, – доньи Гаудалупе Салинас де Саламанка-и-Баус, графини де Торре-Леаль, супруги графа дона Карлоса Руиса де Мендилуэта – отца дона Энрике. Новый поклон. – Быть может, вы пришли по поручению дона Энрике? – спросил дон Диего, изменившись в лице при имени своего врага. – Избави бог. Но я пришел по делу, которое его касается. – И в котором я могу быть вам полезен? – Мне-то нет. Но я мог бы оказать услугу вам. – Не понимаю. – Будем откровенны, если вы разрешите… – Разумеется. – Отлично, перехожу к делу. Вы, как утверждает молва, заклятый враг дона Энрике. – Да нет, пустое… Просто неприязнь, довольно частая среди мужчин… – Разрешите мне продолжать. Вас разделяет нечто большее, чем просто неприязнь; пожалуй, настоящая ненависть. – Это он сказал вам? – Нет. Я с ним не имею ничего общего. – Как же вы можете это утверждать?.. – Но все говорят об этом. – Быть может, все ошибаются? – Прошу прощения, но полагаю, что нет. Так говорит народ, а вы знаете: vox populi vox Dei.*["142] – И, однако же, народ ошибается. – Дон Диего, вы не доверяете мне, потому что моя сестра – супруга графа. А я хочу доказать, что вы неправы и что, быть может, ни с кем вы не можете быть столь откровенны, как со мной. – Но… – Я хочу предложить вам союз: вы ненавидите дона Энрике, я тоже. Он стоит у вас на пути и у меня тоже. Мы идем разными дорогами, но помеха у нас одна. Оба мы должны избавиться от этого человека. Объединимся! Я отдаю себя в ваше распоряжение. Дон Хусто умолк и с довольным видом поглядел на собеседника. Но дон Диего резко поднялся, смертельно бледный, сжав кулаки и стиснув зубы, с глазами, сверкающими от ярости. Увидев его лицо, дон Хусто перепугался и тоже вскочил с кресла. Индиано шагнул вперед и, задыхаясь от гнева, с трудом сдерживая себя, проговорил хриплым голосом: – Счастье ваше, кабальеро, что вы находитесь у меня в доме, где ваша особа для меня священна. Не то я научил бы вас обращаться со мной, как подобает!.. Да как только пришло вам в голову придумывать планы мести против моих врагов и предлагать мне поддержку, которой я никогда у вас не просил. Небо наделило меня могучей рукой и бесстрашным сердцем, и я сам могу ответить на оскорбление, не обращаясь за помощью к чужой силе. Сделайте милость, кабальеро, удалитесь, пока я не вышел из себя… и впредь прошу вас, советую вам для вашей же пользы, никогда не вмешивайтесь в дела, которые вас не касаются, особенно в мои… Дон Хусто, не дожидаясь конца грозы, вышел из комнаты и бегом спустился по лестнице, бормоча сквозь зубы: – Глупец, мужлан, выродок… Через некоторое время сошел вниз и дон Диего, тоже не в лучшем расположении духа. «Негодяй! – повторял он про себя. – Замышлять дурное против члена своей же семьи!.. И предлагать это мне… мне… Злодей! Как только я сдержал себя! Я отомщу дону Энрике и донье Ане, но сделаю это сам, я сам или с помощью друзей… но этот… О, негодяй!» Не взглянув на конюха, он вскочил на заплясавшего под ним скакуна и выехал на улицу. Конь, почувствовав, что седоку сегодня не до шуток, послушно двинулся спокойной иноходью. Двое слуг верхом молча следовали сзади. Они тоже поняли, что недавно пронеслась гроза. Проехав недолгое время, дон Диего присоединился к группе молодых людей, появившихся на конях со стороны главной площади, и все направились по улице святого Франциска к Аламеде. Мало-помалу веселая болтовня товарищей рассеяла тучу, омрачавшую лоб Индиано. Когда молодые люди подъехали к Аламеде, дон Диего сделал знак одному из всадников, и они опередили других, чтобы поговорить без помехи. – Все ли готово для сегодняшней затеи, Эстрада? – спросил Индиано. – Сделано все по твоему желанию, – ответил юноша, которого дон Диего назвал Эстрадой. – Как же ты думаешь действовать? – А вот как. Я точно заметил дом; пока влюбленные будут беседовать, я со своими спутниками притаюсь за углом. Мы без труда подслушаем разговор, а в нужный момент выйдем и поднимем такой шум, что мертвые и те проснутся. Этого достаточно? – Вполне; но только не зевайте. – Что ты! Я буду на балу до назначенного часа, а мои люди спрячутся в хибарке по соседству с домом доньи Аны. Там их никто не увидит, а я приду за ними, когда настанет время. – Сколько их? – Шестеро, и все надежные. Отважны, как львы, и молчаливы, как рыбы. – А когда я узнаю обо всем? – Скоро, ведь я вернусь на бал. – Только не причиняйте вреда дону Энрике. – Нет, нет, уговор точен: мы его разоружим и привяжем к решетке, а когда рассветет, на него сможет любоваться весь город. – Отлично. В это время остальные всадники присоединились к дону Диего и Эстраде, и их разговор прервался. Но сказанного было довольно. Верховая прогулка продолжалась до вечера, а едва стемнело, молодые люди разъехались по домам, чтобы приготовиться к балу. – Будь осторожен, – напомнил дон Диего Эстраде. – Не беспокойся, – ответил тот. В десять часов вечера блестящее общество заполнило приемные залы в доме маркиза дель Валье, потомка Эрнана Кортеса. Здесь муниципальные власти давали пышный бал. Сверкало и переливалось море алмазов, кружев, парчи и цветов, а в его волнах мелькали прелестные лица, горящие глаза, чарующие улыбки. Веселые молодые голоса сливались с нежными звуками музыки, и, словно далекий аккомпанемент, раздавался звон хрусталя и серебра. На празднестве, не зная соперников, царил Индиано. Гордая осанка, роскошный наряд, украшенный невиданными драгоценностями, – а кроме прочего, отсутствие дона Энрике Руиса де Мендилуэты, – все способствовало его успеху. К нему одному устремлялись пылкие взгляды и брошенные украдкой признания. Доньи Аны не было видно, и этим объяснялось отсутствие дона Энрике, но почему же не пришла она? Никто не знал, и все спрашивали об этом друг у друга. В четверть двенадцатого дон Диего взглянул на усыпанные брильянтами часы и шепнул Эстраде: – Пожалуй, пора. Эстрада пожал ему руку и незаметно выскользнул из залы. С этой минуты Индиано больше не танцевал. Скрывая волнение, он бродил по залам, тайком поглядывая в окна, выходившие на главную площадь и начало улицы Икстапалапа. Так прошло более часа. В тот момент, когда дон Диего тысячный раз посмотрел в окно, кто-то, тронул его за руку. Оглянувшись, он увидел Эстраду. – Удалось? – спросил дон Диего. – Мне надо поговорить с тобой, – ответил Эстрада. – Выйдем отсюда. Они прошли по галерее в небольшой уединенный покой. – Говори же! – нетерпеливо воскликнул дон Диего. – Видишь ли, дело серьезное; я совершил безумство, но не раскаиваюсь. – Дон Энрике мертв? – Нет. – Тогда что же? – Слушай: стоя на углу, я поджидал удобного момента, как вдруг из их разговора понял, что дама собирается бежать со своим воздыхателем. – Вероломная! – Он должен был ждать на том же месте, а она выйти из дверей дома. И тут меня осенило: я оставил четверку моих молодцов стеречь дона Энрике, а с остальными двумя встал у входа. Немного погодя мы услыхали, как поворачивается ключ, дама выскользнула, и дверь снова захлопнулась. – Дальше… – Мы схватили донью Ану, едва успевшую вскрикнуть, мои помощники завернули ее в плащ, взяли на руки и, следуя за мной, в одно мгновение, никем не замеченные, перенесли ее комне домой, где она и находится в полном твоем распоряжении. – Какое безумие! – Безумие или нет, но дело сделано. Если хочешь – она твоя, если нет – оставь ее мне. Она мне нравится и немало помучила меня в свое время. – А если тебя изобличат? – Каким образом? В моем доме нет никого, кроме меня и слуг. Мои подручные – люди верные, в самом крайнем случае я заплачу собственной головой, а ради такой славной девчонки стоит уйти немного раньше из этой юдоли слез. – Что же делал дон Энрике? – Дрался на шпагах с четырьмя моими молодцами. – Чем же все кончилось? – Ничем. Когда я вернулся туда, один из них ждал меня и рассказал, что на помощь к возлюбленному выскочили люди из дома доньи Аны, мои люди разбежались и все остались целы и невредимы. – Отлично. Теперь идем отсюда, чтобы не возбуждать подозрений. Следует сейчас же пустить слух, что донья Ана бежала из дому неизвестно с кем. Да постарайся, чтобы все заметили твое присутствие на балу, осторожность необходима. – А как быть с плененной голубкой? – Она твоя, ты захватил ее как военную добычу. Делай с ней что хочешь, я не люблю ее. – Мне повезло. Хотел бы я уже быть дома. – Нет, нет, будь осторожен. Не уходи с бала до самого рассвета. Молодые люди вернулись в залу, и через полчаса все гости знали о побеге доньи Аны. Эстрада веселился за десятерых и обращал на себя всеобщее внимание. Меж тем бедная донья Ана, ничего не понимая, сидела взаперти в комнате совершенно неизвестного ей дома. Дон Энрике думал, что донья Ана его обманула. Донья Ана была уверена, что это похищение – дело рук дона Энрике. Никто из них не вспомнил об Индиано.IX. ДОБРОМ ИЛИ СИЛОЙ
Дом дона Кристобаля де Эстрады стоял позади монастыря святого Франциска. Эстрада не считался богатым человеком, но обладал достаточными средствами, чтобы жить в Мехико без всяких забот. У него не было ни родителей, ни близких родственников, и он проживал доходы от своего имущества, не зная других занятий, кроме любовных похождений и танцев на балах. Хотя его уже и не называли юношей, он все же был во цвете лет, и девицы на выданье считали брак с ним приличной партией. Дон Кристобаль никогда не участвовал в скандальных происшествиях, случавшихся чуть ли не каждый день в столице колонии, и потому был спокоен, что на него не падет подозрение в похищении доньи Аны. Утешаясь этой мыслью, Эстрада мечтал о своей пленнице и нетерпеливо поглядывал в окна, подстерегая первые лучи утренней зари. Разгоряченное воображение то и дело обращалось к запертой в его доме женщине, которая могла затмить всех собравшихся здесь красавиц. Но вот взошла заря, и сердце Эстрады забилось еще сильнее. Последние гости начали расходиться. Эстрада вышел вместе с ними на улицу, распростился при первом удобном случае и стремительно зашагал к своему дому. Он постучал в запертую дверь. Ему открыли, и, вытащив из кармана ключ, он бросился вверх по лестнице. Донья Ана, измученная тревожными мыслями, дремала в кресле. Шум открывшейся двери разбудил ее. Тусклый утренний свет проникал в комнату сквозь забранное толстой решеткой окно. Донья Ана повернула глаза к двери, ожидая увидеть дона Энрике и собираясь встретить его – смотря по обстоятельствам – притворным или подлинным гневом. Но неожиданно перед ней появился дон Кристобаль, и донья Ана замерла, теряясь в догадках. – Да хранит вас бог, прекрасная сеньора, – сказал Эстрада. Донья Ана не ответила. – Поговорите же со мной, красавица, – продолжал Эстрада. – Боюсь, что вам не удалось отдохнуть. Это помещение недостойно вас, но, что поделаешь, я не успел подготовить вам должный прием. Поверьте, дальше все будет по-другому. – Кабальеро, – высокомерно произнесла донья Ана, – извольте объяснить, что все это значит? Где я? – Нет ничего проще. Вы находитесь в моем доме, в доме вашего покорного слуги, Кристобаля де Эстрады, с сегодняшнего дня – в вашем доме. – Дон Энрике велел привести меня сюда?.. – Простите, дон Энрике не имеет к этому никакого отношения. – Объясните же мне эту загадку. – С величайшим удовольствием, ибо теперь мне терять больше нечего. Ночью я увидел, как вы вышли из своего дома, несомненно собираясь бежать с доном Энрике. И тут я подумал: сам бог посылает мне эту добычу; чем оставлять ее маврам, путь лучше достанется христианам. Я захватил вас, и вот вы со мной и в моей власти. – Но это недостойно настоящего кабальеро! – Донья Ана, я хочу обратиться к вашей памяти. Я вас увидел, я полюбил вас, вы подали мне надежду. Больше того, в иные дни вы давали мне понять, – как, впрочем, еще многим, – что любите меня. Но вскоре другой завладел вашим вниманием, и вы обо мне забыли. Напрасно я просил, рыдал, умолял; напрасно дни и ночи бродил вокруг вашего дома. Все было кончено, я умер для вас… А это разве достойно дамы? – Дон Кристобаль! Вы избрали подлую месть! – Сеньора, клянусь вам, я не думал о мести. Вы встретились на моем пути, что же, по-вашему, оставалось мне делать? Нужно обладать каменным сердцем, чтобы не воспользоваться таким случаем. Вы – в моей власти. Неужто вы думаете, что человек, завладевший такой прекрасной дамой, как вы, может легко отказаться от нее? При чем же тут месть? Я поступил бы так же, даже если бы нас ничто не связывало. – Другими словами, вы решили не выпускать меня отсюда? – А это уж зависит от вашего поведения. – Как это понять? – Очень просто. Согласны вы быть моей? Тогда вы можете свободно уходить и возвращаться… – Дон Кристобаль! – К чему обманывать друг друга? Я решил, что добром или силой, а вы будете моей. – Никогда! – Выслушайте меня и будьте благоразумны. Однажды вы сказали, что любите меня. – Я солгала. – Нет, тогда вы меня любили. – Пусть так. И что же из того? – А то, что вам будет не так уж неприятно принадлежать мне. – После вашего низкого поступка? – В этом обвиняйте не меня, а судьбу. – И вы полагаете, что я соглашусь быть чьей бы то ни было возлюбленной? – А кем вы собирались быть для дона Энрике? – Супругой! Эстрада весело расхохотался. – И для этого вы бежали с ним? Полно, не будьте ребенком! Вы стали бы его возлюбленной и, если вам этого так уж хочется, сможете стать ею и теперь, потому что ради такой женщины, как вы, охотно забывают былые грехи. – Вы от меня ничего не добьетесь! – Подумайте хорошенько. Вы – в моей власти, никто не может помочь вам, хотя вас и ищут повсюду. На меня не падет и тени подозрения, я принял все меры предосторожности. Соглашайтесь, вы знаете, что я люблю вас. Вы можете быть счастливы со мной. Сопротивление бесполезно, все равно конец будет один… Разрешите прислать вам завтрак? Простите, что за разговором я позабыл об этом. – Я ничего не хочу, – сказала донья Ана. – Полно, уж не хотите ли вы уморить себя голодом, как принцесса из сказки. Донья Ана, несмотря на весь свой гнев, улыбнулась. В конце концов, этот человек ей был не так уж противен. Всякая другая женщина, попав в такое положение, пришла бы в отчаяние. Но донья Ана привыкла к дерзким ухаживаниям столичных молодых людей и достаточно наслышалась от приятельниц об их любовных приключениях, чтобы не отнестись к ночному происшествию столь трагично, как отнеслась бы какая-нибудь наивная простушка. Если говорить правду, донья Ана начала без особого неудовольствия мириться со своей судьбой. Волновала ее только мысль, что же могло приключиться с доном Энрике? От Эстрады не укрылось все, что происходило в сердце пленницы. С каждой минутой он чувствовал себя тверже, победа казалась ему не столь уж трудной и далекой, и он понял, что благодаря случайности может добиться того, чего никогда не добился бы любовью и постоянством. – Донья Ана, – сказал он, – я пойду распоряжусь, чтобы вам подали завтрак и приготовили лучшее помещение. Здесь вам неудобно, а вы нуждаетесь в отдыхе, ведь ночь вам выпала беспокойная. Донья Ана взглянула на него, не отвечая. Но в этом взгляде уже не было вражды. «Как знать, – подумала она, – быть может, мягкостью я добьюсь свободы». Дон Кристобаль вышел, и вскоре два раба принесли донье Ане завтрак. Она несколько раз пробовала с ними заговорить, но не получала ответа. То ли они были немые, то ли получили строгий наказ молчать. Прошел час, и снова появился дон Кристобаль. – Сеньора, – сказал он, – предназначенные вам покои готовы. Соблаговолите следовать за мной. Они прошли через ряд комнат, поднялись по лестнице, свернули по узкому коридору и попали в просторный покой. – Здесь вы можете отдохнуть, – сказал Эстрада. Донья Ана огляделась. В глубине комнаты она увидела окно, но, увы, оно было расположено слишком высоко и забрано частой решеткой. Эстрада понял ее мысль. – Бесполезно искать выхода, пока я сам не укажу его, – сказал он. – Это окно выходит на высокие стены монастыря. Монахи не придут на ваш зов, да и у вас слишком хороший вкус, чтобы сменять меня на одного из них. Отдыхайте и подумайте над тем, что я сказал: моя – добром или силой. Больше я не произнесу ни слова. – Ваша дерзость начинает мне нравиться. Пожалуй, вы скоро покажетесь мне достойным любви. – Дай-то бог. Это избавит вас от неприятностей, а мне принесет счастье. Отдыхайте. И дон Кристобаль, выйдя из комнаты, запер тяжелую дверь на ключ. – Пусть решает бог! – воскликнула донья Ана и одетая бросилась в постель. Вскоре она спокойно спала. Донья Фернанда потратила немало сил, чтобы отыскать убежище доньи Аны. Однако все поиски оказались тщетными, и в конце концов достойная сеньора решила, что похитителем был дон Энрике. Таинственный ночной бой она сочла чистой комедией, полагая, что юноша разгадал расставленную ему ловушку и, как говорится в народе, отплатил с лихвой. Дон Энрике, со своей стороны, тоже пытался раскрыть тайну, но, убедившись в тщете своих попыток, вообразил, будто похищение разыграно нарочно, а свидание назначено с тем, чтобы заманить его в засаду и убить. Поверив, что донья Ана действовала заодно с Индиано, он решил забыть эту женщину и ждать разгадки событий от будущего. Дон Энрике без труда покорился судьбе; сердце его уже было занято таинственной красавицей с улицы Такуба. Стремясь рассеять мрачные мысли и снова увидеть прекрасную даму, дон Энрике прогуливался по тем местам, где впервые увидел незнакомку, подолгу стоял перед домом, расспрашивал соседей и в конце концов выведал ее имя и звание. Впрочем, узнать ему удалось немного: женщина эта недавно приехала издалека, откуда именно – неизвестно, очевидно, она очень богата, все слуги у нее индейцы и не говорят по-кастильски, поэтому у них ничего не выспросишь, а главное, эта дама ведет столь замкнутый образ жизни, что соседи впервые увидели юную красавицу лишь в день святого Ипполита на балконе дома. Дон Энрике был близок к отчаянию, дни проходили один за другим, а прекрасная незнакомка словно испарилась. Донья Ана не появлялась в обществе, история с похищением постепенно забывалась, и никто больше не говорил о ней. А вот в доме дона Кристобаля де Эстрады произошли перемены. Теперь это уже не было жилище холостяка, и в городе стало известно, что хозяин дома зажил семейной жизнью. Правда, сеньору могли видеть только доверенные служанки. Донья Ана больше не была пленницей, а Эстрада отказался от балов и прогулок. Друзья говорили, что он вступил на праведный путь. Но только один Индиано был посвящен в тайну всех этих перемен.X. ЖАЛОБА МОНАХИНЬ
Хотя дон Энрике и не был виновен в похищении доньи Аны, его имя так часто поминалось во всех разговорах, вызванных ночным происшествием, что не было в Мехико человека, который не считал бы его виновником этого скандала. Слава дона Энрике как соблазнителя женщин росла с каждым днем, а вместе с ней росло негодование отцов семейств и добропорядочных людей, которые объявили чуть не крестовый поход против бедного юноши и ратовали за то, чтобы его не принимали в семейных домах и остерегались, как злодея. Вполне понятно, что все эти толки дошли до монастыря Иисуса и Марии и ввергли в тревогу мать настоятельницу, чем не преминул воспользоваться дон Хусто. Выждав несколько дней, чтобы сделать свой приход еще более желанным, он появился однажды вечером в монастыре, попросил разрешения поговорить с настоятельницей и был немедленно принят. – Ах, братец! – едва завидев его, воскликнула настоятельница. – Сам господь бог посылает вас, ведь мы уже было собирались пригласить вас к себе. – Да простит мне ваше преподобие, что я не явился раньше. Я был занят в доме сестры моей, графини; ее супругу, сеньору графу, выпали тяжелые дни. – Уж не захворал ли наш благодетель? – Душа у него болит, матушка, душа. – Почему же? – Да уж ваше преподобие может вообразить, какие неприятности доставляет семье дон Энрике, которому господь не судил быть хорошим сыном. – Такова воля божия, братец. Бедный сеньор граф! Мы уже наслышаны о его печалях и неустанно молим за него господа в наших недостойных и грешных молитвах. – О, он безутешен. И у такого хорошего, добродетельного, почтенного человека, известного своим милосердием, такой, да простит меня бог, беспутный буян-сын. – Главное, огласка, братец. Огласка хуже греха. – Пресвятая дева Мария, помоги сеньору графу! Изволите видеть, ваше преподобие, каждый несет свой крест, но, если сравнить нашу долю с долей ближнего, мы должны еще благодарить бога за то, что крест наш не столь тяжек. – Благословен господь во веки веков! – Аминь. – А как же полагает сеньор граф поступить со своим сыном? Не подумайте, братец, что я спрашиваю вас о том из праздного любопытства, избави бог. Но буйство этого юноши, да наставит его господь на путь истинный, с каждым днем все больше омрачает добрую славу нашего монастыря, недостойной настоятельницей коего я являюсь. – Сеньор граф ничего с ним не может поделать. Власти его недостаточно, чтобы пресечь зло. – Но кто же способен пресечь его? – Полагаю, матушка, что только его светлость вице-король. – То же полагают и наши отцы капелланы. Но они не желали бы сами к нему обращаться. – Нетрудно будет добиться желаемого другим путем. – Вот за этим-то я и ждала вас, братец. Посоветуйте, как быть? – Прежде всего, заручившись согласием прелатов, ваше преподобие напишет прошение сеньору вице-королю. В этом прошении вы пожалуетесь на то, что доброе имя вашей святой обители страдает от бесчинств человека, сестра которого находится в вашем монастыре. – Понимаю, понимаю. – Далее ваше преподобие передаст это прошение мне, а я отнесу его во дворец сеньору вице-королю. – Очень хорошо. – Затем ваше преподобие позаботится о том, чтобы сеньор архиепископ посодействовал быстрейшему вручению вашей жалобы. – А потом? – А потом его светлость довершит все остальное. – И что же, вы думаете, он сделает? – Полагаю, он может изгнать из своих владений этого буяна или же в наказание отправить его в Испанию под стражей. – И нет никакой опасности, что при этом прольется кровь? – Никакой. – В таком случае я выполню все ваши советы, братец. А то отец капеллан сказал, что его сан запрещает ему вмешиваться в дела правосудия в тех случаях, когда может пролиться человеческая кровь. – Ваше преподобие может действовать совершенно спокойно; о том, чего боятся отцы капелланы, и речи нет. – Слава богу! Тогда через три дня вы получите нужное послание. Жду вас ровно через три дня. – Я буду точен. Дон Хусто откланялся, а настоятельница немедля велела пригласить отцов капелланов.В те времена Новой Испанией правил дон Себастиан де Толедо, маркиз де Мансера. Он вступил на пост вице-короля 15 октября 1664 года и привез с собой в колонию свою супругу донью Леонору де Каррето. Вице-король согласился принять дона Хусто через пять дней после его разговора с монахиней. Дон Хусто явился с крайне подобострастным видом. Маркиз де Мансера – по отзывам хронистов того времени, человек умный и проницательный – пригласил дона Хусто сесть и принялся изучать его физиономию, пытаясь определить характер этого человека. – Да простит меня ваша светлость, – начал дон Хусто, – что я отвлекаю вас от ваших высоких и сложных обязанностей, но меня понудило к тому дело столь деликатного свойства, что я посмел, быть может, с излишней настойчивостью домогаться свидания с вами. – Можете изложить мне ваше дело, – ответил вице-король, – ведь затем, чтобы управлять этими землями и послал меня сюда его величество король, доверивший мне честь представлять его священную особу и власть. – Приступаю, ибо не хочу докучать вашей светлости. Вам известно, что в этом городе проживает весьма почтенная особа (не в умаление достоинств сеньора вице-короля будь сказано) по имени граф де Торре-Леаль. – Как же, я хорошо его знаю. – У сеньора графа есть двое детей: сын и дочь. Сын, старший из них, известен своим беспутным нравом и дурными наклонностями. Дня не проходит, чтобы он не совершал какое-нибудь бесчинство. – Как зовут этого юношу? – Дон Энрике Руис де Мендилуэта. – А! – воскликнул вице-король, вспомнив о стычке в день святого Ипполита. – У дона Энрике, – продолжал дон Хусто, сделав вид, будто не понял, что означало восклицание маркиза, – есть сестра, о которой я уже упоминал, монахиня в одном из монастырей этого благородного и верного города. – Понимаю. – Бесчинства дона Энрике нарушают покой его сестры и других святых монахинь. Всему городу известно, что сестра буяна спасается в этом монастыре, а потому вся почтенная община предается тревоге и унынию и видит избавителя от нынешних и грядущих бед только в лице вашей светлости, представляющей в этих владениях величие нашего повелителя. – И что же я могу сделать? – Светлейший сеньор, дозвольте почтительно вручить вашей светлости прошение, в котором монахини просят у вас избавления от зла и бесчинств, столь опасных для всего христианского мира. Вице-король взял послание, с глубоким поклоном поданное ему доном Хусто. Внимательно прочитав его, вице-король заметил: – Но здесь не указано, какого решения ждут они от меня. – Святые сестры полагали, что от мудрого ума вашей светлости решение не укроется, да и негоже им указывать вашей светлости. – Что же делать? Быть может, посоветовать графу де Торре-Леаль, чтобы он, пользуясь своей родительской властью, внушил сыну понятие о долге? – Вашей светлости неизвестно, что это ни к чему не приведет. Я принадлежу к семье графа и смею заверить, что по этому пути идти бесполезно. Сеньор граф сделал все, чтобы в его силах, и мы осмелились докучать вашей милости, лишь когда все возможные способы уже были исчерпаны. – В таком случае я призову юношу к себе и строго отчитаю его, пригрозив суровыми карами, если он не исправится. – Не подобает мне вступать в спор с вашей милостью, но, пользуясь всем известной добротой сеньора вице-короля, я испрошу разрешения сказать свое слово. – Говорите, ибо для блага королевства и религии необходимо принять разумное решение. – Вам, ваша светлость, никогда не приходилось беседовать с этим молодым человеком, вот почему ваше благородное сердце верит, что на него могут воздействовать советы и увещевания старших. Но на эту ожесточенную душу не повлияешь ничем, можно лишь еще больше возбудить в нем дурные страсти и сделать его непримиримым врагом монастыря, из которого, как он догадается, поступила жалоба. И тогда, чтобы пресечь злодеяния, потребуются вся власть и весь авторитет вашей светлости. Ведь такой человек, как дон Энрике, способен обнажить шпагу и вступить в бой даже в присутствии вашей светлости, вот до чего довели его дурные привычки и наклонности. Все это дон Хусто говорил не без умысла, желая вызвать у вице-короля воспоминание о событиях в день святого Ипполита. Удар был направлен так ловко, что не замедлил оказать ожидаемое действие. После недолгого размышления вице-король произнес: – Без сомнения, вы правы. В этом меня убеждает происшествие, которому сам я был свидетелем. Быть может, тогда мне следовало действовать по-другому, но это уже дело прошлое. Скажите, нет ли новых жалоб на этого юношу? – Да, светлейший сеньор. В день святого Ипполита… – Об этом я знаю, он затеял сражение во время выноса знамени… – Нет, сеньор, другое. После этого скандала в ночь того же тринадцатого августа дон Энрике похитил девушку, принадлежащую к одному из самых богатых семейств нашего города. Похищение не обошлось без драки, сражения на шпагах и скандала, а хуже всего то, что он уверяет, будто ни в чем не виноват, хотя я сам видел, как мать девушки, бросившись на поиски дочери сразу же после ее исчезновения, наткнулась возле дома на дона Энрике, который сражался с какими-то незнакомцами… – А девушка? Нашлась? – Нет, светлейший сеньор. Опасаясь, без сомнения, что его принудят к справедливому и заслуженному искуплению вины, дон Энрике спрятал ее, и несчастная мать предполагает, что похититель, удовлетворив свою нечистую страсть, отправил бедную девушку далеко отсюда. – Да он негодяй, заслуживающий сурового наказания! – Представить суду доказательства почти невозможно. Преступник посмеется над всеми: он ловко принял меры предосторожности. – Этот юноша, должно быть, чудовище! – Ваша светлость еще многого не знает, но обо всем долго рассказывать. – Но где же выход? – Сеньор, ваша милость может изгнать его из своих владений или же отправить в Испанию под стражей. – Очень суровая кара! – Верно, сеньор. Но для человека, о злодеяниях которого знает теперь ваша милость, она, быть может, менее сурова, чем он заслужил. – Возможно. – К тому же спокойствие сестер монахинь тоже зависит от того, как рассмотрит ваша милость это дело. – Ах! Я и позабыл, что надо еще ответить на жалобу монашек. Хорошо, можете удалиться. Я приму решение сегодня же вечером. – А что мне сказать почтенным монахиням? – Можете заверить их, что они будут удовлетворены, и очень скоро. – Приношу вашей светлости глубочайшую благодарность от почтенных монахинь. Ничего другого они и не ожидали от великодушия вашей милости. – Позаботьтесь о том, чтобы все оставалось в тайне, не то молодой человек постарается доставить нам новые неприятности, либо отразить удар, подготовленный правосудием. – Ваша милость может довериться нашей осмотрительности. Отвесив тысячу поклонов и реверансов, дон Хусто удалился. – Все идет отлично! – воскликнул он, очутившись на улице. – Еще одна жалоба или хоть самое невинное происшествие, и мы увидим моего дорогого сеньора дона Энрике на дороге в Веракрус. Оставшись один, вице-король погрузился в размышления. Затем он перечел послание монахинь. – Все ясно, – сказал он. – Этот юноша неисправим. Монахини действуют по праву, нельзя допускать, чтобы их честь и доброе имя страдали из-за проступков этого человека… А потом похищение… да еще это побоище в моем присутствии на празднике святого Ипполита… и многое другое… нет, этот юноша – сущий бич, пора принять против него крутые меры… Решение принято… Решение принято. И, резко поднявшись с кресла, он направился в канцелярию, где помещались его секретари. Судьба дона Энрике была брошена на чашу весов.
XI. ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
Утром того же дня какой-то слуга оставил в доме дона Энрике тщательно запечатанное письмо. Придя домой к обеду, юноша вскрыл его и прочел следующие строки:«Дон Энрике, сегодня вечером я даю в моем доме бал для друзей. Приходите, велите доложить о себе и постарайтесь, улучив удобное время, поговорить со мной. Мой дом на улице Такуба вам известен».
Под запиской не было подписи, но дон Энрике узнал руку, знакомую ему по первому письму. Это таинственное приключение, эта прекрасная, никому неведомая дама, которая лишь недавно появилась в Мехико и, однако же, имеет друзей и дает балы, настолько возбуждала любопытство дона Энрике, что он, не колеблясь, решил прийти вечером на свидание с очаровательной незнакомкой. Но несмотря на все, он не мог назвать ее письма любовными. В них была какая-то сдержанность, недоговоренность, каждое слово казалось обдуманным. Такое письмо не скомпрометировало бы писавшую его даму, подобные строки могла бы написать королева, милостиво разрешившая аудиенцию. Когда дон Энрике размышлял об этом, тяжелое предчувствие теснило ему грудь, но он тут же вспоминал горящие глаза незнакомки, ее усыпанные брильянтами черные волосы, покрытое драгоценностями черное платье, и все казалось ему столь фантастическим, столь необычным, что порой он чувствовал, как мешаются его мысли. Настал вечер. Дом доньи Марины осветился, будто по мановению волшебной палочки, и явился всем взорам убранный с таким блеском и роскошью, с таким изысканным вкусом, что, казалось, сами феи устроили там свой праздник. Толстый ковер, сплетенный из переливающихся всеми красками перьев, покрывал каменные плиты патио от уличного входа до галереи дома. Купы ароматических растений и цветущих кустов благоухали вокруг, и среди листвы этого искусственного леса ярким светом горело несметное множество свечей. Разноголосые птицы, гордые певцы высоких гор, оглашали воздух своими трелями, радуясь обманному сиянию, соперничающему со светом дня. Невиданная, диковинная роскошь отличала все покои дома. Мебель из неизвестного дерева, издававшего тонкий аромат, привлекала глаз своими причудливыми формами. Богатая европейская парча, шитые золотом китайские шелка, искусно выработанные индейские ткани покрывали стены и широкие диваны; среди японского фарфора блистала посуда из золота и серебра. Столь пышного бала не было еще на памяти старожилов города, к тому же стало доподлинно известно, что на балу обещали присутствовать вице-король маркиз де Мансера и его супруга донья Леонора. Приглашение им было послано от имени доньи Марины де Альварадо, дочери касика дона Эрнандо де Альварадо, обращенного в католическую веру, – одного из самых богатых сеньоров Теуантепека. Приглашая вице-короля, донья Марина озаботилась тем, чтобы представить во дворец все документы, подтверждающие ее благородное происхождение. Ознакомившись с представленными грамотами, вице-король счел возможным принять приглашение и пообещал приехать вместе со своей супругой. Гости еще не начали съезжаться. По залам метались занятые последними приготовлениями управители, слуги и рабы. Донья Марина и Индиано беседовали в одном из покоев. На донье Марине было белое платье без всяких украшений, но такое тонкое и воздушное, что казалось, будто она окутана легким облаком; вокруг ее талии обвился пояс алого шелка, усеянный брильянтами; на обнаженных руках, на шее, в волосах сверкали брильянтовыми звездами алые браслеты, ожерелье и диадема. В этом одеянии донья Марина выглядела волшебницей из арабской сказки. Наряд Индиано повторял цвета его дамы. Он был одет в белый шелковый камзол с красными прорезями на рукавах. Ни серебро, ни золото не украшали его одежду – только брильянты. Не без умысла он выбрал те же цвета и драгоценности, что и донья Марина. – Сеньор, – говорила Марина, – мне неизвестны ни твои цели, ни твои замыслы, но я подчинилась тебе во всем, как тучка подчиняется дыханию ветра. – Не бойся ничего, Марина. Скоро ты увидишь, зачем все это нужно. – Бояться, когда я слушаюсь тебя? Никогда. Ты – моя жизнь и моя воля. Приказывай, сеньор. Ведь в этом и есть любовь. Я люблю тебя, и твоя душа неотделима от моей. Разве может моя душа не пожелать того, чего хочет твоя! Ты доволен? – Я всегда доволен, если довольна ты, свет души моей. Ты не знаешь, получил дон Энрике письмо? – Да, получил. О! Ты не понимаешь, сеньор, какие чувства я испытываю при мысли, что другой мужчина, а не ты, воображает, будто я могу любить его, думать о нем. Эта мысль разрывает мне сердце! – Любовь моя, слышишь птиц, которые поют при свете свечей? Они думают, что это солнце, но может ли этот обман оскорбить солнце, вызвать в нем ревность? Пусть этот человек принимает свет горящих углей за свет дня. Наша любовь, наше счастье – чисты и незыблемы, никакая гроза им не страшна. – О сеньор! Говори со мной так всегда, приказывай мне все, что хочешь! Как мне вести себя, когда придет этот человек? – Старайся поменьше смотреть на него, однако предоставь ему случай приблизиться и заговорить с тобой. Поощряй его дерзость своим молчанием, все остальное сделаю я. Но когда я пойду и спрошу, о чем он говорил с тобой, отвечай мне громким голосом в присутствии всех гостей и притворяйся удивленной. Повтори все, что он скажет тебе. Ты поняла, жизнь моя? – О! Моя душа всегда понимает тебя. В это время начали съезжаться гости. Дамы и кабальеро заполняли залы, раздались первые негромкие звуки музыки. Ждали только приезда вице-короля с супругой, чтобы начать танцы. До самого входа во дворец были расставлены люди, которые немедля должны были известить хозяев о прибытии вице-королевской четы. Наконец пришла долгожданная весть, все общество заволновалось, и донья Марина, опершись на руку Индиано, сошла вниз, чтобы встретить вице-королевскую чету у подножия лестницы. От входной двери до места встречи двумя рядами стояли одетые с европейским изяществом испанские слуги вперемежку с индейцами в ярких уборах из перьев, принятых во время Монтесумы. Слуги держали в руках зажженные восковые свечи, а индейцы освещали путь смоляными факелами, источавшими благовонный дым. Двое детей, одетые в старинные ацтекские костюмы, и двое – в современном испанском платье – шли впереди вице-королевской четы, посыпая пол лепестками мака и роз. Со всех сторон полились звуки музыки, с плоской крыши взлетели вверх потешные огни. Вице-король и донья Леонора были очарованы такой роскошью и радушием. Вице-королева поспешила обнять донью Марину, вице-король протянул руку дону Диего, а затем девушке. – Сеньор, – заговорила донья Марина, – сердце мое стремилось оказать тебе достойный прием и ради тебя самого, и ради величия, которое ты представляешь в этих владениях, – ведь в тебе я вижу особу нашего повелителя. Прости, сеньор, я сделала все, что могла, чтобы дом мой был тебе приятен, но знаю, что этого слишком мало. Маркиз де Мансера, искушенный в придворном языке европейских столиц, был несколько смущен наивным красноречием патриархальных времен; вице-королева тоже испытывала замешательство. Однако проницательный ум маркиза подсказал ему, что он должен отвечать в тех же выражениях. – Дитя мое, – произнес он, – монарх видит твои добрые намерения и благодарит тебя за старания. Твой дом великолепен, а праздник достоин короля. – Сеньора, – обратилась Марина к вице-королеве, – человек, которого ты здесь видишь, – она указала на дона Диего, – станет моим супругом перед лицом господа, потому что оба мы христиане, и он и я. Окажи мне милость, сеньора, попроси своего благородного супруга, чтобы вы вместе были посажеными родителями на нашей свадьбе. Эта чистосердечная просьба тронула донью Леонору, она взглянула на маркиза и прочла в его глазах согласие. – Дитя мое, – ответил вице-король, – моя супруга и я будем посажеными родителями на твоей свадьбе, и в подтверждение я хочу сообщить тебе, что его величество король (да хранит его бог!) дал мне разрешение нанести от его имени визит двум особам, которых сочту я достойными столь высокой милости. И вот я объявляю, что первое из этих посещений произошло сегодня, и ты можешь считать, что его величество король Испании сам своей священной особой присутствовал в твоем доме. – Да здравствует его величество! – воскликнули гости, услыхавшие слова вице-короля, и клич этот подхватили во всех покоях дворца и даже на улице. Вице-король предложил руку Марине, а дон Диего вице-королеве, и, поднявшись по лестнице, обе пары, как говорилось в те времена, открыли бал. Прошло около часу, и слуги доложили о появлении дона Энрике Руиса де Мендилуэта. Дон Энрике вошел в залу, где находились вице-король с супругой, и приветствовал их почтительным поклоном. – Это и есть тот юноша, о котором ты говорил мне? – спросила донья Леонора. – Он самый, и это очень жаль. Так хорош собой, так статен… – ответил вице-король. – Но, может быть, на него клевещут? – Дай-то бог. На первый взгляд он мне понравился, и, право, я рад был бы не отдавать распоряжения, которого требуют матери монахини. Постараюсь понаблюдать за ним сегодня. – Возможно, он не так уж плох, как о нем говорят. Если бы дон Энрике не был так поглощен стремлением увидеть донью Марину, он обратил бы внимание на то, что вице-король с супругой о чем-то переговариваются, не сводя с него глаз. Но он ничего не заметил. Долгое время дон Энрике не отрывал взгляда от доньи Марины, которая, казалось, и не смотрела в его сторону, окруженная сонмом дам и молодых людей, очарованных ее простодушной и живописной речью. Но вот танцы увлекли всех, и донья Марина осталась одна. Дон Энрике решил, что настал подходящий момент, и, подойдя к девушке, сел рядом с ней. – Доволен ли ты, сеньор? – спросила донья Марина. Дон Энрике не привык к такому обращению и, не зная, что, по обычаю своей страны, донья Марина так говорила со всеми, принял ее слова как выражение особого доверия. В восторге он ответил: – Как могу я не быть довольным рядом с тобой, сеньора, когда единственное стремление моей души – говорить с тобой, слушать тебя, рассказывать тебе о своей любви! В это время дон Диего как бы случайно вошел в залу вместе с компанией дам и кабальеро. Дон Энрике в увлечении никого не заметил. – Ты меня любишь? Но ведь ты едва знаешь меня? – спросила донья Марина. – О сеньора, достаточно хоть раз увидеть тебя, чтобы полюбить. Я верю, что и ты полюбишь меня! Ведь ты будешь моей? – Твоей? Но как? – Полюби меня так, как я люблю тебя! Живи рядом со мной, живи только для меня и ради меня! – Но почему ты думаешь, что я могу решиться на это? – Я думаю так из-за двух твоих писем, я думаю так из-за розового бутона, который ты бросила мне в день святого Ипполита! – Я? – Да ты. Не отрицай, я люблю тебя! В это мгновение к ним подошел Индиано. Донья Марина встала, словно в испуге, и дон Энрике увидел перед собой своего врага. – Кабальеро! – произнес Индиано громким голосом, чтобы все могли его слышать. – Что говорили вы этой даме? – Вас это не касается, – высокомерно ответил дон Энрике. – Донья Марина, что говорил тебе этот человек? – Он говорил мне какие-то непонятные слова, – простодушно ответила девушка. – Он говорил, что любит меня, а я люблю его, что получал от меня письма, и будто я должна принадлежать ему, оттого что он поднял розу, которую я бросила тебе в день святого Ипполита. Страшное подозрение промелькнуло в душе дона Энрике. Не стал ли он жертвой коварства? Музыка умолкла, из всех залов сбегались привлеченные любопытством гости. – Вы слышите, господа? – спросил Индиано. – Вы осмелились преследовать своими ухаживаниями даму, которая гостеприимно открыла вам двери своего дома. И эта дама – моя будущая супруга, которой сеньор вице-король обещал высокую честь быть посаженым отцом на ее свадьбе. Дон Энрике словно окаменел; молния, упавшая у его ног, не могла бы поразить его более. Он понял, что за всем этим кроются низкие козни, но не мог проникнуть мыслью сквозь плотную завесу лжи. – Надеюсь, вы согласитесь, кабальеро, – продолжал Индиано, – что я имею право просить вас покинуть дом, где вы совершили такой недопустимый поступок. Дон Энрике побледнел, на лбу у него выступила испарина. – О! – воскликнул он. – Вы должны объяснить мне, кабальеро… – Вы должны удалиться, дон Энрике Руис де Мендилуэта, – произнес властный голос за спиной у дона Энрике. Он обернулся и увидел суровое лицо маркиза де Мансеры. – Повинуюсь вашей светлости, – сказал дон Энрике. – Мы поговорим обо всем завтра, сеньор дон Диего. – Как вам будет угодно. Дон Энрике вышел из залы среди гробового молчания. – Теперь ты видишь? – спросил вице-король у супруги. – Он неисправим, – ответила донья Леонора. Все успокоились, и веселый бал продолжался, словно ничего не произошло.
XII. ПОВЕЛЕНИЕ ВИЦЕ-КОРОЛЯ
Скандал, вызванный ни в чем не повинным доном Энрике, лишь ненадолго прервал общее веселье. Даже самые близкие друзья молодого кабальеро решили отложить на завтра разгадку таинственной интриги и отдались наслаждениям бала, сдержав на время свое негодование, огорчение и дружеские чувства. Вице-король казался глубоко озабоченным. Решение было принято, и никакая сила не могла заставить его отступить. Он искал лишь способа выполнить свою волю без лишнего шума и преждевременной огласки, не напрасно опасаясь, что мольбы и слезы семьи вынудят его смягчить приговор. Вице-королева, донья Леонора, хорошо знала характер своего супруга. По его упрямо сдвинутым бровям она поняла, что решение принято окончательно и говорить с ним об этом деле бесполезно. Настал час разъезда гостей. Вице-король с супругой поднялись первыми. Повторив провожавшим их Индиано и донье Марине свое обещание, они направились к выходу, следуя между двумя рядами слуг, освещавших путь свечами и факелами. Вице-королевская чета уселась в карету, лошади тронулись, и все гости стали расходиться. Первые лучи солнца осветили улицы города, ласточки весело щебетали на крышах. Дон Диего и донья Марина остались одни в опустевших покоях. – Сеньор, – спросила донья Марина, – я во всем тебе повиновалась. Ты доволен? – Да, Марина. – Тогда я хочу просить тебя о милости. – Говори, моя красавица. Твои желания – закон для меня. Душа моя склоняется перед твоей волей, как листья пальмы перед дыханием ветра. – Сеньор, скажи своей Марине, что хочешь ты сделать с этим человеком? Для чего все это было нужно? – Донья Марина, – ответил с безмятежным спокойствием Индиано, – я хочу убить этого человека ударом шпаги. – Бедняжка! Ведь я знаю, если ты говоришь: этот человек должен умереть, то он умрет. Никто еще не мог похвалиться тем, что отразил удар твоей шпаги. Но не сердись, душа души моей, если я спрошу тебя: зачем ты проделал все это сегодня ночью? – Марина, ты не знаешь, что такое общество. Если бы я убил этого человека раньше, чем опозорил его перед всеми, люди стали бы жалеть его. Если бы он убил меня, – его стали бы превозносить. Теперь же, когда он заслужил насмешки и презрения, показав себя недостойным звания кабальеро, если я убью его, все скажут: «Дон Диего прав», – если же он убьет меня, победа не принесет ему славы, моя месть будет преследовать его даже из могилы, и все отвернутся от него, как от злодея. – Боже! И ты думаешь, он способен убить тебя? – Это возможно. Я верю своей руке, но как знать, не пришел ли и мой час. Только богу известны тайны грядущего. – Я готова раскаиваться в том, что помогала тебе против этого человека! – Не раскаивайся, моя Марина. Эта дуэль все равно неизбежна, а благодаря тебе люди оправдают меня, если я его убью, и осудят его, если умру я. Марина опустила голову, и слезы, скользнув по ее щекам, сверкнули среди брильянтов ожерелья. – Марина! – воскликнул дон Диего, поцеловав ее в лоб. – Женщины твоей расы не плачут, когда мужчина идет в бой. Неужто воздух Мехико лишил силы твое сердце? – Мое сердце стонет и жалуется лишь из страха потерять тебя. Где возьму я силы, если ты покинешь меня? – Твоя любовь будет мне защитой. Прощай! Девушка снова заплакала. Но Индиано запечатлел два жарких поцелуя на ее прекрасных глазах и, взяв шляпу и плащ, стремительно вышел из дома.Дон Энрике бежал с бала словно безумный. Стыд, гнев, отчаяние бушевали в его груди. Он понял, что стал жертвой интриги, задуманной Индиано, и жажда мести кипела в его сердце. Он бродил по темным пустынным улицам со шляпой в руке, подставляя пылающую голову холодному ночному ветру. Он мечтал встретить кого-нибудь, затеять драку и либо умереть, либо утолить снедавшую его жажду крови. Но улицы были пусты, и он шагал и шагал всю ночь, пока первый луч зари не застиг его уже за пределами города. Тогда, сломленный усталостью, сжигаемый лихорадкой, юноша вернулся домой и бросился в постель. Решение было принято: убить Индиано или умереть, отомстить или погибнуть. Он закрыл глаза и забылся тяжелым сном. Весь день дон Энрике не мог поднять головы, не мог открыть глаз. Он испытывал мучительную боль в затылке, неутолимую жажду, какое-то странное изнеможение. Мысли его путались, он видел себя то на балу, то на празднике святого Ипполита, то у решетки доньи Аны; люди, с которыми он сталкивался в последние дни, кружили перед ним вереницей, и на всех лицах он читал презрение. Дон Энрике жил в том же доме, что и его отец, старый граф де Торре-Леаль. Но молодому человеку были отведены особые покои с отдельным выходом на улицу, чтобы он мог в любое время дня и ночи выезжать верхом или в карете, не нарушая покоя остальной семьи. Наступил вечер, дон Энрике продолжал бредить. Однако он решительно запретил беспокоить отца сообщением о своей болезни, надеясь, что утром ему станет полегче. Пробило два часа ночи, когда в вице-королевском дворце распахнулись тяжелые ворота и со двора выехала дорожная карета, запряженная шестью мулами, в сопровождении нескольких всадников. Среди них, при свете факелов, пылавших в руках у слуг, можно было узнать офицера алебардистов. Карета выехала на площадь и свернула в улицу Икстапалапа. Офицер поскакал вперед и остановился перед домом графа де Торре-Леаль. Очевидно, он был хорошо осведомлен, так как направился не к главным воротам, а постучался у входа в покои дона Энрике. Кучер остановил карету, четверо всадников спешились и встали рядом с офицером, который тоже сошел с коня. Слуги не спали, встревоженные болезнью своего сеньора, и отозвались на стук, не заставляя себя ждать. – Кто здесь? – спросил один из них. – Офицер его величества с приказом от его светлости сеньора вице-короля к дону Энрике Руису деМендилуэта. Откройте. Привратник, напуганный таким вступлением, открыл без промедления. Офицер в сопровождении своих людей вошел в дом. – Зажги огонь и проводи меня, – сказал он слуге, – где твой сеньор? – Болен, лежит в постели. – Отведи меня к нему и доложи. Офицер распоряжался так властно, что слуга не посмел возражать и, взяв в руки светильник, повел его к спальне дона Энрике. – Обождите, ваша милость, я сейчас доложу, – сказал он. – Поторапливайся. Дон Энрике дремал. – Сеньор, – окликнул его слуга. – Что тебе? – спросил юноша, с трудом открыв глаза. – Какой-то офицер хочет видеть вашу милость от имени сеньора вице-короля. – Скажи ему, что я болен. – Я говорил, он стоит на своем. Дон Энрике с досадой пожал плечами и сказал: – Пусть войдет. Слуга вышел и вскоре вернулся вместе с офицером, который с любопытством оглядел спальню, озаренную слабым, мерцающим светом ночника. – Вы дон Энрике Руис де Мендилуэта? – Да. – По приказу его светлости сеньора вице-короля следуйте за мной. – Это невозможно, я болен. – Таково повеление его светлости. Мне дан приказ, и я должен выполнять его неукоснительно. – Но его светлости не было известно, что я болен. – Все предусмотрено. Таково повеление его светлости. – Но это бесчеловечно, я не пойду. – Вы ставите меня в чрезвычайно трудное положение. Такова воля вице-короля, и мне дан приказ выполнять ее либо с вашего согласия, либо силой. – В таком случае применяйте силу! – воскликнул взбешенный дон Энрике. – Будьте благоразумны. Со мной люди, и я не думаю, что вы захотите опозорить дом вашего старого отца, подняв оружие против короля и правосудия. Слуги в страхе молчали. Дон Энрике вскочил и схватился было за шпагу, но сдержал себя и после размышления сказал, покорившись судьбе: – Хорошо, я последую за вами. Разрешите мне одеться. – Это в вашей воле. – Известить мне сеньора графа? – спросил слуга. – Нет, – ответил дон Энрике, – я не хочу тревожить его. – Тем более, – добавил офицер, – что мне не дано приказа разрешить это. Дон Энрике умолк и поспешно оделся. – Я к вашим услугам. – Тогда следуйте за мной. При свете свечей они спустились по лестнице и вышли из дома. Один из ожидавших на улице людей открыл дверцу кареты. – Садитесь, – сказал офицер. – Куда вы меня везете? – спросил дон Энрике. – Не приказано говорить. – Но… – Таково повеление его светлости. Дон Энрике вошел в карету и сел, офицер поместился рядом. Дверца захлопнулась, и мулы пустились бегом. Слуги в дверях дома рыдали, глядя вслед уехавшему хозяину. Дон Энрике откинулся в угол кареты. У него снова начался бред. Офицер в глубоком молчании прислушивался к бреду больного. Так миновали они улицу Икстапалапа и выехали из города.
XIII. МОСКИТ
В ту же ночь, когда происходили описанные нами события, около одиннадцати часов, в жалкой харчевне, расположенной в одном из переулков, выходивших на Студенческую, или Университетскую, площадь, собрались за веселым ужином четыре человека. Они сидели вокруг старого колченогого стола, на котором горела оплывшая свеча желтого воска в разбитом глиняном подсвечнике. Перед каждым из сотрапезников стояла большая миска с заправленными перцем лепешками, и все они по очереди прикладывались к объемистому кувшину с пульке, который непрерывно переходил из рук в руки. Все были одеты в какую-то рвань, но у троих этих обноски были из темной бумажной ткани, а у четвертого, очевидно их вожака, – из бархата. Правда, теперь вряд ли удалось бы определить первоначальный цвет этого наряда, и был он настолько истрепан, что наверняка побывал уже у троих или четверых хозяев, прежде чем попал к нынешнему владельцу. Щеголял в бархатном костюме сухопарый, низкорослый парень с иссиня-черной бородкой и такими живыми блестящими глазами, что на них нельзя было не обратить внимания. Собеседники с каждым глотком становились веселее, и разговор постепенно оживлялся. – Так, значит, сейчас у вас нет ни денег, ни надежды раздобыть их? – спросил парень в бархатном костюме. – Вот именно, Лукас, – ответил другой, поднося кувшин ко рту. – Так с вами всегда и будет! – воскликнул тот, кого назвали Лукасом. – Почему? – Потому, что вы лентяи и трусы. – Вот подвернулось бы нам настоящее дело… – Э, была бы охота, а дел хватает. – Не вижу. – А я говорю, хватает. – Где же они? – У меня их немало, и я никогда не сижу без денег. – Не всем же так везет, как счастливчику Москиту. – Потому что я работаю, изворачиваюсь… – Тогда помоги нам. – Это вы мне должны помочь. Мне нужны товарищи для одного дела… – Мы готовы. – Беретесь? – Да, да. – Тогда слушайте. Садитесь поближе. Собеседники сдвинули головы, чтобы лучше слышать, и Москит продолжал: – Есть в городе один кабальеро, который сулит мне хороший заработок. Дело опасное, но, по-моему, верное, да еще если возьмутся за него такие молодцы, как вы. – Дальше, дальше. – И головы сдвинулись еще теснее. – Речь идет о том, чтобы напасть на отряд королевских солдат. – Гм… – крякнул один. – Это дело серьезное… – сказал другой. – И пахнет по меньшей мере гарротой, – добавил третий. – Не спорю, – ответил Москит, – тут можно свернуть шею. Но если вы боитесь, ничего не потеряно. Останемся по-прежнему друзьями, а я сговорюсь с другими. – Нет, нет, кто тут боится? Я таких не знаю. – Уж во всяком случае, не я. – И не я. – Так, значит, я могу рассчитывать на вас? – Да, – ответили все трое. – Дело вот в чем… Москит собрался продолжать, но тут парнишка, прислуживающий в таверне, прервал его: – Какой-то сеньор спрашивает вашу милость. – Где он? – Ждет на улице. Он говорит, что вы его знаете. – Скажи, я сейчас выйду. – И, обратившись к товарищам, Лукас добавил: – Я ненадолго, скоро вернусь. Он надел шляпу и вышел. – Что это за дело нашел Москит? – спросил один из оставшихся. – Должно быть – нелегкое, раз он за него не взялся один. – Какое бы оно ни было, а я пойду с Москитом. Он ловкий малый. – Я тоже, а там будь что будет. И все трое принялись попивать пульке, поджидая Лукаса. Выйдя на улицу, Москит увидел пришедшего к нему человека. В широком черном плаще, закрывавшем лицо до самых глаз, в низко надвинутой широкополой шляпе, он был похож на привидение. – Лукас, – позвал человек. – Это вы, дон Хусто? – отозвался Москит. – Тихо, не произноси моего имени. Готовы ли твои товарищи? – Через полчаса будут готовы. – Надежные? – Иначе я бы не взял их. – Отлично. Через час я жду тебя на мосту Аудиенсии. Смотри не опаздывай и приводи всех. – Слушаю, сеньор. – Возьми. – И, сунув руку под плащ, человек протянул Москиту набитый деньгами кошелек. – Благодарствуйте. – Не опаздывай. Человек в плаще исчез, а Лукас, вернувшись в таверну, снова уселся за стол. – Итак, я уже сказал, мы должны напасть на королевских солдат, которые будут конвоировать пленника. – И освободить пленника? – Нет, задача не так опасна: мы нападаем на солдат, обращаем их в бегство, а пленника отправляем к праотцам. И Москит резко провел воображаемым ножом по своему горлу. – А потом? – Потом по домам. Ну, как скажете, трудно? – А сколько будет солдат? – Самое большее шесть. К тому же мы нападем на них врасплох. – Я согласен. – И я. – И я. В этот момент пробило восемь часов, все четверо встали и, перекрестившись, набожно забормотали молитву о душах в чистилище, число которых собирались сегодня пополнить. – Когда начинать? – спросил один из них, закончив молитву.
– Этой же ночью, так что наутро мы уже будем свободны и богаты, – ответил Москит.
– А сколько дают?
– Мне вручено по двести песо для каждого из вас.
– Отправимся пешком?
– Нет, хозяин дает лошадей. Вам надо только взять с собой оружие.
– Идет. А что за лошади?
– Подходящие, я их уже смотрел, а я, как вам известно, в этом толк знаю. В придачу к двумстам песо получите еще и лошадей.
– Здорово!
– А теперь отправляйтесь за оружием. Я жду вас здесь. Выйдем ровно в девять.
– Пошли.
Все трое покинули таверну и разошлись в разные стороны. Москит снова сел за стол и крикнул:
– Паулита, Паулита!
В таверне было пусто, но после зова Лукаса где-то в глубине открылась дверь и на пороге появилась хорошенькая, смуглая, стройная и бойкая девушка, лет двадцати, в широкой ярко-красной юбке. На ней не было ни лифа, ни корсажа, а только ослепительно белая свободная сорочка; вокруг крепкой и нежной шеи обвилась нитка крупных кораллов, а из-под короткой юбки выглядывали маленькие ножки без чулок, обутые в ладно пригнанные шелковые башмачки.
– Ты звал меня? – наигранно ласково спросила девушка, подойдя к Москиту.
– Поди сюда, моя прелесть. Я один, и мне нужно дождаться здесь приятелей. Садись рядышком, поболтаем пока.
Девушка уселась подле Лукаса и сняла нагар со свечи.
– А что это за дело ты затеваешь на ночь глядя?
– Дело очень важное, но тебе о нем знать незачем, мое сокровище. – И он нежно взял ее за подбородок.
Паулита отвернулась с недовольной гримаской.
– Что это, ты сердишься на меня, красотка?
– Да, – кокетливо ответила Паулита.
– За что же, скажи, моя радость?
– За то, что ты мне не доверяешь.
– Я ведь знаю, ты смелая женщина, тебе можно доверить тайну скорее, чем мужчине.
– И все-таки не хочешь рассказать, что ты будешь делать ночью.
– Я тебе все расскажу потом.
– Потом я и без тебя узнаю. Вот почему я больше люблю Вьюна, он от меня ничего не скрывает.
– Послушай, Паулита, я расскажу тебе все, что хочешь, но не смей говорить при мне об этом выродке.
– Пусть выродок, но он меня любит больше, чем ты, и я тоже люблю его.
– Ладно, ладно, я знаю, что ты все это говоришь, чтобы подразнить меня. Но лучше оставь его в покое.
– А, ты сердишься?
– Очень.
– Ревнуешь?
– Может быть.
– Значит, ты меня очень любишь?
– Больше жизни.
– Обманщик, – весело сказала Паулита и, приподняв рукой лицо Москита, запечатлела на его губах сочный поцелуй, на который он не замедлил ответить.
– Ох и лиса же ты, Паулита. Знаешь, что я ни в чем не могу тебе отказать. Ну, слушай…
Девушка устроилась поудобнее, левой рукой подперев щеку, а правой – играя черными кудрями Лукаса. В этой позе Паулита казалась еще соблазнительнее.
– Какая ты красивая! – воскликнул Москит.
– Ладно, ладно, рассказывай!
– Ну, слушай. Дело нехитрое – сегодня ночью нам нужно выйти на дорогу в Куэранаваку, подстеречь шестерых солдат с пленником, разогнать солдат, отнять у них пленника и тут же его прикончить.
– А потом?
– Больше ничего.
– И сколько вам заплатят?
– Мне, как главарю, пятьсот песо, а остальным по двести.
– Сколько вас?
– Четверо.
– Тогда это не опасно.
– Но их ведь шестеро.
– Да, но они же солдаты. С ними и я справлюсь.
– Пожалуй, верно. Опасность не очень велика.
– Еще бы! А как зовут этого пленника?
– Не знаю.
– Не лги, – сказала Паулита, ласково дергая его за ухо.
– Вот любопытная!
– Знаешь ведь, мне нужно знать все до конца. Как зовут пленника?
– Обязательно хочешь добиться своего?
– А как же! Ну, говори его имя! – не отставала Паулита.
– Его имя… да зачем тебе это знать?
– Скажи, скажи, а то я начну говорить про Вьюна.
– Нет, не смей! Лучше я скажу тебе.
– Говори, хитрец!
– Его зовут дон Энрике Руис де Мендилуэта.
– Спаси его господь! – воскликнула Паулита, побледнев и вскочив с места. – Дон Энрике, сын графа де Торре-Леаль?
– Он самый. Да что с тобой? Чего ты побледнела? Чего испугалась?
– Нет, Лукас, нет! Ты не сделаешь этого, если любишь меня.
– Да что тебе до него, Паулита? Кто он? Твой возлюбленный?
– Лукас, этот человек никогда не был моим возлюбленным, но я люблю и уважаю его, как родного отца. Я не хочу, я не хочу, не смей убивать его!
И девушка, разрыдавшись, уткнулась лицом в грудь Лукаса.
– Паулита, я никогда тебя такой не видел. Что это за тайна? Объясни, а то я уж начинаю подозревать неладное.
– Здесь нет никакой тайны, здесь нет ничего плохого, Лукас. Это история моей жизни. Если бы я рассказала ее тебе, ты полюбил бы дона Энрике, как я люблю его, и стал бы его уважать, как я уважаю. Лукас, я знаю, ты сам будешь плакать, когда услышишь эту историю.
– Расскажи мне ее, Паулита, расскажи и не огорчайся, – ответил Москит, ласково поглаживая черную головку девушки.
– Хорошо, Лукас, я расскажу тебе. Ведь ты меня любишь, правда?
– Ты – моя единственная любовь. Когда у меня будут деньги, я брошу дурную жизнь и женюсь на тебе.
– Тогда я расскажу тебе все, чтобы ты помог дону Энрике, чтобы его жизнь стала для тебя священной. А как твои приятели, еще не скоро придут?
– Нет, нет, они вернутся не раньше девяти.
– Тогда слушай.
Москит приготовился слушать, и Паулита, утерев передником слезы, начала свою историю.
– Когда начинать? – спросил один из них, закончив молитву.
– Этой же ночью, так что наутро мы уже будем свободны и богаты, – ответил Москит.
– А сколько дают?
– Мне вручено по двести песо для каждого из вас.
– Отправимся пешком?
– Нет, хозяин дает лошадей. Вам надо только взять с собой оружие.
– Идет. А что за лошади?
– Подходящие, я их уже смотрел, а я, как вам известно, в этом толк знаю. В придачу к двумстам песо получите еще и лошадей.
– Здорово!
– А теперь отправляйтесь за оружием. Я жду вас здесь. Выйдем ровно в девять.
– Пошли.
Все трое покинули таверну и разошлись в разные стороны. Москит снова сел за стол и крикнул:
– Паулита, Паулита!
В таверне было пусто, но после зова Лукаса где-то в глубине открылась дверь и на пороге появилась хорошенькая, смуглая, стройная и бойкая девушка, лет двадцати, в широкой ярко-красной юбке. На ней не было ни лифа, ни корсажа, а только ослепительно белая свободная сорочка; вокруг крепкой и нежной шеи обвилась нитка крупных кораллов, а из-под короткой юбки выглядывали маленькие ножки без чулок, обутые в ладно пригнанные шелковые башмачки.
– Ты звал меня? – наигранно ласково спросила девушка, подойдя к Москиту.
– Поди сюда, моя прелесть. Я один, и мне нужно дождаться здесь приятелей. Садись рядышком, поболтаем пока.
Девушка уселась подле Лукаса и сняла нагар со свечи.
– А что это за дело ты затеваешь на ночь глядя?
– Дело очень важное, но тебе о нем знать незачем, мое сокровище. – И он нежно взял ее за подбородок.
Паулита отвернулась с недовольной гримаской.
– Что это, ты сердишься на меня, красотка?
– Да, – кокетливо ответила Паулита.
– За что же, скажи, моя радость?
– За то, что ты мне не доверяешь.
– Я ведь знаю, ты смелая женщина, тебе можно доверить тайну скорее, чем мужчине.
– И все-таки не хочешь рассказать, что ты будешь делать ночью.
– Я тебе все расскажу потом.
– Потом я и без тебя узнаю. Вот почему я больше люблю Вьюна, он от меня ничего не скрывает.
– Послушай, Паулита, я расскажу тебе все, что хочешь, но не смей говорить при мне об этом выродке.
– Пусть выродок, но он меня любит больше, чем ты, и я тоже люблю его.
– Ладно, ладно, я знаю, что ты все это говоришь, чтобы подразнить меня. Но лучше оставь его в покое.
– А, ты сердишься?
– Очень.
– Ревнуешь?
– Может быть.
– Значит, ты меня очень любишь?
– Больше жизни.
– Обманщик, – весело сказала Паулита и, приподняв рукой лицо Москита, запечатлела на его губах сочный поцелуй, на который он не замедлил ответить.
– Ох и лиса же ты, Паулита. Знаешь, что я ни в чем не могу тебе отказать. Ну, слушай…
Девушка устроилась поудобнее, левой рукой подперев щеку, а правой – играя черными кудрями Лукаса. В этой позе Паулита казалась еще соблазнительнее.
– Какая ты красивая! – воскликнул Москит.
– Ладно, ладно, рассказывай!
– Ну, слушай. Дело нехитрое – сегодня ночью нам нужно выйти на дорогу в Куэранаваку, подстеречь шестерых солдат с пленником, разогнать солдат, отнять у них пленника и тут же его прикончить.
– А потом?
– Больше ничего.
– И сколько вам заплатят?
– Мне, как главарю, пятьсот песо, а остальным по двести.
– Сколько вас?
– Четверо.
– Тогда это не опасно.
– Но их ведь шестеро.
– Да, но они же солдаты. С ними и я справлюсь.
– Пожалуй, верно. Опасность не очень велика.
– Еще бы! А как зовут этого пленника?
– Не знаю.
– Не лги, – сказала Паулита, ласково дергая его за ухо.
– Вот любопытная!
– Знаешь ведь, мне нужно знать все до конца. Как зовут пленника?
– Обязательно хочешь добиться своего?
– А как же! Ну, говори его имя! – не отставала Паулита.
– Его имя… да зачем тебе это знать?
– Скажи, скажи, а то я начну говорить про Вьюна.
– Нет, не смей! Лучше я скажу тебе.
– Говори, хитрец!
– Его зовут дон Энрике Руис де Мендилуэта.
– Спаси его господь! – воскликнула Паулита, побледнев и вскочив с места. – Дон Энрике, сын графа де Торре-Леаль?
– Он самый. Да что с тобой? Чего ты побледнела? Чего испугалась?
– Нет, Лукас, нет! Ты не сделаешь этого, если любишь меня.
– Да что тебе до него, Паулита? Кто он? Твой возлюбленный?
– Лукас, этот человек никогда не был моим возлюбленным, но я люблю и уважаю его, как родного отца. Я не хочу, я не хочу, не смей убивать его!
И девушка, разрыдавшись, уткнулась лицом в грудь Лукаса.
– Паулита, я никогда тебя такой не видел. Что это за тайна? Объясни, а то я уж начинаю подозревать неладное.
– Здесь нет никакой тайны, здесь нет ничего плохого, Лукас. Это история моей жизни. Если бы я рассказала ее тебе, ты полюбил бы дона Энрике, как я люблю его, и стал бы его уважать, как я уважаю. Лукас, я знаю, ты сам будешь плакать, когда услышишь эту историю.
– Расскажи мне ее, Паулита, расскажи и не огорчайся, – ответил Москит, ласково поглаживая черную головку девушки.
– Хорошо, Лукас, я расскажу тебе. Ведь ты меня любишь, правда?
– Ты – моя единственная любовь. Когда у меня будут деньги, я брошу дурную жизнь и женюсь на тебе.
– Тогда я расскажу тебе все, чтобы ты помог дону Энрике, чтобы его жизнь стала для тебя священной. А как твои приятели, еще не скоро придут?
– Нет, нет, они вернутся не раньше девяти.
– Тогда слушай.
Москит приготовился слушать, и Паулита, утерев передником слезы, начала свою историю.
XIV. ИСТОРИЯ ПАУЛИТЫ
Мой отец, бедный каменщик, зарабатывал себе на жизнь тяжелым трудом. У него было две дочери – я и моя сестра, моложе меня на четыре года. Мы жили бедно, но отец всеми силами поддерживал свою семью и очень любил жену и детей. Никогда мы не видели его пьяным. Воскресные вечера он проводил дома, рассказывая мне сказки или играя с моей сестренкой. Все соседи завидовали матери, что у нее такой муж. А он только и мечтал о том времени, когда я вырасту и бог поможет ему справиться с нуждой. Мне было семь лет, а моей сестренке – три, когда однажды в субботу отец пришел домой очень веселый и сказал матери: – Анхела, завтра я поведу тебя с девочками на праздник в Койоакан. – Неужели? – воскликнула мать. – Доченька, – позвала она меня, – беги сюда, завтра мы пойдем с отцом на праздник в Койоакан. Я никогда не выходила из дому и даже не знала, что такое праздник, а мать тоже давно нигде не бывала. Мы обе так обрадовались, так обрадовались, что отец растрогался до слез, он обнял нас и расцеловал. – Бедняжки мои! – сказал он. Я никогда не видела, чтобы отец плакал, и спросила его, сама чуть не плача: – Отчего ты плачешь, отец? – От радости, – ответил он, улыбаясь сквозь слезы, – от радости, Паулита, я рад тому, что вы так довольны. – Конечно, мы очень довольны, Пабло, – сказала мать, обнимая его. – Только не плачь даже от радости, а то мне станет грустно. Сейчас я принесу тебе малышку, и ты успокоишься. Мать взяла на руки сестренку, которая спала в своем углу, и протянула ее отцу, а он прижал девочку к себе, почти не видя ее сквозь слезы, застилавшие ему глаза. – Не сердись, Лукас, что я так подробно рассказываю об этой ночи, но все эти воспоминания и сейчас вызывают у меня слезы. – Паулита вытерла глаза, а Лукас сам чуть не плакал. Девушка продолжала: – Потом отец, решив удивить мать, молча вытащил из-за пазухи платок и развернул его: там блестело несколько серебряных монет и одна золотая. – Откуда это? – с радостной улыбкой спросила мать. – Догадайся сама, – отвечал отец, подавая ей деньги. Я никогда еще не видела золотой монеты и с восхищением вертела ее в руках. – Ладно, эти ты заработал, – сказала мать, сосчитав серебряные монеты, – но та? – Ту мне сам бог послал для вас. Вот слушай: кончил я работу и иду усталый домой, а по дороге встречаю людей, направляющихся в Койоакан, где, говорят, готовится веселый праздник в честь святого патрона. Иду я и думаю, какая жалость, что я так беден и не могу даже повести погулять мою бедняжку Анхелу и маленьких дочек, которые никогда еще ничего не видели. И стало мне грустно. – Добрый мой Пабло, – говорит мама и ласково на него смотрит. А я прижимаюсь к отцу, который держит на коленях сестренку. – Так вот, иду я, печальный, и вдруг слышу крики: «Остановите, остановите его!» Поднял я голову, а прямо на меня скачет красавец конь в богатой сбруе. Я ухватил его за узду, проклятый конь давай вырываться, но я держал узду крепко, пока не подбежал его хозяин, какой-то важный сеньор. Он сунул руку в карман и дал мне эту монету. Вот я и говорю, что ее послал бог, чтобы я мог порадовать вас прогулкой в Койоакан и купить фруктов и сластей для девочек. Я была так счастлива, что, кажется, не согласилась бы поменяться с самой вице-королевой. До глубокой ночи, пока нас не сморил сон, мы без передышки говорили о завтрашней прогулке. Я донимала расспросами отца и мать, а потом пересказывала все сестренке. Ты представить себе не можешь, как радовались мои родители, гордясь, что могут доставить мне такое счастье. Наконец я заснула и всю ночь видела прекрасные сны. – Помни, завтра надо встать рано, – сказал отец. Напрасное напоминание: раза три я просыпалась среди ночи и спрашивала: «Пора? Пора?» – Еще ночь, спи, – отвечала мать, и я снова засыпала. Один раз я услыхала голос отца: – Что сказала Паулита? – Спрашивает, не пора ли вставать. – Бедняжка, – сказал отец, смеясь, но тронутый моим волнением, – как она взбудоражена. Под конец я так глубоко заснула, что мать едва добудилась меня. Из Мехико мы, разумеется, отправились пешком, но в отличном настроении. Я, смеясь, бежала впереди или вела за руку сестренку, когда мать спускала ее на землю. Отец радовался и моему веселью, и удовольствию, сиявшему на лице матери. Ах! Лукас, какой добрый был мой отец. Но вот мы пришли в Койоакан. Мне покупали все, чего я только ни просила: фрукты, сласти, игрушки, цветы. Это был самый счастливый день моей жизни. Началась процессия, и отец повел нас на кладбище, откуда лучше было видно. Со всех сторон жгли фейерверки, и взлетавшие ракеты пугали меня и сестренку. – Пойдем отсюда, – сказал отец, – а то еще обожгут детей. – Пойдем, – сказала мать, и мы уже собирались уходить, когда мимо пролетел пылающий шар, оторвавшийся от горевшего рядом огненного колеса. Меня осыпало искрами, я в ужасе бросилась бежать и почти в ту же секунду услышала крик отца. Оглянувшись, я увидела, что он, едва держась на ногах, закрывает лицо руками, а между пальцев у него струится кровь. Мать тоже вскрикнула, бросилась к нему и усадила его на землю. Вокруг нас собрался народ. – Что с тобой, Пабло? Пабло, ответь мне! – в тоске и тревоге кричала мать. – Бомба угодила ему прямо в лицо, – говорили в толпе. – Врача, священника! – кричали женщины. Со всех сторон сбегались люди, узнать, в чем дело. Мне казалось, что все это дурной сон: такое радостное утро, счастливый, довольный отец, – а теперь вот, обливаясь кровью, он лежит без сознания на земле, и мать, обезумев, рыдает над ним. Кругом столько незнакомых бледных лиц, крики: «Врача, священника!». Это было так страшно, так ужасно, я вижу все, как сейчас… Отец пришел в себя, но стонал так жалобно, что сердце у меня разрывалось. – Пропустите, я врач, – услыхала я, и какой-то человек, пробившись через толпу, встал на колени рядом с отцом. – Убери руки, дружок, – сказал он, но отец по-прежнему стонал, не открывая лица. – Сеньора, – сказал врач моей матери, – подержите ему руки, мне надо осмотреть рану. Любопытные сгрудились вокруг нас, чуть не наступая на тело отца. Ему отвели руки от лица, и мать в ужасе закричала, а за ней следом и все остальные. Это было не лицо, а какое-то месиво из мяса и крови. Врач внимательно осмотрел рану и произнес уверенно, без всякой жалости к отцу и к нам, в тревоге ожидавшим приговора: – Смертельной опасности нет, но, без сомнения, он ослепнет навсегда. Сердце у меня зашлось. – Боже! – воскликнул отец, всплеснув руками. – Останусь слепым! Боже мой, боже! Кто же будет кормить мою жену и малюток! Никто не мог слушать его без слез. – Анхела, Паулита, – стонал несчастный. – Где вы? – Мы здесь, Пабло, мы с тобой, – рыдая, отвечала мать. – А девочки? – Вот они, дай им руку. Отец вытянул вперед руки и обнял всех троих. – Анхела, Паулита, Лусия, никогда я вас больше не увижу. О, небо! Как же я смогу теперь прокормить вас! – Успокойся, успокойся, Пабло. Тебе очень больно? – Да, очень, но боль в ране пустое по сравнению с болью в сердце. Слепой! Слепой! Что же будет с вами? Никогда я больше не увижу вас… Люди вокруг нас рыдали. Тут, к счастью, появился сеньор священник. Отца уложили на носилки и отнесли в приходский дом. До сих пор я помню ласковые слова утешения, которые говорил нам священник. У бедного отца начался сильный жар. Всю ночь, обливаясь слезами, мы просидели подле него в комнате, которую отвел нам священник в своем доме. Отец бредил, но и в бреду единственной мыслью его были жена и дети. Он звал нас поминутно, не веря, что мы рядом с ним. На следующее утро его на носилках перенесли в Мехико. Как отличался этот путь от вчерашнего! Как изменилась наша судьба! После безоблачного счастья такое страшное горе! Паулита опустила голову на стол и разрыдалась. Москит, пытаясь сохранить твердость, отвернулся и украдкой смахнул слезы, бежавшие по его щекам. – Полно, Паулита, – сказал он, – зачем ты рассказываешь мне эту печальную сказку… – Это правда, Лукас, правда. Сейчас ты все узнаешь.XV. ИСТОРИЯ ПАУЛИТЫ (Окончание)
– Отец болел три месяца, – продолжала Паулита, – и в наш дом пришла нищета. Первое время нам помогали милосердные люди. Но увы, Лукас, милосердию быстро приходит конец, а мой бедный отец выздоравливал медленно. Наконец он поправился, но зрение к нему не вернулось. Мы распродали весь свой скарб, а других средств у нас не было. Бедный слепец решил пойти на улицу просить подаяния, а мать пыталась зарабатывать иглой. Я стала поводырем слепого отца. Мы выходили из дому на заре, и я вела его на церковную паперть. В два часа дня мы отправлялись домой поесть, если была еда, а после обеда выходили снова и возвращались обратно лишь к девяти, потому что в час вечерней молитвы христиане более милосердны. Отец завел кое-какие знакомства, и вот так мы и жили. К тому времени, когда мне исполнилось двенадцать лет, нищета уже произвела страшные опустошения в нашем доме: моя мать была так бледна и истощена, что казалась старухой, восьмилетняя сестренка все время болела и никогда не поднималась с постели. Только у отца и у меня хватало сил работать, если нищенство можно назвать работой. В то время я часто замечала на одной из соседних улиц молодого человека, который по вечерам беседовал со своей дамой или поджидал ее под зарешеченным окном. Мы с отцом почти каждый день проходили мимо, и так как на нищих никто не обращает внимания, мне часто случалось слышать их нежные речи, которые, несмотря на малый возраст, заставляли биться мое сердце. А бывало, юноша приводил с собой музыкантов, и они так красиво играли. Тогда мы останавливались, чтобы послушать. – Ах, – вздыхал мой бедный отец, – если бы я умел играть на каком-нибудь инструменте, мы бы так не мучились. А я думала: «Ах! Если бы я была богата и хороша, под моим окном тоже играла бы музыка и милый отец был бы так доволен!» Я была совсем ребенком и воображала, будто отцам доставляет большое удовольствие, когда под окном дочери играют музыканты. – Пойдем, – напоминал отец; мы отправлялись дальше, и долго еще нам вслед звучала музыка, а я думала: какие счастливцы богатые! Однажды вечером полил страшный ливень. Все улицы залило водой, и мы, промокшие до нитки, еле брели в полной темноте, скользя и спотыкаясь на каждом шагу. В довершение беды милостыня в тот день была очень скудная, те жалкие хлебные корки, которые удалось нам купить на собранные гроши, совершенно размокли, и мы возвращались с пустыми руками. Отец чуть не плакал от горя. Мы брели по колено в воде, кругом не видно было ни зги. Попав ногой в яму, отец оступился и упал, потащив и меня за собой. Я проворно вскочила и протянула руку, чтобы помочь ему встать. Он с трудом приподнялся и, застонав, повалился опять. У него была сломана нога. – Не могу! – проговорил он. – Не могу, доченька! Я сломал ногу. Я перепугалась, но попробовала успокоить его: – Нет, нет, отец, тебе только кажется. Постарайся встать. – Доченька, не могу я. Пощупай мою ногу. Я нагнулась, провела рукой по его ноге и сразу убедилась, что он прав. Тут я давай плакать и только и могла, что обнимать и целовать отца. А он ласкал меня, утирал мне слезы и нежно уговаривал: – Полно, дурочка, не плачь, ведь мне совсем не больно. Видишь, я улыбаюсь. И он постарался улыбнуться. Я этого не видела, но догадывалась. – Значит, все не так страшно, – продолжал он, – вот увидишь, я сейчас встану, и мы потихоньку зашагаем домой, а там мама меня вылечит, и скоро я буду так же здоров, как прежде. Бедняжка! Я продолжала безутешно рыдать, а он говорил: – Не плачь, не плачь, душенька, если бы я знал, что ты будешь так плакать, я ничего не сказал бы тебе. А я-то думал, ты храбрая… Полно, помоги мне. Сейчас увидишь, как ловко я встану. Он оперся на мое плечо и, напрягая все силы, какие могла ему дать отцовская любовь, встал на ноги. Но, едва сделав один шаг, он застонал и снова рухнул на землю. – Не могу, не могу, – в отчаянии сказал он. – Что же делать? Ты не в силах помочь мне, нельзя же тебе оставаться здесь до утра, да еще в такую ужасную ночь. А я только и делала, что плакала и обнимала его. – Знаешь, доченька, – сказал он, – беги-ка домой. Скажешь маме, что я остался в доме у каких-то добрых сеньоров, поспишь, а рано утром попросишь кого-нибудь помочь тебе, и мы вместе вернемся. А я лягу поближе к стене и тоже посплю. Ведь я сильный… – Что это здесь случилось? – раздался рядом чей-то голос, который я сразу узнала. Перед нами стоял влюбленный юноша. Оказывается, мы находились на улице его дамы. – Сеньор кабальеро, – отвечал отец, – я – тот слепой, который проходит здесь каждый вечер. Дорогу размыло, я упал, сломал ногу и не могу теперь вернуться домой. – Далеко ли твой дом, девочка? – спросил молодой человек. – Не очень, сеньор, – отвечала я. Юноша задумался. Гроза прошла, и из-за туч выглянула луна. Я могла рассмотреть богатый наряд юноши и переброшенный через плечо черный плащ. – Попробуй-ка встать, – сказал он отцу. – Как сеньор? – ответил отец. – У меня нога сломана. – А можешь ты хоть немного продержаться на здоровой ноге? – Постараюсь, сеньор кабальеро. – Обопрись об меня, – сказал юноша, поддерживая отца. Отец встал, не касаясь земли сломанной ногой. – Постой так минутку, – продолжал юноша и, сняв с себя плащ и шляпу, дав их мне со словами: – Подержи-ка, только старайся не измочить. Я взяла шляпу и плащ, не понимая, что же он собирается делать, а он встал спиной к отцу и слегка нагнулся. – Берись-ка руками за мою шею, – скомандовал он и, подхватив отца под колени, взвалил его, как куль, к себе на спину. – Пошли, девочка, веди меня! Я молча повиновалась, испуганная всем происшедшим. Так, не говоря ни слова, мы дошли до дома. Увидев отца, мать залилась слезами. Юноша помог нам уложить его в постель, и тут я заметила, что вся его богатая одежда забрызгана грязью. – Сеньор! – воскликнула мать. – Как нам благодарить вас! Мы бедны, но сердца наши принадлежат вам. Один бог может вознаградить вас. – Не будем говорить об этом, – ответил юноша, – сейчас я тороплюсь, но завтра днем я зайду проведать больного. Позовите утром врача, у вашего мужа сильный жар. Если я вам понадоблюсь, пошлите за мной на улицу Икстапалапа; меня зовут Энрике Руис де Мендилуэта. – Дон Энрике! – воскликнул Москит, слушавший историю Паулиты, затаив дыхание. – Он самый. – Проклятие! Я не знал, что он так добр к беднякам. – Это еще не все, – продолжала девушка. – Когда дон Энрике ушел, на циновке, заменявшей отцу постель, мы нашли несколько золотых монет. На следующий день он снова был у нас и приходил каждый день, пока отец не поправился. С этого времени дон Энрике взял нас под защиту, и мы ни в чем не нуждались. Но было уже поздно: моя мать и сестра вскоре умерли. Мы с отцом при помощи нашего покровителя переехали в этот дом. Два года назад мне минуло шестнадцать лет, дон Энрике был на десять лет старше. Он по-прежнему помогал нам и нередко нас навещал. Всякий раз, когда он приходил, я чувствовала, как охватывает меня какая-то невыразимая радость, я тосковала, когда его не было, я часто видела его во сне. Наконец я поняла, что люблю его, хотя он никогда не говорил мне ни слова о любви. Должно быть, по неопытности я не могла скрыть свою страсть, и однажды он отозвал меня в сторону и сказал: – Послушай, Паулита, ты должна сказать мне правду. – Хорошо, сеньор, – ответила я, заливаясь краской. – Только не обманывай меня ни в чем. – Нет, нет, сеньор. – Паулита, ты любишь меня? Меньше всего я ожидала такого вопроса и чуть не лишилась чувств от смущения. – Говори же, Паулита. – Да, сеньор, очень люблю. – Паулита, – нежно сказал он, – выслушай меня. Я виноват в том, что вел себя неосторожно. Я должен был знать, к чему могут привести мои посещения, но теперь еще не поздно исправить зло. Ты хорошенькая, ты очень мне нравишься, и мне совсем нетрудно в тебя влюбиться. Но я могу только погубить тебя, потому что, ты сама понимаешь, жениться на тебе я не могу. Расстанемся. С другой женщиной я, может быть, и не был бы так совестлив, но ты – другое дело. Я тебя не оставлю, однако ты больше никогда меня не увидишь. Так будет лучше и для тебя, и для меня, и для твоего бедного слепого отца, который не должен платить своей честью за мою скромную помощь. Что я могла ответить? Дон Энрике ушел, а я проплакала немало дней и ночей. Когда я рассказала об этом разговоре отцу, он осыпал его благословениями и попытался меня утешить. Через год отец умер, а я открыла эту таверну, чтобы жить своим трудом, и благодарение богу, живу безбедно и счастливо, а главное, до сих пор не поддалась на уговоры ни одного из своих ухаживателей. Со всеми вами я обхожусь хорошо и ласково, но не больше того, Лукас, не больше того. – И с тех пор ты ни разу не видела дона Энрике? – Ни разу! Он узнал о смерти моего отца и передал мне деньги и добрые советы… – Вот это человек! – Права я, что люблю и уважаю его, как отца? – Еще бы, черт возьми! А я теперь люблю тебя еще больше и его тоже. – Ты спасешь его? – Клянусь! Меня раньше убьют, чем… В это время в таверну вошли приятели Москита.XVI. К ЧЕМУ ПРИВЕЛА ИСТОРИЯ ПАУЛИТЫ
– Уже пора? – спросил Москит. – Да. – Тогда пошли! – Пошли, – отозвались все трое. Москит поднялся, взял шляпу и сказал товарищам: – Подождите меня на улице. Они вышли. – Паулита, – проговорил Москит, нежно взяв ее за руку, – я сделаю для этого человека то, что сделал бы для родного брата. – Что же? – с волнением спросила девушка. – Я спасу ему жизнь и дам ему свободу. Дона Энрике везут под конвоем, а нам дано поручение убить его. Ему грозят две опасности, и от обеих я его спасу. – Лукас, ты настоящий мужчина! – Мы не убьем, его, Паулита, мы вырвем его из рук королевских солдат. То, что этот юноша сделал для тебя и твоего отца, дает ему право на уважение всех, кто только хлебнул горя и знал нищету. – О, как я буду любить тебя! – Теперь слушай, Паулита: если удастся спасти дона Энрике, я приведу его сюда. – Сюда? – побледнев, воскликнула Паулита. – Ты, может быть, боишься правосудия? – Нет, но… снова увидеть его в моем доме… это такое счастье. Ты не будешь ревновать? – Паулита, я – дурной человек. Я грабил, я убивал, черт побери! Но я знаю, что такое любовь и что такое благодарность. Какого дьявола! Я приведу его сюда, и если вы снова полюбите друг друга, да благословит вас бог, как вы благословите меня. Чего уж там, надо хоть один раз совершить доброе дело за все то зло, что я причинил людям, авось бог мне зачтет это. До свидания. И, закрыв лицо плащом, чтобы никто не увидел, как он взволнован, Москит выбежал из таверны. Паулита осталась одна. И тут, подняв глаза к небу и прижав руки к груди, она воскликнула голосом, идущим из самого сердца: – Благодарение богу… Я все еще его люблю!.. Москит с товарищами прошли по безлюдным улицам к мосту Аудиенсии, не произнеся за всю дорогу ни единого слова. Неподалеку от моста Москит оставил свою троицу дожидаться и пошел вперед один. На мосту стоял какой-то человек. То был дон Хусто. – Москит, – окликнул он Лукаса. – Я, сеньор. – Ты готов? – Да, сеньор. – А твои товарищи? – Ждут здесь рядом. – Пошли за лошадьми. Зови их. Москит свистнул условным образом, и его люди подошли. – Все вы вооружены? – спросил дон Хусто. – Не беспокойтесь, – ответил Москит. – Пошли. И дон Хусто зашагал вперед, ведя за собой четверых висельников. Свернув на улицу Такуба, они прошли, не останавливаясь, до самого конца города, пока не уперлись в ограду заброшенной фермы. За оградой росли деревья, смутно выделяясь на мрачном небосводе. Кругом – никаких признаков жизни. Ни луча света, ни собачьего лая, ни крика петуха, ни человеческого голоса – ничего. Дон Хусто отыскал на земле камень и три раза сильно ударил в ворота. Прошло много времени, никто не открывал. Он снова постучал, но только на третий раз где-то в глубине послышался женский голос: – Иду, иду! – Слава богу, – сказал дон Хусто, когда женщина открыла створку ворот. – Я уж думал, что все вы здесь вымерли или оглохли. – Нет, сеньор. Муж пошел за лошадьми, он сказал, уже пора. Проходите, сеньоры. Все вошли, и женщина снова заперла ворота. – Сюда, – сказала она и повела их за собой, освещая путь сальной свечкой, которую держала в руке. Они попали сначала в патио, со всех сторон окруженный низкими, грубо сложенными кирпичными арками. Во дворе кучами лежала земля, кое-где поросшая овсом. Мрачные закопченные стены, покосившаяся крыша, покрытые мхом карнизы. Женщина повела их в узкий, темный проход между двумя изгородями. Порыв ветра с зловещим стоном задул свечу. – Веселое местечко, – с досадой сказал дон Хусто. – Следуйте за мной, сеньоры, – откликнулась женщина, – вам нечего бояться. Дон Хусто и его люди, спотыкаясь на каждом шагу, потянулись за женщиной и вышли наконец в большой загон. Там в неверном свете звезд двигались какие-то темные тени. – Мануэль, Мануэль, – крикнула женщина. – Чего тебе? – отозвался вдалеке чей-то голос. – Пришли сеньоры. – Иду. Вскоре перед ними появился высокий человек в белых штанах и рубахе, без куртки и шляпы. – Добрый вечер, Мануэль. – Добрый вечер, сеньор. – Лошади готовы? – Да, сеньор. – Веди их сюда. Человек скрылся и вскоре появился вновь, ведя в поводу двух лошадей. – Эта, – сказал он, указывая на одну из них, – для сеньора начальника. Москит, не дожидаясь приглашения, легко вскочил в седло. – Хороша! – воскликнул он, погарцевав на месте. – Хороша. Эта мне годится. – Мне тоже, – сказал его товарищ, сев на своего коня. Остальным лошади тоже пришлись по вкусу. – Тогда в путь и да поможет вам бог, – произнес дон Хусто. – Ты знаешь, что надо делать, Москит: карета! – Да, сеньор. А как нам выбраться отсюда? – Сейчас покажу, – сказал Мануэль и подвел одну из лошадей к воротам, выходившим в поле. – По этой дороге попадете прямо в Чапультепек, а там уж сами знаете, куда вам ехать. – Прощай, – сказал Москит и пришпорил коня. – Прощай, – ответил Мануэль и, пропустив товарищей Лукаса, запер ворота.По дороге в Икстапалапа тяжело катилась карета, увозившая дона Энрике. Офицер не спал, а дон Энрике, снедаемый лихорадкой, дремал, привалившись в угол экипажа. Солдаты тоже подремывали, качаясь в седле. Отряд поравнялся с купой деревьев. Неожиданно из рощи вынырнули четыре вооруженных человека и напали на конвой. Застигнутые врасплох солдаты пустились наутек, трое из нападавших помчались за ними. Возницы, бросив мулов, разбежались в разные стороны. Москит очутился у кареты в тот самый момент, когда из нее со шпагой в руке выскочил офицер. – Вы дон Энрике? – спросил Москит. – Я офицер его величества, – ответил тот. Москит бросился вперед и, прежде чем офицер успел приготовиться к защите, саблей рассек ему череп. В это время, разогнав солдат, вернулись остальные. – Добейте его, – приказал Москит, указав на офицера, и поднялся в карету. – Дон Энрике, дон Энрике! – позвал он. – Что вам нужно? – слабым голосом откликнулся больной. – Выходите скорее! Вы свободны. Зов свободы способен оживить даже мертвого. Дон Энрике сделал усилие и прыгнул из кареты. Товарищи Москита окружили его. – Садитесь на этого коня, – сказал Лукас, помогая дону Энрике сесть на лошадь, которую его люди отбили у конвоя. Дон Энрике повиновался. – Теперь за мной! И все помчались галопом, оставив на месте происшествия лишь мертвое тело и пустую карету.
С тех пор дон Энрике Руис де Мендилуэта исчез бесследно. Вице-король и дон Хусто считали его мертвым. Старый граф де Торре-Леаль оплакивал своего первенца, но, не теряя надежды на его возвращение, не хотел объявлять сына доньи Гуадалупе наследником графского титула. В то же время была пышно отпразднована свадьба дона Диего с доньей Мариной, и оба они покинули Мехико. Для того чтобы описать все эти события, нам пришлось вернуться на несколько лет назад. Теперь же, после необходимого отступления, возобновим нить нашего повествования.
Часть третья. АНТОНИО ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА

I. ХУАН ДАРЬЕН
Помощь, которую испанская армада направила в Пуэрто-Принсипе, пришла слишком поздно; пираты уже успели покинуть город, захватив с собой все, что было возможно; однако прежде чем поднять паруса, Морган отпустил пленников-испанцев на волю. Такое великодушие произвело весьма благоприятное впечатление на адмирала флотилии, и когда перед ним предстал Антонио Железная Рука, он принял его милостиво. По свидетельству моряков «Санта-Мария де ла Виктория», Антонио состоял на службе его величества на острове Эспаньола и, возможно, бежал оттуда, как это сделали другие. Адмирал удовлетворился таким объяснением и велел освободить Антонио. Морган со своими приспешниками взял курс на Ямайку, где предстояло разделить добычу, и Антонио понимал, что ему надо попасть туда же и соединиться с ними. Но как это сделать? Ни один корабль не решался выйти в море, – так велик был страх перед пиратами в этих водах. Антонио не знал, как быть; правда, его отпустили на все четыре стороны, но люди смотрели на него недоверчиво, с опаской, чуть ли не пальцем на него указывали. Такое положение становилось нестерпимым. Юноша задумчиво брел по одной из малолюдных улиц на окраине города, как вдруг кто-то тронул его за плечо. Он обернулся и увидел перед собой толстяка в сером суконном камзоле, в широкополой шляпе, без оружия, всем своим видом напоминавшего богатого, почтенного и мирного торговца. – Прошу прощения, – сказал незнакомец, – я желал бы поговорить с вами. – К вашим услугам, – ответил Антонио, решив в душе, что его собираются арестовать. – Еще сегодня поутру вы были пленником, и, как я полагаю, у вас в нашем городе нет ни друзей, ни знакомых, и вам негде было перекусить. – Вы угадали. – Так окажите мне честь отобедать со мной. – Но, кабальеро, вы меня совершенно не знаете. – Неважно. Желая помочь своему ближнему, христианин не спрашивает, как его зовут. – Это и впрямь так. – Прекрасно. Но есть и другая причина: по вашему виду мне сдается, что вы индианец. – Я родом из Мехико. – Ну вот видите. А я родом из Кампече, потому-то у меня и явилось желание разделить с вами мою трапезу, которую, если говорить откровенно, нельзя назвать скудной. Антонио Железная Рука с удивлением поглядывал на незнакомца, посланного ему самим провидением. – Так пойдемте же, я живу недалеко, – сказал толстяк и, дружелюбно взяв Антонио под руку, повел его к себе в дом. В комнате, куда они вошли, стоял стол, накрытый на двоих. – Садитесь, – сказал незнакомец, снимая шляпу, – садитесь и пообедаем, вам необходимо подкрепиться. Антонио без слов повиновался; открытое лицо и добродушный вид его нового друга внушали ему доверие. За столом прислуживали двое слуг; хозяин говорил с ними на непонятном для Антонио языке. Угощение было поистине царским: вина, фрукты, овощи, изысканные мясные и рыбные кушанья – все подавалось на дорогих серебряных блюдах. Бросалось в глаза отсутствие женщин в доме, однако Антонио поостерегся сделать какое-либо замечание по этому поводу. Между тем радушный хозяин становился все оживленнее. – Надеюсь, – сказал он, – я успел внушить вам доверие и вы поняли, что человек моего склада не способен причинить кому-либо зло, не так ли? – Пожалуй, – ответил Антонио. – Сознайтесь, вы принадлежите к людям Моргана, вы один из его доверенных и приближенных лиц. – Сеньор, – с улыбкой ответил Антонио Железная Рука, – ваше странное предположение может стоить мне жизни. – Смею вас заверить, я далек от мира судейских или военных. Откройтесь мне, вы в этом не раскаетесь. – Что ж, вы и в самом деле внушаете мне доверие, и в доказательство моих слов признаюсь: вы правы, я связан с Морганом, но вот беда – не знаю, как мне отсюда выбраться, чтобы присоединиться к нему. – Кабальеро, – сказал, меняя тон, незнакомец, – доверие за доверие, выслушайте меня. При этих словах в лице и во всем облике толстяка произошла такая мгновенная и разительная перемена, что Антонио глазам своим не верил: перед ним сидел уже не добродушный, мирный торговец, а человек, исполненный неукротимой воли, с надменной осанкой и пламенным взором. – Я тоже пират, – начал он, – меня зовут Хуан Дарьен, я получилэто имя за мои первые приключения в Дарьенском заливе. Родом я из Кампече; сюда, на этот остров, я прибыл в поисках Моргана, чтобы предложить ему славное и верное дело на материке. Но я опоздал – Морган уже успел уйти. Мой корабль стоит в надежном укрытии в небольшой бухте поблизости. Один из моих бывших матросов, случайно оказавшийся здесь, рассказал мне, кто вы и как сюда попали. Он сам видел, что вы высадились вместе с людьми Моргана: вот вам и объяснение моей догадливости. Считаю, что нам нужно убираться отсюда, и поживее. Антонио слушал с напряженным вниманием. – Пуститься в путь надо сегодня же ночью, – продолжал Хуан Дарьен. – По счастью, погода нам благоприятствует, ни один испанский корабль еще долго не отважится выйти в море, и мы не замедлим встретиться с Морганом. По рукам? – По рукам. – Покинуть город следует под вечер, не дожидаясь ночи, чтобы не навлечь на себя подозрений. – Хорошо ли вам знакома местность? – Как родной дом. – Отлично. – А как вы полагаете, согласится ли Морган взять курс на материк? – Отчего же, если дело сулит выгоды… – Да еще какие! Мы захватим Портобело, Гибралтар, Маракайбо и десятки других городов и селений. В наши руки попадут корабли с богатым грузом какао, и вскоре мы так разбогатеем, что нам позавидует сам король. – В таком случае полагаю, что Морган согласится. – Вы мне поможете убедить его? – Попытаюсь сделать все, что в моих силах. – Отлично; займемся же приготовлениями к путешествию. Хуан Дарьен позвал слуг, что-то сказал им на непонятном языке, потом снова обратился к Антонио: – Берите вашу шляпу – и в путь! Не будем терять времени. Антонио надел шляпу; вновь напустив на себя благодушие мирного торговца, Хуан Дарьен вышел из дому вместе с гостем. Друзья покинули город безо всяких помех. Очутившись на дороге, пират из Кампече снова преобразился – его движения приобрели прежнюю энергию и живость. – Далеко ли до бухты, где стоит ваше судно? – спросил Антонио. – По меньшей мере восемь часов, если идти обычным путем, – ответил Хуан Дарьен, – но я вас проведу туда за два часа: мы пойдем напрямик. В самом деле, Хуан Дарьен так уверенно шел через холмы, овраги и долины, словно шагал по ровной проезжей дороге. Через два часа с небольшим до слуха путников донесся рокот морского прибоя, и вскоре они достигли побережья. Погода стояла тихая, дул слабый береговой ветер, невдалеке покачивалось на волнах легкое, изящное судно. – Ну вот мы и пришли, – сказал Хуан Дарьен. – А ваши слуги? – спросил Антонио. – За ними дело не станет, но нам лучше всего дожидаться их на борту. Собрав охапку сухой травы, Хуан Дарьен достал из кармана кремень, огниво, фитиль и серную палочку, высек огонь и сунул горящую серную палочку под собранную охапку. На миг взвилось и быстро погасло яркое пламя. – Сейчас с корабля спустят шлюпку, – сказал пират. Действительно, в тишине ночи послышались мерные удары весел, и вскоре показалась лодка. – Это за нами, – сказал Хуан Дарьен. Лодка пристала к берегу. – Пошли! – воскликнул пират и одним прыжком очутился в лодке. Антонио последовал за ним; затянув однообразную и унылую песню, гребцы налегли на весла. Не успели они подойти к судну, как на берегу снова вспыхнул огонь. – Ну вот, я же вам говорил, что мои слуги не заставят себя долго ждать, – сказал Хуан, поднимаясь по трапу; следом за ним на борт взошел Антонио Железная Рука, а лодка повернула к берегу. Час спустя ветер, надувая паруса быстроходного судна, гнал его по направлению к Ямайке. Антонио Железная Рука мог спокойно уснуть.II. ДЖОН МОРГАН И ХУАН ДАРЬЕН
Подгоняемая попутным ветром «Венера» – так называлось судно Хуана Дарьена – легко скользила по океану навстречу флотилии Моргана. Перед рассветом Антонио поднялся и пошел разыскивать капитана, который спокойно курил на палубе. – Как вы думаете, – спросил его Хуан, – удастся нам застать на Ямайке Моргана и его людей? – Не думаю, – ответил Антонио. – Я слышал, Морган хотел заняться дележом добычи; впрочем, если он надумал сперва расплатиться с англичанами, тогда, конечно, вся флотилия сейчас на Ямайке. – В противном случае мы найдем ее у Невиса или на одном из мелких островов Моранте. – Пожалуй. Вам знаком этот путь? – Воды Эль-Фрери между Эспаньолой, Кубой и Ямайкой я знаю как свои пять пальцев. Так что лучше всего идти на Невис, ведь архипелаг Морант состоит из четырех крохотных островков, они поднимаются от силы на семь футов над уровнем моря; на трех из них встречаются рощи, но стоянка там опасна: надо остерегаться Пласер-Бланко-и-Арресифе, это примерно в двух милях от архипелага; кроме песчаных отмелей длиною в три с половиной – четыре морских сажени, там еще немало коралловых рифов, и, прежде чем отдать якорь, надо основательно выверить дно лотом. – Вам, как видно, отлично знакомы эти воды? – Еще бы! Я здесь плавал на королевских галерах. – Добровольно? – Как же, со скрежетом зубовным и со слезами на глазах. – Итак, надо полагать, что Морган выбрал для стоянки Невис. – Вероятнее всего. Там удобные берега и отличное песчаное дно. Можно без опасений подойти и стать в четверти мили от острова, разве что при свежем ветре помешает высокий прилив. – Ну, так мы туда и направимся. – Я вас доведу туда с закрытыми глазами. Дул по-прежнему попутный ветер, и «Венера», казалось, летела по волнам.Пиратские суда подошли к небольшому острову Невис, чтобы там без помех разделить добычу, захваченную в последнем набеге. Этим людям была присуща своеобразная честность. Никто из них не был способен утаить ни гроша; все шло в общий котел, а затем делилось по уговору. Однако дело оказалось не слишком выгодным; этот первый набег дал всего-навсего двадцать пять тысяч песо, – ничтожная добыча для жадных до денег людей, ожидавших с первых же шагов получить горы золота. Нечем было даже расплатиться с англичанами на Ямайке. И наконец, случилось еще нечто непредвиденное: от Моргана самым решительным образом откололись французы; они не поддавались ни на какие уговоры и посулы. Уход французов сильно поколебал твердость англичан, и Морган был вне себя. Количество его соратников и кораблей уменьшилось почти вдвое, да и воинственный пыл людей заметно угас. В раздумье Морган опустился на скалу; он потратил немало сил ради заманчивого будущего, но ничего не достиг; никто из его приспешников не понимал его. В памяти невольно встал образ юного Антонио. Где он, что с ним? Уж не погиб ли смельчак от руки испанских солдат? Размышления Моргана прервал гонец с известием, что на горизонте показалось судно. Морган одним прыжком вскочил на ноги. Судно быстро приближалось. – Это наши друзья, – воскликнул Морган. – Ведь ни один испанский корабль не отважится выйти в море, зная, что неподалеку плавает Джон Морган. Разве что целая флотилия… Дайте судну подойти к острову, сердцем чую, что оно несет нам добрые вести. Наконец парусник приблизился к берегу; он подошел так уверенно и непринужденно, что у Моргана не осталось никаких сомнений, – прибывшие мореходы были друзьями. Парусник спустил на воду шлюпку, и вскоре на берегу показались двое мужчин. Обрадованный Джон Морган поспешил к ним навстречу, узнав в одном из них своего друга Антонио Железную Руку. Антонио познакомил Моргана с Хуаном Дарьеном и рассказал обо всем, что ему довелось пережить. – Ваше имя, – сказал Морган, обращаясь к Хуану Дарьену, – мне хорошо знакомо. Кто не слыхал об отважном капитане, который держит в страхе все испанские гарнизоны на Большой Земле? – К сожалению, – ответил Хуан Дарьен, – в настоящее время у меня не хватает людей, чтобы взяться за одно надежное дело. Вот почему я решил отыскать вас: вы располагаете и людьми и кораблями. Стоит ли прозябать в этих водах? Ничтожные остатки богатств, сохранившиеся на Антильских островах, – слишком скудная добыча для таких мужественных людей, как вы. Идем на материк; правда, побережье там значительно обезлюдело, но, двинувшись вглубь, мы найдем города, которые падут под натиском наших смельчаков. Мне хорошо знакомы эти места; я буду служить вам проводником и до конца останусь под вашим началом. На материке у меня немало друзей, я знаю, они охотно покинут свои очаги и возьмутся за оружие, чтобы помочь нам. Все нам благоприятствует. Итак, скорее в путь! – Хуан Дарьен, – уныло откликнулся Морган, – вы, верно, не знаете, от меня откололось много народу, суда тоже ушли. – А те, что стоят здесь на якоре? – Это все, что у меня осталось. – И этого вам мало? Так вы не знаете те края и земли. С оставшимися у вас силами я берусь захватить важнейшие города и селения. Неужто у вас недостает мужества? Возможно ли, что я в вас ошибался? – Вы сомневаетесь в моем мужестве? Плохо же вы знаете Джона Моргана. Идем на Большую Землю! И пусть против нас ополчатся все эскадры испанского короля! Мы сумеем победить или умереть. – Мне по душе ваши речи! – Хуан Дарьен, вот вам моя рука в знак нерушимого союза. Завтра же, нет, этой же ночью, или еще раньше, словом, едва подует попутный ветер, мы поднимем паруса и пойдем на Большую Землю, где нас ждут сокровища, раз вы обещаете там богатство для моих людей. – И ваше решение твердо? – Вы увидите, умею ли я держать слово. Джон Морган поднялся и пронзительно засвистел в золотой свисток, который висел у него на золотой цепочке. На властный зов главаря сбежались его приспешники и выслушали отданные вполголоса приказания. Волнение охватило стан пиратов, все лица мгновенно оживились, весть о том, что решено, не откладывая, выйти в море, была встречена бурной радостью. Люди Моргана узнали Антонио и приписали его появлению внезапную перемену в замыслах адмирала. От берега к кораблям засновали шлюпки с добром, которое пираты сгрузили было с борта на остров. На судах все зашевелилось: приказ гласил – выходить, едва подует попутный ветер. Джон Морган, Хуан Дарьен и Антонио Железная Рука молча наблюдали с берега за этим кипучим движением. Вблизи покачивалась шлюпка с гребцами, ожидая сигнала, чтобы доставить их на борт корабля. Вскоре сборы были закончены, на суше не осталось ни одного матроса, на воде – ни одной лодки. Флотилия готовилась, дождавшись ветра, распустить паруса над морским простором. Это было великолепное зрелище. – Вы все еще опасаетесь неудачи? – спросил Хуан Дарьен. – Я ничего не опасаюсь, кроме штиля, – ответил Джон Морган. – Начинается прилив! – А с ним крепкий ветер, – сказал Джон Морган, вставая и направляясь к шлюпке. Следом за ним в шлюпку прыгнули Хуан Дарьен и Антонио. Они уселись, а Морган, продолжая стоять, взмахнул рукой, и гребцы, переглянувшись, дружно взялись за весла. Словно повинуясь единой мощной воле, весла опустились в воду. Разрезая гладь океана и оставляя позади себя глубокую борозду, шлюпка рванулась вперед. Несколько мгновений спустя флотилия Джона Моргана вышла в море.
III. ПОРТОБЕЛО
После Гаваны и Картахены наиболее укрепленным городом во владениях испанского короля в Новом Свете считался Портобело. Он был возведен в Коста-Рике в четырнадцати милях от Дарьенского залива и в восьми от горной местности, известной под названием Номбре-де-Дьос. Защитой ему служили два крепостных замка; в одном из них находился постоянный гарнизон из трехсот солдат, в другом – четыреста вооруженных торговцев. Под этой надежной охраной помещались торговые склады: их владельцы, однако, предпочитали жить в Панаме с ее здоровым мягким климатом, а в Портобело появлялись лишь при известии о прибытии галеонов из Испании. Впрочем, один из самых богатых сеньоров, дон Диего де Альварес, постоянно проживал в Портобело вместе со своей супругой доньей Мариной и прелестной дочуркой, плодом этого счастливого супружества, которую назвали Леонорой в честь супруги вице-короля Мексики маркиза де Мансера. Выйдя замуж, донья Марина не потеряла своей чарующей красоты; по свежести шелковистой кожи и блеску черных глаз ее можно было принять за юную девушку. Дон Диего тоже сохранил свою статную осанку, которой он отличался в те времена, когда наши читатели познакомились с ним в Мехико; на новом месте, в Портобело, он сумел окружить себя такой же роскошью, как и в столице Новой Испании. Вскоре после приезда дона Диего с супругой в Портобело там появился его друг дон Кристобаль де Эстрада, который поторопился увезти прекрасную донью Ану подальше от ее родины и угроз разгневанной доньи Фернанды, оскорбленной в своих материнских чувствах. Любовная история этой пары, наверное, еще свежа в памяти наших читателей. Донья Марина знала дона Кристобаля, однако ей было неизвестно, что он привез с собой донью Ану, а донья Ана, в свою очередь, не знала, что в Портобело находится дон Диего, – Эстрада, видимо, остерегался сообщать ей об этом. Донья Ана по-прежнему вела строгую, замкнутую жизнь, которая ей к тому времени уже успела порядком прискучить. Могла ли она при своем беспокойном нраве и пылком воображении забыть о тех днях, когда играла сердцами сотни поклонников? Если на один миг ей удалось увлечься обманчивой мечтой о тихом счастье у семейного очага, то вскоре она поняла, что ошиблась. Задумав вернуть себе прежнюю свободу, но не желая тревожить Эстраду, ставшего по воле судьбы ее господином, она принялась исподволь, с терпением, присущим ловкой женщине, вносить некоторые изменения в свой строгий образ жизни. Эстрада это понял, но не счел нужным мешать ей. Никто в городе не знал донью Ану, и она отлично могла сойти за его жену, а донье Фернанде было неизвестно, где они нашли себе убежище. Донья Ана стала разрешать себе дневную прогулку, – ей хотелось подышать свежим морским воздухом; два раба несли за ней носилки, в ожидании, когда сеньора выберет себе приятное место для отдыха. Ничто так не действует на пламенное воображение и мечтательную натуру, как море и морское побережье: кажется, будто душа освобождается от своей телесной оболочки, реальная жизнь исчезает и человеческий дух, потрясенный величием природы и мощной красотой океана, переносится в блестящий мир фантазии и романтики. Человек сознает ничтожество плоти и ощущает лишь свой дух, тот дух, который склоняется только перед величием творца. Донье Ане нравилось мечтать на берегу океана, вдали от города, в уединенном и диком месте, где бурные волны с глухим ревом бьют о высокие скалы, угрожая им с неизменной яростью и постоянством. Как-то под вечер молодая женщина, погруженная в свои думы, ушла далеко вперед и не заметила, что прилив быстро нарастает; она продолжала бы идти еще дальше, если бы слуга не отважился остановить ее. – Сеньора, – сказал он. – Что тебе? – надменно спросила донья Ана. – Сеньора, вода прибывает и прибывает, скоро нельзя будет вернуться назад. Донья Ана оглянулась: она уже успела пройти длинный путь по песчаной полосе, простиравшейся у подножия высоких отвесных скал. Волны то набегали на песок, то откатывались в океан. Пути вперед не было, и донья Ана поняла, что вскоре не останется ни малейшей надежды на спасение. Следовало немедленно возвращаться, пока путь к отступлению еще возможен. Слуги дрожали от страха. Донья Ана почувствовала, как ужас проникает и в ее сердце. С трудом овладев собой, она решительно повернула назад и, сопровождаемая слугами, пошла так быстро, как ей позволяли силы. Волны уже докатывались до ее ног, но идти быстрее она не могла, а впереди лежал еще длинный путь. Морские валы поднимались все выше и выше, грозя гибелью. Раньше от них оставалась на песке лишь пена, но с каждой минутой прилив нарастал, и вскоре вода доходила путникам до пояса, а порой окатывала их с головы до ног. Смерть казалась неминуемой. Но человек до последнего вздоха не перестает бороться за свою жизнь. Цепляясь за выступы скал, чтобы волны не унесли ее в океан, донья Ана с неимоверными усилиями продвигалась вперед. Ее руки кровоточили, она задыхалась. Неожиданно она почувствовала, что почва повышается, и предсмертная тоска сменилась надеждой на спасение. То был выступ на морском берегу, небольшая ступень в хаотическом нагромождении скал. Вскарабкавшись на этот спасительный уступ, донья Ана с облегчением вздохнула, хотя тело ее было изранено; за ней последовали перепуганные насмерть слуги. Карабкаться выше было невозможно, но теперь волны достигали лишь ее ног, и кто знает, может быть, прилив на этом остановится. Сияющий день клонился к вечеру, вдали солнце еще переливалось на взволнованном просторе океана, но берег был уже окутан тенью гор. Между тем вода неумолимо прибывала; жадный океан требовал жертв. Волны снова окатывали донью Ану; она поняла, что настал последний час, и, покорно сложив руки, принялась молиться. Слуги испускали отчаянные вопли.IV. ВО ВЛАСТИ ОКЕАНА
Направляемая Хуаном Дарьеном, флотилия Моргана достигла порта Наос и взяла курс на небольшую бухту поблизости от Портобело, известную под именем Пуэрто-Понтин. Дальше пираты не пошли; решено было добраться до Эстеры на шлюпках, высадиться ночью и незамеченными подойти к стенам Портобело, чтобы врасплох застигнуть его жителей. Таков был план, предложенный Хуаном Дарьеном и одобренный Морганом. – Мне пришла в голову удачная мысль, – сказал Хуан Дарьен, – она обеспечит нам успех. – Выкладывайте, – ответил Морган. – Пошлем кого-нибудь из наших людей в город, прежде чем распространится весть о нашем прибытии; лазутчик разузнает, готовится ли город к отпору, и, в случае если гарнизон окажет сопротивление, ему будет нанесен удар с тыла. – Мысль неплохая, – откликнулся Морган, – но сами понимаете, отряд наших молодцов привлечет к себе внимание, пойдут толки, и тогда все пропало. – Никто не говорит об отряде, в город проникнет лишь один человек. Дайте мне такого смельчака, и я вам ручаюсь за успех. Я свяжу его с моим дружком, у которого, если понадобиться, найдутся молодцы не хуже наших. Из моих парней никто не годится на такое дело, их в Портобело знают. – Такой смельчак, как вам требуется, у нас есть, вот он, – сказал Морган, указывая на Антонио. – В самом деле, юноша прямо создан для нашего замысла. Ну как, Железная Рука, достанет у вас мужества взяться за такое дело? Антонио в ответ лишь презрительно усмехнулся. – Подобный вопрос, – вмешался Морган, – звучал бы оскорблением для нашего мексиканца, если бы он не исходил от друга. Дайте ваши указания, а уж с делом он справится. – Прошу прощения, дорогой земляк, – спохватился Хуан Дарьен, – извините мою неловкость и слушайте: вы получите лодку с двумя гребцами, они вас высадят на берег в надежном месте, которое им хорошо знакомо; невдалеке, на опушке леса, вы увидите домик, ступайте к нему. Там живет рыбак Хосе, высокий старик с худым лицом, с длинной седой бородой. Вы его спросите – запомните хорошенько: «Пора брать рифы?» Он вам ответит: «И подтягивать паруса». Тогда вы посвятите его в наши планы. Он проведет вас в город, спрячет в надежном тайнике, сообщит все нужные сведения и, ежели понадобиться, даст вам людей. Все ли вам понятно? – Все. Когда отправляться? – День уже на исходе; у Хосе вам следует быть засветло, к ночи мы выступаем. – Так велите дать лодку. Хуан Дарьен отдал приказ одному из своих матросов, и вскоре на воду была спущена небольшая узкая шлюпка с двумя гребцами. – Вот она, – показал Хуан Дарьен. Антонио Железная Рука прощался с Морганом, меж тем как пират из Кампече давал распоряжения гребцам. Юноша прыгнул в шлюпку, весла рассекли воду. Поглощенный своими мыслями, Антонио молчал, не обращая внимания на гребцов, которые о чем-то с жаром переговаривались. Наконец их возбужденные голоса вывели Антонио из задумчивости. – Гляди, их трое, – говорил один. – Верно, – отвечал другой, – двое мужчин, а с ними как будто еще женщина. – Да, женщина. Ну, если они не водолазы, то сегодня же пойдут ко дну на ужин акулам. – В чем дело? – спросил Антонио. – Да там на скалах примостились трое, прилив, того и гляди, их смоет, – ответил матрос, продолжая грести. – Среди них женщина, – прибавил второй. – А спастись разве они не могут? – спросил Антонио. – Куда там! Уж я-то знаю эти скалы: меня здесь однажды застиг прилив, так я спасся лишь вплавь, да и то с трудом. Совсем уж было тонул и уцелел только чудом: мне помогла наша заступница божия матерь. – Так беднягам грозит смерть? – спросил Антонио. – Да, вода доходит им уже до пояса. Шлюпка шла недалеко от берега. – Слышишь, кричат! – сказал один из гребцов. В самом деле, до них донеслись отчаянные вопли погибающих. – Так поспешим к ним на помощь! – воскликнул Антонио.
Матросы, подняв голову, поглядели на него так, словно он произнес нечто несуразное. Антонио заметил их взгляд.
– Что вы на меня так смотрите? – спросил он. – Неужели не хотите выручить этих несчастных?
– Охотно выручили бы, да ведь это невозможно.
– Невозможно? Почему?
– Мы и опомниться не успеем, как нас разобьет о скалы.
– Ну хоть попытаемся, – настаивал Антонио.
– Нам-то что! – безразлично бросил один из моряков. – Мы плаваем как рыбы, а дно знаем не хуже, чем свою старую шляпу.
И гребцы тут же повернули к берегу, где, прижавшись к скале, стояли донья Ана и ее слуги.
Вода прибывала, и шлюпку быстро несло на скалы. Донья Ана смирилась со своей участью, слуги продолжали звать на помощь.
– Нас вынесет с волной, – сказал Антонио гребцам, – будьте наготове. Те двое подхватят лодку и не дадут ей разбиться. Эй, люди, принимайте лодку, хватайте ее, да покрепче, не то она разобьется о скалы. Ну, давайте же!
Опасный маневр совершился по команде Антонио: шлюпка взлетела на гребне подоспевшей волны. Слуги доньи Аны, опершись о камни, приготовились подхватить шлюпку и спасти ее от рокового толчка.
Едва огромный вал со шлюпкой на гребне обрушился на берег, как оба негра кинулись ему навстречу, а гребцы, словно пикадоры в ожидании разъяренного быка, вытянули вперед весла.
И все же толчок получился такой страшной силы, что один из гребцов упал на дно шлюпки. Но отчаянные усилия людей одержали верх над стихией, и шлюпка застыла как на приколе.
– Нельзя терять ни минуты! – воскликнул Антонио. – Сеньора, поспешите в лодку, следующая волна унесет нас в море.
Донья Ана протянула руки навстречу ожидавшему ее Антонио, за ней прыгнули слуги, оставалось лишь ждать следующей волны, которая поможет им снова выйти на простор океана.
Волна пришла и окатила путников с головы до ног; новый ужасный толчок потряс суденышко, потом огромная стена воды и пены отступила, увлекая за собой шлюпку вместе с людьми, которые лишь чудом избежали смерти.
– Мы спасены! – воскликнул Антонио.
Донья Ана подняла голову; при виде юноши глаза ее расширились от изумления, и из уст ее невольно вырвался крик:
– Боже мой! Дон Энрике Руис де Мендилуэта!
– О, небо! – воскликнул Антонио, узнав свою спутницу. – Донья Ана де Кастрехон!
– Так поспешим к ним на помощь! – воскликнул Антонио.
Матросы, подняв голову, поглядели на него так, словно он произнес нечто несуразное. Антонио заметил их взгляд.
– Что вы на меня так смотрите? – спросил он. – Неужели не хотите выручить этих несчастных?
– Охотно выручили бы, да ведь это невозможно.
– Невозможно? Почему?
– Мы и опомниться не успеем, как нас разобьет о скалы.
– Ну хоть попытаемся, – настаивал Антонио.
– Нам-то что! – безразлично бросил один из моряков. – Мы плаваем как рыбы, а дно знаем не хуже, чем свою старую шляпу.
И гребцы тут же повернули к берегу, где, прижавшись к скале, стояли донья Ана и ее слуги.
Вода прибывала, и шлюпку быстро несло на скалы. Донья Ана смирилась со своей участью, слуги продолжали звать на помощь.
– Нас вынесет с волной, – сказал Антонио гребцам, – будьте наготове. Те двое подхватят лодку и не дадут ей разбиться. Эй, люди, принимайте лодку, хватайте ее, да покрепче, не то она разобьется о скалы. Ну, давайте же!
Опасный маневр совершился по команде Антонио: шлюпка взлетела на гребне подоспевшей волны. Слуги доньи Аны, опершись о камни, приготовились подхватить шлюпку и спасти ее от рокового толчка.
Едва огромный вал со шлюпкой на гребне обрушился на берег, как оба негра кинулись ему навстречу, а гребцы, словно пикадоры в ожидании разъяренного быка, вытянули вперед весла.
И все же толчок получился такой страшной силы, что один из гребцов упал на дно шлюпки. Но отчаянные усилия людей одержали верх над стихией, и шлюпка застыла как на приколе.
– Нельзя терять ни минуты! – воскликнул Антонио. – Сеньора, поспешите в лодку, следующая волна унесет нас в море.
Донья Ана протянула руки навстречу ожидавшему ее Антонио, за ней прыгнули слуги, оставалось лишь ждать следующей волны, которая поможет им снова выйти на простор океана.
Волна пришла и окатила путников с головы до ног; новый ужасный толчок потряс суденышко, потом огромная стена воды и пены отступила, увлекая за собой шлюпку вместе с людьми, которые лишь чудом избежали смерти.
– Мы спасены! – воскликнул Антонио.
Донья Ана подняла голову; при виде юноши глаза ее расширились от изумления, и из уст ее невольно вырвался крик:
– Боже мой! Дон Энрике Руис де Мендилуэта!
– О, небо! – воскликнул Антонио, узнав свою спутницу. – Донья Ана де Кастрехон!
V. ИСКРА ПОД ПЕПЛОМ
Железная Рука, или дон Энрике Руис де Мендилуэта, как мы будем впредь называть юношу, раз мы уже узнали его настоящее имя, раскрыл объятия, и донья Ана, рыдая, бросилась к нему на грудь. Ни одного ревнивого укора, ни одного горестного воспоминания не шевельнулось в сердцах этих людей, охваченных радостью неожиданной встречи в минуту грозной опасности. Это естественно: каждый, кого судьба оторвала от родины и забросила невесть куда, испытал, как радостно встретить на чужбине не только брата или друга, но даже случайного знакомого, о котором не знаешь ничего, кроме того, что он твой соотечественник. В такой миг забываются все былые обиды, и если людей не разделила в свое время непримиримая вражда, они с братской нежностью бросаются друг другу в объятия. Дон Энрике и донья Ана, которых в прошлом соединяла любовь, были разлучены внезапно, когда их пылкие чувства еще не успели остыть. С той поры они жили вдали от света, и при неожиданной встрече старое чувство вспыхнуло в их сердцах. Несколько мгновений они сидели, молча прижавшись друг к другу. Это зрелище нисколько не удивляло ни матросов, ни слуг: им было понятно волнение людей, встретившихся после долгой разлуки. Матросы продолжали равнодушно грести, а слуги все еще не могли прийти в себя от пережитого страха и, позабыв о своей госпоже, тихо переговаривались меж собой. Шлюпка подошла к берегу. – Мы на месте, – сказали гребцы. Дон Энрике вышел из лодки и подал руку донье Ане; слуги последовали за ним. Оглядевшись по сторонам, дон Энрике увидел невдалеке хижину Хосе. – Можно возвращаться? – спросили гребцы. – Подождите, – ответил дон Энрике и, обращаясь к донье Ане, сказал: – Донья Ана, я желал бы поговорить с вами. Они отошли в сторону. – Сеньора, – начал дон Энрике, – сейчас не время пускаться в объяснения, почему я здесь и как вы попали сюда. Моя радость снова видеть вас, донья Ана, так велика, что вы, надеюсь, поймете меня без слов. – Сеньор Энрике, господь бог уготовил мне счастье встретить вас в такой миг, когда надо мной нависла угроза смерти, и я вижу в вашем лице не возлюбленного, которого я в былое время незаслуженно оскорбила, но моего ангела-спасителя. Если бы я не хранила в глубине моего сердца иного чувства, я выразила бы вам мою вечную благодарность… – Не стоит говорить об этом, донья Ана; один лишь бог знает, что станется с нами завтра. Вы собираетесь вернуться в город? – Да, мне надо домой; к несчастью, я не могу предложить вам гостеприимства по причинам, о которых вы узнаете позже. Но скажите, где найти вас завтра, и я, клянусь богом, разыщу вас даже в чаще лесов… – Сеньора, неизвестно, что будет с нами завтра… – Что вы хотите этим сказать? Ваши слова пугают меня. – Тише, донья Ана. Буду с вами откровенен: мне нежелательно, чтобы в городе узнали о моем присутствии или толковали о происшедшем. – Если это ваша тайна, клянусь, от меня никто не услышит ни слова. – Вам я верю. Ну, а ваши слуги? Можете ли вы за них поручиться? – Ни в коем случае. Напротив, я уверена, что они станут рассказывать о пережитой опасности, и скоро весь город узнает о случившемся… – Это сулит мне роковую беду. – В таком случае что делать? Приказывайте. Ради вас я готова отдать свою жизнь. – Простите, сеньора, не могли бы вы принести мне жертву и провести эту ночь здесь, не возвращаясь в город? – Если вы желаете, конечно… – Ваши слуги останутся при вас, только пусть не вздумают болтать. – Не поручусь за них. – В таком случае весьма сожалею, но вам придется отказаться от их услуг. Вы вернетесь одна в город или одна останетесь здесь. Я должен отделаться от свидетелей. – Вы хотите убить их?! – испуганно воскликнула донья Ана. – Нет, сеньора, – ответил, улыбаясь, дон Энрике, – к чему такая бессмысленная жестокость? – В таком случае поступайте, как считаете лучшим. – Прошу прощения, сеньора, но иначе невозможно. Дон Энрике подозвал к себе матроса и что-то шепнул ему на ухо. Матрос, в свою очередь, шепотом передал приказ своему товарищу, потом обратился к слугам: – Ну, молодцы, ступайте в шлюпку. Слуги в ужасе переглянулись и бросили умоляющий взгляд на донью Ану, но она отвернулась от них. Не дожидаясь долее, один матрос столкнул негров в шлюпку, а другой мигом скрутил им руки; потом гребцы взялись за весла, и донья Ана осталась на берегу наедине с доном Энрике. Донья Ана не знала, что происходит в сердце юного Энрике, и думала, что едва шлюпка с пленными слугами исчезнет из виду, он бросится к ее ногам. Однако, когда первое возбуждение миновало, юноша целиком отдался мыслям о возложенном на него опасном поручении. Женская гордость доньи Аны была задета. – Что же дальше?! – воскликнула она, не зная, как ей быть. – Предпочитаете ли вы, сеньора, вернуться домой или хотите остаться здесь? – спокойно спросил дон Энрике. – Я уже сказала, что всецело повинуюсь вам. Решайте этот вопрос сами. – Я желаю лишь того, сеньора, что вам больше по душе. – Мне по душе – повиноваться вашим желаниям, дон Энрике, ведь вы мой спаситель. – Ради бога, донья Ана, не вспоминайте об этом. Итак, следуйте за мной, мы пойдем вон в ту хижину, что виднеется невдалеке. Взяв донью Ану за руку, дон Энрике повел ее к рыбачьей хижине. При этом он не обронил ни одного нежного слова, даже не пожал руки молодой женщины. «Я-то думала, что он удерживает меня здесь из любви, – сказала себе мысленно донья Ана, – а он, оказывается, поступает так всего-навсего ради каких-то загадочных целей. Впрочем, возможно, он не решается открыть мне свое сердце. Посмотрим, что будет дальше. Впереди еще целый вечер, сумерки только сгущаются». Они подошли к жилищу Хосе; это была лачуга, сложенная из бревен и пальмовых листьев; против входа на пнях сушились рыбацкие сети и паруса. – Есть кто в доме? – крикнул дон Энрике, не выпуская руки доньи Аны, которая молча следовала за ним. – Что вы желаете? – спросил, выходя на порог, высокий, сухощавый человек с длинной седой бородой. Он выглядел точь-в-точь, как его описал Хуан Дарьен. – Вы рыбак Хосе? – спросил дон Энрике. – Я самый, готов служить богу и вашей милости, – ответил человек, снимая с головы ветхую шляпу. – Пора брать рифы? – спросил дон Энрике. Рыбак посмотрел на него долгим взглядом и ответил почтительно: – И подтягивать паруса. Что прикажет ваша милость? – Нам надо переговорить о многих весьма важных делах, но прежде всего мне хотелось бы узнать, нет ли поблизости надежного и удобного жилья, где сеньора могла бы спокойно провести ночь? Рыбак поглядел на донью Ану, на мгновенье задумался и ответил: – Здесь поблизости стоит дом, где проживают моя семья и еще одна женщина с двумя дочерьми. Владельцы дома живут постоянно в городе; но в их сельском жилище можно отлично расположиться. Ежели ее милости угодно, мы можем туда пройти. – Так не будем терять ни минуты, мне еще предстоит обсудить с вами весьма важные вопросы. Рыбак, даже не оглянувшись на свою хижину, спокойно зашагал вперед по тропинке, которая вела в лес. – Не слишком ли это далеко? – спросил дон Энрике. – Начинает темнеть, сеньора не привыкла много ходить пешком. – Увидите, это рукой подать. Рыбак шел впереди, а дон Энрике следовал за ним, продолжая держать за руку донью Ану. Все трое шли в полном молчании. Дон Энрике, поглощенный мыслями о предстоящем деле, лишь время от времени обращался к донье Ане: – Не устали ли вы, сеньора? – Нет, – отвечала она, и молчание воцарялось снова. «Здесь кроется какая-то тайна, – рассуждала она про себя. – Дон Энрике, прежде такой влюбленный и внимательный… О чем он сейчас думает? Как собирается поступить со мной? Уж не замыслил ли он отделаться от меня, как отделался от моих слуг? Нет, не может быть! Что стоило ему отослать меня в шлюпке вместе с рабами? Он удержал меня здесь, не пожелал отпустить домой в город, потому что жаждет быть вместе со мной… Он любит меня. Как только мы останемся вдвоем в этом сельском доме, он бросится к моим ногам. Да, да, конечно! О, как мы будем счастливы! Мы уедем отсюда далеко-далеко, прочь из этой унылой страны!» Лай собак известил их о близости дома; псы почуяли, что к дому подходят чужие. Рыбак свистнул, и навстречу ему, виляя хвостами, выскочили из высокой травы три щенка.VI. ОБИДА
Сельский дом открылся взорам путников за поворотом тропинки; спустилась ночь, одна из тех светлых ночей, когда здания четкой тенью вырисовываются на фоне неба. В окнах еще горел свет, кто-то, перегнувшись через подоконник, вглядывался в сумрак ночи. Рыбак снова свистнул. – Это ты, Хосе? – спросил через окно женский голос. – Да, Урсула, – ответил рыбак. Голова женщины исчезла, и вскоре внизу открылась входная дверь. – Урсула, – обратился Хосе к жене, – я привел кабальеро и даму; приготовь для них постели и поскорее подай ужин. Полагаю, сеньор, что вы охотно выпьете глоток агуардьенте; у меня сохранилась бутылка этого превосходного напитка, нам, морякам, полезно бывает согреть желудок. Послушай-ка, Урсула, проводи сеньору в спальню, ей надо обсушиться; а нам с кабальеро пришли графин и два стакана. – Пойдемте, сеньора, – сказала Урсула, обращаясь к донье Ане, – вам в самом деле необходимо переодеться, ведь вы насквозь промокли. Так и захворать недолго. Идемте. Донья Ана нерешительно посмотрела на Энрике, словно ожидая, что он на это скажет. – Хозяйка права, – подтвердил Энрике, – вам надо переодеться. Донья Ана вспыхнула от досады. Будь дон Энрике повнимательней к своей спутнице, он давно заметил бы, что она весьма раздосадована. Но Энрике думал лишь о том, что время летит, а он еще ничего не успел предпринять, меж тем как Морган и Хуан Дарьен, пожалуй, уже двинулись в поход. Без единого слова донья Ана поднялась и последовала за Урсулой. Хосе и дон Энрике остались наедине. – Сеньор, я к вашим услугам, что вы желали сказать мне? – спросил Хосе. – Слушайте же, время не терпит: этой ночью люди Моргана, а с ними и молодцы Хуана Дарьена нападут на Портобело… – Боже мой! – воскликнул, оживляясь, рыбак. – Возможно ли? Джон Морган, знаменитый Морган, прославленный пират? И он уже так близко? Да еще с Хуаном Дарьеном, нашим главарем? Это верно? – Еще бы! Они-то и послали меня к вам, чтобы я проник в город и все разведал. Ведь если испанцы вздумают проявить упорство, мы ударим с тыла. – Вот именно, вот именно! – подхватил рыбак. – Я дам вам людей. – Тише, – остановил его дон Энрике, – как бы нас не подслушали. – Здесь нет никого, кроме мой жены. – И этой дамы… – Как, разве она не ваша?.. – Нет, она из Портобело. – Но как получилось, что вы пришли вместе? – Об этом я расскажу в другой раз, а сейчас поспешим, ведь, может быть, наши люди уже выступили в поход. – В котором часу ожидается нападение? – На рассвете. – А по какой дороге их ждать? – Я этого побережья не знаю; они придут на шлюпках и высадятся недалеко от города, в местности, которая называется Эстера. – Значит, здесь. – Здесь? – Да, эта бухта и есть Эстера; полагаю, они вот-вот появятся; нельзя терять ни минуты. – Так в путь! – Постойте, выпьем на дорогу по стаканчику. Тут вошла Урсула с бутылкой и двумя стаканами. – Прошу прощения, – сказал Энрике, обращаясь к Урсуле, меж тем как Хосе наполнял стаканы, – где вы устроили сеньору? – Она в соседней комнате. – Отлично, полагаюсь на вас. – Будьте спокойны, ей будет здесь не хуже, чем дома. – Так за наш успех! – сказал рыбак, чокаясь с доном Энрике. – За успех! – ответил Энрике, осушая стакан. – А теперь в путь, сеньор дон Энрике. Эй, Урсула, запри покрепче двери и, ежели этой ночью здесь появятся знакомые ребята, спроси Хуана Дарьена и скажи ему, что этот дом принадлежит Хосе-рыбаку. – Хуан Дарьен?.. – Молчок. Делай, что тебе велят, и прощай. Позаботься о сеньоре. – Прощай, – ответила жена. Хосе вышел вместе с доном Энрике и направился по тропинке в город. Урсула проводила их до порога, тщательно заперла дверь и ко всем запорам прибавила еще на всякий случай крепкую перекладину. Через окно, из которого Урсула окликнула мужа, донья Ана наблюдала за Энрике, пока он не исчез в сумраке ночи. Тогда, отойдя от окна, она проговорила с раздражением: – Ушел не простившись. Как видно, его чувство ко мне угасло. Я больше не нужна ему, он держит меня здесь, как пленницу, чтобы я не могла рассказать обо всем в городе и не нарушила его замыслов. Меж тем я начинаю кое о чем догадываться… Ах, лучше бы мне погибнуть сегодня в океане! Этот человек, о котором я так страстно мечтала, равнодушен ко мне, мало, того, он пренебрегает мной. Я не пробуждаю в нем ни малейшего желания, я целиком в его руках, и что же? Ни одного нежного слова, ни одного поцелуя… Это ужасно! Он просто не замечает меня, я для него не женщина… Я слепо пошла за ним, вообразив, будто вновь пробудила в нем любовь. А он запирает меня на замок и сам уходит… Но берегись, ты мне за это дорого заплатишь!.. Да неужто я так подурнела? Тут в комнату вошла Урсула. – Итак, сеньора, вам уже известно, что сегодня ночью к нам пожалуют гости. – Да, я кое-что слышала об этом Хуане Дарьене, – уклончиво ответила донья Ана. – Вы знаете Хуана Дарьена? – Нет, а кто он? – Здорово! Только вы одна ничего о нем не слыхали. Хуан Дарьен – прославленный пират, разве вам не рассказывал о нем ваш возлюбленный? Или кто для вас этот кабальеро? Услышав, что дона Энрике называют ее возлюбленным, донья Ана вспыхнула, но не столько от стыда, сколько от досады при новом напоминании о юноше, который пренебрег ею. Она уже собиралась было заявить, что между нею и доном Энрике нет ничего общего, как вдруг ее осенила мысль, что ложь скорее поможет доискаться правды. – Он мой супруг, – ответила она. – Предположим. Так неужто ваш супруг никогда не говорил вам о Хуане Дарьене? – Никогда. – Быть не может! Ведь он, ясное дело, прибыл вместе с Хуаном Дарьеном, а вы вместе с мужем, так как же вы ничего не знаете? – Мы были с мужем в долгой разлуке и только сегодня снова встретились. – И он не успел рассказать вам, что сегодня ночью здесь будут пираты? – Пираты? Здесь?! – воскликнула перепуганная донья Ана. – Да, так сказал Хосе; ежели, говорит, этой ночью на берег высадятся вооруженные люди, я должна разыскать Хуана Дарьена и сказать ему, что это дом Хосе-рыбака. – Но что им здесь нужно, этим людям? – Как что? Ясно – взять город. – Взять город? Зачем? – Чтобы захватить богатую добычу и женщин, за этим они и идут. – Боже мой! Но вы еще молоды, разве вы не боитесь? – Нисколько. Ни вам, ни мне беда не угрожает. Я жена Хосе, а ваш муж с ними заодно, уж нас-то они не тронут, они уважают друг друга. Да вы сами увидите, какие это веселые и славные ребята. – А вы уверены, что они будут здесь? – Еще бы! Недаром же наши бедные мужья отправились без ужина налаживать дело. Завтра все богачки Портобело проснуться женами пиратов. – Так вы говорите, сегодня ночью? – Вот увидите. Ну, пока давайте ужинать. – Давайте, – сказала донья Ана, а про себя подумала: «Надо во что бы то ни стало бежать и предупредить жителей города. Отомщу дону Энрике за его пренебрежение». Она направилась вместе с Урсулой в столовую. Покончив с легким ужином, Урсула проводила донью Ану в приготовленную для нее комнату. – Это окно, – сказала она, – выходит на море, отсюда вы увидите, когда они подойдут. – С какой стороны они появятся? – Вот с этой, разве вы не видите моря? – Вижу. А город где? – Здесь, направо. – Вот как. – Ну, а теперь ложитесь спать, если что случится, я разбужу вас. Урсула вышла; донья Ана заперла дверь и долго прислушивалась, пока заглохли шаги приютившей ее женщины. Окно было невысоко над землей, донья Ана решила действовать. Связав вместе две простыни со своей постели, она сделала на одном конце узел, прижала его ставнем и свесила длинную белую полосу вниз за окно, потом стала спускаться. До земли оставалось уже совсем недалеко, когда чьи-то могучие руки схватили беглянку за талию. Вскрикнув, она выпустила из рук импровизированную лестницу, но не упала: прижав к груди свою добычу, незнакомец зашагал прочь от дома. Донья Ана попыталась было кричать, но широкая ладонь закрыла ей рот. Тут-то она раскаялась в своем поступке, поняв, что попала во власть пиратов.VII. ОСАДА
Донья Ана чувствовала, что ее несут куда-то далеко; незнакомец был настоящим Геркулесом и не проявлял признаков усталости. Наконец до молодой женщины донесся гул голосов, и вскоре ее осторожно опустили на землю. Она стояла на берегу океана, окруженная людьми; сумрак ночи скрывал их лица, но донья Ана разглядела, что людей много и все они вооружены. – Сеньор, – обратился незнакомец, принесший донью Ану, к человеку, который, как показалось пленнице, был здесь главным, – я захватил эту женщину, когда она спускалась из окна одного дома, тут, недалеко. – Ты знаешь ее? – Лица я ее не видел, но мне сдается, она пронюхала о нас и хотела бежать через окно, чтобы предупредить жителей города. – Ладно. Оставь ее здесь и продолжай разведку. Разведчик ушел, и донья Ана осталась с глазу на глаз с главарем отряда. – Как вас зовут? – сурово спросит тот. – Донья Ана де Кастрехон. – Куда вы собрались бежать? – Я шла к вам. Несколько пиратов подошли поближе, прислушиваясь к разговору. – К нам? Вы что же, слышали о нашем приходе? И знаете, кто мы такие? – Я все знаю: вы пираты и готовитесь напасть сегодня ночью на Портобело; среди вас находится Хуан Дарьен, а одного человека вы послали вперед лазутчиком. – От кого вы все это слыхали? – От вашего лазутчика. Вы ему доверяется, а он вас предал. – Предал?! – воскликнули разом несколько голосов. – Да. Потому-то я вас и искала, хотела предупредить об опасности. Как вы зовете здесь этого человека? – Антонио Железная Рука. – Ну, а мне известно его настоящее имя – Энрике Руис де Мендилуэта. – Ваше обвинение весьма серьезно. Понимаете ли вы это? – Еще бы! Полагаю, что сейчас весь город на ногах, жители готовятся сделать вылазку и напасть на вас. Вам лучше всего уйти, отказаться от осады города, вас ждет поражение, подходящий случай упущен. – Ну, а где же сейчас Антонио, или Энрике, как вы его называете? Если все это правда, то он, верно, у губернатора. – Вы, я вижу, сомневаетесь в моих словах, как бы вам не пришлось в этом раскаяться. – Отвести сеньору в шлюпку, – сказал главарь, – и сторожить ее там вплоть до нового приказа. Двое вооруженных людей увели донью Ану, а тот, ктодопрашивал ее, остался вместе с тремя-четырьмя пиратами. – Что вы на это скажете, Хуан Дарьен? – Я жду, когда выскажетесь вы, сеньор Морган. Вы ведь лучше моего знаете Антонио Железную Руку. – Ну так вот, я считаю, что Антонио не способен на предательство. – Ежели это так, откуда женщина знает о нашей высадке и о наших планах? – Ума не приложу. – И я не понимаю. – Но вот вопрос: следует ли нам отказаться от набега на город? Весьма возможно, что испанцы уже предупреждены. – Надо проверить, так ли это. – Предлагаю без колебаний продолжать начатое. Отступить всегда успеем. – Таков ваш приказ? – Да. – Беру с собой десяток молодцов и отправляюсь на разведку. А вы идите следом с нашими главными силами. – Да, выступаем без промедления, нельзя терять ни минуты. Джон Морган и Хуан Дарьен разошлись в разные стороны, чтобы отдать распоряжения. Вскоре среди манговых деревьев замелькали неясные тени людей, которые то продвигались во весь рост, то припадали к земле, бесшумно скользя, словно змеи, а то замирали, притаившись за стволами деревьев; ни одна травинка не шелестела на их пути, ни один камешек не шуршал под их ногами. Они казались бесплотными призраками. Когда время от времени один из этих призраков застывал на месте, все остальные тоже замирали, напряженно прислушиваясь к смутному шуму, доносившемуся до них издалека с ночным ветром; убедившись, что все спокойно, они продолжали путь. Следом за ними на небольшом расстоянии медленно и неслышно вилась длинная вереница людей. То были основные силы пиратов, которые под командой Джона Моргана следовали за разведчиками. Внезапно колонна остановилась: перед ней выросли темные башни крепости, защищавшей город. Хуан Дарьен уже находился на коротком расстоянии от замка; часовой спокойно прогуливался вдоль крепостной стены. Подозвав двух пиратов, Хуан Дарьен едва слышно шепнул: – Его надо взять. За мной! Зажмите ему рот. Солдат продолжал ходить взад-вперед. Хуан Дарьен и два пирата приближались к нему ползком. Когда солдат направлялся в их сторону, все трое припадали к земле, не шевелясь; когда поворачивал назад, пираты ползком быстро преодолевали пространство. Это был пример хитрости и терпения; часовой ничего не замечал. Наконец пираты подползли так близко, что, сделай часовой еще один шаг в их сторону, он наткнулся бы на них. Но, дойдя до обычной черты, часовой повернул назад. С ловкостью пантеры Хуан Дарьен прыгнул на беззаботного стража и обхватил его тисками рук. Один из пиратов вмиг зажал ему рот, другой скрутил ноги. Так, прежде чем часовой успел крикнуть или взяться за оружие, он был взят в плен и унесен прочь от крепостной стены. Все произошло мгновенно и бесшумно. Стоя во главе своей колонны, Морган поджидал Хуана Дарьена. – Взяли часового, – сказал, подходя, Хуан Дарьен, – он сможет сообщить нам, что делается в городе и в крепостных замках. – Отвечай правду, – приказал Морган, – не то поплатишься своей головой. Солдата связали. – Что известно в городе о нашей высадке? – спросил Морган. – Ничего неизвестно, сеньор, – ответил, дрожа, солдат. – Объявлена тревога? – Нет, сеньор, все спокойно. – Смотри, не вздумай обманывать. – Клянусь вам. – Ладно, за ложь ответишь жизнью. Сколько солдат в крепости? – Четыреста в гарнизоне и столько же наемников, но те спят у себя по домам. – А пушек? – Пушек много, все стоят в двух больших замках и в третьем малом. Морган тут же отдал приказ выступать и сам возглавил колонну. Первый из замков высился в четверти лиги от того места, где остановились пираты, и колонна подошла к нему на рассвете. В те времена война носила, несомненно, более человечный характер, чем в наши дни. Нынче армии народов, гордящихся своей цивилизацией, вторгаются без объявления войны в чужую страну. Так, например, французские войска без всякого предупреждения осаждали крепости и нападали на города. Пираты действовали значительно благороднее. Когда на рассвете замок был окружен, Морган направил коменданту крепости своего гонца с требованием сдаться; в противном случае он грозил перерезать весь гарнизон. Испанцы отказались вступить в переговоры с пиратами и открыли ожесточенный огонь из пушек. В городе, который до той поры ничего не знал о высадке пиратов, вспыхнула тревога. Кто бросился в лес, кто приготовился к отпору, а иные, не думая ни о чем, кроме своих сокровищ, попытались скрыть их в глубоких колодцах. Женщины плакали, кругом царили смятение и беспорядок. Гарнизон замка мужественно сражался; но пираты шли на приступ с неслыханной отвагой. Джон Морган и Хуан Дарьен, вооружившись абордажными топорами, смело бросились к воротам; их соратники под градом пуль не отставали от них. Ворота, не выдержав мощных ударов, рухнули, и пираты огненной лавиной устремились внутрь. Несколько мгновений спустя гарнизон сдался. – Кое-чего мы уже достигли, – сказал Морган, – но предстоит еще немало повозиться, прежде чем город будет нашим. – Если желаете, штурм города я возьму на себя, – предложил Хуан Дарьен. – Нет, лучше займитесь крепостью и разрушьте ее до основания, а я с остальными пойду на город. Не мешкая, Морган со своими людьми двинулся на Портобело. Предстояло взять еще два крепостных замка – большой и малый. Во главе первого стоял испанский губернатор, он командовал гарнизоном королевских солдат; а малый замок находился под началом дона Диего де Альвареса, возглавлявшего отряд торговых людей, которые взяли в крепость свои семьи. Там же была донья Марина с дочерью Леонорой. Пренебрегая опасностью, Морган ворвался в город под огнем пушек, которые по приказу губернатора палили из большого замка. Пираты кинулись грабить дома, проникли в монастыри и обратили в пленников всех монахов и монахинь. Внезапно раздался оглушительный взрыв: это Хуан Дарьен, заперев в замке пленных испанцев, поджег пороховой склад. С зубчатой стены второй крепости губернатор созерцал страшную картину, понимая, что и ему готовится та же участь. Атака второго большого замка не заставила себя долго ждать. Первый натиск пиратов был отражен. Пушки защитников наносили тяжелый урон нападающим, не умеряя, однако, яростной отваги тех, кто оставался в живых. Наиболее отчаянные бросились с топорами к воротам, но погибли под огнем испанцев, не достигнув цели: ворота не поддавались. Морган заметно приуныл. – Поджечь! – крикнул Хуан Дарьен. Казалось, все уже было заранее припасено для исполнения этого приказа: с горящими факелами, с бочонками смолы и серы пираты ринулись к воротам. Первые ряды тут же поплатились жизнью за свою смелость, следовавшие за ними в ужасе попятились, потом, опомнившись, вновь бросились вперед. Долго продолжалась упорная борьба, но, наконец, раздался торжествующий вопль, – огненные языки пламени взмыли вверх, и вскоре крепостные ворота рухнули. В открывшуюся брешь бушующим потоком хлынули пираты. Но защитники города решили умереть, сражаясь; едва лишь первые люди Моргана проникли в замок, как на них обрушился ливень гранат, больших и малых бочонков с порохом; падая в огонь, они взрывались и сеяли смерть и ужас среди нападающих. Морган и Хуан Дарьен громкими возгласами и собственной беспримерной храбростью воодушевляли своих людей, пираты не щадили ни усилий, ни жизни, и все же им пришлось отступить. Перевес был явно на стороне королевских солдат, все сулило им победу. Отчаяние овладело главарями морских разбойников. Стиснув зубы, они отвели колонну назад в безопасное место. Защитники крепости поспешно заделали брешь в стене. – Испанцы оказались упорнее, чем я ожидал, – сказал Джон Морган, нервно теребя длинные усы. – Мы понесли огромные потери, а оставшиеся в живых упали духом. – К сожалению, это верно, – ответил Хуан Дарьен, – но такое упорное сопротивление невольно приводит мне на память слова нашей вчерашней пленницы. Помните, она сказала, будто наш лазутчик – предатель. – И все же отступать нельзя, – продолжал Морган, словно не расслышав обвинения, брошенного против Железной Руки, – отступление было бы равносильно самоубийству, ведь вдохновленные победой испанцы бросятся нас преследовать. Как быть с ранеными, да и корабли наши слишком далеко. – Об отступлении нечего и думать! Если испанцам, как можно предположить, известны наши силы, это еще больше воодушевит их. Ну, Железная Рука, не попадайся мне в руки! – Вы еще верите этой сказке? – Как же не верить? Разве ему не следовало бы давно вступить в бой, как мы договорились? – Возможно, ждать осталось недолго. – Не надейтесь на его помощь. – Так поглядите же, – с радостью крикнул Морган, указывая рукой на замок. Из малого замка донеслись до них торжествующие клики, над зубчатой стеной взвился английский флаг. – Что это значит? – воскликнул Хуан Дарьен. – Это значит, что Железная Рука на деле опровергает гнусную выдумку женщины! – ликовал Морган. – Адмирал, тысячу раз прошу прощения за то, что я усомнился в вашем подопечном. – Все складывалось так, что я и сам начал сомневаться. Однако сейчас не время болтать, заставим наконец этих упорных псов сдаться. – Начнем штурм сызнова и по всем правилам! – Велите тащить лестницы, да самые широкие, чтобы лезть наверх сразу втроем; пригоните сюда из города людей, пускай приставят лестницы к крепостным стенам. И поживее шевелиться. Скоро день, к вечеру мы должны овладеть замком. – Все будет исполнено, – сказал Хуан Дарьен и поспешил в город.VIII. БЫВШИЕ СОПЕРНИКИ
За всю ночь Хосе-рыбак ни на минуту не прилег отдохнуть. Он проводил дона Энрике в его временное убежище, находившееся невдалеке от малой крепости, которую защищали городские торговцы. Это был просторный, но пустой и заброшенный дом, куда лишь время от времени наезжали из Панамы торговцы, ожидавшие прибытия испанских галер. За домом присматривала семья старого привратника. Как только Хосе-рыбак появился вместе с доном Энрике, привратник поспешил открыть все комнаты и залы. – Позаботьтесь о том, чтобы с улицы не видно было света, – сказал Хосе, – входную дверь не запирайте, но окна занавесьте поплотнее. Я скоро вернусь. Дон Энрике вошел в комнату. В голове его теснились мысли о донье Ане, о Моргане, о пиратах, о детстве. Он, богатый наследник одного из самых родовитых семейств Мексики, вынужден был при роковых и загадочных обстоятельствах бежать, покинуть родину и жить среди пиратов! Его память с жестокой четкостью нарисовала ему все, что произошло в тот вечер на балу у доньи Марины; воспоминание жгло его; чем, как не черной клеветой, возведенной на него в этом доме, объяснить приказ вице-короля об его изгнании из страны? – Мне бы хоть на один час вернуться в Мексику! – воскликнул юноша. – Дон Диего насмеялся надо мной, а я бессилен покарать его. Из-за него я потерял родину, имя, семью, все, все, даже будущность – ведь я обещал Хулии, что настанет счастливое время и я вернусь, но разве я властен сдержать свое обещание? Разве я смею вернуться в Мексику? И дон Энрике уронил голову на грудь, позабыв все на свете ради горьких воспоминаний и смутных надежд. – Вот и мы, – неожиданно раздался чей-то голос. Дон Энрике вскочил и увидел перед собой Хосе-рыбака с двумя парнями, по виду отчаянными головорезами. – Что слышно в городе? – спросил дон Энрике. – Ничего, решительно ничего; все спокойно, никто и не думает о пиратах, никто не предполагает, что они тут, под боком. Думаю, это верное дело. – А что вам удалось сделать? – Многое. Этих двух надежных молодцов мы поставим у входа, поручив им проверять и впускать в дом наших ребят да смотреть за тем, чтобы отсюда никто не улизнул. Сюда будут прибывать и являться к вам все, кого я успел оповестить. Спрашивать у них пароль незачем, ведь прежде чем они попадут к вам, их проверят эти молодцы. Но всем нашим ребятам надо знать вас в лицо, да и вам неплохо с ними познакомиться. Я сообщу, когда выступать, а сейчас мне надо идти. – Куда? – За остальными друзьями. – Так не забудьте же поставить караул у входа. – Сейчас поставлю, – сказал Хосе и вышел. Почти тотчас стало прибывать подкрепление. Перед доном Энрике, как на параде, проходили люди всех национальностей, вооруженные и одетые в живописные наряды, обычные для той среды. Они ничем не отличались от молодцов из шайки Моргана, и не было ничего удивительного в том, что они откликнулись на зов пиратов и готовились вместе напасть на город. Дом был забит до отказа: собралось свыше трехсот человек; начинало светать, когда Хосе-рыбак вернулся. – Что могло случиться? – спросил он дона Энрике. – Ночь кончается, светает, а наших друзей нет как нет. Это может стоить нам немалых бесполезных жертв. – Надеюсь, что они долго не замешкаются. Кто знает, какие препятствия встали на их пути. – Да, но люди теряют терпение, ропщут; они хотят разойтись по домам, пока не рассвело, чтобы их не увидели на улице при свете дня. – Пусть повременят расходиться. – Невозможно. Если этой ночью ничего не предстоит, как им выбраться отсюда? Как показаться днем на улице с оружием? Да их тут же задержат, арестуют. Не успел Хосе договорить, как в комнату бесцеремонно вошли двое вооруженных парней. – Что вам надо? – спросил дон Энрике, понимая, зачем они явились. – Мы пришли спросить, – начал один из них с решительным видом, – уж не вздумали ли вы подшутить над нами и остальными товарищами? Мы не дадим смеяться над собой. Ребята послали нас покончить с этим делом. – Ну, что же дальше? – спросил дон Энрике. – А вот что, – ответил парень, – нас выманили из наших домов, посулив, что этой ночью Морган и Хуан Дарьен будут штурмовать город. Мы бросили наши семьи и зря проторчали здесь всю ночь напролет; прежде чем рассветет, мы хотим знать, что тут происходит, ведь при свете дня нам невозможно выйти отсюда – мы рискуем своей шкурой. – Как видите, – ответил дон Энрике, – я тоже жду и тоже не знаю, как сложатся дела. – Другими словами, – подхватил второй сорвиголова, – вы зря втянули нас в это дело; вы насмеялись над нами или попросту надули нас. – Что это значит?! – воскликнул дон Энрике, бледнея от ярости и хватаясь за нож. – Это значит, – ответил человек, обнажая нож и подавая своим движением пример товарищу, – это значит, что ты надул нас, втянув в эту сделку. Но мы сейчас расквитаемся с тобой за себя и наших ребят, чтобы тебе впредь неповадно было смеяться над другими. – И вы осмелились?! – воскликнул Хосе-рыбак. – А ты как думал? Да еще скажи спасибо, Хосе, что ты всегда был нам другом, не то мы с тебя бы и начали. Но мы понимаем, ты обманут не хуже нас. Словом, у нас уже все решено. – Попробуйте его тронуть, – пригрозил рыбак и, выхватив нож, стал рядом с доном Энрике. Молодцы шагнули вперед, но прежняя решимость их, казалось, иссякла. – Ладно, ладно уж, потише тут, – сказал рыбак, – вы знаете меня не первый год, я один справляюсь с пятеркой. Так не заставляйте же меня собственной рукой отправлять вас на тот свет. – Послушай-ка, Хосе, – ответил один из парней, – конечно, мы тебя знаем. Посторонись и дай нам рассчитаться с чужаком. Дело решенное, он должен ответить за свой обман, а ты ступай восвояси. – С места не тронусь. – Это твое последнее слово? – Последнее. – Что ж, пеняй на себя! – воскликнул парень и распахнул дверь. Молча и бесшумно хлынула в нее грозной лавиной толпа и наводнила всю комнату. Дон Энрике и рыбак попятились в угол и вмиг соорудили перед собой заслон из столов и стульев, готовясь дать отпор, хотя и не надеясь выйти живыми из схватки. – В последний раз, Хосе, не мешай нам расправиться с чужаком, прочь с нашего пути. – Я не уйду! – решительно ответил Хосе. – Нечего волынить, – раздался голос из толпы, – начинает светать. В руках блеснули ножи, дон Энрике и Хосе, бледные, но спокойные, уже приготовились драться насмерть, как вдруг вдали грянул пушечный выстрел, потрясший стены дома. Дон Энрике и рыбак разом поняли, что они спасены; начнись стрельба на миг позже, и они уже лежали бы бездыханными трупами. Все замерли; стрельба усиливалась, никто не решался произнести ни слова. Было ясно: начался штурм крепости. – Посмейте сказать, что я вас обманул, негодяи! Никто не ответил. – Я собрал вас для настоящего большого дела, а вы вместо благодарности решили меня прикончить. Не нужны вы мне теперь, убирайтесь, обойдусь без вас. – Сеньор, – начал Хосе-рыбак, – я уверен, друзья раскаиваются в своем поступке. Я их хорошо знаю. Ведите их в бой; они сумеют отвагой загладить свою вину. Дон Энрике притворился негодующим и непримиримым; но в глубине души он радовался, что ему удалось избегнуть бессмысленной гибели, и был не прочь повести этих людей в бой. – Ладно! – согласился он. – Забудем ссору, и за дело! Прислушайтесь, как идет бой; тут надо улучить подходящий момент. – Да, – прибавил Хосе, – сейчас время еще не приспело, войсками в городе командует сам губернатор, испанцев куда больше, чем нас; мы только зря понесли бы потери. Иду в город, попробую все разузнать в этой суматохе и сообщу вам, когда пора будет выступить на подмогу нашим друзьям. И Хосе торопливо вышел на улицу. Дон Энрике занялся подготовкой к выступлению. Входная дверь была по-прежнему на замке, но и через закрытую дверь до слуха доносился топот верховых и пеших, долетали отдельные взволнованные слова и обрывки фраз. То и дело слышалось: «Они разбиты», «Штурм продолжается», «Скоро подоспеет помощь», «Войска уходят с губернатором», «Я все припрятал», «Бежим в горы». Все говорило о том, что в городе царят тревога и смятение. Внезапно раздался оглушительный взрыв, дом содрогнулся, створки окон с треском распахнулись. Сильный стук потряс дверь; то был Хосе-рыбак. – Пора! – воскликнул он, задыхаясь от усталости и волнения. – Пора! Выступаем. Хуан Дарьен взял большой замок и взорвал его вместе со всеми пленными, а Морган овладел другим замком, где гарнизоном командует губернатор. Идем на приступ малого замка, его защищают торговцы, там припрятаны их сокровища. – На приступ! – крикнул дон Энрике. – На приступ! – подхватили остальные, и гул их голосов громким эхом отдался вдали. Дон Энрике первым поспешил из дома; за ним, потрясая оружием, вырвались на улицу его соратники, обуреваемые жаждой крови и богатой добычи. При виде этой грозной толпы прохожие в ужасе разбежались и попрятались. Огонь пушек и мушкетов не затихал ни на минуту. Небо потемнело от порохового дыма, языки пламени и столбы пепла взлетали ввысь. В опустевшем, примолкшем городе слышался только грохот боя. Безлюдные улицы и настежь распахнутые двери покинутых жилищ наводили ужас. Отряд дона Энрике, появившийся на подступах малой крепости, был встречен пушечным залпом, нанесшим немалый урон пиратам. Словно не замечая потерь, осаждающие с такой яростью ринулись вперед, что не осталось никаких сомнений в их победе. Притащили лестницы, и штурм крепости начался по всем правилам. Ворота упали, разбитые в щепы, часть осаждающих ворвалась в открытую брешь; в то же мгновение дон Энрике во главе кучки смельчаков первым взобрался на крепостной вал. Осаждаемые со всех сторон защитники сдались; последним сложил оружие комендант крепости. Дон Энрике поспешил к поредевшей горстке героев. Именно среди них дрался комендант; оба, едва обменявшись взглядом, узнали друг друга. – Дон Энрике Руис де Мендилуэта? – воскликнул Индиано. – Дон Диего де Альварес! – произнес дон Энрике. В этот миг над зубчатой башней замка взвилось английское знамя – его поднял Хосе-рыбак.IX. МЩЕНИЕ
Одержавшая победу толпа с ревом кинулась на богатую добычу. Деньги, товары, оружие, женщины – все было вмиг поделено и надежно припрятано из опасения, как бы пираты Моргана не завладели награбленным добром. Удары топора, которым рубили двери и взламывали ящики, перемежались с ликующими возгласами счастливцев, нашедших припрятанные сокровища, со стонами умирающих и рыданиями женщин, тщетно рвавшихся из жадных рук победителей. Поистине страшное зрелище. Те, что успели насытить свою алчность, расправлялись с пленными, чтобы утолить проснувшуюся жажду крови. Слушая рев озверелой толпы, дон Диего и его товарищи по несчастью мысленно прощались с жизнью и своими семьями, которых ожидала не менее горестная участь. При виде дона Энрике комендант приготовился достойно встретить свой последний час. Узнав друг друга, ни тот, ни другой не произнесли больше ни слова. Дон Диего первым нарушил молчание. – Дон Энрике, – начал он с непритворным спокойствием, – я понимаю, что для меня нет надежды на спасение. Я в вашей власти, вы вправе отомстить мне; для себя я ни о чем не прошу; но, если в вашем сердце сохранилась хоть искра благородства, исполните просьбу человека, который собирается покинуть этот мир: поразив меня, обратите ваш меч против моей семьи – доньи Марины и маленькой Леоноры, – прежде чем они достанутся на потеху вашим людям. Обещайте мне это, и я спокойно умру; пусть они примут смерть, но не бесчестие.
– Дон Диего, – ответил дон Энрике с каменным лицом, – вы в моей власти, вы, ваша супруга и ваша дочь. По вашей милости и по вине той, что нынче стала вашей супругой, я потерял все, чем дорожил на земле: семью, родину, имя, богатство, честь, будущность, все, все. По вашей вине мне пришлось бежать, как разбойнику в горы, по вашей вине я превратился в пирата, которого ждет впереди позорная смерть на виселице. Дон Диего, вы заслужили страшную кару; ваша смерть ничто по сравнению с моими муками и терзаниями. Жизнь за жизнь, ну, а моя честь, мое доброе имя, родина и будущность? Пролить вашу кровь, отдать вашу жену на потребу моих воинов, воспитать вашу дочь в пороке, толкнуть ее на путь разврата, – все это едва ли достойное возмездие за содеянное вами зло.
– Боже мой, боже мой! – простонал дон Диего. – Как это ужасно!
– Дон Диего де Альварес! – продолжал дон Энрике. – Я вправе отнять у вас жизнь, вы заслужили смерть от моей шпаги. Но я поступлю так, как мне подобает. Вы свободны. Идите за вашей супругой и дочерью. Я вам дам провожатых, они помогут вам вызволить жену и дочь из плена – полюбовно или силой. Только не вздумайте благодарить меня за это: я ненавижу вас всей душой. Ступайте и помните, я вам не ставлю никаких условий, кроме одного: ровно через полгода, а именно шестого августа в полночь, я вас жду против того дома, где вы нанесли мне такое тяжкое оскорбление.
Дон Диего попытался что-то сказать. Но дон Энрике уже обратился к рыбаку:
– Хосе, ты слышал. Ступай вместе с этим кабальеро, добейся, чтобы ему вернули жену и дочь и без помехи выпустили из города. Пускай уйдут под охраной, куда пожелают, прочь от опасности.
Круто повернувшись, дон Энрике ушел.
– О! – воскликнул Индиано. – Мы еще посмотрим, кто из нас великодушнее. Мое мщение будет подобно его возмездию.
Сопровождаемый рыбаком и надежной охраной, дон Диего поспешил на поиски доньи Марины.
– Дон Энрике, – начал он с непритворным спокойствием, – я понимаю, что для меня нет надежды на спасение. Я в вашей власти, вы вправе отомстить мне; для себя я ни о чем не прошу; но, если в вашем сердце сохранилась хоть искра благородства, исполните просьбу человека, который собирается покинуть этот мир: поразив меня, обратите ваш меч против моей семьи – доньи Марины и маленькой Леоноры, – прежде чем они достанутся на потеху вашим людям. Обещайте мне это, и я спокойно умру; пусть они примут смерть, но не бесчестие.
– Дон Диего, – ответил дон Энрике с каменным лицом, – вы в моей власти, вы, ваша супруга и ваша дочь. По вашей милости и по вине той, что нынче стала вашей супругой, я потерял все, чем дорожил на земле: семью, родину, имя, богатство, честь, будущность, все, все. По вашей вине мне пришлось бежать, как разбойнику в горы, по вашей вине я превратился в пирата, которого ждет впереди позорная смерть на виселице. Дон Диего, вы заслужили страшную кару; ваша смерть ничто по сравнению с моими муками и терзаниями. Жизнь за жизнь, ну, а моя честь, мое доброе имя, родина и будущность? Пролить вашу кровь, отдать вашу жену на потребу моих воинов, воспитать вашу дочь в пороке, толкнуть ее на путь разврата, – все это едва ли достойное возмездие за содеянное вами зло.
– Боже мой, боже мой! – простонал дон Диего. – Как это ужасно!
– Дон Диего де Альварес! – продолжал дон Энрике. – Я вправе отнять у вас жизнь, вы заслужили смерть от моей шпаги. Но я поступлю так, как мне подобает. Вы свободны. Идите за вашей супругой и дочерью. Я вам дам провожатых, они помогут вам вызволить жену и дочь из плена – полюбовно или силой. Только не вздумайте благодарить меня за это: я ненавижу вас всей душой. Ступайте и помните, я вам не ставлю никаких условий, кроме одного: ровно через полгода, а именно шестого августа в полночь, я вас жду против того дома, где вы нанесли мне такое тяжкое оскорбление.
Дон Диего попытался что-то сказать. Но дон Энрике уже обратился к рыбаку:
– Хосе, ты слышал. Ступай вместе с этим кабальеро, добейся, чтобы ему вернули жену и дочь и без помехи выпустили из города. Пускай уйдут под охраной, куда пожелают, прочь от опасности.
Круто повернувшись, дон Энрике ушел.
– О! – воскликнул Индиано. – Мы еще посмотрим, кто из нас великодушнее. Мое мщение будет подобно его возмездию.
Сопровождаемый рыбаком и надежной охраной, дон Диего поспешил на поиски доньи Марины.
Между тем страшное зрелище разыгрывалось у подножия замка, где гарнизоном командовал губернатор. Хуану Дарьену вскоре удалось разыскать лестницы для осады. Кроме того, он пригнал и людей, чтобы приставить лестницы к крепостным стенам. То были взятые в плен монахи и монахини из города. Монахини плакали; сорвав с них клобуки и вуали, пираты издевались над старухами и разрешали себе непристойные шутки с молодыми. – Вот люди, они приставят лестницы, – сказал Хуан Дарьен. – Отлично, – ответил Морган, – живее за дело! – Не лучше ли уступить нам этих красоток, – сказал один из пиратов, указывая на монахинь. Вместо ответа Морган поднял свой пистолет и выстрелил в дерзкого юнца, осмелившегося так шутить в его присутствии. Парню посчастливилось избежать пули, и он поспешил спрятаться за спины своих товарищей. – Ставьте лестницы! – скомандовал Хуан Дарьен. Монахи и монахини стояли в нерешительности; но пират с такой силой ударил одну из монахинь дубиной по голове, что та упала замертво. – Ну, марш за дело! – повторил он громовым голосом. – За мной! – воскликнул Хуан Дарьен. Несчастные пленники повиновались. Взвалив на плечи тяжелые лестницы, они побрели вслед за Хуаном Дарьеном. Защитники замка с ужасом смотрели на вереницу монахов и монашек, которые тащили лестницы для осады. – Огонь! – скомандовал губернатор. Никто из солдат не решился исполнить приказ. – Сжальтесь! Сжальтесь! – кричали несчастные, тащившие лестницы. – Сжальтесь! Ради бога не стреляйте, ведь нас силой заставили. Мы люди мирные, служители бога, Христовы невесты? – Вперед! Вперед! – кричали пираты, подгоняя их. Осаждающие подошли уже почти вплотную к подножию замка; монахини рыдали, монахи молили о пощаде. – Огонь! – твердым голосом повторил свой приказ губернатор. Испанские солдаты, поняв опасность, прицелились в наступавших, потом отвернулись и дали залп. Вспышки огня опоясали крепость, дым окутал зубчатые стены, и множество жертв упало наземь. Залп оказался роковым для наступающих: испуская жалобные вопли, раненые монахи и монахини корчились на земле от боли; оставшиеся невредимыми попытались бежать, но разъяренные пираты силой заставили их продолжать начатое дело. Стрельба не прекращалась, штурм велся по всем правилам: лестницы были приставлены к стенам, и пираты с неслыханной отвагой стали карабкаться вверх. На крепостном дворе и внутри замка закипел рукопашный бой. Губернатор дрался, как лев, то нападая, то отражая натиск противника, то бросаясь вперед, то отступая. Трусов в своих рядах он беспощадно убивал собственной рукой. Наконец, окруженный со всех сторон врагами, которые не могли скрыть своего восхищения мужеством испанца, он на мгновение опустил шпагу. Тут подоспел Джон Морган. – Просишь пощады? – крикнул он. – Никогда! – ответил испанец. – Лучше погибнуть с честью, как солдат, чем жить трусом. И он, не колеблясь, смело бросился на Моргана и его соратников. Но бой был неравен: сотня шпаг устремилась против него, и вскоре он упал, обливаясь кровью. Торжество было полным; овладев городом, пираты занялись грабежом. Морган и Хуан Дарьен выбрали для своего ночлега большой дом, и еще не успел рассеяться пороховой дым, как они уже спокойно сидели за столом и ужинали. День клонился к вечеру, а осада началась на рассвете. Какой роковой поворот в судьбе этого несчастного города всего за двенадцать часов времени!
X. ДОБРОМ ЗА ЗЛО
Город являл страшное зрелище: темные улицы, разбитые в щепы двери домов, обломки домашней утвари, там и тут кучки пьяных пиратов и их приспешников-отщепенцев из села, горланящих непристойные песни и обнимающих молодых девушек из знатнейших семейств города, а рядом, в лужах крови, трупы их отцов и братьев. Леденящая сердце картина кровавой вакханалии. Несколько пиратов подошли к просторному обезлюдевшему дому, они волокли за собой захваченных в плен женщин, среди них были и молодые монахини, случайно уцелевшие во время осады крепости. Пираты прихватили с собой из церкви толстые восковые свечи. – Здесь можно недурно устроиться на ночь, не так ли? – предложил один из пиратов. – Да, да, пошли в дом! – подхватили остальные. – Нашим милашкам больше невмочь разгуливать по городу, они устали. – Мы проведем эту ночь по-царски, что ты на это скажешь, крошка? – добавил другой, обращаясь к молодой девушке, которую он силком тащил за собой. Бедняжка не ответила ни слова; орава заполнила дом и принялась шарить по углам и закоулкам. Это было обширное, богато убранное жилище. Во всех покоях замелькали огни зажженных свечей; кто искал добычи, а кто – места, где поудобнее расположиться на ночь. Один из пиратов спустился в подвал и вскоре снова появился, волоча за собой женщину и сзывая товарищей; они вмиг откликнулись и окружили новую жертву. То была донья Марина. – Гляньте, что за красавица! – воскликнул пират. – Кто хочет получить ее? – Я уже себе выбрал, мне не надо, – ответил один. – И я нашел! И мне не надо! – раздались голоса. – А жаль, если на такую красотку не найдется охотника! – И впрямь жалко! – Как же быть? Пойдем поищем кого-нибудь из наших ребят… – Да все уже запаслись. – А знаешь, что мне пришло в голову? – Что? – Поручим нашим девушкам разодеть ее, как королеву, в пух и в прах и подарим завтра нашему адмиралу. – Превосходная мысль! Ну, а если ему уже приглянулась другая? – Так завтра он нас поблагодарит за эту. – Ладно. А пока что куда ее девать? – Получше спрятать и запереть на всю ночь.Сопровождаемый Хосе-рыбаком дон Диего отправился на поиски жены и дочери. Он проходил мимо несчастных молодых женщин, оказавшихся во власти победителей, и не узнавал их среди царившей сумятицы. Весь ужас положения предстал перед ним с потрясающей ясностью: почти ни одной молодой женщине не удалось избегнуть позорной участи; тщетно они рыдали и на коленях молили пощадить их, – пираты были непреклонны. Только благодаря уважению, которым Хосе-рыбак пользовался среди пиратов, дон Диего мог продолжать свои поиски; однако все его усилия оказались бесплодными. Спустя три часа, проведенных среди горестных сцен, дон Диего, отчаявшись найти донью Марину, вышел из замка. Жалкая старуха с раненой рукой сидела на пороге своей лачуги. – Какой ужас! – воскликнула она, узнав дона Диего. – Господь бог обрушил на нас свой гнев. Несчастье сближает людей, ломая все сословные перегородки. Дон Диего и нищая старуха чувствовали себя родными в этом водовороте бедствий. – Сеньора, – обратился к ней дон Диего, – есть ли на свете человек несчастнее меня? Я потерял дочь и жену! – А я потеряла своего единственного сына, его убили эти звери. Ваша супруга тоже погибла? – Лучше ей было бы погибнуть! Я нигде не найду ее и схожу с ума при мысли, что она попала в лапы этих варваров. – В замке искали? – Да, сеньора. – Так, может, ей удалось бежать. Меня ранило в самом начале осады, вот почему я здесь застряла. Когда крепость сдалась, множество женщин с детьми убежали в лес; никто не бросился за ними вдогонку, и они спаслись; может, и ваша супруга с дочерью оказались среди этих счастливиц. – А кроме этих женщин, никто не вышел из крепости? – Никто. Будьте уверены, ваша семья либо осталась в крепости, либо бежала с остальными в лес. – В крепости их нет. – Так ищите в лесу. – В какую сторону они бежали? – Вот сюда, направо, – сказала старуха, указывая на темневший невдалеке лес. – Попытаюсь найти их. – Да поможет вам бог. – Хотите, пойдем вместе? – О нет, благодарю вас! Я ищу труп моего сына, чтобы умереть рядом с ним; мне уж недолго осталось жить. – Так прощайте, и да ниспошлет вам господь утешение. – Храни вас бог. Дон Диего быстро зашагал в ту сторону, куда указала ему старуха. Поднимаясь в гору, он услышал частый огонь в крепости, которую защищал губернатор. Он оглянулся: среди густых клубов дыма над зубчатой башней реял испанский флаг, а внизу, у подножия крепостных стен, с дьявольской смелостью шли на приступ пираты. Дон Диего подумал о губернаторе, о солдатах гарнизона, об их семьях, укрывшихся в крепости, и с тяжким вздохом прошептал: – Им нет спасения! Продолжая путь, он углубился в лес; позади все глуше грохотали пушки, и наконец все смолкло. В чаще леса не было ни дорог, ни тропинок. Дон Диего то и дело останавливался, оглядываясь по сторонам, и приходил в отчаяние при мысли, что, может быть, сбился с верного пути; меж тем беспомощным беглянкам грозит голодная смерть в этом безлюдье. Задумчиво шагал он по лесным холмам и пригоркам. День угасал, когда дон Диего вдруг услышал, что его зовут по имени. Он остановился, увидел женщину и поспешил к ней навстречу. То была одна из самых именитых дам города; одежда висела на ней лохмотьями, лицо было в ссадинах от колючек и веток, волосы всклокочены. – Слава богу, вам удалось спастись, сеньор, – сказала она, – а где же донья Марина? – Не знаю, сеньора, – ответил дон Диего, – я повсюду разыскиваю жену и дочь, но пока мне еще не удалось набрести на их след. – Боже мой! Что же с ней случилось? – Вы, может, видели их, сеньора? – Как же. Когда пираты осадили замок, нам удалось открыть ворота, выходившие в поле, и бежать. Донья Марина и малютка Леонора были с нами; когда мы достигли леса, ваша жена передала на мое попечение дочь, а сама, несмотря на все мои уговоры, вернулась в крепость, чтобы найти вас. – Так моя дочь здесь? – Да, вместе со мной; мы кое-как добрались до этого места, оно показалось нам надежным убежищем, да у нас и не было сил идти дальше, мы вконец измучились от усталости и голода. – И вы ничего с тех пор не ели? – Ничего. Мы здесь одни. Ну, могут ли женщины раздобыть себе в лесу пищу? Мы видели здесь быков, но как справиться с ними? Дон Диего не знал, на что решиться. – Боже мой! – воскликнул он. – Что делать? Моя дочь здесь, умирает с голоду вместе с бедными беглянками. Марина бесследно исчезла. Боже, научи меня!.. Бросить дочь на произвол судьбы? Невозможно. Бросить жену? Ни за что!.. Взять дочь с собой и снова подвергнуть ее смертельной опасности? Да и чем ее кормить по дороге? А что, если мы заблудимся в лесу. Боже мой, боже мой! Индиано поник головой, руки его безжизненно повисли. – Послушайте, – сказала женщина, – есть у вас с собой оружие? – Никакого, – ответил дон Диего, – а что вы задумали? – Мы слышали поблизости рев быков; убейте одного, и мы обеспечены пищей. Я позабочусь о вашей дочери, а вы вернетесь на поиски доньи Марины.
XI. ОХОТА НА БЫКА
Дон Диего, не отвечая, молча последовал за женщиной. Пройдя немного, они очутились в своего рода лагере амазонок. Спасаясь от пиратов, здесь нашли себе убежище женщины всевозможных сословий; лица их выражали муки голода и безнадежности. Дон Диего был встречен как неожиданный спаситель, все обступили его и принялись наперебой расспрашивать об оставшихся детях, братьях, мужьях. Но оказалось, что дон Диего не может ответить ни на один из вопросов. Беглянки пришли в отчаяние и умолкли. – Сеньоры, – сказала молодая женщина, которая привела дона Диего, – кабальеро разыскивает свою супругу донью Марину; к счастью, он смог обнять здесь свою дочь. Я обещала ему позаботиться о девочке, пока он будет искать донью Марину; но я умолила его прежде помочь нам в горе и убить быка, ведь иначе мы все умрем с голоду. – Да, да! – хором подхватили женщины. – Но вот беда; у дона Диего нет никакого оружия, а без оружия… – У меня есть кинжал! – воскликнула одна из женщин. – Я берегла его для себя, предпочитая умереть, чем попасть в руки пиратов. – А теперь этот кинжал принесет нам не смерть, а жизнь. Отдайте же его дону Диего. Женщина протянула Индиано кинжал, отделанный серебром. – Достаточно ли вам этого оружия? – Вполне достаточно, чтобы справиться с быком или погибнуть. – Уже вечереет, – сказала проводница дона Диего, – надо поторопиться: скажите, можем ли мы помочь вам? – Еще бы! – ответил Индиано. – Постарайтесь выследить быка и дайте мне знать, как только его заметите. В остальном положитесь на меня. Но помните, держитесь поближе друг к другу, иначе в лесу можно заблудиться. – Отлично. – Так в путь. – Идемте, – ответили женщины хором и двинулись вперед; дон Диего с кинжалом в руке шел в сопровождении той сеньоры, которая вызвалась заменить маленькой Леоноре мать; она несла малютку на руках. Некоторое время все шли молча; вокруг царила тишина, только трава шуршала под их ногами. Индиано обдумывал план охоты на тот случай, если им в самом деле попадется бык. Хорошо, если зверь пойдет прямо на охотника, но как настичь его, если он испугается и обратится в бегство? Так размышлял дон Диего и вдруг почувствовал, что его тронули за плечо. – Мы видели быка, – сказала одна из женщин. – Где? – Неподалеку отсюда; мы следили за каждым его движением. – Ведите меня к нему, – сказал дон Диего. Вскоре они очутились на маленькой лужайке, окруженной деревьями, где в сгущавшихся сумерках увидели могучего быка, мирно щипавшего траву. Дон Диего обошел животное и стал осторожно к нему подкрадываться, стараясь не привлечь его внимания. Бык не почувствовал приближения врага, здесь, в лесу, еще никто не дерзал помериться с ним силами. Индиано был уже совсем близко, когда бык поднял голову и увидел противника. Не собираясь отступать, он приготовился к защите. Дон Диего бесстрашно бросился на быка, но тот, пригнув голову, встретил нападающего длинными и острыми, как клинок, рогами и вмиг сам перешел в наступление. Индиано ловко увернулся от удара и, ухватившись одной рукой за рог животного, принялся наносить ему раны кинжалом. Бой был неравен: бык обладает огромной силой по сравнению с человеком. И все же отважный охотник, увертываясь от ударов быка, продолжал колоть его кинжалом. Израненный бык попытался спастись бегством; но дон Диего решил во что бы то ни стало удержать его. Воткнув ему кинжал в бок, он обеими руками ухватился за грозные рога. Бык сделал попытку стряхнуть с себя человека, но тот всей своей тяжестью повис на животном, твердо решив овладеть добычей. Однако на стороне быка была сила, и он потащил человека в глубь леса сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее. Вконец измученный дон Диего уже собирался разжать руки, как вдруг почувствовал, что бык зашатался. Как осиный рой, накинулись на него женщины; одни силились связать кушаком его ноги и свалить наземь, другие били его камнями и дубинами. Индиано вытащил кинжал, все еще торчавший в ребрах быка, и нанес животному смертельный удар. Женщины, среди которых многие еще накануне пренебрегли бы самыми изысканными блюдами, закричали от радости при виде упавшего быка: наконец-то у них будет мясо! Тушу вмиг разделали. Словно по волшебству загорелись вокруг костры, и изголодавшиеся беглянки с жадностью набросились на полусырое, кое-как сваренное мясо! – Сеньоры, – сказал дон Диего, – я исполнил обещанное и ухожу разыскивать жену. Позаботьтесь же о моей дочурке. Нежно поцеловав малютку Леонору, отец исчез среди деревьев. Стояла темная, безлунная ночь. Не зная верной дороги, дон Диего шел наугад. На его пути возникали неожиданные препятствия: то многоводный поток, то глубокий овраг, то каменистая гряда холмов. А дон Диего все шел и шел, со страхом замечая, что силы покидают его. Часы летели с ужасающей быстротой; каждая потерянная минута могла оказаться гибельной для доньи Марины, которая – он был уверен – находилась во власти пиратов. По временам им овладевали тягостные предчувствия, он был близок к тому, чтобы в припадке, мрачного отчаяния покончить с собой. Всю ночь напролет пробирался дон Диего сквозь лесные дебри без малейшей уверенности, что идет по верному пути и приближается к своей цели. Когда занялась заря, последние силы покинули его: сбитые в кровь ноги подкашивались, во рту пересохло. Задыхаясь от усталости и отчаяния, он замертво упал у подножия дерева. Здесь он дождется своего конца. Флотилия Моргана стояла в порту Наос на попечении надежных людей, получивших приказ сняться с якоря и идти в Портобело на следующий же день после выступления пиратов в поход. Приказ был выполнен в точности, и когда суда вошли в бухту Портобело, в городе еще гремели пушечные выстрелы из крепости, которую защищал испанский губернатор. В ночь одержанной победы большинство матросов сошло на берег, и донья Ана де Кастрехон, пленница на борту флагманского судна, осталась под охраной всего лишь нескольких человек, стоявших на вахте. Морган и Хуан Дарьен встретили Антонио, как пираты звали дона Энрике, со знаками глубокого уважения и ни словом не обмолвились о злых наветах доньи Аны. Решено было той же ночью устроить облаву в ближайшем лесу, чтобы захватить беглецов; Железная Рука был назначен губернатором взятой крепости. На другой день ранним утром Морган еще спал, когда с улицы до него донесся шум, дверь его дома распахнулась, и на пороге показались пираты с носилками, на которых сидела донья Марина, одетая с царской роскошью. – Что это значит? – спросил адмирал. – Сеньор, – ответил пират, взявший на себя роль старшего, – вот первая красавица в городе, примите этот дар в знак нашей любви и уважения. Как завороженный, остановился Морган перед доньей Мариной; привыкнув к облику северных женщин, он был покорен волшебным обаянием южной красоты. Мягкий блеск черных глаз, смуглый оттенок атласной кожи, темные кольца волос, – все пленяло его и влекло к себе с неотразимой силой. – О, это поистине царский подарок! – воскликнул он. – Эта женщина не создана для минутной забавы. Принимаю ее как супругу из рук моих отважных и преданных соратников. Отнесите же сеньору с почетом на борт корабля, здесь ей невозможно оставаться; мы вот-вот выходим в море. Проводив красавицу, возвращайтесь, чтобы скорее закончить сборы в путь. – Да здравствует наш адмирал! – крикнул один из пиратов. – Да здравствует! – подхватили остальные. Покинув дом Моргана, шествие с носилками направилось в порт. Донья Марина не проронила ни слова, казалось, она потеряла рассудок. Матросы отвязали шлюпку, и четыре пирата вместе с носилками вошли в нее. – На флагман, – сказал один из них, обращаясь к гребцам. – Постой-ка, – остановил его матрос, – тут надо подумать. – О чем! – Да ведь я как раз с флагмана, там адмирала уже дожидается одна красотка, он отправил ее на бот корабля как раз в ту ночь, когда повел наших на Портобело. – Ну, и что же? Разве это помеха? – А вдруг он рассердится? – Да ведь он ничего не говорил нам о той, другой. – Может,просто забыл… и наконец, он велел нам проводить вторую красотку, а на какой корабль – не сказал. – Так давайте отправим ее на «Венеру», где капитаном тот, другой, родом из Кампече. – Вот это дело. Гребцы налегли на весла, и шлюпка понеслась к «Венере». Носилки с драгоценным грузом бережно подняли на борт, теперь оставалось только ждать адмирала. Шлюпка снова вернулась на берег. Началась погрузка на суда людей вместе с добычей. К этому времени из леса вернулись пираты, ходившие на облаву.XII. ДВОЕ ОСИРОТЕВШИХ
Пираты, которые после облавы вернулись в крепость и предстали перед доном Энрике, нашли в лесу только двух беглецов: бедную женщину из поселка – ее дон Энрике велел тотчас отпустить на волю – и одного испанца, на которого дон Энрике пожелал взглянуть. – Как, это вы, дон Диего? – удивился дон Энрике при виде пленника, приведенного к нему в дом. – Да, дон Энрике! – ответил тот. – Несчастья преследуют меня. – Что же случилось? – Жены я не нашел; тщетно я ее разыскивал весь день и всю ночь; не знаю, где она и что с ней. Силы покинули меня, и вот я снова в плену! Велите меня убить. – Дон Диего, – возразил юноша, – я обещал освободить вас и вернуть вам супругу. Свое слово я сдержу. Дон Энрике встал и крикнул Хосе-рыбака, который повсюду следовал за ним. – Хосе, – сказал он, – многие из ваших людей живут в Портобело и, возможно, знают супругу дона Диего. Прошу вас, порасспросите их, может, они скажут, где ее найти. Хосе тотчас вышел. – Я надеюсь, – сказал дон Энрике, – что Хосе в скором времени принесет нам добрые вести. – Дай-то бог! – откликнулся Индиано. В порту продолжалась посадка; сперва погрузили добычу, потом стали переправлять людей. Близился час выхода в море, Хосе не возвращался, дон Диего ждал его в смертельной тревоге. Наконец Хосе пришел. – Ну, что? – спросили его одновременно дон Энрике и Индиано. – Я узнал, где находится сеньора. – Где же? – Вчера ночью ваши ребята нашли ее и, увидев, что она такая красавица, нарядили ее в богатый убор и на носилках отнесли в дар адмиралу Моргану. – Это ужасно! – воскликнул Индиано. – А что сделал Морган? – спросил дон Энрике. – Принял подарок, поблагодарил и велел отнести сеньору на борт своего корабля. – Все кончено! – в отчаянии прошептал Индиано. – Она навсегда потеряна! – Еще есть надежда, – сказал дон Энрике. – Подождите меня здесь, я пойду поговорю с адмиралом. Я дал вам слово и сдержу его. Дон Энрике поспешно взял шляпу и вышел, оставив дона Диего, в сердце которого отчаяние сменилось надеждой. Морган стоял на берегу, наблюдая за посадкой своих людей. Мысль о донье Марине не покидала адмирала. Он справился о ней у матросов, и те с привычной для них грубоватой откровенностью признались, что отнесли сеньору на борт «Венеры», ведь на флагмане адмирала поджидала другая женщина. Морган от души посмеялся столь мудрому решению своих соратников. Дон Энрике, не найдя Моргана на квартире, где он стоял, отправился на берег. – Ну что же, друг мой, – спросил его адмирал, – когда вы собираетесь поднять паруса? – Когда прикажете. Я пришел просить вас об одной милости. – Могу ли я отказать в чем-либо самому отважному из моих смельчаков? – ответил пират. – Говорите. – Сеньор, я прошу у вас свободы для той женщины, что находится на вашем корабле. При этом дон Энрике думал о донье Марине, а Морган, зная, что на борту флагмана находится донья Ана, понял, что именно ее освобождения добивается юноша, которого она оклеветала. – Вы просите освободить эту женщину? – Да, сеньор, я очень прошу вас об этом. – А вам известно, что она знает вас и ваше настоящее имя? – Да, сеньор, – ответил дон Энрике, не задумываясь над тем, каким образом это дошло до адмирала, – мы встречались прежде в Мексике. – И вам известно, что она ваш враг? – Как вы об этом узнали? – Это уж мое дело. Но вы-то знаете, что она ненавидит вас? – О да, сеньор! Она еще в Мексике относилась ко мне враждебно, вот потому-то я и хочу оказать ей эту услугу. В этом мое возмездие. – Значит, вы любите ее или любили прежде? – Когда-то я в самом деле любил ее. – А она отплатила вам неблагодарностью? – Да, черной неблагодарностью. – Я поражен вашим великодушием и приветствую его. Но скажите, почему бы вам теперь не оставить у себя эту женщину? – Я хочу отплатить ей добром за причиненное мне зло. – Отлично. Она свободна. – Благодарю вас, сеньор, благодарю вас. – Только подождите, пока не закончится погрузка на суда; потом ступайте вместе с Хуаном Дарьеном на «Венеру» и, когда услышите пушечный выстрел – сигнал к выходу в море, – велите послать шлюпку на флагман за дамой. – Благодарю вас, сеньор. Дон Энрике с легким сердцем вернулся к себе, где его ждал Индиано. – Дон Диего, – сказал он, – приготовьте лодку с четырьмя гребцами и, когда услышите пушечный выстрел, пошлите ее на флагман за вашей супругой. – Я сам поеду. – Нет. Вас, пожалуй, узнают, ведь вы защищали малый замок. Останьтесь лучше здесь, на берегу, чтобы наше дело не сорвалось. – Вы уверены, что адмирал сдержит свое слово? – Головой ручаюсь. Прощайте. Не забудьте о назначенной встрече. – Я помню. Дон Энрике вышел из дома и отправился на берег, где его уже поджидал Хуан Дарьен. Они сели в шлюпку. – Вы совершили благороднейший поступок, – сказал Хуан Дарьен. – Адмирал все рассказал мне. – Какой поступок? – удивился дон Энрике; он никак не думал, что эти люди обратят внимание на то, что он сделал для доньи Марины. – Ну как же! Добиваться свободы для женщины, которая и прежде-то была вашим врагом – не знаю точно, по какой причине, – и теперь продолжает свои козни против вас. – Что делать. Она попала в беду, надо помочь. – Может, вы еще не знаете всего. – А именно? – Она сказала, что, проникнув в город, вы донесли губернатору о нашей высадке на берег. – А что же вы?.. – Адмирал, зная вас, только посмеялся, а я, признаюсь, лег в дрейф и пошел за этой капитаншей. – Неужто она рассказывала обо мне такие вещи? – При этом она уверяла, что ваше настоящее имя… – Ну, договаривайте. – Дон Энрике Руис де Мендилуэта. Дон Энрике побледнел; ему стало не по себе при мысли, что благородное имя его предков будет произноситься в среде пиратов. – Это правда? – спросил Хуан Дарьен. – Я никому не даю права копаться в тайнах моей жизни, разве что жизнь мне уж очень прискучит. Для вас и всех остальных я здесь Антонио, охотник, известный под кличкой Железная Рука. Таково мое прозвище, оно дано мне не зря, и никому не советую проверять, заслужил ли я его. Дон Энрике говорил твердо и решительно; его слова звучали грозным предостережением. Хуан Дарьен это понял. – Вы правы, – сказал он, – в нашей среде тайны священны, а любопытство непростительно. Малейшая неосторожность – и погибла вся оснастка. Так покинем же эти воды и возьмем другой курс. Готово. Я дорожу вашей дружбой. – Я тоже. Мне по душе ваша смелость и откровенность. Дон Энрике протянул руку, и Хуан Дарьен с жаром пожал ее. Тут шлюпка подошла к «Венере», и оба они легко поднялись по трапу на борт. Немедленно был дан сигнал к отплытию: на флагмане показался белый дымок, грянул пушечный выстрел. – Пойдем ко мне и выпьем по стакану вина за благополучное путешествие, – предложил Хуан Дарьен. – Сейчас, но сперва я хочу увидеть то, что меня интересует. – Ага, освобождение вашей подопечной! Так я жду вас внизу. Золотое у вас сердце. Хуан Дарьен сошел вниз, а дон Энрике остался на палубе. Едва прогремел пушечный выстрел, как от берега отделилась шлюпка с шестью могучими гребцами и, словно летя над поверхностью океана, устремилась к флагману. С борта спустили трап, по которому сошла дама, встреченная гребцами с глубокой почтительностью. Шлюпка с той же стремительностью вернулась в порт, где ее поджидал дон Диего, окруженный женщинами. Флотилия Моргана при попутном ветре уже легко скользила по океану. Корабль удалялся, но дон Энрике не отрывал глаз от берега. Там происходило нечто непонятное. Лодка подошла к причалу, дон Диего, открыв объятия, бросился навстречу вышедшей женщине, но вместо того, чтобы нежно прижать ее к груди, как того ожидал дон Энрике, в ужасе попятился, а освобожденная пленница без чувств упала на руки подоспевших женщин. Дон Диего стремительно бросился к океану, но гребцы удержали его, и между ними завязалась отчаянная борьба. Дону Энрике не удалось увидеть развязки, ибо мачты ближайшего корабля заслонили на время землю. Когда же берег снова открылся перед его глазами, судно было уже далеко в море. Что произошло? Чем объяснить эту непонятную сцену? Дон Энрике терялся в догадках. – Антонио, – донесся до него голос пирата из Кампече, – вряд ли вы еще можете различить что-либо на суше. Пойдемте и выпьем за благополучное плавание. Дон Энрике задумчиво последовал за Хуаном Дарьеном. – Я вижу, – сказал тот, – все это здорово вас взволновало, пожалуй, зря вы ее отпустили. Черт подери, такой человек, как вы, заслуживает женской любви. Клянусь, на вашем месте я взял бы пример с адмирала. – А как поступил адмирал? – Очень просто: подхватил на суше газель, которой цены нет. Что перед ней наша «Венера» со всей своей добычей из Портобело! Красавица, да и только! Глаза как два солнца… – Впервые слышу. – Да она ведь здесь, на борту, ее подарили адмиралу наши ребята. – Как вы сказали? – испуганно переспросил дон Энрике, предчувствуя беду. – А вы разве не слыхали, что эту женщину притащили сюда на носилках для адмирала? – Слыхал, но ведь она вернулась на берег. – Боюсь, дружище, вы потеряли компас. На берег сошла та, что попала к нам в плен, когда мы высадились в бухте близ Портобело. Она нам тут невесть что наплела о вас. – Кто, донья Ана? – Не знаю, как ее зовут, только она не адмиральская газель. – А где же та, другая? – Та здесь. Идемте, взгляните на нее. В смятении, ничего не понимая, дон Энрике пошел следом за Хуаном Дарьеном и внезапно очутился перед женщиной, сидевшей неподалеку в кресле; занятый другими мыслями, он не заметил ее раньше. – Донья Марина! – воскликнул юноша. – Дон Энрике! – крикнула женщина, узнавшая его. – Попутного ветра! – пожелал им Хуан Дарьен. – Как видно, нашему молодцу знакомы все знамена противника. Оставив дона Энрике наедине с дамой, Хуан Дарьен отошел, напевая с детства знакомую песенку.Дон Диего с лихорадочным нетерпением ждал минуты, когда флотилия пиратов выйдет наконец в море. На его глазах закончились последние сборы, и от берега отошли последние шлюпки с людьми. У причала стояла наготове лодка с гребцами в ожидании сигнала. Наконец на флагмане грянул долгожданный пушечный выстрел. Нанятая доном Диего лодка устремилась по волнам к пиратскому судну, чтобы вернуть дону Диего честь и счастье его жизни. Дон Диего стоял, окруженный женщинами, и напряженно следил за каждым взмахом весел на лодке. Он трепетал при мысли, что Морган в последнюю минуту передумает, не сдержит своего слова и велит потопить лодку вместе с доньей Мариной. На благородство пиратов, рассуждал дон Диего, надеяться нечего. Женщины на берегу разделяли эти муки томительного ожидания, никто не решался произнести ни слова. – Лодка причалила! – сказал Индиано. – Спускают трап, – добавила одна из женщин. – А вот и донья Марина, – подхватили остальные, увидев, что с корабля в лодку сошла женщина. Лодка повернула назад, дон Диего готов был лететь ей навстречу. Наконец она причалила, женщина под вуалью прыгнула на песок. Дон Диего, раскрыв объятия, кинулся к ней навстречу и вдруг отпрянул с горестным криком. Он узнал донью Ану. – Это не моя жена, нет, нет! Меня обманули! Надо мной насмеялись! – кричал он. – Негодяи! – А донья Марина? – спросили перепуганную донью Ану женщины. – Кажется, она на другом судне, – ответила та. – Лучше смерть! – воскликнул дон Диего и бросился к океану. Гребцы угадали его намерение, и не успел он добежать до берега, как они схватили его. – Пустите, дайте мне умереть! – кричал Индиано. – Марина, моя жена, наложница пирата! Дайте же мне умереть, если вы не такие же низкие люди, как те! Но тщетно рвался дон Диего из крепких рук гребцов. Тем временем донья Ана обратилась к женщинам: – Вы что-нибудь знаете о доне Кристобале де Эстрада? – Он погиб в бою, – услышала она в ответ. Вскрикнув, донья Ана упала без чувств. Дон Диего утих и в мрачном молчании выслушивал уговоры женщин. Донья Ана, придя в себя, взглянула на дона Диего, потом склонилась к его ногам и прошептала: – Я так одинока. Будьте мне отцом, братом, защитником. Сохраните вашу жизнь ради дочери. И ради мщения! Взглянув на нее, дон Диего воскликнул: – Да, я буду жить, и мы отомстим!
XIII. НА БОРТУ КОРАБЛЯ
В донье Марине трудно было узнать наивную девушку, с которой мы познакомились в столице Новой Испании в те времена, когда она выражалась поэтическим языком патриархальных обитателей Мексики. Выйдя замуж, она в своем новом положении знатной дамы быстро освоила все тонкости европейской цивилизации. При виде доньи Марины рой ужасных мыслей закружился в голове дона Энрике. Несомненно, дон Диего сочтет себя умышленно обманутым и припишет дону Энрике этот коварный заговор; таким образом, благородный поступок, которым гордился юноша, превратится в воображении дона Диего в постыдный и низкий обман. – Итак, вы отомщены, дон Энрике, – прервала наконец тягостное молчание донья Марина. – Сеньора, – ответил юноша, и голос его дрогнул. – Клянусь богом, я не способен на такой гнусный поступок. – Но чем же объяснить ваше присутствие среди этих людей, мой плен и те козни, которые – я чувствую – плетутся вокруг меня? – Сеньора, все говорит против меня. Но бог мне свидетель, что все произошло помимо моей воли, и вы можете рассчитывать на мою помощь. – На что мне теперь ваша помощь? Дон Диего погиб, дочь потеряна… – Вы ошибаетесь, сеньора; дон Диего жив и разыскал свою дочь… – Дон Диего жив? И дочь моя жива?! – воскликнула, поднимаясь, донья Марина. – Ах, прошу вас, повторите еще раз эти слова. Но не надо меня обманывать, не надо. – Дон Диего жив; я говорил с ним и от него знаю, что ваша дочь тоже жива. – Так почему же вы были так жестоки и скрыли от него, где я нахожусь? – Сеньора, судьба нас преследует, она зло насмеялась над нами. Я обещал вашему супругу добиться вашего освобождения, вернуть ему вас. Мне удалось уговорить Моргана отпустить вас; но по какой-то роковой ошибке, которая до сих пор остается для меня загадкой, другая женщина, пленница с флагманского корабля, была освобождена вместо вас. – Боже мой! Что же теперь будет? – С борта нашего судна я наблюдал сцену, происшедшую на берегу между этой женщиной и вашим супругом: он бросился к ней навстречу, уверенный, что это вы… – Несчастный! – Понимаете ли вы, сеньора, весь ужас происшедшего? Дон Диего, конечно, решил, – и не без оснований: ибо все говорит против меня, – что я обманул его, что я сыграл с ним злую шутку, а я, я готов был своей жизнью заплатить за вашу свободу… – Разве вы больше не враг дону Диего? – Нет, нет, не думайте, донья Марина, что я могу забыть нанесенное мне жестокое оскорбление. Помните, какую шутку сыграл со мною ваш супруг в тот злополучный для меня день, когда вы давали бал в честь вице-короля? По милости дона Диего я потерял родину, имя – все в жизни. – Дон Энрике, как беспощадны ваши упреки в такое невыносимо тягостное для меня время. – Сеньора, это не упреки, с моей стороны было бы слишком не по-рыцарски упрекать вас. Я только хотел сказать, что еще не рассчитался с вашим супругом; но этот долг чести я взыщу с него в другое время, а теперь, когда над вами и над ним нависла беда, вы можете всецело рассчитывать на мою поддержку и помощь. Слава богу, я оказался в трудную минуту поблизости от вас, и я вас спасу, хотя бы ценой собственной жизни. – У вас поистине золотое сердце. – Нет, нет, сеньора, это не так, я просто не могу идти против своей совести. – Скажите, вам известно, с каким намерением меня привели сюда? – Да, сеньора. – Итак, я во власти Моргана. Он надеется превратить меня в свою любовницу, в игрушку своих страстей. О, этот человек готов на все, лишь бы удовлетворить свои низкие желания. Когда меня на носилках принесли в его дом, я поняла, что настал мой последний час. Страха во мне не было, я считала дона Диего погибшим, мою малютку Леонору навсегда для меня потерянной, и я приготовилась умереть. Смотрите. Донья Марина выхватила из-за корсажа маленький кинжал с золотой рукояткой. – Этот кинжал, – продолжала она, – отравлен; яд приготовлен из сока растений, известных лишь нам, коренным обитателям Нового Света. Смерть наступает мгновенно. Я хотела умереть, потому что ни на что больше не надеялась. Но теперь я хочу жить, жить ради дочери и мужа. Не правда ли, я должна жить? – Конечно, вы должны жить, сеньора. – Но мне придется вести жестокую борьбу каждый день, каждый час, каждый миг. Преодолеть страх, страдания, устоять против силы, соблазна, может быть, против самой смерти. – Это верно. Вас ждут суровые испытания. – Я ничего не страшусь, если вы обещаете помочь мне. – Я помогу вам, сеньора, хотя бы мне это стоило жизни. – Тогда у меня хватит сил выдержать все. Мне надо знать, что кто-то поддерживает меня, разделяет мои страдания, а если мне придется умереть, расскажет дону Диего и Леоноре, на какие муки я пошла ради них. – Так будьте мужественны до конца, сеньора. – Вы думаете, что у меня недостанет сил, что я уступлю? – Никогда. Я только опасаюсь, что в минуту отчаяния вы обратите против себя это страшное оружие. – Вы правы, – сказала донья Марина и кинула кинжал в волны. – Что вы сделали! – воскликнул дон Энрике. – Кто знает, пожалуй, я не выдержала бы испытания и покончила бы с собой. А я хочу жить, жить. У меня должно хватить сил, а если я не выдержу, значит, борьба оказалась неравной. Но я не покончу с собой, нет. – Положитесь на провидение, донья Марина, оно даст вам силы, и, наконец, доверьтесь мне, я буду вашей поддержкой. – Бог свидетель вашего обещания! – И я исполню его. Подошедший в этот момент Хуан Дарьен прервал их разговор. – Будь я проклят, если вам не знакомы все женщины этой страны, – сказал он. – Вы с таким жаром ведете беседу, словно вас связывают с сеньорой необыкновенно важные дела. – Эта дама, – ответил дон Энрике, – супруга моего близкого друга, вот почему я принимаю в ней участие. – Совершенно верно, – подтвердила донья Марина, несколько успокоенная после разговора с доном Энрике, – сеньор – друг моего мужа. – Я хочу добиться ее освобождения, – сказал дон Энрике, – и надеюсь на вашу дружескую помощь. – Боюсь, что тут вы потерпите поражение: сердце адмирала основательно село на мель или, вернее, пошло ко дну из-за этих черных глаз. Не так-то просто снова поднять его на воду. – Но мы все же попытаемся, правда? – сказал Энрике. – Что ж, я готов, но ежели адмирал ляжет в дрейф и даст бортовой залп по нашей посудине, мы как пить дать пойдем ко дну… – Кто знает, может, он уже позабыл о сеньоре, раз до сих пор не удосужился за ней прислать. – И не надейтесь, вот увидите, скоро он сам за ней явится. – Надеюсь на бога и на вашу помощь. Флотилии предстояло подойти к берегу, чтобы получить контрибуцию от губернатора Панамы. Объясним, почему испанский губернатор посылал пирату так называемую военную дань. Когда Морган овладел городом Портобело, он отрядил в Панаму двух пленных, наказав им собрать выкуп в сто тысяч реалов, в противном случае пират грозился сжечь Панаму дотла. Узнав о высадке пиратов, губернатор Панамы немедля выступил с войсками в поход; он надеялся, что гарнизон отстоит крепость, а его помощь сведется к преследованию и разгрому отступающего противника; вместо этого люди Моргана преградили ему путь в горном ущелье. Разъяренный губернатор пригрозил пирату беспощадной войной, но пират лишь посмеялся над его угрозами и продолжал настаивать на уплате ста тысяч реалов, которые по тем временам назывались «военной данью». Торговцы и землевладельцы сложились, чтобы откупиться от Моргана. Деньги договорились вручить пиратам на побережье. Дул попутный ветер, и вскоре после полудня пиратская флотилия достигла назначенного места; посланцы адмирала подошли на шлюпке к берегу, чтобы получить обещанный выкуп. Тем временем Морган на другой шлюпке отправился на «Венеру» за своей пленницей. Донья Марина решила проявить на первых порах покорность. Для победы над пиратом надо было вооружиться не только силой духа, но и хитростью. В ее положении, кроме мужества, требовалась осмотрительность, от обороны ей предстояло со временем перейти к наступлению. Она задумала, не прибегая к крайностям, приобрести власть над сердцем этого человека, а чтобы добиться такой власти, нужно было внушить ему то глубокое и чистое чувство, ту истинную любовь, которая возвышает душу и торжествует над плотским вожделением. Удастся ли ей победить? Сердце подсказывало, что такая победа возможна, но разум напоминал, что она решительно ничего не знает ни о прежней жизни пирата, ни об его нраве. Донья Марина захотела очистить душу пирата, подготовить ее к жертве, зажечь в ней пламя той высокой страсти, которая приводит к самоотречению; она задумала очистительным огнем облагородить сердце Моргана, превратить его греховные намерения в добродетельные. – Подошла шлюпка адмирала, – сказал дон Энрике, – как прикажете мне поступить, сеньора? Желаете ли вы, чтобы я поговорил с ним? – Нет, дон Энрике, – спокойно ответила донья Марина, – предоставьте все мне, у меня есть план. Что бы вы ни услыхали, ничему не верьте и не сомневайтесь во мне. Не судите по внешним обстоятельствам, не покидайте меня, будьте настороже. Если услышите, что против меня замышляется зло, сообщите мне. Вот и все. Когда мне понадобится ваша помощь, я позову вас; а пока сделайте вид, будто моя участь вам совсем безразлична. Но главное, еще раз прошу, – не доверяйтесь видимости и не судите меня по ней. Морган был уже на борту «Венеры» и в сопровождении Хуана Дарьена направлялся к Марине. Молодая женщина сняла с себя все драгоценности, которыми ее украсили в ту злополучную ночь, и постаралась придать своему наряду как можно более простой и скромный вид. – Бог да хранит вас, красавица, – сказал Морган, протягивая ей руку, – я пришел, чтобы проводить вас на мой корабль, где вы будете жить королевой. – Сеньор, – ответила донья Марина, – близ вас я могу быть лишь вашей рабыней. Я ваша пленница, ваша военная добыча, располагайте же мною по своей прихоти; если желаете, можете бросить меня за борт, как негодный груз, – я целиком в вашей власти. Морган с восхищением внимал словам доньи Марины; ее красота заворожила его, кроткий и нежный голос, исполненный печальной покорности, пробудил в его сердце неведомое дотоле чувство. Еще ни к одной женщине в мире пират не испытывал этой робкой почтительности, которая не позволяла ему ни обнять ее, ни приказать ей следовать за ним. Такое явление можно наблюдать часто: самый суровый и беспощадный человек, чье закаленное сердце бесстрашно встретит любую опасность, чье мужество не дрогнет даже перед смертельной угрозой, легче других поддается очарованию и власти любви. Близ слабой женщины он вдруг робеет, превращается в безвольного ребенка. Донья Марина разгадала, что происходит в душе пирата, но не захотела воспользоваться своим мгновенным торжеством, таившим в себе тем больше опасности, чем покорнее казался адмирал в эту минуту. – Приказывайте, сеньор, – сказала она, – я готова, как послушная рабыня, последовать за вами. – Следуйте за мной, сеньора, – ответил Морган, – но не как рабыня, нет, а как моя владычица и королева. Пираты, приспешники Моргана, почтительно стояли в стороне, предоставляя адмиралу на свободе беседовать с его пленницей; когда же донья Марина встала и оперлась на руку адмирала, все приблизились. Морган бережно подвел донью Марину к трапу и помог ей спуститься в шлюпку. Дон Энрике украдкой наблюдал за всем происходившим. Проводив шлюпку долгим взглядом, он беззвучно прошептал: – Кто разгадает сердце женщины? Поднявшись на флагман, донья Марина призвала к себе на помощь небо: – Господи, не оставь меня своим милосердием!XIV. ПОЕДИНОК
Донья Марина произвела на Моргана чарующее впечатление; каждое слово, каждое движение молодой женщины таило в себе особую прелесть, он больше ни о чем не думал, только о ней, и чувствовал себя ее счастливым обладателем. Человеку непреклонной, железной воли в голову не приходило, что хрупкая женщина задумала отстоять себя одна, своими слабыми силами, на том самом корабле, где слово адмирала было законом для всех, где под его взглядом, бывало, бледнели испытанные судьбой искатели приключений. Меньше всего Морган ожидал встретить сопротивление со стороны доньи Марины, но именно за эту мысль, как за спасительный якорь, ухватилась молодая женщина. Морган и донья Марина поднялись на флагман. Стоял тихий день, легкий ветер веял над океаном, освежая знойный берег своим ласковым дыханием. Солнце закатилось за горы, окрасив пылающим отблеском облака на горизонте. Влюбленный пират впервые чувствовал себя поэтом. Моряк, для которого тучи, солнце и небо были всего лишь вестниками надвигающейся бури или благоприятного ветра, вдруг увидел несказанную красоту перламутровых облаков и темневших на горизонте горных вершин. Стоя рядом с доньей Мариной, он не решался с ней заговорить; наконец, сделав огромное усилие и преодолев робость, которая была ему внове, он обратился к донье Марине. Она молча слушала его. – Сеньора, – начал Морган, – можете ли вы объяснить, что со мной происходит? Стоило мне увидеть вас, и меня точно огнем обожгло. С тех пор как вы со мной, все вокруг стало таким прекрасным. Таких женщин, как вы, я еще не встречал в жизни. Ваши глаза сводят меня с ума. Стоит мне нечаянно коснуться вашей руки, как меня охватывает странная дрожь. Я хочу обнять вас и не решаюсь, робею перед вами, как мальчик. Толкуют, будто вы, женщины Нового Света, владеете приворотными средствами, они помогают вам привлекать мужчин; вы порабощаете волю, сердце, внушаете страсть, убиваете своей любовью. Уж не околдовали ли вы меня в самом деле? Почему я так внезапно полюбил вас и так нерешителен с вами? Почему я испытываю к вам то, что мне не доводилось испытывать ни к одной женщине? – Сеньор, женщины на моей родине вызывают любовь мужчин блеском своих темных глаз и пламенным взором, но больше всего своей любовью; наша любовь сильна, как любовь девственной могучей природы; но наши мужчины тоже любят нас так, как не умеют любить ни в одной стране, вот отчего они получают в любви высшее наслаждение: они ждут, пока душа женщины не будет охвачена истинной страстью, не смешивая желание с любовью, ибо у нас на родине душа сочетается с душой не ради минутного забвения и не за тем, чтобы утолить мгновенное желание, но для того, чтобы создать вечные и нерушимые узы, которые крепнут с каждым днем все больше и больше. Нам не надо ни колдовства, ни амулетов; нам нужна лишь любовь, настоящая любовь. – Сеньора, – ответил Морган, – прекрасные женщины всех стран всходили на мой корабль, чтобы подарить меня своей любовью, но я еще никогда не чувствовал к ним такого влечения, как к вам. Если вы и впрямь не прибегали к колдовству, то чем объяснить мое чувство к вам? – Адмирал! – воскликнула донья Марина. – Верите ли вы в бога? Морган был ошеломлен таким неожиданным вопросом, который, казалось ему, совсем не вязался с их беседой. – Скажите, – настаивала донья Марина, – верите ли вы в бога? – В бога? – Да, во всемогущего творца, который поднимает и успокаивает бури в морских просторах, проникает своим оком в недра земли и в тайники нашего сердца. Верите ли вы в бога? – Да разве моряк, живущий среди волн, ветров и бурь, может не верить в бога? Конечно, верю, сеньора, но почему вы об этом спрашиваете? – Я вас спрашиваю, ибо бог и только бог мог внушить вам уважение ко мне и обуздать страсть, сжигающую ваше сердце. Тот, кто с высоты взирает на все мои беды, посеял в вашей душе семена моего спасения. – Вы хотите этим сказать, сеньора, что никогда не полюбите меня? И никогда по доброй воле не будете моей? – Я хочу этим сказать, сеньор, что вы можете познать счастье, лишь заслужив мое ответное чувство, а не бросив меня к своим ногам, как рабыню, купленную на невольничьем рынке; это значит, что вы должны нежностью завоевать мое сердце и не искать во мне забавы для вашей мгновенно вспыхнувшей страсти; это значит, что вы должны поднять меня до любви к вам, а не унизить, превратив меня из женщины в рабыню; это означает, наконец, что вы впервые в жизни испытаете ту высшую духовную радость, которой вы доселе не знали, ту возвышенную любовь, которая все очищает и заставляет отказаться от оскверняющего душу сластолюбия. – А вы полюбите меня этой любовью? – Возможно. У вас большое благородное сердце, слава о ваших подвигах гремит повсюду, и, если бы вы, сеньор, полюбили меня так, как я того желаю, я боготворила бы вас. – Я не знаю большего счастья! – воскликнул Морган, обнимая донью Марину и пытаясь поцеловать ее. – Вы хотите, чтобы это случилось так скоро? – спросила она, мягко освобождаясь из его объятий. – Могу ли я так скоро полюбить вас? Могу ли по доброй воле, из любви согласиться принадлежать вам? О, повремените, повремените! Овладейте сперва моим сердцем, зажгите пламя любви в моей душе. Поверьте, наслаждение, ожидающее вас, вознаградит вас за ту небольшую жертву, которой я требую. – Но, сеньора, моя душа пылает, мое сердце рвется из груди, каждая минута мне кажется вечностью, я страдаю… – Тогда приказывайте. Я ваша раба, ваша покорная пленница. Но не ищите во мне женщину, в упоении любви отвечающую на ваши ласки; не ждите, что наши души сольются воедино; не надейтесь услышать из моих уст волшебные слова нежности; не ждите, что я назову вас «моя любовь», «моя радость», нет! Я готова на эту муку, но вы не услышите от вашей жертвы ничего, кроме горького стона и мольбы к богу покарать жестокого палача. Вы найдете во мне униженную, оскорбленную, растоптанную женщину, проклинающую и ненавидящую вас всеми силами своей души за то, что вы овладели ею силой… Выбирайте, сеньор, вы – господин, я – раба. – Сеньора! – воскликнул Морган, поднимаясь. – Вы не раба. Я не могу спокойно слушать эти слова, которых мне еще никто не говорил. Вы открыли передо мной небо, так неужто я сам закрою перед собой его врата? Я буду ждать и сделаю все, чтобы завоевать вас. Вы полюбите меня? – Научитесь терпению, сеньор, если желаете найти во мне женщину, а не рабыню. Тут к борту флагмана подошла шлюпка, вернувшаяся с берега. – Сеньора, – сказал Морган, – я покидаю вас с надеждой завоевать ваше сердце. – Храни вас бог. Я чувствую, что могу всей душой полюбить вас. Донья Марина с достоинством протянула пирату руку, и тот, почтительно поцеловав кончики ее пальцев, удалился, взволнованный. – Боже, благодарю тебя! – сказала донья Марина, поднимая глаза к небу. – Еще раз благодарю тебя. Ты не покинул меня. Флотилия снова вышла в море, унося с собой богатую «военную дань». Пираты держали курс на Ямайку, но по пути зашли на Кубу. Морган с каждым днем все больше влюблялся в донью Марину, и каждый день молодой женщине приходилось снова и снова давать бой пирату. Этот человек, не знавший в жизни ни помех, ни преград, тщетно добивался любви индианки; случалось, на него находили приступы ярости, и тогда он был способен на все, лишь бы покончить с той ролью, которую навязала ему молодая женщина. Но одно слово, один ласковый взгляд доньи Марины – и мятежное сердце пирата снова смирялось. Морган чувствовал себя пленным львом, попавшим в шелковые сети. По счастью для Марины, прибытие кораблей сперва на Кубу, потом на Ямайку, раздел добычи между участниками осады Портобело, расплата с английскими купцами на Ямайке и новые планы нападения на Маракайбо так сильно занимали адмирала, что у него едва хватало времени на любовь. Когда в промежутках между неотложными делами Морган спешил к своей прекрасной пленнице, он неизменно встречал такой ласковый и дружелюбный прием, что чувствовал себя обезоруженным. В свободные минуты Морган взволнованно слушал проникновенные рассказы молодой женщины о пережитых ею бедах, о родине и детстве, и, бывало, с отеческой нежностью ласково гладил ее руки. Так понемногу пират привыкал видеть в Марине свою дочь. Однажды при прощании она почтительно поцеловала руку пирата и тихонько шепнула: – Покойной ночи, мой отец! Морган быстро заглянул в глаза доньи Марины – они были влажны от слез. – Ваш отец? Вы называете меня отцом? – Да, сеньор, и простите, если я этим словом задела вас. Но вы так добры ко мне, так ласково и благородно ко мне относитесь, что я привыкла видеть в вас моего защитника и отца, мою опору во всех бедах. Это оскорбляет вас? – Нисколько, дочь моя! – растроганно ответил адмирал. – Нисколько! Сам не понимаю, что со мной творится. Я полюбил вас с первого взгляда и мечтал насладиться полным счастьем, как с одной из многих женщин, встречавшихся на моем пути. Но вот вы заговорили со мной, и в моей душе родилось желание завоевать ваше сердце. Шли дни, и страсть сменилась жалостью к вам, такой хрупкой и одинокой. Мне стало жаль вас, Марина, я понял, что вы боитесь меня, и вместо страсти появилась нежность. Я все еще люблю вас, моя плоть возмущается против моего духа, но я уже достаточно владею собой, чтобы почитать вас. Вы назвали меня вашим отцом и обезоружили меня. Донья Марина, вы будете для меня дочерью, я обещаю вам. Голубка, ищущая спасения под орлиным крылом, ты нашла верный приют! Ради тебя у меня достанет сил стать благородным и великодушным. Но будь осторожна в своих словах и поступках, ведь если я снова воспламенюсь, мне не удастся больше овладеть собой и тогда – горе тебе! С возгласом радости донья Марина склонилась к ногам адмирала, растроганно повторяя: – Отец мой! Отец мой!XV. РЕВНОСТЬ ЛЬВА
С этого дня жизнь доньи Марины на корабле стала легче, отношения с Морганом теснее и проще. Она рассказала ему, что в Портобело у нее осталась дочь, что муж тяжело переносит их разлуку и, может, еще надеется увидеться с женой, а может быть, считает ее навсегда для себя потерянной. – Ты очень любишь свою дочурку? – спросил Морган. – Сеньор, – ответила Марина, – я не в силах передать вам, как велика материнская любовь и как крепки священные узы, связывающие мать с ребенком. Ах, когда вы увидите мою Леонору, – а я надеюсь, что такой день настанет, – вы глазам своим не поверите – до того она мила и хороша собой! Я так ясно вижу ее рядом с нами! Я научу ее называть вас дедушкой, ведь вы мне настоящий отец; она взберется к вам на колени, станет играть эфесом вашей шпаги, цепочкой ваших часов, будет дергать вас за усы, за бороду. Я велю ей не приставать к вам, а вы станете меня бранить, – ведь в конце концов вы полюбите малышку больше, чем меня, вы разрешите ей делать все, что ей вздумается, и будете смеяться, глядя на прелестного невинного ребенка. Пират растроганно усмехался: ему рисовалась картина неведомых дотоле радостей. Он был еще молод, но в его сердце, отданном во власть бурных, жгучих страстей, порой закрадывалась тоска по мирным утехам зрелого возраста. Морган никогда не знал семьи; неожиданная мысль о дочери и внучке пришлась ему по душе. Он живо представлял себе все, о чем говорила донья Марина. – А ты думаешь, девчурка крепко полюбит меня? – Да Леонора полюбит вас больше, чем папу с мамой! Она будет хохотать и бить в ладоши, слушая, как ворчит старый моряк, перед которым трепещут его матросы, и ни чуточки не будет бояться своего милого дедушку. Ну, скажите – моя маленькая внучка, – весело произнесла Марина и ласково дернула пирата за бороду, словно он и в самом деле был ее родным отцом. Морган поцеловал ее точеную руку и сказал: – Ладно, – моя внучка. Право, ты делаешь со мной все, что захочешь; мы начали с того, что я добивался твоей любви, а кончили тем, что ты превратила меня в своего отца и в дедушку своей дочери, и вообще делаешь со мной все, что тебе вздумается. – Но признайтесь, что вы счастливы и что я доставила вам радости, которых вы до сих пор не знали. – Возможно, дочь моя. – Послушайте, сеньор, допустим, я согласилась бы стать вашей возлюбленной. Что получилось бы из этого? Еще одна женщина среди сотни других, которые доставили вам наслаждение, презренная женщина, быстро и навсегда позабытая вами после минутного опьянения. А теперь разве вы забудете меня? Разве смешаете мое имя с именами множества других женщин? И разве мои проклятья и слезы не присоединились бы к горестным стонам множества других женщин, к их слезам, которые по ночам тревожат ваш сон? С опустошенным сердцем вы равнодушно высадили бы меня где-нибудь на Кубе или Ямайке. А я, я была бы навсегда погибшей женщиной, и мне не осталось бы иного выхода, как предложить себя вашим морякам. Да, я сделалась бы проституткой, и, если бы смерть не сжалилась надо мной в молодости, мне пришлось бы на закате жизни нищенствовать, чтобы добыть себе пропитание. Моя дочь не знала бы своей несчастной матери и тоже проклинала бы вас. Ведь верно? – Верно, – согласился пират, помрачнев; ему вспомнились другие женщины, которых по его вине постигла эта жалкая участь. – А вместо всего этого я вас люблю и благословляю, как моего отца и спасителя; моя дочь станет вашей внучкой; сердце ваше переполнено чувством нежности, доселе вам незнакомой; вы испытываете блаженное и чистое счастье, которое нельзя купить ни за какие сокровища земные, – его может дать душе лишь добрый поступок. Не правда ли, вы довольны собой? – Да, дочь моя, да. – Одной возлюбленной меньше, сеньор, вот и все. Правда, она показалась вам сперва прекрасной, но, овладев ею, вы быстро пресытились бы доступной любовью. Взамен этого вы приобрели целую семью. – Что верно, то верно, – подтвердил растроганный Морган. Он уже, казалось, примирился с ролью нежного отца Марины. Меж тем дону Энрике лишь редко, да и то издалека удавалось видеть молодую женщину; но он знал, что она весела и довольна, а кроме того, она не призывала его на помощь, и юноша мог предположить одно из двух: или пират отказался от своих любовных притязаний, или же Марина удовлетворила их и счастлива. Сборы пиратов были закончены, флотилия готовилась выйти в море. Адмирал доверил дону Энрике командование «Отважным»; Хуан Дарьен стал вице-адмиралом. Как-то утром, перед тем как сняться с якоря, дону Энрике понадобилось взойти на флагман, чтобы повидаться с Морганом. Пирата на судне не оказалось; сидя одна на палубе, донья Марина смотрела вдаль. Дон Энрике подошел к ней. – О, дон Энрике! – обрадовалась молодая женщина. – Я вас как раз хотела видеть. – Я очень рад, что невольно угадал ваше желание, сеньора. Чем я могу быть вам полезен? – О, я просто хотела рассказать вам, что одержала победу и счастлива. – Вы, счастливы, сеньора? – Да. У адмирала большое, благородное сердце; он не только пощадил меня, но даже дал мне надежду, что когда мы подойдем к материку, я смогу вернуться к мужу и дочери. – Сеньора, вы творите чудеса. Поздравляю вас. Для меня это был вопрос чести, я только сожалею, что ничем не мог помочь вам. – Напротив, вы очень помогли мне, – мысль, что поблизости находится человек, который принимает во мне участие, придала мне мужества. – Так или иначе, сеньора, я еще раз подтверждаю свое обещание помочь вам. – Я рассчитываю на вас и в доказательство хочу сообщить вам мой план. Мы будем плыть на разных кораблях, не так ли? – Да, сеньора. – Вы на каком идете? – Я командую «Отважным», отсюда его хорошо видно. Мы его отбили у испанцев; приглядитесь к нему – на носу у него лев с короной. – Я запомню. Так вот, слушайте: во время плавания постарайтесь держаться поближе к нам и знайте: если я взмахну белым платком, значит, у меня все благополучно, красным – значит, я в опасности, а черным – значит, я в беде. – Хорошо, я постараюсь идти так, чтобы каждый день получать от вас вести. В знак того, что я вижу вас и понял ваше сообщение, я взмахну белым платком. – Прекрасно. А теперь ступайте, сейчас здесь будет адмирал. Морган в самом деле приближался. Дон Энрике отошел, но пират успел заметить, что Энрике ведет оживленный разговор с доньей Мариной. Ревнивое подозрение необычайно легко вспыхивает в сердце мужчины, вступившего в зрелый возраст; потеряв уверенность в собственных силах, он боится, что любимая женщина найдет себе по сердцу более молодого, и готов в каждом юноше видеть своего счастливого соперника. Он не верит в прочность своей победы, полагая, что женщина согласилась принадлежать ему то ли из страха, то ли из расчета, а втайне любит другого. Змея ревности ужалила сердце Моргана. Однако ему удалось сдержать себя. Скрывая, что происходит у него в душе, он с улыбкой обратился к дону Энрике: – Здорово, молодой капитан! Все ли у вас готово? – Все, – ответил дон Энрике, – моему кораблю не придется завидовать другим судам. – Значит, вы довольны? – Даже больше, чем вы можете предположить. Если человек встревожен, если им безраздельно владеет одна назойливая мысль, всякое случайно оброненное слово приобретает в его глазах особое значение. Когда дон Энрике сказал: «Больше, чем вы можете предположить», – Морган вздрогнул. – Меня это радует, – ответил он, стараясь сохранить спокойствие, – вы знаете, как я вас люблю. – Знаю, сеньор, вы для меня отец. – Как? – помрачнев, воскликнул пират, ив памяти его мгновенно возник недавний разговор с доньей Мариной. – Это значит, сеньор, что вы благоволите ко мне, как отец. – Не стоит говорить об этом, – ответил, спохватившись, Морган. – Прошу прощения, если мои слова задели вас, но я вам так признателен за ваше доброе отношение. Однако мне пора, ведь мы скоро выходим в море. – Да, ступайте. Дон Энрике повернулся, чтобы уйти, но адмирал его окликнул. Ему захотелось посмотреть на лица юноши и доньи Марины, когда они будут говорить друг с другом в его присутствии. – Слушаю сеньор, – сказал, возвращаясь, дон Энрике. – Я хочу познакомить вас с одной молодой женщиной, если только вы не были с ней знакомы ранее. – Мне кажется, я говорил вам, что познакомился с ней в Мексике. «Они знают друг друга и обманывают меня», – подумал Морган, а вслух произнес: – Так вам тем более следует подойти к ней. Я ее люблю больше, чем родную дочь. Они направились к донье Марине. Ни Марина, ни Энрике не подозревали, что происходит в эту минуту в душе адмирала. – Сеньора, – сказал Морган, – этот юноша, который был знаком с вами еще в Мексике, желает с вами проститься. Донья Марина церемонно поклонилась, дон Энрике учтиво произнес: – Припадаю к вашим стопам, сеньора. – Потом протянул руку пирату. – Прощайте, сеньор. – Прощайте, Антонио, – ответил Морган, пожимая руку юноше. Спускаясь по трапу в шлюпку, дон Энрике подумал: «Адмирал сегодня печален. Может быть, получены плохие вести?» А Морган меж тем говорил себе: «Притворщики! Как все ловко разыграно! Не слишком ли холодное прощанье для двух старых знакомых? Они задумали обмануть меня; но трудно провести старого морского волка!.. Я буду следить за ними. И тогда – горе им!» Дул попутный ветер, и адмирал отдал приказ выйти в море. В первый вечер плаванья Морган не заметил ничего особенного, хотя ни на минуту не спускал глаз с доньи Марины. Молодая женщина была по-прежнему весела, общительна, и мрачные мысли пирата понемногу рассеялись. В конце концов он решил, что ошибся, и стал упрекать себя в излишней подозрительности; чтобы загладить свою невольную вину, он удвоил внимание к Марине. На следующий день, повинуясь команде капитана, «Отважный» подошел так близко к флагману, что можно было переговариваться с одного судна на другое. Дул свежий ветер, небо было ясное, отчетливо различались фигуры людей на палубе. Морган задумчиво курил и смотрел на Марину, сидевшую невдалеке. Молодая женщина, погруженная в свои мысли, не замечала Моргана. Внезапно адмирал увидел, как Марина, подняв голову, устремила взгляд по направлению «Отважного»; подозрение вспыхнуло в нем с прежней силой, и он, отойдя, стал украдкой наблюдать, что будет дальше. Марина огляделась вокруг и, решив, что поблизости никого нет, взмахнула белым платком. Морган так и впился горящим взглядом в «Отважного»: в ответ дон Энрике – пират узнал его – тоже взмахнул белым платком. Итак, они договорились, это, несомненно, был сигнал или по крайней мере приветствие. Кровь бросилась в голову адмиралу, в глазах потемнело, в ушах загудел ураган; он покачнулся и, чтобы не упасть, ухватился за борт. Им овладело неодолимое желание с ножом броситься на Марину, заколоть ее, кинуть ее труп в море и, открыв огонь против «Отважного», пустить корабль ко дну со всей его командой; а потом поджечь порох в трюме своего флагмана и взорвать его на воздух. В один миг Морган превратился в разъяренного тигра, способного на любую жестокость. Но тело не пришло на помощь кровавым замыслам: потрясение оказалось настолько сильным, что он не смог с ним справиться, и после первой безумной вспышки его охватила слабость, глаза затуманились, мысли в голове помутились, он уронил голову на грудь и разрыдался. Каменное сердце дрогнуло, гнев и ярость уступили место простому человеческому горю, боль оказалась сильнее, чем жажда мести, и слезы хлынули из глаз пирата, спасительные слезы, облегчающие душу в те минуты, когда она переполнена нестерпимым страданием или безграничной радостью. В такой миг даже самый сильный человек может умереть или лишиться рассудка, если у него отнять способность плакать. Долго еще жгучие слезы струились по обветренному лицу адмирала, в голове не осталось ни одной светлой мысли, сердце было опустошено, мечты разбиты. Наконец, он гордо вскинул голову, вытер слезы и, тряхнув гривой, как лев, почуявший врага, грозно прорычал: – А я поверил ей! Она обманывала меня, презренная женщина играла моим сердцем. Но я поступлю с ней, как поступал с другими. Лишь бы мои люди ничего не узнали – то-то была бы для них потеха… Потом, приняв спокойный вид, он подошел к донье Марине. Молодая женщина рассеянно смотрела, как волны бьются о борт корабля. – Марина, – тихо окликнул ее пират. – Я вас слушаю, отец мой, – спокойно сказала Марина. – Мне надо поговорить с тобой. – Я всегда рада вас слушать. – Знаешь, – начал пират, оглядывая ее жадным взором, – знаешь, я не в силах сдержать данное тебе слово. – Какое слово? – Относиться к тебе, как к дочери. – Боже мой, но почему?! – воскликнула, бледнея, молодая женщина, взволнованная необычным видом адмирала. – Почему? – переспросил Морган, и глаза его загорелись. – Потому, что твоя красота сводит меня с ума, потому, что я не могу дольше владеть собой и, наконец, я ревную. – Ревнуете? Но к кому же? – Ни к кому и ко всем. Я ревную тебя при одной мысли, что вместо меня другой может завладеть твоей любовью. Тогда мне уже будет поздно каяться, что я по собственной вине потерял тебя. Лежа в объятиях другого, ты будешь расточать ему свои ласки и вместе с ним смеяться над моей глупостью. – Но, сеньор, чего вы можете достичь, раз моя любовь еще не принадлежит вам? – Марина, на что мне твоя любовь, раз ты будешь моей и я смогу делать с тобой все, что захочу. Не все ли мне равно, отдашься ли ты мне из любви или из страха, будешь ли ты принадлежать мне по доброй воле или уступишь силе. Лишь бы ты стала моей. А когда придет день и ты покинешь мой корабль, тебе уж не удастся посмеяться надо мной. Пресытившись, я расстанусь с тобой и снова почувствую себя свободным. А теперь, пойми, неутоленное желание сжигает меня. Хватит этой пытки, понимаешь? Такова моя воля, и она свершится, я привык к покорности, и горе тебе, если ты вздумаешь противиться моей воле! Пират был вне себя. Грудь его бурно вздымалась. Гнев, любовь, желание, ревность – все привычные мятежные страсти бушевали в его сердце, отражались в искаженных чертах лица, трепетали в голосе. – Сеньор, – прошептала перепуганная Марина, – а радость души, а любовь духовная?.. – Молчи, не говори мне об этом. Я понял, что вечная борьба между телом и духом – сущий ад. Такая любовь не дает ничего, кроме горьких сомнений и отчаяния, она сжигает человека, на медленном огне иссушает его сердце. Нет, нет, я не желаю тебя слушать, твои слова – обман, колдовство, отрава. Я чувствую, как пламя пожирает мои внутренности, я должен погасить его наслаждением. Ты будешь моей, как были моими все другие женщины, ты должна успокоить жар, возбужденный твоей красотой. – Сеньор, ради бога! – Слышишь, отныне ты моя, я больше не желаю мучиться. Ты будешь… моей возлюбленной, пока не надоешь мне. – Никогда! – с яростным мужеством воскликнула Марина. – Никогда! – Никогда, змея? Никогда? Уж не думаешь ли ты, что, ужалив меня в сердце, отравив его своим ядом, ты выскользнешь из моих рук? – Тысячу раз предпочитаю умереть, чем быть твоей хоть на один миг. – Это мы еще увидим, высокомерная индианка. Я сумею превратить тебя из гордой орлицы в кроткую голубку. Я тебя заставлю на коленях приползти и умолять меня о любви и ласке. Ты так настрадаешься, что моя любовь станет для тебя желаннее рая. А потом, когда я упьюсь твоей красотой и мне приглянется другая женщина, я брошу тебя на первом же острове, который встретится на нашем пути, и ты слезами омоешь свою вину, свой обман и непокорность. – Лучше смерть, презренный человек! – воскликнула донья Марина, гордо закинув свою прекрасную голову и гневно сверкая глазами. – Лучше смерть. Если тебе удавалось подчинять твоим низким страстям других женщин, значит, они малодушно страшились смерти. Но я, я навсегда освобожусь от твоего ненавистного присутствия… С этими словами донья Марина рванулась вперед, чтобы броситься в море; но, прежде чем ей удалось осуществить свое намерение, могучая рука пирата остановила ее. Завязалась яростная борьба, адмирал с трудом удерживал молодую женщину, – отчаяние удесятерило ее силы. Морган кликнул на помощь двух матросов. – Связать и бросить ее в трюм, – приказал рассвирепевший адмирал. Не прошло и двух минут, как приказ его был выполнен.XVI. ИСПЫТАНИЕ
С этого дня сердце Моргана ожесточилось. Запертая в грязном трюме, не видя никого, кроме матроса, приносившего ей ломоть хлеба и кружку воды, лишенная свежего воздуха и света, несчастная Марина стойко переносила все страдания. Трюм кишел огромными крысами, которые чуть ли не из рук вырывали у нее скудную пищу, кусали ее, рвали на ней одежду. Невозможно было даже уснуть; стоило ей прилечь, как омерзительные животные нападали на нее, пробегали по ее лицу и своими холодными лапами приводили в содрогание бедную узницу. Зловонный воздух трюма был для нее не меньшей пыткой. Так прошла неделя, а Морган ни разу не появился в этой плавучей тюрьме, которая была в тысячу раз ужаснее любой темницы на суше. Наконец наступил день, когда адмирал решил проведать свою жертву. Полагая, что страдания сломили ее, он спустился вниз. За эти несколько дней платье молодой женщины превратилось в лохмотья; грязные волосы были всклокочены, лицо побледнело и осунулось, помутившийся взор горел мрачным огнем. Чувство жалости шевельнулось в сердце пирата, когда он с фонарем в руке вошел в трюм. Донья Марина при виде его забилась в угол, ей стало и страшно и стыдно. – Надеюсь, ты раскаялась в своем упорстве, не так ли? Донья Марина не отвечала. – Говори, – продолжал Морган, – говори, ты раскаялась? Хочешь выйти отсюда? Молчание вместо ответа. – Не бойся, подойди. Ты меня больше не привлекаешь, за неделю от твоей красоты не осталось и следа. Повстречайся ты мне такой с самого начала, я не взглянул бы на тебя. Но хоть один день, а ты будешь моей, для меня это вопрос чести, самолюбия; пусть никто не посмеет сказать, что Морган-пират не добился своей цели. Поразмысли, Марина, и согласись. Всего один день, и я отпущу тебя на волю, осыпав золотом. А нет, так останешься в трюме, пока не сгниешь, пока тебя не выкинут за борт. Вместе с тобой я похороню на дне океана тайну своего поражения. Говори, будешь моей? – Никогда, чудовище! Ступай отсюда прочь, дай мне спокойно умереть, не отравляй своим видом моих последних дней; я горжусь тем, что никогда не была и не буду твоей, умру, проклиная твое имя, и до самой смерти тебя будет грызть досада, что ты так и не овладел мной. – Марина! Марина! Не искушай моего терпения, берегись моего гнева. – Твоего гнева? Ты мне не страшен, я презираю тебя. Думаешь, я боюсь смерти? Ошибаешься, пират, гнусный насильник, разбойник, еретик! Убей же меня, убей! Пускай твои трусливые приспешники боятся тебя, пускай они трепещут и бледнеют перед тобой, не смея взглянуть в глаза смерти. Я презираю тебя и бросаю тебе вызов, слышишь! Бросаю тебе вызов, презренный пират! Адмирал выхватил нож и кинулся на Марину, а та бросилась навстречу и подставила клинку свою обнаженную грудь. Огромным усилием воли адмирал овладел собой и отступил. – Видишь, видишь! – воскликнула донья Марина, вне себя. – Ты дрожишь, ты не решаешься убить меня. Ведь ты умеешь убивать только трусов, таких же трусов, как ты сам… Ударь меня ножом, я не боюсь тебя, я тебя презираю. Пират зарычал и, не в силах долее владеть собой, кинулся прочь из трюма; вдогонку ему раздался громкий смех Марины.
В мрачном молчании пират вышел на палубу; пережитая сцена произвела на него тягостное впечатление.
В тот же день в трюме появились два матроса; без единого слова они вывели донью Марину наверх и заперли в каюте.
Морган испугался, что его жертва погибнет в трюме прежде, чем он удовлетворит свою прихоть. Нет, он не желал ее смерти, он жаждал, утолив свой каприз, прогнать ее прочь со своих глаз. Вернется ли она потом к мужу или погибнет на дне океана – не все ли ему равно, лишь бы одержать победу над строптивицей.
Между тем после приступа ярости и отчаяния в сердце Марины проснулось страстное желание бороться против судьбы и сохранить жизнь. Она вдруг поверила в свое спасение. Только крайность заставит ее пойти на самоубийство.
Смерть – последнее и верное прибежище. Если она потеряет надежду спасти свою честь, она доведет пирата до бешенства и умрет от его руки или бросится в море. А пока надо бороться, да, бороться и сохранить жизнь ради дочери, – ведь она чувствовала в себе достаточно мужества и сил для борьбы.
Пират зарычал и, не в силах долее владеть собой, кинулся прочь из трюма; вдогонку ему раздался громкий смех Марины.
В мрачном молчании пират вышел на палубу; пережитая сцена произвела на него тягостное впечатление.
В тот же день в трюме появились два матроса; без единого слова они вывели донью Марину наверх и заперли в каюте.
Морган испугался, что его жертва погибнет в трюме прежде, чем он удовлетворит свою прихоть. Нет, он не желал ее смерти, он жаждал, утолив свой каприз, прогнать ее прочь со своих глаз. Вернется ли она потом к мужу или погибнет на дне океана – не все ли ему равно, лишь бы одержать победу над строптивицей.
Между тем после приступа ярости и отчаяния в сердце Марины проснулось страстное желание бороться против судьбы и сохранить жизнь. Она вдруг поверила в свое спасение. Только крайность заставит ее пойти на самоубийство.
Смерть – последнее и верное прибежище. Если она потеряет надежду спасти свою честь, она доведет пирата до бешенства и умрет от его руки или бросится в море. А пока надо бороться, да, бороться и сохранить жизнь ради дочери, – ведь она чувствовала в себе достаточно мужества и сил для борьбы.
Покидая Ямайку, Морган получил от англичан значительную подмогу в виде корабля с тридцатью шестью пушками; губернатор острова желал обеспечить пирату успешное вторжение в испанские владения на Большой Земле. Капитан английского корабля, голландец по имени Бинкес, был давнишний друг Моргана. Они вместе выросли. Бинкес был единственным человеком, с которым Морган мог поделиться своим горем. Он рассказал другу все, что произошло между ним и доньей Мариной. – Ты любишь эту женщину? – спросил Бинкес. – Не думаю. Но я должен отомстить ей, а главное, я не желаю, чтобы она насмеялась надо мной. – Ты не мог сладить с ней? – Нет, это какая-то неукротимая воля. – Отдай ее мне, я укрощу строптивицу. – Но… – Раз ты ее не любишь и до сих пор ничего не смог добиться, отдай ее мне, и посмотрим… – Но она будет смеяться надо мной, решит, что одержала надо мной верх. – Послушай, Морган, я не видел этой женщины, но я знаю, ее надо убрать с твоих глаз. Право, из-за нее ты потеряешь свое мужество и несокрушимую отвагу. – Признаюсь, я последнее время сам не свой. – Боюсь, однако, что это средство не поможет. – Какое? – Передать ее мне. – Что ж, придется действовать силой. – Пожалуй, другого выхода нет. Завтра после обеда отправимся вместе к твоей упрямой пленнице, и увидишь, она покорится тебе. – Ты думаешь? – Беру все на себя. Мужайся и доверься мне. После этого разговора Морган заметно оживился и стал с нетерпением ожидать завтрашнего дня. Человек, встречающий на своем пути непреодолимые преграды, всегда надеется на какую-то неведомую таинственную силу, которая придет ему на помощь. Пират решил, что его друг владеет секретом покорять строптивых женщин. На другое утро английский корабль был расцвечен флагами, на борту его готовились устроить пир в ознаменование предстоящего нападения на город Маракайбо. Донья Марина, одинокая и отчаявшаяся, сидела под замком в каюте флагмана. Узнав о жестоких испытаниях, выпавших на долю молодой женщины, дон Энрике стал обдумывать план ее спасения. Он решил воспользоваться отсутствием Моргана, приглашенного на английский корабль, и поговорить с ней. В самом деле, началось пиршество, и морские разбойники, забыв обо всем на свете, отдались безудержному разгулу. Даже Морган и тот, очутившись среди своих соотечественников, на время отвлекся от мыслей о донье Марине. Пользуясь случаем, дон Энрике поспешил на флагман, где оставалось всего несколько дежурных; одни из них спали, другие не спускали глаз с палубы английского корабля, и никому не было дела до того, что происходило у них под носом. Дон Энрике подошел к флагману с противоположного борта таким образом, что корпус корабля прикрывал его от англичан. Никем не замеченный, он без помехи дошел до каюты, где сидела взаперти пленница адмирала. – Донья Марина, донья Марина! – прошептал он у двери. – Кто здесь? – откликнулась слабым голосом молодая женщина. – Ваш друг. Мне надо поговорить с вами. Подойдите к двери. – Ах, это вы, дон Энрике? – Да, меня тревожит ваша судьба. – Дон Энрике, мне приходится нелегко. Морган обрек меня на страдания, он задумал силой овладеть мной. – Но что случилось, почему он так изменился к вам? – Он ревнует. – Ревнует, но к кому же? – К вам. – Ко мне? – Да, к вам. Он изменился с того дня, как увидел нас вместе. Прежде такой добрый и ласковый, он стал жестоким и беспощадным. – Вы потеряли всякую надежду укротить его нрав? – Мне поможет только смерть. – Не отчаивайтесь. У меня созрел план. Вы будете жить. – Что вы задумали? – Бежать. – Бежать? Но как? – Я выжидаю случая переправить вас на мой корабль. Мы подымем паруса, тогда пусть гонится за нами хоть вся флотилия Моргана, «Отважный» быстроходнее всех других судов. – Да услышит вас бог! – Вместо бога услышал вас я! – прогремел позади дона Энрике чей-то голос. Юноша быстро обернулся и очутился лицом к лицу с Бинкесом, другом Моргана, и четырьмя английскими матросами. «Мы пропали!» – сказал себе дон Энрике. – Нечего сказать, хорош капитан! Замышляет похитить возлюбленную у своего адмирала! – проговорил Бинкес. – Сегодня же будешь висеть на мачте на потеху всей команде. Связать его! Не успел дон Энрике опомниться, как четверо английских моряков набросились на него и скрутили ему руки веревкой. – Теперь несите его на расправу к адмиралу. Получит по заслугам. Моряки потащили дона Энрике с флагмана в шлюпку, меж тем как пораженная команда корабля безмолвствовала, не зная, чем объяснить такое обращение с любимцем их адмирала. Донья Марина с ужасом прислушивалась к тому, что происходило на палубе, а когда англичане со своим пленником спустились в шлюпку, она упала на колени, моля бога о помощи. Расскажем наконец, каким образом Бинкес очутился на борту флагмана. К концу празднества буйное веселье пирующих перешло все границы. То и дело поднимались заздравные тосты, их сопровождали оглушительные залпы из пушек. Подойдя к Моргану, Бинкес сказал: – Для полноты торжества я сейчас приведу твою строптивицу. Здесь, на глазах у всех, она упадет в твои объятья, чтобы все могли восславить твою победу. Не ожидая ответа, он велел спустить на воду шлюпку и отправился на борт флагмана. Мы уже знаем, что, на беду Марины и дона Энрике, ему удалось подслушать их разговор. Шлюпка с Бинкесом, его пьяными приспешниками и пленным доном Энрике направилась к английскому кораблю. Юноша понял, что настал его последний час. Он знал безудержный нрав Моргана и не сомневался, что тот велит немедленно его повесить. Шлюпка подошла к борту, и Бинкес в сопровождении трех матросов поднялся по трапу, оставив дона Энрике на попечении всего лишь одного гребца. – Окажите мне милость, – обратился к нему дон Энрике. – Какую? – коротко спросил англичанин. – Развяжите мне руки. – Чтобы вы бросились в море? – Слово моряка, что не тронусь с места; веревка врезается мне в тело. – Так даете слово? – Даю. – Англичанин развязал руки дону Энрике. – Благодарю вас, – сказал юноша, садясь с ним рядом. Между тем Бинкес прошел на корму, где Морган вместе со своими соотечественниками без устали провозглашал тост за тостом под грохот пушечных залпов. – Привез Марину? – Пока еще нет, но зато приготовил тебе и ей чудесный сюрприз. – Какой? – Не скажу, иначе пропадет весь интерес. За мной, – бросил он морякам и пошел на нос корабля. – Поставить здесь славную виселицу для того бездельника, – сказал он. Матросы живо взялись за дело. На корме Морган поднял полный бокал: – За чудесный, неведомый сюрприз! Снова грянула пушка. Но за пушечным выстрелом неожиданно раздался оглушительный взрыв, и английский корабль, содрогнувшись, взлетел на воздух. В свое время на носу английских кораблей располагался пороховой склад; от искры последнего пушечного выстрела загорелись колеса лафета, огонь перекинулся на пороховой склад, и над палубой взвился огненный смерч. Бинкес и все матросы, находившиеся на носу, погибли; спаслись только Морган с тридцатью англичанами, бросившись с кормы в море. На миг команды всех судов оцепенели от ужаса, потом, опомнившись, поспешили спустить на воду шлюпки. Дон Энрике с помощью англичанина первым подобрал немало пострадавших. – Надеюсь, вы сохраните в тайне все, что произошло на флагмане, – сказал дон Энрике английскому моряку. – Видно, богу не угодно, чтобы Моргану стало известно все происшедшее, – ответил англичанин. – Не иначе как по его воле навсегда умолк Бинкес. Я волю божию не нарушу. – Слово моряка? – Клянусь. Морган вернулся на свой корабль, так и не узнав, какой сюрприз готовил ему его незадачливый друг. Оставаясь в полном неведении, донья Марина дрожала при малейшем шуме и ждала, что к ней вот-вот ворвется взбешенный адмирал.
XVII. БРАНДЕР
Бедствие, постигшее английский корабль, произвело такое тягостное впечатление на адмирала и остальных пиратов, что долго никто не мог думать ни о чем другом; таким образом, бедная Марина на время получила передышку. Морган со своей флотилией держал курс на Большую Землю и, казалось, совсем забыл о молодой женщине. Суда подошли к берегу там, где можно было тайно высадиться для набега на Маракайбо. На флагмане осталось всего несколько пиратов, чтобы стеречь пленницу. Отличительной чертой адмирала была безудержная стремительность при выполнении задуманного. В голове его бурлило и сталкивалось столько различных планов, что порой его принимали за человека непостоянного. На самом деле все это объяснялось иначе. Морган был по натуре искателем приключений; он смело бросал вызов опасностям. Набеги и бои с противником без остатка поглощали его, не оставляя в сердце места ни для любви, ни для дружбы. После одержанной победы он снова с безудержной страстью предавался всем своим обычным забавам. Увлеченный новыми планами, он оставил в покое донью Марину как раз в тот момент, когда ее упорство довело его до бешенства. Дон Энрике знал характер адмирала и понял, что наступает подходящий момент для побега. Но, на беду, Морган назначил его командовать высадкой пиратов на берег; накануне боя было просто невозможно заняться подготовкой к побегу. Казалось, злой дух благоприятствует Моргану, – несмотря на героическое сопротивление испанского гарнизона Маракайбо, пираты овладели городом. Несчастные жители попали в руки беспощадного врага. Зверства пиратов в Портобело были ничто по сравнению с жесточайшими бедами, которые обрушились на Маракайбо и его окрестности. Если захваченные в плен торговцы отказывались сообщить, где зарыты сокровища, победители подвергали их нестерпимым пыткам. Один из очевидцев так свидетельствует о страшных событиях: «Пираты применяли всяческие истязания: били пленников палкой и плетью, закладывали между пальцами пропитанную горючей жидкостью веревку и поджигали ее, а то, повязав вкруг головы веревку, затягивали ее до тех пор, пока у несчастной жертвы глаза не вылезали из орбит. Словом, невинные люди подвергались бесчеловечным, доселе неслыханным страданиям». Немало пленников погибло в жестоких муках, ибо они ничего не знали о зарытых сокровищах и ничего не могли сообщить. А тех, что с отчаяния давали ложные сведения, тоже умерщвляли, едва обнаружив их ложь. Город превратился в сущий ад. До той поры дон Энрике как следует не знал, что представляют собой пираты, а потому не понимал, почему их ненавидит весь цивилизованный мир. Он знал лишь по фантастическим легендам об их подвигах и, смешивая понятия отваги и беспощадности, считал, что испанские власти распространяют о пиратах всякие небылицы с досады, что им никак не удается сладить с морскими разбойниками. Но, став очевидцем потрясающих зрелищ в Маракайбо, дон Энрике понял, что ему не место среди этих озверелых людей. Итак, он твердо решил расстаться с ними, но не раньше, чем вызволит из плена донью Марину. Оставалось выжидать подходящего случая. Разбойничая на море и на суше, пираты сеяли ужас и отчаяние среди жителей окрестных городов и селений вплоть до Гибралтара. Ничто не могло устоять против их яростного натиска, в каждом селении они требовали «контрибуцию огня» и сказочно обогащались. Упоенный победой и богатой добычей, Морган неожиданно получил весть о том, что в бухту Лагон пришла испанская флотилия, преградив пиратам выход в открытое море. Морган понял, какую грозную опасность таит в себе встреча его суденышек с испанскими высокобортными кораблями. Однако, отнюдь не помышляя о бегстве, неустрашимый пират послал одного из своих пленников-испанцев к адмиралу вражеского флота с требованием уплатить «контрибуцию огня» за город Маракайбо. История сохранила для потомков ответ на столь дерзкое требование: он гласил следующее:«Дон Алонсо дель Кампо-и-Эспиноса, адмирал морского флота Испании, Моргану, главарю пиратов. Прослышав от друзей и соседей наших, что вы дерзнули предпринять враждебные действия против земель, городов, селений и поселков, подвластных его католическому величеству и моему сеньору, я по долгу совести и службы пришел и стал близ укрепленного замка, каковой был сдан вам кучкой презренных трусов, получивших от меня в свое время пушки для защиты города. Я намерен преградить вам выход из Лагона и повсюду преследовать вас, как мне повелевает долг. Однако, ежели вы изъявите покорность и возвратите всю захваченную добычу, рабов и прочих пленных, я разрешу вам безвозбранно выйти в море, дабы вы могли удалиться в свои края. Но ежели вы не примете сей пропозиции, уведомляю, что мною будут вызваны из Каракаса барки, дабы королевские войска, высадившись у Маракайбо, поразили вас всех до единого. Таково мое твердое решение. Проявите благоразумие, не вздумайте упорствовать и черной неблагодарностью ответить на мое милосердие. У меня под командой отличные воины, они жаждут воздать по заслугам вам и вашим приспешникам за все неслыханное зло, содеянное против испанцев в Америке. Дано на моем королевском корабле «Ла Магдалена», стоящем на якоре при входе в Лагон у Маракайбо, 24 апреля 1669 года.Дон Алонсо дель Кампо-и-Эспиноса».
Получив это послание, Морган прочел его вслух своим людям на рыночной площади в Маракайбо и спросил, желают ли они возвратить добычу и получить свободный выход в море или намерены вступить в неравный бой. В ответ раздался оглушительный рев, – пираты поклялись, что предпочитают тысячу раз умереть, чем уступить что-либо из награбленного добра. Когда шум на мгновение утих, Хуан Дарьен сказал, обращаясь к адмиралу: – Сеньор, наше положение не представляется мне безнадежным, мы можем одержать победу над испанскими кораблями и уйти в море. – Каким образом? – Я берусь взорвать самый крупный из всех испанских кораблей. Для этого мне понадобиться всего лишь десяток смельчаков. Найдутся такие? – Да! Да! – загудело со всех сторон. – Мой план прост: мы запустим брандер, другими словами, захваченное вами близ Гибралтара испанское судно превратим в зажигательное. – Соорудить брандер недолго, – ответил Морган, – но противник легко распознает его и не даст ему подойти близко. – Это верно, – продолжал Хуан Дарьен, – но мне пришла в голову одна хитрость, осуществить ее проще простого. – В чем же она заключается? – А вот в чем: на обоих бортах судна мы поставим деревянные чучела, наденем на них сомбреро и шапки, так что издали они сойдут за людей. Заодно установим на лафетах обманные пушки и развернем боевое знамя, как это делается, чтобы вызвать противника на бой. – Понятно! Понятно! – воскликнул адмирал. – Так скорее за дело! Хуан Дарьен, не теряя ни минуты, взялся за осуществление своего замысла, и вскоре брандер был готов. Приведем здесь свидетельство бесхитростного историка, очевидца этой затеи: «Прежде всего были крепко-накрепко связаны все пленники и рабы; затем на означенное судно доставили всю смолу и серу, которую удалось найти в окрестности, погрузили весь порох и прочее горючее, как, например, пропитанные смолой пальмовые листья, а под каждый бочонок с варом положили по шести пороховых зарядов; приспособили к делу и опилки из пришедшей в негодность оснастки; сбили новые лафеты, а вместо пушек примостили на них барабаны; по борту расставили деревянные чучела, нарядив их в сомбреро и вооружив мушкетами и шпагами на перевязи». Когда брандер был готов, Морган отдал приказ судам погрузить добычу и выйти навстречу испанцам. Дон Энрике рассудил, что пробил час освобождения, надо спасти донью Марину и бежать, порвав наконец с этими людьми. Морган установил следующий порядок выступления: впереди флотилии шел брандер с развернутым боевым знаменем; за ним «Отважный» под командой дона Энрике; дальше две большие барки с награбленным добром, женщинами и пленными, за барками – остальные суда. Узнав об этих распоряжениях, дон Энрике немедля поспешил в шлюпке к флагману и от имени Моргана потребовал передать ему донью Марину, якобы за тем, чтобы поместить ее в одну барку с прочими женщинами. План похода был всем известен, и все знали, как доверяет адмирал юноше, поэтому ему без колебаний передали донью Марину. – Куда вы ведете меня? – спросила молодая женщина. – Тише, сеньора, – ответил дон Энрике, – кажется, вы получите наконец свободу. В суматохе последних приготовлений никто не заметил, как на борт «Отважного» поднялась женщина и скрылась в каюте. Озабоченный Морган не удосужился, вернувшись на корабль, справиться о своей пленнице, и суда пустились в плавание. Уже смеркалось, когда обе эскадры встретились. Высокобортные корабли испанцев стояли на якоре у входа в Лагон против крепостного замка. Пираты тоже стали на якорь на расстоянии пушечного выстрела. Среди пиратов всю ночь не утихало волнение, и Морган был настолько поглощен подготовкой к завтрашнему дню, что ему было не до пленницы. Наконец пушка возвестила о наступлении дня; пираты снялись с якоря и устремились против испанских кораблей, а те, в свою очередь, вышли им навстречу. Вскоре брандер подошел вплотную к королевскому судну «Ла Магдалена», которым командовал адмирал. Только тут испанец разгадал коварный замысел врага и сделал попытку спастись. Но было уже поздно. Хуан Дарьен поджег брандер и, бросившись вместе со своими людьми за борт, вплавь добрался до одной из пиратских барок. Все произошло мгновенно; огонь брандера перекинулся на пороховой склад, и королевский корабль, окутанный завесой пламени, взлетел на воздух; потом он быстро затонул; лишь несколько дымящихся досок плавали на волнах. При виде этого бедствия другой испанский корабль попытался укрыться под защитой крепости, но пираты нагнали его, и команда, потопив судно, бросилась в воду, чтобы вплавь достичь берега. Третий корабль был взят пиратами на абордаж. Так погибла испанская флотилия. Упоенные победой, пираты занялись грабежом захваченного судна. Они не щадили пленных и приканчивали даже тех, что бросились в воду. Дон Энрике решил, что настала пора действовать; когда пираты опомнились, «Отважный» успел уже миновать Лагон и уйти на всех парусах в открытое море. Не найдя на флагмане доньи Марины, Морган разом сообразил, в чем дело; но, зная, что «Отважный» самое быстроходное из всех пиратских судов, он понял, что преследовать его тщетно.
Часть четвертая. СЫН ГРАФА

I. ТАИНСТВЕННАЯ ДАМА
В 1669 году вице-королем Новой Испании все еще был маркиз де Мансера, правитель мудрый и осторожный. Жизнь колонии протекала мирно, лишь время от времени покой ее обитателей нарушался вестями о грабежах и злодеяниях пиратов. Испанский военный флот был не в силах обеспечить торговлю с Америкой; суда с товарами и золотом то и дело подвергались нападению в море. Дерзость пиратов доходила до того, что они продавали награбленные товары тут же в порту Веракрус. Бывало, в порт приходили суда под командой никому не известных капитанов; невозможно было установить, занимались ли они морским разбоем. Вокруг таких судов обычно выставляли стражу, но торговать им разрешалось. В столице Новой Испании ходили самые невероятные слухи об отваге и жестокости пиратов. Многие семьи, покинув побережье, искали в Мехико приюта и спокойной жизни; они рассказывали настоящие легенды о смелости морских разбойников, которые, по их словам, имели даже иной облик, чем прочие люди. Среди беглецов, добравшихся до Мехико, находился и дон Диего де Альварес, Индиано, которому удалось чудом спастись от неминуемой гибели и бежать из Портобело вместе с маленькой дочкой. Но он потерял там свою супругу донью Марину, убитую, по его словам, одним из пиратов, пытавшихся овладеть ею. Дон Диего уже не был тем беззаботным и тщеславным щеголем, как в былые времена. Он стал печален, молчалив, вел скромную, замкнутую жизнь и посещал только вице-короля, который был в свое время его посаженым отцом на свадьбе, да архиепископа Мехико, с которым его связывала тесная дружба. Молодые женщины, ранее знававшие дона Диего, поражались происшедшей в нем перемене; они попытались снова вовлечь его в блестящее общество, но все их усилия потерпели неудачу, дон Диего оставался по-прежнему нелюдим. Однако тот, кто вздумал бы следить за доном Диего, заметил бы, что, кроме вице-короля и архиепископа, он изредка наведывается в уединенный дом близ монастыря Иисуса и Марии; там обитала таинственная дама, возбуждавшая любопытство своих соседей, которым никак не удавалось разузнать, кто она и откуда. Ни окна, ни балконы в доме никогда не открывались, входная дверь была постоянно на замке; ее отпирали лишь затем, чтобы пропустить старую рабыню-негритянку, а та была не словоохотлива. Дом стоял прямо против церкви Иисуса и Марии, и соседям, имевшим привычку подниматься с зарей, случалось наблюдать, как на рассвете из дома выходила дама под густой черной вуалью; она пересекала улицу, входила в церковь, слушала первую мессу и затем снова запиралась в доме до следующего дня. Непроницаемая тайна, которая окутывала незнакомку, не давала соседям покоя. Желая что-либо выведать о ней, они пускались на всяческие уловки. Однажды дверь дома забыли запереть, и проходивший мимо мальчуган отважился шагнуть за таинственный порог, но вскоре он выбежал оттуда и с испуганным видом сообщил, что дом пуст. Днем там никто не бывал, и только изредка – обычно это случалось в пятницу – ровно в одиннадцать часов вечера неясный черный силуэт приближался к дверям, которые бесшумно перед ним открывались. Но еще никто и никогда не видел, как пришелец покидал дом, из чего соседи заключили, что он был не кем иным, как неприкаянной душой. Загадочное жилище внушало суеверный страх, и набожные женщины, проходя мимо него, осеняли себя крестом. Как-то в пятницу, едва раздался первый удар, возвещавший одиннадцать часов ночи, на улице Иисуса и Марии появился со стороны главной улицы человек, закутанный в черный плащ, в простом черном сомбреро без пера. Он шел не спеша и очутился перед дверью загадочного жилища раньше, чем умолк бой часов. Дверь отворилась, пропустила пришельца и тотчас же снова закрылась. Служанка со светильником в руке проводила гостя по узкой лестнице наверх в скромно убранный покой, где на столе горели две восковые свечи. Там пришельца поджидала молодая, красивая дама, одетая с вызывающим кокетством. Проводив ночного гостя до порога, служанка удалилась. – Храни вас бог, сеньора, – проговорил гость. – В добрый час привел вас господь, дон Диего, – ответила с чарующей улыбкой дама. Дон Диего, ибо это был он, положил сомбреро на стул и молча уселся рядом. Долго без единого слова смотрела на него дама, потом, подойдя ближе, взяла его руку и прижала к своей груди. – Вы все по-прежнему печальны, сеньор… – прошептала она. – О да, донья Ана. Тягостные и мрачные воспоминания навеки сохранятся в моем сердце. – И ничто не в силах вернуть вам счастье? – Ах, думаю, ничто! – Даже безграничная любовь женщины? Дон Диего поднял голову и грустно взглянул на донью Ану, которая потупилась и вспыхнула. – Донья Ана, – проговорил он печально, – вы думаете, что разбитое сердце способно полюбить вновь? – Сеньор, любовь была бы единственным верным бальзамом для вашего мучительного недуга, только любовь может залечить смертельную рану. – Донья Ана, я уже не впервые слышу от вас эти слова и принимаю их, как признание в любви. Может быть, и я готов был бы полюбить вас, но между нами стоит образ Марины, и новое чувство не смеет родиться… Что, если Марина жива… – Жива или умерла, для вас она погибла. Достойная женщина согласится скорее умереть, чем ответить на любовь пирата. Если же донья Марина из страха стала любовницей одного из них, разве она не потеряна для вас? Разве вы не предпочли бы увидеть ее мертвой в гробу, чем живой, но обесчещенной ласками Моргана, дона Энрике или?.. – Молчите, донья Ана, молчите! – воскликнул дон Диего. – Ни слова об этом. Для всех, решительно для всех донья Марина перестала существовать, ибо я не смог бы долее нести бремя жизни, если бы кто-либо узнал, что моя жена стала возлюбленной пирата. – Вы правы, дон Диего, это должно навсегда остаться тайной, о которой знают лишь двое; но между собой мы можем говорить о ней, ведь это значит говорить о вашей и моей судьбе, о ваших горестях и о моих надеждах. – Но поймите, говоря об этом, вы бередите мои раны и отдаляете исполнение ваших надежд. – Знайте, дон Диего, я хочу, чтобы вы постепенно привыкли видеть во мне женщину, которая вас безгранично любит, понимает ваше сердце и надеется заслужить ответное чувство. Но, возможно, вы не находите меня достаточно красивой, чтобы привлечь ваши взоры? Тут донья Ана постаралась, будто ненароком, показать дону Диего свою округлую шею и прекрасные плечи. Дон Диего, не отрываясь, как зачарованный смотрел на донью Ану: ее манящая красота, огненные глаза, подернутые влагой, свежий коралловый рот с полуоткрытыми губами, за которыми поблескивали два ряда жемчужных зубов, могли поколебать добродетель даже не столь молодого и пылкого мужчины, как Индиано. – Донья Ана, – ответил он взволнованно, привлекая к себе молодую женщину, – вы не только красивы, вы чарующе прекрасны, я вам это уже не раз повторял. Вся кровь вскипает во мне, когда я смотрю на вас, мои глаза ищут ответного взгляда, руки просятся обнять ваш стан, губы жаждут вашего поцелуя. – Так что же вы так холодны со мной, почему не прижмете меня к груди, не поцелуете? Уж не обманываете ли вы меня, дон Диего? Возможно ли, чтобы вас пугало то, что не пугает слабую женщину? Я вас люблю, я ваша, так к чему эта нерешительность? – Донья Ана, я больше не в силах таиться от вас, я открою перед вами, как перед богом, мое сердце и душу, без притворства, ничего не скрывая. И если моя исповедь причинит вам боль, простите меня, донья Ана, и помните – вы сами заставили меня открыться вам. Ведь вы мой ангел-искуситель. Я не могу долее противиться вашим чарам. – Так говорите же, сеньор, говорите, откройте передо мной ваше сердце, я буду вашей утешительницей. Донья Ана подошла еще ближе и так низко нагнулась к дону Диего, что он ощутил се дыхание. Одна рука дона Диего по-прежнему покоилась на плече молодой женщины, другая лежала пленницей в ее ладонях. В этот миг донья Ана была неотразима; завороженный ее черными глазами, дон Диего чувствовал себя беззащитным, как колибри перед взором удава. – Донья Ана, – взволнованно произнес он, – я полюбил вас с первого взгляда, вы это знаете. Когда дон Энрике отнял у меня вашу любовь, я возненавидел его, стал его смертельным врагом. Узнав, что дон Кристобаль де Эстрада похитил вас, я решил больше никогда не видеться с вами, чувствуя, что эта встреча может оказаться для меня роковой, – ведь стоило вам сказать одно лишь слово, и я упал бы к вашим ногам или умер бы от отчаяния. Я не знал, какого рода отношения существовали между вами и моим соперником, возможно, вы любили его по-настоящему, а может быть, вы только из каприза и желания выйти замуж предпочли его мне. В порыве досады и оскорбленного самолюбия, не желая признаться дону Кристобалю в моей позорной слабости, я навсегда похоронил надежду увидеть вас и завоевать вашу любовь. Вы слушаете меня, сеньора? – Да, сеньор, слушаю. Продолжайте же, продолжайте. – Конечно, я мог бы просить вашей руки, но я полюбил Марину и дал ей слово. Едва ли вы поймете, как можно любить одновременно двух женщин. Но это было именно так. Я любил Марину, и я любил вас, мной владели сразу два глубоких и сильных чувства, но сколь различны они были! Марину я любил нежной, спокойной любовью, не знавшей ни страхов, ни терзаний, моя любовь к ней была как ручей, мирно журчащий в цветущей долине, как зеркальная гладь озера среди камышовых зарослей. Вас я любил с бешеной, яростной страстью. Моя любовь к вам походила на неистовый поток, стремящийся вниз среди хаоса скал и ущелий, на бурное море, разбивающее об утес свои кипящие волны. Рядом с вами мне казалось, что я больше всего на свете люблю вас; но стоило мне увидеть Марину, как я о вас и не вспоминал. А когда я оставался один, вы обе как живые вставали передо мной: два чувства, соединенные в моем сердце злым духом мне на погибель, вступали между собой в борьбу, и тогда – ах, донья Ана! Я не в силах передать вам, что тогда происходило со мной. Мысль, что я могу потерять одну из вас, сводила меня с ума; я понимал, что мне придется, связав свою судьбу с одной, забыть другую, и приходил в отчаяние. Судьба разрубила роковой узел: вы соединили свою жизнь с Кристобалем де Эстрадой, я – с Мариной. Борьба закончилась, но тайная боль продолжала точить мое сердце. Я представлял вас в объятиях другого и терзался ревностью, я был уверен, что вы забыли меня. Если бы я знал, что вы несчастливы ивспоминаете обо мне, я меньше страдал бы. Но знать, что вы счастливы в объятиях другого… Вам известно, чем все это кончилось. Теперь вы понимаете меня, донья Ана? – О да, дон Диего! – воскликнула донья Ана, сияя улыбкой. – Понимаю, ведь мое сердце испытало такую же борьбу. Я любила вас, но из гордости, из самолюбия, чтобы увидеть у своих ног человека, который, как мне казалось, пренебрег мной, я ответила на любовь дона Энрике. Мать одобрила мой выбор, она всегда мечтала о блестящей партии для своей дочери. Дерзость дона Кристобаля разрушила мои планы, и я, покинутая вами, утратив надежду стать женой дона Энрике, который никогда не женился бы на мне после всего, что произошло, я согласилась стать возлюбленной дона Кристобаля и последовала за ним в далекие края. Там, с виду спокойная, я жила, снедаемая горестными воспоминаниями, близ вас, не смея увидеться с вами, единственным человеком, пробудившим в моей душе неугасимые мечты. Ваш образ преследовал меня, а мне приходилось притворяться веселой и счастливой. Но вот я снова встретила дона Энрике, на один миг мое чувство к нему ожило, но вскоре оно превратилось в ненависть. Да, этот человек стал мне ненавистен… Я встретила вас, мы жили под одним кровом, вместе совершили долгое путешествие, и… я полюбила вас, полюбила сильнее, чем когда бы то ни было, ведь среди всех невзгод жизни я еще никого по-настоящему не любила. Я чувствовала потребность любить, но никого не любила. Мое сердце всегда стремилось принадлежать лишь одному, и я остановилась на вас, сеньор. Именно вас я полюбила так, как прежде вы любили меня, – горячей, страстной, безумной любовью… – Но между нами, донья Ана, стоит память о Марине… – Дон Диего, есть чувства, которые не знают преград. Забудьте о Марине; бесчестие или смерть навеки убрали ее с вашего пути. Ее больше нет. Ничто не существует для вас и для меня, кроме нашей любви… – Вы говорите, наша любовь… Но в тот день, когда о ней станет известно, как перенести мне толки о том, что вы были возлюбленной дона Кристобаля де Эстрады? – Но ведь об этом решительно никто не знает; я же буду утверждать, что именно вы похитили меня из дома моей матери, а я согласилась стать вашей возлюбленной, несмотря на то, что вы были женаты… – Как, вы способны?.. – воскликнул дон Диего. – Для вас я способна на все, меня не пугают ни толки, ни бесчестие, потому что я люблю вас. Я боготворю вас, дон Диего, я хочу принадлежать вам, и пусть меня поразит небесный гнев. Склонившись над доном Диего, молодая женщина, поцеловала его в губы. – Нет, Ана, – воскликнул он, охваченный жарким трепетом, – наш час еще не настал! И, не медля долее, он как безумный выбежал из ее дома. – Дон Диего! Дон Диего! – простонала ему вслед Ана, потом в отчаянии уронила голову, и слезы брызнули из ее глаз.II. СРЕДИ СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ
Умирая, старый граф де Торре-Леаль завещал титул и родовое наследство своему старшему сыну дону Энрике, о судьбе которого ничего не было известно; в случае если в назначенный графом срок его старший сын не вернется домой, титул и все состояние графа должны перейти к его младшему сыну от брака с доньей Гуадалупе, сестрой дона Хусто. Управление графством временно возлагалось на вдову графа. Это было именно то, о чем мечтал ее брат дон Хусто. К этому времени в Мехико переселилась с острова Эспаньола богатая семья – знакомый нам дон Педро Хуан де Борика с супругой, сеньорой Магдаленой, и Хулией. Красота Хулии, которую прозвали «маленькой француженкой», свела с ума всех юношей из лучших семейств города, но никто не мог похвастаться, что достиг хоть малейшей надежды на успех. Молодая девушка, озабоченная и печальная, рассеянно принимала все знаки поклонения. Дону Педро Хуану де Борика, занимавшемуся торговыми делами, случилось как-то познакомиться с доном Хусто; постепенно они сблизились, и дон Хусто на правах друга вошел в дом сеньоры Магдалены. Дон Хусто был вдовцом с завидным положением; юная Хулия приглянулась ему, и он решил, что девушка с Эспаньолы создана для него. За согласием на брак, по его мнению, следовало обратиться к Борике, как главе семьи. И вот, оставшись однажды наедине со своим новым другом, дон Хусто взял на себя смелость попытать счастья. Впрочем, в успехе он не сомневался. – Друг мой дон Педро Хуан, – начал он, – ваша дочь настоящая жемчужина. – Девушка недурна собой, – равнодушно ответил дон Педро Хуан, – это моя падчерица. – Она не только хороша собой, но обладает высокими достоинствами, как я мог убедиться. – Верно. – Счастлив тот, кто назовет ее своей супругой. – Пожалуй… – Знаете что? – Что? – Эта девушка заставляет меня подумать о втором браке. – Вот как? – Если вы даете мне свое согласие, я осмелюсь сделать ей предложение. – Мы пока еще не думаем выдавать ее замуж, – ответил Педро Хуан, бледнея. – А я полагаю, пора уже об этом подумать, особенно если представляется хорошая партия. – Как я вам уже сказал, мы об этом не думаем. – Сделайте одолжение выслушать меня. – Бесполезно говорить об этом. Кроме того, надо спросить согласия девушки и ее матери, – как вам известно, Хулия дочь моей жены от первого брака. – Конечно, конечно, но прежде всего необходимо заручиться вашим согласием; а потом я уж беру на себя уговорить донью Магдалену и завоевать сердце девушки. – Повторяю, сеньор дон Хусто, мы еще об этом не думаем… – А я вам повторяю, что рано или поздно придется об этом подумать. – Но до этого еще далеко, – резко ответил бывший живодер. Дон Хусто понял, что его предложение не одобрено, и решил поискать другого пути. «Может, сеньора Магдалена окажется сговорчивее, – сказал он про себя, – поговорим с нею». И он тут же переменил тему разговора. Вскоре дону Хусто представился случай оказаться наедине с матерью Хулии, и он не упустил его. – Сеньора, – начал он, – на матери лежит серьезная забота о будущем детей, особенно когда в доме имеется дочь. – Да и эта забота не дает матери покоя в последние дни ее жизни, – ответила сеньора Магдалена. – По счастью, вам еще далеко до последних дней. – Почему вы так думаете? – В вашем возрасте, сеньора, и с вашим завидным здоровьем вы можете спокойно жить в полной уверенности, что будущность вашей дочери обеспечена. – Как знать, сеньор. – Что вы, сеньора! Хулия красивая девушка с прекрасными качествами, к тому же вы дали ей блестящее воспитание. Хулии цены нет. – Благодарю вас, вы слишком к ней милостивы. – Она этого вполне заслуживает, сеньора. Почтенный, разумный и богатый человек будет счастлив назвать Хулию своей супругой. – О, таких партий немного. С давних пор существует привычка жаловаться на то, что мужчины, подходящие для священного союза, встречаются якобы крайне редко. Между тем во все времена браки заключались и продолжают и нынче заключаться. Девицы любят твердить, что среди нынешних мужчин не найти хороших и верных мужей, и претворяются, будто по собственной воле, а не за недостатком женихов остаются в старых девах. Все вокруг делают вид, что верят этим сказкам, в глубине же души готовы биться об заклад, что любому покупателю удастся по сходной цене приобрести сокровище. Словом, одна половина рода человеческого успешно обманывает другую. Невинный обман продолжает существовать из поколения в поколение, он переходит по наследству от отцов к детям, отцы неизменно стараются и сами поверить, и детям внушить, будто таково истинное положение вещей. Эта явная ложь не вводит людей в заблуждение, но и никого не смущает. Так, женщина, желая себя украсить, румянит щеки и, все любуются ее прекрасным цветом лица, отлично зная, что дело не обошлось без помощи румян. Дон Хусто, не утруждая себя философскими рассуждениями подобного рода, начал непосредственно с того, с чего начали мы, то есть с брака, решив, что для достижения цели надо прежде всего ввести в заблуждение мать девушки. – Ах, сеньора! – воскликнул он. – Найти выгодную партию для вашей Хулии весьма просто, – ведь кроме ее личных прекрасных качеств, имеется еще одно немаловажное обстоятельство. – Какое же, сеньор дон Хусто? – Ее семья, сеньора. – Ее семья? – Вот именно. Когда мы, мужчины, собираемся соединить свою судьбу с девушкой, мы больше всего задумываемся над тем, в какую семью мы входим, могла ли эта семья преподать достойный пример нашей будущей супруге, ну и прочее. Вы понимаете меня, сеньора? – Да, сеньор. – Так вот, ваша дочь располагает еще тем преимуществом, что вы, сеньора, – поверьте, я вам не льщу, – что вы одна из самых уважаемых дам, которых я когда-либо знал. – Но, сеньор… – Я почел бы за счастье принадлежать к вашему семейству, сеньора. – Много чести для нас, сеньор. – Поверьте, сеньора, я был бы бесконечно счастлив, если бы вы разрешили мне просить руки вашей дочери. – Но, сеньор дон Хусто, вы ее так мало знаете… – Вполне достаточно, сеньора. Я свободен, богат, еще не стар. В Мехико вы можете справиться обо мне и о моих родителях. Скажите, сеньора, могу ли я надеяться? – Говоря откровенно, я была бы рада назвать вас своим зятем, конечно, если моя дочь согласна. Вы испанец? – Нет, сеньора, я уроженец Мексики. – Тем лучше… – Лучше? – У каждого свои соображения, не спрашивайте меня о моих. Повторяю, меня радует, что вы мексиканец. – Так я могу рассчитывать на ваше согласие, сеньора? – Да, при условии, что моя дочь не станет возражать. – Ну, конечно. – Вы уже говорили об этом с мужем? Дон Хусто покраснел, не зная, что ответить. Лучше всего сказать правду, подумал он, и признался: – Да, сеньора. – И что же? – Дон Педро Хуан… – начал дон Хусто и запнулся. – Как видно, мое предложение ему не по душе. – Понятно. Но пусть это вас не смущает. Если вы получите согласие Хулии, то вам достаточно моего слова. Можете на него рассчитывать; я сделаю все, чтобы поддержать вас, конечно, если Хулия согласится. Вот единственное условие. – Благодарю вас, сеньора, благодарю, я не ожидал встретить столь дружеское расположение. – В дальнейшем старайтесь не посвящать дона Педро Хуана в свои планы. У мужчин, как известно, бывают свои капризы, и ради мира в семье приходится с ними считаться. – Отлично, сеньора, я ни словом не обмолвлюсь ему о нашем разговоре. – Надеюсь на вашу рассудительность. Тут на пороге гостиной показался Педро Хуан, и сеньора Магдалена с хладнокровием, присущим женщине, ловко и невозмутимо продолжала разговор, не имевший начала. Таким образом, бывший живодер ни о чем не догадался. – Вы говорите, на последнем корабле с Филиппин пришли большие китайские вазоны? Они просто необходимы для нашего дома, мне надо посадить несколько апельсиновых деревьев. – Но, дорогая моя, – сказал Педро Хуан, – у тебя их и без того немало, право, это совершенно лишний расход. – Обещаю, что больше вазонов покупать не стану, – ответила сеньора Магдалена. – Пусть будет по-твоему, – согласился Борика. И все трое заговорили о диковинных товарах, прибывших на корабле с Филиппин.III. ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ
Педро Хуан де Борика воспринял с глубоким неудовольствием предложение дона Хусто, потому что по-прежнему лелеял мысль овладеть девушкой. Правда, дальше планов дело пока не шло. Впрочем, робостью Педро Хуан не отличался: он уже открылся Хулии в любви, испытав при этом, как и следовало ожидать, горькое разочарование. И все же он не терял надежды. Настойчивость казалась ему верным средством для достижения желанной цели: не проходило дня, чтобы он не делал молодой девушке нового предложения, зачастую весьма дерзкого, если позволяли обстоятельства. Жизнь Хулии превратилась в настоящую пытку; она и ненавидела, и боялась отчима, но выхода из этого положения не находила. Рассказать обо всем сеньоре Магдалене? Пожаловаться на его преследования? Невозможно. Хулия с ее мягким сердцем не способна была нанести матери такой удар. И она молчала. Она боялась оставаться наедине с Педро Хуаном, боялась сидеть с ним рядом за обеденным столом. В те времена ходило немало толков о приворотном корне, который продавался колдуньями на вес золота; с его помощью, говорили, удавалось овладеть самой добродетельной женщиной. Хулия опасалась, что отчим и впрямь опоит ее волшебным зельем, как он однажды пригрозил ей в порыве ярости. Однако время шло, а Педро Хуан не прибегал к злым колдовским чарам, хотя по-прежнему преследовал девушку. Сеньора Магдалена между тем стала кое-что замечать и, чтобы проверить свои догадки, позвала Хулию и попыталась выведать у нее правду об ее отношениях с отчимом, не признаваясь ей, однако, в своих ревнивых опасениях. Хулия постаралась рассеять подозрения матери, однако ничего этим не достигла, напротив, еще больше огорчила сеньору Магдалену: бедная женщина решила, что Хулия, если и не отвечает на любовь отчима, то, во всяком случае, с удовольствием выслушивает его признания. С этого дня в сердце сеньоры Магдалены не утихала жестокая борьба страстей; ревность, любовь к дочери, слепой гнев, глубокая печаль, отчаяние и надежда кипели в сердце оскорбленной женщины: мать ревновала мужа к собственной дочери. Сеньора Магдалена стала подозрительной, научилась хитрить, выслеживать. Она то и дело справлялась у слуг, где Хулия, где Педро Хуан, и трепетала при мысли, что они вместе, но заговорить об этом, бросить им в лицо жестокое обвинение она не смела, – ведь у нее не было никаких доказательств, все было основано лишь на ревнивых подозрениях. Единственный виновник столь тягостного положения, Педро Хуан, оставался по-прежнему спокоен, терпеливо выжидая, когда наступит «его день». Он шел на все, чтобы добиться цели, и не понимал, какая буря разыгрывается дома, не замечал, как следит за ним сеньора Магдалена и как ширится пропасть между дочерью и матерью. Узнав о домоганиях дона Хусто, Педро Хуан задумал ускорить события и силой овладеть Хулией. Сеньора Мащалена увидела в предложении дона Хусто путь к спасению. Так дон Хусто сыграл роль искры, воспламенившей бочку с порохом. В тот день Педро Хуан ушел после полудня из дому, а сеньора Мащалена позвала дочь и заперлась с ней у себя в спальне. – Хулия, – начала мать, – мне надо поговорить с тобой об одном весьма важном деле, касающемся твоего будущего. – Я вас слушаю, матушка, – ответила Хулия. – Хулия, пришла пора подумать о твоем замужестве. У тебя нет другой защиты на земле, кроме меня, а я, несмотря на видимое здоровье, чувствую, что силы мои гаснут. – О матушка, ради бога, не говорите так… – Почему же я не должна говорить об этом? Моя жизнь на закате; мысль, что я покидаю тебя одну на белом свете, отравила бы мои последние минуты. Что станется с тобой без родных, без друзей?.. – Матушка, еще не пришло время думать об этом. – Никому не ведомо, когда наступит его конец. Можно ли быть уверенным в завтрашнем дне, в особенности в моем возрасте, когда силы угасают? Хулия, ты должна выйти замуж, и как можно скорее. – Выйти замуж, и как можно скорее? Но почему? – Я тебе изложила все причины, кроме тех, о которых я молчу, хотя они не менее важны. Сегодня один кабальеро, местный житель, попросил у меня твоей руки; он дворянин, богатый, благородный человек. – Я не хочу выходить замуж, матушка. – В этом мире не всегда можно делать лишь то, что желаешь, иногда надо поступать так, как этого требуют честь и достоинство. – Матушка, – произнесла Хулия, испуганная тоном матери, – что вы хотите этим сказать? – Я говорю это не зря; и, может быть, к несчастью, ты меня понимаешь. Тебе надо выйти замуж, Хулия. – Сеньора, ради бога, мне неясен смысл ваших слов, хотя я догадаюсь, что он должен быть ужасен. Но поймите меня, я не хочу выходить замуж. – Может, ты объяснишь мне почему?! – воскликнула сеньора Магдалена, вставая и бледнея от негодования: для нее не оставалось больше сомнений, что между Хулией и Педро Хуаном существует любовная связь. – Вы же знаете, матушка, дрожащим голосом произнесла Хулия, – вы знаете – и я не могу долее скрывать, – я люблю другого. – Мне это слишком хорошо известно! – крикнула сеньора Магдалена, судорожно хватая Хулию за руку. – Я знаю, я догадывалась. Ты низкая женщина и недостойная дочь. – Матушка! – в ужасе воскликнула Хулия. – Не называй меня матерью, я тебе не мать, нет, я не могла породить такое чудовище. Будь ты моей дочерью, ты никогда не нанесла бы мне этого удара. Нет, ты мне не дочь… – Сеньора, сеньора! – простонала Хулия и, рыдая, упала на колени перед матерью. – Ради бога, объяснитесь, что это значит. – Оставь меня, оставь. Ты мне не дочь. Дочь никогда не решилась бы вступить в преступную связь с мужем своей матери. – Господи, спаси меня! – воскликнула Хулия, выпустив из рук подол материнского платья и вскочив как безумная. – Презренная! Презренная! Ты мне не дочь, а если ты моя дочь, я проклинаю тебя. – Боже! – крикнула Хулия и замертво упала наземь. В этот миг дверь отворилась и на пороге показался смертельно бледный Педро Хуан. – Низкий человек! – сказала Магдалена, указывая на неподвижно простертую Хулию. – Вот до чего вы ее довели. Я презираю вас! И сеньора Магдалена, словно подхваченная вихрем, выбежала из комнаты. Педро Хуан неподвижно застыл, с молчаливым ужасом глядя на Хулию и не решаясь оказать ей помощь, привести ее в чувство. Так прошло немало времени; наконец Хулия очнулась, привстала и обвела комнату помутившимся взором. – Боже мой! – тихо простонала она, обхватив руками голову. – Что это было? Сон? Где я? Что случилось? Я разговаривала с матерью… и вдруг она рассердилась… Но за что? Она сказала, что я… Боже, какое тяжкое обвинение!.. И потом, потом она прокляла меня! Ах! – вскрикнула Хулия, поднимаясь: она заметила наконец Педро Хуана, который молча смотрел на нее. – Вы наслаждаетесь моими страданиями? Из-за вас матушка заподозрила меня в низости, из-за вас, по вашей вине она отреклась от меня и прокляла. Я проклята, проклята! Проклята, проклята! – повторяла как безумная Хулия. – Но вы ведь этого не допустите! – продолжала она в сильном возбуждении. – Прошу вас, на коленях умоляю. – Но что, что я должен сделать? – спросил потрясенный Педро Хуан. – Прошу вас, – продолжала Хулия, опускаясь перед ним на колени, – заклинаю именем бога и памятью вашей матери, ступайте, расскажите, признайтесь ей во всем, скажите, что я не желала слушать ваши нашептывания и никогда не любила вас, что я вас ненавижу… Ступайте, ради бога, ради бога, разве вы не понимаете, не видите, что проклятие матери жжет и убивает меня… – Но поймите, она мне не поверит. – Сеньор, попытайтесь убедить ее, расскажите всю правду. Почему вы не спешите к ней? Почему? Боже мой! Именем бога молю. Неужто у вас нет сердца? Вы говорили, что любите меня. Так что же вы не торопитесь меня спасти? Ступайте, убедите ее, уговорите, и я вовек не забуду этой милости, я буду вашей рабой. Что вам еще надо? – Хулия, я попытаюсь. Только сейчас все будет напрасно. Не лучше ли обождать, дать ей время успокоиться? – Но я не в силах терпеть это позорное пятно; ее проклятие сведет меня с ума… Дверь открылась, и на пороге показался слуга. – Чего тебе? – с негодованием бросил Педро Хуан. – Прошу прощения, ваша милость, сеньора велела немедля передать вам это письмо. Педро Хуан взял из рук слуги пакет. – Ступай отсюда. Слуга вышел. Педро Хуан вскрыл пакет, и Хулия с ужасом услышала, как он прочел:«Сеньор, я не могу оставаться долее под одним кровом с вами и этой женщиной. Вы нанесли мне оскорбление. Оставляю вас обоих на суд вашей совести.Магдалена».
– Это ужасно! – воскликнул Педро Хуан и выбежал вон. – Всему виной я, – прошептала Хулия. – Пускай безвинно, но я проклята матерью и должна покинуть этот дом. Бросившись вниз по лестнице, она устремилась на улицу. Начинало смеркаться.
IV. ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ
Как безумная бежала Хулия по незнакомым улицам; пугливо озираясь, она отворачивалась от попадавшихся ей прохожих и от освещенных окон. Куда шла она? Этого она и сама не знала, но продолжала неутомимо идти вперед. Вечерело, улицы обезлюдели. Измученная усталостью и жаждой, Хулия опустилась близ какой-то двери в узком и темном переулке; хотелось уснуть, умереть или хотя бы на миг потерять сознание, позабыть все, что с ней случилось; но сознание не покидало ее. Она попыталась подняться, идти дальше, но не смогла сделать и шагу и примирилась с тем, что останется здесь. Она порылась в памяти, стараясь отыскать в ней имя друга, но так и не вспомнила ни одного имени, ни одного человека, который мог бы принять в ней участие, приютить ее у себя. Было около десяти часов вечера, когда в переулке послышались чьи-то шаги. Молодая девушка испугалась и прижалась к стене, стараясь слиться с мраком улицы. Человек приближался; не дойдя двух шагов до Хулии, он остановился и постучал в дверь рядом. Его, очевидно, поджидали, потому что на его стук тотчас же откликнулся женский голос: – Кто тут? – Это я, Паулита. Дверь отворилась, на улицу упал луч света, человек вошел, и все опять погрузилось в сумрак. А Хулия снова отдалась своим грустным размышлениям. Прошел час, и за дверью послышалось движение. «Кто-то выходит, – подумала Хулия, – дай бог, не заметит меня». В самом деле, дверь снова распахнулась, и тот же человек в сопровождении женщины со светильником в руке показался на пороге. – Ступай, Паулита, – сказал он, – ночь холодная, ты можешь простудиться. – Я хочу посветить тебе, пока ты не выберешься из этого переулка, ответила женщина. – Ладно, до свидания. – Храни тебя бог. Человек сделал шаг и невольно вскрикнул, увидев Хулию. – Что с тобой? – спросила женщина, подбегая со светильником ближе. – Ты только погляди, Паулита, – ответил тот, показывая на перепуганную Хулию. – Женщина, и совсем одна! – воскликнула Паулита, подходя к Хулии. – Сеньора, что с вами случилось, что вы здесь делаете? Хулия не отвечала. – Ах, бедняжка! – сказала Паулита. – Пойди-ка сюда, Москит, погляди, мне кажется, она «тронувшаяся», – молчит, не отвечает. А какая красивая. – Сеньора, сеньорита, – начал Москит, – как вас звать? Что вы здесь делаете? Паулита, как видно, она из богатой семьи, погляди на ее серьги, юбку. – Пускай войдет в дом, как ты думаешь? – предложила Паулита. – А что, если она и впрямь сумасшедшая? – ответил Москит. Паулита в испуге попятилась. – Ах, нет, сеньора, я не сумасшедшая! Я просто несчастная женщина. Меня прокляли! – Пресвятая дева! – воскликнули разом Паулита и Москит, осеняя себя крестом. – Да, надо мной висит проклятье моей матери. Но бог мне свидетель, что я невиновна. И, закрыв лицо руками, Хулия громко разрыдалась. Паулита не выдержала; сердце ее переполнилось жалостью, и она подошла к Хулии. – Не плачьте, – ласково сказала она. – Войдите в дом. Встаньте, пойдемте к нам; ночь холодная, да и случайные прохожие могут вас увидеть. Встаньте, зайдите в дом. Паулита попыталась приподнять девушку. При звуках ласкового голоса Хулия и сама было встала, но от усталости не смогла удержаться на ногах. – Москит, – позвала Паулита, – помоги мне. Внесем сеньору в дом, она совсем обессилела. Москит, хоть и был невелик ростом, легко поднял Хулию на руки. – Посвети-ка, Паулита, – сказал он, – сеньора потеряла сознание.
Действительно, Хулия была в обмороке. Паулита отворила дверь, и Москит, войдя в дом, опустил свою ношу на кровать во второй комнате.
– Хочешь, я останусь с тобой? – спросил Москит Паулиту.
– Не надо. Ступай по своим делам и долго не задерживайся.
Москит вышел, Паулита заперла за ним дверь. Хулия пришла в себя и глубоко вздохнула.
– Вам уже лучше? – спросила Паулита, подойдя к кровати.
– О да! Как я вам благодарна! Ведь я так несчастна, так несчастна!..
– И девушка снова залилась слезами.
– Успокойтесь, сеньора, успокойтесь! – повторяла Паулита, ласково гладя по руке свою гостью. – Вы нашли здесь мирный приют, забудьте же ваши невзгоды и успокойтесь. Я не прошу вас доверить мне свои тайны, я вашего доверия не стою, но я постараюсь принести вам утешение.
– Боже мой, сеньора, вы, конечно, имеете право знать, кого вы у себя приютили. Вы имеете право обо всем расспросить меня и даже выгнать из дому, если мой рассказ приведет вас в ужас.
– Выгнать вас? За что? Да сохранит меня бог от такого зла. Нет, сеньора, я у себя хозяйка и не считаюсь здесь ни с кем, кроме моего мужа – это он взял вас на руки и внес в дом. Знайте, мой муж одобряет все мои поступки. Нет, здесь вам будет покойно, здесь никто даже имени вашего не спросит.
– У вас золотое сердце, я доверю вам все мои горести. Слушайте…
– Помните, сеньора, я ни о чем вас не расспрашиваю, ничего не хочу знать.
– Да, я вижу, вы не любопытны, и все же я хочу довериться вам, облегчить свое сердце. Наконец-то в мире сыскался человек, которому я могу поведать мои невзгоды. Я уверена, мне не найти более достойного сердца, чем ваше; только вам я могу открыться, поведать мою тайну.
– Тогда говорите, сеньора, я сохраню вашу тайну и постараюсь утешить вас в горе.
Хулия приподнялась на кровати, Паулита села рядом с ней. Две женские головки, такие непохожие, хотя обе прелестные, прижались друг к другу, спаянные нерасторжимыми узами страдания и жалости.
Хулия не сразу справилась с волнением; наконец, решительно вытерев слезы и сделав над собой усилие, она стала рассказывать. Паулита с участием слушала ее исповедь.
Хулия поведала ей все свои беды, не умолчав ни о своей любви к Антонио, ни о домогательствах отчима, ни о проклятии матери. В свой рассказ, прерываемый слезами и тяжкими вздохами, она вложила столько искреннего чувства, что Паулита была растрогана.
– О, вы невиновны, и вы так несчастны, сеньора! – сказала она, выслушав исповедь до конца. – Я счастлива, что приютила вас у нашего бедного очага.
Прижав к себе головку Хулии, она поцеловала ее в лоб.
– Вы мой ангел-хранитель, – ответила Хулия. – Что было бы со мной, беззащитной и бесприютной, потерявшей всякую надежду на помощь? Вы – мое провидение. Я буду вечно благодарить вас.
– Не говорите больше, вы утомлены. Хотите чего-нибудь поесть?
– Нет, но мне уже лучше.
В эту минуту раздался стук в дверь. Паулита почувствовала, как Хулия вздрогнула.
– Не пугайтесь, это Москит, мой муж. – И, тихонько отстранив от себя девушку, Паулита поспешила к двери.
В комнату вошел Москит, но он был не один, его сопровождал закутанный в плащ незнакомец в низко надвинутой широкополой шляпе.
Ни слова не сказав Паулите, Москит подошел вместе с незнакомцем к порогу спальни, где лежала Хулия, и спросил, указывая на нее:
– Вот. Это она?
– Она! – воскликнул незнакомец, откидывая плащ и снимая шляпу.
– Дон Хусто! – удивилась девушка, узнав его.
– Да, это я, – ответил дон Хусто, – я, невольная причина всех бед, происшедших сегодня в вашем доме. Москиту я всецело доверяю; прослышав о вашем исчезновении, я послал за ним, чтобы разыскать вас. Судьба была ко мне милостива: едва я обратился к нему с просьбой найти вас, как узнал, что он приютил у себя незнакомую молодую девушку. Я сразу подумал, что это вы, и, не колеблясь, пришел сюда убедиться. Бог помог мне найти вас и предложить вам мои услуги в столь тягостный час.
Паулита, стоявшая позади дона Хусто, не удержалась от насмешливого движения, а Москит в ответ слегка нахмурил брови.
– Благодарю вас, сеньор, – ответила Хулия, – благодарю вас. Вы ни в чем не виноваты, поверьте, я сама ни о чем не догадывалась. Однако я пока не знаю, на что решиться. Я не в силах двинуться с места, мысли у меня в голове путаются, и, если хозяева мне разрешат, я останусь у них еще хотя бы дня на два.
– Конечно, конечно, – с жаром откликнулась Паулита, подходя к Хулии и словно желая защитить ее. – И не два дня, а два года. Я буду так счастлива, и поверьте, мы ни в чем не будем нуждаться, я заставлю Москита работать. Не правда ли, Москит, ты с радостью позаботишься о сеньоре?
– Верно, сеньора, – ответил Москит, – здесь вам будет спокойно, и вы ни в чем не будете терпеть недостатка.
– В таком случае, – сказал дон Хусто, – больше говорить не о чем. Тем не менее послезавтра я снова навещу вас, чтобы узнать, не надо ли вам чего-нибудь. До свидания, Хулия, до послезавтра. Если же вам что-либо понадобиться раньше, передайте через Москита.
– Благодарю вас, сеньор, благодарю, – повторила Хулия, протянув ему руку.
– Прощайте.
– Да, я хотела просить вас об одном одолжении, – сказала Хулия.
– Пожалуйста, всегда готов служить вам.
– Обещайте никому не говорить, что вы разыскали меня. Ни моей матери, ни дону Педро Хуану.
– Обещаю. Об этом будем знать только мы четверо на целом свете.
– Ах, сеньор, вы так добры! – Дон Хусто удалился, Москит проводил его до дверей. Паулита и Хулия остались вдвоем.
– Замечательный человек! – воскликнула Хулия.
– Напрасно вы так думаете, – возразила Паулита.
– Как?
– Не советую доверять ему.
– Но…
– Тише, Москит идет, он ему очень предан.
Закрыв за гостем дверь, Москит вернулся в спальню.
– И зачем ты только притащил с собой этого жука? – сказала Паулита.
– Что это с тобой? – спросил Москит.
– Ты знаешь, я недолюбливаю его.
– Он принял горячее участие в судьбе сеньоры, я хотел ее порадовать. У вас бывали с ним раньше размолвки?
– Нет, – ответила Хулия.
– Так в чем же дело?
– Просто предчувствие, – сказала Паулита.
– Если он себе хоть что-либо позволит, ему не поздоровиться, – пообещал Москит. – А теперь давайте спать.
Радушные хозяева ушли на ночь в соседнюю комнату, уступив гостье свою спальню.
– Посвети-ка, Паулита, – сказал он, – сеньора потеряла сознание.
Действительно, Хулия была в обмороке. Паулита отворила дверь, и Москит, войдя в дом, опустил свою ношу на кровать во второй комнате.
– Хочешь, я останусь с тобой? – спросил Москит Паулиту.
– Не надо. Ступай по своим делам и долго не задерживайся.
Москит вышел, Паулита заперла за ним дверь. Хулия пришла в себя и глубоко вздохнула.
– Вам уже лучше? – спросила Паулита, подойдя к кровати.
– О да! Как я вам благодарна! Ведь я так несчастна, так несчастна!..
– И девушка снова залилась слезами.
– Успокойтесь, сеньора, успокойтесь! – повторяла Паулита, ласково гладя по руке свою гостью. – Вы нашли здесь мирный приют, забудьте же ваши невзгоды и успокойтесь. Я не прошу вас доверить мне свои тайны, я вашего доверия не стою, но я постараюсь принести вам утешение.
– Боже мой, сеньора, вы, конечно, имеете право знать, кого вы у себя приютили. Вы имеете право обо всем расспросить меня и даже выгнать из дому, если мой рассказ приведет вас в ужас.
– Выгнать вас? За что? Да сохранит меня бог от такого зла. Нет, сеньора, я у себя хозяйка и не считаюсь здесь ни с кем, кроме моего мужа – это он взял вас на руки и внес в дом. Знайте, мой муж одобряет все мои поступки. Нет, здесь вам будет покойно, здесь никто даже имени вашего не спросит.
– У вас золотое сердце, я доверю вам все мои горести. Слушайте…
– Помните, сеньора, я ни о чем вас не расспрашиваю, ничего не хочу знать.
– Да, я вижу, вы не любопытны, и все же я хочу довериться вам, облегчить свое сердце. Наконец-то в мире сыскался человек, которому я могу поведать мои невзгоды. Я уверена, мне не найти более достойного сердца, чем ваше; только вам я могу открыться, поведать мою тайну.
– Тогда говорите, сеньора, я сохраню вашу тайну и постараюсь утешить вас в горе.
Хулия приподнялась на кровати, Паулита села рядом с ней. Две женские головки, такие непохожие, хотя обе прелестные, прижались друг к другу, спаянные нерасторжимыми узами страдания и жалости.
Хулия не сразу справилась с волнением; наконец, решительно вытерев слезы и сделав над собой усилие, она стала рассказывать. Паулита с участием слушала ее исповедь.
Хулия поведала ей все свои беды, не умолчав ни о своей любви к Антонио, ни о домогательствах отчима, ни о проклятии матери. В свой рассказ, прерываемый слезами и тяжкими вздохами, она вложила столько искреннего чувства, что Паулита была растрогана.
– О, вы невиновны, и вы так несчастны, сеньора! – сказала она, выслушав исповедь до конца. – Я счастлива, что приютила вас у нашего бедного очага.
Прижав к себе головку Хулии, она поцеловала ее в лоб.
– Вы мой ангел-хранитель, – ответила Хулия. – Что было бы со мной, беззащитной и бесприютной, потерявшей всякую надежду на помощь? Вы – мое провидение. Я буду вечно благодарить вас.
– Не говорите больше, вы утомлены. Хотите чего-нибудь поесть?
– Нет, но мне уже лучше.
В эту минуту раздался стук в дверь. Паулита почувствовала, как Хулия вздрогнула.
– Не пугайтесь, это Москит, мой муж. – И, тихонько отстранив от себя девушку, Паулита поспешила к двери.
В комнату вошел Москит, но он был не один, его сопровождал закутанный в плащ незнакомец в низко надвинутой широкополой шляпе.
Ни слова не сказав Паулите, Москит подошел вместе с незнакомцем к порогу спальни, где лежала Хулия, и спросил, указывая на нее:
– Вот. Это она?
– Она! – воскликнул незнакомец, откидывая плащ и снимая шляпу.
– Дон Хусто! – удивилась девушка, узнав его.
– Да, это я, – ответил дон Хусто, – я, невольная причина всех бед, происшедших сегодня в вашем доме. Москиту я всецело доверяю; прослышав о вашем исчезновении, я послал за ним, чтобы разыскать вас. Судьба была ко мне милостива: едва я обратился к нему с просьбой найти вас, как узнал, что он приютил у себя незнакомую молодую девушку. Я сразу подумал, что это вы, и, не колеблясь, пришел сюда убедиться. Бог помог мне найти вас и предложить вам мои услуги в столь тягостный час.
Паулита, стоявшая позади дона Хусто, не удержалась от насмешливого движения, а Москит в ответ слегка нахмурил брови.
– Благодарю вас, сеньор, – ответила Хулия, – благодарю вас. Вы ни в чем не виноваты, поверьте, я сама ни о чем не догадывалась. Однако я пока не знаю, на что решиться. Я не в силах двинуться с места, мысли у меня в голове путаются, и, если хозяева мне разрешат, я останусь у них еще хотя бы дня на два.
– Конечно, конечно, – с жаром откликнулась Паулита, подходя к Хулии и словно желая защитить ее. – И не два дня, а два года. Я буду так счастлива, и поверьте, мы ни в чем не будем нуждаться, я заставлю Москита работать. Не правда ли, Москит, ты с радостью позаботишься о сеньоре?
– Верно, сеньора, – ответил Москит, – здесь вам будет спокойно, и вы ни в чем не будете терпеть недостатка.
– В таком случае, – сказал дон Хусто, – больше говорить не о чем. Тем не менее послезавтра я снова навещу вас, чтобы узнать, не надо ли вам чего-нибудь. До свидания, Хулия, до послезавтра. Если же вам что-либо понадобиться раньше, передайте через Москита.
– Благодарю вас, сеньор, благодарю, – повторила Хулия, протянув ему руку.
– Прощайте.
– Да, я хотела просить вас об одном одолжении, – сказала Хулия.
– Пожалуйста, всегда готов служить вам.
– Обещайте никому не говорить, что вы разыскали меня. Ни моей матери, ни дону Педро Хуану.
– Обещаю. Об этом будем знать только мы четверо на целом свете.
– Ах, сеньор, вы так добры! – Дон Хусто удалился, Москит проводил его до дверей. Паулита и Хулия остались вдвоем.
– Замечательный человек! – воскликнула Хулия.
– Напрасно вы так думаете, – возразила Паулита.
– Как?
– Не советую доверять ему.
– Но…
– Тише, Москит идет, он ему очень предан.
Закрыв за гостем дверь, Москит вернулся в спальню.
– И зачем ты только притащил с собой этого жука? – сказала Паулита.
– Что это с тобой? – спросил Москит.
– Ты знаешь, я недолюбливаю его.
– Он принял горячее участие в судьбе сеньоры, я хотел ее порадовать. У вас бывали с ним раньше размолвки?
– Нет, – ответила Хулия.
– Так в чем же дело?
– Просто предчувствие, – сказала Паулита.
– Если он себе хоть что-либо позволит, ему не поздоровиться, – пообещал Москит. – А теперь давайте спать.
Радушные хозяева ушли на ночь в соседнюю комнату, уступив гостье свою спальню.
V. СДЕЛКА
Пробежав глазами прощальную записку жены, Педро Хуан бросился на ее половину, решив во что бы то ни стало помешать ей покинуть дом, и подоспел как раз в тот момент, когда сеньора Магдалена переступила за порог своей комнаты. – Магдалена! – воскликнул Педро Хуан. – Куда ты? – Я ухожу навсегда, – надменно ответила сеньора Магдалена. – Понимаешь ли ты, что делаешь? Произойдет ужасный скандал, о нас пойдут сказки по городу. – Я все обдумала. Что будет, то будет, но в этом доме я не останусь. – Магдалена, ради бога! – Пустите меня. – Дай сказать тебе хоть слово. – Ничего не желаю слышать. – Магдалена, опомнись, подумай… – Дайте мне пройти. – Послушай… – Не желаю слушать! – решительно воскликнула Магдалена и направилась к лестнице. – Что ж, поступай как хочешь, Магдалена, но завтра тебя замучают укоры совести, несправедливая, бесчеловечная мать! – Ты говоришь – несправедливая! – Сеньора Магдалена с негодованием повернулась к мужу. – Несправедливая? Бесчеловечная? – Да, – повторил Педро Хуан, – несправедливая! – И ты смеешь говорить это после того, как Хулия нанесла мне самое тяжкое оскорбление, какое только может нанести дочь своей матери? Ты называешь меня несправедливой за то, что я отреклась от дочери – твоей соучастницы? – Ты несправедлива, Магдалена. Чудовищно несправедлива. Хулия невинна. – Невинна? – Да, невинна! Клянусь спасением моей души! Она невинна, Магдалена. – А ее замешательство? Ее обморок? – Магдалена, настало время открыть тебе правду. Во всем виноват я. Я пытался соблазнить невинную девушку… – А что же она? – Она не желала слушать мои слова, всегда избегала и, наконец, возненавидела меня. Но дочерняя любовь, желание оградить тебя от горя заставляли ее молчать, а ты отплатила за ее любовь гнусным подозрением. – Так это правда, Педро Хуан? Ты не обманываешь меня? – Клянусь тебе всем святым, что есть на земле, Магдалена! Неужто ты не чувствуешь искренности моего признания? – Да, да, сердце мое подсказывает, что это правда, что ты не лжешь. Моя Хулия, моя дочь невиновна, а я оскорбила ее подозрением, я прокляла ее. – Ты ее прокляла? – Да. Ах, как я была жестока! Я должна увидеть ее, попросить у нее прощения!.. Хулия! Хулия! И сеньора Магдалена бросилась в комнату Хулии с криком: – Хулия, Хулия, моя дочь! Но Хулия была уже далеко. – Хулия! – повторяла сеньора Магдалена, заглядывая во все покои. – Где Хулия? Где моя дочь? – Сеньора, – сказал слуга, – сеньорита вышла из дому уже давно. – Боже мой! Как я перед ней виновата! – воскликнула сеньора Магдалена, падая в кресло. Педро Хуан немедля распорядился, чтобы все слуги отправились на розыски Хулии; потом, взяв шляпу и плащ, он сам вышел из дому, оставив сеньору Магдалену в глубоком отчаянии. Один из слуг рассказал дону Хусто об исчезновении Хулии, вот почему ему и удалось по чистой случайности найти ее. Но был уже поздний час, кроме того, он ничего не знал о раскаянии сеньоры Магдалены, да и Хулия просила его сохранить все в тайне, так что он решил не сообщать пока семье, где беглянка нашла себе приют. И наконец, он полагал, что ему легче добиться своей цели, пока беззащитная Хулия живет у Паулиты, а не у себя дома рядом с Педро Хуаном. Итак, дон Хусто в самом радужном настроении отправился домой, помалкивая о своей нежданной удаче. А в доме Педро Хуана по-прежнему царила тревога. Слуги продолжали безуспешные поиски и возвращались с самыми неутешительными вестями. По одним сведениям, какие-то приезжие встретили молодую девушку, вероятно, Хулию, по дороге на Койоакан. Другие утверждали, что молодая девушка на глазах у альгвасила бросилась в канал. А иные делали предположение, что Хулия нашла убежище в монастыре. Сеньора Магдалена с редким мужеством выслушивала все противоречивые сведения и предположения. Сердце матери обливалось кровью; она обвиняла себя в гибели дочери, – позабыв священные узы, которые связывают мать и дочь, она дала ревности одержать над собой победу. Ночь прошла в мучительной неизвестности; сеньора Магдалена молилась, не зная покоя; Педро Хуан в сопровождении слуг с факелами и фонарями обходил улицы, выспрашивал всех дозорных и прохожих, стучась во все двери. Уже брезжило утро, когда бывший живодер вернулся домой, измученный и приунывший: он ничего не узнал, не принес жене никаких утешительных вестей, не мог подать ни малейшей надежды. Несчастная мать рыдала и была на грани безумия. Педро Хуан опустился рядом с ней в кресло; вскоре усталость взяла свое, и он уснул. Так прошло утро. Сеньора Магдалена заперлась в спальне и отказалась от еды. Педро Хуан позавтракал с аппетитом и снова взялся за свои бесплодные поиски. Он вернулся в сумерки, так и не узнав, где скрывается Хулия. Колокол ударил к вечерней молитве, когда слуга доложил сеньоре Магдалене, что ее желает видеть незнакомая женщина. – Скажи, что я никого не принимаю, у меня в семье большое горе, – ответила Магдалена. – Я так и сказал ей, но она настаивает, говорит, что это дело весьма интересует вашу милость. – Ну что ж, проси ее, – разрешила наконец сеньора Магдалена и вошла в соседнюю комнату. Перед ней стояла женщина вся в черном; под густой вуалью. С церемонным поклоном хозяйка дома указала гостье на стул. – Сеньора, – начала женщина под вуалью, – меня привело к вам важное дело, и я желала бы поговорить с вами со всей откровенностью. – Я слушаю вас, – ответила сеньора Магдалена. – Сеньора, ваша дочь у меня в доме… – Моя дочь? Хулия? – Именно так, сеньора. Мы с мужем люди бедные, но, пока мы живы и здоровы, мы не станем сидеть сложа руки, и ваша дочь не будет терпеть нужды… – Но… – Разрешите мне закончить. Я буду беречь сеньориту Хулию, как зеницу моего ока, она настоящий ангел, и я была бы счастлива, если бы она навсегда осталась у нас, но она плачет, грустит, и я решила: «Пойду и поговорю с этой жестокой матерью…» – Сеньора, что вы говорите? – Прошу прощения, ваша милость, но я, право, не пойму вас, богачей. Если дети бедняков уходят из дому, так их нужда гонит на заработки, ведь один отец не может прокормить всю семью; но мы, бедняки, неспособны со зла выгнать из дому дочь, да еще такую красавицу; не ровен час, она может погибнуть на улице. – Но вы не знаете… – Я все знаю. И Хулия правильно поступила, рассказав мне, как ваша милость вбила себе в голову, будто у дочки любовь с вашим мужем, и, ничего не разузнав, выгнала дочку вон. – Но я совсем не гнала Хулию из дому, напротив, ее исчезновение стоило мне многих слез. – Да, да, я знаю, ваша милость не сказала дочери: поди прочь, но прокляла ее. Пресвятая дева! Ведь вот вы, богачи, какие: проклинаете своих детей, а о спасении души и не думаете. Нам, беднякам, случается поколотить детей, но проклясть – упаси нас боже. Ведь проклятие губит детей, а если оно несправедливо, то заодно и родителей. Как ваша милость не подумала об этом? Слова Паулиты звучали суровым укором, сеньора Магдалена сидела, не поднимая головы. Ее терзали укоры совести. – Но я решила вмешаться в чужие дела, – продолжала Паулита, – пришла без ведома сеньориты к вашей милости и все выложила, как есть. Я больше не в силах смотреть на слезы бедняжки. Ведь у вас, ваша милость, тоже небось сердце кровью исходит. – Пусть она поскорее возвращается домой, я приму ее с распростертыми объятиями. – Что вы, сеньора! Да как ей сюда вернуться, ведь она покинула дом, потому что мать прокляла ее. Да и какая я заступница за Хулию? Я ничего не значу, вот и выйдет, будто она придет сюда за прощением, как за милостыней, хотя ни в чем не виновата и ничем не заслужила такой несправедливости. Сеньора Магдалена почувствовала себя пристыженной. – Да я не знаю, согласна ли она к вам вернуться. У каждого ведь есть свое достоинство. Что, если завтра повторится все сызнова? – Так как же, по-вашему, мне следует поступить? – произнесла сеньора Магдалена, чувствуя себя окончательно уничтоженной. – Думаю, лучше всего рассказать ей весь наш разговор с вами, и, если она примет это спокойно, я пошлю к вашей милости моего мужа, и вы сами придете за Хулией. Вот как, мне кажется, лучше всего сделать. – Где вы живете? – Я пришлю мужа, он вас проводит; я живу близехонько от главной площади; дайте, ваша милость, мне какую-нибудь вещицу, по ней вы узнаете моего мужа. – Вот возьмите, – сказала сеньора Магдалена, снимая с пальца драгоценный перстень. – Нет, перстень не годится, не ровен час, он потеряется, а ваша милость подумает, что я взяла его себе. – Но Хулия знает этот перстень, он послужит ей доказательством, что вы говорили со мной. – А этого вовсе не требуется. Хулия достаточно хорошо меня знает, чтобы не сомневаться во мне. Дайте ваш носовой платок. – Вот он, – ответила сеньора Магдалена, – но будьте добры, примите от меня в подарок этот перстень за те одолжения, которые вы оказали Хулии. – Какие одолжения? – Вы пригласили ее к себе, она живет у вас. – Ах вот оно что! Нет, нет, оставьте перстень у себя. Раньше у меня и в самом деле был постоялый двор; но один благородный человек, попавший сейчас в беду, обеспечил мою жизнь, я вышла замуж и больше не держу постояльцев. Бог да хранит вашу милость. По натуре своей сеньора Магдалена была доброй, но она не умела обращаться с простыми честными людьми, вот почему она в тот вечер потерпела жестокое поражение в разговоре с Паулитой. Гостья поднялась и направилась к двери. – Ах, простите! Как вас зовут? – спохватилась наконец сеньора Магдалена. – Меня зовут Паулита, а замужем я за Москитом. – Москит – это его имя? – Нет, сеньора, – рассмеялась Паулита, – его так прозвали за маленький рост. Услышав, что мужа Паулиты зовут не по имени, а по кличке, сеньора Магдалена не скрыла своего неприятного удивления, позабыв при этом, что ее собственного мужа прозвали на Эспаньоле Медведь-толстосум. От Паулиты не укрылась пренебрежительная усмешка на лице Магдалены, и она сказала: – Знаете, ваша милость, мой покровитель однажды рассказал мне, что даже у королей бывают прозвища. Так отчего же беднякам от них отказываться? Сеньора Магдалена прикусила язык и поспешила оправдаться: – Нет, нет, я ведь ничего не говорю. – Это верно. Прощайте, ваша милость, храни вас бог. – С этими словами Паулита вышла на улицу, где ее поджидал Москит, сидя на корточках против дома. – Ну как? – спросил он. – Все устроилось как нельзя лучше. – Рассказывай. – Расскажу дома при Хулии. – Она будет рада? – О да, если только ей хочется вернуться домой. – Стоит ли ей возвращаться? – Ей решать. Весело болтая, Паулита вместе с мужем направилась домой, где их с нетерпением поджидала Хулия.VI. БРАЧНЫЕ ПЛАНЫ
Хулия в отсутствие хозяев оставалась в доме одна. Паулита скрыла от молодой девушки, куда она идет, так как не была уверена в успехе своей затеи. Зная, что Хулии не по душе оставаться одной в доме, Паулита посоветовала ей запереть дверь на замок и не открывать никому, пока не раздастся условный стук. Незадолго до возвращения Паулиты к дому подошли два незнакомца, закутанные в плащи до самых глаз, и постучались; но это не был условный стук, и Хулия не шелохнулась. Стук в дверь повторился, но снова безуспешно. Незнакомцы стали между собой переговариваться. – А ты уверен, что это его дом? – Еще бы, ведь вчера утром я сам был здесь вместе с Москитом. – Однако никто нам не отворяет, а ты говорил, что Паулита по вечерам всегда дома. – Но вы поглядите, ваша милость, внутри свет. Тот, кого называли «ваша милость», приложил глаз к замочной скважине. – В самом деле! – воскликнул он. – Свет горит. Может, Паулита уснула. Стучи покрепче. И оба принялись громко стучать. – Пожалуй, они все-таки ушли. – Возможно, но, раз она оставила свет, значит, скоро вернется. – Придем еще раз попозже. – Как прикажет ваша милость. Незнакомцы ушли. Черезмгновение вернулись Паулита и Москит. Едва они постучались, как Хулия открыла им. – Благодарите меня, моя красавица, благодарите! – сказала Паулита, обнимая Хулию. – Благодарить за что? – спросила та. – А вы не знаете, где я только что была? – Не могу догадаться. – У вас дома. – Дома? – Да, и видела сеньору. Она горько кается, что так обошлась с вами, и хочет вас видеть. – Но что вы ей сказали? – Много хорошего, особенно для вас: и, если вы захотите, я пошлю Москита вот с этим носовым платком, и ваша мать придет за вами. – Паулита, как я вам благодарна за все! Но мне тяжело вернуться в дом, где у моей матери родилось такое ужасное подозрение… – Я так и сказала ей, поэтому она и не пришла со мной; нужно, чтобы вы на это согласились по доброй воле. – О, если б мне было куда уйти!.. – Неблагодарная. Здесь вы у себя дома. – Паулита, верю вам, но поймите, долго оставаться в таком положении невозможно. – Я понимаю. – Что делать? – Может, я скажу глупость, но почему бы вам не выйти замуж, как предлагает ваша мать? – Сохрани, боже! – Почему? Скажите откровенно. – Паулита, вы же знаете, я люблю другого. – Знаю, но из этой любви ничего путного не выйдет: он пират, и сами понимаете, ну как он может появиться во владениях испанского короля? Вы тоже не в силах разыскивать его по океанам, так когда же и как вы с ним встретитесь? Слышали, что о них рассказывают, – они похищают женщин, а потом, когда подруга им прискучит, убивают ее. – Что вы, Антонио такой хороший. – Они все хороши, когда мы их любим и когда они нас домогаются. Потом, узнав их поближе, мы каемся, что были так доверчивы. Ваш Антонио такой же, как и все остальные пираты. Иначе он ушел бы от них. – Но я его так люблю! – То-то и худо, что вы его любите. Поймите, он для вас недосягаем, как звезда на небе. Когда мы молоды, у нас в голове одни глупости, а потом приходится раскаиваться. – А я все-таки верю, что мы с ним снова увидимся. – Вы с ума сошли, Хулия! Уж не думаете ли вы, что пират посмеет показаться в Мехико? Да его повесят, едва он сойдет на берег. Может, вы надеетесь вернуться на Эспаньолу? Но и в этом случае вы не увидите его, ведь с этими людьми можно встретиться только случайно; а кроме того, вам не так-то просто уехать из Новой Испании. Послушайтесь моего совета, забудьте, как сон, вашу несбыточную любовь. Примите предложение и выходите замуж. Покинув дом вашей матери, вы будете полной хозяйкой у себя. Уверяю вас, кому вы ни расскажете о своей любви к пирату, всяк посмеется над вами. Это как если бы я влюбилась в турецкого султана. – Но ведь он так любит меня! – Хулия, Хулия, вы ребенок. Думаете, он вспоминает о вас? Да он понятия не имеет, куда вас забросила судьба. И уж конечно, он не так наивен, как вы, и не станет хранить вам верность, – уж он-то понимает, что вам с ним больше не встретиться. У них повсюду жены, в каждом селении, в каждой деревне; самые знатные девушки становятся их добычей. Примиритесь с тем, что он больше не думает о своей Хулии, для него она умерла. – Паулита, если б вы знали, как мне больно от ваших слов! – Мне очень жаль, но я полюбила вас, как сестру, и хочу излечить вас от этого безумия; вот почему я советую вам принять предложение и заодно уйти из дома, где с вами так дурно обошлись. Сперва это покажется вам тяжкой жертвой, вы все время будете думать о вашем пирате, он будет мерещиться вам повсюду. Но через год вы поблагодарите меня и сами будете смеяться над своей былой любовью. Ну, как, согласны вы, чтобы я послала мужа за вашей матерью? Хулия задумалась, потом ответила с решимостью: – Согласна. – Вот, дорогой мой Москит, – сказала Паулита, – отнеси этот платок сеньоре, у которой я была, и скажи, что дочь ждет ее. Москит торопливо вышел. – Теперь, когда мы одни, – продолжала Паулита, – я расскажу вам в утешение, что в моей жизни тоже была первая любовь, я тоже полюбила человека, который был для меня недосягаем, но не потому, что он уехал в дальние края и я потеряла надежду встретиться с ним, а потому, что он был графом, а я – простой бедной девушкой. Я стала бы ему не женой, а возлюбленной, он это понимал и объяснил мне, что нас разделяет пропасть. Он удержал меня от падения, я послушалась его и вышла замуж за Москита. Сердце мое разрывалось, но теперь я знаю, что поступила правильно: кем я была бы сейчас? – потерянной женщиной. Я все еще люблю его и не могу без волнения о нем вспоминать, но я крепко держу себя в руках и живу своей жизнью, понимая, что не мог жениться на мне дон Энрике Руис де Мендилуэта. – Так его звали? – Звали и продолжают звать. Дон Энрике Руис де Мендилуэта не умер, нет. Правда, никто не знает, куда он исчез, но я уверена, что он жив. – Вы очень страдали? – Очень. Но я одумалась. Любить недосягаемого для нас человека – сущее безумие, верьте, Хулия, я это узнала по опыту; а вы не могли бы стать даже возлюбленной человека, которого вам не суждено больше увидеть. Закрыв лицо руками, Хулия расплакалась. Паулита подошла к ней и стала гладить ее по голове. – Мне очень жаль, что я причиняю вам боль, – сказала она, – но вы мне говорили, что у вас нет настоящей подруги и некому дать вам разумный совет. Вы уже не можете по-прежнему спокойно жить у себя дома, ревность отравила сердце вашей матери, она всегда будет относиться к вам с недоверием. А кроме того, едва ли дон Педро Хуан откажется от своих посягательств. – После всего происшедшего надеюсь, что откажется. – Вы ошибаетесь; буря утихнет, понемногу он придет в себя и снова воспылает к вам страстью. Живя с вами под одним кровом, он опять начнет домогаться вашей любви, пока не разразится новая буря, похуже той, что пронеслась. – Вот потому-то мне и не хочется возвращаться домой. – Но куда же вам деться? Может, у вас призвание к монашеской жизни? – О нет, нет! – В таком случае, где бы вы ни поселились, вам угрожают преследования этого человека, и тогда если до вашей матери дойдут какие-нибудь слухи, она решит, что вы покинули ее дом, желая приобрести свободу. – Боже мой! Что же делать? – Хулия, только ли любовь к пирату мешает вам выйти за того, кого вам прочит в мужья мать? – Только любовь к нему; если я потеряю надежду, мне все станет безразличным на этом свете. – Ну, с любовью к пирату надо распрощаться. – Не говорите этого… – Такова жизнь. Решайтесь, выбросьте из головы все безумные мысли; никто не мешает вам по-прежнему любить пирата; но не мечтайте о невозможном. Возьмите пример с меня… – Вы не любили по-настоящему. – Как, я не любила его по-настоящему? Хулия, да я и сейчас еще всем сердцем люблю его; люблю до сих пор, хотя могу лишь вспоминать о прошлом. Я без памяти люблю его, и это святая святых моего сердца, я храню мое чувство, несмотря на все непреодолимые преграды, которые разлучили нас. Мне пришлось и, может, еще придется выдержать немалую борьбу с моим чувством, ведь я видела его, говорила с ним, он сидел рядом со мной, сжимая мою руку, и, наконец, ведь он знал, что я люблю его. Я чувствую, мне еще суждено с ним встретиться в жизни, но верьте мне, Хулия, я сумею совладать с собой. А теперь скажите, можно ли сравнить вашу мечтательную любовь с моими страданиями, с моей мучительной повседневной борьбой, – ведь стоило мне сказать одно только слово, и я стала бы если не женой, то любовницей человека, которого я боготворю? Хулия, продолжайте любить вашего пирата, но ради этого детского чувства не приносите в жертву вашу будущность и покой вашей матери. В эту минуту с улицы донесся шум экипажа и раздался стул к в дверь. – Это ваша мать, – сказала Паулита и поспешила к двери. Хулия смертельно побледнела; дверь отворилась, и в дом вошел Москит, а следом за ним сеньора Магдалена. Мать и дочь бросились друг другу в объятия и разрыдались, не в силах вымолвить ни слова. Москит отозвал Паулиту и шепнул ей: – Как ты думаешь, кого я встретил по дороге, идя к этой сеньоре? – Кого же? – спросила Паулита. – Дона Энрике собственной персоной. – Господи! – воскликнула Паулита и вся затрепетала. – Не пугайся, лучше придумай, куда его спрятать: он приехал, рискуя жизнью. – Но что он тебе сказал? – спросила молодая женщина, едва держась на ногах от волнения. – Что я ему для чего-то нужен. Завтра в полночь он ждет меня против собора. – И больше ничего? – Ничего. – А про меня не спросил? – Нет. Паулита подавила вздох, чувствуя, как печаль переполняет ее сердце. «Если бы Хулия любила так сильно, как люблю я!» – подумала про себя молодая женщина. Наконец дочь и мать заговорили. – Успокойся, дочурка, не плачь, – сказала мать, утирая слезы, – едем домой, и прости мне все. Ты не знаешь, что такое ревность, и не дай тебе бог когда-нибудь узнать это чувство. Едем домой. – И мать взяла Хулию за руку. Хулия покорно поднялась. – Прощайте, Паулита, – сказала она, обнимая молодую женщину. – Прощайте, – ответила та и разрыдалась, не в силах долее сдерживать свое волнение. – Паулита, приходите завтра же к нам, – сказала Хулия, – я жду вас. – Да, да, непременно приду, – ответила Паулита, – нам нужно еще закончить наш разговор. Хулия и сеньора Магдалена сели в экипаж и в окружении пеших слуг с фонарями отправились домой. Переступив порог жилища, покинутого после такого тягостного объяснения с матерью, Хулия разом вспомнила все рассудительные советы Паулиты; казалось, из глубины сердца звучит чей-то голос и повторяет все сызнова. Да, Паулита несомненно права. Сеньора Магдалена хмурилась и бросала по сторонам встревоженные взгляды. Угадав, что творится в сердце матери, Хулия мгновенно приняла решение принести себя в жертву ради ее счастья. – Матушка, – не колеблясь долее, начала она, – вы говорили, что кто-то просил моей руки? – Да, дон Хусто, брат графини Торре-Леаль, – ответила удивленная сеньора Магдалена. – Так скажите ему, что я согласна. Только пусть не вздумает медлить и откладывать. – Благодарю тебя, дочурка, благодарю. Да благословит тебя бог! – воскликнула, заливаясь слезами, сеньора Магдалена и бросилась в объятия дочери. – Ради вас, матушка, – прошептала Хулия. И обе умолкли.VII. ШЕСТОЕ АВГУСТА
Шестого августа 1669 года в одиннадцать часов ночи в дом к донье Ане постучался закутанный в плащ человек. То был дон Диего, который пришел увидеться с ней впервые после описанной нами в свое время сцены. Донья Ана грустила; дон Диего вырвался из ее объятий и, признавшись ей в любви, больше не приходил. Тщетно молодая женщина поджидала его каждый вечер; шли дни, дон Диего не появлялся. Смертельная тревога охватила донью Ану. «Он пренебрег моей любовью, – думала она, – что мне делать дальше в этом уединении?.. Нет, нет, он еще придет, придет, я буду ждать». В эту минуту в прихожей раздался стук в дверь. – Это он! – воскликнула донья Ана, поспешно расправляя складки платья и приглаживая волосы. Послышались шаги на лестнице, потом в коридоре, и, наконец, дверь отворилась. – Дон Диего! – воскликнула молодая женщина, поднимаясь к нему навстречу. – Донья Ана! – Я боялась, что вы больше не придете. – И вы не ошибались, донья Ана, я и впрямь решил больше не видеться с вами. – Неблагодарный! – Совесть мучила меня. Но я непрестанно думал о вас, вспоминал каждое ваше слово, и мне вдруг стало невыносимо грустно в моем одиночестве. Тогда я решил прийти и сказать вам… – Что? Что? – Что я люблю вас, что мне нужна ваша любовь, вы… – Дон Диего! – воскликнула донья Ана, бросаясь в его объятия, – как я счастлива! – И я счастлив, донья Ана. Я понял, что Марина безвозвратно потеряна для меня. Я, как и вы, одинок в этом мире. Вы любите меня и достойны моей любви. Я виноват перед вами и должен загладить свою вину. – Загладить вину? Но какую вину, дон Диего? – Я был причиной всех ваших бед, Ана, это я посоветовал Эстраде похитить вас. В ту ночь он пришел ко мне и предложил, что откажется от вас, уступит вас мне, но в своем ослеплении я пренебрег этим счастливым случаем и причинил нам обоим незабываемое горе. – Не надо больше говорить об этом, если вы в самом деле считаете меня достойной вашей любви. – Да, вы достойны ее, Ана, я, и только я, виновен в том, что вы стали возлюбленной дона Кристобаля де Эстрады. Теперь бог посылает мне возможность загладить мою вину перед вами, и я это сделаю. Вы будете моей женой, Ана. – О, это слишком большое счастье! – воскликнула взволнованная донья Ана. – Этого я не заслужила. Снова подняться в ваших глазах – какая радость для меня! – Ана, я люблю вас, вы стоите моей любви, я сделаю вас счастливой; вы утешите меня в одиночестве, замените мать моей бедной дочери, мы уедем далеко-далеко, туда, где нас никто не знает. К счастью, я еще молод и богат, мы можем начать новую жизнь. – Дон Диего! Вы – ангел! – Завтра утром уложите ваши вещи, после полудня мы покинем город. – О, какое счастье, какое счастье! – Завтра в два часа дня я заеду за вами в коляске. – Боже мой, ночь покажется мне вечностью! Настал счастливейший день моей жизни. Какое сегодня число? Я хочу навсегда сохранить его в памяти. – Право, не помню. – А я помню, сегодня шестое августа. – Шестое августа? – проговорил ошеломленный дон Диего, вспоминая, что именно в этот день назначена его встреча с доном Энрике. – Да, шестое августа! Но что с вами? – Ничего, – ответил дон Диего, вынимая из кармана золотые часы, осыпанные драгоценными каменьями. – Без четверти двенадцать, – сказал он про себя. – Но почему вы вдруг помрачнели? Этот день связан для вас с тягостными воспоминаниями? – Да, Ана. Я должен немедленно уйти. – Объясните же, в чем дело, дон Диего. – Теперь некогда, оставим до завтра. Прощайте, моя прекрасная дама, – сказал он, целуя ее. – Прощайте, любовь моя. Дон Диего поспешно удалился. – Тут скрыта тайна, – сказала донья Ана, оставшись одна. – Но все же он мой. Дон Диего направился на ближайшую улицу, туда, где была назначена встреча. Впрочем, он не верил в нее. Дон Энрике был в его глазах обманщиком, – он обещал ему вызволить из плена жену, а вместо доньи Марины ему передали донью Ану. Юный пират, несомненно, скитается где-то вдали от Мексики, и все же дон Диего сдержит данное слово. Была полночь, когда дон Диего, свернув на улицу Такуба, подошел к тому дому, где некогда жила донья Марина. Из комнат через балконы просачивался свет – необычное явление для столь позднего часа. Едва дон Диего остановился напротив дома, как из дверей показалась человеческая фигура. – Кто идет? – спросил Индиано. – Тот, кто вам назначил встречу. – Дон Энрике! – Да, это я, дон Диего. Как вы знаете, не в моих обычаях нарушать данное слово. – И несмотря на это, вы позволили себе низко обмануть меня. – Замолчите или, клянусь, вы раскаетесь в своих словах. – В добрый час, – ответил дон Диего, хватаясь за шпагу, – защищайтесь, и пусть бог нас рассудит. – Еще не пришло время, – сдержанно ответил дон Энрике, не дотронувшись до своего оружия, – но оно скоро настанет. А пока что будьте добры последовать за мной. – Куда? – Вы боитесь? – Нисколько. Ведите. Дон Энрике сделал пол-оборота и очутился против входа в дом; отворив дверь, он пересек патио, Индиано последовал за ним. Дон Энрике одним духом поднялся по лестнице, Индиано не отставал от него. Печальные и мучительные воспоминания теснились в душе дона Диего: перед ним возник прекрасный образ доньи Марины, ее лицо, оживленное первой любовью, вереница проведенных здесь вместе блаженных дней… К этим воспоминаниям присоединились память о горестных событиях в Портобело, страх за судьбу бедной Марины и угрызения совести из-за любви к донье Ане, которую он обещал увезти завтра из Мехико. Противоречивые мысли сменяли одна другую. Внезапно ему пришло на ум, что, пожалуй, для полноты мщения дон Энрике задумал убить своего врага именно здесь, ведь здесь, в этом доме, ему было нанесено столь тяжкое оскорбление. Дон Диего был человек отважный, но порой темные предчувствия сжимают и леденят сердце даже самого безрассудного смельчака. Дойдя до главного зала, дон Диего невольно остановился и опустил руку на эфес шпаги. Дон Энрике даже не взглянул на него; распахнув дверь, он стремительно перешагнул порог зала. За ним, не отставая, вошел Индиано, но, едва оказавшись за порогом, он вскрикнул и застыл на месте. Зал был по-царски убран и залит огнями, а в кресле у стола сидела донья Марина. При виде дона Энрике молодая женщина подняла голову; заметив позади него дона Диего, она попыталась встать, но силы покинули ее, и, произнеся какие-то невнятные слова, она протянула ему навстречу руки. – Дон Диего, – торжественно проговорил дон Энрике, – вот ваша супруга, такая же чистая и непорочная, как в день вашей разлуки. Ее добродетели и красота украсились ныне сияющим ореолом мученицы. Ее сердце восторжествовало над жестокими испытаниями. По милости бога, благодаря ее твердости и моей счастливой звезде, донья Марина вернулась к вам; прижмите же ее к своей груди, она достойна восхищения. – Марина, – сказал Индиано, обнимая свою молчаливую и трепещущую подругу. – Марина, не сон ли это? Я снова с тобой, снова прижимаю тебя к моей груди. Так скажи хоть слово, скажи, что я не грежу. – Нет, ты не грезишь, Диего, – прошептала Марина. – Господь вернул нам счастье. Дон Энрике собирался покинуть зал и оставить супругов наедине, но Марина, тихонько отстранив мужа, удержала своего спасителя за руку. – Диего, – сказала она, – вот человек, которому мы после бога обязаны своим счастьем и честью. Он был моим покровителем среди невзгод, моим прибежищем в горе. Это он поддерживал во мне силы, ради моего спасения рисковал жизнью, вырвал меня из плена, с неслыханной дерзостью проложив себе путь сквозь флотилию беспощадного Моргана. – Марина, ты еще не знаешь, насколько благороден этот человек: одержав надо мной победу в крепости Портобело, он подарил мне свободу и жизнь. Когда пираты увезли тебя, я обвинял его в обмане – ведь он обещал добиться твоего освобождения. Но я тогда еще не знал всего величия этой души. Кабальеро дон Энрике Руис де Мендилуэта, сеньор граф Торре-Леаль, согласны ли вы почтить своей дружбой двух спасенных вами людей? – Сеньор дон Диего де Альварес, я не кабальеро и не граф, я всего-навсего изгнанник, мексиканец без имени, человек, потерявший родину и семью. Я – пират Железная Рука, явившийся сюда, чтобы поспеть вовремя на свидание с вами, назначенное мною на сегодняшнюю ночь. Назначая вам эту встречу, я горел желанием отомстить вам за страшное оскорбление. Сейчас я не решаюсь больше мстить; я удовлетворен тем, что смог передать вам из рук в руки вашу жену, я осчастливил моих врагов, в моем сердце не осталось места для прежней жгучей злобы. – И вы отказываетесь от нашей дружбы? – спросила донья Марина. – Сеньора, я не хочу тешить себя несбыточными мечтами. – Почему же несбыточными? – Сегодня ночью я уезжаю. – Куда? – Не знаю. Куда-нибудь в дальние края, чтобы там похоронить мои невзгоды. Я должен исчезнуть, бежать от гнева вице-короля. Надежный человек ожидает меня в полночь у собора; с ним я обдумаю мой путь, и завтрашний рассвет застанет меня далеко отсюда. – Дон Энрике! – воскликнул Индиано. – По моей вине вы потеряли родину, имя, богатство, будущность. За зло вы отплатили добром. Так завершите мое счастье, позвольте вернуть вам все, что я у вас отнял. – Это невозможно, все потеряно навеки. – Окажите мне эту последнюю милость, иначе совесть не даст мне покоя. Я уверен, что добьюсь своей цели. – Но как? – печально спросил юноша. – Сейчас я еще и сам точно не знаю как, но я твердо убежден в успехе. – Не надейтесь. – Я прошу вас о немногом, дон Энрике, дайте мне всего неделю срока. Что значит для вас неделю? Вы проведете ее тайно в моем доме, и, если за этот срок я ничего не достигну, даю вам слово быть с вами откровенным и не удерживать вас дольше. – Дон Диего… – Исполните мою просьбу, подумайте о вашем будущем, о вашем счастье. Я бесконечно благодарен вам и не стыжусь признаться, что вы превзошли меня в мужестве и благородстве. – Соглашайтесь, – сказала донья Марина. – Пусть будет по-вашему, – уступил дон Энрике. Индиано и Марина обняли его. На глазах юноши навернулись слезы. – А теперь, – сказал Индиано жене, – пойдем к нашей дочурке. – Да, да! – подхватила, повеселев, донья Марина. – И вы пойдете с нами, дон Энрике. Все трое с облегченным и радостным сердцем вышли на улицу и поспешили к дому дона Диего.VIII. РАДОСТЬ ДОНА ХУСТО
Ровно в полночь, как было условлено, Москит стоял против собора, поджидая дона Энрике, но тот уже и не вспоминал о нем. Часы шли, Москит дрожал от утренней свежести, но не покидал своего поста до тех пор, пока солнечные лучи не позолотили городских башен. – Итак, дон Энрике не пришел, – сказал про себя Москит, – вернемся восвояси. Если я ему нужен, он знает, где меня найти. – И Москит направился домой. Паулита с нетерпением ждала мужа; весть о том, что дон Энрике в Мехико, наполнила таким смятением ее сердце, что она не могла ни заснуть, ни даже прилечь. От Москита она знала, что дон Энрике назначил ему встречу ночью у собора, и надеялась услышать о новых планах юноши; ей то и дело чудились шаги по лестнице и стук в дверь. Несмотря на свою непреклонную решимость, о которой Паулита твердила Хулии, ей было трудно сладить с сердцем. Наконец муж вернулся. – Как, ты еще не ложилась, Паулита? – удивился он. – Что случилось? – спросила она, не отвечая на вопрос мужа. – Ничего. Дон Энрике не пришел, а я зря всю ночь на улице проторчал. – Но почему он задержался? – Не знаю; да и кто может знать, что там у него стряслось. – Как же теперь быть? – Я понятия не имею, где его искать. Сегодня к вечеру он, верно, сам придет ко мне. А тем временем я сосну часок, думаю, что и тебе не мешает отдохнуть. – Мне спать не хочется, лучше я схожу к Хулии. – Как ты привязалась к ней! – Она такая хорошая и такая несчастная! – Ну что ж, иди. Москит улегся и вскоре безмятежно захрапел. Паулита оделась тщательнее обычного; мысль о доне Энрике не шла у нее из головы, ей казалось, что она непременно встретится с ним на улице, вот почему она постаралась принарядиться. С гордым сознанием своей красоты она вышла на улицу и направилась к дому Хулии. Несмотря на раннее время – пробило только восемь часов утра, – весь дом был на ногах. Хулия не показывалась из своей комнаты; сеньора Магдалена успела послать дону Хусто записку. Паулита и дон Хусто подошли к дому почти одновременно, он спешил к сеньоре Магдалене, она – к сеньорите Хулии. Тихонько постучавшись, Паулита вошла в спальню к подруге. Хулия была очень бледна; темные тени под глазами говорили о том, что она провела бессонную ночь. При виде Паулиты она поднялась к ней навстречу. – Добрый день, Хулия. Как вы себя чувствуете? Вы видите, я прибежала к вам чуть свет, мне стало вдруг тревожно. – Вы доставили мне большую радость, Паулита. Я очень несчастна, и, кроме вас, у меня нет друга… – Ну, как? Что говорит ваша мать? Что вы надумали? – Паулита, ваши советы, тревога, которую я прочла в глазах матушки, ее плохо скрытая грусть, воспоминания обо всем, что здесь произошло, страх перед жизнью, ожидающей меня в материнском доме, – все это, как мне ни больно, заставило меня принять твердое решение. – И что же вы решили? – Выйти замуж, как того желает матушка. – Слава богу! Слава богу! Вот разумное решение! Увидите, вы будете поминать меня добрым словом. – Да, я решилась и уже сказала об этом маме, но просила ее об одном… – О чем же? – Поспешить со свадьбой. – Боже мой, так у вас больше решимости, чем я предполагала. – Мне не на что больше надеяться, к чему же оттягивать? Для меня это тягостная жертва, но бедная мама получит наконец душевный покой. Пусть хоть она будет счастлива, раз для меня счастье невозможно. Я помеха на ее пути, мое замужество все уладит. – Но кого она выбрала вам в мужья? Вы-то знаете этого человека? – Как же! Это брат графини де Торре-Леаль, дон Хусто, тот самый, что разыскал меня у вас в доме. У Паулиты вырвался возглас досады. – Вы знаете что-нибудь плохое о нем? – спросила Хулия. – Нет, я просто не люблю его, ведь он враг дона Энрике. – Того человека, которого вы любили? – И продолжаю любить, Хулия, продолжаю любить; на мою беду, он приехал в Мехико. – Когда? – Точно не знаю; но, едва вы вчера уехали от нас, муж рассказал, что видел его и говорил с ним. – И эта весть взволновала вас? – Вы даже не представляете себе, что творится со мной. То я чувствую прилив радости, то меня охватывает невыносимая грусть. Я и хочу и боюсь увидеться с ним. Мне мучительно стыдно перед мужем, что я люблю другого, и вместе с тем я не раскаиваюсь в моей любви. Я горжусь тем, что сладила с чувством, и тут же проклинаю свою нерешительность, – лучше б я стала его возлюбленной. Он так смел, благороден и великодушен, он стоит любой жертвы. Да, он стоит того, чтобы женщина пожертвовала ради него своей честью и гордилась этим больше, чем королева своей короной. – Так сильно вы его любите? – Ах, Хулия, я схожу с ума от любви! Всю ночь напролет я не сомкнула глаз и прибежала к вам в такую рань, чтобы поплакать у вас на груди и чтобы вы пожалели меня. И зачем только он приехал в Мехико? – Он, верно, уже женился? – спросила Хулия. – Женился? – в ужасе и гневе повторила Паулита. – Нет, такого испытания я не выдержала бы… Не могу допустить даже мысли, чтобы он полюбил другую!.. – Но вы же вышли замуж… – Я – да, но я не желаю, чтобы женился он… А в сущности, какое право я имею чего-то требовать, на что-то надеяться? И Паулита залилась горькими слезами. – Успокойтесь, успокойтесь, – повторяла Хулия, гладя ее по голове. – Где же ваша твердость, о которой вы мне вчера толковали? – Я была тверда, Хулия, но, узнав, что он здесь, я потеряла мужество. Горе мне, горе мне! – А как вы думаете, Паулита, что было бы, если бы тот, кого я люблю, вдруг появился передо мной? – Но это невозможно, Хулия, ваш пират не смеет с мирными целями ступить на американскую землю. – А ваш возлюбленный все-таки появился. – Это совсем, совсем другое дело. Дон Энрике вернулся в Мехико, потому что он здесь родился, к тому же он не совершил никакого преступления против короля, а вашему даже в Веракрусе нельзя высадиться. В дверь постучали. – Кто там? – спросила Хулия. – Сеньорита, – раздался за дверью голос служанки, – госпожа просит вашу милость пожаловать к ней. – Скажи, я иду, – ответила Хулия и, обращаясь к Паулите, прибавила: – Наверное, матушка хочет сообщить мне ответ дона Хусто. Не уходите, подождите здесь, мне так нужна ваша поддержка. – Не теряйте мужества, Хулия. – Не бойтесь за меня, вы видите, я спокойна. Хулия поднялась и с величавым видом вышла из комнаты, приведя Паулиту в изумление своей решимостью. В то время, как Хулия и Паулита беседовали между собой, в кабинете сеньоры Магдалены тоже шел разговор о серьезных вещах. Дон Хусто, как известно, явился в дом одновременно с Паулитой и направился в покои сеньоры Магдалены. Он велел доложить о себе и был тотчас же принят. – Сеньора, – начал дон Хусто, – получив от вас записку, я поспешил откликнуться на ваш зов. Располагайте мной. – Благодарю вас, дон Хусто. Известно ли вам, что произошло с моей дочерью? – Да, сеньора, и поверьте, я весьма огорчен, что послужил невольной причиной печального происшествия и тех горестей, что выпали на долю Хулии, которую я всем сердцем люблю и почитаю. – Благодарю вас. – Я имел счастье узнать, где Хулия нашла себе приют, и смог прийти и предложить ей мои скромные услуги. – Я этого не знала… – Я хотел сообщить вам об этом не раньше, чем вы успокоитесь, чтобы испросить у вас прощения для Хулии и проводить ее домой. – Благодарю вас, Хулия уже дома. – О, как я рад! – Она здесь и согласна стать вашей женой, если вы по-прежнему настаиваете на вашем предложении. Дон Хусто вскочил, как ребенок, которому показали игрушку; он даже побледнел от радости. – Боже мой! – воскликнул он, – как я счастлив! Сеньора, вы меня осчастливили, да, осчастливили! Хулия станет моей супругой! Когда же? На какой день намечается свадьба? – Хулия поставила условие… – Она желает повременить? – Напротив, заключить брак немедленно. – Такое условие я могу только приветствовать. – Значит, вы согласны? – Еще бы! Сегодня, завтра, когда Хулия пожелает. – Так спросим у нее. – Эта неделя вообще необыкновенно удачна для меня. Если бы вы знали! – В чем же удача? – Через три дня истекает срок, назначенный графом де Торре-Леаль для возвращения его старшего сына, которого все считают умершим. Ежели в этот день он не явится, – а мне известно, что он перешел в лучший мир, откуда возврата нет, – мой племянник, младший сын графа, вступит в права наследства. Вы легко можете себе представить мою радость, ведь он сын моей сестры, а кроме того, я его опекун. – В таком случае, если желаете, назначим свадьбу именно на этот день. – Если Хулия согласится, то ровно через три дня мы навсегда соединимся с ней. Какое это для меня счастье! Дон Хусто потирал от радости руки. – Хотите, я позову Хулию? – спросила сеньора Магдалена. – Если вы находите возможным… – Мария! – кликнула служанку сеньора Магдалена. – Сеньора, – отозвалась Мария. – Что, сеньорита Хулия уже встала? – Да, сеньора. – Попроси сеньориту Хулию ко мне. Служанка вышла исполнить распоряжение хозяйки, а дон Хусто, не в силах скрыть свою радость, принялся шагать из угла в угол. По правде говоря, сеньора Магдалена не менее жениха радовалась предстоящей свадьбе: одним соблазном меньше для Педро Хуана и одной надеждой больше на мир в доме.IX. ТВЕРДОСТЬ И РЕШИТЕЛЬНОСТЬ
Хулия появилась перед ожидавшими ее матерью и гостем бледная, но спокойная; голос ее не дрожал, только глаза покраснели от слез. – Вы меня звали, матушка? – спросила она. – Да, дочь моя, сядь и выслушай меня. Хулия без возражений повиновалась. – Вчера, – продолжала сеньора Магдалена, – ты выразила согласие стать супругой сеньора дона Хусто, который просил твоей руки. – Да, матушка. – Единственным условием ты поставила заключение брака возможно скорее. – Да. – Ты по-прежнему согласна на этот брак? – Согласна. – Сеньор желал бы назначить свадьбу через три дня. – Он может назначить любой день по своему усмотрению. – В таком случае, дочурка, я полагаю, ты можешь поговорить с ним наедине. – В этом нет надобности, – сказала молодая девушка. – Надобности нет, но я полагаю, что так лучше, и оставляю вас одних; раз вы собираетесь пожениться, вам есть о чем побеседовать между собой. И, не ожидая ответа, сеньора Магдалена ушла, оставив наедине дона Хусто и Хулию. Дон Хусто, не привыкший к женскому обществу, почувствовал смущение: перед ним была девушка, согласившаяся стать его женой, а он не решался сказать ей ни единого слова. Брак с Хулией представлялся дону Хусто огромной победой; воплощалась в жизнь его мечта, и он боялся, как бы эта мечта не рассеялась. Хулия молчала, потому что ей решительно нечего было сказать своему жениху; она даже не глядела в его сторону. Наконец, сделав над собой неслыханное усилие, дон Хусто нарушил молчание; но как и все недалекие люди, он повел речь так неуклюже, что, пожалуй, ему лучше было бы по-прежнему безмолвствовать. – Так вот как, Хулия, вы хотите выйти за меня замуж, – сказал он. – Нет, этого я не говорила, – возразила молодая девушка, – но я согласна назвать вас моим мужем. – Значит, вы любите меня, – продолжал он самодовольно. – Дон Хусто, этого я пока не могу утверждать. – Но вы же выходите за меня замуж? Раз вы согласны стать моей женой, стало быть, вы меня любите. Зачем отрицать? – Кабальеро, если вы настаиваете на тягостном для меня разговоре, позвольте откровенно поведать вам, что происходит в моем сердце, и объяснить мой поступок. Если затем вы по-прежнему будете настаивать на браке, я со своей стороны дам согласие. – Откройте мне ваше сердце, Хулия. – Прежде всего я должна вас предупредить, сеньор, что я вас не люблю. – Предупреждение весьма для меня горестное. – Но необходимое. Я не люблю вас, слышите? Не люблю, но это не значит, будто я вас ненавижу, будто вы мне неприятны и вызываете во мне чувство отвращения… – Это значит… – Это значит, что вы мне совершенно безразличны. – О господи! – Не удивляйтесь. Быть может, со временем, оценив ваше благородство и приятное обращение, вашу привязанность и уважение ко мне, я полюблю вас как доброго мужа. Но сейчас я не могу к вам относиться, как невеста к жениху. – Хулия! – Я говорю правду и хочу, чтобы вы узнали от меня все, я еще никогда никого не обманывала. – Но если вы не любите меня, я не смогу быть спокойным. – Напрасно вы так думаете, дон Хусто. Я не посрамлю своего имени и чести, я свято исполню мой долг перед религией. Знайте, в моих руках ваша честь будет так же сохранна, как драгоценности в шкатулке. Если бы, став вашей женой, я почувствовала, что в моем сердце зародилась любовь к другому, я задушила бы себя собственными руками, и никто не узнал бы об этом чувстве. – Хулия, такие суждения делают вам честь. Ежели дело обстоит так, я согласен. Да что я говорю, согласен? Я счастлив быть вашим супругом. – Слушайте дальше, сеньор. Я вам откровенно призналась, что не люблю вас, но обещаю хранить вам безупречную верность. Кроме того, я хочу предупредить вас, что мне ненавистен деспотический обычай супругов ревниво следить друг за другом, как это принято в Испании. Я никогда не соглашусь стать пленницей в браке. По-моему, муж, который берет на себя охрану своей чести вместо того, чтобы довериться сердцу достойной женщины, поступает безрассудно. Согласны? – О да, Хулия, вполне. – Теперь скажите, дон Хусто, продолжаете ли вы по-прежнему настаивать на нашем браке? – Даже больше, чем прежде. – Итак, если вы не забудете ничего из сказанного, назначьте день нашей свадьбы. Но до этого дня, прошу вас, не ищите встречи со мной. Я решаюсь на очень важный шаг в моей жизни и хочу побыть одна; запершись у себя, я хочу молиться и плакать, и, если мои горестные переживания не сведут меня в могилу и не лишат рассудка, в назначенный день я стану рядом с вами, чтобы отдать вам мою руку. – Но, Хулия, какое горе терзает вас? – Это тайна моего сердца. Я не выведываю ваших тайн, не стараюсь узнать что-либо о вашей прошлой жизни. Научитесь доверять мне, как я доверяю вам. Такой ответ ошеломил дона Хусто. – До свидания, сеньор, – закончила молодая девушка, – до дня нашей свадьбы. – Прощайте, Хулия. Молодая девушка ушла, а дон Хусто на мгновение задумался, потом, словно придя в себя, воскликнул: – Тем лучше! Такой она еще больше мне нравится. Она не похожа на других женщин. Превосходно. Итак, скоро она будет моей. Покинув комнату, он отправился разыскивать сеньору Магдалену. – Ну, как? – спросила она дона Хусто. – Все прекрасно, – ответил тот, – Хулия именно та женщина, которую я искал. Мужчина в моем возрасте не жаждет романтических приключений и рыцарских подвигов.Паулите не терпелось поскорее увидеть Хулию, что не мешало ей по-прежнему думать о доне Энрике. Бедная женщина страдала. Внезапно появилась Хулия и бросилась в ее объятия. – Ну, как? – спросила Паулита, вглядываясь в лицо подруги. – Жертва принесена. Я обещала быть его женой. – Вы ненавидите его? – Нет, я просто его не люблю. – Как мне жаль вас! И все-таки жизнь ваша потечет если не счастливо, то хоть спокойно, а главное, вы осчастливили вашу мать. – Совесть у меня чиста, Паулита, но сердцу больно. Не надо больше говорить об этом, решение принято. – Вы правильно поступили, Хулия. Когда назначена свадьба? – Через три дня, как я понимаю. В этот день истекает срок какого-то важного для дона Хусто дела. Ну, что бог даст! Я сказала, что не люблю его, и просила не приходить и не говорить со мной до самой свадьбы. Я хочу эти три дня принадлежать только себе. Ну, а как вы, немного успокоились? – Ах, если бы! Меня не покидает мысль, как поступить? – Будьте мужественны, решительны, и вы победите. Вы мне дали разумный совет? Вот и следуйте ему. Паулита вскоре распрощалась, и Хулия заперлась у себя в спальне. Они обе были несчастны, но старались всячески поддержать друг друга; каждая из них, чувствуя в сердце смертельный холод, хотела согреть подругу теплом сочувствия. Дон Хусто и сеньора Магдалена занялись приготовлением к свадьбе. Педро Хуан злился, но пытался разыграть полное безразличие, словно в доме не происходило ничего особенного. Желание Хулии было исполнено: никто с ней не советовался, ее судьбой распоряжались так, будто у нее не было собственной воли.
X. ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Следуя за Индиано, дон Энрике и донья Марина подошли к дому, где он жил. Донья Марина поспешила в детскую, к своей дочурке, и всецело отдалась материнскому счастью. Дон Диего велел приготовить комнату для дона Энрике, где ему предстояло провести неделю. На следующее утро дон Диего отправился во дворец к вице-королю маркизу де Мансера. Дон Диего пользовался большим расположением маркиза и искренне любил его, но не за те милости, которые ему оказывал маркиз, а за его трезвые суждения, прекрасное образование и умение быть мудрым и обходительным на посту правителя. Видно, недаром современники маркиза окрестили его проницательным хитрецом. Вице-король принимал дона Диего в любое время и охотно вел с ним наедине долгие беседы. В то утро вице-король был в превосходном расположении духа: он получил добрые вести о формировании отрядов на побережье для отпора пиратским набегам, что составляло его главную заботу. Дон Диего, хорошо знавший вице-короля, сразу понял, что более благоприятного случая для важного разговора и представить себе невозможно. – Добро пожаловать, кабальеро дон Диего де Альварес, – приветствовал вице-король своего крестника. – Всегда и при всяком случае рад служить вашей светлости. – О чем говорят в нашем благородном и честном городе? – Сеньор, обитатели его живут спокойно, доверясь отеческим попечениям вашей светлости. – Не правда ли? Я и в самом деле никогда не забываю о делах его величества и его верных подданных в Америке. Вчера вечером пришли вести о высоком состоянии духа новых отрядов береговой охраны. – От всего сердца поздравляю вашу светлость. – Теперь пираты не сунутся безнаказанно в Новую Испанию. – Надеюсь, сеньор. Радуясь таким добрым вестям, осмелюсь просить вашу светлость выслушать одно сообщение, переполнившее счастьем мое сердце. – Я охотно его выслушаю. Дорогой крестник, раз оно вам доставило столько радости. – Сеньор, я нашел свою супругу. – Как? Донью Марину? Мою дорогую крестницу? – Да, сеньор! – Весьма этому рад! А как обрадуется вице-королева! Но разве вы не говорили, что донья Марина погибла от руки пиратов в Портобело? – Я и сам так думал. Но, к счастью, ей удалось спастись, и вот она здесь. – Здесь, в Мехико! Ну, расскажите же мне об этом чудесном спасении. Я всегда считал, что женщина, попавшая в руки пиратов, обречена на смерть или – еще хуже – на бесчестие. – Милосердный бог послал донье Марине в помощь одного человека, который по прихоти судьбы очутился среди пиратов и сумел завоевать расположение их главаря, злодея Моргана. Благодаря отваге и находчивости, ему удалось спасти и вернуть мне мою супругу. – Но расскажите же, как все произошло? – Донья Марина попала в руки морских разбойников; Морган влюбился в нее и велел с почетом проводить ее на борт своего корабля. Я также был захвачен в плен; но человек, оказавшийся нашим ангелом-спасителем, даровал мне свободу и обещал вырвать из плена Марину. Шли дни, пираты покинули Портобело, и я уже считал, что моя жена погибла или обесчещена, а это, как вы сами сказали, еще хуже. Морган домогался любви Марины, она боролась, прибегая ко всяким уловкам. Отчаявшись добиться ее любви, злодей велел бросить в трюм мою бедную Марину. Наш ангел-спаситель, пользуясь случайной отлучкой Моргана, перевел Марину на свой корабль, а когда пираты вступили в бой с испанской флотилией, он поднял паруса и ушел в море. Чтобы осуществить свой дерзкий замысел, спаситель Марины пренебрег всеми опасностями и не остановился перед смертельным риском. С вашего позволения, сеньор, скажу, что лишь немногие способны на столь отважный подвиг. – Итак, пират-спаситель сейчас здесь, в Мехико? – Да, сеньор, он сам привез мне мою супругу. – Вот как, он не побоялся явиться сюда? – Очевидно, своим добрым поступком он надеялся заслужить себе прощение. – Поступок необычный! Этот человек не похож на других. – Да, сеньор, он обладает благородным сердцем. – А как его имя? – Разрешите сперва испросить для него полное прощение у вашей светлости, а уж потом сообщить его имя. – Вы просите для него прощения? Как видите, я не преследую его и не лишаю свободы, ибо вы поведали мне обо всем не как вице-королю, а как дворянину. Но могу ли я его помиловать, когда он сам об этом не просит? Ведь мне даже неизвестны все совершенные им злодеяния. – Сеньор, за него прошу я. Мне известно, что тягостные обстоятельства оторвали этого человека от его родины и привели в стан пиратов. Он не совершал никаких преступлений и спас честь знатной дамы, вашей крестницы. Вот почему я прошу у вашей светлости полного прощения для этого человека. – Пусть так, дарую ему прощение. Как его имя? – Дон Энрике Руис деМендилуэта, граф де Торре-Леаль. – Дон Энрике! – воскликнул вице-король. – Тот самый дон Энрике, которого я подверг изгнанию после незабываемой сцены, разыгравшейся в вашем доме! – Он самый, ваша светлость. – Но кто распространил слух об его смерти? – Не знаю, сеньор. Да это и не имеет значения. – Однако вам известно, что дон Энрике был изгнан мною за недостойное поведение. – Прошу прощения, сеньор, во всем случившемся виновен один лишь я, и с моей стороны было бы нечестно скрыть это от вашей светлости. – Вы, дон Диего? Право, я не могу считать вас виновным, я знаю вас как безупречно честного человека. – О сеньор, умоляю вас, не заставляйте меня рассказывать все подробности и причины того, что произошло у меня в доме. Я замыслил погубить дона Энрике. Он невиновен, виноват во всем я один, клянусь честью! – Верю вам. Но вспомните, на совести дона Энрике лежит похищение доньи Аны. – Сеньор, донью Ану похитил не он, а дон Кристобаль де Эстрада, погибший при защите Портобело. В этом похищении дон Энрике также неповинен. Донья Ана находится сейчас в Мехико, и, если ваша светлость желает, она может подтвердить справедливость моих слов. – Выходит, все возведенные на дона Энрике обвинения были лишь злыми наветами его врагов? – Могу я узнать, ваша светлость, кто именно возводил обвинения на дона Энрике? – У меня нет причин скрывать это от вас, юноша возбуждает во мне большое сочувствие. Поверьте, я сожалею, что был несправедлив к нему. Нам, правителям, нетрудно впасть в ошибку, ведь все вокруг стараются скрыть от нас правду. – К несчастью это так, сеньор. – Так вот, эти ложные сведения поступали от монахинь через посредство дона Хусто, который приходится братом супруги покойного графа. – Понимаю, сеньор, понимаю и сейчас все объясню вашей светлости. – Как, вы что-нибудь знаете об этом? – Да, сеньор. В те времена, когда я был врагом дона Энрике, брат графини явился ко мне и предложил действовать заодно с ним против дона Энрике, служившего ему помехой. Он собирался убрать юношу со своего пути. Я не стал его слушать и прогнал прочь с моих глаз. Теперь понятно, почему он постарался оклеветать дона Энрике, унизить его в ваших глазах. – Возможно, вы правы, дон Диего. – Такой человек, как дон Энрике, не способен на низкие поступки, позорящие его честь. Он был моим врагом, ваша светлость, он знал или, во всяком случае, подозревал, что причиной его изгнания была сцена, происшедшая в моем доме; ему были известны мои черные замыслы против него, по моей вине он потерял имя, родину, семью, будущность. И вот, вместо того чтобы отомстить мне, он дарует мне свободу и спасает жизнь и честь моей жены. – Замечательный поступок! Но вы, дон Диего, нисколько не уступаете ему в благородстве, ведь я по вашей просьбе принимаю участие в его судьбе. Но как вы полагаете, какая причина заставила дона Хусто оклеветать дона Энрике? – Не знаю. Может быть, это связано с наследством покойного графа, ведь дон Хусто брат его вдовы. Если ваша светлость желает, я все разузнаю. – Да, вы мне окажете этим услугу. Я желал бы, как честный человек, восстановить справедливость и загладить свою невольную вину перед юношей. – И вы согласны даровать ему прощение, ваша светлость? – Скажите, дон Диего, только вы и ваша супруга знаете, что дон Энрике был в стане пиратов? – Нет, есть еще одно лицо. – Кто же? – Донья Ана. Он спас ее от когтей пиратов. – Вы думаете, на нее можно положиться? – Да, сеньор. – В таком случае он вовсе не нуждается в прощении; ему достаточно предстать передо мной, чтобы я отменил изгнание. – И он получит, таким образом, право на титул и имущество отца? – Да, если отец не лишил его наследства. Узнайте, как обстоят дела, и я вам во всем помогу. Мы оба должны загладить нашу вину перед доном Энрике. – Благодарствуйте, сеньор. Я обо всем доложу вашей светлости. Из ваших рук дон Энрике снова обретет счастье. Он сумеет стать достойным вассалом его величества и слугой вашей светлости. – Вот и отлично. – Желает ли ваша светлость поговорить с доном Энрике? – Пока повременим; вы соберете все сведения, и тогда мне станет ясно, что надо сделать для юноши. – Завтра же ваша светлость узнает обо всем. – Чем скорее, тем лучше. – С разрешения вашей светлости я удаляюсь. – Ступайте, и да поможет вам господь во всех ваших начинаниях. Дон Диего удалился; сердце его было переполнено радостью и надеждой. Вице-король в раздумье проговорил: – Как нам, правителям, легко совершить ошибку!XI. НИТЬ АРИАДНЫ
Возвращаясь домой, дон Диего горел желанием немедля приняться за дело, порученное ему вице-королем. Однако необходимо было найти нить Ариадны, которая поможет ему проникнуть в этот лабиринт козней против юноши. Пожалуй, решил про себя дон Диего, лучше всего обратиться к самому дону Энрике, ему, без сомнения, кое-что известно. Между тем дону Энрике не терпелось поскорее покинуть Мехико. Жизнь в добровольном заточении тяготила его: проводя дни и ночи взаперти, во власти горьких воспоминаний и мрачных мыслей о будущем, дон Энрике приходил в отчаяние и готов был бежать, нарушив данное слово. Изредка к нему заглядывала сияющая счастьем донья Марина, но вид этой счастливой женщины только усиливал страдания дона Энрике. В день беседы дона Диего с вице-королем дон Энрике был особенно подавлен; ему становилось решительно невмоготу переносить долее свое заточение. Дон Диего вошел к нему и разом приступил к делу. – Не пеняйте на мою навязчивость, – начал он, – но не было ли у вас каких-нибудь личных врагов, когда вы находились под стражей? – Насколько мне известно, нет, – ответил, порывшись в памяти, дон Энрике. – Не случалось ли вам вступать в какие-либо споры с неким доном Хусто? – Нет, дон Хусто брат моей мачехи, и никаких споров у нас с ним не выходило. – Вы знали, что ваш отец умер? – Да, один человек, которому я многим обязан – кстати, он близок к дону Хусто, – сообщил мне о смерти моего отца. Бедный отец, он, верно, считал меня погибшим. – Этот человек, говорите вы, оказал вам большую услугу, и он же, по вашим словам, тесно связан с доном Хусто? – Да, и вот как было дело: однажды ночью в мой дом именем вице-короля вошла стража; я лежал в лихорадке и помню все как сквозь туман. Мне велели одеться и сесть в карету, окруженную стражей; я едва соображал, что происходит, и двигался как во сне; не знаю, сколько времени тащилась карета; внезапно я услышал выстрелы, шум короткой схватки, дверь кареты распахнулась, и какой-то человек предложил мне выйти. Мы вскочили на коней. Тут я потерял сознание и не могу точно сказать, где все это произошло. Вообще в этом происшествии было что-то загадочное. Когда я пришел в себя, я узнал, что нахожусь в доме Попотла. Там за мной ходила девушка по имени Паулита, дочь слепого. Она сообщила мне, что двенадцать дней я был на краю могилы, что вице-король преследует меня после памятной ночи в вашем доме и что мне необходимо бежать. Я вспомнил все, что случилось на балу, и – простите – обвинил вас в недостойном поступке. Итак, мне не оставалось ничего другого, как бежать; у меня оказались могущественные враги среди лиц, близких к вице-королю; я видел в вас моего главного противника и поклялся в вечной ненависти к вам. От Паулиты я узнал, что из рук королевской стражи меня освободил человек, который любит ее. Я встретился с ним снова, он помог мне покинуть город и добраться до Веракруса. В пути я спросил, кто поручил ему спасти меня, но он отказался ответить. Когда мы добрались до Веракруса, я устроился на судно, шедшее на Эспаньолу: там я жил охотой, пока не примкнул к пиратам. – Вы говорите, что ваш спаситель тесно связан с доном Хусто? – Он сам мне так сказал. – А где он теперь? – Женился на Паулите и живет в переулке, выходящем на Студенческую площадь. Вы его легко найдете, он известен под прозвищем Москит. – И вы полностью доверяете ему? – Москит оказал мне много услуг, но я больше доверяю Паулите, чем ему. – Значит, с ней я могу говорить вполне откровенно? – Да. Но что вы задумали? – Подождите, у меня свои планы. – Скажите мне, по крайней мере… – Нет, нет. Нить найдена, теперь я надеюсь разузнать все. Прощайте. Не медля долее, Индиано взял свою шляпу и отправился на розыски Паулиты, повторяя: – Нить найдена… В тот день Паулита пошла к Хулии, и дон Диего не застал ее дома. Вечером он снова отправился к ней. Паулита не знала, что и думать о внезапном исчезновении дона Энрике. Тщетно Москит поджидал его; наконец он сказал жене: – Темнеет, пойду попробую разыскать дона Энрике; кто знает, что с ним стряслось. Оставшись одна, Паулита пригорюнилась и, чтобы немного рассеяться, взялась за шитье. Раздался стук в дверь, Паулита открыла. Перед ней стоял дон Диего. – Простите, сеньора, – сказал он, – не вы ли Паулита? – Совершенно верно, кабальеро, но я не имею чести знать вас. – Неважно. Мне надо поговорить с вами об одном деле. Разрешите войти. – Но, кабальеро, у меня нет с вами никаких дел, и мне не годится впускать в дом незнакомца в такой поздний час; я честная замужняя женщина. – Вам незачем опасаться меня. – Как знать? – Видите ли, я пришел поговорить с вами о доне Энрике Руис де Мендилуэта. – О доне Энрике? – переспросила взволнованная Паулита. – Но чем вы можете доказать мне?.. – А если я вам скажу, что он в Мехико? Об этом могут знать лишь его самые близкие друзья. – Вы правы. Войдите. – Слава богу, – сказал Индиано, входя и усаживаясь. – Что же дальше? – спросила Паулита. – Дон Энрике и я желали бы знать всю правду, как и почему ваш муж спас его. – Если вы пришли от имени дона Энрике, вам незачем расспрашивать меня, он и сам все знает. – Верно, но кое-что ему неясно, а он непременно должен знать все. – Что же именно? – Кто послал вашего мужа спасти дона Энрике? – Я. – Вы? – Да, я. – Откуда вы узнали, что ему грозит опасность? – Откуда я узнала?.. А как ваше имя? – Мое имя? – Да, должна же я знать, кому доверяю эту тайну. – Мое имя дон Диего де Альварес. – И зовут вас Индиано? – Да, Паулита. Вы меня знаете? – Знаю и потому не скажу вам больше ни слова. – Но почему? – Вы враг дона Энрике, и не может быть, чтобы вы пришли от его имени. – Я – враг дона Энрике? Откуда вы это взяли? – О, у меня отличная память, и я никогда не забуду, что именно из-за вас дон Энрике подвергся изгнанию. – Но теперь мы с ним добрые друзья. – Сомневаюсь. – А если я принесу вам от него письмо? – Тогда другое дело! – обрадовалась Паулита. – И вы мне все расскажете? – Все, все. Но письмо должно быть написано мне лично. – Иду за ним. – Ступайте и тогда узнаете все, что пожелаете. – Ваш муж будет дома? – А как вы хотели бы? – Мне надо поговорить с вами наедине. – Хорошо; его не будет дома. Индиано поспешил к себе домой, чтобы раздобыть письмо от дона Энрике. – Вот она, нить, – повторял он по дороге. Радость переполнила сердце Паулиты. – Боже мой! – говорила она себе. – Какое счастье! Письмо от него ко мне, ко мне. В жизни у меня еще не было такой радости! Неужто я получу письмо от дона Энрике? Неужто он мне напишет? Уж не сплю ли я? Лишь бы Индиано не задержался, пришел поскорее. – Она то и дело вскакивала, прислушивалась к шагам на лестнице.Донья Ана тем временем тщетно поджидала дона Диего, с которым собралась вместе покинуть город. Часы шли, нетерпение доньи Аны возрастало. После полудня она почувствовала, что больше не в силах владеть собой. Дон Диего не только сам не пришел, но даже записку прислать не удосужился. А донья Ана, послушавшись его, уложила вещи и приготовилась к путешествию. Тысяча мыслей, одна чудовищнее другой, теснились в ее голове. Она терялась в догадках, не зная, чем объяснить отсутствие дона Диего. Может быть, преследуемый воспоминаниями о Марине, он решил навсегда покинуть ее. Или одумался, понял, что она недостойна его любви; ведь ему были известны ее отношения и с доном Энрике, и с доном Кристобалем де Эстрадой. И наконец, донье Ане приходило в голову, что с ним стряслась какая-то беда, помешавшая прийти вовремя в этот торжественный для нее день. За долгие часы томительного ожидания донья Ана, казалось, передумала все, но так и не догадалась о настоящей причине отсутствия дона Диего. Да и могло ли ей прийти в голову, что в Мехико появилась донья Марина? Наступил вечер, и донья Ана решила действовать: закутавшись в вуаль, она направилась к дому дона Диего, чтобы покончить с терзавшими ее сомнениями. Она пришла как раз в то время, когда дон Диего отправился к Паулите. – Его милости нет дома, – ответил на ее вопрос привратник. – А скоро он вернется? – спросила донья Ана. – Не знаю. – Можно подняться и подождать его? – Пожалуйте, сеньора. Донья Ана поднялась по лестнице и очутилась перед дверью, через которую просачивался свет. В те времена не было ни звонков, ни колокольчиков, чтобы извещать о приходе посторонних лиц, и донья Ана подошла к двери никем не замеченная; заглянув в комнату, она отпрянула, как при виде призрака. В кресле подле стола с двумя горящими восковыми свечами сидела донья Марина с маленькой Леонорой на коленях. Донья Ана вмиг узнала ее и в ужасе попятилась.
 В первую минуту она была настолько ошеломлена, что растерялась, потом снова заглянула в комнату и на этот раз рядом с Мариной увидела дона Энрике. Тут она разом все поняла. Донью Марину привез дон Энрике, Индиано встретил жену и позабыл обо всем на свете. Итак, одним ударом дон Энрике разрушил все счастье доньи Аны. Донья Ана оказалась снова покинутой, и на этот раз навсегда.
Задумавшись на миг, она поняла, что ей следует уйти незамеченной, и начала свое отступление. Неожиданно на лестнице послышались шаги. На ее счастье, в коридоре царила темнота, и ей удалось спрятаться позади китайских кадок с широковетвистыми апельсиновыми деревьями.
Индиано – это был он – так поспешно прошел мимо доньи Аны, что не заметил ее. Донья Ана решила послушать, что он скажет. Дверь в комнату была открыта, Индиано говорил громко.
– Дон Энрике, – начал он, – окажите мне милость, напишите письмо, которое я вам продиктую.
– С большим удовольствием, – ответил дон Энрике.
– Вот письменный прибор.
– Диктуйте, я готов, – сказал дон Энрике после минутного молчания.
И дон Диего продиктовал следующее письмо, из которого донья, Ана не пропустила ни единого слова:
В первую минуту она была настолько ошеломлена, что растерялась, потом снова заглянула в комнату и на этот раз рядом с Мариной увидела дона Энрике. Тут она разом все поняла. Донью Марину привез дон Энрике, Индиано встретил жену и позабыл обо всем на свете. Итак, одним ударом дон Энрике разрушил все счастье доньи Аны. Донья Ана оказалась снова покинутой, и на этот раз навсегда.
Задумавшись на миг, она поняла, что ей следует уйти незамеченной, и начала свое отступление. Неожиданно на лестнице послышались шаги. На ее счастье, в коридоре царила темнота, и ей удалось спрятаться позади китайских кадок с широковетвистыми апельсиновыми деревьями.
Индиано – это был он – так поспешно прошел мимо доньи Аны, что не заметил ее. Донья Ана решила послушать, что он скажет. Дверь в комнату была открыта, Индиано говорил громко.
– Дон Энрике, – начал он, – окажите мне милость, напишите письмо, которое я вам продиктую.
– С большим удовольствием, – ответил дон Энрике.
– Вот письменный прибор.
– Диктуйте, я готов, – сказал дон Энрике после минутного молчания.
И дон Диего продиктовал следующее письмо, из которого донья, Ана не пропустила ни единого слова:
«Паулита, во имя моей привязанности к тебе прошу, расскажи дону Диего де Альваресу, подателю сего письма и моему другу, все, что тебе известно о моем изгнании по приказу вице-короля и о моем освобождении. Это необходимо мне, чтобы восстановить мои права на имя и наследство покойного отца. Неизменно любящий тебяЭнрике Руис де Мендилуэта».
– Превосходно. Запечатайте письмо, я тотчас отнесу его Паулите, она ждет меня. – Вы разыскали ее? – Без труда, по вашему точному указанию: в переулке, выходящем на Студенческую площадь; другого дома там нет. Донья Ана, не ожидая ничего больше, поспешно сбежала вниз по лестнице. Очутившись на улице, она пошла к дому, адрес которого так неожиданного узнала. – О дон Энрике! – прошептала она, прячась в тени дома. – Ты одним ударом разрушил мое счастье, я же в отместку расстрою твои замыслы и потребую, чтобы ты женился на мне. Мужчина за мужчину: ты лишил меня мужа, теперь тебе придется самому жениться на мне, не то – берегись моей мести! В переулке послышались шаги; дон Диего постучался в дом Паулиты, вошел и запер за собой дверь. – Итак, не спускать глаз! – сказала себе донья Ана. – Нить у меня в руках. Подкравшись к двери, она сперва заглянула в замочную скважину, потом прильнула к ней ухом. Держа в руках письмо дона Энрике, Паулита была не в силах скрыть своего волнения. Дочитав его до конца, она рассказала Индиано всю историю спасения дона Энрике, начав с того, как дон Хусто поручил Москиту застигнуть стражу врасплох и убить юношу. – Нить в моих руках! – повторила шепотом донья Ана, стараясь не пропустить ни единого слова из разговора.
XII. ПЛАН СОЮЗА
Паулита рассказала дону Диего все, как было: Москит, по поручению дона Хусто, взялся убить дона Энрике, но вместо этого спас его по настоянию Паулиты. Теперь этот самый дон Хусто собирается жениться на молодой девушке, недавно приехавшей с Эспаньолы. Дон Диего верил, что рассказ Паулиты правдив, но не мог разгадать причину, побудившую дона Хусто подослать убийцу к дону Энрике. Чтобы доискаться истины, он решил на следующий же день под любым предлогом увидеться с доном Хусто. Донья Ана выслушала разговор до конца, потом, когда дон Диего собрался уходить, она снова отступила в тень и, переждав некоторое время, вернулась к себе. В сердце ее бушевали гнев, зависть и ревность! Наутро вице-король получил следующее анонимное письмо: «Сеньор, один из пиратов, совершивших неслыханные злодеяния на островах и побережье Нового Света, находится в Мехико. Он принадлежит к числу главарей, к тому же самых бесчестных, а нынче скрывается в доме дона Диего де Альвареса. Если ваша светлость желает схватить и примерно покарать его, вашей светлости достаточно послать в этот дом представителей закона». Вице-король долго читал и перечитывал это послание; потом велел немедленно найти дона Диего. Гонец поспел как раз вовремя: дон Диего намеревался выйти из дому для встречи с доном Хусто, но, узнав, что его вызывает к себе вице-король, поспешил во дворец. – Плохи ваши дела, – начал вице-король. – Почему, ваша светлость? – спросил Индиано. – Вот, прочтите, – ответил вице-король, протягивая ему анонимное письмо. Дон Диего внимательно прочел послание. – Что вы на это скажете, дон Диего? – спросил вице-король. – Не могу понять, от кого исходит эта клевета. – Мне кажется, писала женщина. – Совершенно верно, сеньор, но не могу догадаться, кто она. – Вы говорили, что в Мехико живет дама, которой эта тайна известна? – Да, сеньор, но этой даме неизвестно, что дон Энрике скрывается в моем доме. – Может быть, еще какая-нибудь женщина посвящена в эту тайну? – Ах! – воскликнул дон Диего – в голове его мелькнула мысль о Паулите. – Я подозреваю, кто мог это сделать. – Кто же? – Молодая женщина по имени Паулита. Это ее муж, прозванный Москитом, отбил дона Энрике у стражи вашей светлости. – Как так? – Да, сеньор, с этого и начались мытарства бедного юноши; мне здесь еще не все ясно, но я уже успел добыть важные сведения. – Не поделитесь ли вы ими со мной? – Я хотел было скрыть от вашей светлости часть правды, бросающей тень на мужа Паулиты, но ее недостойный поступок развязал мне руки, и я расскажу вашей светлости все, не утаив ни одного слова. – Я вас слушаю. Усевшись рядом с вице-королем, дон Диего поведал ему все, что ему удалось накануне услышать от Паулиты. – Этот дон Хусто настоящий злодей! – воскликнул вице-король, выслушав рассказ. – Да, сеньор, и теперь мне остается лишь узнать причину, по которой он так беспощадно преследовал дона Энрике. – Что же вы собираетесь предпринять? – Поговорить с доном Хусто. – Он ни за что не признается. – Если спросить его об этом прямо; но я постараюсь, чтобы он ни о чем не догадался, и, уверяю вашу светлость, я доищусь истины. – А как быть с анонимным письмом? – Если ваша светлость разрешит мне взять его с собой, я узнаю, чья рука его написала. – Я не возражаю. – Необходимо было бы, поскольку тайна разглашена, чтобы ваша светлость воспользовались своим правом, полученным от монарха – да хранит его бог, – и даровали полное прощение дону Энрике. – Согласен. – В таком случае с разрешения вашей светлости, – произнес дон Диего, пряча на груди анонимное письмо, – я удаляюсь и буду продолжать мои розыски. – Да поможет вам бог. Выйдя из дворца, дон Диего на миг задумался, идти ли ему сперва к дому Хусто или поспешить к Паулите, чтобы высказать ей все свое негодование. Остановившись на последнем, он пересек Студенческую площадь и направился в переулок к дому Москита. Дверь стояла настежь открытой, и Паулита в красной юбке, без корсажа и без лифа, в одной лишь белоснежной сорочке, обнажавшей ее плечи и шею, прибирала свой дом, весело распевая, как ранняя птичка. – Добрый день, сеньор, – сказала она, завидя дона Диего и направляясь к нему навстречу. – Добрый день, – сухо ответил дон Диего. – Ну как, успешно ли продвигается дело дона Энрике? – спросила она, не заметив холодного тона своего гостя. – Успешнее, чем вы могли бы предположить. – Ах, какая радость! – Умеете ли вы писать, сеньора? – Немного, а почему вы спрашиваете? – Сейчас узнаете. Вчера вы мне сказали, что многим обязаны дону Энрике? – Да, сеньор, и я никогда этого не забуду. – А что скажете вы о человеке, который постарался бы погубить и привести на виселицу своего благодетеля? – Я назвала бы его низким существом. – Так как же вы решились написать это письмо вице-королю и сообщить ему, где находится ваш покровитель? – Это письмо! Это письмо! – в ужасе произнесла Паулита, беря протянутую ей бумагу. – Но я его никогда не писала! – Прочтите и отвечайте, правда ли, что вы низкое существо? Паулита с удивлением прочла послание; страшная догадка мелькнула у нее в голове: дон Энрике, человек которого она любила, был пиратом и этот пират – таинственный возлюбленный Хулии. – Отвечайте! – в ярости крикнул Индиано, для которого искаженное лицо молодой женщины послужило лишним доказательством ее виновности. – Признайтесь! – Боже мой! – проговорила Паулита, не слушая дона Диего. – Это он! Это он! Боже мой! До сих пор я не знала, что такое ревность. – Что вы говорите? Какая ревность? – А вам что за дело? Это моя тайна, – рассердилась Паулита. – По какому праву вы меня выпытываете? – По какому праву? Да ведь это письмо погубило дона Энрике, оно будет стоить ему жизни. – Жизни? – закричала вне себя Паулита. – Жизни? По мне, пусть лучше погибнет, чем полюбит другую, я этого не вынесу, я сама убью его. – Несчастная, что ты говоришь? – Оставьте меня, оставьте! Замолчите! Я не желаю вас слушать! Не в силах больше владеть собой, Паулита накинула на плечи шаль и выбежала на улицу. Дон Диего вышел вслед за ней и направился к дому дона Хусто. Там царило необычайное оживление: маляры, каменщики, обойщики работали не покладая рук. «Приготовления к свадьбе», – подумал дон Диего и обратился к слуге: – Дома сеньор дон Хусто? – Сеньор у себя в кабинете. – Доложите о приходе дона Диего де Альвареса. Слуга скрылся за дверью и, вернувшись, сказал: – Прошу пройти, ваша милость. Дон Хусто весьма церемонно встретил дона Диего. – Я ждал вас. – Вы меня ждали? – Конечно. Вчера пришло ваше письмо, правда, без подписи, но, когда мне доложили о вашем приходе, я сразу догадался, что оно написано вами. Вот, возьмите. И дон Хусто протянул Индиано лист бумаги. Первым желанием дона Диего было оттолкнуть это письмо, крикнув, что не он написал его; но тут же в голове его молнией мелькнула мысль, что это анонимное послание, возможно, связано с тем, другим, направленным вице-королю. В самом деле, едва он взглянул на почерк, как тотчас понял, что оба письма написаны одной рукой. Он прочел: «Сеньор дон Хусто, особа, которую вы, возможно, забыли, но с которой вы в свое время беседовали по поводу дона Энрике Руиса де Мендилуэты, просит вас быть дома завтра утром, для разговора о союзе для совместных действий». – Как видите, догадаться было нетрудно, – сказал дон Хусто, когда дон Диего закончил чтение. – В самом деле, – рассеянно подтвердил дон Диего. – Так приступим к делу. Время дорого, завтра я венчаюсь, и сами понимаете… – Я пришел… – нерешительно начал дон Диего. – Понятно, – подхватил, приосанившись, дон Хусто, – вы пришли предложить мне союз, как некогда поступил я, явившись к вам за поддержкой. Но, друг мой, времена меняются; в ту пору дон Энрике, наследник графа, был еще жив, и я нуждался в вашей помощи, чтобы отделаться от него. Нынче его больше нет на свете. Завтра истекает срок, назначенный покойным графом, и сын моей сестры, – а по завещанию я его опекун, – унаследует титул и имущество графа де Торре-Леаль за отсутствием старшего в роде. Сами понимаете, я больше не нуждаюсь ни в чьей помощи, к тому же вы тогда, как мне помнится, вышвырнули меня из вашего дома. Так вот. Оскорбленный Индиано готов был броситься на дона Хусто, но в этот момент в кабинет вошел слуга и обратился к хозяину дома: – Сеньор, особа, от которой вы получили вчера письмо без подписи, желает видеть вас. – Как? – удивился дон Хусто. – Значит, не вы его написали? – Я этого никогда не утверждал, и не это побудило меня прийти к вам. – Прошу прощения, выходит, я ошибся. Кто желает меня видеть? – Женщина. «Паулита», – подумал дон Диего. – Передай, что я занят и не могу ее принять. – Я удаляюсь, – поспешно сказал Индиано, боясь, что таинственная гостья ускользнет. – Но почему же? – Вы это сами поймете. Взяв шляпу, дон Диего, не задерживаясь, направился к выходу. В прихожей какая-то женщина разговаривала со слугой. Нет, это не Паулита, решил он, – фигура, платье, все было иное. Незнакомка, с головы до ног закутанная в густую черную вуаль, повернулась и с видимой досадой вышла на улицу; дон Диего последовал за ней. Направление, в котором пошла незнакомка, заставило дона Диего насторожиться; когда же она свернула на улицу Иисуса и Марии и постучалась в дверь знакомого дома, у дона Диего не осталось сомнений. Женщина в черной вуали вошла в дом, но прежде, чем дверь за ней захлопнулась, дон Диего уже стоял в прихожей. Женщина успела поднять с лица вуаль; обернувшись на шум, она невольно вскрикнула. Дон Диего одним прыжком очутился рядом с ней и схватил ее за руку. – Смотрите! – сказал он, протягивая ей анонимное письмо, посланное на имя вице-короля. – Боже мой! – простонала донья Ана, отворачиваясь. – Донья Ана, – сказал Индиано, – вы низкая женщина! Вы предали дона Энрике вице-королю; вы пытались заключить союз с доном Хусто, чтобы окончательно погубить юношу. Вы ядовитая змея, я презираю вас! Забудьте меня навсегда. Вы мне ненавистны. Оттолкнув донью Ану, дон Диего поспешил прочь из ее дома.XIII. КАНУН СВАДЬБЫ
Паулита как безумная выбежала на улицу. Чувство ревности ей было еще незнакомо; она мирилась с тем, что дон Энрике ее не любит, но подозрение, что он влюблен в другую, причинило ей невыносимую боль. Кроме того, она знала, что Хулия без памяти любит молодого пирата, в котором она женским чутьем угадала дона Энрике; и мысль о том, что он дорог еще одной женщине, ножом полоснула ее по сердцу. Сперва она бросилась к дому Хулии: надобно убедиться, решила она, в самом ли деле пират и дон Энрике одно лицо. Но, поднимаясь по лестнице, она передумала. Ведь стоит Хулии узнать, что ее возлюбленный в Мехико, как свадьба с доном Хусто немедленно расстроится, а там уж молодой девушке будет нетрудно соединиться со своим пиратом. Если же свадьба состоится, влюбленному дону Энрике останется лишь уехать в далекие края, и тогда – кто знает… Брак Хулии с доном Хусто послужит залогом счастья Паулиты. Нет, она не станет рассказывать девушке о доне Энрике, решила Паулита и повернула назад. В глубине патио она увидела своего мужа, который о чем-то увлеченно беседовал с Хуаном де Борикой. О чем это они могли толковать? Не задерживаясь долго на случайной мысли, – до того ли ей было? – молодая женщина поспешила домой. А Москит весь день где-то пропадал. Дон Диего собрал уже достаточно сведений, чтобы предстать перед вице-королем; побуждения злого клеветника, дона Хусто, были для него совершенно ясны. Не сказав дону Энрике ни слова, он отправился вечером к вице-королю. – Полагаю, вам уже удалось разузнать немало интересного, – сказал маркиз де Мансера. – Да, я уже могу нарисовать перед вашей светлостью полную картину. – Вот как? – Господь пришел мне на помощь в моих добрых намерениях; сейчас ваша светлость узнает все и сможет принять необходимые меры. – Говорите. – Прежде всего, сеньор, анонимное письмо написано той особой, которой была известна тайна дона Энрике; между тем он спас ей жизнь. – Какая низкая женщина! – Именно так я ей и сказал в лицо. – Она призналась? – Почти. Во всяком случае, отрицать не решилась. – С этой стороны дело достаточно выяснено. Ну, а как с доном Хусто? – Дон Хусто дал мне понять следующее: у графа де Торре-Леаль в первом браке родился сын, законный наследник его титула и состояния. Овдовев, граф вступил во второй брак с сестрой дона Хусто, и от этого союза у него родился сын, который мог стать его наследником лишь в случае смерти дона Энрике. Вот почему дон Хусто решил избавиться от законного наследника майората. Для полной свободы действий он исхлопотал себе назначение управителем имущества и опекуном племянника, к которому должно было перейти наследство. – Чудовищный замысел! – Итак, его план состоял в том, чтобы клеветой добиться изгнания дона Энрике и устроить засаду на его пути. Приказ об изгнании был дан, убийца нанят, но, по счастью, дон Энрике был не убит, а спасен. Бедному юноше пришлось бежать в дальние края, стать охотником и, наконец, примкнуть к пиратам. – Печальная история. Дьявольский план! – Которому я против своей воли способствовал, сеньор. Признаюсь вашей светлости, я искал случая вызвать дона Энрике на дуэль и заранее привлек судей на свою сторону, чтобы в случае моего торжества не подвергнуться преследованиям. – А я, поверив злым наветам, также помог черным замыслам его недруга. – Какое счастье, что во власти вашей светлости загладить нашу невольную вину. – И это будет сделано. – Сеньор, завтра свадьба дона Хусто, и завтра же истекает последний срок, назначенный покойным графом для введения в наследство дона Энрике. – Но дон Энрике жив, и срок теряет свою силу. Однако было бы необыкновенно удачно, если бы именно в этот день он потребовал принадлежащее ему по праву имя графов де Торре-Леаль. – Это было бы просто изумительно. – Так мы и сделаем. Где дон Энрике? – В моем доме, сеньор. – Приходите с ним сегодня в полночь. Я подпишу помилование, и с этого момента дон Энрике получит право требовать наследство и титул. – Ваша светлость дарует счастье дону Энрике. – Итак, жду вас. Дон Диего сияющий вышел из дворца. Но он задумал сделать дону Энрике сюрприз, чтобы полнее насладиться его радостью: вот почему он ничего не рассказал ему, только попросил быть готовым к двенадцати часам ночи. Дон Энрике молча выслушал своего друга. Пробило двенадцать, дон Диего взял шляпу, накинул плащ, опоясался шпагой и обратился к дону Энрике, который последовал его примеру: – Прошу вас сопровождать меня. Молчаливый и безразличный ко всему, дон Энрике направился со своим другом к воротам дворца. Войдя в большое унылое здание, жилище вице-королей в Новой Испании, они пересекли ряд безлюдных, обширных патио и темных коридоров, скупо освещенных фонарями. Лишь кое-где им попадались часовые с алебардой. В тишине ночи гулко отдавались шаги молодых друзей. Наконец они подошли к апартаментам вице-короля. Там было заметно некоторое оживление; в покоях горел свет, двигались рабы и слуги, слышались голоса, смех. Казалось, там сосредоточилась жизнь прежнего дворца Монтесумы. Вице-король ожидал прихода дона Диего и дона Энрике. – Ваша светлость, – сказал Индиано, – вот юный граф де Торре-Леаль. – Добро пожаловать, кабальеро, – произнес вице-король, – садитесь, и побеседуем с вами, мне многое нужно узнать у вас и сообщить вам. – К вашим услугам, ваша светлость. – Прежде всего, известно ли вам, что завтра истекает срок, назначенный вашим отцом, – упокой господи его душу, – и, ежели вы не явитесь вовремя, титул и состояние графа перейдут к его младшему сыну? – Сеньор, об этом решении мне ничего не известно. – Выходит, что вы совсем отказались от ваших прав? – Сеньор, изгнанный по повелению вашей светлости, без надежды когда-либо вернуться в Новую Испанию, уверенный, что в случае пленения я буду приговорен к смерти, – ведь надо мной нависло обвинение в нападении на королевских солдат, хотя я и не принимал в нем участия, – я примирился с мыслью о печальном и безвестном существовании в чужом краю. – Дон Энрике, – ответил вице-король, – все это в прошлом, моя доля в ваших несчастьях велика, теперь я хочу восстановить ваше доброе имя. Именем его величества дарую вам прощение за время, проведенное вами среди пиратов. – Благодарю вас, сеньор. – А теперь вы вправе требовать возвращения вам титула и состояния вашего покойного отца. Вас оклеветал тот, кто завладел вашим наследством. Дон Энрике устремил вопрошающий взгляд на дона Диего. Вице-король понял. – Этого человека зовут дон Хусто. – Дон Хусто? – Да, это брат вашей мачехи. Завтра вы появитесь перед ним, как выходец с того света, в торжественный для него час, когда, возможно, свадебная церемония будет уже закончена. – Он женится?! – воскликнул дон Энрике, забывая, что по этикету не положено задавать вопросы вице-королю. – Да. Дон Диего расскажет вам на ком. – На очаровательной девушке, недавно поселившейся в нашем городе, – пояснил дон Диего. – Не знаю имени ее отца, но мне говорили, что семья жила постоянно на Эспаньоле, что девушка по происхождению француженка, а зовут ее Хулия. – Хулия! – воскликнул дон Энрике, снова забывая, что он находится перед вице-королем. – Хулия! Но, боже мой, это невозможно! – Как, вам знакома эта девушка? – спросил вице-король. – О да, сеньор! Простите, ваша светлость, что я осмелился забыться в вашем присутствии. Ведь с этой девушкой я мечтал соединить свою судьбу в тот день, когда мне удастся вновь обрести свободу. И вернул бы я свое богатство и знатное имя или остался бы нищим изгнанником, все равно я предложил бы ей руку. – А она знала все? Знала, кто вы? – Нет, сеньор, она не знала даже моего имени. Но она знала, что я люблю ее, что мы поженимся, и поклялась ждать меня. – Значит, она забыла вас. – Не думаю. Хулия на это не способна. Здесь кроется непонятная для меня тайна. По доброй воле Хулия не вышла бы замуж за другого. – В таком случае необходимо расстроить эту свадьбу, – сказал дон Диего. – Вы находите, что это возможно? – спросил вице-король. – Если девушка по-прежнему любит дона Энрике, то стоит ему появиться перед ней, как она откажется от брака с доном Хусто. А уладить все остальное очень просто, сеньор. – Превосходно. Но не будем терять ни минуты. Ночь на исходе, а свадьба, возможно, состоится рано поутру. – Просим у вашей светлости разрешения удалиться. – Разрешаю. Дон Энрике, вот пергамент с дарованным вам прощением. Приходите сообщить, успешно ли продвигаются ваши дела. – Благодарствуйте, сеньор, – ответил дон Энрике, почтительно склонившись перед вице-королем и принимая из его рук грамоту. Молодые люди вышли из дворца. – Дорогой друг, – сказал дон Энрике, – я вам и так уже многим обязан, но все же прошу вас, не покидайте меня: необходимо помешать этому браку. Если Хулия обвенчается с доном Хусто, я не знаю, что со мной будет. – Дон Энрике, то, что я сделал для вас, ничтожно по сравнению с возвращенной мне честью и счастьем; располагайте мною, я весь к вашим услугам. – Знаете ли вы, где живет Хулия? – Нет, понятия не имею. – У кого мы могли бы получить эти сведения? – Я знаю только одну особу, которой это известно. – Кто же она? – Это молодая женщина по имени Паулита. – Паулита? – Да, она-то и сообщила мне, что дон Хусто женится. – Так идемте же к ней. – Идемте. Дон Энрике с лихорадочной поспешностью направился к дому Паулиты. Дверь оказалась на запоре. На стук никто не отозвался. Подождав, дон Энрике снова постучал, потом забарабанил, но все было безуспешно. – Очевидно, ее нет дома, – заметил Индиано. – Как же быть? – Ничего не поделаешь, придется ждать. – Ждать? Но время летит… А если она до рассвета не вернется домой? Если никто не сможет сообщить нам, где дом Хулии, и бракосочетание тем временем состоится? – А как вы предлагаете поступить? Дон Энрике погрузился в размышления, потом горестно воскликнул: – Вы правы, – остается лишь ждать. Может быть, она вернется. – Будем ждать. Оба продолжали стоять около двери. Дон Энрике – снедаемый сильнейшей тревогой, дон Диего – задумчивый и печальный. Близилось утро, никто не появлялся, дон Энрике сходил с ума от беспокойства и нетерпения. Внезапно в переулке послышались шаги, мужские шаги. Друзья бросились вслед за незнакомцем, который при виде людей попытался было бежать, но его уже крепко держали четыре руки. – Москит! – с удивлением воскликнул дон Энрике. – Мы спасены. – Да, это я, дон Энрике, – сказал Москит, справившись с испугом. – Знаешь ли ты, где живет Хулия? – спросил дон Энрике. – Да, сеньор. – Ну, так веди меня к ней. – Это невозможно. – Невозможно? Почему? – Сеньор, меня преследует стража, я должен бежать. – Так укажи улицу, дом. – А для чего это вам, сеньор? – Москит, мне необходимо расстроить свадьбу Хулии, а для этого я должен с ней увидеться. – Ну, вы можете быть совершенно спокойны, свадьба и без того расстроена. – Свадьба расстроена? Откуда ты знаешь? – Да очень просто: этой ночью сеньорита Хулия бежала из дому. – Бежала? – Вернее сказать, я ее похитил из дому по приказу дона Педро Хуана, он, видите ли, тоже жаждет расстроить эту свадьбу. – И где же сейчас находится сеньорита? – Сеньор, узнав, что за мной гонится стража, я ее оставил на попечение Паулиты в доме на углу той улицы, где монастырь Санто-Доминго. Ступайте туда. – Чей же это дом? – Спросите там дона Педро Хуана де Борику. – Дом принадлежит ему? – Он нанял его на время. Там же увидите и Паулиту. – Плохо тебе придется, если ты нас обманываешь. – Клянусь богом! – Ступай. Вы пойдете со мной, дон Диего? – Конечно. Друзья поспешно направились на ту улицу, где стоял монастырь Санто-Доминго.XIV. ПОХИЩЕНИЕ
Педро Хуан де Борика безуспешно пытался совладать со своей страстью и найти покой и счастье у домашнего очага. Любовь к Хулии нахлынула на него с такой силой, что ему никак не удавалось забыть девушку. Правда, в первые дни после бурных объяснений между матерью и дочерью Педро Хуан испытал глубокое потрясение и, казалось, излечился от своей страсти. Он избегал встречаться с Хулией, беседовать с ней и даже не справлялся о ней у жены. Но известие о ее браке с доном Хусто вновь зажгло в его сердце пламя страсти. Ревность терзала его, нелепая и бессмысленная ревность, которую можно было назвать скорее досадой. Он не мог себе представить, что Хулия будет принадлежать другому; он привык жить с ней под одной кровлей, ежедневно видеть ее, слышать ее голос и нашептывать ей нежные слова; правда, Хулия выслушивала их без удовольствия, но все же ей приходилось считаться с отчимом, и это вселяло в его сердце некоторую надежду. Кто знает, не смягчится ли в один прекрасный день девичье сердце. Но отдать ее другому, расстаться с ней означало навсегда потерять надежду, и с этим Педро Хуан не мог примириться. День свадьбы близился, и Педро Хуан решился на отчаянный шаг, лишь бы расстроить свадьбу. Похитить девушку – вот первая мысль, которая пришла ему в голову; он понимал, что Хулия не покорится ему, но он желал во что бы то ни стало вырвать ее из дому. Он предпочитал видеть ее мертвой, чем замужем за другим. Для выполнения этого замысла Педро Хуану нужен был соучастник; порывшись в памяти и перебрав всех, кого он знал в Мехико, – а знал он очень немногих, – он надумал обратиться за помощью к Москиту, мужу Паулиты, которая часто бывала у них в доме. Педро Хуан мало знал Москита, а потому решил предварительно поговорить с ним. – У вас как будто нет сейчас подходящего занятия, не правда ли? – начал бывший живодер. – Что верно, то верно, – ответил Москит, – нынче дела в Мехико для нас, бедняков, идут из рук вон плохо; было бы славно, если бы ваша милость нашла мне выгодное дельце. – Для меня это нетрудно, но прежде всего надо знать, что вы умеете делать. Москит, как и все ловкие пройдохи, был неглуп и разом смекнул, что Педро Хуан нащупывает почву, желая убедиться, можно ли ему, Москиту, доверять. – Ваша милость, – ответил он, – я умею делать все, что мне прикажут, и за хорошие денежки возьмусь обделать любое дельце, лишь бы при этом не требовалось ни читать, ни писать, – каюсь, в грамоте я не силен. – О, я вижу, вы малый решительный. – Каждый станет решительным, когда нужда подопрет. Дайте мне поручение, ваша милость, и вы убедитесь, что я способен на все. – На все? – На все. – Это сильно сказано. – На все, что возможно исполнить. – А если бы понадобилось вступить в схватку с королевскими солдатами? – То это был бы не первый случай в моей жизни, – хвастливо ответил Москит. Педро Хуан с любопытством и некоторым сомнением поглядел на Москита. – Ваша милость не верит мне? – вскипел Москит. – А вы взялись бы помочь мне похитить даму из ее дома? – Вашей милости нужна моя помощь, или мне придется все проделать одному? – Возможно и то и другое. – Все зависит от того, сколько ваша милость положит за дельце. Я ни от чего не откажусь. – А если понадобитсяприбегнуть к какой-нибудь хитрой уловке? – За этим дело не станет. – Однако вы уверены в себе. – Я побывал в разных переделках и не привык трусить. – Отлично. Так я могу рассчитывать на вас? – Безусловно. – Так слушайте: речь идет о Хулии, о той самой девушке, которая в ту ночь оказалась в вашем доме. – Продолжайте, сеньор, – сказал, не моргнув глазом, Москит. – Действовать придется против ее воли. Другими словами, девушку надо выманить из дому обманом или силой, но так, чтобы об этом не узнала сеньора Магдалена. Каков ваш план? Москит на миг задумался. – Нет ли окна или балкона в комнате, где спит девушка? – спросил он. – Есть балкон. – Она спит одна в комнате? – Одна. – Сможет ли ваша милость подмешать девушке сонный порошок за ужином? – Нет ничего легче; я его всыплю в стакан с вином. – А можно ли незаметно прокрасться ночью в ее спальню? – Можно. Дверь выходит в коридор; правда, она ее запирает на ключ, но я заказал себе второй в надежде, что мне посчастливится попасть в ее спальню. – В таком случае ручаюсь за успех. Слушайте же, ваша милость: сегодня вечером я принесу вам порошок, после которого она уснет как мертвая. Тогда ваша милость даст мне знать – я буду поджидать где-нибудь неподалеку, – мы вдвоем вытащим девушку через балкон на улицу, и ваша милость мне скажет, куда ее отнести. – Я уже снял для этого случая дом на углу улицы, где монастырь Санто-Доминго. – Отлично, тогда все в порядке. Иду за порошком. А сколько ваша милость положит мне за труд? – Тысячу дуро. – Заметано. Спешу. – Так сегодня вечером? – Ровно в десять. Нахлобучив шляпу, Москит отправился на поиски «бесчувственного порошка» к одной из тех знахарок, которые в те времена без зазрения совести торговали разными снадобьями по неслыханным ценам. А в десять часов вечера он уже стучался в дверь к Педро Хуану. С нетерпением поджидая Москита, бывший живодер не покидал склада, находившегося в первом этаже дома, и поспешил сам открыть ему дверь. – Это вы? – спросил он шепотом. – Да, сеньор. – Где порошок? – Вот возьмите, ваша милость. Педро Хуан взял пакетик и тщательно спрятал его у себя. – А теперь пойдемте, – сказал он. Москит последовал за ним. Они пересекли главное патио и, попав во второй дворик, поднялись по тайной лестнице в комнату, где стояли кровать и несколько стульев. На столе горела сальная свеча. – Вот ваш тайник, – сказал Педро Хуан, – запритесь на ключ; здесь вас никто не увидит; я приду за вами, когда наступит время. Хотите поужинать? – Благодарствуйте, ваша милость, у меня нет аппетита. – Если желаете прилечь, вот вам кровать; только не проспите моего стука… – Об этом не беспокойтесь, – с улыбкой ответил Москит. – Ну, так до скорого. Педро Хуан вышел, а Москит повернул в замке ключ. В тот вечер Педро Хуан ужинал дома; он сидел во главе стола между сеньорой Магдаленой и Хулией. Во время ужина Педро Хуан держался совершенно спокойно; Хулия выглядела озабоченной, сеньора Магдалена – веселой и оживленной. – Сегодня Хулия проведет с нами свой последний вечер, – сказал Педро Хуан, обращаясь к жене. – Мне очень жаль, но я спокоен за нашу Хулию, ведь она отдаст свою судьбу в руки человека, который ее безгранично любит, хотя она и отвечает равнодушием на его чувство. В этих словах скрывался тайный смысл, но разгадать его мог бы только Москит, ужинай он в это время за одним столом с семьей. – Да, завтра свадьба, если богу будет угодно, – откликнулась сеньора Магдалена. – Для нашего последнего ужина, – продолжал Педро Хуан, – я припас превосходное вино, которое, к сожалению, не придется по вкусу моей Магдалене, – ведь оно из Испании. – Ошибаешься, мой друг, – с улыбкой заметила сеньора Магдалена, – я делаю исключение в двух случаях: мне нравятся, несмотря на их испанское происхождение… – Вина, – подсказал Педро Хуан, – и… – И мой дорогой муж, – нежно заключила сеньора Магдалена. – Ну так вот, муж идет в погреб за вином! – весело воскликнул бывший живодер, поднимаясь из-за стола. В этот миг сеньора Магдалена почувствовала себя поистине счастливой. Нагнувшись к Хулии и поцеловав ее в лоб, она сказала взволнованно: – Видишь, дочурка? Тебе я обязана своим счастьем. Хулия ответила матери поцелуем и украдкой смахнула слезу со щеки. Дорогой ценой платила она за счастье матери. Педро Хуан вернулся, неся в одной руке откупоренную бутылку, а в другой – наполненный бокал. – Вот так вино! – воскликнул он. – Я разрешил себе его отведать, сделал всего один глоток из вежливости, да, именно из вежливости. Это ваш бокал, Хулия, возьмите; ты, Магдалена, дай мне свой бокал, а тебе я налью в свой… отлично… Теперь выпьем втроем за то, чтобы Хулия была счастлива, как я на то надеюсь. Все трое осушили свои бокалы. – В самом деле, прекрасное вино, – сказала сеньора Магдалена, – не правда ли, дочурка? – Да, чудесное, – ответила Хулия, подавляя ощущение какого-то неприятного привкуса. Ужин проходил оживленно, семья засиделась за столом; Хулия первая встала со словами: – Я пойду к себе, матушка. – Тебе нездоровится? – Нет, просто хочется спать. Покойной ночи. – Храни тебя господь. Хулия ушла в свою комнату. – Уж не заболела ли она? – с участием спросил Педро Хуан. – Да нет, у нее, наверно, голова закружилась от этого вина, – сказала сеньора Магдалена, – да и мне уже пора на покой. – А я пойду заканчивать дела. Мы должны выделить Хулии приданое. Для нас это вопрос чести. – Как ты добр, Педро Хуан! – сказала сеньора Магдалена. – Не задерживайся слишком долго. Сеньора Магдалена удалилась в спальню, а Педро Хуан отправился на склад, чтобы там переждать некоторое время. Хулия вошла к себе, еле держась на ногах от слабости и непреодолимой сонливости; чувство непривычной истомы охватило ее с такой силой, что, позабыв запереть дверь, она, как была в платье, бросилась на кровать, сомкнула глаза и погрузилась в глубокий сон. Немного времени спустя дверь в ее комнату тихонько отворилась и два человека, проскользнув, как тени, повернули ключ в замке. – А что, если она проснется? – шепотом спросил Педро Хуан. – Для этого ей надо было бы дать понюхать уксусу, – успокоил его Москит. – Что же дальше? – Я открою балкон, спущусь по веревке вниз, а вы свяжете девушку и спустите ее вслед за мной. – Веревка может поранить Хулию. – Так оберните ее сперва в простыню и веревку привяжите к простыне. Здесь невысоко, я приму ее на руки. – Отлично. – Подождать вас внизу? – Нет, отнесите ее в тот дом. Я приду туда только завтра, чтобы не вызвать подозрений. Москит скользнул по веревке вниз, Педро Хуан спустил вслед за ним крепко спящую девушку. Москит взял ее на руки и пустился в путь. Педро Хуан свернул веревку и вышел, заперев за собой на ключ спальню Хулии.XV. СОПЕРНИЦЫ
Москит отнес Хулию в дом на улице Санто-Доминго. Покачивание в пути и свежий ночной воздух понемногу привели девушку в чувство, и, когда Москит со своей ношей вошел в дом, она окончательно очнулась от сна. Против ожидания, дом оказался незапертым, но внутри Москит не нашел никого, кроме женщины, заранее нанятой Педро Хуаном; Паулита еще не успела прийти. Задыхаясь от усталости, Москит опустил свою ношу на кровать в комнате, предназначенной для Хулии. Девушка села на край кровати и с ужасом огляделась по сторонам; все происшедшее было так странно и необычно, как бывает только во сне. Наконец ее взгляд остановился на Моските; она узнала его. – Что это?! – воскликнула она. – Где я? Это ваш дом? А мне снилось, будто я вернулась к матери и должна выйти замуж… Москит молчал, не зная, что сказать. – Ради бога, объясните, что происходит, – продолжала Хулия. – Кажется, я схожу с ума. Где Паулита? На этот вопрос ответить было нетрудно: – Она скоро придет, сеньора, вот-вот придет. – Не понимаю, что со мной, была ли я больна или видела все это во сне? Никак не могу собраться с мыслями, голова такая тяжелая. – Сеньора, вы еще не вполне выздоровели: думаю, вам будет полезно поспать до прихода Паулиты. Хулия не могла отличить явь от сна, хотя она и проснулась, но наркотическое действие порошка продолжало туманить ей голову, мысли путались; она попыталась размышлять, но была не в силах сосредоточиться и припомнить все, что произошло ночью. События вчерашнего дня всплывали перед ней сквозь легкую дымку – слишком ясные, чтобы походить на сон, и слишком смутные, чтобы быть явью. Голова отяжелела и клонилась на грудь с ощущением неясной боли; казалось, Хулию лихорадит; с покорностью больного человека она согласилась: – Вы правы, посплю до прихода Паулиты; у меня какая-то слабость. И, опустив голову на подушку, она снова погрузилась в сон. Москит вышел из комнаты и встретился лицом к лицу с Паулитой. – Как ты задержалась, Паулита! – Ты еще не знаешь, какие дурные вести я тебе принесла. – Что такое? – А то, что едва я собралась уходить, как в дом пришли за тобой альгвасилы со стражей. – За мной? А по какой причине? – Они сказали, будто ты напал на отряд королевских солдат. Я соврала, что тебя нет в Мехико, они перерыли весь дом и, наконец, ушли, поклявшись разыскать тебя. – Ну, пускай попробуют! – А что же ты собираешься сделать? – Прежде всего скроюсь, а там увидим. – Зачем ты вызвал меня? – Для одного дельца, – ответил Москит, показывая на комнату рядом, где спала Хулия. – Этой ночью я заработал хороший куш, будет на что прожить целый год, даже если мне весь год придется скрываться. – Что же там такое?! – воскликнула Паулита, собираясь войти в таинственную комнату. – Погоди, сейчас все расскажу толком и объясню, что тебе следует делать. Мне ведь придется бежать, понимаешь? С альгвасилами шутки плохи. Здесь спит девушка, которую я похитил по поручению одного кабальеро. С девушкой уговора не было, а потому ей пришлось дать сонный порошок, и уж потом я приволок ее сюда. Кабальеро придет только завтра утром; ты постереги ее здесь, чтобы она не сбежала, и подожди прихода сеньора. – Но кто она, как ее зовут? – Ты ее знаешь и будешь весьма удивлена. – Скажи же мне… – Сеньора, велевшего мне похитить девушку, зовут дон Педро Хуан де Борика, он муж той дамы, у которой ты бывала. – А девушка? – Сама увидишь. Мне пора. Завтра к ночи загляну домой, если не застану тебя, приду сюда. Что поделаешь, возиться с альгвасилами мне неохота. Москит торопливо вышел, а Паулита шагнула в соседнюю комнату, чтобы увидеть, кто же там находится. Хулия лежала лицом к стене; Паулита подошла к ней и при слабом свете ночника вмиг ее узнала. – Хулия! – Паулита! – откликнулась девушка, вскакивая. – Что такое, Хулия? Почему вы здесь, что означает ваше спокойствие? – Я сама не понимаю, что происходит. Разве я не в вашем доме? – Нет. – Так где же я? Чей это дом? Как я сюда попала? – Не знаю, чей это дом. Вас привели сюда обманом, но я не дам свершиться этому злодейству, хотя мой собственный муж принимает в нем участие. – Что, что вы говорите? Объясните все толком. – Хулия, вчера вечером вам подсыпали порошок, и вы заснули как убитая. Пользуясь этим, вас вынесли из дому и принесли сюда. – Кто это сделал? – Дон Педро Хуан, ваш отчим. – Боже мой, какая низость! Но зачем? – Сами понимаете, ведь он влюблен в вас. Итак, он расстроил вашу свадьбу и держит вас в своей власти. – Бесчестный человек! Я никогда, никогда не соглашусь на это. Прошу вас, Паулита, проводите меня домой. Я должна завтра же повенчаться, вот единственная возможность освободиться от преследований этого чудовища. Когда я буду замужем, ему придется расстаться со своей надеждой. Паулиту вмиг осенила новая мысль: когда Хулия будет замужем, дон Энрике тоже навсегда потеряет надежду. Теперь она знала, как надо действовать. – Вы правы! – сказала она. – Вам надо вернуться домой. Вставайте, я вас провожу. Хулия, пошатываясь, встала. – Мужайтесь, – сказала Паулита, – завтра в это время вы будете навеки связаны с доном Хусто. Теперь настала очередь Хулии вспомнить о доне Энрике, или, вернее, об Антонии Железной Руке, – ведь она знала его лишь под этим именем. – Паулита, – сказала она, – это неслыханно тяжелая жертва: я навеки расстаюсь с человеком, которого люблю, я решаюсь забыть его, хотя он не дал мне повода проявить столь черную неблагодарность. Появись он передо мной завтра в час венчания, я умерла бы от стыда и горя, – ведь он не только любил меня, он спас мне честь и жизнь, а я плачу ему, благороднейшему человеку, непростительной изменой. Паулита вздрогнула, слова Хулии прозвучали упреком в ответ на ее недостойный замысел; ей показалось, что она слышит голос своих покойных родителей, шепчущих ей «неблагодарная», и ей стало невмоготу долее сдерживаться. По природе своей Паулита была создана, чтобы творить добро. – Послушайте, – сказала она вдруг, – тот пират, о котором вы мне рассказывали, был родом мексиканец? – Да, а почему вы спрашиваете? – У себя на родине он был богат и знатен? – Моей матери он говорил, будто самому королю не уступит в богатстве и знатности. – Боже мой, Хулия, кажется, этот человек здесь, в Мехико. – Что вы сказали?! – в ужасе воскликнула Хулия. – Да, мне кажется, он здесь… а зовут его дон Энрике Руис де Мендилуэта, я вам говорила о нем. – Милосердный боже! Тот самый, кого вы так страстно любите? – Тот самый. – Паулита, бог этого не допустит, ведь я способна возненавидеть вас. – А вы не думаете, Хулия, что я тоже вправе возненавидеть вас? Ведь вы у меня отняли того, кого я полюбила задолго до вашей встречи. – Но вы отказались от него и вышли замуж за другого. – Потому что я не смела надеяться на счастье принадлежать ему. – Так надо было пожертвовать всей своей жизнью и продолжать боготворить его, а не связывать себя с другим. – А вы, Хулия, разве вы не решаетесь выйти замуж за другого? – Ради счастья моей матери. И очень страдаю. – И я, я тоже страдаю. Обе застыли в молчании; недоверие, ревность, ненависть и любовь боролись в сердцах этих женщин. Они не знали, что делать, как поступить. Хулия восторгалась великодушием Паулиты, которая сообщила ей, что ее возлюбленный находится в Мехико. Паулита думала о том, что она своим сообщением, может быть, вернула счастье дону Энрике. Неожиданно Паулита спросила: – Как вы думаете поступить? Хулия, не отвечая, посмотрела на нее с недоверием. – Отвечайте, Хулия, вы еще не знаете, на что я способна. Хулия поняла эти слова, как угрозу, и, закинув голову, спросила с вызывающим видом: – На что же вы способны? – Хулия, – сказала Паулина, бледнея, и голос ее дрогнул. – Хулия, я способна на все самое хорошее и самое дурное. Да удержит меня рука бога. В ответ Хулия лишь надменно усмехнулась. – Заклинаю вас счастьем вашей матери, не смейтесь надо мной – ревность сжигает меня, я способна убить вас или убить себя. Я не хочу мешать счастью дона Энрике, но я не в силах стать свидетельницей его счастья. – Поступайте же так, как вам больше по душе. Бледная, с обезумевшими глазами Паулита выхватила из-за корсажа кинжал, который зловеще блеснул в ее руке. Хулия вскрикнула. Паулита замерла, потом, словно внезапная перемена произошла в ее сердце, она отбросила кинжал далеко от себя и судорожно схватила Хулию за руку. – Идемте! – Куда? – спросила Хулия. – Я уже сказала вам, что одинаково способна на добро и на зло. В порыве ярости я готова была убить вас; опомнившись, я хочу вести вас к дону Энрике и отдать вас ему. – Такая девушка, как я, – высокомерно проговорила Хулия, – не способна пойти к мужчине, которого она любит, тем более в полночь. – Выходит, вы не доверяете тому, кого любите? Вы считаете его способным на низость? О, вы его не любите или недостаточно знаете. Дон Энрике настолько благороден, что ваша честь под его опекой осталась бы такой же незапятнанной, как и в доме вашей матери. Хулия, вы не знаете величия его души, вы недостойны его любви. Только ему я обязана своей чистотой, это он оберегал ее, а я, – слышите? – я была бы счастлива все принести ему в жертву. Ведь я люблю его так, как он этого заслуживает, для меня не существуют светские условности и соображения женской чести, ничто, ничто не существует для меня. Ради него все – даже смерть, ради него все – даже честь. – Паулита, вы мне делаете больно. – Вы не хотите понять; поймите, как велика моя любовь: ради нее я жертвую моим чувством и, не колеблясь, веду вас к дону Энрике. – Вы великодушны, Паулита. – Так вы пойдете со мной? – Идемте! – воскликнула Хулия, чувствуя, как исчезает ее робость под влиянием твердой решимости Паулиты. Они вышли на улицу. Вдруг Хулия остановилась и нерешительно спросила: – А если это не он? Паулиту тоже охватило сомнение. – А если это не он? – повторила она вслед за Хулией. – Кто может поручиться, что это одно и тоже лицо? Ведь я не знаю его настоящего имени. А вы, разве вы знаете, как звали среди охотников того, о ком вы мне рассказывали? – В самом деле, вы правы: было бы просто нелепо прийти вдруг ночью к незнакомому человеку – что подумал бы о нас дон Энрике, если бы он узнал об этом? – Паулита, проводите меня домой. – Идемте. Немного времени спустя в доме сеньоры Магдалены раздался стук в дверь. Первым его услышал Педро Хуан, которому не спалось после всех пережитых волнений. Ему пришло к голову, что стук в дверь как-то связан с ночным похищением. Он поспешно вскочил и спустился вниз, чтобы, не дожидаясь привратника, самому открыть дверь. – Что вы скажете вашей матери? – спросила Паулита молодую девушку. – Откроете ли вы ей глаза на этого бесчестного человека? – Бог поможет мне скрыть от нее ужасную правду. Тут дверь открылась, и Хулия вошла, бросив на прощание: – До завтра. – Прощайте, – ответила Паулита. Педро Хуан держал в руках светильник, и Хулия вмиг его узнала. – Низкий человек! – воскликнула она. – Ради бога, не выдавайте меня! – ответил дрожащим голосом Педро Хуан. – Я не способна нанести моей матери этот удар. Скажите ей, будто в дверь стучался посторонний человек. Надеюсь, никто не знает, что ночью меня не было дома? – Никто. – Так позаботьтесь, чтобы и матушка об этом не узнала. Хулия легко взбежала по лестнице наверх, но дверь ее комнаты оказалась на ключе. В этот момент сеньора Магдалена вышла из своей спальни. – Что случилось? – Не знаю, матушка, – ответила Хулия, – я тоже вышла, чтобы посмотреть, в чем дело. – Ты еще не раздевалась? – Я молилась. Тем временем Педро Хуан тоже поднялся наверх. – Кто стучался? – спросила его сеньора Магдалена. – Какая-то пьяная женщина пыталась вломиться в дом. – Ушла она? – Да. – Так я ложусь. – И сеньора Магдалена вернулась к себе. – Дайте ключ, – сказала Хулия. – Вот он, – ответил Педро Хуан, протягивая ей ключ. Хулия вошла к себе в спальню и заперла дверь.XVI. СЛЕД ПОТЕРЯН
Индиано и дон Энрике поспешили к дому, указанному им Москитом, на поиски Хулии. Но ни Хулии, ни Паулиты там уже не было; служанка не смогла сообщить, куда они исчезли. Быстро светало; уже на бледном небе вырисовывались очертания церковных куполов, колокола ударили к ранней мессе, на улице появились первые прохожие. – Что делать? – спросил дон Энрике. – Право, я и сам не знаю, – сказал Индиано. – Вот уж и день настал, просто теряюсь в догадках, куда могла деться Хулия. – Москита мы теперь не сыщем. – Да и Паулита едва ли вернется домой, а время летит. – По счастью, свадьба не может состояться из-за похищения Хулии. – Это верно, но кто знает, что с ней случилось. – Мне пришла в голову мысль. – Говорите. – Помните донью Ану? – Помню. – Не знаю почему, но эта женщина стала вашим заклятым врагом. Боюсь, уж не замешана ли она в этой истории, ведь она на все способна. – Вы думаете? – О да! Знаете что? Не пойти ли нам к ней? – Если вы считаете, что это нам поможет… – Только там я надеюсь что-нибудь узнать. – Так поспешим же к ней. Закутавшись в плащи, оба друга устремились к дому доньи Аны. Уже совсем рассвело, когда они постучались в дверь, которая тотчас открылась перед ними. Друзья переступили порог. – Сеньоры желают видеть мою госпожу? – спросила служанка. – Да. – Госпожи нет дома. – Так рано и уже нет дома? – Госпожа вышла из дому до рассвета. – Наверно, в церковь? – Нет, сеньор, она пошла в сторону главной улицы. Друзья переглянулись, их лица выражали отчаяние. – Так вы думаете, все пропало? – спросил дон Энрике. – Пока еще нет, – ответил дон Диего после короткого раздумья. – Сделаем последнее усилие – идем к дому Хусто. Донья Ана пыталась заключить с ним союз, и кто знает, не было ли это похищение приманкой, чтобы заполучить его… – Но с какой целью? – Я и сам этого не пойму, но замыслы злых людей так хитро сплетены, что, даже разгадав их, не сразу найдешь их тайные пружины. – Так идем к дому Хусто. Окрыленные новой надеждой, друзья пустились в путь. Дом дона Хусто выглядел опустевшим и покинутым, из просторного патио не доносилось ни малейшего шума. Не было видно ни слуг, ни рабов, ни конюхов; лишь один привратник сидел на скамье и, прикрыв голову беретом, грелся на солнышке. – Где сеньор дон Хусто? – спросил дон Энрике. Старик с удивлением посмотрел на пришельцев. – Видно, сеньоры не знакомы с моим господином. – Почему ты так думаешь? – Да иначе сеньоры знали бы, что сегодня у моего господина свадьба, может, как раз в эту минуту в церкви совершается обряд. Я не смог пойти в храм из-за проклятого ревматизма, который меня мучит вот уже десять лет, с той поры как покойный сеньор вице-король, упокой господи его душу… – Отлично. Итак, дон Хусто в церкви? – А как же моему господину было не поспешить в церковь? Его милость аккуратен, как часы. Я его хорошо знаю, скоро тридцать лет, как я ему служу. Еще молодая Гуадалупита не успела выйти замуж за сеньора графа, упокой господи его душу, да и знать-то мне ее жениха пришлось больше понаслышке, потому как сеньор граф в ту пору еще не бывал у нас в доме, а я из-за своего ревматизма… – Так ты говоришь, что в церкви уже началось венчание? – Да, если бог милостив. Мой господин поднялся спозаранку, да и ничего удивительного, что он торопился подняться, ведь девушка, говорят, прекраснее золотого дублона и белее китайской фарфоровой чашечки. – А невеста тоже была готова к свадьбе? – Разумеется, ведь мой господин чуть свет послал в ее дом гонца спросить, не пора ли ему уже ехать за невестой; а послал он Коласа, мальчишку-мулата, живого, словно ртуть, а уж как мой господин его любит, и сказать невозможно, так вот ваша милость сейчас услышит, как все произошло. – Так что же ему в доме невесты ответили? – Кому? – Посланцу дона Хусто. – К этому я и речь веду помаленьку да полегоньку. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Так мы остановились на том, что паренек, а зовут его Колас, побежал к невесте спросить от имени моего господина, все ли готово и не пора ли моему господину уже идти навстречу своему счастью. А Колас уж так прыток – стрелу перегонит. Сеньорам, может, неизвестно, а я этого мальчишку вырастил и, как говорится, собственной грудью выкормил. Дону Энрике и дону Диего не терпелось поскорее узнать, что же ответили гонцу в доме Хулии, но они понимали, – если прервать старика, он начнет все рассказывать сызнова, – и запаслись терпением. – Так вот, – продолжал старик, – господин кликнул Коласа, – а паренек, надо вам сказать, ходит теперь в ливрее, ни дать ни взять алькальд из Севильи, – и говорит ему: «Колас, мигом слетай в дом сеньоры доньи Магдалены», – так зовут мать невесты, и, говорят, она родом оттуда, где шла война против турка, – позабыл, как зовется это место… – Лепанто, – с яростью подсказал дон Диего. – Так вот с божьей помощью она оттуда и приехала. «Спроси-ка у сеньоры, – говорит мой господин, – все ли готово и не пора ли мне уже явиться…» – Ну, Колас спросил, а дальше что? – не утерпел прервать старика дон Энрике. – А паренек – такой шустрый! Одна нога тут, другая там, и не успели мы оглянуться, как он уже вернулся. По чистой случайности мой господин стоял на этом самом месте в своем лиловом камзоле, и Колас говорит ему: «Так и так, сеньора Магдалена низко кланяется и целует руки вашей милости, а в доме все готово, и ждут только вашу милость, чтобы ехать венчаться»… Что за бесовское наваждение, сеньоры бегом пустились от меня прочь, даже договорить не дали, так слово на языке и застряло… В самом деле, едва услышав полученный гонцом ответ, друзья переглянулись и, не обращая больше внимания на старика, быстро зашагали по улице. – Здесь кроется какая-то тайна, я в ней никак не разберусь, – сказал дон Энрике. – Да и я ничего не понимаю, – откликнулся дон Диего. – Если Хулии этой ночью не было дома, возможно ли, что сегодня поутру, она как ни в чем не бывало, поехала в церковь венчаться? – Может, не она была похищена этой ночью? – Конечно, могла произойти ошибка. Но самое ужасное, если как раз в эту минуту совершается венчание, и мы не поспеем вовремя. – Прибавим же шагу. И друзья чуть не бегом пустились вперед, к дому Хулии. Там они ожидали застать шумное оживление, вереницу карет, толпу пажей и слуг, но, к их удивлению, дом оказался запертым, лишь на пороге задней двери стояла женщина, по виду служанка. – Скажите, – обратился к ней дон Диего, – бракосочетание уже закончилось? – Не знаю, сеньор, – ответила служанка. – Не знаете? Разве вы не служите здесь в доме? – Как же, сеньор, я здешняя, но сеньорита венчается не у себя в доме. – А где же? – В доме сеньоры графини, вдовы Торре-Леаль, своей посаженой матери. – И все уже отправились туда? – Да, сеньор. Жених поехал в карете вместе с сеньоритой Хулией, сеньорой, ее матерью и отчимом. – Давно они выехали? – С полчаса. Если ваши милости поторопятся, они, возможно, еще застанут венчание, а оглашение уже наверняка закончилось. – Кто знает, может, еще поспеем, – сказал дон Диего и, подавая пример, торопливо зашагал прочь от дома Хулии. Дон Энрике, поникнув головой, последовал за ним. Ему предстояло вновь очутиться под отчим кровом, где он родился, где провел первые годы жизни и достиг юношеского возраста. Горькие воспоминания с небывалой силой нахлынули на него. Перед ним возник образ старого, безутешного отца, которому не привелось перед смертью повидаться с сыном, вспомнились все невзгоды, обрушившиеся на него, бедного изгнанника, и при этом он невольно подумал о доне Диего, виновнике его злосчастий. Но мысль о благородном поведении дона Диего благодетельным бальзамом успокоила возмущенное сердце дона Энрике. Прибавив шагу, он взял под руку своего доброго друга.XVII. МАТЬ И ДОЧЬ
Донья Ана поняла, что для нее все потеряно: дон Диего каким-то таинственным образом проведал, что анонимное письмо вице-королю с сообщением о жизни дона Энрике среди пиратов написано ею. К тому же возвращение доньи Марины в Мехико навсегда лишило донью Ану надежды стать женой или хотя бы возлюбленной дона Диего. Но она отомстит за себя, она погубит и дона Энрике и дона Диего. Во что бы то ни стало, любой ценой. В ее легкомысленном, непостоянном сердце любовные страсти – бурные и порывистые – сменяли одна другую, подобно тому как набегающие чередой волны меняют очертания песчаного побережья. Донья Ана размышляла всю ночь напролет, и, прежде чем наступил рассвет следующего дня, она надела свой лучший наряд, накинула длинный плащ, закрыла лицо густой вуалью и отправилась к дону Хусто. Несмотря на ранний час, жизнь в его доме кипела ключом; все были на ногах. Донья Ана, не колеблясь, с независимым видом прошла мимо слуг, словно она была здесь своим человеком. Никто не посмел остановить ее. Поднявшись по лестнице, она столкнулась лицом к лицу с доном Хусто, который выходил из покоев. – Кабальеро, – сказала донья Ана, обращаясь к нему, – мне надо поговорить с вами. – Дон Хусто в нерешительности молча остановился и готов был уже ответить отказом, как вдруг перед его глазами из-под плаща незнакомки мелькнули нарядное платье, прекрасная холеная рука и маленькие ножки в расшитых золотом башмачках. Пожалуй, решил он, стоит выслушать пришедшую даму. Красота, скрытая от глаз, таит в себе особую манящую привлекательность. Если бы женщины понимали, какую прелесть придает таинственность даже тем из них, кто не блещет красотой, они никогда не согласились бы расстаться с маской и плащом из счастливых и романтических времен Филиппа II, эпохи чарующих приключений с «закутанными незнакомками». Нынешние женщины показываются на улице при свете дня; конечно, они могут понравиться, но что бы ни проповедовали последователи материализма, ничто не производит такого неотразимого впечатления на сердце мужчины, как романтическая загадочность. Бывало, под вуалью скрывалось лицо дурнушки, и разочарованный поклонник спасался от нее бегством. Но ведь нынче, когда все женщины ходят с открытыми лицами, дурнушка все равно не привлекает к себе восторженных взоров. Дон Хусто, человек опытный, готов был поклясться, что перед ним красивая и знатная дама. – Сеньора, – ответил он, – ежели вы пришли по важному делу, а главное, не намерены долго задержать меня, я буду весьма рад вас выслушать. – О важности дела вы сможете судить сами, – сказала донья Ана. – В таком случае благоволите следовать за мной. Дон Хусто провел донью Ану в один из богато убранных покоев. – Мы здесь одни? – спросила донья Ана, опускаясь в кресло. – Да, сеньора. – Будьте добры, заприте дверь. Дон Хусто повиновался, удивляясь в душе таким предосторожностям. – Вы узнаете меня, дон Хусто? – спросила донья Ана, откидывая вуаль. – Донья Ана! – воскликнул, отступая, дон Хусто. – Я вижу, вы не забываете старых друзей. – Могу ли я вас забыть? – ответил дон Хусто, любуясь своей гостьей и находя ее еще прекраснее, чем прежде; даже накануне свадьбы встреча с доньей Аной взволновала его. – Забыть вас! Да вы стали еще красивее! Кто видел вас хоть раз в жизни, тот никогда вас не забудет. – Бросьте расточать любезности в день вашей свадьбы и выслушайте меня. – Говорите. – Я была здесь вчера, но мне не удалось с вами увидеться. – К моему большому огорчению. – Я хотела сообщить вам, что дон Энрике Руис де Мендилуэта в Мехико. Дон Хусто даже подскочил от ужаса, словно на него неожиданно упал скорпион. – Дон Энрике?! – воскликнул он. – Вам пригрезилось. Он умер. – Ошибаетесь. Дон Энрике жив, я сама его видела. – Вы видели его? – Да. – Вы хотите сказать, он прибыл сюда вместе с вами? – Нет. Но я хочу вас предупредить, будьте настороже, ибо дон Энрике намерен потребовать свой титул и отцовское наследство. – Тогда я пропал, – прошептал в полном унынии дон Хусто. – А может, и не пропал. – Что вы говорите? – Имеется средство предотвратить вашу гибель, незачем падать духом. – Так что же вы молчите? Скажите, какое средство? – Прежде всего нам надлежит заключить с вами договор. В этом мире все имеет свою цену, все зиждется на определенных условиях. – Сообщите же ваши условия. Чего вы хотите? Золота? Вы его получите… – Я пришла не за тем, чтобы торговать моей тайной. – В таком случае?.. – Я жажду отомстить и дону Энрике и дону Диего де Альваресу. – Каким образом? – Об этом надобно подумать вам, вы должны помочь мне в моих намерениях. Ничего другого я не требую. – Однако такие вещи не приходят сразу в голову. – Поразмыслите. Придумайте, как вернее отомстить, хотя и с опозданием. – Обещаю помочь вам. – Поклянитесь. – Клянусь богом, его пречистой матерью и всеми святыми, – торжественно произнес дон Хусто и, осенив себя крестом, поднес руку к губам. – Хорошо. А теперь выслушайте мой план, как вам освободиться от дона Энрике. Этот план, пожалуй, хорош и для моей мести. – Я вас слушаю. – Мне известна роковая тайна в жизни дона Энрике, она не только помешает ему потребовать назад отцовское наследство, но даже может привести его на виселицу. – Что это за тайна? – Известно ли вам, чем занимался дон Энрике вдали от Новой Испании? – Нет. – Он был пиратом. – Пресвятая дева! – в ужасе воскликнул дон Хусто. – Да, пиратом, пиратом. Я сама видела, как он участвовал в осаде и разграблении Портобело. Он был любимцем этого богоотступника Моргана. Заодно с его злодеями грабил города и селения испанского короля, жег дома и храмы, бесчестил женщин и девушек из знатных семейств. Так неужто такой человек достоин стать графом де Торре-Леаль? И не спасаю ли я вас, разоблачая перед вами истинную сущность этого человека? – Конечно, еще бы. Но готовы ли вы подтвердить это перед судом? – И даже перед самим королем, если потребуется. – В таком случае я пошлю за вами, когда понадобиться… – Нет, вы должны сегодня же взять меня под свое покровительство. Поймите, ко мне подошлют убийц, и, мертвая, я навсегда умолкну. Дон Энрике знает, где я живу, знает, что мне известно его прошлое, что я одинока и беззащитна, и, прежде чем я успею громогласно разоблачить его, он убьет меня, я в этом уверена. – Пожалуй, вы правы. – Я единственная помеха на его пути, и он не остановится перед тем, чтобы убрать меня. – Мне пришла в голову превосходная мысль. – Какая? – Сегодня состоится моя свадьба в доме моей сестры и посаженой матери Гуадалупе, вдовы де Торре-Леаль. Мы пробудем там весь день, сюда вернемся только к ночи. Я провожу вас сейчас к сестре, а потом вы поселитесь здесь, у меня. Согласны? – Да. – Моя сестра знает вас? – Не думаю. – Тем лучше. Идемте же. – А как, по-вашему, мне следует поступать дальше? – Вы приедете вместе со мной к графине, и едва в ее доме появится дон Энрике, вы бросите ему в лицо все, что вы о нем знаете, и прибавите к этому, что он похитил вас. – В моем похищении он не виновен. – Пусть так, но кто может опровергнуть ваши обвинения? – Никто. – Вот ему и не удастся оправдаться. – Понимаю. – Следуйте за мной, время не терпит. Об руку со своей гостьей дон Хусто сошел вниз, где у подъезда их ожидала карета, запряженная парой превосходных мулов. Заговорщики уселись в карету, которая легко и быстро покатила по улицам города, пока не остановилась у величавого обиталища графов де Торре-Леаль. Здесь также царило лихорадочное оживление, – все готовилось к предстоящему торжеству. Ведя закутанную в непроницаемую вуаль даму, дон Хусто прошел мимо слуг, толпившихся в патио. Слуги и конюхи провожали жениха низкими поклонами, уверенные, что он ведет свою невесту. Чета поднялась по лестнице и вошла в одну из комнат, где, кроме служанки, никого не было. – Хулиана, – обратился к ней дон Хусто, – передай сеньоре графине, что мне надо поговорить с ней. Она у себя одна? – Нет, у сеньоры гостья. – Все равно, передай, что я жду ее. Мгновенье спустя дверь отворилась, и в комнату вошла графиня де Торре-Леаль. Это была женщина средних лет, необычайно бледная; черты ее лица и вся манера держать себя говорили о природной доброте и мягкости ее характера. На ней было платье черного бархата, отделанное черными кружевами, брильянтовая диадема сверкала на головном уборе из черных кружев и бархатных лент. Длинные подвески, широкое ожерелье и брильянтовая брошь на груди дополняли ее богатый наряд. – Добрый день, Гуадалупе, моя посаженая мать, – сказал ей с горделивой улыбкой дон Хусто. – Как ты сегодня почивала? – Несколько лучше, – ответила графиня, легким наклоном головы приветствуя донью Ану, поднявшуюся с кресла. – Гуадалупе, прошу тебя, приюти у себя на сегодняшний день эту даму. – С большим удовольствием, – ответила графиня. – И ты и я, мы чрезвычайно многим обязаны сеньоре. Потом я расскажу тебе об этом подробнее. – Ты говоришь, мы многим обязаны? – Да, позднее ты все узнаешь. Снимите вуаль, сеньора, – продолжал дон Хусто, обращаясь к донье Ане, – здесь вы можете чувствовать себя как дома. Донья Ана открыла лицо и рассыпалась перед графиней в благодарностях, на что та с мягкой улыбкой ответила: – Сеньора, я рада предложить вам гостеприимство, мне достаточно того, что за вас просит мой брат. – Благодарствуйте, сеньора графиня, – ответила донья Ана. – Я желал бы поговорить с тобой наедине, сестра, – сказал дон Хусто, – если ты не возражаешь, сеньора могла бы проследовать в другие покои. – Прекрасно, она составит компанию моей гостье, которая сидит пока одна в ожидании венчания. – Отлично. – Хулиана, – сказала графиня, обращаясь к служанке, ожидавшей у дверей. – Госпожа, – откликнулась служанка. – Проводи сеньору в зал. Прощу вас, сеньора, чувствовать себя здесь, как в вашем собственном доме. – Бесконечно тронута вашей добротой, сеньора графиня. Донья Ана встала и последовала за служанкой через анфиладу покоев в зал, где собирались гости в ожидании свадьбы. По пути она внимательно разглядывала ковры и богатое убранство комнат. Войдя в зал, она увидела сидевшую в кресле пожилую, изысканно одетую даму. Молодая женщина подошла ближе, чтобы приветствовать ее, дама повернула к ней голову, и у обеих одновременно вырвался крик удивления. – Ана! – воскликнула старая дама. – Матушка! – отозвалась донья Ана. На какой-то миг женщины замерли в нерешительности, потом, рыдая, бросились друг другу в объятия. Служанка, провожавшая донью Ану, с удивлением смотрела на эту сцену, потом, рассудив, что графиня, очевидно, заранее подготовила эту встречу и ей здесь делать нечего, ушла, покинув взволнованную мать наедине с дочерью. Меж тем у графини с доном Хусто завязался горячий спор.XVIII. БРАТ И СЕСТРА
– Хусто, – начала донья Гуадалупе, – я никогда не одобряла твоих намерений отделаться от дона Энрике. – Я заботился о твоем сыне, моем племяннике. Наследство и титул принадлежат ему. – Не будем обманываться, Хусто, наследство и титул ему не принадлежат. Бог накажет нас, если мы завладеем чужими правами. – Ты слишком щепетильна для матери… – Быть щепетильной, как это ты называешь, моя святая обязанность. Да, я мать, но прежде всего я христианка. Я люблю своего сына, но, именно любя его, я не желаю ему богатства, приобретенного преступным путем. Неправедно добытое богатство – проклятье для того, кто им завладел… – Все эти рассуждения хороши в устах проповедника, Гуадалупе, они не заставят меня ни на йоту отступиться от намеченного плана. Как опекун, я обязан заботится о благе твоего сына. – Но не в ущерб его совести… – Его совести? А что понимает ребенок в таких делах? За них отвечаю я, что же касается моей совести, то она у меня вполне спокойна. Дай бог, чтобы дон Энрике мог похвалиться тем же. – Это значит, что ты не уверен в его смерти? – Да, не уверен… Сеньора, что явилась со мной, утверждает, что он жив и находится в Мехико. – Жив! Боже, благодарю тебя! – с искренней радостью воскликнула донья Гуадалупе. – Как, ты радуешься, что дон Энрике жив и в любой момент может появиться, чтобы отнять у твоего сына отцовское состояние? – Хусто, будущность и состояние моего сына вполне обеспечены тем, что оставил ему и мне граф, нам не к лицу посягать на чужие богатства. Да, я счастлива, что дон Энрике жив, у меня сердце разрывалось при мысли, что на моем безвинном сыне лежит кровь брата. Запятнанные кровью дона Энрике, графский титул и состояние не принесли бы ничего, кроме несчастья, моему дорогому ребенку. Бог карает тех, кто нечестно завладел богатством. – Итак, если дон Энрике появится, ты способна вернуть ему все, в ущерб твоему родному сыну? – Конечно, и это не нанесло бы никакого ущерба моему ребенку, напротив, бог вознаградил бы его за такое доброе дело. – Ну, знаешь, Гуадалупе, ты просто с ума сошла. Так ты в самом деле способна?.. По счастью, я еще жив и, вопреки твоей воле, помешаю такому сумасбродству, слышишь? Я опекун ребенка и не допущу, чтобы ты со своей щепетильностью подарила другому состояние, которое принадлежит твоему сыну по праву наследства. Я недаром сумел отстоять это право за моим племянником. – Хусто, ради бога! – Нет, нет, Гуадалупе, дай мне свободу, не мешай мне. Дон Энрике придет, я в этом уверен; но предупреждаю тебя – не мешай мне действовать. Пусть он появится здесь, но горе ему! Я сумею обратить его в бегство. Опозоренный, он или отступится, или погибнет. – Но это низость! Не забывай, он брат моего сына. – Однако теперь не время заниматься этим вопросом. Близится час венчания, мне пора ехать за Хулией и ее семьей. Увидим. Прощай. Позаботься о твоей гостье… Не ожидая ответа, дон Хусто поднялся и вышел из комнаты. Донья Гуадалупе склонила голову и задумалась. Потом, поднявшись с кресла, она решительно произнесла: – Нет, тысячу раз нет! Мой сын не беден, но, будь он даже нищим, я не желаю ему сокровищ и титула, приобретенных нечестным путем. Я поговорю с этой женщиной, которую привел с собой брат… увидим…Сеньора Магдалена не смогла уснуть после разбудившего ее ночного стука в дверь; поднявшись с постели, она прошла в комнату Хулии. Молодая девушка все еще не раздевалась; она молилась, плакала и размышляла. Что, если юноша, о котором ей рассказала Паулита, в самом деле Антонио Железная Рука? Неужто она выйдет замуж за дона Хусто? А если это не он, то под каким предлогом отказаться от свадьбы? Что, если юный охотник навсегда забыл ее? Смеет ли она ради призрачноймечты пожертвовать покоем матери? Вот какие мысли теснились в голове Хулии. Сердце ее разрывалось на части. Неопределенность была в тысячу раз тягостнее самой ужасной правды. Она молилась, просила бога наставить ее и вернуть ей прежнюю решимость, утраченную после недавнего разговора с Паулитой. Внезапно послышался стук в дверь, это была сеньора Магдалена. Для Хулии настала решающая минута. – Ты все еще не ложилась, дочурка? – спросила мать. – Нет, матушка, – ответила Хулия. – Что же ты делаешь? – Я молю бога о мужестве и покорности судьбе. – Хулия! – Не обращайте внимания на мои слова, матушка… – Ну, хорошо, пора одеваться, дон Хусто не замедлит приехать. Хулия не отвечала. Сеньора Магдалена кликнула горничных, и началось облачение невесты в свадебный наряд. Молодая девушка столько пережила за истекшую ночь, что мысли в ее голове путались; порой ей казалось, что она теряет рассудок. До этой ночи надежды на возвращение Антонио не было, и Хулия чувствовала себя спокойной и готовой к жертве. Потом она, сама не зная как, очутилась в незнакомом доме во власти Паулиты, которая из прежней мягкой, дружелюбной женщины превратилась в тигрицу и угрожала ей смертью. Перед взором Хулии открылся неведомый мир, где Антонио Железная Рука назывался доном Энрике, а Паулита была ее соперницей. Неожиданно великодушие одержало верх в сердце этой дочери народа; с ее помощью Хулия после мучительного кошмара вернулась домой и снова очутилась у себя в комнате; даже мать не заметила ее отсутствия. И вот теперь, когда едва занимается заря, ее облачают в свадебный наряд. События минувшей ночи могли потрясти самые крепкие нервы; стоя в богатом уборе посреди комнаты, бедная Хулия едва соображала, что происходит, и всему подчинялась безропотно. В дом приехал дон Хусто; сеньора Магдалена ждала его, одетая как полагалось для торжественного случая; Педро Хуан де Борика также появился в праздничном камзоле. Бывший живодер, с налившимися кровью глазами на бледном лице, вошел сперва нерешительно; но, увидев безмятежное лицо жены, он понял, что Хулия не выдала его, и заметно повеселел. Вчетвером они уселись в карету и покатили к дому доньи Гуадалупе. Графиня вышла навстречу приехавшим и ввела их в одну из гостиных; ждали священника, который должен был благословить новобрачных в домашней часовне. Донья Ана удалилась во внутренние покои, где можно было, оставаясь невидимой для посторонних взоров, на свободе поговорить с матерью и рассказать ей все пережитые бури. – Выходит, дочь моя, что ты была всего-навсего игрушкой в руках дона Энрике и дона Диего? – А что я могла сделать, матушка? – ответила донья Ана. – Одинокая, беспомощная, я была сперва отвергнута доном Энрике, а потом доном Диего. После гибели дона Кристобаля де Эстрады я оказалась одна, совсем одна на белом свете, в чужой, далекой стране. Дон Диего предложил мне свое покровительство, и я без колебаний приняла его; своим благородством он завоевал мою любовь. Если бы он не сделал мне предложения, не убедил выйти за него замуж, удар не был бы так жесток; но в тот самый день, когда мы собирались вместе покинуть Мехико, моя злая судьба, а вернее, дон Энрике, виновник всех бед, привез в Мехико донью Марину, и мои планы рухнули. Я решила отомстить за себя и разоблачила дона Энрике перед вице-королем. Об этом письме каким-то образом проведал дон Диего, и вот теперь я потеряла даже его дружбу. – Что же ты думаешь сейчас предпринять? – Отомстить за себя, – глухо произнесла донья Ана, – отомстить дону Энрике, не давать ему пощады, заставить его просить у меня прощения и жениться на мне. – Боюсь, ты не достигнешь своей цели. – А вот увидишь. У меня против него страшное оружие. – Да поможет тебе бог и да просветит он тебя. – Поверьте, матушка, я достаточно сильна и не отступлю. В этот миг на пороге показалась графиня. – Вы не собираетесь присутствовать при обряде? – спросила она. – Мне не хотелось бы, чтобы меня узнали, – ответила донья Ана. – Если желаете, я могу провести вас в ризницу, где вас никто не увидит, а сами вы сможете все свободно разглядеть. Невеста необыкновенно хороша собой и одета с изысканным вкусом. Согласны? – Благодарю вас, сеньора графиня. Уже пора? – Нет еще. Священник приглашен к девяти утра, а сейчас только восемь. Я дам вам знать, а пока я вынуждена вас покинуть, надо встречать гостей. – Я не желала бы служить вам помехой, сеньора графиня. – После долгой разлуки вам, конечно, есть о чем поговорить с вашей матушкой. – О да! – Предоставляю вам полную свободу. – Благодарствуйте, сеньора. Графиня вышла, и донья Ана осталась наедине с матерью. Между тем большой зал заполнили гости; то были дамы и кабальеро, принадлежавшие к высшей знати Мехико и приглашенные графиней на бракосочетание брата. Каждый жаждал посмотреть на невесту. Она приковала к себе все взгляды, была предметом всех разговоров и толков.
XIX. БРАКОСОЧЕТАНИЕ
Дон Энрике и дон Диего, подойдя к дому графини, остановились в нерешительности, не зная, как лучше поступить: смело войти в дом или прибегнуть к какой-нибудь уловке. Внезапно дон Энрике заметил среди слуг одного из давнишних служителей по имени Пабло. – Мне пришла в голову хорошая мысль, – сказал он дону Диего. – Какая? – Видите ли вы этого старика у входа? – Да, вижу. – Ну, так вот, это один из старинных слуг моего отца, он меня, можно сказать, вынянчил. Окликните его, он, несомненно, меня узнает и может оказать нам большую услугу. – Вы доверяете ему? – Доверяю, но осторожность никогда не мешает. Я не покажусь ему, прежде чем мы не убедимся в его преданности. Индиано приблизился к старику. – Друг мой, – начал он, – один кабальеро желал бы сказать вам несколько слов; он ждет вас здесь, за углом дома. – Ждет меня? – недоверчиво переспросил Пабло. – Да, вас. Опасаться вам нечего, сейчас светлый день, и кабальеро находится всего в двух шагах отсюда. После минутного колебания старик согласился: – Идемте. Дон Диего повел старого слугу туда, где, закутавшись в плащ и надвинув шляпу на лоб, его поджидал дон Энрике. – К вашим услугам, – проговорил старик, оглядев с ног до головы дона Энрике. – Если не ошибаюсь, вы Пабло, старый слуга графа де Торре-Леаль? – К вашим услугам, – снова проговорил старик. – Сегодня какое-то торжество в доме графини? – спросил дон Энрике. – Да, сеньор, сегодня свадьба брата моей госпожи. – И сегодня же истекает срок для возвращения дона Энрике, старшего сына, не так ли? – Да, такие толки ходят среди слуг, – ответил Пабло с явным неудовольствием. – А вы знали дона Энрике? – Знал ли я его? – воскликнул со слезами в голосе Пабло. – Знал ли я его? Да я его на руках носил, когда он был ребенком, я его, как родного сына, любил… И да простит меня бог, разве можно сравнить дона Энрике с теми, что теперь владеют его добром, его наследством? – А что же случилось с доном Энрике? Где он? – Да если б я только знал, где он, неужто я не побежал бы к нему? – Узнали бы вы его, если бы вам довелось с ним встретиться? – Разом узнал бы. – Вы уверены? – А то как же? – Ну, так взгляните на меня! – воскликнул юноша, откидывая плащ, наполовину закрывавший его лицо. Удивление и горячая радость выразились на открытом лице старика, и, после мгновенного колебания, он, рыдая, бросился на шею к дону Энрике. – Мальчик! – закричал он. – Сеньорито! Это вы!.. Ах, какая радость, какая радость! Мальчик мой, какая радость!
– Полно, старина, – успокаивал его растроганный дон Энрике, – полно, умерь свою радость, еще кто-нибудь из прохожих увидит нас. Послушай-ка лучше, мне надо о многом поговорить с тобой.
– Я просто глазам своим не верю, сеньорито, – повторял старик.
– Ну, успокойся и послушай, что я тебе скажу. У нас мало времени.
– Что прикажете, дорогой сеньор? Я на коленях буду служить вам.
– Вот что, мне нужно незамеченным войти в дом и до поры до времени укрыться где-нибудь от посторонних взглядов.
– Это легче легкого, сеньорито: я вас проведу в вашу прежнюю спальню, помните?
– Да. А кто там теперь спит?
– Никто, сеньорито, никто. Ваш отец велел ничего не трогать в вашей комнате до сегодняшнего дня, когда все наследство должно будет достаться новому господину; а я каждый день прибираю там, чищу ваши вещи, платье, оружие, словно вы там по-прежнему живете.
– Спасибо, дружище!
– Так что, ежели желаете, можете надеть ваш лучший камзол, он в полном порядке. Только ваши лошади состарились, как и я. А все-таки никто их из конюшни не выводит.
– Так идем же, – сказал дон Энрике, воодушевленный добрыми вестями.
– Я пройду вперед и открою вам вход с улицы, чтобы никто вас не заметил.
– Отлично… А в котором часу назначено венчание?
– Капеллана ждут в девять.
– Ну, так ступай, открой нам дверь.
Старик с проворством юноши бегом вернулся к дому и поспешил отворить дверь, которая вела прямо в покои дона Энрике.
Подойдя к своему прежнему жилищу, дон Энрике побледнел, сердце его забилось сильнее. Дон Диего молча следовал за ним. Пабло ожидал их в прихожей. Друзья вошли, никем не замеченные.
Все комнаты на половине дона Энрике сохранились в том виде, в каком он их оставил; на всем лежала печать самого тщательного ухода. Обстановка, оружие, платье – все содержалось в образцовом порядке.
Сердце дона Энрике сжалось, он с трудом преодолел волнение.
– Ну, вот мы и дома, – сказал он дону Диего. – А как, по-вашему, нам следует поступить дальше?
– Я думаю, не пойти ли мне сообщить обо всем вице-королю. С его стороны было бы так великодушно поддержать вас своим присутствием в этом трудном деле…
– Боюсь, что он откажет.
– Как знать? Во всяком случае, я попытаюсь. Бракосочетание состоится не раньше девяти утра, я успею пойти во дворец и поговорить с вице-королем. Согласны?
– С условием, что вы вернетесь не позже девяти.
– Разумеется.
– Тогда согласен.
– Послушайтесь моего совета и наденьте ваш парадный костюм.
– Зачем?
– У меня созрел один план. Прошу вас, сделайте это ради меня.
– Хорошо.
– Итак, я не задержусь. Велите открыть мне, когда я постучу в дверь.
– Будьте покойны, Пабло ни на шаг не отойдет от меня.
– Я никогда, никогда вас не покину, – с восторгом подтвердил старик.
Индиано ушел, а дон Энрике стал переодеваться.
Его старший друг направился во дворец; он был уверен, что маркиз де Мансера, верный своей привычке, уже поднялся. В прихожей сидела Паулита.
– Что ты здесь делаешь, Паулита? – удивился дон Диего.
– Я пришла просить его светлость помиловать моего мужа.
– Ты еще не говорила с ним?
– Нет.
– Обещаю помочь тебе. Если мое дело завершится успешно, можешь быть уверена, что я испрошу помилование для твоего мужа.
– Дай-то бог! – вздохнула молодая женщина.
Дон Диего вошел в покои вице-короля.
– Как дела? – весело спросил маркиз, приветствуя своего крестника.
– Сеньор, я осмелился снова беспокоить вашу светлость по поводу нашего дела…
– Касающегося дона Энрике?
– Да, сеньор.
– Что слышно нового?
– Сеньор, мы успешно действуем; противник осажден, наши силы, а под ними я подразумеваю дона Энрике, проникли в крепость, хотя пока еще тайно.
– Это просто замечательно! – рассмеялся вице-король. – Но не позже чем через два часа мы перейдем в наступление. Мне думается, дону Энрике следует появиться как раз в тот момент, когда начнется бракосочетание.
– Совершенно верно. Мы хотели просить вашу светлость о такой большой милости, что я почти не решаюсь надеяться… Сеньор, я задумал разыграть целое представление. Дон Энрике появится во время бракосочетания и заявит свои права на наследство и невесту. А так как ему нельзя отказать ни в том, ни в другом, то вместо дона Хусто под венец встанет дон Энрике. К свадьбе, как известно, все заранее подготовлено.
– Это было бы превосходно.
– Мы хотели просить вашу светлость быть посаженым отцом на свадьбе дона Энрике.
– Однако, если я вдруг появлюсь в доме графини без приглашения, дон Хусто всполошится, и никакой неожиданности уже не выйдет.
– Все предусмотрено, ваша светлость. Вы проследуете в покои молодого графа де Торре-Леаль никем не замеченным, и спектакль удастся на славу…
Быстро поднявшись, вице-король вышел в соседнюю комнату и предоставил дону Диего в одиночестве размышлять, что это означает.
Немного времени спустя маркиз де Мансера вновь появился. На нем был роскошный костюм для торжественных выходов, на груди сверкали регалии. В правой руке он держал черную шляпу, а в левой – длинный темный плащ.
– Я готов, крестник! – воскликнул он весело. – Помогите мне накинуть плащ.
Дон Диего накинул плащ на плечи вице-короля, тот взял шляпу и вместе со своим крестником вышел из покоев.
– Я думаю, – сказал вице-король, – что у нас получится великолепное представление; подготовь мы все заранее, и то не получилось бы лучше.
Они вышли в прихожую, где сидела Паулита.
– Сеньора, – сказал ей вице-король, – если вы желаете поговорить со мной, придите попозже, сейчас я занят важным делом.
Паулита почтительно поклонилась, а дон Диего, отстав немного от вице-короля, сказал молодой женщине:
– Ступай в дом графини де Торре-Леаль и жди там. Сохрани все в строгой тайне, и я тебе ручаюсь за успех.
– Благодарствуйте, – ответила Паулита.
– О чем вы говорили с этой женщиной? – спросил вице-король.
– Я взял на себя смелость пообещать, что через два часа ваша светлость окажет ей милость, о которой она пришла просить вас.
– А в чем дело?
– Об этом ваша светлость узнает самое позднее через два часа, когда ваша светлость уже дарует эту милость.
– Вы слишком уверены…
– В доброте вашей светлости, она мне и в самом деле хорошо известна.
Вице-король и дон Диего, закутанные в плащи до самых глаз, подошли, никем не замеченные, к покоям дона Энрике; услышав стук, старый Пабло поспешно отворил дверь.
Дон Диего провел вице-короля в комнату, где их ожидал дон Энрике.
Юноша уже успел облачиться в придворный костюм; при виде вице-короля он встал к нему навстречу и склонил голову, чтобы поцеловать ему руку. Но вице-король раскрыл объятья и дружелюбно произнес:
– Дон Энрике, я буду вашим посаженым отцом и хочу обнять вас, как сына.
С этими словами он ласково обнял юношу.
– Час близится, – продолжал вице-король, – я хочу дать указания, как вам надлежит поступать. Слушайте же меня внимательно, не пропустите ни единого слова.
– Будьте спокойны, ваша светлость, мы ничего не забудем.
Вице-король опустился в кресло и, усадив около себя дона Диего и дона Энрике, сообщил им свои распоряжения.
Знатные гости заполнили домашнюю часовню графини де Торре-Леаль. Жених и невеста вошли в ризницу, откуда им надлежало появиться для совершения обряда.
Среди этого блестящего общества вызывали некоторое недоумение три фигуры, стоявшие поблизости от алтаря. Странные незнакомцы, не потрудившиеся даже в церкви снять свои плащи, уже начали вызывать толки среди гостей, когда из ризницы вышли нареченные и завладели всеобщим вниманием.
Дон Хусто сиял счастьем, Хулия была бледна и печальна.
Начался обряд, священник обратился к невесте со словами:
– Хулия де Лафонт, согласны ли вы назвать своим мужем и спутником жизни сеньора дона Хусто Салинаса де Саламанка-и-Баус?
Невеста в нерешительности молчала.
– Нет, – раздался близ алтаря мужественный и сильный голос. Все обернулись, у Хулии вырвался крик. Один из трех незнакомцев, сбросив плащ, выступил вперед.
– Я супруг этой сеньоры, я, дон Энрике Руис де Мендилуэта, граф де Торре-Леаль.
Дон Хусто в ужасе попятился, словно перед ним выросло привидение.
В этот момент из ризницы появилась женщина.
– Ты не можешь быть ни супругом, ни графом де Торре-Леаль, ибо ты пират, я сама видела тебя среди пиратов.
То была донья Ана. Дон Энрике побледнел и, словно в поисках поддержки, устремил взгляд на своих спутников.
Тогда второй из трех незнакомцев скинул плащ и, встав рядом с доном Энрике, произнес властным голосом:
– Я, дон Антонио Себастьян де Толедо, маркиз де Мансера, милостью нашего монарха и господина вице-король Новой Испании, утверждаю, что эта женщина лжет, ибо знатный граф де Торре-Леаль по моему повелению и как слуга его величества отправился жить среди пиратов.
Все замерли от удивления.
– Граф, – продолжал вице-король, – подайте руку вашей супруге; я буду вашим посаженым отцом, а сеньора графиня посаженой матерью.
– Весьма охотно, – ответила донья Гуадалупе.
– Что же касается вас, дон Хусто, завтра же собирайтесь в путь на Филиппины.
– А мой муж, – воскликнула Паулита, которой удалось пробраться вперед и стать перед вице-королем. – Тот, что отбил дона Энрике у королевской стражи?
– Помилован, – ответил вице-король. – Можно продолжать бракосочетание.
На следующий день дон Хусто отправился в ссылку на Филиппины, а донья Ана навсегда удалилась в монастырь.
– Мальчик! – закричал он. – Сеньорито! Это вы!.. Ах, какая радость, какая радость! Мальчик мой, какая радость!
– Полно, старина, – успокаивал его растроганный дон Энрике, – полно, умерь свою радость, еще кто-нибудь из прохожих увидит нас. Послушай-ка лучше, мне надо о многом поговорить с тобой.
– Я просто глазам своим не верю, сеньорито, – повторял старик.
– Ну, успокойся и послушай, что я тебе скажу. У нас мало времени.
– Что прикажете, дорогой сеньор? Я на коленях буду служить вам.
– Вот что, мне нужно незамеченным войти в дом и до поры до времени укрыться где-нибудь от посторонних взглядов.
– Это легче легкого, сеньорито: я вас проведу в вашу прежнюю спальню, помните?
– Да. А кто там теперь спит?
– Никто, сеньорито, никто. Ваш отец велел ничего не трогать в вашей комнате до сегодняшнего дня, когда все наследство должно будет достаться новому господину; а я каждый день прибираю там, чищу ваши вещи, платье, оружие, словно вы там по-прежнему живете.
– Спасибо, дружище!
– Так что, ежели желаете, можете надеть ваш лучший камзол, он в полном порядке. Только ваши лошади состарились, как и я. А все-таки никто их из конюшни не выводит.
– Так идем же, – сказал дон Энрике, воодушевленный добрыми вестями.
– Я пройду вперед и открою вам вход с улицы, чтобы никто вас не заметил.
– Отлично… А в котором часу назначено венчание?
– Капеллана ждут в девять.
– Ну, так ступай, открой нам дверь.
Старик с проворством юноши бегом вернулся к дому и поспешил отворить дверь, которая вела прямо в покои дона Энрике.
Подойдя к своему прежнему жилищу, дон Энрике побледнел, сердце его забилось сильнее. Дон Диего молча следовал за ним. Пабло ожидал их в прихожей. Друзья вошли, никем не замеченные.
Все комнаты на половине дона Энрике сохранились в том виде, в каком он их оставил; на всем лежала печать самого тщательного ухода. Обстановка, оружие, платье – все содержалось в образцовом порядке.
Сердце дона Энрике сжалось, он с трудом преодолел волнение.
– Ну, вот мы и дома, – сказал он дону Диего. – А как, по-вашему, нам следует поступить дальше?
– Я думаю, не пойти ли мне сообщить обо всем вице-королю. С его стороны было бы так великодушно поддержать вас своим присутствием в этом трудном деле…
– Боюсь, что он откажет.
– Как знать? Во всяком случае, я попытаюсь. Бракосочетание состоится не раньше девяти утра, я успею пойти во дворец и поговорить с вице-королем. Согласны?
– С условием, что вы вернетесь не позже девяти.
– Разумеется.
– Тогда согласен.
– Послушайтесь моего совета и наденьте ваш парадный костюм.
– Зачем?
– У меня созрел один план. Прошу вас, сделайте это ради меня.
– Хорошо.
– Итак, я не задержусь. Велите открыть мне, когда я постучу в дверь.
– Будьте покойны, Пабло ни на шаг не отойдет от меня.
– Я никогда, никогда вас не покину, – с восторгом подтвердил старик.
Индиано ушел, а дон Энрике стал переодеваться.
Его старший друг направился во дворец; он был уверен, что маркиз де Мансера, верный своей привычке, уже поднялся. В прихожей сидела Паулита.
– Что ты здесь делаешь, Паулита? – удивился дон Диего.
– Я пришла просить его светлость помиловать моего мужа.
– Ты еще не говорила с ним?
– Нет.
– Обещаю помочь тебе. Если мое дело завершится успешно, можешь быть уверена, что я испрошу помилование для твоего мужа.
– Дай-то бог! – вздохнула молодая женщина.
Дон Диего вошел в покои вице-короля.
– Как дела? – весело спросил маркиз, приветствуя своего крестника.
– Сеньор, я осмелился снова беспокоить вашу светлость по поводу нашего дела…
– Касающегося дона Энрике?
– Да, сеньор.
– Что слышно нового?
– Сеньор, мы успешно действуем; противник осажден, наши силы, а под ними я подразумеваю дона Энрике, проникли в крепость, хотя пока еще тайно.
– Это просто замечательно! – рассмеялся вице-король. – Но не позже чем через два часа мы перейдем в наступление. Мне думается, дону Энрике следует появиться как раз в тот момент, когда начнется бракосочетание.
– Совершенно верно. Мы хотели просить вашу светлость о такой большой милости, что я почти не решаюсь надеяться… Сеньор, я задумал разыграть целое представление. Дон Энрике появится во время бракосочетания и заявит свои права на наследство и невесту. А так как ему нельзя отказать ни в том, ни в другом, то вместо дона Хусто под венец встанет дон Энрике. К свадьбе, как известно, все заранее подготовлено.
– Это было бы превосходно.
– Мы хотели просить вашу светлость быть посаженым отцом на свадьбе дона Энрике.
– Однако, если я вдруг появлюсь в доме графини без приглашения, дон Хусто всполошится, и никакой неожиданности уже не выйдет.
– Все предусмотрено, ваша светлость. Вы проследуете в покои молодого графа де Торре-Леаль никем не замеченным, и спектакль удастся на славу…
Быстро поднявшись, вице-король вышел в соседнюю комнату и предоставил дону Диего в одиночестве размышлять, что это означает.
Немного времени спустя маркиз де Мансера вновь появился. На нем был роскошный костюм для торжественных выходов, на груди сверкали регалии. В правой руке он держал черную шляпу, а в левой – длинный темный плащ.
– Я готов, крестник! – воскликнул он весело. – Помогите мне накинуть плащ.
Дон Диего накинул плащ на плечи вице-короля, тот взял шляпу и вместе со своим крестником вышел из покоев.
– Я думаю, – сказал вице-король, – что у нас получится великолепное представление; подготовь мы все заранее, и то не получилось бы лучше.
Они вышли в прихожую, где сидела Паулита.
– Сеньора, – сказал ей вице-король, – если вы желаете поговорить со мной, придите попозже, сейчас я занят важным делом.
Паулита почтительно поклонилась, а дон Диего, отстав немного от вице-короля, сказал молодой женщине:
– Ступай в дом графини де Торре-Леаль и жди там. Сохрани все в строгой тайне, и я тебе ручаюсь за успех.
– Благодарствуйте, – ответила Паулита.
– О чем вы говорили с этой женщиной? – спросил вице-король.
– Я взял на себя смелость пообещать, что через два часа ваша светлость окажет ей милость, о которой она пришла просить вас.
– А в чем дело?
– Об этом ваша светлость узнает самое позднее через два часа, когда ваша светлость уже дарует эту милость.
– Вы слишком уверены…
– В доброте вашей светлости, она мне и в самом деле хорошо известна.
Вице-король и дон Диего, закутанные в плащи до самых глаз, подошли, никем не замеченные, к покоям дона Энрике; услышав стук, старый Пабло поспешно отворил дверь.
Дон Диего провел вице-короля в комнату, где их ожидал дон Энрике.
Юноша уже успел облачиться в придворный костюм; при виде вице-короля он встал к нему навстречу и склонил голову, чтобы поцеловать ему руку. Но вице-король раскрыл объятья и дружелюбно произнес:
– Дон Энрике, я буду вашим посаженым отцом и хочу обнять вас, как сына.
С этими словами он ласково обнял юношу.
– Час близится, – продолжал вице-король, – я хочу дать указания, как вам надлежит поступать. Слушайте же меня внимательно, не пропустите ни единого слова.
– Будьте спокойны, ваша светлость, мы ничего не забудем.
Вице-король опустился в кресло и, усадив около себя дона Диего и дона Энрике, сообщил им свои распоряжения.
Знатные гости заполнили домашнюю часовню графини де Торре-Леаль. Жених и невеста вошли в ризницу, откуда им надлежало появиться для совершения обряда.
Среди этого блестящего общества вызывали некоторое недоумение три фигуры, стоявшие поблизости от алтаря. Странные незнакомцы, не потрудившиеся даже в церкви снять свои плащи, уже начали вызывать толки среди гостей, когда из ризницы вышли нареченные и завладели всеобщим вниманием.
Дон Хусто сиял счастьем, Хулия была бледна и печальна.
Начался обряд, священник обратился к невесте со словами:
– Хулия де Лафонт, согласны ли вы назвать своим мужем и спутником жизни сеньора дона Хусто Салинаса де Саламанка-и-Баус?
Невеста в нерешительности молчала.
– Нет, – раздался близ алтаря мужественный и сильный голос. Все обернулись, у Хулии вырвался крик. Один из трех незнакомцев, сбросив плащ, выступил вперед.
– Я супруг этой сеньоры, я, дон Энрике Руис де Мендилуэта, граф де Торре-Леаль.
Дон Хусто в ужасе попятился, словно перед ним выросло привидение.
В этот момент из ризницы появилась женщина.
– Ты не можешь быть ни супругом, ни графом де Торре-Леаль, ибо ты пират, я сама видела тебя среди пиратов.
То была донья Ана. Дон Энрике побледнел и, словно в поисках поддержки, устремил взгляд на своих спутников.
Тогда второй из трех незнакомцев скинул плащ и, встав рядом с доном Энрике, произнес властным голосом:
– Я, дон Антонио Себастьян де Толедо, маркиз де Мансера, милостью нашего монарха и господина вице-король Новой Испании, утверждаю, что эта женщина лжет, ибо знатный граф де Торре-Леаль по моему повелению и как слуга его величества отправился жить среди пиратов.
Все замерли от удивления.
– Граф, – продолжал вице-король, – подайте руку вашей супруге; я буду вашим посаженым отцом, а сеньора графиня посаженой матерью.
– Весьма охотно, – ответила донья Гуадалупе.
– Что же касается вас, дон Хусто, завтра же собирайтесь в путь на Филиппины.
– А мой муж, – воскликнула Паулита, которой удалось пробраться вперед и стать перед вице-королем. – Тот, что отбил дона Энрике у королевской стражи?
– Помилован, – ответил вице-король. – Можно продолжать бракосочетание.
На следующий день дон Хусто отправился в ссылку на Филиппины, а донья Ана навсегда удалилась в монастырь.
Питер Марвел В погоне за призраком, или Испанское наследство
Жану де Габриэлю, хозяину заведения «Таверна Питера Питта», вдохновившему меня своим ромом и побасенками на создание этой книги посвящается.Питер Марвил
Что жизнь? Мистерия людских страстей, Любой из нас – печальный лицедей. У матери в утробе мы украдкой Рядимся в плоть для этой пьесы краткой. А Небеса придирчиво следят: Где ложный жест, где слово невпопад, Пока могила ждет развязки в драме, Чтоб опустить свой занавес над нами. Все в нас актерство – до последних поз! И только умираем мы всерьез.Сэр Уолтер Рэли, капитан гвардии Ее Величества королевы Англии Елизаветы I
Все совпадения не случайны.Питер Марвил
Смеяться разрешается. Вы можете смеяться. Но если вы любите плакать – то плачьте. Потому что если вы не будете плакать и смеяться, то плакали ваши денежки...Из какой-то пьесы
Глава 1 Начало пути
Плимут. Атлантический океан
Уильям Харт никогда не представлял себе, что его может так тошнить. Уже полдня он болтался на баке по правому борту, перегнувшись через отполированный руками планшир, и перед глазами его то ухало вниз, то вздымалось вверх маслянистое тело океана. Солнечные блики яростно плясали в слезящихся глазах, в висках ломило от нестерпимой боли, словно некий сапожник с остервенением тыкал туда тупым шилом. Самое унизительное в его положении было то, что он, всю свою восемнадцатилетнюю жизнь мечтавший о море, совершенно не мог представить себе морской качки. А уж начало путешествия виделось ему совсем по-иному. – Ну, пока все нутро не вывернет, не успокоится, – услышал он сказанную тоном знатока фразу и понял, что она относится к нему. Харт хотел повернуть голову и достойно ответить, но новый мучительный приступ скрутил его невыносимой резью, так что он только успел краем глаза отметить коренастую фигуру, увенчанную похожей на котел головой, повязанной красным платком. – Только зеленые юнцы, в первый раз ступившие на палубу, блюют с наветренной стороны, – отозвался кто-то рядом, и Харт покраснел от унижения, узнав надтреснутое карканье своего капитана. Ему очень хотелось сказать в ответ что-нибудь из разряда «не вашего ума дело», но вместо этого, настигнутый новыми спазмами, он опять перегнулся через планшир. А когда ему полегчало, оказалось, что он снова остался в одиночестве. Больше всего на свете он желал лечь прямо на палубу, но гордость не позволяла ему пасть так низко в глазах простых матросов. Когда он наконец добрался до своей-каюты, схожей размерами с матросским сундуком, то обессиленно повалился на жесткую крышку рундука *["143], покрытую набитым соломой тюфяком. Поскольку закрыть глаза было решительно невозможно из-за приступов головокружения, он повернулся носом к дощатой переборке и, зацепившись взглядом за сучок, предался воспоминаниям...* * *
– Согласитесь, этот парусник просто великолепен – настоящий красавец! Глядя на него, думаешь о совершенстве, которого способно достичь мастерство человека, не так ли? Глядя на изящные линии бортов, на великолепно украшенную корму, понимаешь, что рукой плотника водила десница Господня... Вы согласны со мной, сэр? Этот короткий панегирик с большим воодушевлением был произнесен на торговой пристани Плимута господином не первой молодости, но чрезвычайно живым и подвижным для своих лет, одетым в костюм из черного голландского сукна, покрой которого выдавал в нем особу влиятельную, хотя и не благородных кровей. Обращался он при этом к человеку чрезвычайно рослому, завидного телосложения и, несомненно, дворянину, на что указывала большая, отделанная серебром шпага, висевшая на перевязи у бедра этого краснолицего, с военной выправкой мужчины. Но спутник пожилого господина, похоже, имел свое особое мнение о задранной, как утиная гузка, корме и заваленных внутрь бортах, а также о чересчур узкой для стодвадцатифутового корабля палубе. – Мне кажется, – просипел он, трубно сморкаясь и отнимая от лица платок со следами табаку, – мастера скорее вдохновил размер пошлин, взимаемых зундской таможней. Разве этот корабль не ходил на север? Он не выглядит жеребцом-шестилеткой перед скачками в Ньюмаркете. Я бы даже сказал, сударь, что Кингс Плэйт *["144]этот флейт точно бы не взял, если можно так выразиться. Пожилой господин метнул острый как дротик взгляд на своего собеседника и тут же прикрыл глаза тяжелыми веками, оставив замечание капитана без ответа. Капитан *["145], а дворянин с военной выправкой был именно капитаном, неторопливо засунул платок в карман темно-синего, украшенного золотым галуном кафтана и с неуловимой насмешкой посмотрел сверху вниз на своего нанимателя. – Господин Абрабанель, вы зафрахтовали судно для своих целей, не поставив меня в известность заранее, но поскольку интересы Британской короны на данный момент совпадают с вашими, а я должен вести эту лохань и в ней вас через Атлантику, я могу лишь согласиться со всем тем, что вы мне скажете. Сэр Джон Ивлин, а именно так звали капитана, был подданным Великой Британии. В последнюю войну он весьма успешно сражался против тех самых голландцев, на одного из которых теперь, по воле случая, столь же благополучно работал. Более насчет достоинств и недостатков флейта под названием «Голова Медузы» капитан и его патрон не распространялись, так как капитан умел молчать и не обсуждать приказы, что немало способствует продвижению по служебной лестнице. А потом, Абрабанель платил такие деньги сверху, что они были куда весомее любого мнения. При этом Джон Ивлин отнюдь не собирался во всем соглашаться с этим парвеню *["146]– он был он все-таки истым джентльменом: упрямым, педантичным и очень себе на уме. Как уже было сказано, флейт имел обычную для этих кораблей длину около ста двадцати футов, ширину около двадцати футов и осадку около двенадцати футов. Созданный как торговое судно, он мог нести до 350-400 тонн груза, а на пушечной палубе и носу корабля недавно установили двадцать восьмифунтовых пушек. Экипаж судна, исключая пассажиров, благодаря усовершенствованиям рангоута и парусов составлял всего шестьдесят человек. Что бы там ни говорил капитан, «Голова Медузы» отличалась неплохими мореходными качествами, делала до 9 узлов и была оборудована штурвалом – новшеством, заменившим румпель и значительно облегчавшим управление рулем. Что касается ее парусного вооружения, то оно состояло из трех мачт, из которых фок– и грот-мачта несли по три ряда прямых парусов, а бизань-мачта – латинский парус и выше его крюйсель, а на бушприте кроме блинда был установлен еще и бом-блинд. Сэр Джон Ивлин, насмехаясь над начальником кампании, конечно же, знал, что и непропорционально длинный по отношению к ширине корпус, и увеличение мачт за счет стеньг только повышали ходкость судна и упрощали его ремонт, но уж больно хотелось ему прищучить этого купчишку из Сити. Давид Малатеста Абрабанель, а так звали хозяина флейта, также неуловимо усмехнулся в ответ. Он прекрасно уловил ту едва заметную волну презрения, которая исходила от британского подданного, дворянина и морского офицера в сторону ростовщика и ювелира из купеческого сословия. Только его самого собственная родословная нисколько не смущала. Те времена, когда знатность рода определяла судьбу человека от колыбели до смертного одра, невозвратно уходили в прошлое, и только глупец мог этого не заметить. Гордые аристократы с пышными гербами и раскидистыми генеалогическими кущами могли быть воинами, вельможами, пэрами, джентри *["147]и прочая, и прочая, и прочая. Они могли все, кроме одного – они не были способны составить капитал и приумножить его – они умели только тратить. Давид Малатеста Абрабанель на этом поприще мог дать сто очков вперед любому лорду, хоть в Старом, хоть в Новом Свете. Приумножать богатства он умел и любил. Хвала Создателю, Голландские Генеральные Штаты, с которыми, невзирая на внешнюю политику Англии, у некоторых купцов и ювелиров Лондона были более чем тесные отношения, являлись той страной, где люди, чьи отцы и деды блюли шаббат, могли полностью реализовать свои таланты. Нидерланды уже несколько столетий не чинясь давали приют еврейским общинам, и там они чувствовали себя как дома. Да, это вам не Англия, где любой захудалый сквайр корчит из себя потомка Ричарда Львиное Сердце и джентльмена, даже если в карманах у него пусто, а кишки жалобно бурчат в ожидании жесткой бараньей отбивной. И отец Давида Абрабанеля был ювелиром и ростовщиком, и дед им был, и, кажется, все предки до седьмого колена имели дело с золотом, но зато теперь он, Давид Малатеста Абрабанель, ювелир из Сити и хоть совсем не официальный, но вполне полномочный коадъютор *["148]голландской Вест-Индской компании, мог рассчитывать на безусловное уважение не только собратьев по цеху, но также и многих особ, которые получили свои привилегии благодаря происхождению, то есть безотносительно своих способностей и ума. После того как Нидерланды обрели независимость, многие мараны или крещеные евреи из Португалии и Испании присоединились к своим собратьям в Амстердаме и Антверпене, где вернулись к вере своих предков – Талмуду и Торе. Они также продолжали поддерживать и укреплять связи с купечеством Гамбурга, превратившегося в оживленный центр еврейской жизни. Их связи способствовали их переселению и в Данию, куда они прибыли по приглашению самого короля. Еще во времена Елизаветы Тюдор к Амстердаму уже намертво приклеилось прозвище «голландского Иерусалима», ставшего не просто крупным центром европейского еврейства, но и своеобразной столицей ювелиров, купцов и ростовщиков – то есть тех занятий, которыми еще со времен Средневековья ведали евреи. Кромвель, чей религиозный пыл вошел в поговорки, тем не менее крайне нуждался в средствах, и среди купцов и ювелиров Сити стали появляться представители этого презираемого племени, которые скупали просроченные векселя, открывали неограниченные кредиты, ссужали деньгами знать, организовывали торговые экспедиции в обе Индии. Самое главное – у них были собственные отличные корабли, построенные на голландских верфях – самых лучших в то время. Представители английского купечества роптали, но поделать ничего не могли. Сам Абрабанель перебрался в Англию недавно и временно обосновался у своего дальнего родственника, такого же голландского сефарда *["149], в Сити, где многие сыны их племени еще со времен Карла Первого держали ювелирные лавки и торговые конторы. Он принялся давать займы и скупать долговые расписки, особенно интересуясь теми заемщиками, у кого есть связи или владения в Вест-Индских колониях. И наконец он нашел то, что ему было нужно.Впрочем, те двое англичан, которые сопровождали сейчас Абрабанеля, особенно не стремились подчеркивать свое родовое превосходство и внешне держались достаточно уважительно, что было и не мудрено, так как оба они волей случая находились у него в подчинении, хотя и по разным причинам. Второй англичанин выглядел куда моложе и неопытнее капитана. Был он хорошо сложен, высок и белокур. В умении держать себя и в осанке его с первого взгляда угадывалось врожденное благородство, дополненное воспитанием где-нибудь в Оксфорде или Кембридже. Одет он был небогато, но с той особой тщательностью, которая свойственна молодости, сознающей свою привлекательность и свое происхождение. Простой без отделки кафтан табачного цвета был более английского, чем французского покроя, а шпага, висевшая сзади на поясной портупее, а не на перевязи, как у капитана, выглядела скорее семейной реликвией, чем боеспособным оружием. Выглядывающий из-под кафтана камзол черной тафты и узкие кюлоты, обтягивающие стройные ноги юноши, еще более подчеркивали изящество его фигуры, придавая его облику некоторую меланхоличность, на деле вовсе ему не свойственную. Казалось, он сам это осознает, и, чтобы хоть как-то придать себе воинственности, он глубоко надвинул на лоб черную шляпу с низкой тульей и загнутыми спереди и с боков полями. Но и из-под шляпы голубые глаза юноши сияли простодушным восторгом и нетерпением. Вот ему-то совершенно искренне нравился и флейт, на котором в скором времени им всем предстояло отправиться в путешествие, и острова, очертания которых он выучил наизусть по картам, хранящимся в университетской библиотеке, и моряки, суетившиеся в доках и на палубах кораблей, и отвратительная вонь протухшей рыбы и полной нечистот воды, и юркие баркасы, ловко шныряющие между громадами судов, и скрип талей, с помощью которых в трюмы опускались или подымались грузы. В тюках и ящиках ему грезились сокровища, привезенные из-за океана: золотые украшения, серебряные слитки, жемчуга величиной с кулак, редкие пряности и еще много всего, чего юный Уильям Харт даже и представить себе не мог...
* * *
Воспоминания прервал сильный толчок, благодаря которому Харт сначала ткнулся носом в ту самую перегородку, украшенную сучком, а затем шлепнулся прямо на пол. Как называется пол на корабле, Харт не знал, что только усилило его тоску. Тотчас вслед за падением в каюту, или, вернее, в закуток между каютами, который занимал Харт, постучали, и внутрь вошел Якоб Хансен, которому скорее пристало бы зваться Иаковом. Харт еще в порту поименовал его жидом, и с тех пор внутренняя неприязнь его к старшему клерку *["150]и помощнику Абрабанеля только усилилась. На лице Хансена в полной мере отразились все достоинства и недостатки его племени. У него были глубокие черные глаза с поволокой, отливающий синевой мягкий женский подбородок и профиль какого-нибудь Навина, поразившего филистимлян к своему собственному удивлению. Но в его глубоких глазах, в этом тонком лице, в этих поджатых губах таилось столько хитрости и жизненной силы, что Харту в его присутствии становилось не по себе, как будто он оказался в обществе шулера или фальшивомонетчика. Впрочем, Харт был настолько неискушен в людях, что охотно объяснял свое мнение предвзятостью, свойственной европейцам при общении с этим бездомным народом. – Хватит валяться, Харт. Иди проветрись на верхнюю палубу. Склянки уже били половину шестого, скоро будет обед. Харт поднялся с пола и, оправив изрядно помятый камзол, потянулся за своим единственным кафтаном. – Пожалуй, я попрошу слугу вычистить твою одежду, – Якоб насмешливо оглядел Харта. – Мне кажется, мы с тобой одного роста, так что тебе должно подойти. – Он швырнул на койку одежду. – Что это? – Скажи спасибо господину Абрабанелю. Ты обедаешь вместе с нами, и ему не хотелось бы пугать мисс Элейну твоими нарядами. Так что приведи себя в порядок – и милости просим к столу. Харт слышал издевку в тоне Якоба, но предпочел ее не заметить. «Только низким людям доставляет удовольствие смеяться над несчастьем и неловким положением ближних, – подумал Уильям, – вот я бы ни за что не стал потешаться над человеком, попавшим в затруднительные обстоятельства. Это не по-мужски. Когда я получу деньги за службу, я сумею вернуть долг». Но больше всего Уильяма тяготила его бедность в присутствии дочери Абрабанеля. Она ведь совсем не такая, как... И тут фантазия Харта понеслась галопом, словно возмещая вынужденное бездействие во время носовой качки.* * *
Вообще Уильям Харт был большой мастер давать волю фантазии. Еще будучи совсем ребенком, Уильям жадно ловил рассказы бывалых людей о морских путешествиях, о далеких райских островах, где круглый год лето и где золото валяется прямо под ногами. Эти рассказы будоражили душу Уильяма и звали его в дорогу. И хотя родители прочили ему поприще священнослужителя, поскольку он был третьим сыном в семье, Уильям в мечтах видел себя морским бродягой, отважным искателем приключений. Богословствование в сельской глуши представлялось ему чем-то вроде пожизненного тюремного заключения. Последней каплей, переполнившей чашу нетерпения юного мечтателя, было кратковременное появление на его жизненном пути некоего родственника, троюродного дяди, сэра Роберта Гладстона, который с юных лет связал свою судьбу с морем и плавал офицером на многих судах и под многими флагами. Он гостил в усадьбе Хартов на Рождество не более недели, но рассказанного им за это время хватило бы на две жизни. По некоторым намекам можно было догадаться, что ему доводилось ходить и под «Веселым Роджером» у морского разбойника Моргана, заслужившего, впрочем, офицерский патент у его королевского величества. Эта догадка наполняла душу Уильяма сладким ужасом. Но с особенным жаром дядя прославлял почему-то мореплавательские успехи и корабли голландцев. Может быть, поэтому впоследствии Уильям решился остановить свой выбор именно на голландских судах. Впрочем, связно объяснить своих желаний Уильям не смог бы даже самому себе. Им овладела страсть, своего рода лихорадка, подчинившая все его действия и желания единственной цели, и в один прекрасный день, написав батюшке с матушкой трогательное письмо с извинениями и обещаниями в скором времени разбогатеть и сделаться знаменитым, Уильям тайно покинул родной дом и с тощим кошельком бесстрашно пустился в первое свое путешествие, оказавшись в итоге в доках Плимута, где так заманчиво пахло морем, дегтем и пряностями. Несмотря на то что реальная жизнь несколько отличалась от его восторженных фантазий, Уильям даже не успел в них разочароваться. В Плимуте ему повезло повстречаться с милейшим человеком по имени Давид Абрабанель, который принял живейшее участие в судьбе незнакомого ему юноши и был так великодушен, что сразу же взял его на службу, предложив место клерка, приличное жалованье и вояж в британские колонии на Карибах, куда сам Абрабанель отбывал как поверенный Вест-Индской компании. Нужно ли говорить, что все эти предложения были приняты Уильямом с восторгом и благодарностью? Он опять воспрял духом и предался мечтаниям. Обстоятельства для этого были самые благоприятные. К удивлению Уильяма, его новая должность не накладывала на него пока никаких обязательств, и он был практически совершенно свободен. Целыми днями Уильям слонялся по городу, неизменно оказываясь в порту, где он с замиранием сердца встречал и провожал корабли. Он грезил наяву и представлял самого себя то на капитанском мостике великолепного галеона, то у штурвала грозного фрегата, то, на худой конец, с пистолетом за поясом несущим вахту на шканцах какого-нибудь брига. Купец на это время как будто забыл о своем работнике. Новые обязанности по-прежнему оставались для Уильяма тайной за семью печатями. Испытывая некоторые угрызения совести, он разыскал Абрабанеля и попытался вызвать того на разговор, но торговец просто отмахнулся от него и предложил юноше развлечься чем-нибудь, ссудив ему на это даже некоторую толику денег. Уильям решил, что Провидение послало ему вместо работодателя настоящего ангела и что о лучшем патроне даже и мечтать невозможно. По правде говоря, Давид Абрабанель совершенно не заслуживал столь лестной оценки и уж ни в коей мере даже внешне не походил на ангела. Да и как мог быть похож на бестелесного духа коротышка с раздавшейся филейной частью и выдающимся брюшком, коего не могли скрыть никакие ухищрения портного, с лицом, из которого кривым бушпритом торчал хищный нос, а голос был тих и вкрадчив, как шелест ценных бумаг? Только пронзительные глаза, выражение которых ничего не говорило об истинных намерениях их обладателя, выдавали, безо всякого сомнения, незаурядного человека. К своим прочим качествам, Абрабанель, оправдывая свою принадлежность к ювелирам, обладал слабостью к драгоценным камням, и его маленькие, аккуратные, почти женские руки были унизаны множеством перстней искусной работы. Трудно было представить себе такого человека среди бушующей морской стихии, но Абрабанель уже не первый раз отправлялся в Новый Свет – более того, он был облечен при этом высокой миссией не только компанией, но и Британским казначейством, и Уильяму оставалось только восхищаться его деловитостью.* * *
Размышляя о своем нанимателе, Харт тем не менее успел переодеться и привести в порядок свои волосы. Парик он не носил по причине скудости средств и наличия собственной густой шевелюры. Притворив дверь в каюту, Харт легко взбежал по узкому трапу на палубу, где размещались каюты капитана, господина Абрабанеля и его дочери. Когда он вошел в кают-компанию, как раз подали первую перемену: куриный суп с горошком и огурцами и говяжье жаркое с маринадом. Принеся извинения за опоздание, Харт занял свое место в конце стола, как раз по диагонали от мисс Элейн, которая одарила его ласковым взглядом. Взгляд этот был ловко перехвачен Хансеном и Абрабанелем, не вызвав восторга ни у одного, ни у другого. Впрочем, мысли представителя Вест-Индской компании витали сейчас в совсем иных сферах, хотя Давид Малатеста Абрабанель отнюдь не был прекраснодушным мечтателем и увидеть в нем ангела мог только очень предвзятый человек. Уильям Харт был как раз из таких, и посему у дальновидного коадъютора имелись на него кое-какие виды. По складу характера тот терпеть не мог сумасбродов, скитающихся по миру в поисках сомнительных приключений. Уильям Харт в его глазах был одним из таких вертопрахов, не заслуживающих ни малейшего снисхождения, и лишь собственные тайные планы заставляли Абрабанеля разыгрывать перед юношей роль щедрого покровителя. Это было вполне в его духе – лицемерить, изображая чувства, которых не было и в помине. То же самое действо, призванное скрыть истинные намерения коадъютора, продолжало разыгрываться им теперь и перед капитаном. Джона Ивлина обмануть было труднее, но это и не было обязательным условием – капитану было достаточно сделать вид, будто он обманут, – это означало бы, что он принимает правила игры. А правила были не совсем обычные и нуждались в уточнениях, которых Абрабанель давать никому не собирался. – Заранее прошу прощения за скудость наших обедов. Мы в походных условиях, количество провианта ограничено, посему наше меню не будет отличаться особой изысканностью, к которой, безусловно, все присутствующие привыкли в обычное время, – произнося это, Абарабанель по очереди оглядел присутствующих, надеясь, что они по достоинству оценили его юмор. Но удовольствие ему доставила только физиономия Харта, чьи скулы залил бледный румянец, а желваки напряглись. Еще бы! Уж Харт точно в своей жизни не ел ничего лучше черничного пудинга, бобового супа и жесткой, как ботфорт мушкетера, баранины. Элейн в ответ на тираду отца посмотрела на него с грустным упреком. Хансен рассмеялся, обнажив ряд великолепных зубов, и подлил себе еще из супницы. Джон Ивлин же сидел за обедом по левую руку Абрабанеля. Его лицо по обыкновению было угрюмо, и по нему невозможно было разгадать истинного настроения капитана. Но Джо Ивлин, равнодушно поглощая суп, на самом деле думал о том, что напрасно этот пройдоха радуется, воображая себе, будто провел его. Ему, так же как и капитану, понятно, что пускаться на подобной посудине через океан несколько рискованно, особенно с государственной миссией. Но выбор судна компания оставила за собой, и в итоге мы имеем, что имеем. Джон Ивлин не счел необходимым проявлять упорство в данном случае. Идти через Атлантику на трехмачтовом флейте, оснащенном двумя десятками легких пушек, было не слишком умно. Правда, сезон ураганов уже кончился и вероятность попасть в бурю была не слишком велика, но вот нарваться на жестокого испанца или на пирата-англичанина, который не слишком обращает внимание на то, что болтается у вас на флагштоке, было вполне реально. Словно в ответ его мыслям, Абрабанель, отложив ложку и поглядывая то на Харта, то на Ивлина, воскликнул: – Право, я доволен, очень доволен этим судном. «Голова Медузы» прекрасно идет, ей и носовая качка нипочем. Правда, Харт? – М-м-да, – ответил Харт, едва проглотив суп. – Мне кажется, она прекрасно держится. – А что думаете вы, капитан? – Корабль и в самом деле неплох, сэр, – сдержанно заявил тот, хмуря при этом брови. – Командой я тоже доволен. Даст Бог, доберемся до Барбадоса в срок и без приключений. Но по нынешним временам я бы все-таки предпочел плыть на линейном корабле флота Его Величества. Тогда моя душа была бы перед вами чиста, сэр. – Не беспокойтесь о своей душе, капитан! – посмеиваясь и потирая руки, Абрабанель сам подлил себе немного вина. – Иногда скромный вид приносит большуювыгоду, нежели непобедимая армада. Во всяком случае, внимания он привлекает куда меньше... – Нет, я решительно уверен, что наше плавание будет благополучным. Страны наши заключили теперь мир, испанцы, кажется, угомонились, и даже ужасный Морган, говорят, перешел на службу к Его Величеству. Чего же нам бояться? – Не бояться, сэр! – капитан звякнул приборами, приступая к жаркому в маринаде. – Но опасаться на воде необходимо! Только глупцы выходят в море без опаски. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать? Давид Абрабанель опять засмеялся, и его прищуренные глазки остановили свой взгляд на лице Уильяма Харта, лицо которого приняло мечтательное выражение. – Кажется, наш молодой друг именно таков, капитан! – игриво заметил Абрабанель. – Нет-нет, я отнюдь не хочу назвать вас глупцом, дорогой Уильям! Но ваша жажда приключений написана у вас на лице. Еще недавно вам хотелось поскорее услышать плеск волн, скрип мачт и крики чаек, не правда ли? Сказать «прощай» родимому берегу и пуститься в неизведанное очертя голову и без сожалений – не так ли? О, я вас отлично понимаю! Эта прекрасная пора безрассудных надежд и предвкушений! Увы, ее уже не вернуть! А теперь вы, видно, мечтаете о неизведанных островах... Как я вам завидую, мой юный друг! Ведь у нас, стариков, уже ничего не осталось, кроме забот, и мы смотрим на мир совсем другими глазами. Уильям невольно вспыхнул под внимательным смеющимся взглядом Абрабанеля. Ему хотелось ответить банкиру с достоинством зрелого, видавшего виды человека, но, как назло, в голову ему ничего достойного не приходило, и он был вынужден промолчать, как бы полностью соглашаясь с характеристикой, которую косвенно выдал ему работодатель. – Мне кажется, отец, и вам не чужда некая авантюрная жилка, в противном случае вы сами ни за что не пустились бы в столь опасное предприятие, – голос у Элейны был мягкий и бархатистый, совсем не свойственный грубым голландкам. Уильям горячим взглядом поблагодарил свою неожиданную заступницу. К счастью, капитан в этот момент перевел разговор в другое русло. – Простите, сэр! – сказал он, утирая губы салфеткой. – Мне придется немедленно вас покинуть. Я уже похвалил команду, но боюсь, что эти мошенники могут расслабиться на ветерке. Я должен проверить курс. – Конечно, – кивнул Абрабанель. – Это прекрасный пример того, что я называю верностью своему долгу, дорогой Уильям! И как раз это я подразумевал, когда говорил о заботах, связывающих нас, точно путы на ногах лошади, пасущейся на зеленом лугу! Вокруг нее сочная трава, нежнейшие цветы и вообще благодать божья, но она не может никуда ускакать, потому что стреножена... Гм, однако я также должен вас покинуть. Под приглядом такого ответственного человека, как наш бравый капитан, дела на судне идут как нельзя лучше, а у меня еще бумаги... – Десерт, господа, – возгласил матрос, выполняющий на судне обязанности стюарда. На серебряном подносе возвышалась горка засахаренных фруктов, чаша веницианского стекла с компотом из жареных персиков, абрикосов и слив и серебряное же блюдо с шоколадным печеньем. – О, какое искушение! Приятного аппетита, господа. Ешьте десерт без меня – в мои годы сладкое только вредит. – Абрабанель с трудом поднялся с кривоногого креслица, как раз недавно введенного в моду Людовиком XIV. Как только за патроном закрылась дверь, Хансен с преувеличенной любезностью обернулся к юной мисс Абрабанель. Но та, откинувшись в кресле, перебирала зеркальце и другие безделушки, висевшие у нее на поясе. – Скажите, господин Харт, отчего вы нанялись к моему отцу? – вдруг спросила она, подняв на юношу миндалевидные глаза. – О, сударыня, все очень просто. Как угадал ваш батюшка, мне и вправду с младенчества хотелось посмотреть свет, побывать в тех удивительных краях, из которых нам привозят чудесных птиц, ароматные пряности и необыкновенной красоты драгоценности. Я столько слышал об этом из рассказов, а мой дядюшка даже однажды подарил мне удивительную деревянную маску с далеких берегов Черного континента. Он даже обогнул мыс Горн и рассказывал мне о Летучем Голландце, который уже сто лет не может проплыть это страшное место и вернуться домой. – Знаете, я тоже упросила батюшку взять меня с собой. Матушка умерла уж года четыре назад, и я больше не хотела оставаться одна в большом доме и ждать отца. Рассказы о красотах Нового Света совсем вскружили мне голову. Отец сначала и слушать не хотел, а потом передумал. Даже странно. – Мне кажется, он погорячился, хотя благодаря его сговорчивости мы обрели вас, – Хансен попытался поднести руку девушки к губам, но та ловко увернулась и снова взялась за зеркальце. Харт почувствовал, что ему будет лучше откланяться. Носовая качка прекратилась, судно больше не металось вверх-вниз, как загарпуненный кит, а ра-номерно покачивалось на зеленоватых волнах океана. Все начало путешествия Уильям провел в каюте, страдая от морской болезни, поэтому он пропустил выход из пролива Ла-Манш и очутился прямо в открытом океане. Поскольку он еще не курил трубки, он не мог убивать послеобеденное время, предаваясь этому морскому пороку. Посему единственным развлечением для него было наблюдение за океаном и восхищение бескрайним окоемом, раскинувшимся перед ним. Он поднял голову навстречу соленому ветру и снова погрузился в воспоминания...* * *
– Не забывайте, мой юный друг, завтра – 5 июля, и с рассветом мы отправляемся. Сон молодого человека так сладок – долго ли проспать все на свете... Прикажите, чтобы вас хорошенько будили утром! Но опасения ростовщика были напрасны. В эту ночь Уильям ни на секунду не сомкнул глаз, несмотря на то что он пробыл в доках до позднего вечера, а отужинал в портовой таверне, за обе щеки уписывая тушеные бобы с жареной камбалой и жадно вслушиваясь в разговоры, которые гудели вокруг него. В таверне пили, ели, играли в кости и драли глотки моряки с разных кораблей со всех концов земли, обветренные, загорелые, покрытые шрамами, видевшие своими глазами морских чудовищ и волны высотой с Тауэр; леса, населенные кровожадными дикарями и диковинными животными и топкие болота, зараженные лихорадкой; рубившиеся врукопашную с пиратами и блуждавшие по непроходимым гилеям в поисках легендарной страны Эльдорадо, где золотые слитки валяются прямо под ногами... Басра, Магриб, Эдо, Мансур, Картахена, Эспаньола... Названия далеких портов и стран звучали как музыка органа; плавающие в крепком сизом дыму имена кораблей и знаменитых капитанов обретали плоть и жизнь, – Харт буквально пробовал их на вкус, шепотом повторяя за матросами незнакомые слова... За стенами таверны до рассвета шумел и чадил огромный порт, и разве мог Уильям заснуть в эту ночь?! Проснувшись от воплей хозяйского петуха, умывшись из лохани и кое-как почистив башмаки, совершенно не выспавшийся, но полный надежд, что, явившись на причал ранее прочих, он тем самым выкажет свою пунктуальность и рвение, Уильям побежал в доки. Едва забрезжил серый рассвет. В тусклом небе легкий ветерок перегонял темные, длинные, как водоросли, тучи. С неба сыпалась изморось, отчего вся одежда юноши моментально пропиталась влагой. Тяжелая, пахнущая рыбой и водорослями вода лениво билась о камни причалов. Поскрипывали снасти, позвякивали якорные цепи, недовольно кричали разбуженные чайки. Звуки тонули и искажались в стоящем низко над водой тумане, таком плотном, что, казалось, его можно было резать ножом. Несмотря на ранний час, на «Голове Медузы» уже кипела работа. Команда готовилась к отплытию. За приготовлениями, скрестив на груди руки, наблюдал капитай Ивлин, прямой как оглобля, суровый и, по своему обычаю, немногословный. Что команда не спит, конечно, не было для Уильяма неожиданностью, но вот то, что среди пассажиров он окажется отнюдь не первым, неприятно поразило его. Поднявшись со своим маленьким, обитым свиной кожей сундучком на палубу, он обнаружил на борту корабля своего работодателя в центре небольшого общества. Банкир во вчерашнем кафтане, украшенном белым воротником голландских кружев, в суконной круглой шляпе с одиноким пером цапли был необыкновенно оживлен и даже весел. Трудно было поверить, но, кажется, этот меркант не меньше Уильяма был возбужден предстоящим путешествием. Вертя по сторонам головой и бурно жестикулируя, он болтал о чем-то со своими спутниками, и даже издалека было заметно, что тема беседы была далека от прибыли и процентов. Серьезные вопросы Абрабанель, судя по всему, перенес на другое время. Общество, окружавшее банкира, было совсем небольшим, но разнообразным: уверенный широкоплечий мужчина лет тридцати, в светлом парике, который резко контрастировал с его загорелым лицом путешественника, и две леди, одна из которых, молодая брюнетка, держалась скромно и, видимо, присутствовала здесь в качестве компаньонки или прислуги, а другая была юна и очаровательна.* * *
Харт остановился на шканцах, не зная, удобно ли ему будет нарушить уединение этого почти семейного кружка, так как, скорее всего, эта юная незнакомка была дочерью Абрабанеля, о которой тот вскользь упоминал. Банкир заметил нерешительность Харта и подозвал его жестом поближе. – Весьма сожалею, что прежде не выпало такого случая, но лучше поздно, чем никогда! – провозгласил он, добродушно похлопывая Уильяма по спине и при этом из-за незначительности своего роста едва доставая ему до лопаток. – Позвольте вам представить моего славного молодого друга и нашего нового помощника в делах – сэр Уильям Харт, к вашим услугам! Он любезно согласился принять участие в нашем предприятии. Приятно, когда молодой человек не сидит на месте, а ищет возможность употребить свои способности на пользу себе и своим близким... Элейна, этот молодой джентльмен – мой новый помощник, дворянин сэр Уильям Харт. Некоторые обстоятельства заставили его искать счастья за океаном, и я надеюсь что его надежды оправдаются. Харт наклоном головы поприветствовал девушку, в ответ сделавшую легкий реверанс. – Сэр Уильям, рад представить вам мою дочь Элейну. Вот моя дочь, моя Элейна, мой нежный цветок, который дарит мне надежду, мой свет в темной ночи, который поддерживает меня на одиноком и опасном пути... Надо сказать, что, несмотря на этот скромный вид, она весьма своенравна. Абрабанель рассмеялся, и Харт подумал, что свонравность девицы была отцу весьма по сердцу. – А это наш торговый агент Якоб Хансен. Он ведет дела с Барбадосом и, воспользовавшись случаем, решил осмотреть все сам. Доверяй, но проверяй, так сказать. Рекомендую, Якоб Хансен – замечательный человек, надежный и крепкий, точно кремень! Именно он станет теперь вашим наставником и пастырем, так сказать. Надеюсь, вы подружитесь, тем более что вы почти коллеги... На вид поверенному в делах было лет тридцать пять-сорок, и он был отнесен Хартом к старшему поколению. Они обменялись легкими полупоклонами, причем Харт отметил, что, судя по манерам, двери высшего общества были для агента если не закрыты, то всего лишь слабо приотворены. Еще одну девушку, стоящую поодаль и небогато одетую, Харту не представили, из чего он сделал вывод, что его первоначальные предположения относительно ее места в этом кругу были верны. Кэтрин была камеристкой Элейн, и это сразу убивало всю миловидность кареглазой брюнетки со смеющимися глазами и пухлыми губками, приоткрытыми в усмешке. У противоположного борта дремал верхом на дорожных сундуках слуга Абрабанеля. Когда церемония знакомства завершилась, разговор возобновился, но Уильям предпочел слушать, дабы не показаться нескромным. Украдкой он разглядывал единственный достойный внимания объект – мисс Элейну. Семнадцатилетняя дочь ростовщика и в самом деле была, что французы называют charmant. Уильяма сразу поразило ее прелестное личико, обрамленное пышными золотистыми волосами, выбивающимися из-под серого капюшона и крупными локонами ниспадающими на шею и плечи. Парика она не носила, но причиной тому были не законы против роскоши – просто было бы сущим преступлением прятать такую красоту. Правильные черты лица, матовая, немного смугловатая на изысканный вкус кожа, печальные темные глаза и задумчивое выражение придавали ей сходство с Мельпоменой. Изящное платье, выглядывающее из-под распахнутого дорожного плаща, было скроено на французский манер и не скрывало совершенства ее фигуры: расшитый голубым шелком жемчужно-серый заостренный лиф подчеркивал тонкую талию, которую, казалось, можно было обхватить соединенными пальцами рук; такого же цвета роба с намеком на шлейф, открывавшая нижнее платье из голубого шелка, расшитого крупными розовато-серыми цветами, оттеняла хрупкость и невинность девицы, а широкое низкое декольте, отделанное алансонскими кружевами, обнажало безупречные плечи и высокую грудь. Юная мисс казалась слишком серьезной для своих лет и положения. Даже в шутливом разговоре сквозь ее улыбку сквозила задумчивость, да и за репликами беседующих она следила нехотя, словно недовольная той чепухой, которой те обменивались по обычаю праздных путешественников. – Ну, и что я говорил! – торжествующе вскричал меркант, замечая Уильяма, одиноко стоящего на палубе. – Так и есть! Наш молодой друг не выспался, не завтракал, бежал сломя голову и теперь совершенно не в духе! Выше голову, юноша! Мы отдаем паруса! Последнее утверждение не было совсем уж точным, потому что до того момента, как опытный лоцман должен был вывести «Голову Медузы» в открытое море, был поднят лишь блинд на бушприте корабля, но все-таки путешествие начиналось, и этот факт вновь заставил Уильяма оживиться и забыть обо всем на свете. С трепетом в душе он внезапно понял, что они отчалили, покинув сушу, и вскоре должны будут отдаться на волю самой капризной из стихий. Впрочем, углубиться в душевные переживания ему помешал старший клерк. – Впервые выходите в море, сэр? – подчеркнуто вежливо, но с едва уловимой насмешкой произнес он. – Если не считать небольшого плавания через Ла-Манш, сэр, – с вежливой улыбкой ответил Уильям. – Надеюсь, что путешествие на «Голове Медузы» даст мне необходимый опыт. – Кстати, насчет опыта: давно занимаетесь торговлей? – не умеряя иронии, поинтересовался агент. В ответ Уильям поднял и задумчиво оглядел свои ухоженные руки с тонкими аристократическими пальцами, чем несколько уязвил Якоба, напомнив ему о разнице в их происхождении: – До сей поры ни у меня, ни у моих предков не было нужды в этом ремесле, впрочем, как и ни в каком другом, – произнеся это, он улыбнулся и оглядел клерка с таким видом, с каким завзятый петиметр взирает на дурно скроенный кафтан. Под этим взглядом поверенный Абрабанеля вспыхнул и уже готов был наговорить дерзостей, как Уильям произнес: – Знаете, в чем кроется разница между нами? Нет, не в происхождении и не в обладании вещами – в воспитании. О, это таинственное воспитание! Благодаря ему люди одного круга безошибочно узнают друг друга в толпе и благодаря ему двери гостиных захлопываются перед не посвященными в его секреты навсегда. Суть его – в обучении светским приличиям, а объяснить на бумаге, что это такое, – невозможно. Теория заставит вас совершить множество нелепостей; практика же лучше, чем все наставления, в течение нескольких месяцев выучит находить выход из любого положения и научит разбираться, какие отношения царят в том или ином обществе между находящимимся в нем персонами и окружающими их предметами. Иными словами, основная тонкость светского поведения заключается в том, чтобы всегда находиться в нужное время в нужном месте, произнося при этом нужные слова, – это цеховой секрет высшего класса, за обладание которым они будут биться до последнего. Итак, непринужденная беседа клерка с дворянином грозила перейти в ссору, но Абрабанель поспешил убить ее в зародыше. – Опыт – дело наживное! – заявил он. – Уильям потому и находится сейчас здесь с нами, потому что стремится приобрести необходимый опыт. Когда-то мы все начинали с пустого места... И вообще, о делах мы еще успеем поговорить. Сначала нужно определить молодого человека на место... Якоб, прошу тебя, покажи нашему помощнику его каюту! Пусть устраивается поудобнее, ведь впереди у нас долгий путь! Крепкая осанка Хансена, его уверенная манера держаться, его богатое платье лишний раз говорили Уильяму, что наглость – второе счастье. Откровенно говоря, в душе он несколько свысока смотрел на эту человеческую породу, полагая, что знатное происхождение и блестящее образование позволят ему быстро освоиться на новом поприще и даже добиться немалых успехов. Глубоко он об этом не задумывался, потому что приключения были для него важнее успеха и денег – и то и другое, как он полагал, должно было неминуемо прийти ко всякому имеющему смелость и мужество их взять. В действительности все оказывалось совсем не так, как представлялось в мечтах. Те самые презренные торгаши, которые должны были только обеспечить восхождение Уильяма к славе, выглядели людьми совсем не униженными и даже, более того, посматривали на юношу покровительственно, не торопились делиться с ним своими секретами и постоянно указывали на его молодость и неопытность. Да что там, до сих пор его даже не поставили в известность, в чем заключаются его прямые обязанности! Он не имел ни малейшего представления о целял экспедиции! Наверняка даже последний юнга на корабле был осведомлен об этом лучше, чем Уильям! Однако все эти неприятные соображения не могли до конца испортить ту радость, что подогревалась в душе Уильяма простой мыслью – они плывут! Пусть пока только в водах Ла-Манша и с черепашьей скоростью, но ведь это только начало долгого пути, который завершится на теплых морях Нового Света! Этот факт примирил Уильяма с действительностью, и он с большим нетерпением дождался, пока Якоб Хансен покажет ему на корабле его каюту. Вслед за торговым агентом Уильям прошел на корму, нырнул в грот-люк, протопал по узкой и душной галерее и оказался в крошечном помещении, обшитом досками, где не было ничего, кроме деревянного ящика с плоской крышкой. Свет проникал в эту камеру через узкое окошко – даже не окошко, а скорее орудийный порт с поднятой крышкой. Пожалуй, для скромного сундучка в этой мышеловке место еще бы нашлось, но сверх того здесь не поместилась бы даже шкатулка с курительными принадлежностями. – Итак, отныне эта каюта и есть ваша обитель, друг Уильям! – с легкой улыбкой сказал торговый агент. – Немного похожа на гроб, не правда ли? Не сомневаюсь, что человек вашего происхождения вправе рассчитывать на что-то большее, но ведь вы сами выбрали свое предназначение, как я слышал? Помощник купца из Сити, да к тому же голландца по происхождению? Довольно скромно для юноши из благородной английской семьи, не так ли? Прошу извинить меня за назойливость, но что заставило вас, Уильям, пуститься на край света? Любопытство, извинительное для молодого человека? Или были какие-то особенные причины? – Полагаю, что ваш вопрос продиктован не одним только праздным любопытством, – спокойно сказал Уильям. – Потому что вмешательства в свои дела не потерплю даже от человека, которому подчинен в силу обстоятельств. Хансен чуть улыбнулся. – Ради Бога, не обижайтесь! – добродушно заметил он. – Если даже я немного и любопытен, то это не со зла, уверяю вас! И прошу вас не упоминать больше ни о каком подчинении! Скажу вам по секрету, эта старая лиса Абрабанель время от времени придумывает что-нибудь необычное, а потом смотрит, как воспринимают это окружающие его люди. Он или таким образом шутит, или осуществляет какие-то свои тайные замыслы. Проникнуть в его мысли чрезвычайно трудно. – Что вы хотите этим сказать? – подозрительно спросил Уильям. – Ради Бога, не выдавайте меня, а то мне несдобровать! – рассмеялся Хансен. – Дело в том, что до сих пор я великолепно обходился без помощников. Да и сам Абрабанель измыслил эту синекуру, только когда вы попались ему на глаза. Он объяснил мне, что решил таким образом поддержать энергичного и честного молодого человека, дать ему шанс. Вам то есть. Уильям немного растерялся. – Вы хотите сказать, что я тут совершенно не нужен? – Нет-нет, если наш коадъютор что-то решил, то это не пустые слова! – заверил Хансен. – У него непременно на вас какие-то виды. Думаю, когда мы прибудем на Барбадос, работа найдется для всех. Вы не представляете, эти острова – просто рай на земле! У Харта невольно загорелись глаза. – Вы имеете в виду таинственную страну Эльдорадо? – воскликнул он. – Там, где золотые слитки валяются под ногами, как простые булыжники?! Улыбка опять тронула тонкие губы Хансена. – Признаться, я ни разу не видел этой таинственной страны, – сказал он спокойно. – Даже не знаю, как туда добраться. Полагаю, что это вообще выдумки. Но в тех краях и без Эльдорадо человек с головой может сколотить состояние. Но мы поговорим об этом позже, а сейчас лучше выбраться на палубу. Не слишком приятно сидеть в деревянном ящике, правда? А через неделю это будет просто невыносимо. Но деваться некуда. У меня тоже скромная каюта, – он постучал кулаком в деревянную стенку. – Там, за переборкой. А с другой стороны – винный погреб нашего капитана. Неплохо, да? Почти Эльдорадо. Хотя для нас столь же недостижима. Выдам вам еще один секрет. С вашим земляком, капитаном Джоном Ивлином, мне довелось встречаться и раньше, и скажу вам, что такого педанта и скрягу еще поискать! В том, что касается дисциплины, он сущее чудовище. Особенно он не любит пьяных на корабле. И еще женщин. Присутствие очаровательной Элейны на борту для него настоящее испытание. Только золото ее папаши и интересы карьеры заставляют этого достойного мужа нарушить свои же правила. Видите, мы опять с вами заговорили о золоте! Скажите-ка лучше, как вам дочка? – Мисс Элейна очень красива и получила воспитание, достойное настоящей леди, – сдержанно ответил Уильям. К разговорчивому потомку Сима он не чувствовал никакой симпатии и вовсе не собирался делиться с ним самым сокровенным. В ответ старший клерк и торговый агент по совместительству внимательно посмотрел на него и серьезно сказал: – Вижу, что девушка произвела на вас впечатление! Да, у нее немало достоинств, это правда. Только настоящее чудо – это ее огромное приданое, предназначенное тому везунчику, который станет ее мужем. Но еще большим чудом будет, если старик решится отдать это приданое постороннему человеку. Понимаете меня? Ни вы, ни я претендовать на руку этой леди не сможем, потому что банкир готовит ее для такого же денежного мешка, как и он сам. Увы, так принято в этих кругах, дорогой Уильям! Романтические порывы здесь не в почете. Однако довольно! На воздух! Скорее на воздух!* * *
Уильяму было над чем поразмышлять, когда, облокотившись о планшир и подставив лицо сырому с терпким запахом ветру, он смотрел на уплывающие в утренний туман верфи Плимута. К тому же он уже слишком заждался этой минуты – минуты, когда перед ним откроется необъятный простор без конца и без края. Ему казалось, что это будет похоже на второе рождение. Но теперь не только это волновало его. Слова Хансена эхом звучали в его ушах. Значит, судьба очаровательной дочери Абрабанеля давно предопределена и расписана как по нотам, и даже робкие мечтания, смутившие душу Уильяма, оказывались с самого начала бесплодными, как выжженная солнцем земля Аравийской пустыни. Его непоседливый дядя Роберт бывал в тех краях и с большим чувством описывал их суровую красоту – Уильям представлял себе все так ясно, будто видел своими глазами. Нежное лицо Элейны он мог увидеть еще яснее – стоило только повернуть немного голову. Она также с большим любопытством наблюдала за тем, как растворяются за кормой судна холмистые берега. Легкую печаль прощания помогал Элейне развеять ее соотечественник. Якоб Хансен тоже был здесь и своими отвлеченными речами скрашивал дочери Абрабанеля разлуку с землей. Уильяму вряд ли удалось бы сделать это так же естественно и убедительно – он и посмотреть-то лишний раз на девушку не решался, хотя все основания для этого у него были. Ни отца красавицы, ни ее служанки рядом не было. Давид Малатеста Абрабанель, давно пресытившийся путешествиями, занимался делами в своей каюте. Служанка также была занята. Уильям уже знал, что семейство банкира располагалось в довольно уютных помещениях, находившихся рядом с каютой капитана, – его пока туда даже не приглашали. – Ставить паруса! Повинуясь капитану, засуетились матросы, шкотами притягивая к нокам марсели на фок– и грот-мачтах и один за другим наполняя паруса, которые, ловя ветер, послушно надувались. «Голова Медузы» направилась в открытый океан. – Круче держать! Притянув нижние паруса к бортам, матросы брасами разворачивали реи, чтобы судно легло на нужный галс. И будто нарочно в тот же самый момент из-за горизонта вынырнуло солнце. Пожалуй, еще ни разу в жизни Уильям не был участником столь величественного действа – бескрайнее, играющее золотыми брызгами море, белые чайки, парящие над изумрудной водой, упругие крылья парусов над го-ловойг несущие корабль словно по воздуху вслед за свежим утренним ветром, покачивающаяся под ногами палуба, брызги от врезающихся в корпус волн, и словно ожившая, наводящая трепет резная фигура на носу флейта – Медуза Горгона с развевающимися золочеными змеями вместо волос, со сверкающими на солнце стеклянными глазами. – Проводите меня в каюту, Якоб! – вдруг негромко сказала Элейна, поднося свои тонкие бледные пальцы к груди. – У меня кружится голова! – Это с непривычки, – сочувственно заметил Хансен. – Позвольте предложить вам руку, сударыня! Обопритесь о нее и дышите глубже – вам будет легче. Уильям оторвался от зрелища океана и с тоской проследил, как удаляются на корму его спутники. С этого момента он начал завидовать Хансену черной завистью. Тот, несмотря на собственное предупреждение, кажется, был всерьез настроен играть при девушке роль верного оруженосца, а возможно, и рассчитывал при этом на нечто большее. Уильям, который с каждой минутой все яснее видел в Элейне единственную родственную душу, начинал терзаться муками ревности, без малейшего, впрочем, повода, потому что дочь банкира почти не обращала на него внимания. Уильям терзался этим, но одновременно со свойственным всем влюбленным безрассудством находил удобные для себя объяснения такому поведению. Он вспомнил и про скромность девушки, и про легкое недомогание, которое, безусловно, помешало ей оценить нового знакомого по достоинству. Между прочим, очень скоро, к своему стыду, Уильям обнаружил, что и сам в большой степени подвержен приступам морской болезни. И по мере того, как они уходили все дальше в открытый океан, а качка делалась все ощутимее, Уильям чувствовал себя все хуже, так что в конце концов, совершенно обессилевший, был вынужден слечь в своей келье. Он был так плох, что даже не укорял себя за тот неверный шаг, который совершил, покинув холмы родного Корнуэлла. Он даже толком не попрощался с берегами Альбиона, когда корабль проплывал мимо них – было не до этого. Уильяму казалось, что «Голова Медузы» влечет его прямиком в царство мертвых, откуда не будет возврата.* * *
Так прошла первая неделя плавания, и когда Уильям окончательно решил распрощаться с бренным миром, вдруг оказалось, что морская болезнь прошлая он чувствует себя превосходно, как будто заново родился. Он еще чувствовал слабость, но у него появился зверский аппетит, и в нем опять проснулась жажда жизни. Более того, на почве общего недомогания ему удалось довольно быстро сблизиться с Элейной, и между ними стали завязываться продолжительные беседы, касавшиеся не только головокружения и сердцебиений, но и более приятных тем. Как выяснилось, она тоже никогда не бывала в далеких краях и ждала от путешествия очень многого. Душа у нее была чувствительная и романтическая, но все же кровь многих поколений ростовщиков давала о себе знать. Элейна ждала от путешествия не только ярких впечатлений, но и реальной выгоды. Она рассуждала о торговых операциях и процентах прибыли с убежденностью и азартом знатока. Уильяму трудно было с ней в этом тягаться, и он обычно старался направить разговор в более сентиментальное русло. Однако купеческая стихия постепенно захватывала и его. Он стал прислушиваться к разговорам, которые вели между собой Абрабанель, капитан и Хансен. Порой эти разговоры были очень поучительны. Но, по правде сказать, несмотря на все старания и добрые намерения поднабраться олыта, Уильяму быстро наскучивали рассуждения о цене перца и преимуществах крупных торговых экспедиций, и он опять искал общества прекрасной Элейны. С каждым днем их беседы становились все свободнее, ведь очень малой степени надежды на взаимность достаточно, чтобы вызвать любовь. Прошло две недели. В тот день Уильям, как обычно, присоединился к Абрабанелю и Хансену, которые с важным видом прохаживались вдоль правого фальшборта и о чем-то спорили. Над Атлантикой ослепительно сверкало солнце. Было так жарко, что даже близость огромной массы воды не могла смягчить палящего зноя. Из-под черного парика на лоб Абрабанеля скатывались крупные капли пота. Он не обращал на них никакого внимания и, грозно покачивая пальцем перед носом у Хансена, убеждал его: – Поверьте мне, дорогой Якоб, я знаю, что говорю! Торговля – дело не сложное, но без должной смекалки не обойтись. И нужен твердый характер. Бели бы не эти два условия, торговать мог бы даже ребенок. Другое дело – капитал. Чтобы приумножить его, одной торговлей не обойтись. В делах важна политика. Вы должны видеть все на пять шагов раньше конкурента. Должны использовать любой, даже самый незначительный шанс, чтобы ослабить соперника и подняться самому! Это, конечно, талант, Якоб, но многое приходит с возрастом... Увы, мы платим за мудрость самыми недолговечными и приятными вещами – надеждами, мечтами... Но оно того стоит! – убежденно воскликнул он, заметив приближающегося к ним Уильяма. – А вот и наш молодой друг! Кажется, он готов оспорить мои выводы, и черт меня побери, он будет по-своему прав! Как почивали, Уильям? Снилась ли вам прекрасная старая Англия? Уильям поздоровался и признался, что не помнит своих снов. – Простите, сэр, – тут же решился задать он давно волновавший его вопрос. – Но вы много раз повторяли, что крупные торговые экспедиции выгоднее одиночного плавания, подобного нашему. Но тогда почему... – Вы хотите спросить, почему у нас теперь такой скучный рейс, почему мы одиноко болтаемся на этой скорлупке посреди океана и какая нам, черт побери, будет от этого выгода? – живо спросил его патрон. – Действительно, если бы мы снарядили флотилию и отправились к берегам Гвинеи за черными рабами, то это было бы весьма выгодное и поучительное предприятие. Если бы у меня в распоряжении были хотя бы три быстрые шхуны, оснащенные даже кулевринами, то мы могли бы провести время с большой пользой, занимаясь каперством в тех краях, куда мы сейчас направляемся, и попробовать разжиться испанским серебром. Мы могли бы на обратном пути взять полные трюмы сахара и табака. Все это верно. Но бывают обстоятельства, когда имеет значение не сиюминутная выгода. Я уже говорил об этом нашему капитану и повторю это вам. Сейчас мы направляемся в Новый Свет с особенной миссией. О сути ее вы узнаете позже, потому что так уж устроил наш мир Всевышний – истина открывается нам не сразу, а в результате долгих и упорных трудов... В аптечных дозах, так сказать. Уильям не успел хорошенько вдуматься в значение туманных изречений своего благодетеля, как вдруг произошло событие, которое вытеснило из его головы все прежние мысли. Уже более месяца не видели они в океане ни единой живой души, кроме акул, чьи спинные плавники то и дело разрезали воду, и резвящихся на волнах дельфинов. Такое обстоятельство очень не нравилось молодому поколению – Уильяму и Элейне, которым хотелось новых впечатлений, и очень радовало капитана, да и старика-банкира тоже. Джон Ивлин выразился по этому поводу, что будет счастливейшим человеком в мире, если они дойдут до места, не увидев чужой парус на расстоянии ближе пяти миль. До сих пор его надежды, кажется, сбывались. Но сегодня, около пяти часов пополудни, они были сокрушены хриплым криком марсового с грот-мачты: – Человек за бортом!! И сейчас же последовала команда капитана: – Спустить шлюпку на воду!Глава 2 Могущество тени
Голландские Генеральные штаты. Амстердам
Несмотря на весну, в Амстердаме было все еще холодно. От каналов Званенбургвал и Ньиве-Херенграхт тянуло сыростью и затхлой вонью. В квартале Йоденбрестрат *["151], недалеко от новой португальской синагоги, где гнили самые большие свалки, на которых плодились самые крупные крысы, где бедные лавчонки соседствовали с домами богатейших пайщиков обеих индских компаний, в одном из неприметных домов под красной черепицей, чьи стены были покрыты белой штукатуркой, а выступающие наружу дубовые фахверки *["152]успели потрескаться от ветров и дождей, собралось небольшое, но крайне влиятельное общество. В доме раввина Соломона Оливейры собрался самый уважаемый миньян *["153]амстердамской общины сефардов, перебравшихся сюда подальше от испанской и португальской инквизиции. Они пришли сюда для того, чтобы после общей молитвы о благе всей общины обсудить самые насущные вопросы, напрямую затрагивающие интересы диаспоры и их братьев в Англии и Франции. Среди этих почтенных людей были и представители цеха алмазных гранильщиков, и купцы-пайщики Вест-Индской компании, и банкиры *["154], еще совсем недавно именовавшиеся менялами и ростовщиками и избравшие это самое ненавидимое и презираемое занятие своим ремеслом. И если бы кто-то из этих десяти людей умер, то оставшимся не пришлось бы долго кричать: «Нам нужен десятый для миньяна!», любой среди множества штиблах мечтал войти сюда. Причиной и неурочной молитвы, и тайного собрания послужил приезд из Лондона их уважаемого собрата, гранильщика алмазов и банкира Давида Малатеста Абрабанеля, который привез важные сведения, коими и собирался поделиться в этом закрытом кружке единомышленников. В неровном свете оплывающих свечей, словно сойдя с полотен Рембрандта, несколько немолодых мужчин, одетых в коричневые суконные кафтаны с белыми воротниками, склонились над дубовым столом, покрытым тяжелой скатертью темно-фиолетового бархата, расшитого пурпурными цветами. Драгоценные бокалы венецианского стекла с остатками рубиновой влаги были сдвинуты в сторону, на бело-голубой тарелке делфтского фарфора лежали нетронутые персики и апельсины, во мраке тонули мерцающие каплями росы свежие тюльпаны в серебряной вазе. Резкий контраст света и тени причудливо искажал лица собравшихся, превращая слабые морщины в глубокие складки, бороды – в черные пятна, кафтаны – в хитоны и ризы, а их тени на стенах – в призраков давно минувших времен. Они говорили тихо, ибо не толкуют законов о кровосмешении трем, но толкуют двум; не толкуют рассказа о сотворении мира двум, но толкуют одному, а Колесницу толкуют одному лишь в том случае, если он ученый и понимает по собственному разумению.И сколь странен был их язык – язык, в котором явлены лишь согласные, а гласные скрыты, язык, который берег себя как зеницу ока, превращая в плевелы чужие наречия и кощунствуя над их святынями; язык, на котором шепчутся с тех самых пор, как воскликнули на нем: «Распни Его!» Их головы покрывали круглые черные шапочки-кипы, их бороды, в этот век босых лиц, ложились на груди, а из-под их камзолов торчали шелковые кисти-цицит, напоминая о заповедях Торы и помогая преодолевать запрещенные страсти. – Итак, братья, я не могу умолчать о том, что король и консервативно настроенная часть знати сильно обеспокоены усилением нашего капитала и тем влиянием, которое приобретает наша компания в торговле с английскими, испанскими и французскими колониями по ту сторону обоих океанов. Карл Второй, венценосный недоумок, симпатизирующий католикам и живущий на подачки своего французского родственника, вполне способен прислушаться к иезуитам, этим бешеным лисицам Ватикана, и разрушить наши далеко идущие и с таким трудом построенные планы по созданию в Европе торгового и политического сообщества, которое мы бы держали в руках при помощи наших займов, наших министров и нашего книгопечатания. – Но, брат Давид, ты же помнишь, что войны, которые ведет этот жеребец, нам немножко на руку – ведь все королевские займы на их ведение как со стороны Нидерландов, так и со стороны Британии даем мы, – сказал самый молодой из присутствующих, Йосеф Зюсс по прозванию Оппенгеймер, знаток чисел и математики, чьи волосы еще не посеребрили годы, а глаза глядели живее, чем у других. – Зачем нам независимая Англия, если ее независимость будет куплена нашими деньгами? – спросил, воздев глаза к шкафу со свитками Торы, великий знаток «Шулхан Арух» Моше Каро, знавший наизусть законы молитвы и праздников, упражнявшийся денно и нощно в законах брака и развода, разбирающийся в еврейском гражданском праве и наставляющий в благотворительности, кашере и трефовом. – Хуже Франции для нас сегодня ничего нет. В Англии власть короля ограничил Парламент, и сынок, поломавшись, подписал «Хабеас Корпус Акт» на том самом месте, где срубили голову его папаше. Тем более они как никогда нуждаются в нас – их кедешот *["155]не на что покупать себе драгоценности. А во Франции есть Кольбер, и пока он жив, пока к нему прислушивается Луи, наши братья не доберутся до него. Там Церковь и иезуиты наложили руки на колониальную торговлю. Франция – вот наш истинный враг. – В погоне за врагами не стоит терять возможных друзей. Ибо нет человека, у которого не было бы своего часа.Небольшая война была бы нам на руку, но проклятый Карл ни за что не будет воевать с Людовиком. Он скорее нападет на Голландию. – Тише, тише, прекратите же этот гевалт, – Абрабанель взмахнул ручками и от волнения расстегнул с десяток пуговиц на камзоле. – Я же не успел рассказать вам самое главное. – Дайте же сказать нашему штадланим *["156], знающему нужды наших братьев и предстоящему за нас на острове, – сказал ребе, прикрыв морщинистые, пожелтевшие от размышлений веки и сложив перед собой руки, похожие на корни деревьев. Собрание с трудом успокоилось и вернулось в свои глубокие кресла. – Один из ювелиров, у которого заказывает свои драгоценности кедешоткороля Нелли Гвин, кое-что услышал об одной тайной экспедиции, которая должна была принести Карлу нужные ему деньги и укрепить позиции Англии в Новом Свете. Возглавил ее некто Рэли... – О, я помню этого Рэли. Это тот сынок своего папаши... – Да не, не тот. Тот сидит себе губернатором на Джерси и думает только о разведении свиней. Этот же – внук Уолтера Рэли, этого бродяги, который научил англичан сажать картофель и курить табак. Так вот, я привез из Лондона одну занятную вещицу, которую наша умная девочка Роза позаимствовала из спальни мисс Нелли... – Абрабанель вынул из кармана небольшой пакет и, не спеша развернув кусок телячьей кожи, извлек на свет небольшую книжку размером с ладонь. – Не бойтесь братья, это кашерно. Ребе осторожно придвинул ее к себе, и, откинув переплетную крышку, прочел вытесненные красным на титуле большие буквы: «Уолтер Рэли, капитан стражи Ее величества. Путешествие в Гвиану». – Что, мой мальчик, это такая ценная книжка? Или мы теперь будем ее печатать и торговать? – Да нет. Просто эта книжонка занимает сейчас самые великие умы Старого Света. Жаль только, что в ней не хватает самой малости – карты сокровищ, которую составил сэр Рэли, надеясь купить себе жизнь. Но Яков был редкий дурак, и сокровища остались лежать там и по сей день. Сейчас карта у незаконнорожденного внука капитана – Роджера Рэли, и мы должны найти его любой ценой. Скорее всего, искать придется где-нибудь в Новой Испании... – Вот и не надо оставлять их там больше! – вскричал Йосеф Зюсс и хлопнул по столу ладонью. – Нужно перехватить этого джентльмена и как следует спросить у него, может он скажет, где лежит золото? – Нам не нужно их золото, – тихо произнес Соломон Медина *["157]и дотронулся до цицитпальцами с очень коротко остриженными ногтями, – золото у нас есть, да и то, которого нет, притечет к нам, ибо подобное притягивает подобное.Нам нужно, чтобы наш добрый гой Вильгельм сидел бы на их троне и подписывал все бумаги, которые будет приносить к нему наш уважаемый штадланим.Кромвель вернул нам эту землю, на которой наших ног не было триста лет, и мы не уйдем с нее больше. Все посмотрели на ребе, и ребе Оливейра кивнул. – Значит, мы снарядим корабль, и наш брат Абрабанель поплывет туда. Он встретится с Ван Дер Фельдом, которого мы отправили искать испанское золото и разведывать новые земли. Заодно он передаст для общин Барбадоса, Ямайки и Кюрасао кое-чток будущей Песах и поговорит с тамошним губернатором, который взял у нас немножко чужого. – Да будет так, – кипы и бороды согласно кивнули. Ребе поднялся и, дотронувшись рукой до прикрепленной ко лбу черной коробочки- тфилин,произнес: – Шма исраэль, Ад-най Элокейну, Ад-най эхад. – Благословен Г-сподь наш Б-г, Царь вселенной, чьим словом все сотворено,– откликнулись остальные, и свечи, прогоревшие почти до основания, были задуты.Глава 3 Спасение потери превышает...
Атлантический океан
Это чрезвычайное происшествие вызвало на корабле переполох, собрав на палубе и отдыхавших матросов, и праздных пассажиров. Выскочил даже кок с дымящимся черпаком наперевес. Разумеется, прибежала и Элейна со своей камеристкой. В толпе Уильям вдруг оказался совсем близко к ней. Ощутив случайное прикосновение ее груди к своему плечу, он взглянул на нее с любовью и восхищением. Их глаза встретились, и они оба покраснели. Взгляды, это великое оружие добродетльного кокетства, удобны тем, что выразить ими можно даже больше, чем словами, а между тем от взгляда всегда можно отречься – его невозможно ни повторить,ни пересказать. Корабль тем временем ложился в дрейф. Одни матросы спешно подтягивали паруса, другие бросились к укрытым шлюпкам, готовя их к спуску на воду. В двух кабельтовых *["158]от корабля покачивался на волнах обломок мачты, к которому был привязан человек. Вскоре шестеро матросов, дружно взмахивая веслами, уже приближались к нему на корабельной шлюпке. От любопытства публика затаила дыхание. Когда матросы вплотную приблизились к несчастному, один из них нырнул в воду и, взобравшись на мачту, обрезал веревки, держащие тело. Бездыханного человека, с трудом перевалив за борт, уложили в лодку и погребли назад.Экипаж и пассажиры в нетерпении столпились на носу вокруг бесчувственного тела, которое матросы опустили на палубу. С первого взгляда невозможно было угадать – жив незнакомец или уже умер. Держаться на воде ему помогал обломок мачты, к которому он был привязан. Однако привязался ли он каким-то образом сам или же кто-то позаботился об этом раньше, оставалось неясно. Из одежды на несчастном была лишь порванная нижняя рубашка и грязные, потерявшие цвет кюлоты – все мокрое и заскорузлое от соли. Капитан приказал команде расступиться и пропустить вперед судового врача. Тот выступил из толпы и, опустившись на колени рядом со спасенным, попытался нащупать у него пульс, а затем просто приложил ухо к его груди. Потом, после беглого осмотра он извлек из-за пазухи мужчины небольшой кожаный мешочек, туго перевязанный шелковым шнурком. Свою находку доктор с видимым сожалением передал капитану и снова склонился над утопленником. – Он жив, но слишком слаб. Доктор несколько раз нажал ему на грудную клетку, затем раскрыл ему рот и сквозь носовой платок принялся вдыхать в легкие воздух. Затем быстро перевернул незнакомца на бок. Из его рта потекла мутная слизь. – Рому! – приказал доктор. Волшебное снадобье хранилось в кают-компании, и вскоре в руках эскулапа оказалась небольшая бутыль. Он приложил ее к посиневшим губам спасенного и силою влил в него пару глотков. Мужчина мотнул головой, дернул кадыком и застонал. – Унесите его в свободную каюту и положите на койку, – скомандовал доктор. Матросы переложили больного на кусок парусины и унесли. Элейна с испугом проводила их глазами. – Господин доктор, он будет жить? Он ранен? – На все воля Божия, – ответил врач и вытер руки платком. По его лицу в мелких бисеринках пота трудно было разобрать, была ли сия воля направлена к жизни пациента или к смерти. – Но все-таки? – Мужчина не ранен – всего лишь нахлебался соленой водички и обессилел. Ему нужен отдых, пресная вода и бульон. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство, мисс? – Доктор вскинул на девицу глаза и посмотрел на нее сквозь очки, с трудом держащиеся на носу. – Благодарю вас, – ответила Элейна спине эскулапа. – По моим наблюдениям, доктора в основном философы. – Уильям подошел поближе и, набравшись смелости, предложил ей руку. Девушка после минутного колебания оперлась на нее, и они вернулись к фальшборту. – Лекарям нельзя волноваться, – это вредит пациентам. Элейна улыбнулась. Из камбуза тянуло чем-то вкусным, солнце уже клонилось к закату, и неожиданно повеяло прохладой. Уильям вдруг преисполнился ощущением счастья и радости. Безмятежная гладь океана простиралась вокруг, и уже ничего не напоминало о той трагедии, свидетелями последнего акта которой они едва не стали. – Знаете, Элейна, мне кажется, люди живут именно для таких минут. Он посмотрел на нее, и взгляды их встретились. Непроизвольно он сжал ее пальцы и ощутил легкое пожатие в ответ. В следующую секунду она высвободила руку и, сославшись на усталость, ушла. Уильям восторженно глядел ей вслед.
Каюта, куда отнесли незнакомца, оказалась как раз напротив каюты Харта. Дверь в нее была распахнута, и прямо на краю койки рядом с больным восседал доктор. Уильям, поколебавшись, протиснулся внутрь и предложил свою помощь. В проеме уже толпились мучимые любопытством матросы. Неизвестно, удалось ли доктору еще как-то повлиять на самочувствие спасенного, но, видя, что тот никак не придет в себя, он после некоторого раздумья применил к своему пациенту второе простое, но испытанное средство, то есть хорошенько отхлестал его по щекам, приведя тем самым, к удовольствию экипажа, несчастного в чувство. Оживший утопленник пошевелился, раскрыл мутные глаза и огляделся, встретившись взглядом с Уильямом. Запекшиеся губы дрогнули, и какой-то странный полушепот сорвался с уст мужчины. – Пить просит! – авторитетно сказал кок, который бросил обед на помощника и отирался у двери. Но Уильям, находившийся совсем близко, отчетливо слышал, что незнакомец ни слова не сказал о воде. А сказал он совсем другое, и это сказанное было так необычно, что Уильям сначала даже не поверил своим ушам. – Спасение потери превышает... К удивлению Харта, мужчина сопроводил свои слова слабой и несколько болезненной усмешкой, как бы подтрунивая сам над собой. Сомнений не было, едва придя в себя, этот странный человек цитировал Шекспира! Было время, Уильям сильно увлекался сочинениями своего прославленного тезки и видел многие его пьесы. Однако он не умел с такой легкостью вплетать слова поэта в свои рассуждения, и уж вряд ли бы он вспомнил о них, когда бы его, полуживого, извлекли из пучины. Нет, безо всяких сомнений, спасенный был незаурядной личностью!
Оказавшись в каюте, Уильям смог в подробностях рассмотреть нечаянного гостя, посланного им морской стихией, пока тот снова провалился в забытье, откинувшись на тюфяке. Испорченную одежду с него уже сняли, так что он лежал обнаженный, прикрытый лишь по пояс вышитым атласным одеялом, которое наверняка одолжила ему мисс Элейна. На вид мужчине можно было дать лет тридцать, он был худощавого телосложения, но с хорошо развитой мускулатурой. На лице его, покрытом бронзовым загаром, выделялся крупный нос с горбинкой, отчего в профиль он напоминал хищную птицу. Был он черноволос, и мокрые волосы его были туго стянуты на затылке в косичку. С удивлением Харт отметил, что мочка его правого уха была проткнута, как если бы незнакомец носил серьгу. Широкие сильные плечи и безупречный рельеф груди выдавали в нем опытного фехтовальщика, тело украшало несколько глубоких шрамов. На шее его, на шнуре, сплетенном из черных волос, болтался оловянный крестик с дюйм величиной, необычной квадратной формы, с лучами, расширявшимися от центра. Уильям уже видел такие кресты раньше, на кладбище в Корнуэлле. Они были выточены из камня и почти раскрошились под действием мха и непогоды. Вскоре Уильям услышал брань капитана, ругающего матросов за безделье. Он обнаружил, что доктор незаметно исчез, а он в одиночестве остался рядом с тяжело дышавшим мужчиной. На висках и лбу его выступил пот, грудь тяжело вздымалась, из горла рвался хрип. Уильям сходил к себе, взял подушку, платок и флягу с водой и вернулся обратно. До самого обеда он просидел рядом с незнакомцем, вытирая ему пот и освежая губы и лицо водой. Вдруг мужчина громко застонал, почти закричал, замотал головой, словно отгоняя от себя какое-то страшное видение. – Ведьма, белая ведьма, – прохрипел он. Харт приподнял ему голову, ощутив, каким жаром от нее веет, и влил ему в рот немного воды. Мужчина с жадностью выпил ее и открыл глаза. – Это она во всем виновата, – произнес он. – Эта проклятая ведьма. Она стала морской ведьмой, понимаешь? – Конечно, конечно, понимаю, – пробормотал в ответ Харт и аккуратно подправил свою подушку под головой незнакомца. – Вам надо спать. Я вскоре загляну еще, а пока спите. Вы здесь в безопасности. За обедом Харт ни словом не обмолвился о бреде незнакомца и вообще не стал поддерживать разговор на эту тему, хотя его так и распирало любопытство. Ближе к ночи незнакомец пришел в себя и попытался подняться. Харт услышал грохот и, поспешив в соседнюю каюту, застал незнакомца лежащим на полу – точь-в-точь как и он сам в начале плавания. Харт помог ему подняться и уложил обратно на койку, заботливо прикрыв одеялом. – Поскольку нас некому представить, позвольте мне назвать себя самому, – вдруг просипел незнакомец и закашлялся. – Меня зовут Фрэнсис, сэр Фрэнсис Кроуфорд. Я должен поблагодарить вас за ваше участие. – Уильям Харт, эсквайр, сэр. Я рад, что мне удалось хоть в чем-то помочь вам. Слава богу, что наш корабль не лег на другой галс и нам удалось спасти вас. – Путяки, – просипел сэр Фрэнсис и зашелся в новом приступе кашля. – Похоже, моя глотка здорово пересохла. Нет ли у вас чего-нибудь пользительного для нее, например рома или виски... Харт улыбнулся. – У меня есть немного джина, я везу его аж из Англии. Сейчас принесу. Харт был искренне рад, что сэр Фрэнсис пришел в себя. Ему отчего-то сразу понравился этот странный человек с черными глазами, в которых таились искры безумия. Было в нем что-то авантюрное, то самое, ради чего Уильям сбежал из дома. И в нем совсем не была заметна торговая жилка, от которой Уильям уже малость подустал, общаясь со своими спутниками. Уильям вытащил из своего сундучка серебряный стаканчик и небольшую бутыль, тщательно обернутую в тряпицу, затем быстро вернулся в каюту сэра Фрэнсиса и плотно запер за собой дверь. – Видите ли, сэр Фрэнсис, несмотря на то что по уставу наш капитан должен выдавать матросам каждый день полпинты рома на человека, сэр Джон Ивлин совсем не выносит пьющих людей. И у меня всего один стакан. – А кто любит пьющих, когда сам не пьет? – Кроуфорд поскреб подбородок с отросшей щетиной. – Но стакан – это здорово, я не брезглив. И можете звать меня просто Фрэнсис, тем более мы с вами уже пьем из одной посудины. Они по очереди выпили и с интересом уставились друг на друга. Уильям Харт, не будучи матросом, пил джин, кажется, второй раз в своей жизни. Первый раз был не совсем удачен. Кроуфорд же опрокинул в себя огненную влагу с легкостью пьяницы, и лишь в глазах его заплескалось еще больше странных огней. В общем, бутылку они прикончили за час, громким шепотом обсудили свинячью голландскую лохань, которая еле тащилась по соленой луже, и так же шепотом со слов сэра Фрэнсиса затянули пиратскую песню:
На третий день, благодаря то ли пощечинам доктора, то ли рому Харта, то ли улыбкам зачастившей к больному камеристки, незнакомец вполне оправился, поднялся с койки и, будучи переодет в столь же любезно предоставленное тем же Хансеном платье, явился перед обществом весьма интересным мужчиной с прекрасными манерами и даже с намеками на несомненный аристократизм. – Да, дорогой Якоб, если бы человек мог предвидеть свое будущее, вы, несомненно, захватили бы с пяток лишних костюмов, – заметил Абрабанель вполголоса, впервые увидев незнакомца на палубе после того, как его вытащили из воды. Кроуфорд, как и Харт, щеголял по палубе, демонстрируя свои собственные тронутые кое-где сединой волосы, но эта деталь почему-то лишь подчеркивала великолепную манеру держаться и необычайную уверенность, сквозившую в жестах и словах этого странного человека. Толком ничего не зная о Кроуфорде, Уильям уже восхищался им, хотя к восхищению примешивалась и толика ревности при виде внимания, которого тот удостоился у прекрасной Элейны. Ее женская натура не могла не ощущать тех чар, которые исходили от мужественного, да вдобавок столь великолепно воспитанного аристократа. Любая его поза сделала бы честь гостиной м-ль де Монпасье, а речь – литературному салону мадам де Лафайет. Элейн, никогда не бывавшая при дворе и не принятая в аристократических домах, как губка впитывала его болтовню, а его остроты не раз заставляли ее восхищаться его знанием человеческой природы и ее пороков. Сэр Фрэнсис Кроуфорд к тому же оказался превосходным биографом. Свою печальную историю он поведал на общем обеде, который устроил господин Абрабанель в честь счастливого избавления Кроуфорда от неминуемой гибели. Оказалось, что знатный англичанин стал жертвой пиратов. Рассказ его был полон драматизма и звучал как предупреждение. – Мы вышли на «Утренней звезде» с Ямайки и следовали в Кадикс, – поведал он за общим столом. – До Барбадоса нас провожали два военных линейных корабля. Но потом, по не зависящим от нас причинам, нам пришлось расстаться и продолжать путь в одиночестве на свой страх и риск. Это было не совсем разумное решение, но, по-видимому, наш капитан был большой фаталист. Он решил во всем положиться на судьбу, забыв, что «судьба с злодеями в союзе». Одним словом, когда Наветренные острова растаяли у нас за кормой, на горизонте объявился парус. По прошествии некоторого времени стало ясно, что неизвестный корабль идет нам наперерез, и идет, как говорится, на всех парусах. Наш капитан, предчувствуя недоброе, лег в дрейф, желая пропустить подозрительное судно мимо. Но оно направлялось прямо к нам! Й уже совсем скоро все мы с ужасом увидели на его фок-мачте пиратский флаг! Разумеется, у нас на борту находились мужчины, которые были готовы сражаться. Но наш капитан оказался не только неблагоразумен, но еще и трусоват. Он решил положиться на милость морских разбойников и сдать судно. Наверное, по-своему он был прав. «Утренняя звезда» была перегружена и плохо слушалась руля, команда тоже оставляла желать лучшего, а храбрецов, которые носили с собой оружие, вообще набралось не более десятка. Вероятно, мы в любом случае не могли бы оказать достойного сопротивления Черному Биллу, но, по крайней мере, мы бы могли встретить смерть, не позоря своей чести, как и полагается мужчинам! В этих словах Харту, ближе всех знакомому с сэром Фрэнсисом и богатством его интонаций, послышалась легкая ирония, но Элейна, не сводившая глаз с Кроуфорда, невольно ахнула, а капитан, нахмурившись, тревожно переспросил: – Вы имели несчастье встретить Черного Билла?! Что и говорить, не повезло! Ходят слухи, что от этого негодяя немногие уходили живыми. Но вы-то, похоже, родились под счастливой звездой, сэр! Кроуфорд посмотрел на него, потом обвел взглядом всех присутствующих и произнес: – Не в звездах, нет, а в нас самих ищи причину, что ничтожны мы и слабы!.. Однако, заметив недоуменные мины, с которыми отреагировали на Шекспира капитан, торговый агент и Абрабанель, он тут же легко рассмеялся и махнул рукой. – Полагаю, что звезды сделали свое дело! – согласился он. – Но мне бы хотелось поблагодарить вас, господа! Если бы не ваш корабль и не зоркие глаза вашего марсового... – Э-э, да что там говорить! – тоном старого брюзги проговорил капитан. – Мы сделали то, что должны были сделать, сэр! Однако не могли бы вы точно назвать место, где на вас напал проклятый пират? Не хотелось бы повторить ошибку вашего капитана. Кстати, что с ним сталось? – Увы! Он уже давно беседует с ангелами! – с неуловимой усмешкой в голосе ответил Кроуфорд. – Черный Билл был в тот день особенно не в духе. Дело в том, что «Утренняя звезда» шла с грузом сандала и какао, и более ничего ценного на ней не было. Черный Билл не любитель возиться со сбытом добычи. Он пришел в неистовство и приказал затопить наш корабль. Но предварительно, по своему обыкновению, он повесил всех офицеров и заставил всех женщин прогуляться по доске. Да-да, это чудовище не пощадило ни одной! Знаете, его credo можно выразить достопримечательными словами из морского устава норвежского короля: «Для женщин и свиней доступ на корабль запрещен; если же они будут обнаружены на корабле, незамедлительно следует выбросить оных за борт». Он и на этот раз не отступил от своих правил... Прошу прощения, что не пощадил ваших чувств, милая мадемуазель Элейна, но таковы здешние законы. Отправляясь сюда, вы должны были знать, на какой риск себя обрекаете! «О, она для него уже милая! – с отчаяньем подумал Уильям. – И шпарит Шекспира как по писаному! Чертов щеголь! И как она на него смотрит... Плохи мои дела, а я самый несчастный человек на земле. Конечно, что ей за дело до меня – я ведь всего лишь малозаметная фигура в деловой свите ее влиятельного батюшки. Вот если бы нам пришлось встретиться с этим Черным Биллом, и тогда я...» Рука Уильяма невольно потянулась к рукоятке шпаги, но тут же замерла, потому что он вспомнил, что оставил оружие в каюте. Он вспыхнул и быстро посмотрел вокруг, не заметил ли кто-нибудь его замешательства. Но всеобщее внимание было обращено по-прежнему на Кроуфорда, который продолжал свой рассказ. – Вы спрашиваете меня, где это произошло, – обратился он к капитану. – Увы! Я не силен в навигации. Откровенно говоря, я вообще лишен каких-либо талантов, а имеющиеся так глубоко зарыты, что и... За что только я не принимался в жизни, и все кончалось полным фиаско! К счастью, я располагаю солидным состоянием, которое позволяет мне как-то примиряться со своей жалкой участью. А в море меня потянула непоседливость моей натуры. В какой-то момент мне показалось, что в далеких краях мне улыбнется удача. Отчасти так и произошло, поскольку я не стал пищей для рыб, а, наоборот, сам вкушаю дары моря, пью великолепное вино и наслаждаюсь столь изысканным обществом. Должен сказать, что, глядя на красоту и изящество м-ль Элейны, я даже начинаю испытывать благодарность к своему чумазому мучителю. Если бы не он, я не имел бы возможности выразить своего восхищения перед ее умом и грацией... – Эти слова были сопровождены изящным полупоклоном в сторону девушки, отчего та слегка зарделась и смущенно опустила глаза, а ее отец закашлялся и нетерпеливо сказал: – Э-э-э, все это прекрасно, сэр, но в ваши годы человек уже должен крепко стоять на ногах и думать о своем предназначении, а не о пустяках, о которых простительно думать зеленому юнцу. Вы простите мне мой тон, сэр, но мы, старики, лучше разбираемся в таких вещах. И когда я вижу, что способный и сильный мужчина плывет по воле волн, вместо того чтобы взять в руки свою судьбу... Не откажите в маленькой услуге – загляните ко мне в каюту после обеда. У меня найдется бутылочка славного портвейна. Мы выпьем по стаканчику и поговорим о том, что может сделать в этих краях человек с головой и средствами... Уильям видел, как Хансен слегка улыбнулся, опустив голову над тарелкой. Его явно забавляло желание Абрабанеля, отчаянно скучавшего без дел во время длительного плавания, немедленно втянуть в круг своих коммерческих операций свежего и не слишком искушенного в таких делах человека. Замечание Кроуфорда об имеющемся у него состоянии подстегнуло банкира. Кроуфорд не возражал против беседы. Он почтительно наклонил голову, а потом встал. – Прошу меня извинить, но мне хотелось бы как можно скорее переговорить с доктором. Кажется, он был первым, кто осматривал мое бренное тело? Со мной была некая вещица, сопровождающая меня во всех странствиях. Было бы весьма прискорбно, если бы она потерялась. Капитан невозмутимо оторвался от супа из акульих плавников и утер губы салфеткой. – Ваш кошель у меня, – сказал он и встал тоже, поклонившись в сторону Элейны. – С ним ничего не случилось. По крайней мере, внешних повреждений на нем не было. Внутрь я, разумеется, не заглядывал. – Что это, неужели талисман?! – оживилась Элейна. – Это так интересно! – В тех краях, куда мы теперь с вами плывем, мисс Абрабанель, человеческая жизнь зачастую зависит от магов и жрецов, которые отчего-то выбирают для поклонения самых кровожадных и омерзительных идолов. Из этого я делаю вывод, что человек по природе в свободных обстоятельствах гораздо более склонен к жестокости, чем полагает даже ваш бедный Спиноза. Не просвещенный христианством дикарь, как и утративший христианство европеец, одинаковы в своей звериной жестокости и страстях. – Нет, но... – попытался возразить отчего-то задетый за живое Якоб. – Вспомните недавнее дело колдуньи Вуазьен и госпожи де Монтеспан, которое наделало так много шума в свете. Фортуна забросила эту своенравную женщину на самый верх придворного Олимпа, и как легко она в погоне за милостями короля скатилась на отвратительное дно убийства и неприкрытого служения сатане. – Вы говорите о черных мессах? Ходят слухи, что она приносила в жертву младенцев, чтобы продлить молодость и сохранить красоту! – Мадумуазель, это не только слухи... – Кроуфорд грустно улыбнулся. – Ну так вот, амулеты и заговоры очень в ходу у нас на островах. Уильям невольно отметил это «у нас», несколько противное тому впечатлению легкомысленного аристократа, которое пытался произвести на слушателей их новый знакомый. – Индейцы, не принявшие христианства, да черные рабы, завезенные с Африканского континента, пребывают во мраке язычества, предпочитая общаться с падшими духами и справлять свои кровавые ритуалы. Но мое скромное имущество не имеет ничего общего с этими темными верованиями. Это всего лишь лекарственные порошки да колода карт, с которой Бог весть отчего я не могу расстаться. – Вы игрок? – банкир метнул на Кроуфорда быстрый взгляд. – В игре я невезуч. О нет, я нарушаю совсем иную заповедь Иеговы, – рассмеялся Кроуфорд и посмотрел на Абрабанеля с издевкой. – Я, знаете ли, скорее гадатель. Хансен вздрогнул и незаметно окинул фигуру Кроуфорда таким взглядом, словно увидел его в первый раз. Несмотря на весьма практичный ум, а, может быть, и благодаря ему, Абрабанель был весьма склонен к суевериям, ведь чем больше душа человека отходит от искренней веры в Бога, тем больше она подпадает под власть страхов и суеверий. Абрабанель верил колдунам, астрологам, чародеям и прочим представителем халдейской мудрости, к которой со времен вавилонского пленения так или иначе тяготели души избранного народа. Якоб знал о склонности своего хозяина и опасался, что тот подпадет под очарование очередного шарлатана. И, вправду, глаза коадъютора зажглись любопытством. Он уже было собрался что-то сказать, как его перебила собственная дочь. – Наша вера велит нам не общаться с гадателями, – произнесла Элейна и улыбнулась. – Ваша?– еще раз с иронией переспросил Кроуфорд, несколько переступая границы дозволенного. – Да, моя,лютеранская вера, – с нажимом ответила Элейна и уже без всякого смеха посмотрела ему в глаза. – О, простите, мадемуазель, я не хотел оскорбить ничьих религиозных чувств. Просто я сам – католик, и мне хотелось лишь внести ясность, кого благодарить за свое спасение. – Вы – католик? – удивился в свою очередь Харт. – Я, представьте себе, тоже, невзирая на то, что англикане захватили духовную власть в нашем Отечестве. Я, знаете ли, не был готов поменять десять заповедей на «Тридцать девять статей» *["159]. – Как я вас понимаю! Шутка ли – сократить список разрешенных шалостей еще на 29 пунктов! Да еще лишиться причастия! Решительно не понимаю, для чего у англикан Христос приходил на землю?! – Видимо, чтобы прочесть нам мораль в духе «Законов против роскоши»! – рассмеялся Харт и посмотрел на Элеину. Но та опустила голову, и лишь по легкой складке между бровями было видно, что разговор этот наводит ее на мучительные раздумья. – Я надеюсь, что наши взгляды не помешают нашей дружбе, – осторожно заметил Абрабанель. – О нет, конечно. Сегодня религиозные взгляды вообще почти никому не мешают, особенно в делах, – невинно заметил Кроуфорд, и на его лице просияла улыбка порядочного человека. – Если только не брать в расчет проблемы гугенотов и колониальную политику. – Но все же, как вы, католик, можете увлекаться гаданием? – Элейна снова повернула разговор в интересующее ее русло. – Да, тем более вы нам сами ранее сказали, что глупо надеяться на звезды! – заметил банкир, поднимаясь из-за стола. – В каком же случае вы покривили душой, сэр? – Боюсь, что я и сам этого не знаю! – небрежно обронил Кроуфорд. – Душа человека что бездна. Только Творцу под силу разобраться в том, что Он там натворил. Пожалуй, когда меня взвесят и найдут слишком легким... – Ну, уж это чересчур мудрено! – усмехнулся Абрабанель. – Эти софизмы оставьте для модных салонов, а у меня к вам деловой разговор, не забудьте! – Я не буду испытывать ваше терпение, – с видом полнейшей серьезности ответил Кроуфорд. – Вот только заберу кошелек. Он придаст мне весу, когда вы возьмете меня в оборот. Более уже к этому разговору не возвращались. За десертом Кроуфорд развлекал их милой болтовней и сплетнями о нравах обитателей Нового Света. Уильям вернулся к себе в каюту в смятенных чувствах. Его неудержимо влекло к Кроуфорду со всеми его странностями и противоречиями. Он знал этого человека всего три дня, но если бы тот позвал его за собой, Харт не стал бы долго раздумывать. И он чувствовал, что тот сам испытывает к Харту что-то вроде симпатии. Сам Харт, имея двух старших братьев, никогда не испытывал к ним ничего подобного. Только дядя моряк, да и один мальчик, с которым они делили соседние кровати в дортуаре, вызывали в нем подобные чувства. С тем мальчиком они даже дружили, вместе совершая набеги на фермерские огороды и убегая из спальни по ночам. Но друг погиб жестокой и нелепой смертью – упав с лошади, он зацепился ногой за стремя, и лошадь раздробила ему голову о камни на пустоши. Тогда Уильям впервые увидел кровь, и, лежа ночами, он все вспоминал то их совместные проделки, то забрызганный кровью вереск рядом с бездыханным телом его друга. Теперь Уильям увидел в Кроуфорде воплощение своих представлений о настоящем джентльмене. Хотя, на первый взгляд, ничем особенным он себя не проявил, а, наоборот, постоянно оказывался перед публикой в роли жертвы – жертвы судьбы, пиратов, океана. Но и эту неблагодарную роль он играл с таким блеском, будто сам являлся и драматургом всех своих невзгод, и их исполнителем. Даже обычный кожаный кошелек, снятый с его пояса, и тот хранил в себе какую-то тайну. Давид Абрабанель сразу понял, что перед ним человек незаурядный, и отнесся к нему с большим вниманием и уважением. И Якоб Хансен, которого нельзя было назвать зеленым юнцом, и тот насторожился, как пес, почуявший волка. Уильям осознавал, что невольно завидует Кроуфорду и к зависти этой примешивается и некоторая толика ревности. В глубине души ему хотелось немедленно сделать что-нибудь выдающееся, из-за чего всеобщее внимание обратится на его, Уильяма, персону. Но что он может совершить, Уильям не представлял. Разве что его тезка Черный Билл решит атаковать «Голову Медузы», и вот тут уж Уильяму будет где развернуться! Представляя себе схватку, Уильям даже схватился за свою шпагу, которую до сих пор ему ни разу в жизни не приходилось пускать в ход, но тесное пространство каюты не позволило ему изобразить великолепное туше, которому его обучил учитель фехтования, нищий французский шевалье, живший в усадьбе Хартов на правах дальнего родственника. Француз по имени де Фуа утверждал, что у себя в Гаскони являлся фехтовальщиком далеко не из худших, и обучал Уильяма своему искусству с торжественной серьезностью, уверяя его, что непременно сделает из Уильяма виртуоза шпаги, опасного и неуязвимого. Уильяму очень хотелось в это верить, но до сих пор ему ни разу не приходилось, проверять свои способности в деле. Он даже шпагу из ножен не вынимал с тех пор, как покинул университетский зал для фехтования. Тем более было бессмысленно махать ею в тесной каюте. Охладив свой пыл, Уильям спрятал оружие и окончательно впал в уныние. Он боялся признаться в этом самому себе, но в глубине души он здорово побаивался нападения пиратов. Судьба «Утренней звезды» слишком красноречиво свидетельствовала о том, чем кончаются подобные авантюры. Когда желтое, похожее на диск для метания, солнце повисло над самым краем океана, пронизав золотым светом воздух и превратив бесконечную водную гладь в струящуюся огненную лаву, тускло вспыхивающую багряными сполохами, сэр Френсис Кроуфорд постучался в каюту Уильяма и в весьма учтивых выражениях пригласил того поучаствовать в небольшой пирушке, которую он устраивает in favorem для своих новых друзей. Здесь выяснилась приятная подробность – оказывается, в заветном мешочке у Кроуфорда, кроме поэтических лечебных порошков и карт, хранилось несколько вполне прозаических золотых монет. И этими монетами Кроуфорд заплатил за портвейн, которым намеревался отблагодарить Харта за недавнюю жертву. Скуповатый и не слишком расположенный к кутежам капитан не моргнув глазом взял у Кроуфорда деньги и расщедрился на несколько пыльных бутылок, которые и намеревался распить со своим юным другом спасенный английский дворянин. Расположиться они решили на юте, куда по просьбе Кроуфорда вынесли из кают-компании карточный столик и несколько кресел. Правда, ни банкир Абрабанель, ни его дочь не собирались любоваться закатом вместе с ними, а капитан лишь пригубил стаканчик и сразу же удалился на мостик, сославшись на неотложные дела. Было ясно, что особой симпатии к своему соотечественнику Джон Ивлин не испытывает. Было ли тому виной их разное вероисповедание или легкомысленная болтовня Кроуфорда – кто знает. Все это шепотом поведал Уильяму Хансен, улучив момент, когда Кроуфорда не было поблизости. Все это было изложено тоном, который не оставлял сомнений в том, что торговый агент также испытывает уколы самолюбия по отношению к англичанину. Уильям без труда уловил зависть, звучавшую в словах Хансена: легко опознать симптомы болезни, от которой страдаешь сам. Похоже, помощник Абрабанеля сообразил, что с вторжением в их общество Кроуфорда персона Хансена сильно потускнела, несмотря на то что Кроуфорд блистал в его костюмах. Антипатия торгового агента выразилась в том, что он также не стал засиживаться за столом и, принеся всевозможные извинения, довольно скоро откланялся. Таким образом, Уильям остался с Кроуфордом «tete а tete». Несмотря на почти случайную близость, возникшую между ними в прошедшие дни, Харт чувствовал себя не в своей тарелке, поскольку решительно не знал, в какой манере ему следует общаться с Кроуфордом, который, подобно хамелеону, менял настроение и тон. Сам Кроуфорд, вероятно, догадался о затруднениях юноши, посему и обратился к нему с необыкновенной простотой. – Скажите, Харт, – начал он, глядя сквозь бокал зеленоватого стекла на последние лучи заходящего солнца, – вы верите в дружбу между двумя совершенно разными людьми? Уильям пожал плечами и также устремил взгляд в бокал. – Как вам сказать, сэр Фрэнсис? Если говорить абстракциями, то дружба обычно является плодом общих дел и устремлений. Ведь дружат лишь те, кто мечтает об одном и том же. А в жизни, насколько я могу судить, дружбой обычно называют разделяемые с кем-то пристрастья, причем не высокого пошиба. – Ого, юноша, да вы циник! Впрочем, Уильям, давайте условимся, что вы будете звать меня просто Фрэнсис. Хотя я и немного старше вас, мы с вами по сути занимаем одну ступень на общественной лестнице – мы оба дворяне, оба без чинов, оба не состоим при дворе и даже оба католики, что вообще меня радует – протестанты не чувствуют вкуса ни одной вещи. Пьют кислое пиво, едят чертову брюкву и фасоль, от которой по ночам снятся кошмары, а одеваются как писцы в прокурорской конторе... Сэр Фрэнсис сделал смачный глоток. – На мой взгляд, человечество вообще маловнимания уделяет своей печени, – вдруг сказал он. – Вы знаете, что в половине случаев ваша хандра и раздражительность объясняются тем, что вы перегрузили свою печень. Как толкует Ибн-Сина и вторит ему Кабуснаме, в печени обретается животная душа человека, хотя мне кажется, что для многих она заменила и сердце. Так что не хандрите, Уильям. Увы, мою печень давно уже не тревожат прекрасные девицы. – Кроуфорд рассмеялся и хлопнул Уильяма по плечу. – Кстати, позвольте полюбопытствовать, вы тори или виг? Уильям смешался, поскольку его политические взгляды были весьма неопределенны. Надо сказать, что со времен парламентских выборов 1679 года в Англии оформились две первые политические партии: тори и виги. К тори относили себя сторонники прав короля, симпатизировавшие католикам, то есть те, кого обычно называли роялистами. По-другому их еще называли консерваторами. Виги же отстаивали интересы буржуазии, которая предпочитала протестантскую веру и исповедовала крайний национализм, будучи либералами на деле. – Скорее всего, я тори, как, мне кажется, и вы, – неуверенно ответил Харт. – Браво, Уильям! Вы – консерватор! А я-то предполагал, что вам не чужд либерализм, – вы ведь любите деньги и якшаетесь с жидовским толстосумом! Впрочем, вы угадали – еще одно сходство между нами. Следуя вашей теории, мы должны стать друзьями! В конце концов, мы гораздо более похожи на ирландских разбойников-«папистов», собирающих дань с протестантских кошельков, чем на этих угрюмых стяжателей, чьи бледные щеки и гнусавые голоса способны отбить охоту к жизни... Отчего вы не пьете? В ответ Харт до дна осушил бокал и почувствовал, как мир обрел краски. Но сам Кроуфорд вдруг отставил бокал в сторону и извлек из кармана миниатюрную шкатулку. Нажав на какую-то секретную пружину, он осторожно открыл ее и ногтем мизинца зачерпнул из нее немного белого порошка. Поднеся его к одной ноздре, он глубоко вздохнул и на несколько секунд поднял голову кверху. Затем он проделал ту же операцию и со второй ноздрей, после чего откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. – Это ваше таинственное лекарство? – О да, и я не советую вам употреблять его. Помните лотофагов? «Лишь только поели его мои спутники, как забыли свою родину и не пожелали возвращаться на родную Итаку...» Страшитесь всего, что подчиняет вас, Харт! Слава, карты, женщины – мы полагаем, что все в мире создано для нашего удовольствия. Но кто кому служит, Харт, тот тому и раб. Он шумно втянул носом воздух и продолжил: – Вот вы, юный, свободный, храбрый – ради чего вы здесь?^ – Смуглое лицо Кроуфорда вдруг обрело еще большую резкость и выразительность, глаза вспыхнули памятным черным огнем. – Вы раб своих мифических сокровищ, Харт. Вы могли бы послужить своему Отечеству, избрав любое благородное поприще, ведь вы – дворянин! А вместо этого вы плывете с парой негодяев в колонии, откуда бегут даже каторжники. Какой червь подточил вашу душу? Что вам надо? Денег? Славы? Женщин? Уильям несколько опешил от такого наскока, но Кроуфорду он не мог не ответить. – Мне уготовили участь сельского пастора, но я не мог с ней смириться. С ранних лет я мечтал своими глазами увидеть другой мир, вдохнуть его запахи, ступить на его землю. Да, я молод, и я не хочу умереть в кровати от несварения желудка. Я хочу жить, Фрэнсис, жить, а не прозябать! Почему я должен отказаться от своей мечты? Я или свершу все, что задумал, или умру – но я буду жить, как я хочу! Кроуфорд слушал юношу, опустив голову. На лицо ему упали волосы, отчего Уильям не мог разобрать его выражения. В руке его снова был полный бокал, который он не торопился осушать. – Вы дурак, сэр Уильям Харт. Слова эти были так неожиданны, что Харт опешил и даже не нашелся как ответить. – Впрочем, я не оскорбляю вас, и вы можете забыть, что я сказал. Господи! – Кроуфорд вдруг поднял голову к небу, на котором медленно проступали звезды. – Господи, зачем? Уильяму вдруг стало смешно. Он услышал, как капитан отдает с мостика приказания, как хриплыми голосами перекликаются вахтенные, как волны с глухим плеском ударяют в борта корабля. Ровный ветерок наполнял паруса над его головой, тихо поскрипывали уставшие за день снасти. Пахло водой и чем-то непередаваемым, что раз услышав, уже никогда невозможно ни забыть, ни спутать, хоть сто лет просиди на берегу. – Этот порошок индейские жрецы добывают из листьев одного растения, – вдруг сказал Кроуфорд. – Они говорят, что ой помогает им «видеть». Вот именно! Я тоже не сразу понял, что это означает. Понять это можно, только попробовав это проклятое зелье. Пожалуй, добрый христианин отшатнется от такого угощения, как черт от ладана, но мы-то ведь с вами другого поля ягода, не правда ли, Уильям? Кроуфорд впервые за вечер посмотрел Харту в глаза. – Ведь мы с вами ищем чего-то такого, чему нет названия, верно? Как будто бы в моем ничто есть нечто и буду им я скоро обладать. Я знаю лишь, что ждет меня страданье, хотя не знаю для него названья...– голос его стал мягок и глубок, и Харт подумал, что будь он женщиной, он бы не смог устоять перед подобными декламациями. Солнце село – будто провалилось. Небо сделалось бархатно-синего цвета, и на нем высыпали звезды, огромные и сверкающие, как бриллианты самой чистой воды. Поверхность моря покрылась мерцающей серебристой пылью. Внезапный порыв ветра настиг флейт, и на бизань-мачте с громким шлепком расправился треугольный парус. – Итак, вы покинули родимый дом, дорогой Уильям! – словно продолжая прерванный разговор, произнес Кроуфорд. – Презрели и устремились, так сказать. Уильям был рад тому, что ночная тьма не позволяет рассмотреть выражения его лица. Может быть, еще и поэтому он вдруг заговорил – заговорил сбивчиво и откровенно, поведав коротенькую историю своей недолгой жизни, поведав о своих смутных надеждах и мечтах, которые ему самому были еще не очень понятны. На этот раз Кроуфорд выслушал его не перебивая. – Наверное, в ваши годы и я испытывал что-то подобное, не помню, – он усмехнулся, но Харт уловил в этой усмешке неожиданную горечь. – Когда-то я тоже плыл на корабле, ветер надувал паруса, и душа моя была полна ярости и надежд... Кроуфорд говорил сбивчиво, перескакивая с темы на тему, но Уильям уже достаточно набрался портвейна, чтобы это не замечать. Они подошли к фальшборту и, взявшись за планшир, уставились вниз, где в непроницаемом мраке слышался плеск волн. Корабль уверенно шел к намеченной цели. – Океан полон таинственной, неведомой нам жизни, а там, в черной воде, ниже ватерлинии, в чудовищной толще вод, кто знает, что творится там, Харт! Ни один не вернулся обратно, ни один, кто там побывал, потому что они все мертвы! Голос его сорвался, а у Уильяма мороз прошел по коже. – Хотя нет, мертвецы возвращаются, – теперь Кроуфорд говорил ровным глухим голосом, словно обращаясь самому себе. – Возвращаются, чтобы сказать нам о беде, которую все равно нельзя отвести... Так послушайте, что на самом деле случилось в тот день, когда на нас напал Черный Пастор. Он мастер читать проповеди, этот мерзавец! Перед тем как убить своих жертв, он еще кощунствует над их верой. Я видел это, и это было так же ужасно, как... Его голос опять сорвался, словно он перестал владеть собой. Это было так странно, что Уильям, напрягая зрение, попытался рассмотреть в полутьме его лицо. Ему показалось, что фигура Кроуфорда излучает едва заметное красноватое сияние, точно тлеющий фитиль. Уильям тряхнул головой, и наваждение исчезло. – Незадолго перед тем, как Черный Билл возник у нас на траверсе, – вполголоса продолжил Кроуфорд, – я стоял на полубаке и смотрел на море. Сверкало солнце. Ветер раздувал паруса. Вдруг перед самым носом корабля, прямо на воде я увидел женщину... – Женщину?! – Она стояла прямо на воде, – повторил Кроуфорд, – одетая в белое платье. Ее черные волосы развевались по ветру. Казалось, еще мгновение, и ее смяло бы водорезом. Будь я проклят, если я не видел ее так же ясно, как вас. Она подняла руку и погрозила мне и в ту же секунду исчезла, а большая волна яростно ударила в форштевень, окатив меня с ног до головы. Уильям потрясенно смотрел на Кроуфорда. В его словах слышался такой неподдельный ужас, что не поверить ему было невозможно. Да, пожалуй, у Харта сейчас и мысли не возникло усомниться в правдивости его рассказа. Он был настолько поражен, что мог лишь прошептать: – Что это было? – Это была морская ведьма. – ?! – Эти существа не умерли и не живут. Дьявол дал им власть над водами морей и теми, кто, покинув сушу, вверяет себяэтим водам. Подобно призракам, не зная покоя, они скитаются по морям, ища случая потопить корабль, вызвать бурю или накликать на людей несчастье. Говорят, их рождает сам океан в ответ на людские злодеяния. И они могут принимать вид любого человека... – Уильям Харт услышал, как сэр Фрэнсис сглотнул слюну и перевел дыхание. – В детстве мне рассказывали, что Фрэнсис Дрейк продал душу дьяволу, чтобы стать великим моряком, и тогда дьявол приставил к нему морских ведьм. Они-то и помогли ему потопить Непобедимую Армаду и найти сокро... – внезапно Кроуфорд умолк и отбросил с лица спутанную прядь волос. – Что же дальше, рассказывайте! – Дальше был абордаж и страшная смерть многих достойных людей, – мрачно ответил Кроуфорд. – Понимаете, что я хочу вам сказать, Харт? Человек – сам причина своих несчастий, а океан – лишь зеркало, отражающее кошмары, царящие в наших душах. Вместо ответа Уильям подумал, что Кроуфорд сам не менее Черного Пастора склонен к проповедничеству. Может быть, напутствие, которое дал ему на прощание Билл, прежде чем пустить в плавание на обломке мачты, так сильно подействовало на него, что он как бы повредился в уме? Чтобы нарушить тягостное молчание, возникшее после рассказа Кроуфорда, Уильям в продолжение беседы поведал о том, что слышал в Плимуте, когда в ожидании отплытия слонялся по портовым тавернам. Тогда его поразила история, услышанная от одного пьяненького боцмана. Он рассказывал собутыльникам о злополучной гибели сорокапушечного линейного корабля «Месть», направлявшегося в колонии. По его словам, случай этот произошел лет пять тому назад. На борту корабля находились, помимо прочих, несколько высокопоставленных лиц, среди которых был лорд Томас Бертрам, член парламента, и его супруга, прославленная красавица леди Бертрам. В Карибском море на судно напали пираты и после ожесточенного сражения захватили его. Гибель команды и пассажиров была ужасной – их всех выбросили за борт или перерезали. А один из пиратов, вроде бы квартирмейстер самого Черного Билла, одноглазый негодяй по кличке Красавчик Роджер, лично повесил на рее сэра Бертрама, а его молодую жену посадил в шлюпку и отправил по воле волн на верную гибель. – Он дал ей только бутыль с водой! – в величайшем негодовании закончил Уильям. – Вы совершенно правы, когда говорите про то, что причина самых великих зол в мире – человек, а не бездушные стихии! Неудивительно, если, как вы и говорили, демоны насылают на людей призраков в ответ на их злодеяния. Там, где стоял Кроуфорд, в темноте что-то отчетливо звякнуло. Уильяму показалось, что разбилось стекло. Это Кроуфорд, с неожиданной жадностью осушив полный бокал, швырнул его за борт и, слегка покачнувшись, отпустил планшир, на который только что опирался. – Пожалуй, пойду-ка я спать! – заявил он. – Надеюсь, вы не будете на меня в обиде, Уильям? Все эти морские байки немного меня утомили. И вам я тоже советую хорошенько выспаться. Этот чертов индейский порошок действует каждый раз по-другому. То он навевает сладкие грезы, то, наоборот, принуждает вас нести всякую чушь и лихорадочно метаться от одного дела к другому. Но, пожалуй, о его свойствах мы побеседуем в другой раз, а сейчас покойной ночи, Уильям! Приятных вам сновидений! Каблуки его башмаков громко простучали по дощатой палубе и умолкли где-то внизу. Уильям, разгоряченный винными парами и разговорами, еще раз заглянул за борт. Он оглядел океанскую пустыню, словно опасаясь увидеть какой-нибудь призрак, но лишь кильватерная струя белела и растворялась в темноте за кормой. Уильям вздохнул и отправился спать.
Глава 4 Праздники на Барбадосе
Карибское море
Наконец настал тот долгожданный день, о котором мечтали все, кто плыл на «Голове Медузы»: ранним погожим утром 18 сентября 1682 года флейт, минуя розовые коралловые рифы, вошел в отличную природную бухту, на берегах которой раскинулся главный город острова Барбадоса Бриджтаун. Кстати сказать, честь открытия этого острова принадлежит вовсе не англичанам, а португальцам, которые и дали острову столь странное название. Англичане немного исковеркали португальское слово, впрочем, не отстали и другие просвещенные народы, отчего остров называли и Барнадос, и Барбудос, и даже Сан-Бернардо, что, верно сильно удивило бы того простоватого португальца, который, по пути в Бразилию, увидал с корабля раскидистые кроны фиговых пальм, склонившихся прямо над морем, и воскликнул: «О, лос Барбадос!», что в переводе означает всего лишь «бородатый». Уильям заранее занял удобное место на палубе, откуда можно было в подробностях рассмотреть сию землю обетованную. Светло-бирюзовые воды бухты сверкали под лучами солнца. Над ними с криками носились чайки, невдалеке на рейде высились стройные мачты двух военных кораблей, а у самой пристани толпились на воде десятки фелюг и барок, принадлежащих, скорее всего, местным жителям. От пристани вверх по холму поднимались улочки небольшого городка, выглядевшего вполне современным и уютным. Белые каменные дома с красными крышами, высокий шпиль собора на центральной площади, обилие зелени, черные дула пушек, торчащие из бойниц форта у входа в бухту, – все это с жадностью отмечал взгляд Уильяма. Так вот она, английская Вест-Индия! Издалека остров производил впечатление вполне обжитого уголка, которых достаточно на берегах Испании и Португалии. Уильям был даже немного разочарован. Он готовился увидеть непроходимые джунгли, толпы раскрашенных дикарей и диковинных животных. Но ничего этого пока не было. Уильям уже знал, что на Барбадосе множество сахарных и табачных плантаций, где работают рабы, вывезенные из Африки, и европейцы – осужденные на каторжные работы преступники, которым вместо тюрьмы Фортуна подсунула этот зеленый остров. Коренных жителей – индейцев, когда-то во множестве населявших этот живописнейший остров, практически не осталось – они были уничтожены в ходе колонизации острова еще испанцами и португальцами. Большая часть Барбадоса была покрыта пышной растительностью, еще не вытесненной земледельцами. На открытых местах и вдоль берега в изобилии произрастали кокосовые и банановые пальмы, хлебное дерево, папайя, манго, ананасы, за ними простирались хлопковые и тростниковые плантации, которые возделывали многочисленные рабы. Собственно, таких гигантских тропических лесов, как в долине Амазонки, здесь не было, хотя островки сумрачной гилей с огромными стофутовыми деревьями, обвитыми лианами и папоротниками, кое-где встречались. По мере того как «Голова Медузы» приближалась к городу, все яснее можно было разглядеть столпившихся на пристани зевак. Судя по всему, прибытие корабля было здесь чем-то вроде всеобщего праздника. Несмотря на некоторые сомнения, на душе Уильяма вдруг сделалось тепло и радостно. На мгновение ему даже показалось, что встречают сейчас не только корабль – встречают и его самого. Душа его уже рвалась на берег в поисках новых впечатлений. На минуту он даже забыл о предмете своих робких воздыханий. Прекрасная Элейна тоже вышла на палубу, но находилась на другой стороне корабля в компании своего отца и служанки. В честь прибытия или по причине жары девушка выбрала белое шелковое платье с фижмами, отделанное по лифу и рукавам кружевами, и широкополую шляпку, украшенную цветами и лентами. Камеристка держала над ней зонт, которым она пыталась защитить свою кожу от жаркого тропического солнца, поскольку загар был презираем в обществе как отличительная черта простолюдинов. Якоб Хансен, облаченный в светлый парик и костюм палевых тонов, тоже был рядом с ней. Почтительно наклонившись, он что-то вполголоса объяснял девушке – возможно, рассказывал про местные обычаи. Когда Уильям решил присоединиться к их обществу, к нему неожиданно подошел Кроуфорд. – Барбадос! – сказал он, всматриваясь в приближающийся берег. – Гнусная дыра, населенная в большинстве своем отпетыми негодяями! Хотя, надо сказать, возможностей набить мошну здесь хоть отбавляй. Плантации и торговля всем, чем пожелаете! Вы спрашивали про Эльдорадо, Уильям, – здесь у каждого свое маленькое Эльдорадо. Боюсь только, что карты вам никто не покажет! – он засмеялся. Уильяму стало неприятно, что Кроуфорд так отзывается о людях, населяющих этот остров. Он столько надежд связывал с этими краями, столько заманчивых предположений строил, глядя на звезды бессонными ночами! Мнение Кроуфорда показалось ему слишком циничным. Однако, взглянув на горбоносый, словно отчеканенный на монете профиль своего нового друга, Уильям потерял охоту спорить. Ему подумалось, что многое испытав и побывав на краю гибели, Кроуфорд имеет право на столь горькое мнение о человеческой природе. При воспоминании о мрачных рассказах Кроуфорда и обстоятельствах их знакомства у него на миг защемило в груди. Вот и подошло к концу его первое приключение! Перепады в настроении вообще характерны для молодых людей, особенно путешествующих по морю без парика и средств к существованию, а тут на Уильяма навалилось сразу столько впечатлений... И еще он, не до конца сознавая этого, испытывал благодарность к Фрэнсису за то, что тот больше не пытался пустить в ход свое обаяние и не смущал наивный покой Элейны. Следует заметить, что Кроуфорд еще несколько дней назад совершенно потерял интерес к девушке. Он вообще ушел в себя и преимущественно проводил время в одиночестве, иногда вступая в философские беседы с Уильямом, к которому, несомненно, благоволил. К вопросу о пиратах он больше ни разу не возвращался и пресекал все попытки Уильяма завести разговор на эту тему. Вот и сейчас, увидев прелестную фигурку девушки в белом платье, Кроуфорд на мгновение скривился, как от зубной боли, впрочем тут же сменив выражение лица на самое приветливое. Уильяму и самому не хотелось вспоминать о неприятном. Будущее раскидывалось перед ним бескрайним океанским простором. Прекрасная Элейна все чаще улыбалась ему и охотно болтала о пустяках, когда им удавалось остаться на палубе вдвоем. Случалось это не слишком часто, но все-таки случалось, и Уильям был благодарен Провидению за эти моменты блаженства. Он начинал подумывать, что не все так уж безнадежно, ведь и старый банкир стал с ним гораздо ласковее, звал его «мой мальчик» и время от времени зазывал к себе в каюту, где угощал стаканчиком терпкого итальянского вина с пряностями и беседовал о жизни, нахваливая Уильяма за его решение начать самостоятельную жизнь. – Ты и сам не заметишь, как ухватишь Фортуну за волосы, мой мальчик! – убежденно говорил он. – Эти острова – сущий рог изобилия для делового человека! Ты не будешь успевать ловить дублоны, которые будут сыпаться тебе прямо в руки! Только держись меня! – строго добавлял он, поднимая вверх толстый указательный палец, украшенный массивным золотым перстнем с печатью. – Не доверяй никому и помни, кто твой благодетель! Уильям старательно пытался выяснить, с чего он должен начать свою службу, но тут речи Абрабанеля становились несколько расплывчатыми и он просил Уильяма еще немного потерпеть. Уильям испытывал некоторую растерянность от такой неопределенности и однажды поинтересовался, что думает об Абрабанеле сэр Кроуфорд. Фрэнсис выслушал юношу, внимательно посмотрел на него и высказался весьма фамильярно: – Твоему Абрабанелю палец в рот не клади. Он себе на уме, эта старая жидовская торба. Он не из тех, что зарывают в землю свои таланты, его смоковница плодоносит как заведенная. Пожалуй, он смог бы выкупить собственную душу у дьявола, если бы имел в ней хоть какую-то надобность! Я снимаю перед ним шляпу, Уильям! Уильям был удивлен как столь странной для джентльмена манерой изъясняться, так и весьма двусмысленной аттестацией персоны банкира. Но после некоторого раздумья он признал ее удовлетворительной, отнеся некоторую цветистость образов на счет присущего Кроуфорду оригинального мышления. Он тоже считал Абрабанеля весьма ловким человеком и помнил, что только благодаря банкиру перед ним открывается огромный мир, полный самых разных возможностей. Абрабанель не оставлял Уильяма своим вниманием ни на минуту, особенно после того, как однажды Уильям задал ему невзначай вопрос о том, что он думает о спасенном от гибели человеке. Уильям чувствовал, что между банкиром и Кроуфордом отношения становятся все более натянутыми. Ему было неприятно это осознавать, хотя было ясно, что причинами неприязни были и принадлежность к разным сословиям, и разное вероисповедание, и противоположные представления о целях жизни и способах их достижения. В своих суждениях о Кроуфорде банкир был гораздо осторожнее. – Чужая душа потемки, мой мальчик! – признался он, осторожно поглаживая пухлой ладонью свои гладко выбритые щеки. – Сэр Кроуфорд, несомненно, достойный джентльмен, но молодому человеку не стоит брать с него пример. Всяк сверчок знай свой шесток, как говорится. Я не большой моралист, но мне показалось, что этот человек не всегда следует заповедям Господним. Кажется, он вообще большой грешник. Во всяком случае, мне так показалось. Скажу тебе честно, сердце мое трепещет от радости, когда я думаю, что скоро мы избавимся от общества этого англичанина. После этого Уильям окончательно запутался, хотя Якоб Хансен со своей стороны все-таки попытался внести некоторую ясность: – Старик попытался уговорить этого треклятого Кроуфорда вложить деньги в экспедицию на африканское побережье в Сан-Луи или Порт-Джеймс за черными рабами, но тот заявил, что его вообще не интересуют ни рабы, ни долговременные коммерческие операции. Но зато он высказался на тот счет, что будто готов купить у Абрабанеля «Голову Медузы». По-моему, он просто хотел перевести разговор в другое русло. Но Абрабанель принял это всерьез, предложил свои условия, начался торг, который ничем так и не закончился... Одним словом, они расстались крайне недовольные друг другом. Но мне этот Кроуфорд, признаться, тоже не нравится. Ведет он себя странно, а порой и откровенно вызывающе. Иногда его весьма трудно понять. В последнем пункте Уильям был согласен с Хансеном, но все же его по-прежнему терзали сомнения. Он стремился видеть в людях их лучшие стороны, хотя с грустью допускал, что большинство людей предпочитает в своих действиях опираться именно на дурные наклонности себе подобных. Недоверие, которое постепенно начинали испытывать его спутники к человеку, ими же спасенному, было ему неприятно. Однако прислушиваться ему приходилось прежде всего к словам Абрабанеля. Об этом Уильям вспоминал в последние дни особенно часто. Прибытие на остров означало новую веху в его жизни, которая должна была уже целиком протекать под руководством патрона. Измученный бездельем и неопределенностью, Уильям нетерпеливо ждал, когда сойдет на берег. – Боцман на бак! Приготовить оба якоря к отдаче! – Якоря к отдаче готовы! С капитанского мостика раздались долгожданные команды, вскоре за которыми последовал и грохот якорных цепей, приведший пассажиров в радостное возбуждение. – Приспустить якорь! – Приспустить до воды! – Правый якорь приспущен! – Левый якорь приспущен! Якоря с плеском ушли в воду, подняв со дна песок и миллионы воздушных пузырей. Приказ Абрабанеля о том, чтобы Харт садился в шлюпку вместе с ним, прозвучали для него самой распрекрасной музыкой. «Голова Медузы» бросила якорь, а первая же шлюпка доставила на берег Абрабанеля и его спутников, включая сэра Фрэнсиса Кроуфорда. К изумлению Уильяма, на пристани их встречал сам губернатор Барбадоса сэр Эдуард Сэссил лорд Джексон с украшенной лентами тросточкой в одной руке и со своей супругой леди Мэри Джексон, занявшей локоть другой. Милорд оказался столь любезен, что тут же пригласил господина Давида Абрабанеля погостить у него вместе со своими спутниками. Губернаторский дом поразил Уильяма своими размерами и комфортабельностью. Он и не предполагал, что жизнь в колониях может почти ничем не отличаться от жизни в просвещенных европейских столицах. Правда, речь шла о знатном вельможе, но до сих пор Уильям полагал, что даже наместники английского короля живут на рубежах империи в условиях куда более скромных, так сказать, более соответствующих их полувоенному статусу. В глубине души он ожидал увидеть губернатора в кирасе, окруженного чиновниками и офицерами, склонившегося над картой острова в кабинете, чьи стены увешаны старинным оружием, гравюрами и планом фортификационных сооружений. Однако губернатор Барбадоса лорд Джексон оказался субтильным, почти крошечным человеком, чрезвычайно склонным к щегольству. Особое пристрастие он питал ко всякого рода кружевам и лентам, посему в них буквально утопали и его маленькие белые ручки, и остренький, чисто выбритый подбородок. Даже тупоносые туфли его на высоких каблучках были отделаны особого рода лентами с золотыми пайетками. При всем при том манеры этого маленького тщеславного человечка отличались удивительной властностью и даже в какие-то моменты вздорностью. Уильям заметил, что лица, сопровождавшие губернатора, поглядывали на него с некоторой опаской и не вступали с ним даже в незначительные пререкания. – О, «Галантный Меркурий» *["160]наведывается и к нашему попугайчику, – прошептал да ухо Харту сэр Фрэнсис. К гостям губернатор отнесся с преувеличенным радушием, сердечно приветствовал господина Абрабанеля, о котором был явно наслышан, осыпал комплиментами прекрасную мисс Элейну, выразил сочувствие чудесным образом спасшемуся сэру Кроуфорду и даже нашёл несколько милостивых слов в адрес совершенно захлебнувшегося в этом словесном водопаде Уильяма. Встретив гостей, он тут же распорядился, чтобы их всех устроили самым наилучшим образом и накормили ланчем. – В вашу честь мы непременно дадим обед, господин Абрабанель! – с жаром объявил губернатор. – Я сейчас же прикажу начать приготовления. А на ближайшие дни назначим бал. Вы сможете убедиться в том, что мы живем здесь не как неотесанные дикари, как это может показаться на первый взгляд. У нас здесь тоже есть общество, и все мы стараемся беречь традиции той земли, откуда мы родом. Благодаря некоторой напыщенности и вышеупомянутой чрезмерной склонности к нарядам губернатор произвел на Уильяма не очень приятное впечатление. Поэтому его сильно удивила столь не вяжущаяся с обликом этого человека заботливость, которую он спешил проявить по отношению к незнакомым людям. О своем наблюдении Уильям не преминул сообщить Хансену, чья комната в губернаторском доме совершенно случайно оказалась рядом с комнатой Уильяма. Тот как-то странно посмотрел на юношу, буркнул в ответ что-то неопределенное и, наскоро извинившись, исчез за дверью. Уильям было задумался, но тут его отвлекли. Вышколенный слуга-негр принес ему кувшин воды и тазик для умывания, а затем, когда Уильям ополоснул лицо и руки, подал ему ланч, который помимо поджаренного цыпленка и свежевыпеченного хлеба включал в себя также финики, гроздь бананов и кокосовые орехи, коих Уильям ни разу в жизни не пробовал, хотя видел в Лондоне, на торговых задах Сити. К завтраку прилагалась также небольшая фаянсовая фляга с местным фруктовым вином. Других напитков, о которых столь наслышался Харт у себя дома, ему пока не предложили. Уставший от упростившегося к концу путешествия судового меню, Уильям мгновенно расправился с угощением, едва пригубив означенную бутылку, и, приободрившись, решил, немедля ни секунды, предпринять вылазку в город. Он нацепил портупею, поправил шпагу и, никого не предупредив, отправился на прогулку. Резиденция губернатора располагалась на некотором отдалении от цетра города, который представлял собой площадь напротив собора. К ней вела мощенная обтесанным камнем дорога, по краям которой росли деревья с большими мясистыми, будто кожаными листьями. Повсюду радовали глаз причудливые цветы самых ярких и разнообразных оттенков. С самым живым любопытством Уильям разглядывал диковинные растения, а когда вдоль дороги потянулись колючие заросли съедобных бромелий, чьи покрытые шипами узкие листья веером расходились от мясистых стволов, он невольно замедлил шаг, чтобы рассмотреть их повнимательнее. На языке индейцев плоды этого полукустарника назывались ананасами, что в переводе означает «изысканный вкус». Когда Колумб впервые ступил на землю Нового Света, местные жители приподнесли ему в знак уважения плод ананаса. Гонсало Фернандес де Овьедо, самый известный бытописатель Новой Индии и моря-океана, писал о нем так: «Ананас самый красивый фрукт из виденных мною, путешествуя по миру. Ласкает взор, с мягким ароматом, наивкуснейший среди известных мне фруктов. Этот плод пробуждает аппетит, но, к сожалению, после него не ощущается вкус вина». От них в горячем воздухе распространялся тонкий, щекотавший ноздри аромат. Уильям с живейшим любопытством вертел по сторонам головой. С холма была великолепно видна бухта, на лазурной поверхности которой покачивались стоящие на якорях суда. За входом в бухту раскинулся бескрайний, сверкающий золотом океан. Сейчас он был пуст – ни единого паруса не виднелось на горизонте. Уильям подумал о том, какое огромное расстояние отделяет его сейчас от порога родимого дома, и ему стало слегка жутковато. Он вспомнил матушку. Привыкшая гордо встречать удары судьбы, она была внешне суровой женщиной, но в глубине души без памяти любила всех своих сыновей, а Уильяма, как младшего, особенно. Покинув без благословения родной дом, он, несомненно, разбил ее сердце, и мысли об этом время от времени терзали душу Уильяма. Чтобы заслужить прощение, он должен был добиться в жизни очень многого и проявить себя с наилучшей стороны, иначе ему нечем будет оправдаться перед той, которая подарила ему эту жизнь. До города было совсем недалеко, и Уильям даже не заметил, как оказался на извилистых чистеньких улицах Бриджтауна. Прохожих было немного – похоже, местные жители в жаркое время суток предпочитали сидеть дома. Действительно, высокая влажность делала жарутруднопереносимой. Над каменными мостовыми струилось раскаленное марево. Даже небо, голубое с утра, словно вылиняло и посерело. От ярких цветов, росших в аккуратных двориках, рябило в глазах. Уильям шел, с любопытством разглядывая окружавшие его постройки, многие из которых несли на себе отпечаток испанского стиля, вдыхал незнакомы запахи и с тревогой подумывал о том, как будет выглядеть на будущем балу у губернатора. Лучшего повода, чтобы сблизиться с Элейной, и выдумать было нельзя. Все-таки общение на борту корабля, в суровой обстановке, в присутствии грубых матросов и бдительного отца, – это было не то, о чем хотелось мечтать. Другое дело – прекрасное общество, танцы, светская болтовня... Одно только смущало Уильяма – ему ни разу в жизни не доводилось танцевать на настоящем балу, да и парадного платья у него не было, а явиться на бал в своем видавшем виды костюме и сбитых башмаках было решительно невозможно. Вспомнив о своем скудном гардеробе, Уильям разом упал духом: бал был для него недосягаем. Тут же с невольной завистью Харт вспомнил и своего нового друга – Кроуфорд наверняка чувствует себя на балах как рыба в воде. Он бывает груб и дерзок, но манеры светского человека проглядывают и сквозь эту маску – он действительно прекрасно воспитан. У него есть все данные настоящего кавалера, чтобы завоевать сердце прекрасной Элейны, и никакое неудовольствие Абрабанеля не сможет ему помешать. В тот самый момент, когда Уильям пришел к такому неутешительному выводу, он оказался на перекрестке двух улиц, одна из которых сбегала вниз к порту, а другая, постепенно поворачивая направо, вела куда-то за угол, в лабиринты города. Уильям остановился на секунду, решая, куда двинуться дальше, и вдруг увидел, как в ярдах сорока от него из какого-то дома вышел человек и тут же, нырнув под каменную арку, увитую лианами, пропал. Ничего особенного в этом не было, но только этот человек показался Уильяму необыкновенно знакомым. Не раздумывая, он бросился вдогонку. Что может здесь делать Кроуфорд? Значит, он раньше его ушел в город? Но зачем? Наверняка он здесь неоднократно бывал и бродит здесь не из праздного любопытства. Может быть, у него есть на острове какие-то связи? Но он так нелестно отзывался о здешнем обществе... Теряясь в догадках, Уильям быстро вбежал под каменную арку и огляделся. Перед ним открылась небольшая площадь с фонтаном посредине. Подобно лучам, от площади разбегались в разные стороны несколько улочек. Вокруг не было ни души, если не считать одетого в какие-то обноски негра, сидящего прямо на земле в тени дома. Уильям еще немного поискал Кроуфорда, но быстро понял, что потерял его. В некотором смущении он отправился обратно. Мысли его вернулись к Элейне, и ему вдруг захотелось увидеть девушку, услышать ее голос, убедиться, что чувства, которые, как он надеялся, пробудились в ней во время их долгого путешествия, еще не остыли. Обратный путь показался ему гораздо короче. Он торопился, но, как оказалось, напрасно. Явившись в дом губернатора, Уильям узнал, что Элейна не может принять его – она готовится к балу. Это было веским поводом для уныния, и, вздохнув, Уильям отправился искать Кроуфорда. Однако найти его не удалось, как, впрочем, не удалось найти ни Хансена, ни Абрабацеля. Кто-то из лакеев любезно сообщил Уильяму, что гости заперлись с патроном дома в его кабинете и уже давно о чем-то разговаривают. Разумеется, Кроуфорда среди них не было с самого начала. Куда пропал его новый знакомый? – этот вопрос все больше мучил Уильяма. В раздумьях и сомнениях встретил Уильям свой первый вечер на Барбадосе. За ужином нашелся и Кроуфорд, который, пребывая в отличном расположении духа, весело шутил, сплетничал о незнакомых Харту местных жителях и передавал слухи, которых он, по его выражению, «набрался» в городе. Губернатор отчего-то пребывал в крайней рассеянности, Элейна подавленно молчала, уставившись в тарелку и кромсая пальцами ни в чем не повинную булку, Хансен молча посверкивал то глазами, то зубами, не отводя взгляда от губернатора, и лишь Абрабанель весело посмеивался, иногда отпуская острое словцо. После ужина сэр Фрэнсис как ни в чем не бывало подхватил Харта под руку и потащил в сад, прямо в объятия Зефира, лениво овевавшего деревья и кустарники, подстриженные во французском стиле, повсюду главенствующем в этом доме. Так они прошли до искусственного грота, возле которого бил фонтанчик, устроенный в виде пучеглазой раскрашенной рыбы. – Послушайте, Харт, – он взял юношу за оловянную пуговицу и задумчиво покрутил ее. – Не хотите ли вы, пока не поздно, попробовать себя на каком-нибудь ином поприще, сменить покровителя, так сказать? Вы не перестаете удивлять меня, Фрэнсис! Харт осторожно убрал руку Кроуфорда от своей груди. – Это решительно невозможно. Господин Абрабанель за свой счет привез меня сюда, доверился моей порядочности, вперед выплатив мне жалованье, причитающееся за три месяца. Если я покину его, как я буду выглядеть в его глазах? – М-да, в его хорошеньких, похожих на спелые вишенки глазках, которые так трогательно смотрят на вас из-под кружевной вуали... – Это не ваше дело, Фрэнсис, – мягко, но твердо сказал Уильям. – Конечно, не мое! – вдруг взвился Кроуфорд. – Какое мне дело до зеленого, как неспелое яблочко, дурачка, который готов из-за прекрасных глазок хорошенькой жидовки сломать себе жизнь! Он снова схватил Харта за пуговицу и снова притянул его к себе. – Фрэнсис, прекратите, я не хочу с вами ссориться. Я вижу, что вы по-своему желаете мне только добра. Но я не позволю, чтобы в моем присутствии вы оскорбляли мисс Элейну и ее отца, – и Харт еще раз аккуратно освободил злосчастную пуговицу. – Что ж, поступай как знаешь. Кроуфорд со странным выражением оглядел юношу, резко отвернулся и зашагал прочь, на ходу обломав роскошный пурпурный цветок, свесившийся с перголы над выложенной цветным камнем дорожкой сада. Вслед ему раздался рассерженный вопль «А-ра, а-ра» большого попугая, получившего за этот крик свое название. Тягостные сомнения охватили Уильяма. Он сердцем чувствовал, что Кроуфорд действительно хотел позаботиться о нем, но как ему оставить человека, который рассчитывает на него? С другой стороны, Харт, как ни старался, не мог найти действительной необходимости в своем присутствии возле банкира, и это наводило его на неясные подозрения. Но, опять же, только находясь возле Абрабанеля, он имеет возможность видеться с Элейной, хотя и эти встречи не давали ему право надеяться на нечто большее. Окончательно измучившись противоречивыми доводами, Уильям не заметил, как обошел весь сад и очутился прямо перед мраморной лестницей, ведущей в дом. Солнце село, от фонтанов потянуло сыростью, в некоторых окнах зажегся свет. Харт еще раз окинул невидящим взглядом причудливый декор губернаторского сада и направился в свою спальню. Но, даже приготовившись ко сну, он по-настоящему не мог думать ни о чем другом, как о странном разговоре с Фрэнсисом. В сердцах он отшвырнул одеяло, влез в башмаки и, накинув вест *["161]поверх нижней рубашки, отправился к Фрэнсису. Слуга, который принес ему свечу, сказал, что сэр Фрэнсис также лег спать. Но Харт решил все-таки разбудить своего загадочного друга и потребовать объяснений. Он постучался в отделанную богатой резьбой дверь, затем подергал дверную ручку. Дверь неожиданно распахнулась, и глазам Харта предстала пустая смятая постель. Он шагнул внутрь, и в ту же секунду порыв ветра откинул кисейную занавеску, за которой зияло распахнутое настежь окно. Сэра Кроуфорда в спальне не оказалось.Второй день пребывания Харта на острове прошел в изучении местных нравов, и лишь к вечеру третьего дня его начал по-настоящему волновать другой вопрос. Он опять задумался, подобно Сандрильоне из детской сказки, в каком виде предстанет на балу перед девушкой, о которой мечтал теперь и день и ночь. Впору было превращать кафтан из суконного в тафтяной и грезить не то чтобы о хрустальных туфельках, но о новых башмаках точно. Посему, подобно несчастной дочери лесника, ему оставалось лишь мечтать о доброй фее, мечтать безнадежно, уповая на некую счастливую случайность, которая поможет ему преодолеть пропасть, разделяющую его и дочь богатого ростовщика. Юность хороша тем, что мечты ее сбываются гораздо чаще, чем мечты стариков. И Фортуна улыбнулась Уильяму. Явилась эта своенравная богиня в виде одетого в ливрею черного как сажа негра, который принес к нему в комнату полный парадный костюм, который вполне соответствовал и предстоящему празднеству и положению Уильяма в обществе. – Вас покорнейше просят принять, – произнес лакей, совершенно безбожно коверкая английские слова и улыбаясь в тридцать два безупречных зуба. – Вам помочь одеться, сэр? – О нет, я справлюсь. – Едва сие живое воплощение удачи удалилось, Уильям вдохновенно принялся одеваться. Он отнес этот подарок на счет губернатора и в душе был несказанно благодарен ему, этому коротышке, который, оказывается, замечал каждую мелочь и не оставлял без внимания ни одного своего гостя. Уильям помыслил, что правитель, обладающий такой чуткостью, мог бы составить счастие своего народа, если бы распространил это прекрасное качество не только на гардеробы своих подданных. Сам он в любом случае решил сегодня же высказать господину Джексону самую горячую признательность. Никогда в жизни Уильям столько раз не переодевался в не принадлежащую ему одежду, хотя в детстве ему частенько приходилось донашивать штанишки и курточки своих старших братьев. В отличие от них, подаренный наряд оказался ему совершенно впору. И кафтан, и верхняя рубашка из тончайшего белого полотна, и синий камзол, отделанный серебряным шитьем, и кюлоты, и даже новые туфли на щегольском каблуке – все сидело на нем так, словно было изготовлено искуснейшими мастерами после целого ряда примерок. Уильям мысленно снова пропел «Cloria» маленькому губернатору, не подозревая, что платье на нем смотрится столь выгодным образом еще по одной причине – он обладал прекрасным телосложением, впечатление от которого было трудно испортить какой бы то ни было одеждой. Так или иначе, но один из неразрешимых вопросов был все-таки разрешен, и этот добрый знак обнадежил Уильяма. Облаченный в новый костюм, он принялся расхаживать по комнате, предаваясь мечтам о том, что должно произойти сегодня на балу у губернатора – первом настоящем балу в его жизни.
К восьми часам пополудни губернаторский дом и сад осветились разноцветными китайскими фонариками. У широко распахнутых ворот горели факелы, а вдоль выложенных разноцветным песком дорожек и у широких ступеней перед ротондой были устроены необыкновенные светильники из полых внутри огромных тыкв. Зрелище было самое фантастическое. Но еще больше поразился Уильям, когда начал съезжаться приглашенный губернатором цвет местного общества. Двор быстро наполнялся носилками, разубранными дорогими тканями и коврами, но экипажей, как отметил Харт, было всего два, а карет не было вовсе. Как правило мужчины являлись верхом, а дамы и девушки – в похожих на восточные паланкины портшезах, которые несли чернокожие рабы. Среди приглашенных преобладали владельцы тростниковых плантаций, которые приезжали с разодетыми по парижским модам женами и дочерьми, косо посматривающими друг на друга с ревнивым тщеславием. Оглядев их наряды, Уильям подумал, что, может быть, Британия по-прежнему и является владычицей морей, но умы и вкусы ее граждан, увы, ей больше не принадлежат. Среди приглашенных изредка попадались и чиновники с женами, и морские офицеры, которых выделяли из толпы по особенному повязанные шарфы и характерная походка. Они-то и находились в центре всеобщего внимания, потому что считались выгодными женихами. С последним предметом на острове, судя по всему, было также не совсем благополучно, в чем Уильям скоро убедился, обнаружив, что местные богатеи почему-то производят на свет в основном дочерей. Поэтому-то плантаторши с такой надеждой и посматривали на офицеров королевского флота, которые могли составить мало-мальски приличную партию для их девиц. Уже совсем стемнело, когда наконец все приглашенные собрались и праздник в честь прибывших из Европы важных гостей начался. Уильям погадал, каждый ли новый корабль встречается здесь с такой роскошью, и пришел к выводу, что они все-таки стали исключением. Большая зала, предназначенная для танцев, была наполнена разодетой публикой. Сотни свечей горели в шандалах и жирандолях, роняя на наборный паркет капли пахучего воска. Возлених дежурили одетые в парадные ливреи чернокожие лакеи, держа в руках специальные трости для свечей. На балконе, по периметру окружавшем помещение, за роскошной балюстрадой, оркестр настраивал инструменты. Музыканты в пудреных париках листали табулатуры *["162]и грозно взмахивали смычками. Тихий гул возбужденных голосов, похожий на гудение потревоженного улья, заполнил зал. Однако, стоило появиться мажордому, как все стихло. Гости расступились, образовав круг. Величественный дворецкий, осанке которого мог бы позавидовать и король, стукнул позолоченным жезлом о паркет и объявил выход губернатора. Грянули тарелки и прогудела труба, отчего явление губернатора стало походить на оперное шествие сатрапа в окружении верных янычар. Лорд Джексон, гордо откинув голову, увенчанную взбитым, как сливки, париком «аллонж», процокал на высоченных красных каблуках мимо изумленного Уильяма и, изящно взмахнув увитой лентами тростью, объявил вечер открытым. Глядя на семенящего с приподнятыми руками губернатора, Харту представилось, что тот весьма смахивает на остриженного подо льва пуделя, которого хозяйка на потеху гостям украшает лентами и водит на задних лапах. Еще Уильяму показалось, что его сиятельство Эдуард Сэссил лорд Джексон выглядит усталым, может быть даже не вполне здоровым. Лицо его, похожее из-за слоя пудры и румян на пасхальное яичко, еще более осунулось, а подбородок совсем заострился. Маленький пуделиный губернатор то и дело украдкой доставал батистовый платочек и промакивал им лоб, покрытый белилами. Однако на самом деле губернатор Уильяма мало интересовал. Он выискивал в зале совсем другую персону. При этом он не замечал тех палающих любопытством взглядов, которые украдкой бросали на него местные девицы на выданье. Высокий стройный юноша, несомненно дворянин, в элегантном платье, украшенном модными кружевами и серебряным шитьем, против воли привлекал к себе внимание. В нем так и хотелось видеть не просто благородного незнакомца, а наследника огромного состояния. Уильям не подозревал, что уже попал на язычок маменькам, которые живо перемывали ему кости, выдвигая самые смелые предположения о его родне и капитале. Но местные красавицы Уильяма ничуть не привлекали. Насколько он успел заметить за время своих продолжительных экскурсий по городу, жизнь состоятельных островитянок отличалась набожностью, сладостным бездельем и страстью к нарядам. Обсудив свои наблюдения с Хансеном, он пришел к выводу, что им свойственна только одна похвальная черта – слепая любовь к своему потомству, с которой тесно связаны тщеславные мечты и хлопоты о воспитании последних. Необременительный дневной труд островной леди обыкновенно начинался так: вначале церковь и проповедь местного англиканского или католического священника, затем – grand toilette. Утром она принимает ванну, большей частью в домашней купальне, затем следует завтрак и постепенное одевание. Нередко во время вылазок Уильям видел на террасах домов женщин, прогуливающихся с распущенными, мокрыми после купания волосами. Они предоставляли солнечным лучам высушить это естественное украшение, при этом в душе предаваясь, если Натура позволяла, удовольствию похвастаться им перед праздношатающейся публикой и друг перед другом. После двенадцати часов, как это было заведено, следовал второй завтрак, и затем все время до вечера было занято визитами, приемами и посещениями модных лавок. Как понял Харт, умственные развлечения этим леди знакомы не были. Из всех книг они, пожалуй, держали в руках только тисненые золотом молитвенники, да чудом дошедшие на этот край света французские модные журналы, к которым пристрастила их губернаторша. Посему, после нескольких минут беседы с ними, становилось ясно, что эти нежные полные любезности создания столь невежественны, что ничего подобного не сыщешь ни в одном высшем обществе во всем земном шаре. Самое большее, если сии прелестные грации знают, что существуют Англия, Лондон и Сити, которые известны им из разговоров мужчин. Париж в их представлении – некое царство портных и помады, откуда к ним попадают чудесные безделушки, шелковые платья и лавандовая вода. Остальной же мир со всем, что в нем происходит, был скрыт от барабадосских дев непроницаемой пеленой. Итак, не обращая никакого внимания на множество представленных на этом празднике юных прелестниц, Уильям искал Элейну и нигде ее не находил. Вроде бы все были в зале – и Давид Абрабанель в темно-красном кафтане, держащийся чрезвычайно скромно, и его поверенный Хансен, наоборот, разодевшийся по случаю бала в пух и прах, и даже капитан Ивлин, чья рослая фигура, облаченная в оливковый, отделанный золотыми пуговицами кафтан, бросалась в глаза издалека, оказывается, был здесь. Не было только Элейны. Уильям с нарастающей тревогой озирался по сторонам, пытаясь разглядеть среди изящных женских фигур ту, которой было отдано его сердце. От увитых атласными лентами высоких причесок, затянутых в корсеты талий, огромных фижм, сверкающих золотом и бриллиантами шелковых юбок у него рябило в глазах, а в носу щекотало от резких ароматов фиалковой воды, пачулей и розового масла. Пока Уильям в беспокойстве бродил по залу и яростно вздыхал, мажордом объявил первый танец – им оказался, конечно же, менуэт. Грянул оркестр, игравший на удивление слаженно, и зазвучала волнующая музыка, во время которой танцующие занимали свои места. На девятом такте первая пара обменялась глубокими реверансами, и церемонный танец начался. Уильям, не успевший найти себе пару, очутился в дальнем углу залы, зажатый с двух сторон двумя пузатыми джентльменами в темно-синих кафтанах с золотыми позументами. Оба они были похожи друг на друга как две капли воды, фамильярно хлопали друг друга по плечам и говорили исключительно об урожае тростника и гвоздичного перца, о ценах на сахар в будущем году и о том, как лучше хранить созревшие стручки капсикумов для продажи. Уильям, несмотря на то что готовился стать негоциантом, отчаянно заскучал, выбрался из своего душного плена и попытался пробраться поближе к банкиру, чтобы выяснить судьбу девушки, а также, при возможности, отблагодарить губернатора за присланный костюм. Банкира он нигде не увидел, потому что тот уже куда-то исчез. Вместе с ним испарился и губернатор. Уильям еще не успел расстроиться из-за новой неудачи, как застыл на месте, зачарованный увиденным. Всего в каких-нибудь трех ярдах от него танцевали. Прямо перед Уильямом джентльмен в летах и роскошной перевязи держал за руку супругу губернатора, раззолоченную, как церковный колокол. Вслед за ними выступала изящнейшая пара: она – в великолепном, цвета лаванды платье с высоким фонтанжем, убранным лентами; и он – в кафтане и кюлотах цвета запекшейся крови и в черном, расшитом серебром камзоле. Голову мужчины украшал великолепный темный парик, придавая его облику еще большую дерзость и courage *["163]. Танцующие переходили к третьей фигуре. Девушка, не отрывая взгляда от лица партнера, присела в низком реверансе, отчего в глубоком вырезе лифа маняще сверкнула бриллиантовая вставка, а мужчина, сняв треугольную шляпу, в ответ склонился в глубоком поклоне, почти касаясь паркета длинными завитыми локонами. Уильяма бросило в жар – он вдруг осознал, что видит перед собой Элейну. Элейну, одетую по последней французской моде, убранную бриллиантами, напудренную, возбужденную танцем и потому незнакомую. Вся ее фигура выражала грациозное кокетство и призыв, легкую полуулыбку, игравшую на полуоткрытых губах, умело оттеняла мушка, приклеенная почти у самого рта, а глаза, ее вечно полуопущенные глаза светились совсем незнакомым Харту выражением! Элейна его не замечала. Она не отрывала глаз от партнера.Кажется, они даже обменивались во время танца какими-то только им понятными знаками. Сердце Уильяма болезненно сжалось. Худшее, чего он так боялся, все-таки случилось. Он узнал мужчину в кровавом платье. Конечно, эта был Кроуфорд. Кто еще с такой воистину французской элегантностью мог сделать поклон или подать руку даме, кто еще, презрев моду, мог одеть на себя костюм столь вызывающего цвета, кто еще мог вызвать на губах женщины, девушки, черт возьми, такую улыбку? Уильям застонал, непроизвольно потянувшись к шпаге. Но шпаги на балу были запрещены этикетом. Уильям стиснул зубы, не в силах оторвать от них взгляда. С мрачным видом, скрестив на груди руки, он остановился у стены и принялся угрюмо смотреть на танцующих. Среди пар он вдруг заметил еще одну. Улыбающийся, беззаботный Хансен протягивал руку миниатюрной брюнетке в платье из розового газа, украшенного виноградными гроздьями из серебряной нити. Брюнетка, которая, видимо, истосковалась по мужскому вниманию, смотрела на Хансена с обожанием. Уильям искренне за него порадовался. Ему подумалось, что если бы на него так смотрела женщина, то он был бы счастливейшим из смертных. Но как уже говорилось, половина юных особ в зале именно так и посматривала на Уильяма, и кабы он дал себе труд быть чуть-чуть повнимательнее, то совершил бы немало удивительных открытий. Однако им завладела одна-единственная мысль мысль о счастливом сопернике. Близился финал. Танцующие уже двигались по кругу, возвращаясь к своему первоначальному положению. Кроуфорд, улыбаясь, вел Элейну, та отвечала ему взглядом и сияющей улыбкой. Ручка ее покоилась в руке Фрэнсиса, и Уильям просто физически ощущал, как тот слегка пожимает ее. «Черт, черт, черт», – только и мог шептать Уильям, обрывая ни в чем не повинные кружева на манжетах. Прозвучал финальный аккорд. Но Кроуфорд, вместо того чтобы отвести Элейну на ее место, увлек девушку в сад. Не помня себя от гнева и ревности, Уильям бросился следом. Но двери находились на противоположном конце залы, и пока Уильям, толкая окружающих и рассыпая извинения, добрался до выхода, их уже нигде не было. Освещенный фонарями сад предстал пред ним во всей таинственной красе. Одуряюще пахло цветами, журчание фонтанов перекрывало шум, доносившийся из залы, оглушительно стрекотали цикады, кричали какие-то ночные птицы. Поняв, что потерял их, Уильям в отчаянии прислонился к какой-то статуе и задумался. Больше всего сейчас он хотел оскорбить Кроуфорда, вызвать его на дуэль, унизить так, как тот только что унизил его. Неожиданно до него донесся приглушенный смех и звук поцелуя. Кровь бросилась ему в голову, и он с яростью тигра ринулся в увитую цветами беседку, оказавшуюся прямо у него за спиной. В темноте он успел заметить, как мужчина, обняв за талию девушку в светлом платье, склоняется к ее губам. – Остановитесь! – в бешенстве закричал он. Девушка, вскрикнув, отпрянула, а мужчина сделал шаг вперед, потянувшись к бедру, на котором, кстати сказать, тоже ничего не висело. При этом движении неровный свет упал на его лицо, и, холодея от ужаса, Харт обнаружил, что видит этого человека в первый раз. – Что вам угодно, сударь? – надменно спросил незнакомец. – Харт, что вы здесь делаете? – весело поинтересовались сзади. – О, сэр Уильям, а я вас искала, – нежно прозвучало сбоку. – Так что вам угодно? – с угрозой нетерпеливо повторил незнакомец. – Тысяча извинений, мой друг обознался, – услышал Харт знакомые интонации. – О, простите его, – умоляюще проговорил женский голос сквозь смех. Харт побледнел и закусил губу. Незнакомец, оглядев Харта и стоявшую рядом с ним парочку, рассмеялся и вернулся в беседку. Тяжелая рука похлопала Уильяма по плечу и развернула на девяносто градусов. Невесомая легкая ручка взяла его за локоть, и Харт оказался лицом к лицу с улыбающейся Элейной. Харт хотел было потребовать объяснений у Кроуфорда, но тот уже испарился, оставив Уильяма наедине с предметом его воздыханий. – Я чувствую себя последним идиотом, – произнес Харт и поднес руку Элейны к губам. «Дьявол, будем как Фрэнсис», – подумал он про себя и улыбнулся девушке. – Из-за вас я потерял голову, мисс Элейна. Когда вы танцевали с Кроуфордом, мое сердце разрывалось. – Не преувеличивайте, Уильям, – мягко ответила девушка, не отнимая руки от губ Харта. Харт еще раз с горячностью прижал маленькую белую ручку к губам. При этом сам он был как во сне и не вполне отдавал себе отчета в своих действиях. Не выпуская ее руки, он увлек девушку за собой, в глубину сада. – Уильям, уж не вздумали ли вы похитить меня и заточить в какой-нибудь из этих пещер? – спросила Элейна, снизу вверх заглядывая в лицо Харта. Луна светила прямо ей в лицо, отчего голубоватые тени придавали ее лицу таинственное очарование. – Если бы я был уверен в ваших чувствах так же, как уверен в своих, я похитил бы вас. Но я не был бы так жесток, Элейна. Я сделал бы для вас все, только бы вы были счастливы, только бы вы улыбнулись мне так, как сегодня улыбались Кроуфорду. – Какой вы глупый, Уильям. Разве я не с вами здесь? Разве те улыбки, которые я дарю вам чуть ли не с первого дня нашей встречи, для вас не годятся? – Но вы танцевали с ним... – Так захотел мой отец, а вас не было рядом. Тем более я заметила, как вы смотрели на ту хорошенькую брюнетку, с которой танцевал Хансен. – Какая чепуха! Я думал о том, что отдал бы полжизни в обмен на то, чтобы вы подарили мне один взгляд, подобный тому, что эта женщина дарила Якобу. Харт говорил и не узнавал сам себя. «Будь что будет», – решил он и, собравшись с духом, нежно взял Элейну за плечи, ощутив их тепло сквозь тонкую шелковую ткань. – Я люблю вас, Элейна, – тихо произнес он. В ответ она опустила глаза, но не пыталась высвободиться. – Я полюбил вас с самого первого взгляда, еще там, в Плимуте, когда увидел вас. Я помню каждый ваш жест, каждое слово. Я помню все ваши платья, я могу сосчитать, сколько раз вы улыбнулись мне и сколько раз посмотрели на меня. Элейна, вы можете подарить мне несказанное блаженство и можете низвергнуть в ад неразделенной любви. Она молчала, бледная в свете луны, только драгоценные камни искрились на ее груди, казавшейся мраморной в обманном призрачном свете. Тогда Харт, призвав на помощь Провидение, дьявола и еще Бог знает кого, наклонился к ней и коснулся губами ее губгтэщутив ее дыхание. В ту же секунду неподалеку раздался громкий смех. Молодые люди испуганно отпрянули друг от друга. Из-за зарослей померозы на подстриженную лужайку вышел Кроуфорд, галантно держа под руку жену губернатора. – Вы не представляете себе, как я был удивлен, когда сэр Сэссил не моргнув глазом познакомился со мной второй раз. Вот они, государственные дела, подумал я. Разве просто узнать человека, которого ты видишь в кафтане и парике у себя в кабинете, увидев его в буквальном смысле в платье с чужого плеча и, простите, с немытой головой? Но вы бы узнали меня сразу, леди Джексон. Ведь вы, признайтесь, именно вы, подобно богине мудрости Афине, вдохновляете вашего супруга в его неустанных попечениях о колонии, не так ли? Наверняка вам прекрасно известно все о каждом из ваших подданных, как не укрылась от вас и цель столь неожиданного визита господина Абрабанеля? Ну, разве я не прав, ответьте мне, умнейшая и прекраснейшая из женщин? В ответ губернаторша томно рассмеялась. Кроуфорд склонился над ее рукой, одарив ее звонким поцелуем чуть повыше запястья. Губернаторша кокетливо шлепнула его веером по плечу и тут только заметила растерянную парочку. – О, сэр Фрэнсис, – разочарованно воскликнула она, – мы здесь не одни. Сэр Фрэнсис шагнул вперед, смело топча рабатку с оранжевыми тагетесами. – Ба, да это вы, мой добрый друг! – с деланым удивлением вскричал он, изящно хлопнув себя по лбу, как будто эта встреча несказанно его поразила. – Я убью вас, Фрэнсис, – тихо и убежденно сказал Уильям. – Простите, мне надо найти батюшку, – прошептала Элейна и, высвободив руку из ладони Уильяма, бросилась к дому. – Не убивайте меня, о, прекрасный юноша, я вам еще пригожусь, – жалобно пробормотал Кроуфорд и рассмеялся. В этот миг луна осветила своим бледным пламенем его лицо, выхватив из мрака орлиный профиль и сумасшедший глаз. – Идите к черту, Кроуфорд, – устало вздохнул Уильям и зашагал прочь. – Я возвращаюсь к вам, прекрасная нимфа, – услышал он за спиной медоточивый голос. Шагая по саду, не разбирая дороги, Уильям перебирал в памяти драгоценные мгновения, все еще ощущая в своих руках ее маленькую ладошку, а на своих губах ее дыхание. О, он никогда не забудет эти мгновения. Он уверен, Элейна любит его! Словно в ответ на его мысли, небо с треском лопнуло и рассыпалось на тысячу огней. Ветерок принес с собой запах пороха и горелой бумаги. Начался долгожданный фейерверк. В то же самое время на втором этаже губернаторского дома, а именно в кабинете, продолжались нелегкие переговоры Давида Малатесты Абрабанеля с его сиятельством Сэссилом Эдуардом Джексоном. Переговоры эти шли второй день и чуть не довели их обоих до нервной горячки. Особенно скверно чувствовал себя губернатор. Абрабанель, подобно свирепому Борею, задул розы на его щечках, помешав его сиятельству насладиться танцами. А все дело было в том, что уже в течение нескольких лет господин губернатор позволял себе неоправданные вольности по отношению к той самой Вест-Индской компании, интересы которой представлял Абрабанель. Месяц за месяцем корабли, принадлежавшие компании, доставляли из колоний в Европу сахар, табак, пряности, серебро и золото, а взамен везли оружие, вино, рабов, предметы роскоши и утварь. Поскольку все это происходило под непосредственным контролем губернатора, он находил возможным придерживать некоторые суммы, полученные от многочисленных сделок, в свою пользу. Он не имел в виду ничего плохого, просто приличествующий губернатору образ жизни треббвал значительных средств, которых всегда не хватало. Поначалу он уверял себя, что возвратит позаимствованные деньги, как только его собственные дела пойдут в гору. Однако постепенно он входил во вкус, оседавшие в его карманах капиталы росли, а претензий к нему никто не предъявлял. В один прекрасный день он осознал, что сделанного уже не поправишь и те деньги, которые он присвоил, с некоторых пор составляют такую колоссальную сумму, собрать которую он будет не в состоянии, даже если продаст дьяволу свою безропотную душу. Но корабли приходили и уходили по-прежнему, и по-прежнему никто не беспокоил его. Немного успокоившись, Джексон решил, что, возможно, из такой дали, в какой находилась от него Европа, его грехи если и видятся, то кажутся настолько мелкими и незначительными, что и говорить не о чем. Как это ни удивительно, но, присваивая чужие деньги, люди, подобные губернатору, глубоко убеждены в том, что присваивают их по праву – ведь, как им кажется, было бы сущей несправедливостью лишить себя тех благ, которые просто созданы для того, чтобы ими наслаждаться. Мысль о том, что не все желания в этом мире необходимо немедленно удовлетворять, просто не приходит им в голову, а неминуемая кара кажется им чем-то необязательным и путяковым. Грех этот, еще простительный для юноши в семнадцать лет, как ни странно, чаще всего поражает именно зрелых мужчин, которые на пороге сорокалетия вдруг решают наверстать упущенные годы. И вот, как и следовало ожидать, в самый неожиданный момент в его дом ступил человек, который только и говорит что об этих проклятых деньгах. Более того, он не только говорил, но и показывал Джексону бумаги, контракты, выписки из расчетных книг. Он был вежлив, но настойчив и даже в своей настойчивости безжалостен, как какой-нибудь маклер ордена святого Доминика, не к ночи будь помянутого, и да пребудет с ним благословение Господне. Поначалу Джексон вспылил и наговорил Абрабанелю дерзостей, но тот был терпелив. К тому же при нем неотлучно находились двое помощников, крепких мужчин, один из которых носил шпагу и был подданным Его Величества. По его виду было совершенно ясно, что он готов выполнить любой приказ своего патрона. Тут Джексон вовремя сообразил, что история на одном Абрабанеле не заканчивается. Он прибыл на остров со своей свитой, как полномочный представитель Британского казначейства, которое как раз передало свои кредитные векселя Вест-Индской компании, чтобы та сама взыскала долги с нерадивых заимщиков, и, значит, нужно договариваться, пытаясь избежать крупных неприятностей. Как раз к началу бала был достигнут некоторый компромисс. Стороны взяли, как говорят в залах для фехтования, тайм-аут (как раз в эту непродолжительную паузу и видел губернатора Уильям), а затем снова удалились в кабинет – на этот раз уже без свидетелей, чтобы продолжить деловую беседу. Вечерней порой кабинет Джексона выглядел мрачновато. Обитый тонким шелком синего цвета и обставленный массивной резной мебелью, он производил гнетущее впечатление. Восковые свечи в бронзовых канделябрах не могли рассеять темноты, притаившейся в углах большой малообжитой комнаты. Создавалось впечатление, что губернатор весьма неохотно проводил в ней время. Вдоль стен в громоздких шкафах томились книги в тисненых кожаных переплетах. Тут были ни разу не открытые своды английских законов «in piano», неизвестно как попавшие сюда творения отцов церкви на латыни «in polio» и маленькие изящные томики фривольных романов «in diodesimo», до которых Джексон был прежде большой охотник. Губернатор и банкир уселись в старинные дубовые кресла, такие же огромные и неудобные, как епископская кафедра, и посмотрели друг на друга с плохо скрываемой ненавистью. Милорд был взволнован и без надобности то и дело теребил свои кружевные манжеты, кусал губы и хмурился. Ростовщик, наоборот, выглядел абсолютно спокойным и даже удовлетворенным, хотя долгие препирательства вымотали и его. Однако он чувствовал, что противник его уже готов сдаться на милость победителя, и намеревался воспользоваться своим преимуществом. Однако начинать разговор он не торопился. Обменявшись взглядами с губернатором, Абрабанель неторопливо раскрыл принесенную с собой шкатулку и опять принялся перебирать бумаги, время от времени многозначительно похмыкивая. Сэр Джексон наконец потерял терпение и почти умоляюще воскликнул: – Однако же давайте окончим наш разговор, уважаемый Малатеста! Я к вашим услугам и внимательно вас слушаю! Банкир немного покашлял, а потом в упор взглянул на Джексона холодными бесстрастными глазами, в глубине которых плескалась некая толика иронии. – Итак, сэр, надеюсь, что мне удалось убедить вас в том, что коммерческая сторона вашей деятельности на острове не обошлась, так сказать, без злоупотреблений? – Допустим-допустим! – раздраженно сказал Джексон. – Сколько можно повторять одно и то же? Нужно приходить к какому-то решению, а не толочь воду в ступе! – Просто поначалу, милорд, вы пытались мне возражать, – спокойно заметил Абрабанель, – и мне показалось, что ваше сиятельство не совсем понимает размеры того несчастья, которое... – Ну, хорошо-хорошо! – махнул ладошкой губернатор. – Вы меня убедили. Да, у меня тут образовались кое-какие долги... – По грубым подсчетам, – перебил его банкир, – вы задолжали нашей компании не менее трехсот тысяч фунтов. Лицо Джексона вспыхнуло. Он сверкнул глазами и стиснул подлокотники кресла. – Триста тысяч! – воскликнул он. – Не может быть, чтобы так много! – Это лишь приблизительные подсчеты, – мягко пояснил Малатеста. – При более тщательном расследовании, боюсь, может вскрыться кое-что еще... Сэр Джексон выглядел так, словно эти деньги застряли у него в глотке. Он смотрел на Абрабанеля с таким выражением лица, будто опасался, что банкир в следующую минуту вытащит из своей шкатулки заряженный мушкет и выстрелит ему прямо в сердце. Однако ничего подобного не произошло. Абрабанель, наоборот, шкатулку закрыл и положил унизанные перстнями руки перед собой на стол. – Ну-у, я обязательно что-нибудь придумаю, – неуверенно начал губернатор. – Я соберу эти деньги. Просто мне нужно время. – Боюсь, что у вас нет времени, – покачал головой банкир. – У вас, милорд, есть только два выхода. – Какие? Что вы имеете в виду? – переспросил Джексон, подавшись вперед. – Во-первых, мы можем возбудить от имени наших пайщиков иск против вас, – предложил Малатеста. – Учитывая, что в наши предприятия вкладывали деньги очень влиятельные лица, боюсь, исход такого иска будет для вас крайне неутешителен. Полагаю, что заключение в крепость, которое оказалось столь губительно для попавшего в подобное положение господина Фуке, вас не вдохновляет? – А второй выход? – хмурясь, спросил сэр Джексон. – У меня есть некоторые идеи, – ответил Малатеста. – Порядочные люди всегда могут договориться. Просто в таких случаях необходимо полное доверие, понимаете меня? – Признаться, пока не совсем, – нервно заметил сэр Джексон. – Все очень просто, – объяснил господин Абрабанель. – Я должен составить докладную записку на имя Совета. В ней будут реальные цифры. Но вы полностью рассчитаетесь с компанией. – Каким образом? – облизывая пересохшие губы, спросил губернатор. Малатеста оглянулся на запертую дверь, посмотрел на Джексона и негромко сказал: – Вы готовы довериться мне, ваше сиятельство? Вы ведь не собираетесь совершить еще одной ошибки? – Да-да! Я готов на все! – вскричал Джексон. – Не тяните же, излагайте ваш план!
Пока Абрабанель и губернатор занимались делами, празднество шло своим чередом, и веселье было в самом разгаре. Островитяне, обрадованные нечаянным развлечением, старались не упустить ни малейшей возможности из числа тех, которые выпадают на подобных празднествах. Лишь немногие удивлялись тому обстоятельству, что самого губернатора не было видно ни на танцах, ни в саду, ни за ужином, но, сказать по чести, это обстоятельство не сильно повлияло на их настроение. Уильяма, как и губернатора, также не волновали ни танцы, ни ужин. Погруженный в сладостные грезы, Уильям не заметил, как удалился на довольно значительное расстояние от дома губернатора. По бездумной прихоти он решил направиться не в сторону города, а взял правее и по извилистой пологой тропе двинулся через пустошь, густо поросшую бамбуком и высокими, увешанными лианами деревьями. Вскоре резиденция губернатора осталась далеко за его спиной. Луна стояла прямо над ним, заливая простиравшуюся перед ним долину ярким голубоватым светом. Кругом стрекотали цикады и еще какие-то насекомые, в зарослях что-то шуршало и потрескивало, то и дело какие-то ночные птицы или летучие мыши пролетали прямо над его головой. Уильям невольно остановился. Откуда-то потянуло затхлой сыростью, и он понял, что где-то поблизости от него находится болото или какой-то водоем. Ему стало жутковато, и он зябко передернул плечами, пожалев о том, что сейчас при нем нет никакого оружия. Прислушавшись, он вдруг осознал, что уже давно слышит какой-то непонятный ритмичный гул, похожий то ли на стук дождя по глиняной черепице, то ли на грохот множества телег, следующих по мостовой. Гул этот шел из-за плотной стены чернеющих впереди зарослей агавы, таких же, какими был покрыт склон холма. Страсть к приключениям победила, и Харт, осторожно ступая по еле приметной тропинке, пошел на звук. Не прошел он и полусотни ярдов, как почувствовал запах дыма и увидел пробивающийся сквозь листву свет. Близость тайны заставила сердце Уильяма забиться быстрее. Охваченный любопытством, он пошел вниз по тропе, держа курс на неровно мерцающие огоньки. Луна теперь светила ему в лицо, и, может быть, от этого неровный звук действовал на его нервы еще сильнее. Гул усилился и вдруг рассыпался на яростный дробный перестук отдельных барабанов. Казалось, он идет со всех сторон, подступает спереди и окружает сзади. Харт вспомнил рассказы о черных африканских колдунах, которых много в здешних колониях, и у него мороз пробежал по спине, впрочем, он скорее бы умер, чем повернул назад. Ведь именно ради таких приключений он и отправился в Новый Свет! Он должен увидеть все своими глазами. Неожиданно он вышел к невысокой изгороди, сплетенной из сухих стеблей тростника. За ней простирались плантации табака – огромные, залитые лунным серебром квадраты, перерезанные вдоль и поперек утоптанными дорожками. В воздухе над самой его головой бесшумно проскользнула какая-то тварь, обдав Уильяма волной теплого воздуха. Кто это был – птица, летучая мышь? Барабаны стучали уже где-то совсем рядом. Нужно было только пересечь поле. Уильям не колебался. Он только еще раз пожалел, что впопыхах не захватил с собой шпагу, – все-таки разгуливать ночью по незнакомому острову, где полно беглых каторжников, рабов и индейцев, было не вполне безопасно. Чтобы придать себе уверенности, он подобрал с земли длинную крепкую палку. Используя ее как трость, он двинулся дальше. В зарослях табака, побеги которого возвышались вокруг Уильяма, было невыносимо душно, какие-то насекомые с противным щелканьем сыпались за шиворот и кусали руки. Гром барабанов отдавался в груди тревожным эхом. Уильям упрямо шел вперед, помахивая дубинкой. Он был готов встретить любую опасность лицом к лицу, как и полагается мужчине. Правда, человеку его происхождения не полагалось идти в бой с дубинкой, как какому-нибудь простолюдину. Однако обстоятельства, в которых он находился, были совершенно необычными, и свидетелей рядом не было. Мысль об этом почему-то слегка смешила Уильяма. Он испытывал тревогу, пробираясь через пронизанные лунным светом заросли, но на лице его бродила рассеянная усмешка. Он представлял себе, что сейчас могли сказать в его адрес братья, которые оба были офицерами и в совершенстве владели военным ремеслом. Немало бы они повеселились, увидев сейчас Уильяма, бесстрашно идущего в разведку с огромной палкой в руках! Неожиданно плантация кончилась. Уильям вышел на открытое место и остановился как вкопанный. Грохот барабанов был здесь почти нестерпимым. Совсем рядом, за неглубоким овражком, поросшим по обе стороны колючей агавой, разыгрывалось чрезвычайно странное действо. Уильям увидел большую толпу негров, обступивших кольцом утоптанную площадку, в центре которой горел огромный костер, испускающий желтоватые клубы вонючего дыма. У многих в руках были горящие ветки свечного дерева, осыпавшие окружающих снопами искр. Самих барабанов и тех, кто издавал эти чудовищные звуки, Уильям не мог разглядеть за спинами чернокожих рабов. Сквозь барабанный бой Харт слышал еще отвратительные вопли, то и дело прерывавшие заунывное пение под мерное хлопанье десятков ладошей. Дикари пританцовывали в такт этой адской музыке и потрясали какими-то палками с пучками сухой травы на концах. Уильям покрепче сжал палку и осторожно подкрался еще ближе, не в силах оторвать глаз от такого необыкновенного зрелища. Наконец барабаны стали бить тише и медленнее, и на середину вышел огромный негр, весь разрисованный белыми пятнами и разводами. На голову и плечи его была наброшена шкура ягуара, передние лапы которой оканчивались огромными железными когтями. Следом выступили еще два жреца. Они держали под локти какого-то связанного по рукам и ногам человека, сплошь разрисованного разноцветной глиной. В неровном свете пламени Харт даже не мог определить, к какой расе принадлежит несчастный. Главный жрец или колдун, Харт не очень в этом разбирался, затянул низким голосом какой-то гимн. Постепенно голос его поднялся почти до крика, и по толпе пробежала какая-то дрожь. Внезапно главный жрец резко взмахнул рукой, сверкнули железные когти, и из распоротой груди жертвы хлынула кровь, которую он принялся собирать в глиняный горшок. Голова и туловище жертвы задергались, она захрипела, но два жреца не давали ей сдвинуться с места, пока колдун не закончит собирать кровь. Оцепенев от ужаса, Харт, почти терял сознание, не в силах ни отвернуться, ни закрыть глаз. Барабаны били мерно, не умолкая, в каком-то жестком сатанинском ритме. Отточенным жестом колдун вырвал сердце из груди истекшего кровью человека и с ликующим воплем поднял его вверх. Жрецы швырнули бездыханное тело на землю и, взяв в руки горшок с кровью, по очереди глотнули из него, а затем передали его остальным. Негры стали друг за другом прикладываться к нему, и по мере того, как они поглощали напиток, ритм барабана становился все быстрее. Неожиданно откуда-то из зарослей раздалось захлебывающееся злобой ворчание какого-то хищного зверя. Харт дернулся и, оступившись, чуть не упал, еле успев схватиться за какую-то лиану. Ворчание превратилось в громкий рык, который, казалось, несся со всех сторон. Именно этот звук заставляет терять рассудок бедных дикарей и ночующих под открытым небом путешественников; слыша его, порой они от ужаса бросаются прямо в пасть хищника. В ответ жрец испустил душераздирающий вопль, переходящий в кашляющее подвывание. В ужасе Харт увидел, как из-за спины жреца, прямо на границе света и тьмы вдруг отчетливо проявилась чья-то непроницаемая тень. Уильям даже вздрогнуть не успел, как из мрака вылупился чудовищный ягуар. Бешено мотая хвостом, он прыгнул на середину поляны и лязгнул зубами. Еще два зверя внезапно оказались позади брошенной на землю жертвы. Их пятнистые шкуры в свете костра казались красными, от тяжелого дыхания выступали на лоснящихся боках ребра, а в яростных желтых глазах пламенели багровые сполохи. Тихо рыча, твари медленно прошли через утоптанную площадку и скрылись во мраке. Уильям готов был поклясться, что из пасти одного из них торчала окровавленная человеческая рука. Колдун торжествующе завопил и пустился в пляс, по-прежнему сжимая в поднятой руке сердце несчастного. Безумные прыжки и кружение все ускорялись, и вот колдун завел песню, похожую на заклинание. В ответ толпа дружно принялась подвывать, и юноша мог отчетливо различать вопли женщин и хрипение мужчин. Вскоре в круг начали выскакивать другие негры. Они рычали, выли, визжали и бросались друг на друга, пока в конце концов не опустились на четвереньки и не стали обнюхивать друг друга как собаки. Тогда что-то черное огромным мячом влетело в их круг, и Харт увидел тень, очертаниями схожую с ягуаром. Призрак метался между танцующими, как будто купаясь в извивающейся плоти, но никто, казалось, не замечал его. Внезапно жрец схватил стоящую на четвереньках какую-то женщину и полез на нее... В ту же секунду что-то твердое с силой ударило Уильяма по затылку, и он без чувств рухнул на землю. Еще через несколько минут молнии прорезали небо, луна скрылась за клубящимися тучами, и ливень хлынул на землю, смывая следы страшного пиршества и превращая недавние лужайки в болота.
Глава 5 Лед и пламень
Франция, Версаль. Атлантический океан
В апреле 1682 года, за несколько месяцев до описываемых событий, Король-Солнце Людовик XIV, превратил в столицу Франции Версаль, перенеся в него официальную резиденцию двора, несмотря на то что Южное крыло было едва закончено, а строительство Северного еще даже не начиналось. Пусть еще ведутся работы в конюшнях, только приступили к закладке главных служб, а Зеркальная галерея полна пыли и загромождена лесами. Людовик не любит Лувр, обветшавший к тому времени и слишком тесный для него, устал он и от Сен-Жермена-о-Лэ и от Тюильри – все эти дворцы кажутся ему недостойными ни его персоны, ни его представлений о величии монархии и Франции. К этому времени Версаль представлял собой уже целый город, в котором, соревнуясь друг с другом за близость к дворцовому ансамблю, обитали вельможи и сановники, фаворитки и придворные, прислуга и ремесленники. Население этого странного города, воюющее между собой за место подле Короля-Солнца, доходило уже до 30000 человек, из которых 2000 обслуживали дворец и лично Его Величество. Если же взглянуть на Версаль с высоты птичьего полета, становилось ясно, что он являл собой материальное воплощение главной идеи царствования Людовика – божественности монарха, который венчает собой пирамиду людского общества, как бы животворя и созидая его своей властью и неограниченным могуществом. Версаль – место явления королевской славы, как Фавор – гора славы Господней. Говорят, что все дороги ведут в Рим, но Людовик решил, что Франция станет исключением из этого правила. Все дороги в ней поведут к Королю. Отсюда и план трех шоссе, в виде лучей трезубца расходящихся от центрального дворца. Они должны были соединить Версаль с главными центрами политической и светской жизни Франции, напоминая дворянам и простолюдинам, что жизнь и счастье исходят отныне из нового Олимпа. Трехкилометровый парк, куда выходили арочные окна Зеркальной галереи, благодаря умело выстриженной зелени деревьев и кустарников, создавали впечатление бесконечного пространства, в котором взгляд свободно скользит к горизонту по безупречным плоскостям водной глади, травяного ковра и усыпанных цветным песком дорожек. Теряющиеся в дали ряды статуй вызывали ощущение бескрайности, словно играя с главной мечтой короля о Франции, простирающейся от моря до моря, чьими границами должны были стать только препоны самой Природы, но не жалкие претензии соседних государств. Верховный сюзерен Франции хорошо знал цену своей резиденции и собственноручно составил руководство для ее гостей. Король советовал, выходя из дворца на Мраморный двор и террасу, задержаться не верхних ступенях лестницы, окинуть взглядом партер, бассейны и фонтаны, потом двигаться к окруженной радужными брызгами мраморной Латоне, полюбоваться статуями, пройти Королевской аллеей к фонтану Апполона и каналу, обязательно оглянувшись оттуда назад на дворец. Ныне вряд ли удастся вообразить себе зрелище, которое представляло это восьмое чудо света во времена королей. Времена, когда в зеленых версальских театрах, украшенных цветочными гирляндами и апельсиновыми деревьями в золотых кадках, в пламени фейерверков и громе оркестров разносились дивные трели оперных певцов, по аллеям торжественно двигались пышные кортежи разодетых придворных во главе с самим королем, предстающим перед восхищенными взорами то в виде Марса, то Апполона, а вслед за ними ехали убранные букетами и драгоценными тканями колесницы с актерами, изображающими знаки Зодиака, рыцарей и богов, нимф и богинь... Времена, когда в тенистых аллеях дрались на шпагах и целовались, играли в серсо и мяч, плакали и смеялись, блистали остроумием и потрясали ничтожеством, декламировали стихи и играли на флейтах, интриговали и шпионили, любили и умирали... Ныне парк застыл, как будто жизнь навсегда покинула его, и никогда больше во Франции не наступят столь блистательные времена. Итак, в одно жаркое июльское утро в Версале, в приемных покоях генерального контролера финансов Его Величества, находилось всего два посетителя – молодая дама, одетая для визитов, и господин лет пятидесяти, с очень приятными манерами и замечательным, полным жизнелюбия лицом. Оба они томились под дверьми министра достаточно долго, для того, чтобы вдосталь налюбоваться на многочисленные эмблемы, украшающие стены, гобелены и расписанные потолки этого великолепного дворца. Пресловутые эмблемы, то ли благодаря которым Людовика прозвали Солнцем, то ли которые лишь заключали в себе это прозвище, были замечательны тем, что представляли собой человеческий лик в обрамлении солнечных лучей, освещающих земной шар. Лик этот, исполненный в лучших традициях классицизма, принадлежал, конечно же, Людовику XIV, милостью Божьей королю Франции и Наварры. Таким образом, каждый посетитель Версаля мог быть уверенным в том, что и его коснулся свет, исходящий от Короля-Солнца – «подателя, всех благ, неустанного труженика и источника справедливости», – как изъяснял сей символ сам Людовик Бурбон. Но даже солнце может надоесть, посему господин и решился первым нарушить тягостное молчание. – Сударыня, позвольте нарушить всевозможные условности и представиться вам. Судя по всему, наш Юпитер не в духе, и меня пугает мысль провести еще час под этими сводами в полном молчании, особенно в присутствии столь изящной дамы. – О, какие только жертвы не принудит нас принести скука, – ответила дама с холодными глазами, на безупречно красивом лице которой не отражалось никаких чувств, и улыбнулась. – Так позвольте же представиться – председатель Французской академии Шарль Перро. – Господин снял шляпу и галантно раскланялся. – Леди Лукреция графиня Бертрам, вдова лорда Бертрам. – О, надеюсь, ваша утрата... – Пустяки, сударь. Мой муж геройски погиб больше пяти лет назад, и рана в моем сердце постепенно затянулась. Тем более он был старше меня на двадцать лет. – Прошу прощения, миледи. А как вы находите Версаль? – Я живу во Франции уже несколько лет и не перестаю восхищаться великолепием двора и чудесами версальской жизни. – О, как вы правы – в нашей жизни столько чудес... – Месье Шарль воздел глаза к небу и снова улыбнулся. – Ах, сударь, я только что поняла, кто вы. Ведь это вам почтеннейшая публика должна быть благодарна за доступ в сад Тюильри и за ту удивительную скорость, с которой был выстроен Версаль... Я вспомнила, именно вы курировали строительные работы... Не могу не выразить вам своего восхищения, – молодая женщина одарила секретаря Академии восторженным взглядом и благосклонной улыбкой, в глубине которой мелькнуло нечто, что заставило господина Перро повнимательней всмотреться в необычайно привлекательное лицо своей случайной знакомой. – Вы преувеличиваете мои заслуги, миледи. Признаться, я всегда мечтал прославиться не как ученый и строитель, а как литератор. – Мне кажется, – тут леди Бертрам сделала очаровательную гримаску, – литераторов в Париже и так достаточно, а вот умных и деятельных людей, способствующих прогрессу, весьма не хватает... Миледи сумела польстить секретарю, и он благодарно поклонился ей. – Ну если под прогрессом понимать чересчур оживленное движение карет по парижским улицам и увеличившуюся возможность постоянно менять белье, избавляющую цвет нашего общества от «несносной» необходимости то и дело мыться... Впрочем, я всегда ратовал за прогресс. Миледи рассмеялась. – О, не будьте слишком строги к нашим привычкам. Хотя мысль о посещении бани приводит и меня в содрогание. Я предпочитаю принимать ванны. – А разве вы не знаете? Наши медики доказали, что вода является источником всех болезней! – Мне кажется, что в Париже источником всех болезней является любовь. – Теперь пришла очередь рассмеяться месье Перро. – Должен вам признаться, что я ведь собираю сказки. Вы любите чудесные истории? – О, конечно. Жаль, что слушать их мне случалось лишь в детстве. А сейчас мне приходится развлекаться сплетнями – но в них слишком мало поучительного и совсем нет волшебства. – Как, разве страшные слухи о черных мессах и принесенных в жертву младенцах, которые потрясли двор, не достаточно интересны для вас? Представляете, во дворе колдуньи Вуазьен нашли останки двух с половиной тысяч младенцев и человеческих эмбрионов! Молодая женщина не успела ответить, как дверь в кабинет открылась, и из нее вышел высокий, изысканно одетый мужчина лет сорока с умным, несколько хищным лицом. – Это Ла Рейни, – шепнул месье Перро, наклонившись к леди Бертрам и почти касаясь ее кудрями великолепного придворного парика. – Начальник полиции и, кстати, следователь по делу отравителей. Ла Рейни заметил молодую женщину и хотел было ее поприветствовать, но, натолкнувшись на ее предупреждающий взгляд, сделал вид, что они незнакомы, и равнодушно прошел дальше. – Да? Неужели? Остается только выразить восхищение тем, с каким умом и грацией он провел дело, в котором были, как говорят, замешаны сам герцог Люксембургский, сестра короля и сама госпожа... – графиня не договорила и лукаво взглянула на Перро. – Говорят они тоже были колдунами и участвовали в оргиях и черной мессе. – О, молчите, молчите, сударыня, об этом не говорят в приемной ее друга, – в притворном испуге воскликнул Перро и театрально взмахнул рукой. – Хотя я сам полагаю, о чем и писал, и неоднократно говорил монсеньору, что право на создание в этом мире принадлежит только Богу. Лишь право производить было передано второстепенным агентам, второстепенным причинам и всему тому, что обычно называется Природой. Посему нужно презирать демонов, как презирают палачей, и лишь перед Богом надо трепетать. Отсюда следует, что настоящие колдуны так же редки, как распространены выдуманные. – А я полагаю, что во всем следует полагаться только на себя – по-моему, ни тех, ни других просто не существует! Господин Перро с сожалением посмотрел на свою собеседницу. – О, если бы вы знали, миледи, как глубоко вы заблуждаетесь, – произнес он, и в голосе его мелькнули нотки сострадания.– Господин министр ожидает вас, миледи! – произнес сухощавый секретарь в простом кафтане полосатого дрогета и коротком пудреном парике, склоняя голову в полупоклоне. – Прошу вас! Лакей распахнул высокие позолоченные двери и впустил в кабинет высокую даму в элегантном наряде цвета весенней травы. Она уже не в первый раз была в этом кабинете, чьи стены украшали планы отстроенных крепостей, карты проложенных шоссейных дорог, соединивших Париж с отдаленными провинциями, чертежи новых ткацких станков и гравюры, изображавшие виды Версаля. В простенке между двух высоких венецианских окон в резной позолоченной раме висел портрет Его Величества короля Франции Людовика XIV, представляющий собой список недавно созданного, но уже прославленного полотна кисти Риго, на котором Людовик XIV был изображен в полный рост в военном костюме. Широкий воздушный шарф опоясывал бедра короля, трепеща на ветру и вызывая почти физически ощутимый контраст с холодным металлом доспехов и создавая у зрителей иллюзию живой энергичности, исходящей от монарха. Невольно чудилось, что тот самый ветер, который играл шелковой тканью, сейчас ворвется в кабинет и сметет с министерского стола кипы бумаг и чертежей. В целом казалось, что Его Величество сам присутствует в кабинете своего министра, отчего слова и деяния Кольбера обретали дополнительный смысл. Леди Лукреция Бертрам приблизилась к столу из темного резного дуба, за которым, слегка сутулясь, восседал мужчина лет шестидесяти, в длинных волнистых волосах которого явственно проблескивала седина, и сделала перед ним легкий реверанс. – Надеюсь, я не опоздала, монсеньор? – спросила она мелодичным голосом. – О, миледи, даме не стоит так низко приседать перед мужчиной. Тем более такой прекрасной даме, как вы, – ответил министр, и улыбка мелькнула на его губах, бледность которых подчеркивала тоненькая полоска усов, сохраненных вопреки придворной моде. – Что ж, великий Рамо говорил: «Даже если вы не умеете хорошо танцевать, вам будет поставлено в заслугу умение хорошо сделать реверанс». – Жаль, что я не могу танцевать с вами, я бы вернул вам поклон. Вы можете сесть, – монсеньор снял очки и потер переносицу, сверкнув огромным бриллиантом в скромной оправе. – Благодарю вас, монсеньор. Так я не опоздала? – спросила миледи, присев на краешек обитого красной кожей кресла и распрямив юбки. – Нет, миледи, вы, как всегда, вовремя, – с едва уловимым одобрением сказал морской министр и генеральный контролер финансов, вглядываясь в свою тостью так пристально, будто опасаясь найти в ее внешности признаки какого-то внутреннего неблагополучия. – Хотя не встречались мы уже давно и я начал опасаться, не забыли ли вы меня, мой друг! Улыбка снова тронула губы Кольбера, но его взгляд из-под густых черных бровей оставался столь же холоден и жесток. – Я никогда ничего не забываю, ваше сиятельство! – с неподражаемыми интонациями произнесла леди Лукреция Бертрам. – Но я сочла невежливым лишний раз отнимать у вас драгоценное время. Я ничуть не сомневалась – когда будет нужно, вы обязательно вспомните обо мне сами. – Вы правы, и такая нужда возникла. Кольбер отодвинул от себя бумаги, которые перед этим читал. – И должен сказать, что на этот раз, к нашему обоюдному удовольствию, интересы наши совпали. – Вы сумели заинтриговать меня, ваше сиятельство! – изображая удивление, леди Бертрам немного приподняла безупречные темные брови. – Как могут совпасть скромные интересы бедной графини и могущественного Кольбера, министра великого Короля-Солнце? – Я могу ответить вам одним словом – политика! Я ведь тоже ничего не забываю, и все услуги, которые вы оказывали Франции и королю, я благодарно храню в своей памяти... Но когда я говорил о наших общих интересах, то имел в виду некоторые прискорбные обстоятельства вашей жизни. Я вспоминал одну историю, о которой я случайно узнал... В зеленых глазах женщины промелькнула давняя усталость. – Как бы мне хотелось, чтобы и вы и я навсегда забыли эту историю, – с легкой досадой сказала она. Министр взмахнул рукой, прерывая ее слова. – Я решился напомнить вам о ней не для того, чтобы доставить вам неудовольствие. Просто в этот раз все действительно так странно совпало! Дело в том, что мне чрезвычайно необходимо ваше присутствие на Карибских островах. Мне всего лишь показалось или вы действительно мечтали попасть туда еще раз? – Про себя же этот великий манипулятор подумал: «Не нужно заставлять людей работать, нужно помогать им делать то, что они хотят». Словно подслушав его мысли, леди Бертрам вскинула голову, и сардоническая усмешка мелькнула на ее прекрасном лице. – Я слышала, что англичане ловко переиначили меркантилизм в кольбертизм, – невинно произнесла она. – Так что вас можно поздравить: помимо Академии вы основали новую философскую школу. – Что ж, вы царапаетесь – значит, я угадал. – И?.. – Только не убеждайте меня в том, что вы действительно готовы забыть ваше прошлое. Мне кажется, вы помните его даже слишком живо. Ну что же, для нашего дела это даже неплохо. Иногда крючок памяти может извлечь из губин души полезные вещи, не так ли? Молодая женщина опустила глаза, чтобы министр не мог прочесть их истинного выражения. – Впрочем, вернемся к нашим баранам. Услышав про баранов, миледи не могла сдержать усмешки и прикусила губу. Дело в том, что, как это часто бывает, у этого великого человека имеласьсвоя ахиллесова пята. Великий финансист и делец, Жан-Батист Кольбер был не менее великим снобом. Подобно мольеровскому Журдену, он стыдился своего происхождения из купеческого сословия. Поэтому, став влиятельнейшим человеком при дворе, он не знал покоя, пока не придумал, как ему облагородить свою кровь. Выбирая себе более достойных предков, Кольбер остановился на нортумберийском святом Катбере. Господин д'Озье, королевский генеалог, составил для него документы, из которых следовало, что Кольбер – потомок святого и его шотландской жены Марии де Линдсей из Каслхилл. Генеалогия Кольбера была зарегистрирована, он заменил на могильной плите в Реймсе роковое слово «шерсть», коей торговал его отец, на более приличествующую надпись, но курьез заключался в том, что Кольберу так и не удалось до конца избавиться от злополучной торговли шерстью, потому что святой Катбер оказался сыном пастуха. Анекдот этот позабавил весь двор. Заметив, как Лукреция кусает губы, чтобы не рассмеяться, министрслегка покраснели нахмурился. Бараны словно сговорились преследовать его до конца дней. Даже став вторым человеком в государстве после короля, получив титул и став дворянином мантии, Жан-Батист Кольбер в глубине души так и не научился чувствовать себя ровней дворянам шпаги. В присутствии короля и его знати он был не в своей тарелке, хотя слова «l' etat c'est moi» по справедливости стоило отнести именно к Кольберу. А король... Сам любезный король, слушая жалобы придворных на своего контролера финансов, отвечал им с галантной улыбкой: «Нужно заплатить, сударь!» Это он, Кольбер, проложил дороги, создал промышленность, укрепил торговый флот и ввел стройную налоговую систему. Это он заложил основы могущества Франции, сделав ее третьей морской державой после Англии и Голландии. И все это не имело никакого значения в глазах тех, чьи родословные начинались в эпоху Крестовых походов.
– Так вот, – сказал Кольбер, убедившись в том, что миледи вполне овладела собой. – Та миссия, которая будет на вас возложена, потребует от вас исключительного хладнокровия и выдержки. Вашими противниками будут люди хитрые и, что там греха таить, могущественные. Чтобы проникнуть в их планы, вам придется пустить в ход все те таланты, которыми вас так щедро наградила природа. В средствах вы не будете испытывать недостатка, s но я очень жду результатов. – Вы меня пугаете, сир, – сказала Лукреция совершенно успокоившись. – Кто помешал вашим замыслам на этот раз? – Я получил известие, что совет голландской Вест-Индской компании отправил на Испанские острова своего коадъютора. Помимо прочего, на него возложена миссия собрать все возможные сведения о местонахождении испанских сокровищ. Тех самых, что припрятали на островах конкистадоры и, по слухам, нашел безалаберный сэр Уолтер Рэли, этот океанский пастушок королевы-девственницы. – Но разве эти сокровища существуют?! – с непонятной горячностью воскликнула леди Лукреция. – Разве это не легенда?! Кольбер нахмурился. – Вам известно, что герцогиня Портсмутская – наш верный, пусть и не очень бескорыстный друг. Мадемуазель Луиза пишет нам из Лондона, что до нее дошли слухи о большом недовольстве внешней и внутренней политикой Карла II среди ювелиров Сити и партии вигов. Им, видите ли, не нравится любовь Карла к Франции к католикам, которую возбуждает в Карле мадемуазель, и его нелюбовь к Голландии. Судя по всему, эти интриги вовсю раздувают в Амстердаме, не жалея на них денег и сил. Готовится переворот, ведь у Карла нет наследников, а Яков – католик. Посему у Вильгельма Оранского есть все шансы стать королем Англии. Франции не нужна ни сильная Англия, ни тем паче новый проголландский парламент с королем-марионеткой в руках торговых компаний. Тогда снова под угрозой окажутся наши с таким трудом завоеванные колонии в Новом Свете, наш флот и наша торговля. – И каким же образом мы можем сорвать их планы? – Нужно опять столкнуть лбами Англию и Голландские Штаты, и удобнее сделать это в Новом Свете. – Я вижу, монсеньор, что у вас есть какие-то идеи. – Из писем м-ль де Керуаль мне также стало известно, что среди самых близких друзей Карла II ведутся разговоры о неких сокровищах, которые могут оказать большую помощь партии короля. Тут Кольбер умолк и извлек из-под бумаг небольшую книжку в потертом кожаном переплете, похожую на дамский молитвенник. При виде ее леди Бертрам вздрогнула и изменилась в лице. Впрочем, ей удалось справиться с собой быстрее, чем это заметил министр. – Знаете ли вы, что это такое? – О нет, откуда, монсеньор? – Это книга сэра Уолтера Рэли «Открытие Гвианы», 1596 года выпуска. Мне ее тоже прислали из Лондона. Самое интересное заключается в том, что во всех известных широкой публике изданиях Рэли намеренно опустил некоторые географические подробности, не поместив в них и карты, собственноручно им составленные. Это издание, предназначенное Рэли в дар королеве-девственнице, хранилось в архиве королевской библиотеки в Виндзоре, и по тексту оно несколько отличается от тех, которые мы с вами могли бы прочитать. Были в нем и карты – только они аккуратно кем-то вырезаны. Так вот – ваша задача найти недостающие листы. Я полагаю, мне не надо объяснять, у кого искать. – Я в совершенном недоумении. – Тогда я буду вынужден изъясняться прозрачнее. Настоящий текст книги и карты могут быть только у одного человека – у Роджера Рэли, внука капитана стражи Ее Величества королевы Елизаветы Тюдор. – Нет! – Да, миледи, да. Наши шпионы обшарили дом сына Уолтера Рэли, губернатора острова Джерси сэра Кэрью Рэли, и по достоверным сведениям, купленным у одного из слуг, стало известно, что сэр Кэрью подарил эту семейную реликвию своему первенцу, незаконнорожденному сыну Роджеру, которого признал и которому дал свою фамилию, горько сожалея, что не может передать ему и титул, и другие законные права. – Но я... – Не перебивайте меня, миледи! Поверьте, все очень серьезно. Голландцы или те, кто за ними прячется, отнюдь не легковерные простаки и не гоняются за пустыми химерами. Речь идет ни много, ни мало – о судьбе французской метрополии и нашем приоритете в колониях, то есть во всей Европе. Мы создадим флот, равного которому не будет в мире, но... – увлекшись, он сжал кулак и легонько пристукнул им о поверхность стола. – Деньги – вот что мне сейчас нужно! Огромные деньги! Король и его двор не любят экономить. Вот и этот переезд в Версаль... Кольбер оборвал себя на полуслове и невидяще посмотрел на миледи. «Тщеславный безумец, великолепная посредственность... – с горечью подумал он. – Сколько раз я пытался объяснить королю, что этот дворец послужит больше его удовольствиям, нежели его славе. Его слава!.. Она заботит Луи более, чем дела Государства. Однако, если он пожелает обнаружить в Версале (на который уже потрачено, только помыслите! двадцать миллионов экю) следы этой славы, он, несомненно, огорчится, ибо их там не обнаружится! Разумеется, о величии духа сильных мира сего ничто не свидетельствует лучше, чем военные победы и строительство; и потомки наши мерят это величие по оставшимся после нас зданиям и триумфам. Посему, какая жалость, что Людовика и меня будут оценивать только по мерке Версаля... О-о, пустой век, легкомысленные сердца. Что ж! Король все борется с фрондой среди придворных, не желая понимать, что источник любого бунта заключается в нем самом. Он не терпит тех, кто рассчитывает на собственные силы и имеет независимый ум...» Министр молчал, и миледи обнаружила, что складки разочарования у его рта стали еще глубже. – Теперь вы понимаете, какое будущее я перед вами открываю? Если все получится, вы сможете рассчитывать на благодарность Его Величества и на место при французском дворе, со всеми вытекающими отсюда привилегиями! – Наконец-то Кольбер прервал изрядно затянувшееся молчание. – Благодарность короля – это самая почетная привилегия, – заметила леди Лукреция. – Я всегда знал, что ваш ум не уступает вашей красоте, миледи! – с удовлетворением произнес Кольбер. – Я бы предрек вам блестящее будущее, если бы вы не вспоминали с такой страстью прошлое. Быть может, вам нужна моя помощь? – Мне нужен только случай! Случай и подписанные вами бумаги. – Ну, так я даю вам их! – Что я должна делать? – Как можно скорее вы должны отправиться в Брест. Там вас будет ждать корабль, фрегат «Черная стрела». Мой секретарь передаст вам конверт, в котором будут более подробные инструкции. На «Черной стреле» вы отправитесь прямо на Мартинику. Капитан судна – мое доверенное лицо, можете положиться на него во всем... Или почти во всем. Его имя – шевалье Франсуа Ришери. Вы получите также рекомендательные письма к губернатору острова и достаточное количество денег в золоте и бумагах, которые вы сможете использовать на Мартинике. В колониях вы будете выступать под именем Аделаиды Ванбъерскен – соответствующие документы уже готовы. Ваше присутствие возможно на островах, которые принадлежат англичанам и испанцам. Вас могут узнать, поэтому вы должны быть осторожны. Никто и никогда не должен связать между собой имя Кольбера и ваше. Ищите банкира Давида Малатесту Абрабанеля, Он отбыл туда около двух недель назад на флейте «Голова Медузы». К сожалению, я узнал об этом слишком поздно. Разыщите его и узнайте, о чем пронюхала там эта старая лиса. Мы должны первыми добраться до сокровищ! Надеюсь, будучи англичанкой, вы не страдаете излишним патриотизмом? – Как англичанка, я потеряла все, что получила, родившись англичанкой. Стало быть, я и Англия – квиты. – Я возлагаю на вас большие надежды. Миледи кивнула и поправила выбившийся из прически локон слегка тронутых металлической пудрой черных волос. Министр невольно отметил безупречные линии ее руки, искусно подчеркнутые тончайшими кружевами из золотых нитей. – Итак, прошу вас – здесь все, что понадобится вам в ваших странствиях. Вот бумаги на имя Аделаиды Ванбъерскен. Ваш муж – купец, скончавшийся недавно в Ла Рошели. Вам по наследству досталось немалое состояние и склонность к путешествиям. Вы хотели бы приумножить свои богатства, но не знаете как. Одно высокопоставленное лицо посоветовало вам обратиться к известному в определенных кругах человеку – Абрабанелю. Эта милая сказка может его заинтересовать. Он человек осторожный, но не пропускает ни единой возможности наполнить свои сундуки. Если понадобится послать мне весточку – передадите ее Ришери, он найдет возможность переправить письмо по адресу. Можете доверять ему. Он предан мне лично... И наконец, – Кольбер взглянул Лукреции в глаза, – презренный металл... Он положил руку на ларец темного дерева, стоящий на краю стола. – Я прикажу, чтобы это отнесли в вашу карету. На первое время денег вам должно хватить. – Я буду само благоразумие и предусмотрительность, – пообещала Лукреция. – Однако миссия, которой вы облекаете меня, предполагает всякие неожиданности. – Что вы имеете в виду? – Мне нужен Lettres de cacliet *["164], за подписью короля. Вы ведь можете его получить, не так ли? Кольбер услышал ударение на слове «можете», которое сделала графиня, и подумал, что даже она уже ставит под сомнение его влияние на короля. – Не слишком ли многого вы хотите? У вас будут рекомендательные письма ко всем влиятельным лицам в колониях. С вашим талантом нравиться вы всегда сумеете найти выход. – Но... – Хорошо. Но за последствия вы ответите головой. На этом все. Мы и так уже упустили слишком много времени. Удачи, сударыня, и да поможет вам Бог! Леди Бертрам склонилась в прощальном реверансе, но вдруг подняла голову и посмотрела в глаза министра долгим оценивающим взглядом, словно прикидывая на вес его душу. Кольбер сделал вид, что не заметил нарушения этикета, и еще раз кивнул ей на прощание. Прошелестев платьем, она вышла, и лакей прикрыл за ней дверь. Министр несколько секунд смотрел ей вслед, а потом тихо пробормотал себе под нос: – Впрочем, если вам поможет дьявол, сударыня, то меня устроит и это. Говорят, что там, куда вы отправляетесь, дьявол у себя дома. Он поднял руку и дернул за шелковый шнур, висевший рядом со столом. Вошел секретарь. Кольбер кивнул на тяжелый ларец. – Отнесите это в карету леди Бертрам, – распорядился он. – И поторопитесь, Буало, а то придется вам мчаться до самого Бреста! Графиня очень решительная женщина и может вас не дождаться. Секретарь принял из рук вельможи ларец и, неслышно ступая в подбитых войлоком туфлях по натертому воском паркету, скользнул в приемную. Оставшись один, министр финансов обхватил голову руками и задумался. С годами он все чаще вспоминал ту блестящую интригу, с которой началось его восхождение к могуществу. Тень сюринтенданта незримо присутствовала в его мыслях с тех самых пор, как Никола Фуке скончался в крепости Пинероло почти три года назад. Кольбер прожил долгую, жизнь, и теперь, в зените славы, он, подобно Соломону, открыл для себя неотвратимые законы Провидения. Услышав о страшной и безвестной кончине своего старого врага, он вдруг осознал, что его собственный финансовый трон столь же шаток, как и его предшественника, а правила игры, возносящей людей вверх и сбрасывающей вниз, столь же применимы к нему, как и ко всем остальным, чья судьба зависела лишь от прихоти короля и капризов Политики – этой безжалостной богини современности. О, как он почувствовал это, когда открылось это отвратительное дело об отравителях. Он строил свою вселенную как рачительный архитектор, работая по шестнадцать часов в сутки, и вот она заколебалась под страшными ударами судьбы. Какая нелепость, какой кошмарный бред! Сами устои общества пошатнулись, когда следствие открыло, каким именно образом многие знатные дамы и господа получали наследства, избавлялись от соперников, соперниц или опостылевших супругов. И почему среди клиентов отравительницы Вуазьен оказалось подозрительно много друзей Кольбера, в том числе и сама мадам де Монтеспан, теперь уже бывшая фаворитка короля?! Боже, какой удар по репутации! Ах, Франсуаза, Франсуаза... Все тебе было мало! Жажда всемогущества и поклонения иссушила твое сердце. Нет пропасти глубже, чем душа человека – падать в нее можно всю жизнь. А его личный'враг, военный министр, безумец Лавуа, который, сам не ведая того, последовательно уничтожал то, что с таким трудом собирал Кольбер, не упустит столь прекрасной возможности. Такой же беспородный выскочка, он любил только войну, которая воплощала в себе все то, что Кольбер ненавидел и с чем боролся всю жизнь: хаос, разорение, смерть, анархию и нищету. Вот она, тень свергнутого вельможи, вот он – конец карьеры. Да Бог с ней, с карьерой. Это конец Франции. Что это – воля Провидения или цепь роковых случайностей? А вдруг схватка еще не проиграна? А что, если этой женщине удастся найти клад? Тогда Кольбер и Франция получат передышку, а король, удовлетворив запросы двора, снова не будет мешать ему в его нелегком труде по созиданию великого государства. Словно отгоняя тяжкие думы, Кольбер помотал головой и отнял холодные руки от изборожденного глубокими морщинами лба. Перед ним по-прежнему лежал раскрытый бювар с бумагами, и, вздохнув, он вернулся к работе – своему единственному утешению.
Леди Лукреция Бертрам, разумеется, дождалась секретаря, который принес ее деньги и бумаги, но уж потом она действительно гнала во весь опор. На постоялых дворах ей без разговоров меняли лошадей. Денег Лукреция не считала, с легкостью раздавая их всем, кто мог ускорить ее путешествие. В Брест она прибыла на следующие сутки, к полуночи. Крепость встретила ее непроницаемым мраком, потоками дождя и порывистым ветром. Закутавшись от дождя в дорожный плащ с капюшоном, леди Бертрам сразу отправилась к коменданту форта, занимавшему одну из башен. Комендант, высокий седой мужчина с сабельным шрамом на щеке, прочел письмо всесильного министра, предъявленное ему Лукрецией, и почтительно наклонил голову: – Я к вашим услугам, сударыня! «Черная стрела» стоит на рейде и ждет только команды отправляться. Прикажете переправить вас на судно прямо сейчас или подождете до утра? В такую погоду вам будет непросто подняться на корабль... – Вздор! – резко ответила леди Лукреция. – Мне приходилось это делать в любую погоду. Распорядитесь, чтобы готовили шлюпку! Только проследите, чтобы мой багаж был доставлен на борт в целости и сохранности! А теперь велите подать мне ужин и пришлите служанку, чтобы помогла мне переодеться. – Все будет сделано, как вы прикажете, сударыня! – не стал спорить комендант. Через четверть часа Лукреция в компании десяти крепких матросов и помощника коменданта плыла в шлюпке по направлению к фрегату, силуэт которого грозно вырисовывался впереди в просветах рваных туч. В заливе ветер был еще сильнее, море катило пенные валы прямо навстречу лодке, которая шла прямо на свет фонаря, рискуя зачерпнуть носом воду. Дождь усиливался, и даже кожаный плащ уже не спасал от влаги. Помощник коменданта выказал опасение, что при таком волнении пассажирка не сумеет подняться на борт. Но Лукреция ответила на это довольно резко: – С некоторых пор я привыкла сама о себе заботиться, мсье! А вы лучше потрудитесь поднять наверх мой багаж. И если из него пропадет хоть одна пуговица, вас будут судить военным судом! Больше никто не решался давать ей никаких советов. Надо сказать, что бывалые моряки не без восхищения наблюдали за отчаянной женщиной, чью изящную фигуру только подчеркивало надетое на нее мужское платье и высокие ботфорты. Она без видимого труда поднялась по штормтрапу на борт корабля. Она словно не замечала ни холодного ветра, ни дождя, ни качки. На последних ступенях веревочной лестницы Лукрецию подхватили чьи-то сильные руки, и кто-то бережно поставил ее на палубу. Когда она оказалась наверху, из шлюпки донеслись возгласы одобрения. – Добро пожаловать на борт «Черной стрелы», сударыня! Если не ошибаюсь, вы – мадам Аделаида Ванбъерскен. Я счастлив принимать у себя столь прекрасную гостью. И поверьте, я безмерно восхищен как вашей несравненной внешностью, так и вашим мужеством! Вы удивительная женщина! В неверном свете фонарей, которые держали матросы, окружавшие Лукрецию, она смогла рассмотреть человека, отпускавшего ей комплименты. Это оказался мужчина лет тридцати пяти с удлиненным породистым лицом, на котором явственно выделялись скулы. Он был закутан в плащ. С полей его шляпы стекала вода. Из-под плаща торчал кончик шпаги. – Капитан Ришери, если я не ошибаюсь? – отрывисто произнесла Лукреция и, получив утвердительный ответ, попросила: – Давайте не будем обмениваться сейчас любезностями, шевалье! Я чертовски устала! Проводите меня в мою каюту. И отдайте приказ сниматься с якоря – мы идем на Мартинику! – Я восхищаюсь вами все больше и больше! – заявил Ришери, почти насильно завладев ее рукой и пытаясь поцеловать мокрую перчатку. – Для вас приготовлена самая лучшая каюта, какая только может быть на военном корабле. Я приложу все старания, чтобы, пока вы отдыхаете, вас не беспокоили, сударыня. – Да уж, приложите, будьте столь любезны, – кивнула Лукреция, при этом краем глаз наблюдая за тем, как поднимают ее багаж. – И скорее в путь! Промедление для нас подобно смерти! – Для вас все, что угодно! – с жаром сказал Ришери, смело глядя ей прямо в глаза. Лукреция усмехнулась. – Не так пылко, шевалье! – предупредила она. – Я не та крепость, которую можно взять наскоком. – Я готов к долгой осаде, – тут же заверил ее Ришери. – Однако ливень усиливается! Скорее в каюту! Обопритесь о мою руку, сударыня! Они почти бегом кинулись по скользкой палубе к кормовым надстройкам, где располагались помещения для офицеров и капитана. Там же была приготовлена удобная каюта для загадочной пассажирки, о которой заботился сам Кольбер. – Идите же, командуйте! – немедленно распорядилась Лукреция, чтобы предупредить очередной фейерверк комплиментов, который собирался выдать Ришери, проводив даму в отведенную ей каюту. – Я хочу, чтобы мы больше не задерживались здесь ни минуты! Слегка разочарованный ее холодной решительностью, Ришери, заметив, что она сняла перчатки, наконец поцеловал ее руку и, решив удовлетвориться на сегодня этим, поклонился и вышел. Вскоре матросы, грохоча башмаками, внесли багаж. А еще через некоторое время с палубы донесся скрежет шпиля – «Черная стрела» снималась с якоря. Наконец-то Лукреция осталась одна. Поддавшись усталости, она, прямо в кафтане и ботфортах, повалилась на неразобранную постель. От пережитого напряжения болезненно стучала в висках кровь, глаза закрывались сами собой. Вздрагивающее на волнах судно казалось ей огромным морским животным, в чрево которого ее забросил случай. Ей до черта хотелось спать, но она пересилила себя и при колеблющемся свете фонаря проверила содержимое своего сундучка. Все было на месте, она ничего не забыла. Только тогда, облегченно вздохнув, она привычными движениями сняла с себя мужской костюм и прямо в нижней рубашке забралась под одеяло и задула свечу. Разбудил ее вежливый стук в дверь. Она открыла глаза и первым делом посмотрела в иллюминатор, защищенный от непогоды куском стекла. Вскочив с кровати, она откинула щеколду и снова нырнула под одеяло. Стюард, одетый в ливрею, внес завтрак: холодную дичь, фрукты, бокал с водой и крохотную чашечку горячего шоколада. Лукреция сразу же почувствовала, как голодна, но прежде, оценив заботу капитана, с удовольствием выпила густой горький напиток, к которому приг страстилась во Франции. Только покончив с ним, она с жадностью набросилась на еду. Насытившись, она задумалась о том, как опрометчиво она поступила, не захватив с собой камеристку. Неожиданно в дверь постучали, и на пороге возник Ришери. – Простите, мадам, что я беспокою вас в такой час, но у меня есть оправдание. Я захватил с собой женщину, которая сможет прислуживать вам в путешествии. Она бретонка, привыкла к морю и умеет держать язык за зубами. – О, как вы предусмотрительны, шевалье! – с неподдельной радостью воскликнула Лукреция и приподнялась с подушек. Прежде чем деликатно отвернуться, капитан успел разглядеть под тонкой батистовой рубашкой безупречные формы ее гибкой фигуры. – Кстати, сударыня, – шевалье испустил легкий вздох, – заранее прошу прощения за своего кока! К сожалению, господин министр в своих неусыпных заботах о флоте Его Величества, издав массу полезных индиктов и ордонансов, не посчитал важным подумать и о поварах. Я получил это несчастье в придачу к целой команде и... Впрочем, не буду вам мешать. Вашу служанку зовут Берта. – Шевалье поклонился и, еще раз окинув взглядом полуодетую женщину, вышел из каюты. Совершив утренний туалет при помощи нечаянной камеристки, миледи отослала ее, пожелав остаться в одиночестве. Она извлекла из дорожного сундука небольшой ларчик из розового дерева и, поставив его на стол, откинула крышку, превратив его в некое подобие переносного бюро, состоящего из зеркала и множества выдвижных ящичков. Одна только эта вещица, сделанная на заказ, могла многое порассказать о графине и ее привычках, выдавая в ней опытную путешественницу и предусмотрительную женщину, не полагавшуюся на случай и способную о себе позаботиться. В этом замечательном ларце хранились различные духи, пудры, помады, ароматические эссенции, свинцовые карандаши, коробочки с сурьмой, баночки с кремом, флаконы с различными бальзамами и настойками, золотые щипчики и ножницы, беличьи кисточки и лебяжьи пуховки – то есть те сотни предметов, которые превращают скромную женщину в светскую львицу, зачастую полностью занимая ее сердце и ум. К тому же в потайных ящичках, закрывавшихся на ключ, всегда находившийся при ней, она хранила драгоценности и бумаги. Итак, откинув крышку ларца, Лукреция приступила к своему ежедневному ритуалу, возведенному в некое священнодействие, единственное, которое она соглашалась признать. Лукреция занялась своей внешностью – безупречным, не знающим поражений и ни разу не подведшим ее в сражении оружием, которое досталось этой женщине от рождения и которое она совершенствовала как могла. Она тщательно омыла руки винным спиртом и обтерла лицо венериным платком – кусочком ткани, вымоченным в течение многих дней в различных ароматических составах. Затем она зачерпнула из золотой коробочки немного крема, составленного из китового жира и травяных экстрактов, и кончиками пальцев нанесла его на лоб, щеки, подбородок и шею. После тщательного осмотра ногтей она покрыла руки кремом из другой, серебряной, коробочки. После этого она подправила золотыми щипчиками брови, отработанными движениями помассировала глаза и решила, что на корабле ей не понадобятся ни помада, ни румяна, ни сурьма для ресниц и бровей, зато совершенно необходима пудра, защищающая лицо от ветра и солнечных лучей. Напудрившись, она поудобнее устроилась в кресле и принялась внимательно изучать свое лицо, к которому она относилась с тем же пиететом, с каким ювелир относится к своей лупе, а хирург – к ланцету. Лицо стало для нее безупречным инструментом по удовлетворению снедающих ее страстей, и она владела им в совершенстве. Как опытный фехтовальщик, разминаясь перед схваткой, проверяет рапиру и делает несколько пробных выпадов, так и Лукреция попеременно изобразила удивление, печаль, восхищение и мольбу, умело управляя мимикой своего такого безмятежного с виду лица, на котором не было ни одной морщинки, способной выдать ее тайны. Затем она наклонилась прямо к зеркалу и вперила в него неподвижный взгляд, словно стараясь разглядеть в нем собственную душу. Но из стекла, вышедшего из умелых рук самого Дюнойе, на нее смотрела зеленоглазая молодая женщина лет двадцати пяти – двадцати семи, с неубранными вьющимися волосами, падающими на распахнутую на груди мужскую рубашку из белого батиста, ворот которой был отделан кружевами. Но графиня уже не видела себя, ее мысли витали далеко в прошлом...
...На Рождество он принес ей омелу. Выпал снег, и она могла из окна спальни видеть его одинокие следы, ведущие прямо к крыльцу дома. Она привыкла видеть их под своими окнами каждую зиму, с тех пор как ее родители арендовали этот дом. – Красиво, правда? – Роджер возник на пороге, одетый в длинный плащ, подбитый мехом, на его волосах и щеках быстро таяли крупные снежинки. Он грустно улыбнулся и приложил ветку к ее черным как вороново крыло волосам. Она тут же подбежала к небольшому зеркалу, стоявшему на столике возле ее кровати. – С нею ты выглядишь как ирландская богиня Морриган, прекрасной и дикой... Опаловые ягоды и кожистые зеленые листья как нельзя лучше оттенили ее изумрудные глаза и белоснежную кожу, и вправду придав ее облику что-то волшебное. Хотя она и не видела Роджера в зеркало, но знала, что он в эти минуты восхищенно следит за ней. – Знаешь, чтобы выжить, омеле необходимо пить соки деревьев – сама себя она прокормить не может. Вместо корней у нее есть маленькие присоски – ими припадает она к стволам деревьев и высасывает из них жизнь. Могучие лесные великаны сохнут и умирают, а она перекидывается на новые, разрастаясь все пышнее, наливаясь силой и красотой... Лукреция, слушала Роджера вполуха, откровенно любуясь собой в зеркале. Роджер подошел сзади и поцеловал ее в щеку, положив руки ей на плечи. Она прислонилась к нему, ощущая холод, который он принес с улицы. Вдруг он вырвал у нее ветку и швырнул на пол. – О, Роджер, что ты делаешь? Нахмурив брови, он наступил ногой на омелу, из ягод ее брызнул сок, густой как кровь. – Она мне разонравилась. Лучше я подарю тебе настоящие рубины и изумруды. – Глупый, откуда ты их возьмешь, ведь ты нищий! – Могла бы не напоминать мне об этом, Лукреция, – вполне достаточно, что я сам не забываю об этом ни на секунду. – Он отошел к окну и принялся барабанить пальцами по деревянной раме.
Графиня Бертрам поймала себя на том, что безотчетно постукивает кончиками лальцев по краю стола. Ее отражение теперь не было столь молодо и прекрасно, – оно было искажено страданием и ненавистью. Лукреция отшатнулась от зеркала и в гневе захлопнула ларец, словно страшась, что он раскроет ее тайну. Затем она встала и до тех пор прохаживалась по каюте, пока на лице ее снова не заиграла спокойная улыбка светской женщины. Чтобы окончательно прийти в себя, она извлекла из ларца хрустальный флакон, отвинтила тщательно, притертую воском пробку и с наслаждением вдохнула ароматическую эссенцию, также сбрызнув ею свою одежду. В каюте повеяло чарующим ароматом нероли с легкой примесью лаванды и едва различимыми розой и бергамотом. Этот запах, который она сама составила, немного изменив рецепт любимых духов Генриха III, всегда оказывал на нее самое благотворное действие. Надо сказать, что в это время духам отводилась огромная роль. Считалось, что запах заключает в себе суть и принцип, то есть основу устройства и действия любого вещества. Из этого ученые того времени выводили, что запах – это не просто некое свойство предмета, а воплощенная в материальные качества его душа. Именно поэтому каждая вещь отмечена своим особым запахом – это характеристика ее внутренней, скрытой от глаз, непритворной и истинной сущности. Запах несет в себе квинтэссенцию предмета или вещи – в нем зашифрована ее истинная суть. Кто овладеет секретом – тот овладеет не просто вещью, а ее душой. Кто присвоит себе запах той или иной вещи – тот использует ее способности влиять на окружающий мир посредством запаха, тот станет обладателем этих свойств или испытает на себе их благотворное или вредоносное действие. Прогресс внес в теорию запахов лишь одно кардинальное изменение: говоря об ароматах и энергиях, мы заменили слово «быть» на «казаться». В любом случае, пользуясь духами женщина и мужчина хотят вызвать определенные чувства, которые в обычном состоянии никак с ними не соотносятся. Графиня была большим знатоком химии и парфюмерии и, как многие знатные люди того времени, увлекалась составлением различных духов и притираний, тщательно скрывая от окружающих свое знание о других, менее безобидных составов. Внеся аромат нероли как немаловажный штрих в создание своего облика, она накинула на себя камзол и надела шляпу, тщательно спрятав под нее волосы. Теперь можно было и прогуляться.
* * *
– Скажите, где мы сейчас? – спросила леди, Лукреция капитана к концу третьей недели плавания. – Мы сейчас в самом сердце Атлантического океана – пересекаем тропик Рака. Это круг, придуманный астрономами; он лежит, словно пограничная черта, на пути солнца на север на 23°27'. В честь пересечения здешних широт новички в команде будут подвергнуты обряду крещения. Это старая морская традиция. Советую посмотреть, это покажется вам забавным. – Крещение? Но почему? – Так повелось, сударыня, – пожал плечами Ришери. – Уж не собираетесь ли вы окрестить и меня, капитан? – с улыбкой спросила Лукреция. – Об этом не может'быть и речи! – взволнованно сказал Ришери. – Обычай совершенно варварский. Однако приходится его исполнять. Флот держится на традициях, даже если они и нелепы. – Что ж, пожалуй, я не откажусь взглянуть на это представление, – согласилась Лукреция. – Путь долгий – так почему бы его не скрасить немного. А в грубых народных обычаях есть своя прелесть. – Позвольте проводить вас на палубу, сударыня! – с надеждой в голосе сказал Ришери. – Вот моя рука! Лукреция вышла на верхнюю палубу, когда действо было в самом разгаре. – Мы много раз проходили этим курсом, – пояснил капитан не без самодовольства. – И сегодня у нас только десяток новичков, не нюхавших этих широт! Ну уж и достанется им! – он рассмеялся. Лукреция огляделась. На небе не было ни облачка. Узкая полоска облаков висела в западной части небосклона. Туда же, в западном направлении дул жесткий порывистый ветер, насколько можно было судить по направлению флюгера и развевающихся флагов на носу и корме. Неожиданно, меньше чем в одном кабельтове от борта, из воды выпрыгнула стайка серебристых рыб и, пролетев над водой около двадцати футов, поднимая брызги, вновь ушла под воду. – Смотрите, мадам, это летучие рыбы. Мы часто встречаем их в этих широтах, – они лишний раз подтверждают, что мы не сбились с курса и пересекаем тропик Рака. Севернее их никто не видел. – У них что, есть крылья? – О нет, крыльев у них, конечно, нет, но их нагрудные плавники расположены необыкновенно высоко и столь длинны и широки, что рыба может парить на них над водой. Так они спасаются от хищных рыб, что охотятся за ними. Случается, что, напуганные акулами, они так высоко выпрыгивают из воды, что падают прямо на палубу корабля. А на палубе тем временем творилось что-то невообразимое. Лукреции не впервые приходилось выходить в море, и она хорошо представляла себе, каков должен быть порядок на корабле, тем более военном. Но, судя по всему, сегодняшний день был исключением из правил, которым обязаны следовать все мореплаватели. Обусловленные суевериями и верой в стихийных духов, эти диковинные обряды позволяли морякам немного отдохнуть от тяжелой физической работы и скудного однообразного рациона, как правило состоящего из солонины, сухарей и литра несвежей воды в день на человека. Матросы «Черной стрелы», суровые, закаленные испытаниями мужчины, веселились как дети. Они столпились на носу, образовав полукруг, в центре которого восседал вершитель церемонии – боцман, разряженный, точно на карнавале. Этот огромный, шести футов ростом человек был одет в какой-то невиданный балахон, волочившийся за ним, точно мантия. На голове его красовалась шляпа с огромными полями, загнутыми под каким-то невероятным углом. В правой руке боцман держал деревянный меч, в левой – горшок с колесной мазью, а на его широкой груди висело ожерелье из деревянных корабельных гвоздей. Глаза на старательно вымазанном сажей лице страшно сверкали. С двух сторон боцмана окружали помощники с большими ведрами в руках. Вращая глазами для пущего драматического эффекта, боцман взмахнул своим оружием и проревел: – Кто?! Кто еще посмел войти сюда некрещеным?! Дайте его мне! Где он?! В толпе матросов произошла давка, а потом под дружный гогот и ободряющие крики на середину был вытолкнут худосочный юноша с простоватым симпатичным лицом, но по-деревенски неповоротливый. Он озирался вокруг с таким испугом, будто в следующую секунду его должны были вздернуть на грот-рее. – Жак Анно?! – заорал боцман. – Это ты посмел потревожить владыку морей Нептуна? На колени, ничтожество! Парень бухнулся на колени перед вошедшим во вкус боцманом. Тот зачерпнул вонючей смазки из горшка и перемазанными пальцами смачно перекрестил лоб новичку. Затем он взмахнул деревянным мечом и довольно крепко огрел им парня по шее. Звук удара потонул в одобрительном хохоте команды. Помощники, сделав страшные физиономии, разом окатили крещенного забортной водой из огромных ведер. Когда ошеломленный Жак наконец поднялся, вода стекала с него ручьем. – Теперь плати выкуп, и ты свободен! – снова проревел боцман. Парень сгорбился и, переваливаясь на полусогнутых ногах, побежал куда-то, но почти сразу же вернулся, бережно прижимая к мокрой груди оплетенную бутыль. – Каждый новичок должен оставить у подножия грот-мачты выкуп – бутыль вина, – объяснил Лукреции Ришери. – Если же корабль впервые пересекает эти широты, такая участь ждет всех, включая и капитана. Лукреция пригляделась – возле грот-мачты лежало три бутылки. Значит, нужно было запастись терпением еще на семь крещений. – Марсель Роберт!! – с азартом завопил боцман. – Где Марсель Роберт?! Он посмел войти в мои владения непосвященным? Дайте мне его! Немедленно! Матросы засуетились и вышвырнули под ноги боцману еще одного несчастного. Боцман удовлетворенно захохотал. Лукреция сжала пальцами перила галереи. У нее на мгновение перехватило дыхание. Луч солнца ослепил ее. Закружилась голова. Голос боцмана чем-то напомнил ей другой – голос, подобный звериному воплю, тот, который она так хотела забыть. Хотя, пожалуй, нет. Она никогда его не забудет...* * *
Это был великолепный линейный корабль. Вышколенная команда, сорок пушек, не считая носовых бомбард, опытный капитан. Только на флагштоках грот– и бизань-мачт развевались красно-белые стяги и вымпелы Англии, а на борту все было устроено куда строже и разумнее. «Месть» принадлежала лорду Бертраму: прекрасное трехпалубное судно длиной по верхней палубе около 150 футов, с экипажем в двести человек. Оно шло через Атлантику в одну из английских колоний, где муж Лукреции сэр Томас Бертрам собирался прикупить табачную плантацию. Кто-то подсказал ему, что Новый Свет – будущее нации, и он, не привыкший верить никому на слово, отправился в путешествие, чтобы составить свое собственное мнение об этом предмете. Сказать по правде, этот напыщенный аристократ мог бы придумать что-то более приличествующее красавице-жене. Но этот человек не привык считаться ни с чьим мнением и ни с чьими чувствами. Если бы юная леди Лукреция вздумала сказать, что ее не интересует поездка к дикарям, лорд Бертрам несказанно удивился бы и, наверное, ее не понял. Да она и не спешила навязывать ему свои мнения. Человеку, который владеет домом в Лондоне, поместьем в Корнуэлле, крупными земельными угодьями в Ирландии и является членом Парламента, можно простить многое. Можно простить его занудство, черствость, его пятьдесят лет, вечно красную физиономию с выпученными, будто стеклянными глазами, даже то, что этот человек не способен сделать счастливой ни одну женщину. В конце концов, у всех есть свой скелет в шкафу. Всего на свете не получишь, но деньги могут заменить многое. Ради денег Лукреция отказалась от своей любви. Хотя теперь она и сама не знала, была ли то любовь. Все это было так мучительно, так больно и сладостно одновременно. Она знала этого человека с детства, и ее влекло к нему, как муху к сахарной голове. Он не был богат и знатен, хотя и носил одну из знаменитых фамилий Англии. Они были уже больше чем помолвлены, перешагнув через опасную грань целомудрия. Да, конечно, она любила его, иначе бы никогда не решилась принадлежать ему... Но потом на ее жизненном пути возник лорд Бертрам. Это была случайная встреча в одном доме, но сэр Бертрам тогда ее заметил и стал оказывать знаки внимания. По-своему, конечно, со свойственным ему самодовольством и почти солдатской прямотой, но тогда Лукрецию это не могло смутить. Положение ее к тому времени сделалось отчаянным, а Роджер исчез... Но она не виновата – он сам бросил ее, и у нее не было другого выхода. Ждать и терпеть она не умела никогда. И она решилась разорвать помолвку и принять предложение сэра Бертрама. Это был отчаянный шаг, но, пробираясь через грязь, нужно смириться с тем, что она забрызгает твое платье. В конце концов, Роджер сам был виноват. Лукреция никогда не могла рассчитывать на его благоразумие. Рыцарь Роджер не был надежным мужчиной. У него слишком часто менялось настроение, он слишком часто уезжал, и уезжал надолго, он бывал порою невыносимо груб, и у него почти никогда не было денег. Жизнь с ним можно было просчитать до самого последнего шиллинга. Это была бы жизнь, полная невзгод и разбитых иллюзий, и никакие его мужские достоинства, никакое очарование не могли бы этого исправить. Тому свидетель его прадед, который прожил такую же нелепую и бессмысленную жизнь, сам подрубив корни своего могущества и благополучия. Когда Роджер в очередной раз возвратился после полугодовой отлучки, то получил свое кольцо и письма обратно вместе с короткой эпистолой, где она уведомила его о недавнем замужестве, отказав ему даже в короткой встрече. Конечно, она боялась, что он снова толкнет ее на какое-нибудь безумство, а ведь ее положение... Тогда была поздняя осень, и сквозь плотно задвинутые портьеры в спальне она видела, как он простоял целый день под проливным дождем, держа в одной руке шляпу, а в другой трензеля беспокойно переступавшей лошади. Наконец сэр Бертрам не выдержал и велел слугам «прогнать этого наглеца». Больше они не встречались – Роджер бесследно исчез, а управление полуразоренным поместьем взял на себя его отчим. Она надеялась, что жизнь больше никогда не поставит Роджера на ее пути. Ах, если бы она дога» далась... Она бы на коленях вымолила у мужа позволение остаться дома, она бы переехала в Ирландию, оставив веселый двор «первого жеребца королевства» Карла II, но она была глупа и легкомысленна. Муж, вопреки моде, вовсе не хотел, чтобы его величали рогоносцем, и по его решению она отплыла вместе с ним. О, ее не снедали даже дурные предчувствия. Она мучилась совсем от другого: от палящего солнца, от качки, от невкусной пищи и теплой воды, от вечного присутствия мужа, наконец решившего заняться укрощением ее нрава и абсолютно невозмутимого при виде женских истерик, обмороков и недомоганий; от скуки и невозможности блистать, чего требовали ее гордость и красота. Она даже пожалела, что прогнала Роджера, ведь можно было сделать его любовником, как это делали все леди при дворе. Она привыкла руководствоваться своими страстями и страдала от невозможности удовлетворить их, но она не знала, что судьба готовит ей испытания более страшные, чем скверный характер супруга. В одно прекрасное утро капитан объявил тревогу, и на юте засвистел боцманский свисток. Лукреция, выйдя на палубу прогуляться, увидела карабкающихся по вантам матросов, озабоченных офицеров, капитана на мостике, беспрестанно подносящего к глазу подзорную трубу, и всеобщее беспокойство передалось ей. Она спросила у мужа, что случилось. Он был, пожалуй, единственным человеком на корабле, который сохранял полнейшее спокойствие. – Наш капитан немного беспокоится, дорогая, – объяснил сэр Бертрам. – Он утверждает, что прямо на нас идут пираты. Но мне кажется, волноваться не стоит. Ни один пират не рискнет ввязаться в бой с «Местью». Ее орудия отпугнут любого негодяя. К тому же здесь совсем близко земля. В любую минуту может появиться английский военный корабль. Нет, я убежден, что это человеческое отребье не осмелится на нас напасть. Мне приходилось общаться с бывалыми людьми – они рассказывали, что морские разбойники по сути своей трусы. Лукреция не была в этом уверена. Она видела, как встревожены капитан, офицеры и матросы. На корабле подняли все паруса и попыталисьсменить галсг чтобы поймать ветер и уйти. До голландской колонии острова Сен-Мартен оставалось около сорока морских миль. Гонка продолжалась около часа, но потом что-то переменилось. Неожиданно к супругам, придерживая рукой шпагу, подошел молодой лейтенант – он был бледен и необычайно серьезен – и настойчиво предложил: – Сударыня, вы должны немедленно покинуть палубу! Сейчас здесь будет чересчур жарко. Пираты у нас в кильватере, и намерения их не оставляют сомнений – они будут атаковать. Все мужчины, способные носить оружие... – Довольно, сэр! – сэр Бертрам властно остановил лейтинанта. – Дорогая, позволь проводить тебя в каюту, а потом я вернусь сюда, чтобы помочь нашим храбрым офицерам... Лукреция не спорила. Она была на грани обморока. Ей показалось, что небо наказывает ее за грехи, за расторгнутую помолвку, за брак по расчету, за... за все то, чему нет конца и чего она даже не может сейчас вспомнить. Схватка началась через полчаса. «Месть» меняла галс, чтобы повернуться к пиратам пушками. Впервые Лукреция услышала, как палят корабельные орудия. Первый залп двадцати пушек «Мести» с правого борта был такой силы, что Лукреции показалось, будто взорвался пороховой погреб. Она оглохла и окончательно потеряла самообладание. В отчаянии металась она по каюте, пытаясь молиться» но молитвы вылетели у нее из головы, а сосредоточиться мешала канонада. Опять грянули пушки – но откуда-то со стороны, а на корабле послышался треск лопающегося дерева, крики раненых и громкие команды офицеров. Расстояние между судами сократилось до полутора кабельтовых, и теперь пиратская шхуна шла почти параллельно, но несколько поотстав. «Месть», перезарядившись, снова дала залп из пушек. На этот раз ее ядра попали в цель. Пробив фок и грот, они срезали фок-рею, взорвавшись на палубе. Ветер донес крики раненых, на несколько секунд скрыв шхуну за клубами дыма. С квартердека запоздало ударила бомбарда, с грохотом разнеся кормовой фальшборт и разбив кормовую палубу. Тут же в ответ со шхуны просвистели ядра, повредив ванты, они взорвались прямо на шканцах, убив и ранив несколько десятков матросов. – Брасопить справа! Взять штурвал на себя! Из бортовых пушек – огонь! Тогда еще не изобрели винтовую нарезку орудийных стволов, и лишенные вращения снаряды не могли с такой точностью попадать в цель, да и скорость полета их была гораздо ниже. Именно это и делало абордаж столь эффективным, невзирая на обстрел. Судя по всему, целью пиратов являлся не только груз, но и само судно, что и определяло их тактику ведения боя: создавалось ощущение, что они старались произвести на атакуемом корабле как можно меньше разрушений, не считаясь с огромными потерями среди своих. Шхуна, на палубе которой уже можно было разглядеть готовящихся к абордажу пиратов, стремительно приближалась. Теперь «Месть» шла на фордевинд *["165], что снижало ее скорость, так как паруса на бизань-мачте загораживали собой фок, фок-брамсель и грот-марсель, снижая их наполняемость ветром. Капитан приказал идти на бакштаг *["166], что дало бы кораблю возможность увеличить скорость и расстояние между ним и пиратами. Но в этот самый момент более легкая и маневренная шхуна, которая уже вырвалась вперед на полтора корпуса, словно разгадав замысел капитана, совершила поворот оверштаг и, оказавшись на траверзе у «Мести», обстреливала ее бортовыми пушками, идя прямо вперед, не снижая скорости. «Месть» попыталась, снизив скорость, пропустить шхуну прямо перед своим носом, для чего матросы спешно кинулись крепить паруса. Но в последний момент шхуна неожиданно рыскнула *["167], повернув носом к ветру, и, пройдя в каких-то пятнадцати ярдах по левому борту судна, приблизилась к нему почти вплотную. Ядра засыпали пиратское судно, пробивали борта, взрывались в трюме, залетали на орудийную палубу, нанося шхуне непоправимый урон. На ее палубе бушевало пламя. Но шквальный огонь пиратских мушкетов и кремневых ружей безжалостно сметал с палубы англичан все живое, – среди нападавших было полно буканьеров – метких охотников за быками, и выстрелы их были в первую очередь направлены на офицеров и канониров. Пираты забрасывали пушечные порты и палубу зажигательными шарами, наполненными смесью пороха и мелкой дроби. Вдруг шальное ядро из пушки на верхней палубе «Мести», со страшным свистом пролетев над шхуной, ударило прямо в фок-мачту пиратского судна. Раздался треск лопнувшего дерева, и, увлекая за собой всю массу парусов и канатов, фок-мачта рухнула, запутавшись в парусах англичан. Оба корабля оказались намертво сцеплены перепутавшимися снастями. – На абордаж! – донесся страшный вопль с горящей шхуны, и вслед за гранатами на «Месть» полетели абордажные кошки. Послышались крики: «За береговое братство!», «За морскую вольницу!», и на палубу, потрясая пистолетами и абордажными саблями, хлынула толпа негодяев. Пушки на полубаке «Мести» спешно разворачивали, превращая нос корабля в неприступную крепость. Уцелевшие матросы и офицеры вступили в бой. «Месть», под командованием лорда Бертрама и его верного капитана, готовилась умереть, но не сдаться.«Месть» дрейфовала. Сквозь щели в каюту просачивался жирный, с запахом перца дым. У Лукреции начали слезиться глаза и запершило в горле. Что происходит наверху, она не знала. О том, чтобы выйти и оглядеться, не могло быть и речи. Ее охватило тупое оцепенение. Сколько времени она провела, забившись в угол кровати и обхватив от ужаса голову руками, она не знала. Она слышала, как содрогался от киля до клотика огромный корабль, как страшно трещали и лопались снасти, как с грохотом и свистом носились ядра, как загремели мушкетные выстрелы, которые сменилась зверскими воплями сотен глоток и неистовым звоном клинков. Лукреция сидела ни жива ни мертва и ждала. Чего – она и сама не знала. Сражение на борту «Мести» продолжалось недолго – рукопашная схватка скоротечна. В один прекрасный момент все стихло. Слышалось только тихое поскрипывание мачт, одиночные хлопки выстрелов и тяжелые шаги по палубе. Потом шаги застучали совсем близко. От резкого рывка дверь распахнулась, и в каюту ввалился полуголый, черный от порохового дыма и мокрый от пота человек. Он был ужасен, как посланец ада. Мокрые длинные волосы спадали ему на лицо, которое пересекала черная повязка, а уцелевший глаз горел поистине дьявольским огнем. Рот его был оскален в приступе безумного смеха. В руках человек держал дымящийся еще мушкет и окровавленную абордажную саблю. Кровью были забрызганы его кюлоты, мушкетная перевязь и короткая куртка, надетая прямо на голое тело. Лукреции стало совсем дурно, и она уже собиралась упасть в обморок, как вдруг слова пирата привели ее в чувство. – Ага, ты все-таки здесь, моя любимая! – вскричал ужасный человек. – А я еще сомневался, что Провидение услышит мои молитвы, но оно вняло мольбам скитальца, и вот я здесь, снова рядом с тобой! Ты не узнаешь меня, любимая? Я черен, вот причина! Лукреция, не отрывая глаз от пирата, медленно поднялась с кровати, бессознательно поправляя платье и волосы. А одноглазый скривился в издевательской усмешке и продекламировал: – Прости меня... ведь я, дурак, не верил, что вдруг однажды в стае воронья тебя я встречу, ласточка моя!Ха-ха-ха-ха!.. Ты, кажется, тоже никак не можешь поверить в нашу встречу? Это же я, твой Роджер, твой любовник, твой жених, которому ты клялась в верности и с кем хотела быть в горе и в радости! Лукреция застыла в безмолвном ужасе, пожирая глазами окровавленную фигуру и в страхе узнавая знакомые черты. А Роджер все говорил и говорил. – Кто этот краснорожий индюк? Эта надутая обезьяна – твой почтенный супруг? Это на него ты меня променяла? Тебя соблазнили его выпученные глаза или его золото? Я хочу знать цену твоей любви! – Роджер, опомнись! – Теперь я богат и могу перекупить тебя. Что ты об этом думаешь? Пойдем, ты представишь меня своему избраннику, и мы все вместе повеселимся! О, ужас брачной жизни! Как мы можем считать своими эти существа, когда желанья их не в нашей воле? Он грубо схватил Лукрецию за руку и поволок ее вон из каюты. Она вскрикнула от боли, но Роджер был неумолим. Через минуту они оказались на палубе, которая была полна таких же оборванных и отвратительных людей. Нет, людьми их назвать было просто невозможно! Это было какое-то скопище человеческих отбросов – с искаженными пороком лицами, со спутавшимися волосами, голые по пояс, с окровавленными саблями в руках. Скаля зубы, с безумным блеском в глазах, они расхаживали по скользкой от крови палубе, то и дело наклоняясь над трупами, беззастенчиво обыскивая их и стягивая с них одежду. Жестокое сражение между флибустьерами и англичанами принесло огромные потери обеим сторонам. Около двухсот трупов лежали там, где застигла их смерть, – на палубе, полубаке и полуюте взятого на абордаж корабля. Тут были и изрубленные в рукопашной, и разорванные ядрами и гранатами, и убитые из ружей и пистолетов. Среди залитых кровью мертвецов то и дело попадались раненые, но пираты приканчивали их ударами сабель, не различая ни своих, ни чужих. Англичане потеряли около ста пятидесяти человек, пираты – около полусотни. Капитан «Мести» был убит выстрелом из мушкета в лицо. Лукреция увидела его бездыханное тело с раздробленной головой, лежащее в луже крови всего в десяти шагах от нее, а над мертвецом, торжествуя, стоял сам дьявол. Во всяком случае, Лукреции так показалось. Дьявол был огромен, голова его была повязана засаленным куском когда-то драгоценной парчи, из-под которой торчали куски фитилей. Рожа его заросла черной бородой, причудливо заплетенной в косички и обернутой вокруг ушей и шеи; дополняли портрет пылающие злобой глаза и громовой голос, который Лукреция и вспомнила теперь, услышав ор французского боцмана. Но голос пирата был куда страшнее. – Я Черный Пастор! – ревел он, обращаясь к пленным, из которых многие были ранены, под пинками и ударами пиратов выстраивающимися у левого борта. – Я послан Небом, чтобы покарать вас за грех, который вы совершили, когда вышли в море, потому что такие недоноски, как вы, недостойны плавать по морям, держать в руках оружие и пить ром! Вы должны сидеть на суше, собирать козье дерьмо и крепко держаться за бабью юбку! За то, что вы нарушили определенный Богом порядок вещей, я намерен покарать вас, отправив прямиком в ад! Кстати, Дик, ты бы проследил, чтобы ребята побыстрее отцепили от левого борта нашу бедную шхуну, – вдруг прервав сам себя скомандовал он как ни в чем не бывало. – Рубите канаты к чертовой матери – надо отваливать *["168], а не то запалим кораблик. Дик оглянулся и, отшвырнув Лукрецию, заорал в сторону пленных: – Эй, вы! Плотник, канониры, кок и судовой врач могут выйти вперед и заключить контракт с капитаном! Остальные – как им будет угодно! Нестройные ряды экипажа «Мести» дрогнули, и вперед нехотя выступили дюжины две человек, среди которых Лукреция узнала обедавшего с ними в кают-компании доктора. – А ты, Гарри, вели снять пушки и другое добро с нашей шхуны! Пусть оставшиеся в живых валят на нее, если предпочитают сгореть, а не утонуть! Тем временем Черный Билл снова воздел к небу свои мосластые нечистые, руки и заорал еще громче, закатывая глаза: – И увидел я, как отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим! Но прежде чем отдать – нужно взять, а потому привяжите-ка этих грешников к балласту и сбросьте в море. Когда явится всадник на коне бледном вершить свое правосудие, у него будет из кого выбирать! Черный Пастор захохотал. Пираты дружно подхватили его смех и с видимой радостью бросились исполнять приказание. В мгновение ока один из офицеров «Мести» был связан и с ядром на ногах сброшен за борт под одобрительные крики шайки. Дик яростно тряхнул головой и, подозвав своего боцмана, что-то тихо приказал ему. Тот двинулся в сторону пленных, которые не пожелали перейти на сторону разбойников, и принялся что-то объяснять окружившим его пиратам. – Остановись, гнусный негодяй! Ты грязный разбойник и не смеешь всуе поминать святое Имя нашего Господа! Это тебе и твоей банде уготован ад, мерзавец! Но у тебя еще есть время оставить свои злодеяния и покаяться. Прислушайся к голосу совести! Лукреция не могла поверить своим глазам. Ее муж был жив и, более того, нисколько не потерял присутствия духа, несмотря на свое плачевное положение. Он бесстрашно выступил из толпы пленных и, глядя прямо в глаза ужасному пирату, твердо произнес свою отповедь. – Что?! Что сказал этот павлин? Он посмел угрожать мне адом? Мне?! Весь испанский Мэйн *["169]знает, что ад здесь представляю я, Черный Пастор! Такая дерзость заслуживает особенного наказания. Не знаю пока, что я с тобой сделаю, глупая скотина, но это будет особенная казнь, поверь мне! Ты будешь рассказывать о ней в аду с гордостью, пока черта будут вставлять тебе в зад огромный гандшпуг! Снова послышался смех, но тут же оборвался. Роджер, окровавленный, одноглазый и страшный, шагнул вперед и сказал громко: – Послушай, Билл! У меня к тебе одна просьба – отдай его мне! Я хочу прикончить его своими руками. Бородатый пират изумленно уставился на говорящего. – Отдать его тебе?! – воскликнул он. – Кто ты такой; Дик? Разве ты вершишь здесь праведный суд и воздаешь всем по грехам его? – Я твой картирмейстер, если ты забыл! – рявкнул в ответ Дик. – Хотя с утра я вроде бы не сильно изменился. А что касается суда праведного, то он меня не очень интересует, ты знаешь. Но к этому павлину у меня свои счеты. Однажды он кое-что взял у меня без спроса, но теперь настала пора вернуть должок! Черный Пастор выпучил глаза, переводя взгляд то на своего помощника, то на лорда, который по-прежнему сохранял презрительный и независимый вид. Капитан пиратов не мог не прислушаться к словам квартирмейстера, но ему ужасно не хотелось прекращать начатое представление. Как всякая артистическая натура, он ревниво относился к своим задумками терпеть не мог, когда кто-нибудь мешал их исполнению. Неизвестно, чем бы кончился этот спор, если бы не наступила неожиданная развязка. Леди Бертрам подскочила к тому, кого пираты называли Диком, и, размахнувшись, влепила ему пощечину, звон от которой в наступившей тишине прокатился от носа до кормы. – Ты жалкий холуй! – воскликнула она. – Ты всегда был настоящим ублюдком своей матери-потаскушки и носил шпагу как вор! Жалкий неудачник, ты наконец нашел достойное тебя общество! Ха-ха, – в исступлении она расхохоталась. – Как я могла полюбить такое ничтожество, такую дрянь! И ты еще можешь осуждать меня за брак с человеком, у которого ты не достоин быть даже лакеем! Будь ты проклят! Наверное, если бы в толпе пиратов внезапно разорвалось пушечное ядро, то и это не произвело бы такого оглушительного эффекта, как эта сумасшедшая выходка обезумевшей женщины. Закоренелые бандиты оторопели. На их глазах сам квартирмейстер Черного Пастора получил пощечину, и от кого – от захваченной в плен бабенки, которой следовало бы в ногах валяться, выпрашивая пощады, чтобы ее не пустили по кругу! Они недоуменно молчали. Черный Билл оказался куда сообразительнее. – Ага! Вон оно что! – заорал он. – Вы с джентльменом не поделили эту маленькую шлюшку, Дик! И ты остался на бобах! Но разве я не учил вас, что все зло на земле происходит от баб и это паскудное племя нужно сразу выбрасывать за борт? Разве я не говорил этого? Говорил, но ты не слушал! И теперь пожинаешь плоды! Тебе придется сильно постараться, чтобы убедить нас всех, что ты по-прежнему достоин быть нашим квартирмейстером! Верно, джентльмены? Пираты грозно загудели. Предложение капитана им понравилось. Может быть, мысленно кто-то из них уже примерял на себя почетную должность хранителя общей добычи. Момент был очень щекотливый, но Дик вышел из него с блеском. Он медленно повернулся к молодой женщине и, глядя ей в глаза, сказал с непонятной улыбкой – так тихо, чтобы никто на палубе не слышал этих слов: – Ты воистину мой злой гений, Лукреция! Из-за тебя я разорил мать, опозорил свое имя и лишился родины, из-за тебя я превратился в подонка и скитаюсь по морям. Но ты нашла меня и здесь. Я хотел спасти тебя, но ты сама все испортила. Исправить уже ничего невозможно, ты станешь такой же общей добычей, как и все на этом корабле. У меня есть только один выход. И я буду молиться за тебя – это все, что я могу теперь для тебя сделать. Но Лукреция, будто не слыша его, смотрела в этот момент в другую сторону – туда, где, несокрушимой скалой стоял лорд Уильям Бертрам. – Ты должен спасти этого человека! – вдруг сказала Лукреция. – Роджер, ты же не настолько низко пал, чтобы убить его! – О, дорогая, ты научилась состраданию! – злобно огрызнулся Роджер в ответ. – Он кончит свою жизнь на рее! Но у тебя еще будет время для покаяния – это я обещаю. Он повернулся и зашагал в ту сторону, где стоял Черный Пастор. Они тихо обменялись несколькими фразами. Кажется, на этот раз капитан был удовлетворен. Он тряхнул своей страшной головой и прорычал: – Спокойно, ребята! Наш Красавчик Дик остается с нами! Он говорит, что мы его не так поняли, и просит позволить ему стать орудием Провидения! Он придумал для нас славное и поучительное зрелище! Шлюпку на воду, ребята! Слушай команду нашего Дика Шутника! Нашего Веселого Роджера! Порыв справедливого негодования иссяк у Лукреции так же внезапно, как и возник. На нее снова нашло оцепенение, сквозь которое она слышала когда-то любимый голос, повторяющий ненавистные строки ненавистного гения: – Таков мой долг. Стереть ее с земли! Я крови проливать ее не стану и кожи не коснусь белей чем снег... Лукреция почти равнодушно смотрела, как взмывает на грот-рею тело ее мужа, как оно корчится и бьется в конвульсиях. – Нет больше у меня жены на свете. Какой доселе небывалый час! Как будто в мире страшное затменье, луны и солнца нет, земля во тьме и все колеблется от потрясенья... Если бы она могла в тот момент полностью осознать весь ужас происходящего, то, вероятней всего, ее рассудок навсегда помутился бы. Но Господь сжалился над ней, накинув на него спасительную пелену отчуждения. – Смертельная тоска, нельзя глядеть. Не стало правды, пусть и все уходит... Вот и ее саму хватают чьи-то грубые руки и швыряют в лодку, вот она уже болтается на зеленых волнах, без весел, без еды, без надежды. – Все пройдено, я у конечной цели. Зачем вы в страхе пятитесь назад? Корабль ложился на другой галс, и черная израненная громада медленно удалялась от брошенной шлюпки. На грот-мачте больше не развевался английский стяг, не было вымпела и на бизань-мачте. А она, глядя невидящими глазами на человека, оставшегося на палубе в таком же одиночестве, прошептала ему в ответ: – Когда-нибудь, когда нас в день расплаты введут на суд, один лишь этот взгляд меня низринет с неба в дым и пламя... Женщина обхватила голову руками и дико расхохоталась. Потом она поднялась, с трудом удерживаясь прямо в раскачивающейся шлюпке, и, откинув со лба спутанные волосы, закричала: – Я вернусь, Роджер, слышишь, я вернусь за тобой! Неподалеку догорала брошенная пиратами шхуна.
– Вы не слушаете меня, мадам Аделаида! – донесся до нее приятный голос капитана Ришери. Он уже несколько минут с любопытством посматривал на нее. Кажется, она слишком увлеклась воспоминаниями. Нужно быть осторожнее. Мужчины не должны видеть ее слабостей, пока она сама этого не захочет. Лукреция улыбнулась. – Действительно забавный обычай! – сказала она, кивая в сторону развлекающихся моряков. – Однако не слишком ли крепко он колотит их своим деревянным мечом? – Им это только на пользу! – посмеиваясь, сказал Ришери. – Трудно быть неофитом! – А вам никогда не приходило в голову, капитан, что мы все в этом мире неофиты? – спросила Лукреция насмешливо. – И в этом качестве проходим всю жизнь, принимая от Фортуны крещение за крещением? Ришери засмеялся. – Вы необыкновенно умная женщина! – произнес он. – Я вами восхищаюсь.
Однажды поутру Лукрецию отвлек от ее утреннего ритуала боцманский свисток. Она дернула за шелковый шнурок, и вскоре из соседней каюты, которую в неравных частях делили багаж миледи и ее служанка, появилась Берта. – Узнай, что там происходит, и доложи мне, да поживей! Берта кивнула и, оправив фартук, не спеша удалилась. Не прошло и получаса, как степенная матрона спустилась вниз по трапу и доложила: – Там одного матроса давеча поймали на воровстве у своих же товарищей. Капитан вчера после ужина приговорил его к порке. Боцман сзывает всю команду на верхнюю палубу. – Ну что ж, я столько об этом слышала, но ни разу не видела. Должно быть, это поучительное зрелище, благотворно действующее на дисциплину этой банды. – Лукреция откинула с плеч волосы и отвернулась от зеркала. – Подай мне вон тот шелковый плащ с капюшоном и полумаску. Я выйду. Когда графиня вышла на палубу, на ней уже собралась вся команда, выстроенная офицерами в шеренгу вдоль бортов. На шканцах установили деревянную скамью, на которую двое старших матросов укладывали провинившегося – обнаженного по пояс парня лет двадцати пяти, у которого были крепко связаны запястья и лодыжки. – Сударыня, вы уверены, что хотите присутствовать при этом зрелище? Поверьте, муки этого несчастного будут ужасны, – Ришери подошел сзади и коснулся плеча графини. – Ну, вы же сами обрекли его на них, шевалье! – миледи обернулась и посмотрела ему в глаза сквозь прорези полумаски. – Увы, мой долг – поддерживать дисциплину на судне, а воровство – это преступление, которое в любом случае не может остаться безнаказанным. Если приговор не вынесу я, беднягу ждет самосуд. По морским законам воровство – одно из самых тяжелых преступлений. – Это когда воруют понемногу, капитан. – Лукреция рассмеялась, обнажив краешки жемчужных зубов. – Укради он миллион, и вы бы первый подружились с ним, невзирая на правосудие. – Вы действительно так думаете, миледи? – Я знаю. Капитан Ришери вспыхнул, и какая-то резкость едва не сорвалась с его губ, но тут к нему подошел один из офицеров. – Капитан, все ждут вашей команды. Ришери отошел от графини, намеренно не поклонившись. Его негодование вызвало у нее новую усмешку. В это время капитан о чем-то посовещался с офицерами и выступил на шаг вперед. – Вчера матрос Шарль Клеман украл у своего товарища Жюля Мишле два ливра *["170]табака, за что приговаривается к двум дюжинам ударов кошкой с девятью хвостами. Приговор будет приведен в исполнение боцманом Николя Мерсье. После объявления приговора матросы глухо зашумели, на что боцман свистнул в свой серебряный свисток, призывая к порядку. Обвиняемый повернул голову и крикнул: – Простите меня, не надо! В ответ на это один матрос сел ему на ноги, другой крепко схватил его руки. Боцман скинул куртку и, засучив рукава, принял от одного из офицеров страшное орудие наказания. Лукреция даже сделала шаг вперед, стараясь разглядеть пресловутую плеть, представляющую собой деревянную рукоять, к которой было привязано девять концов веревки диаметром около четверти дюйма и длиной около двух футов. На каждом из «хвостов» было заранее сделано по три узла. Боцман подержал плеть, словно прикидывая ее на вес, и сказал: – Господин капитан, на кошке мало узлов. Когда мы порем вора, мы завязываем их четыре, а то и пять. – Он слишком мало украл, – ответил Ришери. – Для него достаточно. Боцман еще раз с сомнением оглядел кошку и сделал пробный удар в воздухе. – Начинайте, – скомандовал капитан. Старший офицер взмахнул платком, матросы затаили дыхание, а Лукреция подалась вперед. Тишину прорезал свист рассекаемого воздуха и страшный крик матроса. – Раз, два... – мерно считал стоящий рядом лейтенант. Лукреция тоже шепотом считала удары, как и многие другие сейчас, стоящие на этой палубе. От каждого удара несчастный издавал глухой крик и стоны, спина его покрывалась глубокими, набухающими кровью рубцами, постепенно обнажая мясо под рассеченной кожей. Лукреция не отрываясь смотрела на осужденного, не замечая, что за ней столь же пристально наблюдает Ришери. Конечно, она предусмотрительно скрыла лицо за куском бархата, но по ее рту, оскаленному в хищной усмешке, по ее выразительно очерченным, раздувающимся от волнения ноздрям было видно, что это зрелище возбуждает в ней не только ужас и отвращение. За эти минуты шевалье узнал об этой женщине гораздо больше, чем иные ее знакомые за целые годы. В конце первой дюжины несчастный мог лишь тихо стонать, только усиливая вызванную поркой нестерпимую боль в легких. Казнь продолжалась. – Одиннадцать, двенадцать, – лейтенант методично отсчитывал уже вторую дюжину. Наконец боцман опустил плеть и утер со лба пот и брызги крови, которыми были обагрены и скамья, и палуба вокруг, и сами ужасные хвосты. Находившегося без сознания беднягу отвязали, и доктор протянул одному из матросов кусок полотна, смоченный в прованском масле и роме. – Покройте ему спину, – приказал он. Бездыханного вора отвязали и, взяв под мышки, поволокли вниз по трапу в кубрик. Лукреция поправила капюшон и только теперь заметила устремленный на нее взгляд капитана. Она по-дружески кивнула ему, и когда Ришери приблизился к ней, она была столь же невозмутима, как и до казни. – Вы все еще дуетесь на меня? – спросила она, беря Ришери под руку. – О нет, мадам, я теперь понял, что, скорее всего, вы правы, – с оттенком горькой иронии произнес шевалье и посмотрел на нее не то со страхом, не то с удивлением.
Глава 6 Пред слепым не клади претыкания
Карибское море. Барбадос
Уильяма каждую ночь мучили кошмары. Ему то и дело снились окровавленные столбы с магическими знаками, разукрашенные узорами свирепые лица, отвратительные пляски под грозный барабанный рокот. Он просыпался в поту и, в ужасе приподнимаясь с подушек, сбрасывал с себя саржевое одеяло. Сиделка-негритянка хлопотала вокруг него, то и дело поднося к его губам горькие отвары из незнакомых трав. Но черное лицо, склоняющееся над ним при слабом свете свечи, пугало его. Оно напоминало ему лицо африканской ведьмы, что подобрала его там, на утоптанной босыми ногами поляне, где он едва не лишился жизни после удара дубинкой по голове. Уильям так и не понял, случайно ли она там появилась или ее послали те же колдуны. Когда он очнулся, вокруг не было ни единой души. Он лежал лицом вниз у самого пепелища. Угли прогоревшего костра едва тлели, и в их слабом мерцающем свете Уильям заметил, что земля вокруг него обильно посыпана пеплом и пепел этот испещрен непонятными знаками. Проведя рукой по лицу, он почувствовал что-то липкое и, поднеся ладонь к глазам, обнаружил, что она измазана кровью, пятна которой чернели в пыли вокруг него повсюду. На ум ему пришла мысль, что это не только его кровь, но и кровь несчастной жертвы, и Уильям содрогнулся от отвращения. В любом случае нужно было как можно скорее покинуть это жуткое место. Он попытался подняться, сначала встав на четвереньки, а потом на колени, но как только он попытался принять вертикальное положение, голова у него закружилась, и он со стоном опять рухнул на землю. Сознание покинуло его. В следующий раз он пришел в себя от того, что его с силой трясли чьи-то руки. Словно сквозь мутную пелену он увидел сплющенное черное лицо и застонал. Ему вдруг показалось, что им пытаются овладеть злые духи, обитающие в здешних лесах. – Тс-с-с, тихо! Тихо, молодая мастер! – зашептал на ломаном английском языке «дух». – Моя не делать зла. Моя помогать. Голос был скорее женский, и в нем явственно слышались заботливые интонации. Толстые черные пальцы с удивительной сноровкой ощупали Уильяма, страх которого отчего-то пропал. Пелена рассеялась, и теперь он ясно видел, что перед ним негритянка – с наголо выбритой головой, в каких-то немыслимых обносках, с выкаченными белками огромных глаз, подернутыми нездоровой желтизной. Ее огромные груди угрожающе колыхались перед самым его носом. – Где я? – с трудом разлепляя губы, проговорил Уильям. – Что со мной? – Злые духи входить в тебя и мутить разум, – серьезно заявила негритянка. – Твоя ходить, куда не ходить белый господин. Смерть! – Я просто хотел посмотреть, – пробормотал Уильям. – Это был какой-то обряд? Негритянка, будто не слыша его, сдавила ему ладонями виски и принялась монотонно бормотать какой-то заговор на незнакомом языке. Уильям почувствовал, как по телу его пробежал легкий озноб, а из головы уходит пронзительная боль. – Что это было? – пытаясь сесть, снова спросил Уильям. Теперь он чувствовал себя немного бодрее. – Я видел множество твоих соплеменников и ягуаров. Куда они все делись? Чья это кровь? – Мастер много спрашивать, – недовольно сказала негритянка, толкая его обратно на землю. – Слушать! Много слов. Слишком много. Она закатила глаза и принялась вытворять над лежащим Уильямом загадочные пассы. Потом она полезла куда-то за пазуху и извлекла оттуда небольшой мешочек. Пока Уильям пытался понять, что это такое, в руках у негритянки откуда ни возьмись появилась небольшая выдолбленная тыква. Чернокожая колдунья – а Уильям отчего-то нисколько не сомневался, что его новая знакомая является колдуньей, – высыпала содержимое мешочка в этот импровизированный сосуд и поднесла его к губам Уильяма. Он протестующее замотал головой, но колдунья с неожиданной силой ухватила его за волосы и буквально влила ему в рот обжигающую жидкость. Уильям задохнулся. Он впервые в жизни пробовал столь отвратительное пойло, и этот напиток пробрал его с головы до пят. Что это было не обычное вино с травами, Уильям понял довольно скоро, когда одутловатое лицо колдуньи начало расплываться, подобно чернилам по воде, а окружающий мир исчез, рассыпавшись на кусочки, которые вдруг принялись кружиться над ним, как стая ночных бабочек. И сам Уильям будто превратился в бабочку, потеряв, правда, способность двигаться и говорить. Он мог только слушать, как того и желала колдунья. Но то, что Уильям в ту ночь услышал, было столь невероятно, что он так и не понял – слышал ли он это на самом деле или все ему пригрезилось после чудовищного пойла, которым отравила его негритянка. Он даже не был уверен, что слова исходили из ее уст, – может, это звездная ночь нашептывала ему страшные пророчества. Так и не узнав ничего о произошедшем, он, вовсе того не желая, узнал о будущем, которое сулило ему предательство, странствия и богатство. Составить верного впечатления о случившемся с ним происшествии Уильям так и не смог, потому что, выслушав туманное предсказание, в очередной раз потерял сознание и очнулся только в собственной постели, в той самой комнате, которую ему любезно предоставил губернатор в своем большом доме. Когда он чуть-чуть оправился, ему объяснили, что его, бесчувственного, в грязной окровавленной рубахе, нашли слуги у самых ворот, но как он туда попал и что с ним произошло, никто сказать не мог. Сам Уильям тоже помалкивал – отчасти из осторожности, а отчасти вследствие своей болезни. С той самой ночи он провалялся в горячке почти две недели. Лучший местный врач, приглашенный самим губернатором, ежедневно осматривал больного, пускал ему кровь и, пожимая плечами, обещал скорое выздоровление. Через десять дней, несмотря на его старания, Уильяму действительно стало лучше, и он смог садиться в постели и принимать другую пищу, кроме прописанных ему целебных декоктов. Но по-настоящему он пошел на поправку, когда проведать его явилась Элейна. Элейна первой справилась со смущением и, разыгрывая роль заботливой сиделки, как ни в чем не бывало принялась выспрашивать Уильяма о его самочувствии. Он отвечал – сначала неловко, но потом, ободренный вниманием девушки, осмелел, почувствовал себя свободнее, и вскоре они уже мило болтали, перескакивая с темы на тему. Глядя на девушку, Уильям то и дело вспоминал тот неожиданный поцелуй, которым они едва успели обменяться под плеск фонтанов и крики разбуженных праздником попугаев. Судя по тому, что Элейна то и дело бросала на него испытующие взгляды, она думала о том же. Женщин привязывают к мужчине их же собственные милости, и чем снисходительнее девушка позволит себе быть в любви, тем горячее она будет искать повод для этой снисходительности. Больше всего Уильяму хотелось вернуться к тем речам, что вели они той ночью, но ни у одного из них не хватало на это духу. Вместо того чтобы говорить о владеющих ими чувствах, они заговорили о том, что интересовало их менее всего, – о новостях минувших дней. – Мой отец был крайне взволнован несчастным случаем, приключившимся с вами в ту ночь. Дело в том, что батюшка, как только вы оправитесь, собирается дать вам какое-то важное поручение. Наш маленький губернатор очень рассердился на рабов с плантаций, потому что подозревает, что это они навели на вас порчу, – они молятся по ночам своим злобным богам, и после их сборищ на острове обязательно случается какая-нибудь беда. – Я полагаю, что гораздо более порчи, наведенной на меня, нашего милорда волнует возможная порча его рабов, которые, как мне показалось, вовсе не готовы смириться с той участью, которую им уготовили плантаторы. Их вера – это тоже способ протеста, это то немногое, что им удалось сохранить от своих предков и от своей родины, и они так просто от нее не отступятся. – Не буду скрывать Уильям, тем более сэр Кроуфорд, как мне кажется, сделал вам достаточно намеков по этому поводу, что мое происхождение с вашей точки зрения тоже весьма сомнительно, как и верования моих предков, – произнеся это, Элейна посмотрела Уильяму прямо в глаза. На мгновение он смутился, но потом, дотронувшись до руки Элейны, произнес: – Разве вы не веруете во Христа? – Верую, в отличие от моего отца и его друзей. Именно поэтому мне столь тягостно думать, что батюшка готовит меня в жены человеку, чья религия и чьи убеждения будут столь далеки от моих. Элейна осторожно высвободила руку и отошла к окну, повернувшись к Уильяму спиной. Тот невольно залюбовался ее фигурой на фоне окна, словно нарисованной фламандским живописцем. – Не знаю, будет ли вам интересно, но Хансен по поручению отца плавал куда-то на «Голове Медузы». Впрочем, он уже вернулся, и теперь трюмы флейта потихоньку набивают грузом, который нужно будет спешно доставить в Европу, – произнесла она не оборачиваясь. – Батюшка постоянно занят и с утра до вечера принимает в портовой таверне каких-то посетителей. Уильям понял, что ей захотелось сменить тему. – А что, сэр Фрэнсис Кроуфорд опять где-то пропадает? – Да, мы редко его видим, но, появляясь в обществе, он неизменно поражает нас роскошью своих туалетов. Оказывается, он давний знакомый губернатора, но даже тот затрудняется определить род его занятий. «Богатый бездельник», – неизменно отвечает он и из зависти надувает губы. Ваш Кроуфорд сорит деньгами и, по его словам, жаждет вернуться на родину. Таковы были новости, которые, несомненно, представляли весьма большой интерес, но для Уильяма важнее всего были ласковые взгляды Элейны, который она неизменно дарила ему при каждом посещении. Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока Уильяма не навестил сам господин Абрабанель. Он заявился как раз в то самое время, в которое Уильям привык видеть его дочь. Обнаружив у себя в спальне не прекрасную Элейну, а ее коротышку-отца, Уильям несколько разочаровался. Он почувствовал, что этот визит сыграет в его жизни значительную роль. Так оно и случилось. Среди всех перипетий Уильям как-то позабыл, с какой целью он на самом деле прибыл на Барбадос, и как-то совершенно запамятовал, что нанялся маклером к банкиру, а не пажом к его дочери. Банкир ласково поприветствовал больного, затем присел на стул возле кровати и, хмуря брови, несколько секунд разглядывал Уильяма. – Ты хорошо себя чувствуешь, мой мальчик? – спросил он наконец. – Выглядишь ты, кажется, неплохо, но мне ли не знать, как может быть обманчива внешность! Говорят, тебя околдовали какие-то местные знахари? В этих краях нужно быть очень внимательным, чтобы не нажить неприятностей. Впрочем, совсем скоро ты получишь передышку. Поднимайся, тебя ждут большие дела! Я хочу поручить тебе «Голову Медузы». Ты отправишься в Европу с очень ценным грузом. Все это ты доставишь в Англию. Миссия очень ответственная, но ты справишься. Я вижу человека насквозь. В тебе есть коммерческая жилка, мой мальчик! А уж упорства и старательности тебе не занимать! Хотя Уильяму было очень приятно слышать такие слова, но столь резкий переход от полной беззаботности к огромной ответственности смутил его, тем более он лучше кого бы то ни было знал свои способности к торговым предприятиям. – Но я всего лишь ваш второй помощник, – рассеянно пробормотал он. – Я готов учиться, но... – Учиться ничего не делая – занятие достаточно бесполезное! – фыркнул Абрабанель. – Больше делай, чем учись, да преобладает у тебя дело над мудростью, как сказано в... впрочем, неважно где. Ты отправишься в путь учеником, а пересечешь океан готовым маклером и командиром судна. Мы все еще будем тобой гордиться! Уильям не знал, что на это ответить. Абрабанель похлопал его по руке и посоветовал: – Бросай эти декокты и завтра же вставай с постели! Съешь хороший кусок мяса, запей его добрым глотком вина, и будешь как новенький! И главное, держись подальше от докторов – они существуют на этом свете для того, чтобы выколачивать из нас деньги. Он ушел, а Уильям вдруг ясно ощутил, что теперь ему придется расстаться с Элейной – расстаться надолго, а возможно, и навсегда. Это потрясло его. Ему вдруг совсем расхотелось странствовать в поиске приключений. Уильям, вопреки всему, что видел и слышал вокруг себя, осознал, что в тихой семейной жизни может быть неизъяснимая прелесть, что можно быть счастливым, не только бросаясь в авантюры, но и в присутствии горячо любимой жены и любящих тебя домочадцев. Идиллическая картина, представшая пред его мысленным взором, своей недостижимостью невольно повергла его в печаль. Конечно, Уильям в свои восемнадцать лет отнюдь не был лишен тщеславия, и неожиданное решение патрона доверить ему доставку в Европу ценного груза чрезвычайно льстило его самолюбию. Правда, он не вполне представлял себе, каким образом он будет всем распоряжаться, но весьма надеялся, что Абрабанель успеет дать ему все необходимые наставления. Но все же Уильяму хотелось как можно дальше оттянуть отплытие, и он решил, что будет продолжать валяться в постели на правах больного до полного изнеможения. Эта небольшая хитрость успеха не имела, потому что патрон разгадал ее раньше, чем она родилась в голове Уильяма. Он принял некоторые меры, и Уильям вместо ожидавшегося визита Элейны получил от нее через негритянку пространное письмо, где она сообщала, что отец категорически запретил ей входить в комнату к Уильяму. Из него также следовало, что она все знает о миссии, которая была возложена на Уильяма, и готова ждать его хоть целую вечность, и рассуждения об этом занимали целых полтора листа. Уильям спрятал у себя на груди свое первое письмо от возлюбленной и приготовился действовать, поскольку валяться в постели больше не было никакого смысла. Но прежде, чем Уильям успел выполнить свое намерение, его навестил еще один человек. Это был сэр Фрэнсис Кроуфорд. Он появился в самый неожиданный момент, когда Уильям, набираясь сил после болезни, лакомился сладкими спелыми бананами. Он был так по-детски захвачен этим занятием, что Кроуфорд, некоторое время оставаясь незамеченным и наблюдая за ним, невольно улыбнулся. Уильям, заметив стоящего в дверях гостя, смутился. – Приветствую вас, мой друг! – звучно произнес Кроуфорд, павлиньим шагом выходя на середину комнаты и замирая в картинной позе. – Я вижу, вы поправляетесь? Весьма тому рад. До меня дошли слухи, что вы едва ли не при смерти. Как сказал ваш тезка из «Глобуса»: «...И ранним утром жизни, по росе, особенно прилипчивы болезни, пока наш нрав не искушен и юн...»Зачем вы сунули нос в тайную жизнь черномазых? Мне рассказали, что в ту ночь на острове были жертвенные приношения богам, которых эти дикари привезли со своей далекой родины. Вас тоже могли принести в жертву. – Произнеся эту тираду, сэр Фрэнсис ловко подцепил банан кончиком шпаги и, поднеся его к своему орлиному носу, принялся с какой-то фанатичной тщательностью разглядывать сей фрукт, словно опасаясь найти в нем какой-то роковой изъян. С удивлением Уильям обнаружил, что Кроуфорд был нынче одет по-походному: ноги его облекали высокие ботфорты, грудь была спрятана под колетом из буйволиной кожи, а на боку болтались украшенные тиснением кожаные ножны. Он опять был без парика, волосы туго стянуты на затылке, глаза горят холодным алмазным огнем. Уильям признал, что в целом его приятель был великолепен и напоминал лихого кондотьера со старинной гравюры. Ему бы очень хотелось научиться так же уверенно держаться, так же естественно носить шпагу и, что греха таить, так же легко декламировать хоть того же Расина, как будто все эти строки ты сам от нечего делать и написал. Уильям вспомнил о предсказании, которое получил от толстой старухи-негритянки, и только стал обдумывать, стоит ли рассказать об этом Кроуфорду, как тот, наконец разделавшись с бананом, спросил: – Послушайте, Уильям! Что за чертовщина тут происходит? Мне сказали, что вы повезете в Европу ценный груз на «Голове Медузы»? Это правда? – Да, это так. А что вас смущает? Таково было решение господина Абрабанеля. Признаться, я немного волнуюсь, но дело есть дело. Да, я готов опять выйти в море. Кроуфорд вытер шпагу о штаны и, приподняв правую бровь, рассмеялся. – Похвальное рвение! – сказал он. – Вы определенно делаете успехи. Не удивлюсь, если через год-другой вы войдете если не полноправным членом в содружество дельцов Сити, то в совет Вест-Индской компании точно! – Да ну вас, – вздохнул Уильям, отворачиваясь. – Да и не об этом я мечтаю!.. – Вот как? А о чем же? Впрочем, понимаю, секрет! Хотя о чем может мечтатьмолодой мужчина? Конечно, о прелестной даме неполных восемнадцати лет, блондинке, с темными глазами... – тон его был по обыкновению насмешлив, но дружелюбен. – И не начинайте сначала, Фрэнсис. А то я все-таки вас убью. Иронический огонек в глазах Кроуфорда потух. Он с преувеличенной вежливостью раскланялся. – Прошу меня простить. Я не имел намерений оскорбить вас, Уильям. Если вам неприятны эти разговоры, я немедленно их прекращаю, тем более бананы еще остались. Но скажите, вам известно, какой груз вы должны доставить в Европу? – Пока нет. Но, по всей видимости, скоро я это узнаю. – Ага. Вот, значит, как! – непонятно сказал Кроуфорд. – А вы еще не забыли наш давний разговор? Ну тот, когда я предложил вам сменить покровителя? – Мое мнение не изменилось. – А вам известно, куда именно плавал на «Голове Медузы» Хансен, пока вы валялись тут в припадках? Нет? Я так и думал. Ну что же, желаю вам как можно скорее встать на ноги. Признаться, я в этом прямо заинтересован. Ведь я сейчас мечтаю только об одном – как можно скорее отбыть в родные края. – Ага, вы собираетесь вернуться в Англию? – обрадовался Уильям. – Конечно, мне нужна небольшая передышка после всех этих несчастий. И к тому же в Англии мне нужно сделать кое-какие распоряжения относительно моего состояния. Я намерен возместить убытки, которые причинили мне пираты. Так что хотите вы того или нет, но я составлю вам компанию... – Разумеется! – воскликнул Уильям. – Я буду только рад. Знакомство с вами – для меня большая честь, тем более вы мне очень нравитесь. Надеюсь, что смогу получить от вас дельный совет, если что-то пойдет не так? – Можете рассчитывать на меня, Уильям! – улыбнулся Кроуфорд. – Вместе нам море по колено! – А вы еще собираетесь вернуться сюда, в колонии? – спросил Уильям. – Что-то мне подсказывает, что мое возвращение обязательно состоится, – кивнул Кроуфорд. – Даже независимо от моих желаний. – Я тоже вернусь сюда! Обязательно вернусь. Пожалуй, я буду с нетерпением ждать того дня, когда я сюда вернусь! – Сначала нужно отсюда выбраться.Отплыли они с Барбадоса гораздо раньше, чем оба ожидали. Уже на следующий день Уильям, посвежевший и бодрый, ходил вместе с Абрабанелем и Джоном Ивлином по кораблю и знакомился со своими обязанностями. Трюм был забит прочными джутовыми мешками и крепко сколоченными ящиками. Весь груз уже надежно закрепили, чтобы увеличить остойчивость судна и избежать его смещения во время качки. Абрабанель передал своему помощнику груза и попросил Уильяма тщательно все проверить. – Бесконечно доверяю тебе, мой мальчик, но законы торговли одинаковы для всех, – заявил он под конец. – Ты убедился, что все товары на месте. Теперь осталось только поставить свою подпись на этой бумаге, и можно отправляться в путь. Думаю, как только рассветет, «Голова Медузы» снимется с якоря и пойдет в Плимут. Доставишь груз по назначению, явишься с докладом к господину Ван Ноорту, в его контору в Сити, и можешь возвращаться назад. Я буду ждать тебя с нетерпением. Последний день на Барбадосе прошел как-то совсем буднично. Уильям, рассчитывавший провести остаток времени в обществе Элейны, так и не смог провести с ней наедине хотя бы минуту. Заботливый отец под разными благовидными предлогами мешал их встрече, и увиделись они только вечером, за общим ужином, который устроил губернатор по поводу скорого выхода «Головы Медузы» в море. Уильяму даже не удалось поговорить с Элейной, и они оба перешли за ужином на язык печальных и страстных взглядов, которыми обменивались, впрочем, с большой осторожностью, чтобы не вызвать недоумения присутствующих. Присутствующим, однако, было не до них. Губернатор Джексон выглядел неестественно возбужденным, то и дело с непонятной тревогой косился в сторону невозмутимого Абрабанеля и обещал вывести на острове проклятую заразу – еретические сборища, на которых рабы поклоняются кровожадным богам. Купец с благочестивым видом рассуждал о вещах всем известных – о пользе молитвы, о бережливости и о почтении к старшим. Ни тот и ни другой даже не заикались о драгоценном грузе, который предстояло переправить через океан на флейте. А Уильяму очень хотелось услышать их соображения по этому поводу, тем более что когда он подписывал бумаги, у него от волнения задрожали руки: трюмы корабля были забиты серебряными слитками, драгоценной ванилью, белым перцем и бобами какао – грузом, общей стоимостью как раз на триста тысяч фунтов стерлингов. Вдруг Уильям вспомнил, что так и не успел поблагодарить губернатора за любезно предоставленный ему перед балом костюм. Он укорил себя за забывчивость и решил воспользоваться случаем. – Сэр Джексон, мне бы не хотелось прослыть неблагодарным, поэтому хочу выразить вам свою запоздалую, но от этого вовсе не померкнувшую благодарность за вашу заботу о моей персоне, которую вы столь изящно проявили, прислав мне к балу восхитительный костюм. Губернатор вздрогнул и с нескрываемым удивлением воззрился на Уильяма. – Помилуйте, сэр Уильям, я вовсе не присылал вам никакого костюма! – Как? – в свою очередь поразился Уильям. – А кто же тогда... – Да кто бы ни прислал, он сделал это вовремя, – как всегда довольно бесцеремонно, вмешался сэр Фрэнсис. – Предлагаю выпить за успех нашего путешествия! Он высоко поднял стеклянный бокал, и окружающим ничего не оставалось, как последовать его примеру. «Кажется, наш мальчик заговаривается», – подумал банкир, оглядывая Харта, который и вправду выглядел несколько взволнованным. Ужин продолжился. Леди Мэри Джексон то и дела бросала на сэра Фрэнсиса убийственные взоры, испуская при этом такие могучие вздохи, словно у нее вместо легких были кузнечные мехи, а сэр Фрэнсис, орудуя вилкой как клинком, улыбался столь коварно и обольстительно, что щеки бедной супруги губернатора под конец ужина стали багровыми, как предзакатное небо. Ни Абрабанель, ни губернатор так и не высказали никаких комментариев относительно драгоценного груза и предстоящего плавания, словно их вообще не волновало ни то ни другое. Уильяму показалось это немного странным, но долго думать об этом он не мог и не хотел – его мыслями все больше завладевала предстоящая разлука. Ему сделалось настолько грустно, что он едва не разрыдался за столом. Печаль не оставляла его и на следующее утро, когда его разбудили по поручению Абрабанеля и отвезли в порт. В последнюю минуту, выезжая за ворота губернаторской резиденции, Уильям обернулся и увидел в окне хрупкую девичью фигурку – Элейна махала ему вслед платком. Уильям вскочил в безотчетном порыве, но тут повозка дернулась, кони понеслись вскачь, Уильям упал на сиденье, едва не прикусив язык, и на этом прощание закончилось. Давид Абрабанель сделал вид, будто ничего не заметил. В порту их дожидался одетый по-дорожному Кроуфорд. Жил он давно не в доме губернатора, а где-то в городе. Уильям подозревал, что его новый друг имеет здесь квартиру *["171]или любовницу, но провожать Кроуфорда никто не пришел. Абрабанель и Кроуфорд раскланялись – вежливо, но сухо. Лодка с гребцами уже была наготове. Торговец на секунду привлек к себе юношу и приобнял его за плечи. Уильяму пришлось для этого согнуться, но Абрабанель тут же отстранился и, отступив на шаг, махнул рукой, сверкнув бриллиантом. – Ну, да поможет тебе Всевышний! – сказал он, насупившись. – Все, что нужно, я тебе передал, с капитаном все обговорил, осталось только доставить товар до места. Счастливого пути! Ступай! И он снова махнул рукой, будто сердясь на Уильяма. Тот вздохнул и полез в лодку, где его, расположившись на банке *["172]со своим дорожным сундуком, уже дожидался Кроуфорд. Гребцы взмахнули веслами. На полпути к стоящему на рейде судну Уильям обернулся – повозка с Абрабанелем уже скрылась в толпе. Свежий бриз подул Уильяму в лицо. Он невольно улыбнулся. Ему еще было грустно, но новое путешествие не могло оставить его совсем равнодушным. Ему только восемнадцать, а он уже второй раз пересекает Атлантику, и уже не в качестве простого пассажира, а самого настоящего поверенного самой Вест-Индской компании! Молодость всегда найдет чем утешиться. На корабле тоже все пошло как нельзя лучше. Капитан Ивлин был с Уильямом подчеркнуто почтителен и, кажется, признавал в нем если не равного себе, то, по крайней мере, человека, заслуживающего всяческого уважения. И каюту Уильям получил замечательную – никак не сравнить с той клетушкой, в которой он проделал путь из Европы. Из юношеского эгоизма Уильям не поинтересовался, как устроился Кроуфорд, – а может быть, он был уверен, что такой человек, как Кроуфорд, всегда сумеет устроиться наилучшим образом. В первые часы плавания Уильяма больше волновали отношения с капитаном, с которым он намеревался сблизиться. Уильям полагал, что отныне будет часто выходить в море и просто обязан водить дружбу с капитанами. Однако Ивлин охладил его надежды, предельно корректно, но непреклонно отвергнув самую возможность дружбы между ним и юношей без сложившейся репутации. Этот разговор произошел на видном месте подле нактоуза и заставил Уильяма пережить несколько весьма неприятных мгновений. – Убедительно прошу вас, сэр, не так часто появляться около капитанского мостика и возле компаса! Признаться, до посторонних разговоров я не большой охотник. Не в обиду будь сказано, но между командиром корабля и тем, кто этот корабль ведет, то есть капитаном, то есть мной, – есть небольшая разница. Мое дело – вести судно нужным курсом и отвечать за экипаж, ваше – отвечать за торговую кампанию и иметь хоть какое-то представление о том, куда и зачем вы плывете. В старое время капитан отвечал за все – и за судно, и за груз, и за команду. Теперь все по-другому – ну и пусть, значит, будет так! Уильям был вынужден проглотить замечание, и перестал докучать капитану. Нетрудно было догадаться, что опытный мореплаватель оскорблен тем, что столь ценный груз доверили не ему, а мальчишке, который и мачты по названию-то с трудом различал. Ну что же, по крайней мере, первый урок Уильям получил – в серьезных делах дружбы быть не может, а каждый ищет своей собственной корысти, пускай даже она будет такой эфемерной, как капитанская гордость за старые времена. Уильям ретировался в каюту и, выхватив из небольшой стопки книг первую попавшуюся, принялся ее перелистывать. Это оказалось сочинение его великого соотечественника Мильтона. Уильям зевнул и решил погадать на Кроуфорда, поскольку гадать на любимую девушку по столь мрачному произведению ему вовсе не хотелось. Он открыл задуманную страничку и прочел:
Глава 7 Ad maiorem Dei gloriam *["173]
Франция. Париж
В полдень, объявляя большую перемену и обед, ударил колокол, и воспитанники королевского коллежа *["174]Людовика Великого с радостными криками и смехом высыпали на выложенный каменными плитами внутренний дворик, где немедленно принялись прыгать друг другу на спины и мутузить товарищей. Роберт Амбулен, напротив, заходил внутрь, и ему пришлось крепко держаться за деревянные, отполированные сотнями детских ладоней перила, чтобы его не сшиб ненароком какой-нибудь буйный школяр в испачканном чернилами кафтанчике. В Париже отцветала весна, и розоватые свечи каштанов роняли лепестки, которые подхватывал теплый ветер и разносил по всему городу. Расположенный на улице Сен-Жак, в самом сердце Латинского квартала, неподалеку от выстроенного на холме аббатства Святой Женевьевы, основанный Людовиком XIV и руководимый иезуитами, этот коллеж по праву считался одним из самых знаменитых учебных заведений своего времени. Отцы-иезуиты блястяще преподавали латынь, греческий и риторику. Было у них и еще одно пристрастие, которое, несомненно, откладывало неизгладимый отпечаток на выпускников этого заведения. Воспитывая прежде всего людей светских, достойные монахи приобщали своих питомцев к различным искусствам, среди которых театр играл видную роль. Скорее всего, на этот факт повлияли вкусы патрона сего учебного заведения – самого короля, который, как известно, почитая театр квинтэссенцией всех искусств, до последних дней своей жизни питал к нему вполне объяснимую слабость. Что и говорить, Людовик-Апполон, Людовик-Марс и Людовик-Юпитер сам играл на своем Олимпе; и что такое его Версаль, как не грандиозная декорация к трехактовой пьесе его жизни? Поднимаясь по каменным ступеням alma mater *["175], Амбулен с наслаждением вдыхал родные запахи, вглядывался в знакомые до прожилок стены, на которых, как и прежде, то и дело выцарапывались строки из Петрония да цитаты из Апулея. Вот и сейчас, прямо над лестничной площадкой какой-то любитель древностей из старших классов нацарапал по-латыни: «На чужом поле всегда жатва обильнее, у соседской коровы больше вымя», снабдив цитату соответствующим рисунком, изображающим отнюдь не рогатую тварь с копытами. Обозрев сие доказательство неугасимой славы «Науки любви» *["176], Амбулен усмехнулся и легко взбежал по оставшимся ступеням. Он спешил на прием к ректору, который третьего дня вызвал его к себе. Роберт привык к тому, что время от времени ему доверяли некоторые деликатные поручения, и предполагал, что и на этот раз его ждет нечто подобное. Небось, опять требовалось его участие в тайных родах, или ему придется снова толочь порошки и составлять тинктуры для каких-нибудь далеко идущих планов отцов ордена. Иногда, правда, ему приходилось немного шпионить среди дворян шпаги, потому как по заданию наставника он стяжал себе славу бесшабашного игрока и лихого дуэлянта. Амбулен улыбнулся, и его красивое лицо осветила ласковая улыбка. Все дело в том, что иезуиты доверяли ему немного больше, чем он доверял им. О, да, поначалу учение дона Игнатия захватило его с головой, а военная стройность и мощь выстроенной им безграничной империи потрясла его полудетское воображение. Ему хотелось стать частью ордена, чьи цели казались столь благородными, а вера – пламенной. Но через два года новиций Роберт начал догадываться куда попал. Он терпеливо сносил послушания по уборке отхожих мест, дежурства на кухне и скотном дворе, ночные бдения и непрерывные штудии. Его перевели в схоластики – и пути назад были отрезаны. Отныне он мог покинуть орден только в качестве кадавра. Сколь юн и наивен он был десять лет тому назад, когда мечтал о великих свершениях под этими тяжелыми непроницаемыми сводами... Каждый камушек, каждая выбоина в полу и щербинка на дверях были до боли знакомы ему. Как не был плох этот дом, но это был его дом. Как бы ни были коварны отцы-иезуиты, но они стали его семьей, а другой у него никогда и не было. Запахи тушеной брюквы из трапезной и скисшего вина из подвалов витали в узких мрачноватых коридорах, но все здесь для Роберта было озарено невидимым глазу светом – светом его детства, его молитв, его радостей и обид. Вот и сейчас, пройдя мимо распорядка дня для воспитанников, вывешенного неподалеку от комнаты наставников, молодой человек невольно замедлил шаг, пытаясь справиться с нахлынувшими на него воспоминаниями.Утро.5.30. Подъем. 6.00. Молитва. 6.15. Урок Священного Писания. 7.45. Завтрак и перемена. 8.15. Урок и работа в классе. 10.30. Месса. 11.00. Урок. Полдень.Обед и перемена. День.1.15. Урок и работа в классе. 4.30. Полдник и перемена. 5.00. Урок и работа в классе. 7.15. Ужин и перемена. 8.45. Молитва. 9.00. Отход ко сну.
Вот оно, расписание, которое вошло в привычку, и хотя он покинул коллеж около десяти лет назад, многие привитые ему навыки так и остались неизменными. По сравнению с другими учебными заведениями, распорядок здесь не был слишком суров. Молитва и богослужения разумно чередовались с занятиями и отдыхом, ибо иезуиты менее всего стремились привить отвращение к религии маленьким господам, доверенным их попечению. Единственная строгость – наказание розгами, которое среди дворян считалось вполне благородным, в отличие, например, от пощечин. «Лучше отрубить дворянину голову, чем ударить его по лицу», – говаривали во Франции, и простая пощечина могла быть смыта только кровью. Ягодицы же вполне могли стерпеть знакомство с ферулой *["177], ибо этот орган у первого сословия был столь же терпелив к наказанию, как и у горожан и крестьян. Из похвального чувства такта воспитатели никогда не наказывали детей собственноручно, дабы не внушить к себе с их стороны протеста и гнева. Для этого в коллеже существовал специально приставленный к этому делу мирянин, который и доносил до озорников сей ultima ratio partum *["178]. Попав в коллеж десятилетним сиротой без средств к существованию благодаря лишь протекции дяди-аббата, Роберт, вопреки своим страхам, обрел здесь настоящий дом и семью. Наставники быстро выделили из толпы знатных отпрысков мечтательного и талантливого подростка, и он ни разу не подвел возлагавшихся на него надежд. С охотой он изучал мертвые языки, со страстью штудировал химию и, рано обнаружив в себе склонности к науке, он при поддержке своего духовного наставника отца Жозефа поступил в Сорбонну на факультет медицины. Отец Жозеф испросил позволения для Роберта по-прежнему жить в коллеже, и, хотя это было против правил, совет сделал для него исключение и выделил ему небольшую келью, в которой Роберт и жил до самого окончания своего студенчества. Успешно завершив образование, Амбулен ныне являлся одним из преданнейших членов ордена св. Игнатия Лойолы, и, хотя он не принял сана, ему, как короткополому *["179], зачастую доверяли самые деликатнейшие поручения. Главным недостатком Роберта являлась его склонность размышлять не о том, что могло послужить вящей славе ордена, а том, что напрямую касалось его самого. Пути и цели в его душе настолько разошлись друг с другом, что это грозило ему раздвоением личности. Он не страдал папаманией и, невзирая на долгие годы послушничества и духовных упражнений по методе святого Игнатия, все же не научился любить понтифика больше самого себя. Так же не стяжал он похвальной способности слышать голоса, беседовать с Пресвятой Девой и созерцать страсти Христовы. Зато он научился так ловко скрывать свои мысли и озвучивать чужие, что мечтательное выражение его удивительных голубых глаз могло вызвать доверие даже у Торквемады. Но самое страшное, то, что следовало скрывать более всего другого, заключалось в том, что он умудрился сохранить в своем сердце живую и искреннюю веру в Бога. А это было такое непозволительное преступление, что за подобный деликатес его могли запросто упрятать в бедлам. Дойдя до нужных келий, шевалье Амбулен остановился перед ни чем не примечательной дверью и вздохнул. Прежде чем войти, следовало не только оправить одежду, но и пригладить свои буйные мысли. Иногда ему казалось, что отцы-иезуиты научились читать в людских головах и физиономиях почище бесов и медикусов вместе взятых, а ему вовсе не хотелось, чтобы в его помыслах копались чьи-то не в меру любопытные умы. Затратив полминуты на мимическую гимнастику, он привычным движением опустил очи долу и еще раз испустил глубокий вздох. Постучашись и произнеся молитву, Роберт дождался ответа и вошел в кабинет. К его удивлению, отец-ректор был не один, а с незнакомым священником в простой черной сутане, на груди которого мерцало серебряное распятие, украшенное кабошонами. Голову его венчала четырехугольная черная шапочка. Все это Роберт успел заметить, не поворачивая слегка склоненной головы и не поднимая глаз. – Благословите, святой отец, – произнес он, преклоняя голову. Иезуит осенил его крестным знамением и протянул для поцелуя маленькую в коричневых пятнышках морщинистую руку, от которой сладко пахло ладаном. – Садитесь, сын мой, – ласково сказал он и указал Роберту на свободное кресло. – Вам, конечно, известно, что в ноябре прошлого года мы лишились генерала нашего Общества, мессира Джованни. Вот уж полгода это место пустует, но мы надеемся, что вскоре его займет достойнеший из нас, наш брат отец Шарль, – почтительным кивком ректор указал Амбулену на второго священника. От удивления Роберт на мгновение растерялся и, забывшись, посмотрел прямо в глаза отцу Шарлю. Впрочем, в следующую секунду он уже преклонял голову перед невысоким худым человеком, на впалых щеках которого едва заметно проступил румянец. Целуя руку отца Шарля, Роберт невольно отметил, что на ней пока нет генеральского перстня, символизирующего верховную власть в ордене. – Что ж, Роберт, твое присутствие здесь сегодня свидетельствует о том доверии, которое оказывает тебе Общество Иисуса. Ты знаешь, что, давая детям дворян светское образование, мы ставим перед собой задачу распространения истинной веры в Господа нашего и всеми силами способствуем раскрытию заложенных в них Господом талантов. Вот ты, например, получил от Господа дар врачевания, и мы помогли тебе раскрыть и преумножить его. Теперь, когда ты стал профессом *["180], Общество готово доверить тебе миссию огромной важности, от результатов которой будутзависеть политические судьбы стран-метрополий. – Простите, что прерываю вас, достопочтенный отец Николя, – неожиданно тихим, но проникающим в самое сердце голосом произнес отец Шарль. – Я хочу лишь подчеркнуть, что мы, члены Общества Иисуса и верные слуги Папы, не занимаемся практической политикой, – он улыбнулся, и в уголках его выразительных, запавших от ночных бдений глаз появились морщинки. – Политика интересует нас лишь в метафизическом смысле, ведь наша задача – изменить идеи и умы людей. А уж министры и полководцы согласно нашим идеям составляют свои законы и ведут армии в бой. – Да, конечно, – смиренно согласился Роберт, по уставу не смея поднять глаз выше рта собеседника. – Я помню, что сам святой Игнатий, основатель нашего ордена, создал и записал для нас методу образования Razio Studiorum, которой мы и следуем до сих пор. С ее помощью наше Общество просвещает и образовывает всех тех, кто своим происхождением или дарованиями призван править своим народом. – Вот видишь, Роберт, сколько человеческих душ было бы закрыто для Бога и людей, если бы мы, как рачительные садовники, не пестовали каждого нашего ученика. Помнишь, как ты в отчаянии принес отцу Жозефу сочинения Альберта Великого, Гиппократа и Парацельса и, бросив их на пол его кельи, воскликнул: «Святой отец, я ничему не могу научиться, потому что одно в этой науке противоречит другому!». Что ответил тебе твой духовник? – Отец Жозеф сказал мне, что если мне нужно постичь какую-то науку, надо взять не только книгу, в которой она описана. Нужно взять три, пять книг и понять точки зрения пятерых различных людей. Нужно сложить мысли авторов, – при этих словах Роберт представил себе своего духовника и бессознательно сложил пальцы обеих рук так, как сделал это когда-то наставник. – Выпиши и суммируй, – сказал он, – их мысли. И тогда ты поймешь, что истина никогда не принадлежит одному. Истина всегда где-то посередине. – Да, так только и может расти ум и душа человека, – сказал отец Шарль и снова улыбнулся. – Ведь наша цель – не заставлять бедных учеников заучивать наизусть чужие тексты. Наша цель – растить их ум. Разве не знакомо тебе, сын мой, ощущение невыносимой тоски, когда разум твой сжимается в тисках бессилия, а стоящее перед тобой препятствие вырастает до небес? Так бывает каждый раз перед новой ступенью ввысь, и только преодолев себя, сделав над собой усилие, человек может подняться к уготованному ему Небу. Запомни, сын мой, каждый человек стоит на той ступени развития, на которую поставил себя сам. И жалкий нищий со Двора Чудес, и могущественный вельможа – кажому из них Господь отсыпает в той мере, которой он в состоянии воспользоваться. Не более и не менее. Разве не за динарий нанимался каждый из нас? *["181] – С вашего позволения, я перейду к основному предмету нашей встречи, – отец Николя посмотрел на отца Шарля, и тот согласно кивнул. – Сын мой, я много раз испытывал твою преданность, и ты никогда не огорчал меня. Как я уже говорил сегодня, я хочу поручить тебе дело, от которого зависит процветание нашего ордена как в Старом, так и в Новом Свете. Роберт с удивлением посмотрел на ректора и хотел было что-то сказать, но тот жестом остановил его. – Мой мальчик, дела Общества и интересы всего католического мира требуют, чтобы ты немедленно отправился в Вест-Индию, в наши колонии на Карибских островах. Ты будешь искать человека по имени Роджер Рэли, незаконнорожденного сына сэра Кэрью Рэли и дочери корнуэльского эсквайра Кэтрин Литтон. Отец безрассудно подарил ему вещь колоссальной ценности – дневник его деда сэра Уолтера Рэли, фаворита королевы Елизаветы I. В нем зашифровано место, куда сэр Уолтер Рэли спрятал легендарные сокровища индейского касика. Скорее всего, он будет выступать под фальшивым именем или попытается еще каким-то образом запутать следы. Подробные инструкции и все необходимые сведения ты найдешь в этом письме. Ты отправишься на Мартинику из порта Ла Рошель на торговом судне «Морская дева», которое снимется с якоря утром 17 июля. У отца Пьера ты получишь все необходимые бумаги, почту для нашей коллегии на острове и деньги. – Ноя... – Сын мой, ты представишься судовым лекарем. Остальное в руках Божьих и в этих бумагах. Скорейшим образом доставь письма по назначению, в них – все необходимое для жизни наших новициатов и резиденций *["182]в Новом Свете. Воспитанный в строжайшей дисциплине «реrinde ас cadaver» *["183], Роберт не осмелился более возражать, хотя он потрясенно взирал на то, как под ударами нескольких слов рушатся все его надежды на будущее. – Ты воспитан нами как настоящий дворянин, и я думаю, ты сможешь действовать в любых обстоятельствах. Я заранее отпускаю тебе все грехи, коль они будут совершены к вящей славе Божией. В Вест-Индии ты не будешь одинок, там есть наши братья, и ты смело можешь прибегнуть к их помощи. Я дам тебе перстень провинциала, который ты вернешь по возвращении или уничтожишь в том случае, если обстоятельства сложатся против тебя. И запомни знак, по которому ты сможешь узнать братьев по ордену. Ректор начертил в воздухе знак, который Роберт повторял до тех пор, пока не научился выполнять его механически. Отец Николя позвонил, и в кабинет вошел адмонитор в длинной черной рясе с пелериной, держа на серебряном подносе посыпанную песком бумагу. Приняв ее в руки, Ле Блан тщательно отряхнул ее от песка и подал Роберту перо. – Прочтите и поставьте здесь свою подпись. Дрожащей рукой Роберт принял бумагу и подписал ее. – Теперь, сын мой, опуститесь на колени и повторяйте за мной клятву, – произнес будущий генерал Общества Иисуса. Роберт Амбулен опустился на колени и, бледнея от волнения, срывающимся голосом повторил за высокопочтенным отцом Шарлем де Нойелем слова присяги: – Я, Роберт Амбулен, клянусь добровольно, в присутствии достопочтенного отца-провинциала Николя Ле Блана, что в точности исполню данное мне поручение и возвращусь в Общество, как скоро исполню его, или получу неопровержимые доказательства, что исполнить его невозможно, или получу на то приказание от достопочтенного отца Жана Ла Валлета, генерал-визитатора и префекта Антильских островов, прокуратора обители в Сен-Пьере, прихода Карбе, острова Мартиника, к которому в распоряжение я поступлю, как только прибуду на этот остров, и который будет для меня все время пребывания там духовником и советчиком. Я обязуюсь строго повиноваться полученным мною инструкциям и немедленно предоставить в распоряжение ордена искомое или сведения об оном в исполнение данной мной клятвы.
С ранней юности Роберт привык нести свои трудности и печали к святой Женевьеве, покровительнице Парижа. Вот и нынче, выйдя за ограду коллежа, он направил свои стопы вверх по улице к Мон-Сент-Женевьев, где высился храм, некогда построенный по просьбе самой Женевьевы королем Хлодвигом в честь апостолов Петра и Павла. В Средние века вокруг храма выросли жилые кварталы, известные ныне как предместье Св. Женевьевы, густо заселенное горожанами Как известно, деньги в Париже имеются только на строительство, и громаднейшие здания вырастают в нем точно по волшебству, а новые кварталы состоят исключительно из великолепных частных особняков. Увлечение постройками все же немного предпочтительнее увлечения картами или особами легкого поведения, так как, в тличие от первых двух, оно придает городу величие и благородство. Но строительная мания пока еще не коснулась выросшего из предместья Св. Женевьевы знаменитого Латинского квартала – этого шумного убежища парижских школяров и бродяг. Столетиями не менялись его закоулки, дома и лавки, храня в себе аромат веков. Казалось, время замерло на этих улицах, и даже мода была бессильна что-либо здесь изменить. И вот теперь, не обращая внимания на шумные компании учеников Сорбонны в мантиях, преподавателей с брыжами вокруг шеи, толпы студиозусов-медиков и студиозусов-юристов, толпившиеся возле книжных лавок и кофеен, Амбулен с опущенной долу головой шел испросить у святой защитницы Парижа благословения на предстоящее ему трудное путешествие. Кованые ворота аббатства были гостеприимно распахнуты навстречу прихожанам, на высокой готической колокольне трубно ворковали голуби, а по двору, позвякивая четками и ключами, деловито сновали монахи в рясах. Роберт осенил себя крестным знамением и вошел в притвор через высокий, украшенный резьбой портал, сводчатые двери которого были окованы листовой медью. Опустив кружку для пожертвований несколько монет, он омочил кончики пальцев святой водой из чаши и еще раз перекрестился. Только после этого он ступил под высокие своды церкви, прошел мимо рядов скамеек, над которыми в недосягаемой вышине парил расписанный фресками купол, и, не доходя до пресвитерия, свернул к боковому приделу, где находилась серебряная рака с мощами. Вокруг нее на каменных полках и серебряных свещницах теплились зажженные свечи. В нише за кованой алтарной перегородкой возвышалась статуя святой Женевьевы, перед которой так часто в невзгодах и радости коленопреклоненно молилось все парижское духовенство. Месса давно закончилась, время вечерни еще не пришло. Служки наполняли маслом огромные лампады на витых золотых цепях, мели каменный пол и собирали в специальные ящички свечные огарки. Упав на колени, Роберт приник головой к прохладному серебру и горячо зашептал молитву.
Глава 8 Кавалеры Фортуны
Карибское море. Мартиника
Уильям шагал вдоль кривой немощеной улочки, держа курс на таверну, возле дверей которой непрестанно толпился народ. Сложенная из камня, кое-где неаккуратно обмазанного глиной, и крытая сухими стеблями тростника, она еще за пару сотен шагов бросалась в глаза своей незабываемой вывеской, на которой неким умельцем весьма натуралистично и со знанием дела был намалеван бородатый мужик с багровым носом, облаченный в некое подобие темно-синего кафтана, держащий в одной руке стакан, а в другой – перевернутую бутылку, из которой ничего не лилось. На бутылке для пущей ясности было большими буквами написано: «RUM». О принадлежности его к морской профессии ярко свидетельствовали широкие штаны ниже колена, грязные босые ноги и шикарно заткнутые за выписанный киноварью кушак огромный пистолет и абордажная сабля, красноречиво заляпанная той же красной краской. Над всей этой роскошью красовалось выведенное английскими двухфутовыми буквами название таверны: «AN EMPTU BOTTLE» *["184]. Это странное уподобление бутылок морякам делалось понятным сразу же, стоило лишь войти внутрь этого заведения, где на полу, на столах и на скамьях в самых живописных позах валялось множество как первых, так и вторых. Кроме мертвецки пьяных людей у грубо срубленных столов и пустых бутылок под столами, это достойное заведение украшали две огромные дубовые бочки, стоявшие на козлах прямо возле входа, и развешанные по стенам оловянные и медные горшки и кастрюльки, от одного вида которых у голодного Уильяма засосало под ложечкой. Уильям заприметил это опозиционное заведение еще несколько дней назад, когда бродил по острову, поглощенный нерадостными мыслями о той скверной шутке, которую выкинула с ним Фортуна. Каким ветром занесло английского патриота на французский остров, и почему он так вызывающе поименовал сей приют для пустых желудков и пересохших глоток осталось неведомым, но от этой надписи на Уильяма повеяло ароматом далекого отечества, а скулы свело от нечаянных воспоминаний вкуса синеватого можжевелового пойла. Видимо, страшась подобных ассоциаций, хозяин и велел начертать слово «ром» на своей вывеске. Так или иначе, но, поддавшись ностальгии, Уильям избрал этот кабак своим штабом. Здесь обитала самая пестрая публика – моряки с французских торговых судов, члены берегового братства, вольнонаемные работники с плантаций, мелкие фермеры, прибывшие на городской рынок, негры, индейцы, солдаты и буканьеры. Разношерстное племя этих бродяг, членом которого Уильям так неожиданно оказался, жило по своим, весьма своеобразным законам, и нужно было приспосабливаться к ним как можно скорее, потому что, лишенный корабля, груза, родины и надежд на будущее, он отныне был таким же бродягой, как и они. Впрочем, единственное, что у него осталось, – старая шпага и дворянское звание, – он не променял бы ни на что. Несколько ливров, которые он обнаружил в кармане камзола, пока еще кормили его, но они таяли гораздо скорее, чем снег под лучами весеннего солнца. Через два-три дня он должен был остаться без единого денье, без шляпы, без парика, без друзей, один в чужом краю, неважно изъясняющийся на французском, и, вдобавок с разбитой головой, которая не прекращала болеть с того самого момента, как его хватил по ней вероломный Кроуфорд. Вспоминая события последних дней, Уильям сделал для себя неутешительный вывод – он совершенно не знает людей и по этой причине постоянно попадает впросак. Ничего удивительного, если теперь он станет предметом насмешек всего побережья. Уильям Харт, новоиспеченный поверенный, защищая груз серебра, вступил было в схватку с пиратами, но, не успев обнажить шпагу, пал от хорошего тумака, который ему отпустил его не слишком храбрый приятель! Ничего себе слава! Низко опустив голову и не глядя по сторонам, Уильям быстро прошел сквозь зал и сел лицом ко входу в самом дальнем углу. Ему казалось, что все вокруг знают его печальную историю и втайне посмеиваются над ним. Зато чертов Кроуфорд придерживался совсем другого мнения об их приключении. Уильям вспомнил, как тот отыскал его в парусной камере, когда «Голова Медузы» была уже в руках пиратов. Его двуличного приятеля было не узнать – он вырядился в кафтан с позументами, напялил на голову парик Уильяма и разговаривал с каким-то диким акцентом, словно английский был для него чужим языком. Как ни был зол на него Уильям, он все-таки не сдержал любопытства и поинтересовался причинами столь удивительного превращения. – Вас не узнать! – сказал он язвительно. – Помнится, вы очень красиво рассказывали о настоящих мужчинах, которые в нужный момент берутся за шпагу. Где же ваша доблесть, сэр? Вы посмели даже мне помешать вступить в схватку с мерзавцами! Не сочтите за грубость, но я желаю с вами драться! Вы позволили себе унизить меня, и это вам с рук не сойдет! – Ваша горячность делает вам, честь, Уильям! – странно улыбаясь, сказал на это Кроуфорд. – Не скрою, поступил я с вами не слишком красиво, но зато по-братски. Мне стало жаль вашей юной, нерасцветшей жизни, и я решил не наступать дважды на одни и те же грабли. Ведь я понимал, что вы обязательно броситесь со своей шпажонкой крушить толпу злодеев... Но чудес не бывает. Вас бы покрошили мелко-мелко, как повар шинкует мясо для ирландского рагу. Не знаю, как вам, а мне было за вас обидно. А самолюбие ваше ничуть не пострадало, потому что уклонились от боя вы не по своей вине. Так что хотите – обижайтесь на меня, хотите – благодарите, а я ни в чем не раскаиваюсь. Шпагу я вам верну, как только мы разделаемся с главной проблемой, а вот парик – извините. Мне он еще пригодится. Уильям был обескуражен таким простодушием. Не то чтобы он смирился с оскорблением, но притязания свои в отношении дуэли пока оставил – без шпаги разбираться с Кроуфордом он считал бессмысленным, помня чугунную тяжесть его кулака. К тому же сам он чувствовал себя неважно – болела голова, а все тело было вялым и непослушным, точно сделанным из ваты. Кроуфорд не стал докучать Уильяму и вскоре исчез. Пробыв порядочное время в одиночестве, Уильям заскучал и выполз из своего убежища, чтобы найти кого-нибудь из команды. В трюме он нашел не просто кого-нибудь, а всю команду. Моряки находились в самом скверном расположении духа, и разговаривать с Уильямом никто не захотел. Ему только объяснили сквозь зубы, что корабль давно захвачен пиратами, всех заперли в трюме и теперь осталось только ждать решения Черного Билла. Жизнь и смерть команды находится в его руках. – Вы что же, проспали потеху, сэр? – спросил кто-то из матросов насмешливо. – Хорошо, когда сон крепкий, – так и в преисподнюю отправишься, сам того не заметив. Впрочем, шутника никто не поддержал, смеяться никому не хотелось. Все мрачно ждали, как разрешится их участь. Время тянулось невыносимо медленно. Качаясь на волнах, флейт куда-то двигался. В трюме стояли невыносимая духота и зловоние. Моряки ничего не видели, кроме нескольких лучиков солнца, падавших вниз через световой люк. Однако когда начало темнеть, наверху сжалились и открыли трюм. Всем, кроме офицеров, приказали выходить. Уильям не знал, к какой категории отнести себя, и, пока он размышлял над этим, матросы успели выбраться на палубу. Капитан и три его помощника с напряженными лицами сидели, отвернувшись друг от друга, и прислушивались к тому, что происходит на корабле, пытаясь угадать, что намерены делать дальше пираты. Люки уже захлопнулись, и Уильям остался в компании офицеров. Он тоже был полон ужасных предчувствий, но никаких звуков расправы с палубы так и не донеслось. Напротив, немного погодя в трюм спустился матрос по имени Джереми, который принес корзину с водой и пищей для офицеров. Он сообщил, что наверху происходит нечто непонятное и «Голова Медузы», которая до сих пор следовала за пиратским кораблем, в какой-то момент резко сменила курс, оторвалась от него и пошла на юго-запад; что командует сейчас на «Медузе» какой-то одноглазый пират и что его подручные настроены миролюбиво и даже предложили освободить команду флейта, чтобы легче было управляться с парусами. – Они и вас освободят, сэр! – заявил Джереми капитану Ивлину. – Верьте слову! Только прежде они собираются до земли добраться. Джереми мог радоваться – ему уже ничто не угрожало, кроме разве что контракта, который с ним могли пожелать заключить пираты. Судьба офицеров, видимо, еще обдумывалась. Уильям совсем приуныл. Все происходящее он объяснил себе таким образом: пираты добрались до богатого груза и на радостях решили пощадить команду. Теперь их всех доставят в безопасное место, где предложат на выбор либо идти на службу к Черному Биллу, либо отправляться в пекло. Это был неплохой повод для того, чтобы проявить свое благородство и напоследок продемонстрировать всем образец мужества. Однако эта гордая мысль почему-то не вызвала сейчас у Харта восторга. Какой-то предательский голос нашептывал ему, что глупо рисковать жизнью после того, как ушел живым от Черного Пастора, и это действительно было похоже на правду. Уильям подумал, что принять решение он еще успеет, когда прибудет на место. На место они прибыли поздно ночью. «Голова Медузы» бросила якорь в виду какого-то острова, а наутро все, кто пожелал, смогли сойти на берег. Пираты отпустили даже офицеров, забрав у них лишь оружие. Никаких предложений и условий они не делали. Это было невероятно, но они все ушли из лап Черного Билла целыми и невредимыми! Вдохновленный таким исходом, Уильям сошел на берег острова одним из первых. Бог весть, что он ожидал там увидеть, но очень скоро ему стало ясно, что из одной беды он попал в другую, возможно еще более худшую, чем первая. Как выяснилось, флейт находился во французских владениях, на острове Мартиника, гористом клочке земли, защищенном с восточной стороны полосой опасных подводных рифов и непроходимыми лесами. Жизнь здесь кипела в основном на западном побережье, где были удобные бухты и где стоял хорошо оснащенный форт, под прикрытием которого вели свои дела мореплаватели, торговцы и плантаторы. Жизнь на Мартинике, однако, протекала довольно своеобразно. Власть принадлежала французскому губернатору, который с большой охотой занимался тем, что торговал каперскими патентами. Из разговоров Уильям понял, что приобрести такой патент мог любой, кто владел кораблем и желал потрошить в открытом море испанские галеоны. Другими словами, морской разбой здесь поощрялся довольно открыто. Правда, удивительного в этом было немного – подобной деятельностью занимались и губернаторы английских колоний. Выращивали на острове неизменные табак и сахарный тростник на продажу. Рабочие руки требовались постоянно, но сами работники с плантаций называли свою жизнь адом. Таким образом, Уильям оказался перед нелегким выбором. Ему нужно было на что-то решаться. Оставаться рабочим на плантациях – об этом не могло быть и речи. Уильям был намерен как можно скорее выбраться с острова. Но оказалось, что без денег на корабль его никто не хотел брать, а в его посулы расплатиться позже никто не верил. Капитаны предлагали Харту наняться к ним, но перспектива сделаться пороховой обезьяной в лапах у какого-нибудь капера его пугала. Это был выбор не для благородного человека, но Уильям с ужасом понял, что когда у него закончатся деньги, то о благородстве придется забыть. С такими мыслями он в очередной раз явился в «Пустые бутылки», где уже несколько дней дожидался у моря погоды. Растягивая свои средства, Уильям ел один раз в сутки, и такая манера отнюдь не прибавляла ему бодрости. Глотая слюни от запаха жареного мяса, несущегося из боковой пристройки, в которой размещалась кухня, Уильям мучительно прикидывал, ограничиться ли ему сегодня только небольшим куском черепахи или пропустить для бодрости стаканчик рома. Это был нелегкий выбор, и пока Уильям ломал над ним голову, кто-то опустился рядом с ним на деревянную скамью. Уильям повернул голову и, к своему удивлению, увидел рядом матроса с «Медузы», того самого Джереми, что приносил еду офицерам. До сих пор Уильям ни с кем из старых знакомых не сталкивался, все они как будто сквозь землю провалились. – Добрый день, сэр! – учтиво приветствовал его Джереми. – Увидел, что вы сидите здесь совсем один, и решил составить компанию. Надеюсь, не будете в обиде? – Конечно, не буду, – ответил Уильям, который и правда был рад видеть знакомое лицо. – А я уж решил, что тут никого с «Медузы» не осталось. Думал, все нанялись... м-м... на другие суда. Джереми внимательно посмотрел на Уильяма и сказал осторожно: – Что же, у моряка жизнь такая – на суше он вроде как не в своей тарелке. И то сказать, ничего тут на острове хорошего нет, сэр. Вам-то здесь, должно быть, совсем туго приходится, потому что вы – человек благородный. Но позвольте дать совет, сэр. Я подольше вас живу на свете и скажу прямо – иногда нужно и против совести поступить. Вы про свое благородство забудьте и нанимайтесь на какой-нибудь корабль! Выйдете в море, а там уж присмотритесь, что вам делать. А тут вы пропадете, сэр, помяните мое слово! – Спасибо тебе за заботу, Джереми, – кисло ответил Уильям. – Только мне теперь надеяться не на что. Впору здесь и оставаться. Я должен был ценный груз доставить. А где он теперь, груз этот? Пираты его в кабаках пропивают! Джереми загадочно хмыкнул и смущенно почесал нос. – Простите, сэр, но вы совсем молодой человек! И душа у вас, можно сказать, невинная. И я так полагаю, нашлись люди, которые воспользовались вашей неопытностью... Уильям после этих слов густо покраснел и нарочито грубым тоном буркнул: – Что ты мелешь? Чепуха какая-то! Что это ты имеешь в виду? – Так ведь, сэр, вот тут какая штука! – развел руками моряк. – Вы-то полагаете, что у нас в трюме ценный груз находился, а на самом деле не было его там... – Как не было?! – ошеломленно воскликнул Уильям, подавшись вперед и едва не схватив моряка за грудки. – Как не было?! Что ты выдумываешь? – Да ничего я не выдумываю! – Джереми даже сплюнул в сердцах. – Все правда, до последнего слова! Хоть кого спросите. Пираты все мешки и ящики на корабле выпотрошили, а в них, кроме разного хлама, – ничегошеньки! Тряпье всякое, камни, песок... Совсем ничего! Нчего не понимая, Уильям хлопал глазами. Он долго и недоверчиво смотрел на матроса, но выражение лица Джереми все-таки убедило его, что все сказанное – истинная правда. – Вот дьявол! – воскликнул он наконец с почти детской обидой. – Я вез в Европу песок! Но как это могло случиться? Куда исчезло серебро? – Позвольте вас угостить, сэр? – любезно произнес Джереми. – Стаканчик рома вам сейчас не повредит. И прошу вас, не говорите так громко – на серебро и золото тут каждая собака откликается. Уильям посмотрел по сторонам. Действительно, головорезы за соседними столиками как будто бы начинали проявлять интерес к их разговору. – Да что толку! – сказал он с отчаянием. – Все равно никакого серебра нет. Но куда же оно делось?! – А никуда, сэр, – хладнокровно отозвался Джереми. – Я так думаю, что его никогда и не было. Давая Уильяму возможность переварить эту новость, матрос отвернулся и махнул рукой хозяину таверны, толстому краснолицему человеку, заросшему до самых глаз рыжей курчавой бородой. Тот принес две глиняные кружки рома. Джереми поднял свою и кивнул Уильяму. – Ваше здоровье, сэр! А насчет груза не сомневайтесь. Нарочно нам этот хлам сплавили. И Черный Билл у нас на траверзе неспроста оказался. Такие дела здесь случаются. Выпьем! Следуя примеру Джереми, Уильям опрокинул в рот стакан. Тростниковый самогон обжег ему горло и пищевод так, что перехватило дыхание. Уильям помотал головой и поставил кружку на стол. – А знаете что, сэр! – вдруг сказал Джереми. – Позвольте вам еще один совет дать. Бросайте вы эти раздумья и пойдемте со мной – есть один человек, который как раз команду набирает. По правде говоря, многие из наших к нему пошли. Это тот самый пират, что «Голову Медузы» сюда привел. Черт одноглазый. Он теперь бросил якорь в соседней деревне. Там поблизости укромная бухта есть – говорят, он туда нашу посудину и увел. Я вот тоже поискал-поискал, а теперь, пожалуй, все-таки к нему подамся. – Одноглазый? – рассеянно переспросил Уильям. – Откуда же он взялся? Выходит, он тоже из шайки Черного Билла? – Ходят слухи, что решил он от него отколоться! – шепотом сообщил Джереми, наклоняясь поближе к собеседнику. – А на Мартинику пошел, чтобы следы запутать. Но след следом, а медлить нельзя. Вот подлатает он немного флейт и поднимет паруса... Так что и нам с вами поторапливаться надо! – И зачем же вам так спешить, джентльмены?! – вдруг раздался за спиной Уильяма довольно неприятный вкрадчивый голос. – Этот кабачок самое приятное место на всем побережье, особенно для тех, кто так бойко щебечет по-английски. Здесь и выпивка что надо, и обращение душевное. Может быть, вы думаете, что джентльмену здесь не с кем перекинуться в кости? Это не так, можете мне поверить... Джереми и Уильям вздрогнули и разом уставились на говорящего. Господин, неслышно подошедший к их столу, выглядел как настоящий флибустьер – в коричневом засаленном кафтане, в грязной шляпе, надвинутой глубоко на лоб, с испитым скуластым лицом и крупными костлявыми руками. За спиной у него, едва не задевая земляной пол, болталась тяжелая абордажная сабля в когда-то богато отделанных серебром ножнах, а за пояс были заткнуты два пистолета. И что хуже всего, незнакомец был не один – его сопровождали еще двое вооруженных людей, один из которых чертами и невозмутимостью лица был похож на местного индейца-аравака, а у другого, курчавого мулата, обнаженные руки были сплошь покрыты шрамами, точно его некоторое время держали в мешке с дикими кошками. Вся эта троица была настроена очень решительно, а тон джентльмена с саблей был даже несколько вызывающ. – Почему вы, господа, решили, что мы собираемся играть? – спросил Джереми. – Мы с джентльменом находимся сейчас на мели, и наше бедственное положение не располагает к азартным играм. Извините, но вы ошиблись, мы не собирались играть в кости. – Э, да ты ловкач, парень! – вскричал человек в черном. – Разом сбросил весь балласт! Но мы с товарищами старые морские волки, которых нелегко провести. Мы своими ушами слышали, как вы говорили тут про серебро. А где серебро, там и веселье, разве не так? Если вы собираетесь проиграть свой капиталец в каком-нибудь дрянном кабаке, то вы совершаете большую ошибку, джентльмены! Даю вам слово, что лучшего места, чем здесь, нет на всей Мартинике! А мое слово, слово Длинного Мака, чего-то да стоит! На лбу Джереми выступили мелкие капли пота. Он был безоружен и вообще не желал драться. Ему очень хотелось, чтобы недоразумение кончилось миром. Поэтому он попытался еще раз все растолковать. – Мы не сомневаемся в слове Длинного Мака, – сказал он. – И когда заведутся денежки, мы обязательно с вами сыграем. Но сейчас у нас наберется разве что еще на один стаканчик рома. А того серебра, про которое мы тут вспоминали, никогда и не было, господа! Это была... м-м... шутка! – Шутка?! – зловеще повторил Длинный Мак. – Разрази меня гром! Я похож на человека, над которым можно шутить? Уильям, который до того только и думал что о своей печальной судьбе и об одноглазом пирате, предъявившем права на «Голову Медузы», растерялся. Этот разговор о серебре, которого никогда и не было, и об игре в кости не укладывался у него в голове. Но он ясно понимал, что в претензиях незнакомца заключена агрессия и просто так от него не отделаться. Посетители таверны начали проявлять интерес к зарождающемуся конфликту. Со всех сторон на Уильяма направились любопытствующие взгляды. Сочувствия в них не было. Битые жизнь бродяги и матросы чувствовали в Уильяме человека иного сорта и не возражали бы, если бы кто-то хорошенько вздул этого благородного щенка. А волшебное слово «серебро», которое многие тоже слышали, только подогревало интерес к происходящему. Хотя переговоры пока что вел один Джереми, на него не обращали внимания. Каким-то шестым чувством все угадывали главное действующее лицо в Уильяме, и именно на нем в эту минуту сосредоточили оценивающие взгляды. Уильям понял, что далее молчать невозможно. Еще минута, и его репутация будет безнадежно испорчена и здесь. А он усвоил, что в этих краях репутация для человека гораздо важнее, чем в закрытом лондонском клубе. Плохая репутации вела здесь прямиком на кладбище. Справедливости ради нужно сказать, что Уильяму не пришлось совершать над собой какого-то сверхъестественного усилия. Вспыльчивый, воспитанный в истинно дворянском духе, он легко воспламенялся, когда речь шла о чести, тем более что все происходило при многочисленных свидетелях. – Так в чем дело, ты, плесневелый сухарь?! – поиздержавшийся скандалист повысил тон. – Я хочу знать, почему ты посмел избрать меня мишенью своих шуток? – Но я не шутил с вами, – уклончиво сказал Джереми, косясь на пистолеты за поясом Длинного Мака. – Мы разговаривали о своих делах. – Нет, вы послушайте эту сухопутную курицу! – воскликнул Длинный Мак и заржал. – Он увиливает от ответа! То он шутил, то не шутил... Ты меня за дурака, что ли, принимаешь? – А за кого ж еще! – неожиданно сказал Уильям. – За кого же еще можно принимать человека, до которого с таким трудом доходят самые простые слова? – И ты сказал это Длинному Маку? – с какой-то даже печалью произнес нервный господин. – Ну что же, сдается мне, что сегодня портовым собакам будет знатная пожива! Потому что я собираюсь заколоть тебя сейчас, как свинью, сопляк! Последние слова он прорычал с такой яростью, что по спинам окружающих пробежали мурашки. Но Харта и самого уже охватил азарт начинающейся драки. Он вскочил, ухватился за край тяжелого деревянного стола и опрокинул его на Длинного Мака. Тот едва успел отскочить и тут же принялся осыпать Харта ругательствами. В следующее мгновение он выдернул из ножен свою абордажную саблю и с торжествующим ревом бросился на Уильяма. Его диковатые приятели разом схватились за дубинки и ножи. Уильям едва успел выхватить шпагу, как клинок соперника со свистом рассек воздух перед самым его носом. Но тут Джереми – намеренно или невольно – внес и свою лепту. Он свалился вместе со скамьей прямо под ноги Длинному Маку и его приятелям. В то же мгновение из-за соседнего стола вдруг вскочил какой-то мужчина и, выхватив саблю, нанес рубящий удар индейцу, в руке которого сверкнул остро отточенный нож. Индеец, который уже начинал обходить Уильяма сзади, страшно вскрикнул и, схватившись за изувеченную руку, попятился было назад, но споткнулся о валявшуюся бутылку и шлепнулся на землю. Тем временем Джереми потянулся и ловко лягнул мулата прямо между ног. При этом тот изрыгнул какоето проклятие и отскочил, инстинктивно закрыв руками столь ценные для каждого мужчины органы. – Получай! – в ярости крикнул, размахнувшись саблей над головой, Длинный Мак. В ответ Уильям, без труда увернувшись от сабли, почти бессознательно сделал свое коронное туше и нанес быстрый как молния укол. Шпага вошла Длинному Маку точно между ребер и по меньшей мере на целую ладонь погрузилась в его долговязое тело. Длинный Мак вскрикнул от боли и схватился рукой за торчащий в его груди клинок. – Попал! – радостно закричал Джереми. Секунду они смотрели друг другу в глаза – раненый и Уильям. В таверне воцарилась тишина. Все взоры были обращены на Уильяма, но теперь в глазах завсегдатаев появилось какоето новое выражение. – Оо, дьявол! – наконец выдохнул Длинный Мак. – Ты меня убил! Уильям слегка растерялся. Он впервые нанес человеку тяжелую, а возможно, и смертельную рану и теперь не знал, что ему делать. Они застыли, глядя друг на друга, как некая живая картина дуэли: Уильям со шпагой в вытянутой руке и Длинный Мак, пронзенный этим самым клинком. Его пальцы, которыми он схватился за ребра клинка, были испачканы кровью. Неизвестно, как долго продолжалась бы эта немая сцена и чем бы она закончилась, если бы положение не спас Джереми. – Бежим, сэр! – заорал он и, подняв тяжелую деревянную скамью, обрушил ее на голову мулата, дружка Длинного Мака. Раздался треск, как будто раскололся орех. Мулат пошатнулся, выронил из рук мачете, с которым собирался броситься на Харта, и повалился к ногам Джереми. Тот еще раз взмахнул скамьей, как будто отбиваясь от окружающих его врагов, но поскольку никто не собирался на него нападать, Джереми швырнул ее в поднимающегося на ноги индейца. Потом он схватил Уильяма за руку и потащил к дверям. Уильям опомнился, выдернул окровавленное лезвие из груди Длинного Мака и ринулся за матросом, так и не успев поблагодарить неожиданного помощника. – Ходу, сэр! – выкрикнул Джереми, вовсю работая локтями. – Эти лягушатники горазды махать кулаками, когда их десять на одного! Держитесь за мной, сэр, и не отставайте! Уильям с обнаженной шпагой в руках помчался что есть духу вслед за матросом. Ему было совсем не по душе такое беспорядочное отступление, тем более когда бросал на произвол судьбы незнакомца, который так неожиданно пришел ему на помощь. Но он не мог не признать, что в той характеристике, которую Джереми дал французам, есть доля истины, и поэтому несся следом не замедляя хода. По большей части завсегдатаи таверны были представлены сынами этой легкомысленной нации, и теперь, озверев от вида пролившейся крови, все, кто мог держаться на ногах, устремились в погоню за двумя дерзкими англичанами, которые обнаглели настолько, что не просто осмелились обнажить оружие на французской земле, но, по слухам, имели отношение к такой интернациональной вещи, как серебро. Было бы весьма странно, если бы на таких удивительных людей здесь не обратили никакого внимания. В то же время Уильям зря волновался о своем неожиданном спасителе – о нем попросту забыли. Говорят, что матросы не большие мастаки бегать, но Джереми опроверг эти ложные слухи, продемонстрировав завидную скорость. Уильям тоже не отставал, хотя душа его противилась этому позорному, по его мнению, бегству и требовала вступить в схватку лицом к лицу. Единственное, что его останавливало, – это нежелание терять своего нечаянного соратника из виду. Сам Джереми вряд ли предавался подобным размышлениям. Вместо этого он бежал что есть духу по кривым запутанным улочкам, перепрыгивая через изгороди и топча огороды, которые вначале сменились каменными добротными домами, а затем вновь перешли в жалкие хижины, коекак слепленные из глины и тростника. На прогретых полуденным солнцем улицах не было ни души – только тощие собаки валялись на мостовой, изнывая от жары и косясь на бегущих бельмастыми глазами. В какой-то момент Уильям сообразил, что крики и топот преследователей стихли, и остановился. Джереми по инерции пробежал еще несколько шагов, но, обернувшись, тоже встал и, привалившись спиной к мохнатому стволу кстати оказавшейся поблизости пальмы, принялся жадно глотать горячий воздух. – Вы бы, сэр... спрятали шпагу... а то... мы с вами на виду... а слухи тут мигом... – отрывисто проговорил он, озираясь по сторонам. Сквозь какое-то тряпье, служившее в ближайшей хижине чем-то вроде двери, на беглецов с большим любопытством таращились чумазые детские физиономии. Уильям сообразил, что с окровавленным клинком в руке он действительно выглядит необычно, и поспешно спрятал оружие в ножны. – Хоть я и англиканин, – сообщил Джереми, – но обязательно поставлю свечу Святой Деве Марии за наше с вами счастливое избавление, потому что, как мне кажется, без чуда тут не обошлось. Признаюсь вам, что там, в таверне, я уже попрощался со своей грешной жизнью. Эти французы... – Наверное, мы должны поблагодарить Бога за наше спасение, – согласился Уильям. – Но, честно говоря, если бы не ваша расторопность, Джереми... – Пустяки! – ухмыльнулся моряк. – Обычное дело. А вот вы, сэр, ловко накололи этого наглеца. Умеете обращаться со шпагой, ничего не скажешь! Уильям, который не думал, что заслуживает похвал, слегка зарделся. Но Джереми тут же озабоченно добавил: – Только теперь вам около форта появляться не стоит! Считайте, что вас тут теперь каждая собака знает. Этот Длинный Мак, я слышал, на всех французских каперах плавал, везде свой человек. И еще он англичан ненавидит. Он потому к нам и привязался, потому что увидел – англичане. Хорошо, мы с вами ноги унесли, а то бы... – Ну, мы хотя бы ноги унесли, – не совсем уверенно произнес Уильям. – А кое-кто эти самые ноги протянул. Это похуже будет. – Ага, – согласился Джереми. – Только попомните мое слово – нужно вам поскорее убираться с этого острова, сэр! Внешность у вас приметная. Можете в следующий раз в переделку и похуже попасть. – Черт подери! Куда же мне убираться? – с великой досадой вскричал Уильям. – Проклятый капер, из-за него мы теперь как в ловушке! – Да просто нужно к тому самому пирату наняться, – рассудительно заявил Джереми. – Право слово! Давайте я вас в ту деревню сведу, где этот одноглазый пришвартовался. Там и кабак имеется – он туда обязательно заглянет. А это и недалеко уже. Вон, если через тот лесок к заливу спуститься... Он махнул рукой в сторону пальмовой рощи, раскинувшейся неподалеку на склоне, и сразу же зашагал в ту сторону, считая разговор законченным. Уильям рассудил, что его спутник прав и лучше унести ноги подальше, пока у них еще есть возможность это сделать. Они прошли через рощу, которая оказалась гораздо протяженнее, чем выглядела со стороны, и выбрались на побережье. Каменистый и довольно крутой спуск вел к песчаному пляжу, белый песок которого казался девственно чист, словно на него никогда не ступала нога человека. Посередине небольшой бухточки стоял на якоре корабль, в котором Уильям сразу же узнал «Голову Медузы». По другую сторону бухты виднелись крыши небольшого селения. Маленькие домики лепились друг к другу среди скал, как пчелиные соты. Джереми нашел некое подобие тропинки среди камней, и они осторожно спустились к самой воде. Лишь когда сапоги Харта утонули в песке, Уильям окончательно почувствовал себя в безопасности. Он обернулся. Пальмы, нависающие над этим природным убежищем, лениво колыхали зеленые кроны, и среди них не было видно ни единого человека. Кажется, они действительно скрылись от возможной погони. Уильям еще раз посмотрел в сторону бухты и увидел, что из тени корабля вышла шлюпка. Ритмичные взмахи весел медленно, но неуклонно гнали ее к берегу. Уильям и Джереми, прошедшие уже половину пустынного пляжа, находились куда ближе к селению, чем шлюпка, и поэтому первыми оказались в деревенской таверне, где под навесом в очаге, сложенном из камней, горел огонь, над которым медленно поджаривалось мясо, нанизанное на вертел. Уильям, которому так и не удалось пообедать, при виде такого великолепия мрачно проглотил слюну. Спутник его чувствовал, наверное, то же самое – это было видно по его голодным глазам. Они уселись за грубо сколоченный стол, и Уильям бросил на него серебряную монету, звон которой привлек внимание кабатчика, неприметного, средних лет мужчины, голову которого покрывал завязанный на морской манер синий платок. Джереми, который, похоже, знал местные обычаи получше Уильяма, произнес что-то на ломаном французском языке. Кабатчик неторопливо приблизился, попробовал монету на зуб, и, спрятав ее себе за пазуху, так же неторопливо удалился к очагу. В руках его словно из воздуха возник огромный нож. Ловко отрезав от свиной туши два аппетитных куска мяса, кабатчик поместил их на не слишком чистую оловянную тарелку и невозмутимо подал это нехитрое угощение гостям. Потом он извлек две кружки и наполнил их прямо из бочки светлым пенящимся напитком. Джереми быстро схватил одну из них обеими руками и, запрокинув голову, с видимым удовольствием осушил ее. – Пальмовое вино! После всяких передряг самое лучшее средство, – похвалил он, вытирая губы. – Попробуйте, сэр! На первый взгляд, ничего особенного, но продирает до самых кишок! Чувствуешь себя, как будто только что на свет народился. Местные переняли этот рецепт у индейцев. Индейцев на острове, по правде говоря, теперь не найдешь, но зато вино после них осталось отменное. Настоящая радость моряка! Уильяму не хотелось ронять себя в глазах спутника, и он решился на пробацию *["185]. Не успел он выпить и трети, как у него зашумело в голове. Ноги и руки его сделались как ватные, отказываясь подчиняться своему хозяину. Уильям с тоской подумал о неминуемом опьянении и его последствиях, и, чтобы хоть как-то спасти положение, схватился за мясо и принялся, орудуя одним ножом, молча поглощать его, не глядя по сторонам. Внезапно Уильям поднял голову и невольный стон вырвался из его груди. В пяти шагах от него стояли пираты. Он с тоской подумал о недоеденном обеде и приготовился к новой драке. Впереди, облаченный в видавший виды камзол соборванными пуговицами и драную рубаху, стоял одноглазый пират с черной повязкой поперек смуглого от загара лица. Его голову покрывала шляпа с помятой тульей, которую украшало одинокое перо из хвоста индюка, а на поясе болталась шпага с гардой, покрытой великолепной чеканкой. Штаны его были столь же дрянными, как и камзол, и, похоже, были сняты с огородного пугала. Но из-под них выглядывали превосходные ботфорты из мягкой юфти *["186]. Некие завершающие штрихи оригинальному облику одноглазого придавали иссиня-черная щетина, обрамлявшая его щеки, и свалявшийся, с застрявшими в нем колючками брюнетистый парик, из-за которого загорелое лицо пирата казалось еще более мрачным. Единственный глаз насмешливо сверкал из-под полей шляпы, пока пират разглядывал сидящих за столом Харта и Джереми. Позади одноглазого толпилось еще с дюжину береговых братьев, большинство из которых были босы, а некоторые, особенно удачливые, были обуты в грубые башмаки из свиной кожи и держали в руках огромные мушкеты. «Буканьеры, – сообразил Уильям, который уже немного разбирался в сложной береговой иерархии, – подонки с акульими ртами и свиными ушами». Одетые пестро и не слишком тщательно в традиционные куртки, широкие штаны и грязные полотняные рубахи, все они были по мере своих возможностей обвешаны самым разнообразным холодным и огнестрельным оружием и выглядели угрожающе. Грубые обветренные рожи, отмеченные печатями самых разнообразных пороков, могли смутить даже отъявленного храбреца. Уильяму при взгляде на них стало немного не по себе, даже несмотря на выпитое пальмовое зелье. Однако он напомнил себе, что те же самые пираты отпустили команду «Медузы» на все четыре стороны. «Значит, им нет до меня никакого дела, – решил про себя Уильям. – И не следует ничего бояться». Новоявленный циклоп высмотрел наконец своим глазом все, что ему было нужно, и решительно двинулся к столу, но не к тому, на котором кабатчик поспешно расставлял глиняную и оловянную посуду, а прямиком туда, где сидели Уильям и Джереми. Спутники циклопа двинулись было следом за ним, но он жестом указал им в другую сторону, и они резко сменили курс, шумно рассевшись за накрытый для них стол. Циклоп же подошел вплотную к Уильяму и церемонно снял шляпу. – Пгиветствую вас, господа! – произнес он, отчаянно коверкая английскую речь. – Надеюсь, я вам не помешаю? Джереми едва не поперхнулся и, вытаращив глаза, уставился на одноглазого, будто ожидая, что тот немедленно прикажет выпустить ему кишки, а Уильям поднялся и поклонился в ответ. – Прошу вас, – сказал он с достоинством. – Правда, пройдоха-трактирщик уже покинул нас ради новых источников прибыли и нам нечем угостить такого уважаемого гостя... Циклоп пренебрежительно махнул рукой. – Не гасстгаивайтесь, пгошу вас! – ужасно картавя, сказал он. – Гасположение этого пгохвоста мы с вами сейчас вегнем. – Пират обернулся и зычно крикнул: – Эй, там, на камбузе! Тащи сюда гому и мяса, а это пгокисшее винцо можешь слить себе в глотку! Да поживее, а не то мои гебята живо подгумянят тебя на твоем же вегтеле! А на какое-то особенное уважение я, сэг, не пгетендую, – продолжил одноглазый, снова оборотившись к Уильяму. – Я, знаете ли, пигат, вольный ветег, так сказать. Шатаюсь по могям и потгошу зазевавшихся купцов и тогговцев. Одним словом, я из тех, для кого всегда найдется лишний пеньковый галстук. Он ухмыльнулся, по-видимому чрезвычайно довольный произведенным эффектом. В его шутовском говоре Харт без труда разгадал замаскированный вызов. Выбрав столь панибратский тон, он как будто испытывал Уильяма: какой тон найдет дворянин по отношению к бандиту и бродяге? Харту подумалось, что, пожалуй, правильнее всего будет остановиться на уважительно-нейтральном. Ясно, что сей Полифем имел самое непосредственное отношение к захвату «Головы Медузы», но ведь, как оказалось, грабить там было просто нечего, и, по сути, вся предпринятая кампания заведомо была лишена всякого смысла. Можно сказать, что, когда пираты решили напасть на корабль, их, на счастье Харта, вело само Провидение. К тому же главная роль в этом нападении отводилась Черному Биллу. И вообще, как ни крути, Уильяму самому ничего не оставалось, как записаться в пираты. Судьба словно играла с ним в чет и нечет, и пока Харт явно проигрывал. Подумав об этом, Уильям решил и впредь разговаривать с треклятым детищем Нептуна, как с достойным человеком. Вслух же он ответил нечто в том смысле, что виселицы гораздо чаще заслуживают многие из тех, кто обладает репутацей порядочных джентльменов. Почему-то в этот момент у него перед глазами стояла ханжески-слащавая физиономия Абрабанеля. Неизвестно, какие ассоциации возникли у одноглазого, но в ответ на слова Уильяма он ухмыльнулся и дружески хлопнул его по плечу. – Отлично сказано, мой юный дгуг! – заявил он. – Как говориться, ни убавить, ни пгибавить. То же самое мне самому постоянно приходит в голову. И газ уж наши мысли так совпали, то я хотел бы предложить джентльменам вегнуться на богг «Головы Медузы» – ведь они с этого когабля, не так ли? Уильям подтвердил, что именно так дело и обстоит и что они сами подумывали об этом. – Вот и чудненько! – Полифем хлопнул ладонью по столу и снова заорал: – Эй! Кабатчик уже все понял и бежал, прижимая к груди пыльную бутылку. Пират обвел стол приглашающим жестом. – Угощайтесь, господа! Выпьем за новую команду «Головы Медузы», которая выйдет в моге с капитаном Веселым Диком – это меня так называют в этой части Мэйна, а значит, я и есть капитан! – довольный своей незамысловатой шуткой, он захохотал, приглашая всех остальных тоже присоединиться к веселью. Уильям, наблюдая за циклопом и отмечая его цепкий и внимательный взгляд, пришел к выводу, что единственное око его нового знакомого куда умнее, чем его речи. Уильяму вдруг пришло в голову, что он уже где-то видел этого человека. Но как он ни напрягал память, та нипочем не хотела ему услужить, впрочем, может быть, все дело было в пальмовом вине и роме, от которого в мозгах Уильяма произошла настоящая сумятица. А тут еще пришлось добавить по кружке за знакомство с Веселым Диком и его морской братией. Уильям еще некоторое время слышал, как плавно журчит причудливая речь Веселого Дика, прерываемая взрывами грубого смеха его команды, но потом и сын Нептуна, и береговые братья, и Джереми вдруг поплыли перед его глазами в причудливом хороводе, а в отяжелевших ногах разлилась томительная слабость, Уильям пару раз клюнул носом и, несмотря на все отчаянные попытки держаться на равных с Диком, рухнул в конце концов под дружный гогот береговых братьев на земляной пол вместе с табуретом. Правда, смеха он уже не услышал. Очнулся Уильям на свежем воздухе и обнаружил, что сидит на земле, прислонившись спиной к пальме. Рядом в пыли валялась его шляпа, а над его головой вились мясистые мухи, от укусов которых кожа на лице зудела и кровоточила. Вечернее солнце, багровеющее как расплавленный металл, балансировало над линией моря. Воды бухты были словно охвачены пламенем, и золотисто-алые сполохи заката переливались в волнах, лениво набегающих на потемневший песок. Мачты и ванты корабля, стоявшего невдалеке на якоре с убранными парусами, казалось, тоже были охвачены огнем. Картина была отчасти фантасмагорическая, и ощущения, которые Уильям в этот момент испытывал, тоже было трудно с чем-то сравнить. – Проклятие, – произнес Уильям, дотрагиваясь до затылка. – Такое ощущение, что Фортуне из всех моих органов более всех приглянулась голова и теперь она, подобно суденту-медикусу, ставит над ней различные испытания. Всем подавай мою голову, и негры, и джентльмены – все прикладывают к ней свою руку. Уильям издал глухой стон и попытался сесть поудобнее. Ветер переменился и теперь дул с берега, приятно овевая его несчастные, разбитые от драки и беготни члены. – Интересно, кто это дотащил меня почти до самой воды? Неужели пираты были столь любезны, что позаботились о моем бесчувственном теле? Но отчего они бросили меня на берегу, вместо того чтобы поднять на борт? – Уильям прекрасно знал, что с помощью крепких напитков многие капитаны набирали себе матросов, а короли – солдат. – Так почему же я так и не попал на корабль? – задумался Уильям, ощущая, как во рту с трудом ворочается пересохший язык. – Воды бы попить, а не этого проклятого рома. – Страшно сказать, но такой компании неповешенных мошенников, какими являются эти веселые джентльмены, достаточно, чтобы привести в изумление берегового человека. Вдруг он услышал, как совсем рядом под чьими-то шагами заскрипел песок. Уильям с трудом повернул голову, надеясь увидеть Джереми, который, должно быть, терпеливо дожидался, когда очухается его загулявший товарищ. Но вместо Джереми он увидел незнакомого мужчину, который не спеша приблизился к нему и остановился всего в паре шагов. Встретившись взглядом с Уильямом, он снял шляпу и вежливо поклонился. – Миль пардон, шевалье Роберт Амбулен к вашим услугам! – произнес он с легким французским акцентом. – Прошу извинить меня за мою дерзость, но я лишь хочу засвидетельствовать свое восхищение той отвагой, которую вы и ваш товарищ проявили на моих глазах, смело вступив в схватку с этими грязными скотами. Несколько секунд Уильям находился в замешательстве, но потом в голове у него прояснилось, и до него дошло, что перед ним тот самый незнакомец, который спас его днем от ножа индейца. – Так это были вы, сударь? Мне очень жаль, но... – Вы нанесли великолепный удар! – перебил Уильяма господин Амбулен. – Позвольте узнать, где вы научились подобному туше, сэр?.. – Сэр Уильям Харт, эсквайр, – поспешил представиться Уильям, только теперь разглядев как следует своего спасителя. На вид ему было лет двадцать пять, лицо его, с правильными чертами лица, имело несколько мечтательное выражение, а голубые глаза смотрели на удивление открыто и простодушно. – Я ваш должник, сударь, и, Бог тому свидетель, я вам крайне признателен. Несмотря на то что я чистокровный англичанин, приему, что так вас поразил, меня научил ваш соотечественник, шевалье де Фуа. Он давал мне уроки фехтования, – со всей возможной учтивостью продолжил Уильям, пытаясь подняться и водрузить на голову пыльную шляпу, на которой явственно виднелся отпечаток чей-то ноги. – Пожалуй, если вы не возражаете, я присяду с вами, – заявил шевалье, прерывая тщетные попытки Харта принять вертикальное положение и усаживаясь прямо на песок. – Однако вы оказались способным учеником! Я получил истинное наслаждение и очень рад, что смог быть вам полезным. – Простите, господин Амбулен, но позвольте в свою очередь поинтересоваться, почему вы вступились за меня? Ведь вы меня даже не знали, к тому же я – англичанин. – Настоящий дворянин всегда поспешит на помощь другому, особенно когда тот в одиночку бьется против простолюдинов! – возразил Амбулен. – Эти мерзавцы могли растерзать вас. Я не мог допустить, чтобы взбесившаяся чернь взяла верх над дворянином. – Вы благородный человек, шевалье! С благодарностью снимаю перед вами шляпу! – вскричал Уильям. Шляпа его снова валялась под пальмой на песке, но это нисколько не охладило его восторга. – У вас случайно нет при себе воды? – Конечно, конечно. – Роберт отцепил от пояса небольшую серебряную фляжку и протянул ее Харту. С наслаждением напившись и получив столь прекрасный пример чужого благородства, Уильям даже почувствовал прилив сил и снова попытался привести в порядок головной убор и отряхнуть пыль с одежды. – Однако мне показалось, что нам удалось удрать, – простодушно заметил он. – Как же вы меня нашли? – Правда, – согласился Амбулен. – Негодяи, которые бросились по вашим следам, быстро устали и угомонились. Но я не спеша двигался вдоль побережья и, миновав рощу, набрел на трактир. Вы были там не один, и я не стал вам докучать. Но теперь, когда ваши друзья уплыли... – Уплыли? Друзья? Вы хотите сказать... – Ну да, все, с кем вы пировали в корчме, – неуверенно сказал Амбулен. – По-моему, они все уплыли на тот корабль, что стоит в бухте. Я не знал, почему вас оставили здесь, поэтому решил дождаться, пока вы проснетесь, чтобы узнать, не требуется ли вам помощь. – Вы видели этого одноглазого? – живо спросил Уильям. – Знаете, это пират... – Да, я знаю, – просто сказал Амбулен. – Его здесь многие знают. Это Веселый Дик. Он был квартирмейстером у Черного Билла. Но говорят, что между ними с некоторых пор словно кошка пробежала. Ходили слухи, что Веселого Дика то ли повесили, то ли высадили на необитаемый остров. Но раз он все-таки здесь... – Вот как? – Уильям был озадачен. – Его повесили? Так говорят? И когда это произошло? – Да уж два-три месяца минуло, – сообщил Амбулен. – А вы разве не знали? – Откуда мне знать? Ведь я не пират, – сказал Уильям. – А я выбрался в Новый Свет, чтобы поплавать под черным флагом! Если попасть к верному капитану, то и самому можно словить удачу. Просто я никак не выберу, куда мне наняться. Скажу вам честно, все каперы, которые приходили сюда в порт, как-то не пришлись мне по душе. Может быть, мне просто не везет? – Вы хотите стать пиратом? – искренне удивился Уильям. – По собственной воле? Наняться на корабль? – Да, я с детства мечтал о том, чтобы поплавать по морям! – сказал Амбулен, и лицо его снова приняло мечтательное выражение. – Судовой врач Амбулен – неплохо звучит, как вам кажется? – Звучит неплохо, – согласился Уильям. – Но ведь вы почему-то так и не нанялись ни на один корабль. – Пока нет, – с легкостью согласился Амбулен. – Но здесь очень много перспектив для деятельного человека. Думаю, если как следует озаботиться... А у вас какие планы, сударь? Уильям вздохнул и обернулся. Солнце уже зашло. На фоне алеющей кромки заката силуэт флейта был виден столь отчетливо, словно был нарисован тушью на стекле фонаря. – Как это ни странно, – сказал он без восторга, – но я тоже собираюсь наняться на пиратский корабль.Глава 9 Следы на воде
Карибское море. Мартиника. Барбадос
Когда Лукреция увидела, как летит в воду большой якорь «Черной стрелы» и проваливается в зеленоватую пучину, обдав сверкающими брызгами крашенный в черно-белые цвета борт корабля, то у нее возникло странное ощущение, будто она своими глазами видит, как с ее души падает камень, невыносимым бременем давящий на нее долгие месяцы путешествия. Длительное плавание изматывало ее, и чем ближе были воды Карибского моря, тем сильнее натягивались ее нервы, заставляя ее метаться по каюте, как тигрицу в клетке. Однообразные дни, попутный ветер, незамысловатая пища – все вызывало у Лукреции яростное раздражение. Порой ей хотелось, чтобы разразилась буря, чтобы ураганный ветер переломал мачты и волны смыли за борт половину команды. Или чтобы из синей дали вдруг вынырнул черный корабль с размалеванной тряпкой вместо флага и вступил с ними в жаркую схватку – чтобы грохотали пушки, трещали борта, с хрустом ломались и рвали канаты мачты, чтобы ручьями текла кровь – все равно, своя или чужая. Иссушившие ее сердце желание мести и неудовлетворенное тщеславие искали выхода, а ее тяга к разрушению себе подобных не находила выхода. Иногда, забившись в угол кровати и обхватив руками колени, она часами сидела так, уставившись в иллюминатор, и пыталась беспристрастно разобраться в своей кипящей страстями душе. Уже давно она не испытывала никакой радости ни от любви мужчин, ни от зависти женщин. Ее сердце снедала неутолимая жажда власти, все люди были для нее лишь игрушками, которые она привыкла ломать в бесконечных попытках понять, как они устроены. Временами жизнь представлялась ей длинной шахматной партией, в которой пешки выходили в ферзи, короли не могли переступить через клетку, а ладьи и офицеры бессмысленно гибли в угоду тому, кто переставляет фигуры. Она не хотела быть фигурой, она хотела быть игроком! Бессильная злоба на жизнь, в которой она давно не видела ни малейшего смысла и о которой когда-то так жарко молила, прискучила ей, и, заглядывая в себя, она с ужасом понимала, что давно уже умерла. Умерла в тот самый момент, когда сделала свой самый первый шаг к богатству и могуществу, предав свои наивные мечты и простодушную любовь. А ныне, ныне все золото мира не могло отбить привкуса той грязи, которой ей пришлось нахлебаться, прежде чем стать тем, кто она теперь. А кто она теперь? В бешенстве она только крепче сжимала кулаки, отчего ногти оставляли на ее ладонях глубокие кровоподтеки. И куда бы она ни поворачивала голову, взгляд ее то и дело натыкался на проклятую книжку, которую она и без Кольбера уже давно знала наизусть. В общем, два месяца плавания стоили ей двух лет жизни, и она жаждала только одного – наконец-то начать действовать. От нечего делать она было принялась опробовать свои чары на капитане, но вскоре и он начал ее безмерно раздражать. И хотя он непрерывно ухаживал за ней, отпускал комплименты и как мог старался скрасить ей тяготы долгого пути, Лукреция в конце концов начала при виде его испытывать приступы глубокой мизантропии. Но она была не настолько глупа, чтобы ссориться с человеком, который должен был служить ей опорой на ближайшие месяцы. И хотя под конец путешествия ей редко удавалось сдерживать вспышки гнева и вовремя прикусывать свой не в меру острый язык, она умела повернуть дело так, что в итоге шевалье все ей прощал и даже, против воли, вновь и вновь подпадал под действие ее обаяния. Когда «Черная стрела» встала наконец на рейде вблизи острова Мартиника, капитан Ришери первым делом предложил Лукреции нанести визит местному губернатору. Он предполагал, что в честь гостьи с рекомендательными письмами от Кольбера может быть устроен даже небольшой прием, который ее хоть как-то развлечет. – Вы недопонимаете, капитан, той миссии, с которой мы сюда прибыли, – возразила ему Лукреция. – Забудьте о том, кто меня послал. У вас на борту – вдова гугенота из Ла Рошели, которая зафрахтовала это судно для небольшой торговой кампании и переезда в колонии. Я не испытываю доверия к здешнему губернатору и полагаю, что любая тайна, которую знают двое, – знают все. Без особой нужды не стоит привлекать внимания к моей особе. Поэтому вы поступите сейчас следующим образом: отправляйтесь на берег и подыщите мне достойное жилье – с прислугой и ванной. Пока я буду отдыхать и приводить себя в порядок, вы нанесете визит губернатору и окрестным трактирщикам, где и соберете все сплетни, которые только есть на этом клочке земли. Особенно обращайте внимание на слухи о человеке по имени Давид Малатеста Абрабанель. Не пропускайте ни одного сведения о последних проделках пиратов, особенно Черного Билла. О себе говорите уклончиво. Никто не должен знать, что мы на самом деле ищем. Вечером я жду вас с новостями. Ришери выполнил задание с блеском и присущей ему обстоятельностью. Уже через пару часов спустя за Лукрецией вернулась шлюпка, и второй помощник доставил ее в Фор-де-Франс, где Ришери уже нашел для нее приличную квартиру с прислугой и ванной, как она и просила. Красивый дом в итальянском стиле с небольшим внутренним двориком, заросшим причудливыми растениями, пришелся мадам Аделаиде – а пока мы будем звать ее так, как она хочет, – по вкусу. Из окон, предусмотрительно снабженных жалюзи, открывался живописный вид на лазурные воды залива, над которыми парили белоснежные чайки. По европейским понятиям стоило это жилище вполне сносно, и неизвестно, что принесло Лукреции большее удовлетворение – удобные комнаты или выгодная цена. Деньги она любила тратить только на себя. Вечером, отдохнув и посвежев, она устроилась в кресле прямо в саду и, достав из резной шкатулки трубку и кисет, велела принести угля. Наконец-то оно затянулась ароматным дымом с чувством глубокого удовлетворения. Да, как ни удивительно, но леди Бертрам пристрастилась к этому модному пороку еще при дворе Карла II, или Старины Роули, как иногда называли его придворные в честь одного из лучших жеребцов королевской конюшни; и теперь она спешила удовлетворить свое пристрастие, которое, впрочем, держала в секрете. Лукреция никогда не любила, чтобы о ней знали больше, чем она хочет, и теперь, с наслаждением вдыхая дым, она думала, что, возможно, половина ее раздражения на капитана была вызвана именно желанием покурить. Впрочем, то, что могла позволить себе леди Бертрам, не могла допустить мадам Аделаида Ванбъерскен, и посему она постаралась до прихода капитана тщательно уничтожить следы своего развлечения. Шевалье Ришери явился с началом сумерек и за ужином кратко поведал обо всем, что ему удалось узнать от местного общества. Перед тем как усесться за накрытый стол, он не упустил возможности преподнести Лукреции дежурный комплимент, сопровождаемый поцелуем руки и проникновенным взглядом. Лукреция, примиренная с жизнью ванной и выкуренной трубкой, приняла эти знаки внимания более благосклонно, чем обычно, мимолетно подумав, а не привязать ли к себе этого мужественного шевалье узами более приятными, чем служебные. И, хотя она предпочитала держать в отдалении людей, с которыми ей приходилось сотрудничать, она полагала, что любовная интрижка вовсе не повод для близости, посему окинула шевалье весьма недвусмысленным взглядом и улыбнулась. Заметив выражение ее лица, шевалье несколько удивился и, галантно улыбнувшись в ответ, спросил: – Что-то изменилось, мадам? – Мне кажется, сегодня прекрасный вечер и было бы глупо потратить его напрасно... Шевалье придвинул свое кресло поближе и, завладев ее рукой, нежно поднес ее к губам. Мадам руки не отняла и снова улыбнулась. – Итак, что-нибудь слышно о купце? – Только о нем все и говорят, сударыня! Пронесся слух, что Абрабанель отправил в Европу корабль с грузом серебра и пряностей для Вест-Индской компании и буквально на следующие сутки он стал легкой добычей Черного Билла. – Черного Билла?! – взволнованно повторила Лукреция, отнимая у шевалье свою руку. – Расскажите мне об этом подробнее! – Подробностей никто не знает, – покачал головой Ришери. – Но история темная. Говорят, будто «Голова Медузы» – так называлось это судно – появлялось и здесь, на Мартинике. И будто бы капитаном на ней был некий Веселый Дик... – Веселый Дик... Кажется, я однажды слышала это имя, но я не уверена... – Поборов волнение, Лукреция медленно отпила вина. – Ничего, продолжайте, продолжайте, капитан! Я внимательно вас слушаю. – Так вот, «Голова Медузы» появилась здесь почти сразу же после того, как на нее было совершено нападение. Заметьте, никаких признаков Черного Билла! Да он бы и не рискнул появиться на Мартинике. Веселый Дик – другое дело. Он никогда напрямую не конфликтовал с французами и к тому же... – Ну что? Что к тому же? – от нетерпения Лукреция пристукнула ладонью по ручке кресла. – К тому же все были уверены, что Черный Билл давно покончил с Веселым Диком. – Как покончил?! – Не знаю, насколько можно верить молве, но, говорят, Черный Билл в один прекрасный день выбросил своего квартирмейстера за борт. В общем, пауки перегрызлись, как это часто бывает. То ли Веселый Дик задумал сместить капитана, то ли не так разделил добычу, но в любом случае мерзавец приговорил его к смерти. Однако добрая половина команды настояла, чтобы какой-то шанс Дику дали. Говорят, Черный Билл выполнил это пожелание – он не просто выбросил квартирмейстера на корм акулам, а оставил его привязанным к мачте затопленного им судна. Вообще-то это означало верную смерть – только еще более мучительную... Но вот видите, Веселый Дик неожиданно воскресает на том самом флейте, который взял на абордаж его злейший враг Билл. Не знаю, как вы, а я не могу разгадать эту загадку. – Что сталось с ним дальше? Где теперь эта «Голова Медузы»? Ришери пожал плечами. – Карибское море большое, – сказал он. – Они починили здесь такелаж, подлатали паруса и снялись с якоря. Кажется, с тех пор больше их никто не видел. Черный Билл тоже не давал о себе знать. Возможно, и тот и другой отдыхают сейчас на Тортуге. Нас будет интересовать их судьба? – Обязательно! Нас будет интересовать каждая мелочь, которая как-то связана с именем Абрабанеля. Ришери слегка наклонился к ней и многозначительно сказал: – Тогда вот вам самая великолепная мелочь, которая связана с этим именем, сударыня! Ходит слух, будто бы на «Голове Медузы» не было ни унции серебра! Вообще ничего, кроме бесполезного балласта. Об этом говорил какой-то моряк, который остался здесь, на Мартинике. Должен вам сказать, что Веселый Дик освободил всю команду трофейного судна. Всех до одного. – Всех до одного? – изумленно произнесла Лукреция, прижимая пальцы к вискам. – С захваченного судна, на котором не было ни унции серебра? Но на котором откуда-то взялся Веселый Дик, этот чертов висельник... Я ничего не понимаю! А впрочем... Она вдруг вскочила и порывисто прошлась по усыпанной галькой дорожке мимо пышно цветущих клумб. Ее зеленые глаза метали молнии. Капитан Ришери, который прежде никогда не видел свою спутницу в таком волнении, невольно залюбовался ею. Но при этом он еще испытывал смешанное с разочарованием беспокойство, так как эта женщина вновь ускользала от него. При этом он чувствовал себя так, словно оказался в лодке без весел, к тому же влекомый сильным подводным течением. Он даже явственно услышал, как ревут буруны вокруг рифов, о которые вот-вот разобьется его утлый челн. – Капитан, мы снимаемся с якоря! – резкий голос Лукреции развеял наваждение. – Послезавтра мы отплываем на Барбадос! Вам хватит суток, чтобы пополнить запасы воды и пищи? – Но, сударыня... – Ришери был растерян. – Половина команды на берегу. Вы сами говорили, что смертельно устали от плавания... Я не говорю о том, какое удивление вызовет наше отплытие у губернатора. Я предупредил его, что мы пробудем здесь не меньше недели... – Вас никто не уполномочивал делать заявления, капитан! – жестко заявила Лукреция. – И впредь будьте добры советоваться по этому поводу со мной! – Но, заметив огорченное лицо Ришери, она добавила уже более мягким тоном: – Вы человек военный, действуете по приказу самого министра Кольбера, чего вам бояться? Вы вольны поступать, как вам вздумается, без оглядки на любого губернатора, не так ли? А команду, я полагаю, можно вернуть на корабль. Для этого у вас существуют всякие боцманы, или как их там... Я не права? – Разумеется, сударыня. Но мне казалось, что небольшой отдых пойдет вам на пользу... Лукреции показалось, что, говоря о ней, он гораздо больше беспокоится о команде. Эта рассудительность взбесила ее. – Я уже отдохнула! – оборвала его Лукреция. – Не говорите вздора! Кстати, этот дом можно будет оставить за мной? Справьтесь об этом – я намерена сюда возвращаться. Разумеется, я готова платить за аренду, но на время нашего отсутствия она уменьшается втрое. Об этом можете сообщить владельцу. Что еще? – Барбадос – английская колония, – напомнил Ришери. – Появление французского военного корабля неизбежно привлечет внимание и не всем понравится. – Вы правы, – кусая губы, согласилась Лукреция. – Но мы что-нибудь придумаем. В конце концов, мы же не воюем!.. – Чему я очень рад, – мрачно добавил Ришери, поднимаясь. – Однако, поскольку мы послезавтра снимаемся, позвольте мне приступить к выполнению своих обязанностей! Лукреция подумала, что она, кажется, перегнула палку. Тем более ей самой не хотелось лишать себя маленьких радостей и так бездарно проводить остаток ночи. Поэтому она вплотную приблизилась к Ришери и, улыбаясь, произнесла: – Впрочем, капитан, я по-прежнему намерена приятно провести этот дивный вечер. Ришери остановился, и на лице его мелькнуло удивление. – Не бросите же вы даму на произвол судьбы? – лукаво продолжила она и метнула на Ришери обжигающий взгляд. Шевалье был не дурак, и, взглянув в изумрудные призывающие глаза, он коснулся ее холодных как мрамор губ.Капитан Ришери покинул спальню графини уже на рассвете. Закутавшись в мантилью, она вышла его проводить. Он долго целовал ее на прощание, пока наконец ей это не надоело и она не подтолкнула его к выходу. Сбежав с крыльца, он обернулся и, сняв шляпу, отвесил ей изящный поклон. – Аделаида, звезда моя, вы прекрасны! – воскликнул он. Во взгляде его она прочла восхищение и, сдерживая неуместную зевоту, послала ему на прощание воздушный поцелуй. Шевалье, окрыленный и счастливый, поспешил выполнять ее указания, а Лукреция, проводив взглядом его статную фигуру, покачала головой. – Ах, если бы военные были хоть чуточку умнее! – пробормотала она себе под нос. – Нет, впрочем, это лишнее! Будь они умнее, управляться с ними не было бы никакой возможности! Пусть все идет как идет. Однако как понять эту загадку? «Голова Медузы» с грузом несуществующего серебра... Или это пустая болтовня? Она вернулась в дом, задумчиво обрывая драгоценные кружева. В голове ее одна за другой вертелись самые различные комбинации, самые оригинальные предположения. Остановиться на одном из них она не могла, потому что слишком мало знала, – увы, слухи зачастую так и остаются слухами, не больше. Чтобы составить себе более ясное представление о случившемся, было необходимо попасть туда, откуда все началось. В одном Лукреция была уверена – большой добычи пираты на «Голове Медузы» точно не взяли. Будь там богатый груз – молва об этом уже облетела бы половину колоний. Было и кому разносить их по островам: пираты, команда «Медузы»... Одни бы трезвонили об этом из бахвальства, другие из сожаления, а возможно, и злорадства. Нет, серебра на «Голове Медузы» определенно не было. Но зато на ней был... Веселый Дик! И это так же верно, как то, что флейт с Барбадоса оказался пустышкой. Возможно, именно эта новость и есть то самое важное, из-за чего она пересекала океан и терпела общество неуклюжих грязных матросов. Веселый Дик... Однако как быть с тем, что рассказал Ришери? Ссора между квартирмейстером и капитаном – это серьезно. Ссора из-за денег вдвойне серьезнее. Черный Билл пустил по волнам своего квартирмейстера, в этом сомневаться не приходится. И уж во всяком случае, обратно к себе он его не взял бы. И тем не менее Веселый Дик оказывается на захваченном Биллом корабле. Что это может означать? Две загадки, ключ к которым наверняка лежит на Барбадосе. Нет, она совершенно права – она должна как можно скорее увидеть Давида Абрабанеля. Не поняв, что произошло с «Головой Медузы», она не сможет действовать дальше. Предаваясь размышлениям, миледи подумала, что все равно не уснет, и решила выпить кофе. Оборвав шнурок и еле разбудив меланхоличную Берту, она велела подать огня и завтрак в постель, а затем принялась набивать трубку.
Ришери выполнил все как надо. К вечеру явились матросы с «Черной стрелы» и забрали дорожные сундуки. Лукреция же, которую снова навестил шевалье, осталась дома до утра. Отплытие назначили на пять часов пополуночи. Поднятые паруса отливали молочной белизной, в призрачном свете угасающих звезд атласные воды залива лениво колыхал прохладный ветерок. Фрегат медленно двинулся к выходу из бухты, а над островом не спеша разгоралась заря нового дня. Лукреция в одиночестве стояла на квартердеке и смотрела вдаль за пустой горизонт. Где-то там скитался человек, чье существование придавало ее жизни единственный смысл. Иногда Лукреция думала, что Господь Бог, если, конечно, Он существует, спас ее и сохранил его только для того, чтобы они еще раз встретились. Потом она вспомнила полные страсти ласки капитана, и губы ее исказила презрительная усмешка. Каждый раз, отдаваясь мужчине, она представляла себе, какую боль причиняет Роджеру, и мысли об этом доставляли ей мстительное наслаждение. Важно было другое – навсегда забыть о том, что она сама испытывала в объятиях Роджера. Отгоняя мучительные воспоминания, она забавлялась тем, что воображала себе, что бы он сделал с теми, кто наставляет ему рога. Помечтав немного подобным образом, Лукреция прощальным взглядом окинула оставшийся позади остров и отправилась в свою каюту, чтобы безмятежно проспать в ней до самого обеда. «Черная стрела» бросила якорь в Карлайлской бухте. Спустя некоторое время на борт фрегата поднялся помощник губернатора. Капитан Ришери церемонно приветствовал его и обратился с нижайшей просьбой позволить его кораблю остаться под защитой форта на неопределенное время, сославшись на необходимость произвести на судне ремонт и пополнить запасы продовольствия. Обходительность француза, щедро приправленная увесистым кошельком, произвела на помощника губернатора самое выгодное впечатление. А еще большее впечатление произвели на него зеленые глаза обворожительной пассажирки, которую он увидел на борту. Конечно, он не мог отказать столь прекрасной леди в гостеприимстве. Красавица приняла приглашение с благодарностью. Таким образом, Лукреции удалось совершенно естественно и безболезненно ступить на английский берег. Конечно, назовись она своим именем, к ее услугам был бы сам губернатор, но ее настоящее имя было последним, что бы она произнесла даже под пыткой. Помощник губернатора, совершенно очарованный неожиданной гостьей, сразу же представил ее господину Джексону как несчастную гугенотку, чье положение после смерти мужа-голландца невыносимо ухудшилось, и она была вынуждена покинуть Ла Рошель и перебраться сюда, в колонии, чтобы здесь спокойно доживать свои дни в трудах и молитве. Поскольку гостья оказалась вдовой подданного Голландских Штатов, поприветствовать ее явился и сам господин Давид Малатеста Абрабанель с дочерью. Найти общий язык с «земляками» не составило для Лукреции, или госпожи Аделаиды Ванбъерскен, большого труда. И хотя купец оказался твердым орешком, его юная дочь Элейна своей искренностью и прямотой заронила в душу Аделаиды немалые надежды. Из некоторых замечаний Элейны можно было понять, что девушка знает нечто интересное. Лукреция решила, что глупо упускать лишнюю возможность почерпнуть новые сведения, и принялась очаровывать Элейну, рассчитывая быстро завести с ней дружбу. После обеда, который из дипломатическиз соображений дал в честь гостей губернатор, Лукреция попросила Элейну сопровождать ее в прогулке по саду. – Простите, я так долго была в обществе простых матросов, – с виноватым видом призналась она, – что теперь мне просто хочется побыть наедине с женщиной, чье воспитание безупречно, а положение уважаемо. Я оставила во Франции близкую подругу, и мысль о том, что мне не с кем разделить теперь свои тревоги и надежды, приводит меня в отчаяние. Знаете, я сейчас подобна умирающему от жажды человеку, который видит перед собой источник чистой воды. Мне так хочется просто поговорить о предметах, которые близки и понятны женской душе, а может быть, и просто помолчать, глядя на эти прекрасные цветы... Знаете, там, где мы жили с мужем, тоже было много цветов! Когда я смотрю на этот сад, слезы застилают мне глаза. Я сразу вспоминаю свой дом, свою покойную мать... Вы поймете меня, моя милая! Результатом этого трогательного монолога были нежные объятья, в которые Элейна простодушно заключила свою новую подругу. Они углубились в сад и с задумчивым видом побрели вдоль клумбы. В тени пальм было прохладно и спокойно. Мужчины предпочли устроиться возле дома на террасе с трубками и бутылками хорошего вина, которое шевалье предусмотрительно захватил с собой. Метнув полный зависти взгляд на поднимающийся с террасы дымок, Лукреция приготовилась ко второму акту своей пьесы. Она не стала задавать никаких вопросов. С грустным видом, склонив голову, она медленно брела по дорожке, как будто полностью погрузившись в воспоминания. Элейна тоже не выглядела веселой. Она сочувственно поглядывала на гостью, вздыхала, а потом неожиданно сказала: – Дорогая Аделаида, я понимаю, что вы безутешны в своем горе, но, поверьте, ваша скорбь принесет вам однажды облегчение. Господь благословит вас и вознаградит за страдания. Я уверена, что это случится очень скоро. Вы еще так молоды и так прекрасны... – Увы, молодость быстротечна, и есть утраты, которые невосполнимы, – Лукреция подняла глаза к небу, и по щеке ее скатилась одинокая слеза. Вконец расстроенная Элейна попыталась ее успокоить. – Наверное, я скажу сейчас глупость, – виновато произнесла она, – но мне хотелось бы, чтобы вы поняли, как я вам сочувствую. Я ведь тоже испытала недавно горе. Может быть, не такое безнадежное, как ваше, Аделаида, но я тоже потеряла любимого человека. Правда, мой отец утверждает, что все это блажь и у меня даже не было времени влюбиться. Но ведь любовь – это как удар молнии! Достаточно одного мгновения, чтобы... А мы были рядом довольно долго и... – Расскажите! – с жаром воскликнула Лукреция, беря ее за руки. – Разделенное горе – это половина горя. Может быть, я найду чем вас утешить и смогу дать вам какой-нибудь совет. Я ведь тоже когда-то любила! – при этих словах в глазах ее мелькнула дьявольская насмешка, но Элейна ничего не заметила. – А если я не найду слов, я поплачу вместе с вами, ведь каждой из нас найдется кого оплакать в этой юдоли! Элейна, так долго вынужденная молчать, смогла наконец излить душу женщине, которая, как ей казалось, понимает ее. Она поведала Аделаиде о том, как встретилась с прекрасным юношей Уильямом Хартом, как глубоко и искренне полюбила его и как злая судьба разлучила их. – ...И вот Уильям уплыл по поручению моего батюшки, а уже на следующий день на корабль напали пираты и захватили его, – грустно закончила Элейна. – С тех пор об Уильяме нет никаких известий. Неужели он мог погибнуть? Пираты так жестоки! Лукреция сразу поняла, что напала на бесценный кладезь, и пустила в ход все свои способности к обольщению, чтобы выудить у девушки интересующие ее сведения. Она жалела и утешала Элейну, но попутно очень ловко задавала ей вопрос за вопросом. – Пираты и вправду не знают границ в своей звериной жестокости. Но молю вас не отчаиваться, милая Элейна! Возможно, ваш возлюбленный жив и пираты отпустили его. Так тоже бывает, особенно когда они удовлетворены богатой добычей. На «Голове Медузы» были ценности? – Очень много! Когда отец узнал, что случилось, он рвал на себе волосы и кричал, что трюм был набит серебряными слитками! – Ваш отец столь несдержан в своих чувствах? Он всегда так сильно переживает неудачи? – сочувственным тоном поинтересовалась Лукреция. – Мой отец редко что теряет, – со сдержанной гордостью ответила Элейна. – Он очень расчетливый человек. Тем большим был для него этот удар. Горе затмило ему глаза, и теперь он уверен, что Уильям был заодно с пиратами! Это ужасно несправедливо, но я не могу его переубедить! – Да, это прискорбно. То, что вы рассказали об Уильяме, скорее свидетельствует о противоположных качествах его натуры. Не думаю, что столь юный и простодушный человек был способен на предательство. Ваш батюшка наверняка заблуждается. Думаю, что его компаньоны не разделяют этого мнения. С помощью этой нехитрой уловки Лукреция выведала все подробности о том, при каких обстоятельствах был снаряжен флейт и что происходило на острове до и после его отправки. Особенно насторожил ее тот факт, что в промежутке между прибытием «Головы Медузы» на Барбадос и её отплытием она совершала еще один рейс. – Видимо, выгодная негоция? – предположила Лукреция, всматриваясь в печальное лицо Элейны. – Ваш Уильям тоже принимал в ней участие? – Нет, – ответил дочь банкира. – С Уильямом здесь случилось несчастье. Он отправился гулять ночью по острову и попал к черным колдунам. Он едва не погиб. Он долго лежал в горячке и никак не мог прийти в себя. Я очень тогда переживала за Уильяма и не обращала ни на что внимания, но, мне кажется, Хансен не привез с собой никаких товаров. Я даже не знаю, куда он плавал. – Хансен – это такой приятный мужчина, который сопровождал вашего батюшку? Он его поверенный? Он был в прошлом военным? – Да, кажется. В свое время он воевал за французов, за шведов, за голландцев, сражался на суше и на море, – рассеянно ответила Элейна. – Папа очень дорожит Хансеном. Он очень полезен, потому что все умеет. Он прекрасно владеет оружием, отлично знает здешние острова, говорит на всех языках и ничего не боится. – Редкое сочетание стольких достоинств! – восхитилась Лукреция. – Странно, что не он сопровождал столь ценный груз в Европу. – Я тоже сначала этому удивлялась, – робко сказала Элейна. – Но папа утверждает, что хотел дать Уильяму шанс – отличный шанс проявить себя. – Уильям, на мой взгляд, слишком неопытен, чтобы сопровождать такие ценности, – заметила Лукреция. – Впрочем, если на судне был хорошо вооруженный экипаж... – В том-то и дело, – печально сказала Элейна, – что корабль был почти беззащитен. Двадцать кулеврин и только один человек, у которого был опыт морских сражений, – капитан Джон Ивлин. Он с самого начала ворчал, что не следует идти в Карибское море на флейте в одиночку, что это огромный риск. А когда отец приказал ему отправляться с грузом в Европу, Ивлин вообще сделался мрачнее тучи. – Он не сумел убедить вашего отца? Похоже, его трудно в чем-либо убедить, верно? – Да, отец всегда поступает по-своему, – подтвердила Элейна. – Но так нерасчетливо он поступил впервые в жизни. – Со всеми случается, – сказала Лукреция. – Но, однако же, странно, что, заключив столь выгодную сделку, ваш отец не вернулся в Европу сам. Да и вы здесь прозябаете. Я долго жила с мужем в колониях и знаю, как скучна и однообразна там жизнь. Элейна на это ничего не сказала. Она вдруг остановилась и, отвернувшись, стала смотреть куда-то в сторону поверх пышных изумрудно-зеленых пальмовых крон. Лукреция нежно взяла девушку за плечи и заглянула ей в лицо. Глаза Элейны были полны слез. – Что с вами, милая?! – ласково спросила Лукреция. – Я вас чем-то обидела? Простите! – Ну что вы! – тихо сказала Элейна. – Вы так добры. Я вам так благодарна. Нет, мне просто грустно, потому что, боюсь, вскоре мне придется выполнить волю отца. Он дожидается здесь своего старого друга, господина Ван Дер Фельда. Отец хочет, чтобы я вышла за него замуж. – Вот как! – отступая на шаг, воскликнула Лукреция. – И вы не открылись отцу? Не сказали ему о своих чувствах к Уильяму Харту? – Он даже слышать об этом не хочет! Считает блажью, – с горечью сказала Элейна. – И, кроме того, Уильям для неготеперь предатель. Как и все, кто уплыл на «Голове Медузы». Он так сердит, что называет предателем и капитана Ивлина, и Фрэнсиса Кроуфорда... – А это еще кто? – с удивлением спросила Лукреция. – Это тот английский дворянин, которого мы спасли по пути сюда. Видимо, он родился под несчастливой звездой – второй раз попасть в руки к пиратам! Такому не позавидуешь. – Да, это ужасно, – согласилась Лукреция. – Я уже слышала где-то это имя, или мне показалось, что... Хотя... Нет, наверное, показалось... Однако становится слишком жарко. Вернемся в дом, дорогая. У лорда Джексона замечательный дом, вы не находите? – Да, здесь очень хорошо, – печально подтвердила Элейна. – Но я чувствую себя здесь как в тюрьме. – Я вас понимаю, – кивнула Лукреция. – Если бы только я могла вам чем-нибудь помочь! – Вы и так мне помогли, Аделаида. До вашего появления я ни с кем не могла даже побеседовать, – улыбнулась Элейна. – Но мне так неловко! Ведь у вас у самой большое несчастье. – Это ничего, мы будем держаться вместе, – заверила ее Лукреция, – и вдвоем мы сумеем выдержать все удары судьбы. – А вы здесь надолго? – с надеждой спросила Элейна. – Теперь я вольная птица, – вздохнула Лукреция. – Вест-Индию я выбрала для того, чтобы полностью порвать с прошлым. Те края, где я жила прежде, слишком напоминают мне о счастливых днях, которых уже не вернуть. Мне здесь пока нравится. Возможно, я задержусь на Барбадосе подольше. Мы будем встречаться с вами и говорить обо всем. – Это чудесно! – воскликнула Элейна. – Об этом я даже не могла и мечтать. Понимаете, местные дамы, они такие напыщенные и вместе с тем такие смешные... Ни в одной нет ни искренности, ни ума. Вы на них совсем не похожи! – Разумеется, ведь я не светская дама, – с усмешкой сказала Лукреция. – Скорее уж купеческая вдова. Но теперь все будет по-другому. Я хочу посмотреть мир и помогать тем, кто нуждается в помощи. Элейна крепко пожала ей руку. Они вышли к террасе. Пузатый низенький Малатеста скатился по ступенькам вниз и, распахнув объятья, бросился к дочери. – Дорогая, как ты себя чувствуешь? – с неподдельной заботой воскликнул он. – По-моему, ты чересчур бледна! Тебе не следует столько бывать на жаре, тебе следует больше кушать! Он приобнял дочь за плечи и с упреком посмотрел на Лукрецию. – Вероятно, вы легче переносите местный климат и не замечаете жары, но Элейна – мой хрупкий цветочек, мой тюльпан из далекой Голландии. Ей лучше поменьше бывать на солнце в такую жару. Поди к себе в комнату, доченька! – он ласково, но настойчиво повел Элейну вверх по ступеням. Лукреция, слегка нахмурив брови, посмотрела ему вслед. Краем глаза она заметила, что сидевшие на террасе мужчины как по команде встают и с медовыми улыбками направляются к ней: маленький, разряженный как придворный сэр Джексон, его помощник Стаффорд и капитан Ришери, как всегда изящный в любой одежде. Предупреждая готовый обрушиться на нее шквал комплиментов, Лукреция скроила постную мину и печально улыбнулась мужчинам. – Кажется, на меня тоже подействовал здешний климат, – томно вздохнула она. – У меня кружится голова. Прошу меня извинить, господа, но я вынуждена вас покинуть. Я нуждаюсь в отдыхе. Капитан Ришери, будьте добры, проводите меня на наш корабль, пока я не нашла себе здесь квартиру! – Сударыня! – воскликнул миниатюрный губернатор. – Я знаю, что такое корабль! И ни за что вас не отпущу. Лучшие покои моего дома к вашим услугам! – Вы восхитительны, господин губернатор! – прошептала Лукреция и восторженно посмотрела на него. – И дом ваш – просто настоящий Версаль! Но я не могу так легко принять ваше предложение. И хотя траур по моему драгоценному супругу уже закончился, но мое состояние требует простоты и уединения. Суровая обстановка на корабле как нельзя лучше соответствует этим условиям. По-моему, корабль чем-то схож с монастырем, вы не находите? – Боюсь, мадам, это все-таки мужской монастырь! – сказал губернатор, целуя ей руку. – Женщине там не место. – Для скорбящей души нет различия между мужчиной и женщиной, – назидательно сказала Лукреция. – Позвольте нам с капитаном уехать. Но я готова завтра же воспользоваться вашим гостеприимством, если вы не передумаете. – Будьте моей гостьей в любое время! – с жаром подхватил Джексон. – Я буду жить надеждой на скорую встречу. И не беспокойтесь, я сейчас же распоряжусь, чтобы вам дали лучший экипаж. Через пять минут Лукреция в сопровождении Ришери уже катила по дороге к порту. Губернатор махал ей вслед надушенным платком. – Все-таки вы поразительная женщина! – с восхищением сказал Ришери. – Слушая вас, даже я в какой-то момент поверил, что вы и в самом деле протестантская вдовушка. – Что ж, Франсуа, – хмуро отозвалась Лукреция. – Если хотите знать, то я и в самом деле безутешная вдова. И не имеет значения, о каком человеке идет сейчас речь. Смерть есть смерть. – Да, это верно, – наклонил голову Ришери. – Прошу меня простить. Но мне показалось, что та девушка, с которой вы проводили время, тоже чем-то расстроена. И ее отец – он тоже вел себя как-то странно. Вам не кажется, что он о чем-то догадывается? – Очень даже кажется! – с досадой сказала Лукреция. – Эта старая крыса мигом сообразила, что дело нечисто. Видели, как он просто вырвал девочку из моих рук? А жаль, дочка, в отличие от своего папаши, удивительно искренняя и невинная. Боюсь только, что теперь мне уже не удастся поговорить с ней с глазу на глаз – слишком уж она послушна. Ну что же, мне и так удалось узнать очень интересные вещи. – Про груз серебра? – спросил Ришери. – Про него они мне тут все уши прожужжали. Губернатор, его люди, купец... Они будто трагедию передо мной разыгрывали. Античные хоры! Слушая их причитания, я окончательно уверился, что никакого серебра не было и в помине. Вся эта компания что-то затеяла... – Хотела бы я знать, что именно! – сквозь зубы пробормотала Лукреция. – Вы не разговаривали с господином Хансеном, Ришери? – Он очень неразговорчив, Аделаида. Мы всего лишь раскланялись и обменялись положенными в таких случаях любезностями. А сразу после обеда он куда-то ушел. – Есть одна интересная деталь, Ришери, – задумчиво сказала Лукреция. – Перед тем как отправить «Голову Медузы» в Европу с грузом «серебра», владелец судна куда-то посылал на нем Хансена. Тот отсутствовал две недели. Я очень хотела бы знать, где он был, понимаете, Франсуа? – Понимаю. Нужно будет поспрашивать в порту. Не бывает так, чтобы ни один человек ни словом не обмолвился о том, куда он плавал. Моряки не самые осторожные люди. Кто-то все равно что-нибудь сболтнет в портовом кабачке. К завтрашнему дню я постараюсь все выяснить. – Абрабанель говорил при вас о некоем Фрэнсисе Кроуфорде? – Да, и достаточно неприязненно, – улыбнулся Ришери. – Кажется, они спасли этого человека, выловив его из моря милях в ста от Наветренных островов. Бедняга пострадал от пиратов. Теперь уже дважды! Но симпатии ему это не прибавило – я имею в виду в глазах этого пройдохи. Если я правильно догадался, спасенный ответил спасителю черной неблагодарностью. Не захотел вкладывать деньги в его предприятие. – А что, этот Кроуфорд богат? – Абрабанель утверждает, что он просто пускает пыль в глаза, но говорит это с такой досадой, что поневоле начинаешь Кроуфорду завидовать. А вас интересует этот человек? Он ведь находился на борту «Головы Медузы», и о его судьбе до сих пор ничего неизвестно. – Да уж. Но этот человек может оказаться для нас полезен. Вы что-нибудь еще о нем слышали? – Ничего лестного, – снова улыбнулся Ришери. – Абрабанель обрушил на него весь запас праведного гнева. Он ведь очень богобоязненный человек, этот Абрабанель! О Кроуфорде он высказался примерно так: прожигатель жизни, хлыщ и пустозвон. Звучало очень категорично. – Как же он все это в нем разглядел? По моему разумению, Кроуфорд вынужден был вести здесь жизнь весьма скромную. Или он спасся вместе с набитым луидорами сундуком? – Золота при нем точно не было, но Абарабанель с большой досадой говорил о том, что Кроуфорд сразу же отказался от гостеприимства губернатора и переселился куда-то в город. Судя по всему, у него здесь квартира, а возможно, и любовница. Абрабанель, по-моему, страшно по этому поводу нервничает – он не привык чего-то не знать, а про знакомства Кроуфорда на Барбадосе он так ничего и не выяснил. Лукреция нахмурилась и зачем-то обернулась назад, будто Абрабанель мог ее сейчас слышать. Но прекрасный белый дом губернатора давно скрылся за холмом. – Послушайте, Ришери, – сказала Лукреция. – Я тоже хочу знать все о людях, которые меня интересуют. То, что у Кроуфорда мог быть здесь дом, – самая важная новость, которую вы мне преподнесли. Но это только половина дела. Коли это так, то мы должны найти этот дом, и как можно скорее. Я тоже не привыкла чего-то не знать. Лукреция провела еще одну ночь на корабле. Она лежала без сна на груде подушек и размышляла о том, что узнала на Барбадосе. Вдруг она услышала слабый стук в дверь. Она улыбнулась и пару секунд размышляла – впустить или послать ко всем святым своего неуемного капитана. Но желание еще раз обсудить услышанное пересилило, и она, как была в одной рубашке и босиком, добежала до дверей и откинула щеколду. – Заходите, капитан, – прошептала она и вернулась в кровать. Ришери бесшумно скользнул внутрь. – Так вы и будете надоедать мне по ночам? – Аделаида, звезда моя, я думаю о вас каждую минуту, вы совсем вскружили мне голову. Черт, я влюблен в вас, как мальчишка! – Садитесь и слушайте. Мне пришла охота поболтать. Сегодня вечером я говорила вам, что вы сообщили мне одну важную новость. Я должна была хорошенько обдумать, что мне с ней делать, и кажется, я поняла. Для полноты картины мне не хватает одной маленькой детали... – Может быть, той, что касается господина Хансена? – любезным тоном поинтересовался Ришери, пересаживаясь с кресла на край кровати. – Если бы я знал, что вас это так заинтересует, сударыня, я еще до полуночи принес бы вам этот кусочек мозаики... – В самом деле?! – вскричала Лукреция. – Вы уже что-то узнали, Ришери? – Да, как я и думал, в одном портовом кабаке нашлись люди, которые знают, куда ходила «Голова Медузы», пока ее пассажиры наслаждались гостеприимством губернатора. – Скорее же, Ришери! – простонала Лукреция, сжимая руки от нетерпения. – Флейт побывал на Тортуге, сударыня! – торжествующе объявил Ришери и, воспользовавшись моментом, придвинулся еще ближе. – Довольно необычно для торгового голландского судна. Мои соотечественники очень ревниво относятся к присутствию голландцев на этом острове. Смею предположить, что господин Хансен был там по какому-то весьма неординарному делу... – Ни слова более, Ришери! – вскричала Лукреция, порывисто вскакивая. – Завтра с утра вы доставите меня на берег! Мы должны навестить губернатора. Ваш камешек оказался как нельзя кстати. Мозаика сложена! Теперь попробую поведать о ней пройдохе-банкиру – возможно, его заинтересует узор. – Неужели вы оставите меня без награды? – Шевалье вскочил следом и заключил женщину в объятия. – Какой же вы ненасытный, шевалье!
К утру у Лукреции уже созрел план, который она посчитала недурным для плана, который родился и вызрел всего за одну ночь. Разумеется, он мог не сработать, и это сильно бы осложнило ее дальнейшие действия. Однако интуиция подсказывала Лукреции, что ее ждет удача. Она поднялась рано утром и уже собиралась просить Ришери отправить ее на берег, как он явился сам, как всегда собранный и галантный. Он церемонно поцеловал ей руку и поинтересовался, как ей спалось. – Бросьте, Франсуа! – поморщилась Лукреция. – А то вы не знаете. Готовьте шлюпку! Ришери с удовольствием повиновался, и через три четверти часа они вместе поднимались на причал бриджтаунского порта. А еще через полчаса нанятый ими экипаж остановился у ворот губернаторского дома. Пока капитан Ришери приносил свои благодарности губернатору за проявленное гостеприимство и помощь, Лукреция разыскала комнаты, где обретался Абрабанель, и без излишних церемоний вошла в незапертую дверь. Дочь банкира еще спала, и это было ей только на руку – она настроилась на очень серьезный разговор с этой голландской крысой. Судя по всему, Абрабанель только что поднялся с постели. Облаченный в стеганый, на турецкий манер, шлафрок *["187], он сидел за большим столом и что-то писал, с его плешивой головы свисал ночной колпак, а гусиное перо скрипело и брызгалось чернилами. То и дело Абрабанель недовольно морщил мясистый нос и покачивал головой, отчего кисточка на его колпаке вздрагивала и кивала в такт. – Доброе утро, господин Абрабанель! – пропела Лукреция, неслышно возникая за спиной банкира. Старик подскочил, словно за шелковый ворот шлафрока ему плеснули воды. Его лицо побагровело, а брови поползли вверх. Стопка бумаг рассыпалась, и они стайкой перепуганных птиц разлетелись по сторонам. Абрабанель негодующе обернулся и схватился рукой за сердце. – Это вы?! – воскликнул он. – Содом и Гоморра! Меня едва не хватил удар! Но что вы здесь делаете, сударыня?! И как вы сюда попали? Его маленькие глазки с подозрением ощупывали Лукрецию, но в этом взгляде не было и тени похоти – мысли банкира были заняты иными заботами, как и его руки, которые, не теряя времени, сгребали рассыпавшиеся бумаги. – Неужели вы, такой сильный и влиятельный мужчина, могли испугаться слабой женщины? – проворковала Лукреция, наслаждаясь его замешательством. – Простите меня, я совсем не хотела произвести на вас столь сильное впечатление. Кажется, я просто заблудилась. У губернатора такой огромный дом... – Не морочьте мне голову, сударыня! – сердито сказал Абрабанель, который уже пришел в себя. – Впервые вижу человека, который бы заблудился в приличном доме. Такое может случиться только с тем, кто сам ищет случая потеряться. Что-то не очень вы смахиваете на почтенную вдову! Мне еще вчера стало ясно, что вы не та, за кого себя выдаете. Но я в чужие дела не лезу! Бог с вами! Только оставьте в покое мою дочь и меня заодно! Здесь вам ничего не перепадет, и не надейтесь! С каждым словом голос его креп и становился все более властным. Однако Лукрецию это не смутило. Презрительно приподняв брови, она холодно поинтересовалась: – Не перепадет? О чем это вы? Абрабанель погрозил ей пальцем. – Я знаю женщин! Знаю, что им нужно! Вы только и высматриваете, где можно поживиться. Где поймать безутешного вдовца с приличным капиталом. Чтобы потом обольстить его и ощипать как гуся! Не на такого напали, сударыня! Я человек благочестивый... Не удержавшись, Лукреция звонко рассмеялась. Банкир запнулся и посмотрел на нее с изумлением. – С чего это вы так веселитесь, позвольте узнать? Ему наконец удалось собрать бумаги и ловко свернуть их в трубку. Но и в таком положении он старался держать их так, чтобы женщина не могла их рассмотреть. – О вашем целомудрии, господин Абрабанель, ходят легенды. Мне бы, пожалуй, никогда не пришло в голову вас соблазнять. У меня и в мыслях не было брать вас в мужья. Тем более что моя скорбь по первому супругу еще так свежа... Последние слова, произнесенные с насмешкой, опять было насторожили Абрабанеля, но он все же заметно успокоился. – Ну, и слава Всевышнему! – ворчливо сказал он. – Если на уме у вас другие глупости, это уже легче. Но все равно я вам не доверяю. Говорю это прямо, как на исповеди. По моему разумению, вы, сударыня, не та, за кого себя выдаете. Меня не проведешь. Вы нисколько не похожи на честную вдову голландского подданного. – А, да что вы заладили – честный да благочестивый!.. – махнула рукой Лукреция, вдруг сделавшись вульгарной, как базарная торговка. – Какой же вы порядочный, когда на верную гибель целый корабль отправили, с людьми, с капитаном и даже с помощником, который вам безгранично доверял и в которого влюблена ваша собственная дочь! – Моя дочь молода и глупа! А от вашей любви одни неприятности. Послушание и бережливость – вот все, что требуется от хорошей жены. Любовь – это все выдумки вертопрахов и дураков, что топчут паркет в Версале... А с чего вы взяли вот это... про корабль? Сказано это было как бы между прочим, даже чуть-чуть застенчиво и сопровождалось быстрым взглядом исподлобья. – Должна вас немного разочаровать, милейший господин Абрабанель! – с улыбкой сказала она. – Послушание и бережливость не входят в число моих достоинств. Досадно, конечно, ведь вы их так цените! Но зато у меня есть ум. И если вы дадите себе труд оценить его... – Все вздор, вздор! – торопливо сказал банкир и, отвернувшись, побросал бумаги в ящик стола, который тщательно запер на ключ. – У женщин весь ум в известном месте, и это – святая правда! Врываетесь к мужчине в спальню, дурите ему голову глупыми баснями... Все, что вы сказали про корабль, – все вздор! Пираты... – Кстати, о пиратах я тоже слышала, – грубо перебила его Лукреция, усаживаясь в стоящее поблизости кресло с той особой наглостью, которая столь презираема при дворе и столь незаменима в доме свиданий. – Вы-то, хитрец, рассчитывали, что Черный Пастор, обнаружив пустые трюмы, по своему обыкновению впадет в бешенство и утопит всю команду. А вышло по-другому! Команда «Головы Медузы» живехонька. Сколько там – человек шестьдесят? Шестьдесят свидетелей, чьи показания могут привести вас на английскую виселицу, – это серьезно! Да и в Амстердаме вам этого не простят. Что там у вас полагается за предательство интересов общины? Херем? Абрабанель поднял голову и посмотрел на Лукрецию долгим пронзительным взглядом. На мгновение идиотская маска суетливого торговца упала с него, и она увидела как будто выступивший из толщи веков лик самого народа израильского, в глазах которого томилась тысячелетняя усталая ненависть. – Ты – гоя, – выдохнул он одними губами. – А я обязан удалять тернии из своего виноградника... – едва произнес он это, как лицо его снова сделалось обыкновенным, а сам он сорвал с головы колпак и швырнул его под кровать. Лукреция, пораженная этой страшной силой, излившейся из глаз банкира, невольно отшатнулась от него, но, впрочем, с той же быстротой снова пришла в себя. – Если бы мы были сейчас дома, я знал бы, что делать! – уже вопил банкир. – Но и здесь есть закон и люди, облеченные властью. Я сразу понял, что вы появились здесь неспроста. Но Абрабанель вам не ребенок! Так и передайте это тем, кто вас послал! В Сити Гю знают мою репутацию! И показания предателей, которые вошли в сговор с пиратами, будут объявлены ничтожными! – Предатель, вошедший в сговор с пиратами, – это вы, – заметила Лукреция. – И чувствуете вы себя уверенно до тех пор, пока думаете, что Галифакс защитит вас. Но маркиз Галифакс любит власть, а не евреев, и ему начхать на вас, особенно если тори узнают, кому теперь присягают наместники в английских колониях. А ведь и в Лондоне найдется человек, который попытается сложить в одно целое все картинки этой шарады. А что касается Барбадоса, то этот человек уже нашелся. Я недолго билась над ней и решила посмеяться вначале вместе с вами, прежде чем смеяться начнут без нас. – Да вы просто казнь египетская! Чего вы хотите? – Я хочу с вами дружить. – На кой черт мне ваша дружба, сударыня! – воскликнул банкир и утер лицо рукавом. – Я спрашиваю прямо, что вам нужно? – То же самое, что и вам, – спокойно ответила Лукреция. – Ведь вы ищете сокровища Уолтера Рэли? Маленький и круглый Абрабанель подпрыгнул, точно мячик из застывшего сока гевеи, и что есть силы замахал руками. От бриллиантов на его руках во все стороны брызнули радужные лучи. – Тише! Замолчите вы, наконец! – свистящим шепотом запричитал банкир. – Вы разве в своем уме? Что вы так кричите? Он подбежал к высокой резной двери и быстро выглянул в коридор. Убедившись, что их никто не подслушивает, он тут же захлопнул ее и запер на ключ. – А теперь выкладывайте, что вам известно! Иначе я позову губернатора, и вы будете арестована как французская шпионка! – Вы правильно заметили – на Барбадосе чудовищно жарко! – заметила Лукреция и обмахнулась веером, который до этого момента спокойно лежал у нее на коленях. – От этой духоты вы совсем потеряли голову. Давайте поговорим, как деловые люди. Я знаю вашу тайну, а вы мою нет. Я знаю, что вы отправили в море нагруженный мусором корабль, предварительно сообщив о нем пиратам, как о судне, набитом ценностями. Переговоры с пиратами вел на Тортуте ваш помощник Хансен. Поскольку вы продолжаете здесь сидеть, да еще и обрели приют у губернатора, можно предположить, что Джексон с вами в сговоре. Скорее всего, таким образом вы покрываете какие-то его грешки. И в Виндзоре, и в Сити с большим интересом узнают об этих милых штучках, как вы полагаете? Но я не собираюсь вас шантажировать, Абрабанель, я предлагаю вам сотрудничество. – Сокровища Рэли – это миф! – хмуро проворчал Абрабанель. – Я тоже так думала, – кивнула Лукреция. – Но теперь мое мнение изменилось. – Вздор! Мне нет дела ни до каких сокровищ! – А до флейта «Голова Медузы» вам дело есть? – спросила Лукреция. – Пока что он еще бороздит испанское море, вы не забыли об этом? Если вы поможете мне, эту проблему можно будет попробовать решить. «Голова Медузы» теперь пиратский корабль, и потопить его – небольшой грех. Банкир пристально посмотрел на Лукрецию, взъерошил остатки волос на голове и семенящим шагом прошел куда-то в угол комнаты. Там он отпер окованный медью ларец и вынул оттуда хрустальный флакон и серебряный стаканчик. Шевеля губами, Абрабанель отсчитал шестьдесят капель темно-коричневой жидкости, разбавил ее водой и, поморщившись, выпил. В воздухе разлился сильный запах камфоры и валерианы. – А вы действительно умны! – вдруг произнес он совсем другим тоном. – В самом деле! Пиратские корабли нужно пускать ко дну. Это трезвая мысль. Мне не нравится, когда правительства поощряют разбой. Ни к чему хорошему такой обычай не ведет. – Значит, по рукам? – спросила Лукреция. Абрабанель быстро взглянул на нее. – Прекрасно-прекрасно! – пробормотал он. – Похоже, мы с вами сговоримся. Впервые вижу такую рассудительную женщину. Никаких этих штучек... Все просто и разумно. А некоторым вашим выводам определенно не откажешь в остроумии. Может быть, чересчур богатая фантазия... – Да оставьте вы мою фантазию! Лучше скажите, какого дьявола вы все еще торчите на Барбадосе? Сокровища где-то рядом? – Уверяю вас, нет никаких сокровищ! Есть только легенды и слухи... А здесь я, как вам угодно было выразиться, торчу, потому что дожидаюсь своего компаньона – он вот-вот должен вернуться из Венесуэлы. Вот беспокойный человек! Проехался вдоль всего побережья, поднялся вверх по Ориноко, встречался с индейцами, охотниками, миссионерами, разбойниками, потомками испанских конкистадоров... – Значит, искал следы пропавших сокровищ, – заключила Лукреция. – Вы ждете, какие вести он вам принесет. – Жду его с нетерпением, – подтвердил Абрабанель. – Но совсем по другому поводу. Мой добрый друг Ван Дер Фельд просил у меня руки моей единственной, горячо любимой дочери и получил согласие. По его прибытии должна состояться помолвка. – Как трогательно! – фыркнула Лукреция. – Жаль бедную девочку. Но, в конце концов, это ваше семейное дело. А меня интересует, с чем явится к вам этот чертов голландец. – Меня это тоже интересует, – язвительно заметил банкир. – Будем надеяться, что он напал на след сокровищ. Иначе наше сотрудничество теряет смысл, вам не кажется? – Нет, не кажется! – отрезала Лукреция. – И вообще, любые вопросы нашего сотрудничества решать буду я! – Но по какому праву? – По праву сильного, – решительно заявила Лукреция. – А я сейчас сильнее вас. – Ну, хорошо, – вздохнул Абрабанель. – Будь по-вашему. Но теперь, когда мы обо всем договорились, вы наконец позволите мне переодеться и позавтракать? – Мы еще не обо всем договорились. Вы должны разрешить дочери беспрепятственно общаться со мной. – Вы собьете девочку с пути истинного! – в сердцах сказал Абрабанель. – Не этого вы боитесь, Абрабанель! – покачала головой Лукреция. – Боитесь, что Элейна выдаст ваши коммерческие тайны. Но все, что мне нужно, я уже про вас узнала. А ваша дочь мне нужна, чтобы узнать все про того молодого человека, которого вы спасли по пути на Барбадос. Молодой человек был образован, хорош собой, он не мог не привлечь внимания вашей дочери. Возможно, они разговаривали между собой, возможно, он звал ее в гости... Ведь вы тоже хотели бы узнать, где жил этот человек на Барбадосе? – Это верно! – согласился Абрабанель. – Эта история с самого начала не дает мне покоя. Этот хлыщ никогда не говорил, что знает кого-то на Барбадосе. А он знал! А почему вы им интересуетесь? – Мне кажется, что я встречала этого человека раньше, – ответила Лукреция. – Но мне он тоже не говорил, что знает кого-то на Барбадосе.
Глава 10 Два в одном
Карибское море. Мартиника. Барбадос
По прошествии месяца Уильям снова увидел гористый силуэт Мартиники. Стоя на полубаке, он с некоторой грустью смотрел на эти поросшие акомой *["188]и хлопчатыми деревьями *["189]горы, каменные башни форта и голубые воды залива. Это была земля, где он начал свою вторую жизнь – жизнь пирата. И хотя до сих пор он сам не лишил никого жизни, укоры совести, запятнанной соучастием в грабеже и разбое, не давали ему покоя ни на минуту. Мысли оставить корабль не раз приходили ему в голову, но каждый раз его останавливал один и тот же вопрос: куда ему было бежать? Еще в самом начале Веселый Дик объявил, что на землях, принадлежащих Британской метрополии, весь экипаж «Медузы» была объявлен вне закона. Даже упрямый Джон Ивлин был раздавлен этой вестью. Теперь он был у Веселого Дика за первого помощника, или, как говорят голландцы, штурмана *["190]. Посему, как это водится у береговых братьев, в его обязанности, кроме вождения корабля, входило заменять капитана в его отсутствие и при захвате вражеского судна. Надо сказать, что Джон Ивлин и у пиратов выполнял свои обязанности безукоризненно, хотя как бы механически, замкнувшись в себе и коротая время в полном одиночестве в каюте или на капитанском мостике, хотя Веселый Дик частенько предпочитал прокладывать курс «Медузы» самостоятельно. Уильяма Веселый Дик по иронии судьбы назначил своим вторым помощником, хотя по владению морским ремеслом, сказать по справедливости, Уильям больше смахивал на пороховую обезьяну *["191]. Квартирмейстером на корабле стал беглый каторжник Джек Дэвис по прозванию «Потрошитель», ибо более всех занятий он предпочитал потрошить трюмы и сундуки, не входя в размышления ни о вере, ни о национальности их хозяев. Единственной его добродетелью была безрассудная преданность Дику, ибо тот некогда выкупил его у одного плантатора, тем самым избавив от верной смерти под плетьми. Потрошитель, надравшись, охотно рассказывал историю своих злоключений, при этом на глазах у него неизменно возникали слезы, так что Уильям вскоре имел случай выслушать это поучительное повествование. Оказывается, Джек происходил из обеспеченной семьи: на Тортугу его привела жажда приключений и скука в родном Девоншире. Веселая жизнь привела его на галеры, и вместе с другими осужденными преступниками он отправился в далекую Вест-Индию. Однажды галера, на которой махал веслами Джек, подверглась нападению пиратов, и Джек охотно присоединился к ним, благодаря жестокости и уму вскоре сделавшись равноправным членом шайки. После одного удачного грабежа нелегкая занесла его на Тортугу, где, быстро спустив свою долю, Джек проиграл одному плантатору в кости около тридцати шиллингов, сумму, может быть, и не ахти какую, но вполне достаточную для того, чтобы быть проданным в рабство от шести месяцев до года по местным законам. Хозяин его оказался сущим зверем и развлекался тем, что всячески издевался над Джеком и несколькими другими юношами из порядочных семей, роковым образом подпавшими под его власть. Впрочем, такое положение белых рабов считалось на Тортуте в порядке вещей, ибо даже негры ценились там дороже. «Негр работает всю жизнь, а европеец – год или два», – говаривали владельцы табачных плантаций. Белых рабов иногда даже не кормили, и им, терпя всяческие унижения, чтобы не умереть от голода, приходилось выпрашивать у негров куски касавы. Один из товарищей Джека по несчастью решил убежать в лес и позвал его с собой. Их травили собаками, как диких свиней, и в конце концов поймали. Плантатор привязал несчастых к деревьям и, решив начать с приятеля, бил его до тех пор, пока спина у него не обагрилась кровью. Тогда этот мерзавец намазал ему раны смесью из лимонного сока, сала и испанского перца и оставил привязанным на целые сутки. – Мне повезло, – говаривал Потрошитель, зачерпывая из кисета табак и отправляя его в рот. – Я сушился рядышком, слушая крики и стоны товарища, и молил Бога, чтобы мне сдохнуть еще до того, как эта скотина возьмется за меня. На следующее утро наш хозяин возвратился и принялся снова избивать моего приятеля палкой, пока бедняга не умер у меня на глазах. Прежде чем потерять сознание, мой товарищ повернул залитое потом и кровью лицо и проклял этого зверя. «Дай Бог, чтобы дьявол истерзал тебя так же, как ты терзал меня», – сказал он и закрыл глаза. В это время, на мое счастье, откуда-то появился Веселый Дик со своими ребятами, который по обыкновению шатался по Тортуте и славил Бахуса. Конечно, он не барышня и повидал всякое, но от такого зрелища хмель выветрился из его башки, и он в ярости набросился на плантатора. Дружки еле уговорили его кончить дело миром, не желая навлекать на себя гнев губернатора. Швырнув к ногам моего мучителя мешочек с золотым песком, Дик прихватил меня с собой. Спустя пару недель после моего чудесного избавления мне рассказали, что этого скота и взаправду стали преследовать злые духи и через несколько дней после убийства моего приятеля он умер. Говорят, когда слуги обнаружили его мертвым в собственной спальне, тело его было так избито и истерзано, что трудно было признать в нем человека. Клянусь святой Библией, тут вмешался сам Бог и покарал убийцу за все те жестокости, которые он совершил, – заключал обыкновенно Потрошитель и, воздевая глаза к небу, осенял себя крестным знамением. Услышав эту историю, Уильям мысленно возблагодарил Провидение за спасение от страшной участи раба и искренне пожелал, чтобы Оно избавило его и от пролития невинной крови. Впрочем, несмотря на столь чувствительные рассуждения, команда боялась Потрошителя до дрожи, ибо он справедливо распределял между ними не только добычу, но и удары кошкой.* * *
Около недели назад «Голова Медузы» неожиданно снялась с якоря и покинула Тортугу, куда перебралась сразу же, как только была набрана команда. Взяв курс ост, Веселый Дик решил пересечь Наветренный пролив, разделяющий Эспаньолу и Кубу. Свое название этот морской рукав шириной около двадцати лье получил благодаря устойчивому осту – западному ветру, который держится здесь почти весть год. И для «Медузы» владыка морей Нептун не сделал исключения, отчего Уильям вновь припомнил, что такое морская болезнь. Как только судно вошло в пролив, море сразу же изменило цвет с лазурно-голубого на грязновато-зеленый, навстречу кораблю заспешили крутые волны, увенчанные пенными гребнями, и их начало сносить поперечным течением. Чтобы сохранить курс, судну пришлось лавировать, продвигаясь против ветра переменными галсами. Пираты тянули брасы, разворачивая реи, и корабль упорно продвигался вперед зигзагами: так плывет морская змея. Флейт то и дело бросало из стороны в сторону, словно взбесившегося коня. Паруса надувались, переходя с галса на галс, казалось, реи из последних сил удерживают их, а мачты громко стонали от натуги. Время от времени нос врезался в волну, и тогда тучи легких брызг взлетали над фальшбортом, а палубу захлестывали волны. – Ост крепчает! – прокричал Потрошитель, незаметно подойдя к Уильяму, крепко державшемуся за ванты. – Клянусь громом, на этой лохани не палуба, а полуприливная скала. – Что? – Заливает палубу, говорю! – заорал Джек, закашлявшись, и, посмотрев на Харта как на блаженного, отправился к баку, перехватывая концы, что бы не упасть. Уильям вздохнул, и в ту же минуту высокая волна окатила его с головой. Преодолев Наветренный пролив, они оказались в спокойном океане, и флейт принялся крейсировать в виду побережья Кубы. Как впоследствии понял Уильям, Веселый Дик получил от кого-то верные сведения, и на исходе дня они увидели на горизонте несколько кораблей. Последний в этом караване значительно отстал от остальных. – Корабль по левому борту! – послышалось с марсовой площадки. Дик вышел на полубак, достал из кармана деревянную подзорную трубу в латунной оправе и приложил ее к единственному глазу. Сердце пирата забилось от радости – все шло так, как было задумано. – Эй, Джек, – заорал он, – посмотри-ка, ведь это вооруженные галеоны, везущие золото из Веракрус. Глянь, последний из них едва поспевает за остальными. Разве это не славный приз для веселых парней, готовых на все? Потрошитель, выйдя на бак, с удивлением посмотрел на своего капитана. – Вы шутите, сэр, – недоверчиво произнес он и сплюнул за борт пережеванным табаком. – Ни один пират еще не нападал на испанский флот *["192]в одиночку! – Ну, так я буду первым! Уже полгода мы не слыхали, как бряцает золотишко в карманах. Терять нам, кроме собственных душ, нечего, а их мы и так давно заложили дьяволу! Так пусть он и выручает нас теперь! Созывай людей, Джек! Через несколько секунд послышался свист, и Фил, однорукий боцман, собрал всю шайку на носу. Веселый Дик задвинул за щеку табачную жвачку и, весело оглядывая своих ребят, обратился к ним с речью примерно следующего содержания: – Фортуна, эта шлюха, давно уже не улыбается нам! Да и с чего ей улыбаться, ребята, если бабы, как известно, любят тех, у кого водятся денежки и кто не боится показать им свой кураж! Я знаю, вы все храбрые парни, а дерзость часто вершит чудеса! Вы бывали в разных передрягах, вы покрыты шрамами и славой! На том галеоне может быть более сотни матросов. Стало быть, на каждого из нас придется по четыре испанца, причем тоже крепких ребят! Но все не так безнадежно! Мы попробуем перехитрить испанцев. Им и в голову не придет, что какая-то голландская посудина решила покуситься на них, так как никто еще не грабил в одиночку военный корабль, идущий в караване! Я даю вам полчаса на размышление. – И Веселый Дик ткнул пальцем в сторону корабельной склянки *["193]. – Слышите? Ударил колокол! Время пошло! Веселый Дик повернулся спиной к команде и, подойдя к фальшборту, вновь принялся обозревать испанский флот в подзорную трубу, что-то тихо напевая себе под нос. Пираты сгрудились возле фок-мачты, яростно споря по поводу предложения капитана. – Что ж, – квартирмейстер Джек положил руку на рукоять широкого, зазубренного с одного конца ножа, торчащего у него из-за пояса. – Мне и вправду терять нечего. Я вышел в море, чтобы разбогатеть и повеселиться, лопни моя селезенка, а Дик предлагает славную охоту. – Не скажи, Джек, – возразил ему Однорукий. – Мне еще не пришла охота отправиться на корм рыбам или плясать на мачте. – Не мели чепухи, Фил, – оборвал его Джек. – Я пока еще ваш квартирмейстер и не советую вам, ребята, упускать этот шанс. Если мы возьмем галеон, мы будем купаться в золоте остаток своих дней. – Ну да, – вдруг, к удивлению Уильяма, тоже присутствующего на этом совещании, вмешался Джереми. – По мне так лучше сдохнуть, чем без толку болтаться в море, не имея ни лишнего куска хлеба, ни глотка воды. – Ты хочешь сказать, что в кубрике и так тесновато? – хрипло рассмеялся Потрошитель и ткнул Джереми кулаком в бок. – Что ж, мы можем освободить пару коек, – и он, щурясь от лучей предзакатного солнца, падавших ему прямо на лицо, обвел пиратов насмешливым взглядом. – Потрошитель дело говорит, – отозвался незнакомый Уильяму бородатый пират в офицерском шарфе, повязанном прямо на голуюй шею. – Если этот приз достанется нам, мы сможем завязать и вернуться домой, а кому неохота – славно погуляют на берегу! – Я голосую «за»! – прохрипел Джек и поднял вверх большой палец руки. Пираты снова зашумели, и следом вперед неуверенно потянулась пара рук с также поднятыми вверх большими пальцами. – Я тоже «за»! – вдруг раздался позади Уильяма звучный голос, и Амбулен, выполняющий на корабле роль судового лекаря, уверенно протянул ухоженную руку с поднятым пальцем. Потрошитель расхохотался. – Даже докторишка, и тот дает вам фору! – воскликнул он, и в бесцветных глазах его сверкнул злобный огонек. Пираты заволновались и, бормоча проклятия, смешанные с божбой, протянули руки вперед. – Смотри обожжешься, Джек, – проговорил боцман, последним принимая участие в голосовании. – Не каркай, Фил, лучше побереги последнюю руку! – рявкнул Потрошитель, обнажая в плотоядной усмешке ряд крепких, желтых от табака зубов. Продолжая ухмыляться, он отделился от пиратов и подошел к Веселому Дику, безмятежно прогуливающемуся по баку. – Капитан, сходка постановила единогласно – мы идем добывать испанца! – проговорил он и подмигнул. – Что ж, скоро зайдет солнце, – громко сказал Дик. – Но к его восходу мы можем стать богачами!Пару часов спустя, когда безлунная тропическая ночь накрыла море, «Голова Медузы» с потушенными огнями и приспущенными парусами тихо догнала галеон и легла в дрейф на расстоянии двух кабельтовых. Шлюпки спустили на воду, и, набитые головорезами, они вплотную приблизились к галеону. Обмотанные тряпками весла бесшумно входили в воду, и вскоре пираты с обезьяньей ловкостью карабкались на его борт, зажав в зубах ножи и тщательно закрепив на себе сабли и пистолеты. Потрошитель взял на себя вахтенного. Бесшумно ступая босыми ногами по палубе, он тенью подкрался к нему со спины, и, схватив за волосы, мгновенно запрокинул тому голову и перерезал горло. Матрос не успел даже пикнуть, только густая струя крови ударила из раны, заливая доски. Потрошитель тихо опустил его на палубу и двинулся дальше. Тем временем другие пираты кончили с рулевым и ночующим на баке, прямо на груде канатов, впередсмотрящим. Царила мертвая тишина, нарушаемая только плеском волн и едва уловимыми шагами босых ног. Веселый Дик, который, поставив на карту все, решил сам возглавить нападение, осторожно подкрался к иллюминатору офицерской каюты и заглянул внутрь. Капитан и трое офицеров сидели за большим, накрытым скатертью овальным столом и при свете трех свечей играли в карты. – Ну, теперь моя сдача *["194], – прошептал Дик и кивнул замершим в трех шагах от него пиратам. – Слушай, Джек, возьми дюжину ребят и давай быстро вниз, в кубрик. Режьте этих собак, пока они дрыхнут, а тех, кто вздумает сопротивляться, проснувшись, – убивайте. Это придаст остальным сообразительности: захотят жить – сдадутся! Джек кивнул и растворился в темноте. Следом за ним исчезли и выбранные им пираты. – Со мной пойдут Том, Боб, Амбулен и Харт! Услышав свое имя, Уильям невольно вздрогнул. Сбывались самые худшие его опасения, и хотя ему всей душой полагалось ненавидеть испанцев и жаждать победы, где-то в глубине души он считал подобный исход не вполне справедливым. У него не было никаких личных причин ненавидеть совершенно незнакомых ему людей, которые к тому же честно исполняли свой долг. Обещанные команде барыши с этой бойни отчего-то не столь сильно грели его сердце. Но он сделал свой выбор, и теперь наступило время за это платить. – Остальные – занять все орудийные палубы и обыскать каждую щель! – продолжал отдавать приказания Веселый Дик. – Эй, Джон, – из толпы разбойников сейчас же выступил молодой мужчина, лицо которого от подбородка до левого уха пересекал страшный сабельный рубец, – если выстрелит хоть одна пушка, ответишь головой. Врочем, – капитан тихо усмехнулся, – это и так ясно! Джон махнул остальным пиратам рукой, и они растворились во мраке. Уильям зажал в руках шпагу и оглянулся на остальных. Каждому пирату полагалось только то оружие, которое он сумел захватить в бою. Поэтому у капитана, Боба и Тома были взведенные пистолеты, а у Роберта и Харта только шпаги, по сути бесполезные в этот момент. Одноглазый словно прочел его мысли и прошептал: – Что ж, ребята! У вас есть прекрасный шанс вооружиться получше – у испанцев весь арсенал хранится в офицерской каюте! – и он растянул губы в беззвучной усмешке. Уильям вздохнул и, собравшись с духом, мысленно вознес какую-то мрачную, но пламенную молитву. – Что ж, на абордаж! – шепотом воскликнул Дик и осторожно ощупал ручку дверей: Убедившись, что она не заперта, он с размаху ударил в нее, и пираты ворвались внутрь, нацелив пистолеты и шпаги на испанцев. От изумления и испуга офицеры замерли в своих креслах, и только с уст самого старшего, по-видимому капитана, сорвался не то возглас, не то молитва. – О Санта Мария! – прошептал он, и рука его потянулась к бедру. – Сдавайтесь, или я убью вас! – вскричал Дик, а Амбулен подошел вплотную к пожилому испанцу и приставил к его горлу клинок. Вдруг откуда-то снизу прогрохотало несколько одиночных пистолетных выстрелов. Это в кубрике и на олтер-деке завязалась драка. – Внизу-то горячо! – воскликнул Том и оскалился. В ту же секундну двое испанцев, опомнившись, вскочили и, схватив лежащее перед ними оружие, бросились на пиратов. Амбулен еще крепче прижал острие шпаги к пошевелившемуся было капитану и произнес по-испански: – Не двигайтесь, ваша милость, или я проткну вас. Капитан побагровел от бешенства, но послушался. В следующее мгновение испанцы замертво упали под выстрелами Дика и его товарищей. Главное сражение разворачивалось на нижних палубах, где ночевал экипаж. Сняв с верхней палубы переносную вертлюжную кулеврину *["195], пираты на руках подтащили ее к грот-люку, где установили прямо над кубриком. – Эй, сдавайтесь, – проорал Джон и поднес к полке огонь, – или, дьявол меня возьми, я стреляю! Раздался оглушительный грохот, и ядро, ломая переборки, влетело в кубрик. Через секнуду раздался оглушительный взрыв, и десятки человек страшно закричали от боли и ужаса. – Пороховой погреб наш! – страшно проорал кто-то снизу. – Эй, – раздался голос Веселого Дика. – Слышите! – он с трудом подбирал испанские слова. – Если вы прекратите сопротивление – я подарю вам жизнь и корабль! Если нет – взорву все к дьяволу! Выбирайте! Услышав крик пирата и поняв, что шансов на благополучный исход у них нет, многие испанцы побросали оружие и нехотя подняли руки вверх. Пираты ответили на это торжествующим ревом и посыпались вниз по трапу. Вскоре из трюма донеслись ликующие вопли. Квартирмейстер взбежал на верхнюю палубу и ринулся к юту *["196]. – Эй, капитан! – красная, в пороховой саже рожа Потрошителя сияла, он уже успел напялить на себя сорванный с кого-то новый кафтан. – Капитан, вы были правы! – От волнения голос головореза срывался, он то и дело вытирал руки в засохшей крови прямо о рубаху. – В трюме – пять полных ящиков золота и драгоценные камни. Теперь мы богаты, капитан! – Я рад за вас, Джек, – меланхолично ответил Веселый Дик, с видом знатока рассматривая снятый с капитана драгоценный трапезундский пистолет с кремневым замком, вся поверхность которого была покрыта тонкой басмой *["197]золоченого серебра, инкрустированной кораллами. Рядом с ним на столе лежали выполненные в том же стиле кожаный пояс с патронташем на шесть патронов, пороховницы – натруска *["198]и лядунка *["199], и коробочка для оружейных принадлежностей. – Ты, Джек, присмотри за ребятами, – помолчав, добавил одноглазый капитан. – А то обмелеют ящики-то! – и он, шутя, нацелился на Джека своим трофеем. – У меня не обмелеют, – оскалился квартирмейстер. – Они чтят кодекс. Они знают, что, если любой из команды проявит трусость, попытается утаить от других часть общей добычи или попытается убежать, команда высадит виновного на необитаемый остров с бутылкой пороха, бутылкой рома, бутылкой пресной воды и заряженным одним патроном пистолетом. – Ну да, ну да, ты-то у нас деловой человек и знаешь назубок наши обычаи, – рассеянно пробормотал Дик, примеряя на себя кожаный пояс. – Высадим, как же, если вся команда рассует золотишко по карманам. Как бы они нас не высадили. – А вы-то, сэр, не были столь любезны, когда чуть ли не нагишом пустили плавать ту женщину куда за меньший грешок, – ни с того ни с сего вдруг предался воспоминаниям Потрошитель. – Ни тебе пороха, ни тебе рома. Ребята тогда славно развлеклись. Когда это было-то? А кажется, будто вчера... Вас ведь с тех пор и кличут Весельчаком, – хохотнул Джек, с преданным обожанием глядя на своего главаря. – Убирайся к дьяволу, Джек! – вдруг заорал Дик и шваркнул поясом по столу. – Ладно, пойду гляну за ребятами от греха подальше, – пробормотал квартирмейстер и вышел из каюты. – Давай, грузи все на шлюпки и переправляй на «Медузу»! – гаркнул ему вслед капитан. После того как большинство пленников загнали в опустошенные трюмы, Веселый Дик по обычаю приказал выстроить на палубе уцелевших испанских офицеров во главе со связанным капитаном. При свете факелов главарь пиратов вышел на квартердек. – Эй, есть здесь Хуан Эстебано, судовой врач? – заорал он. Из толпы ободранных и ограбленных пленников вышел высокий стройный мужчина. – Смотрите, братья по оружию, – вот человек, которому мы обязаны успехом! Это он предупредил меня о дне отплытия каравана, это он повредил компас, и галеон начал сбиваться с курса! Ура нашему верному товарищу! Его ждет двойная награда! На жестоком лице предателя сверкнуло торжество. – Ура! – заорали воодушевленные победой пираты. – Эй, вы, джентльмены удачи! Вы сегодня славно потрудились! Слава нашим павшим товарищам! Компенсацию в четыреста фунтов каждому, кто потерял в сражении руку или ногу или был тяжело ранен! – Слава капитану! – заревели пираты, потрясая оружием. Раздалось несколько выстрелов в воздух. – Господа кавалеры Фортуны, рыцари пистолета и сабли! Теперь вы богаты. Дьявол или Бог, не знаю, но кто-то подкинул вам отличный случай, чтобы порвать с жизнью, полной невзгод и опасностей, на которую толкнула вас нужда. Советую вам покинуть эти края и отравиться по домам! Конечно, есть и такие, кому начхать на все это, и это ваше личное дело. Сегодня погибло десять из сорока наших товарищей, завтра пуля, пеньковый галстук или акулы могут дождаться каждого из нас. Те, кому кровь и золото еще не окончательно свернули мозги набок, могут забрать свою долю и на первой же стоянке убираться к черту. Те, кто хочет отправиться в Европу, пусть сойдут на Мартинике, а кто не хочет – можете и дальше бороздить море, пока Нептун не насадит вас на свои вилы! Фортуна нынче улыбнулась нам, и каждый может сделать свой выбор! Разбойники согласно заревели и затопали. – Тихо! Я еще не закончил! А теперь вы, – сказал на ломаном ипанском Веселый Дик, оборачиваясь в сторону пленных. – Я обещал сохранить вам жизнь, и я дарю ее вам. Вы будете свободны, как только мы покинем галеон с нашей добычей. Я оставляю вам воду и пищу. Уходя, мы срубим грот-мачту и испортим те пушки, которые не сможем унести с собой. Вы сможете добраться до Кубы, где вам помогут ваши соплеменники. – Мы еще встретимся, и, клянусь честью, я найду способ, как отомстить, – сказал дон Мигель Диос, капитан захваченного корабля. – Много тут вас таких, – пробормотал одноглазый и, нахлобучив на голову свою треугольную шляпу, сплюнул сквозь зубы. – Боюсь, на всех желающих меня не хватит. Свяжите, их, Джек! – снова возвышая голос, велел Веселый Дик, спускаясь на палубу с капитанского мостика. – Это ты предал нас, грязный пес! – вдруг с презрением воскликнул, вырвавшись из рук пиратов и бросаясь к Эстебано, дон Мигель. – Как мог ты предать своих братьев по вере, своих соотечественников их вековечным врагам, этим английским свиньям? На скуластом лице судового врача промелькнула издевательская усмешка. Он сделал шаг вперед и, оглядев обступивших его людей горящими черными глазами, произнес: – Я не испанец! Я – караиб *["200], – и с силой рванул на себе рубаху, обнажая грудь. Вздох изумления пронесся среди испанцев, подхваченный пиратами, невольно сделавшими шаг вперед. На груди бывшего лекаря был вытатуирован огромный пернатый змей. – Вы, испанцы, преследуете мое племя, и я поклялся преследовать вас до последнего вздоха! – произнес индеец на безукоризненном испанском языке. Уильям вместе со всеми с удивлением рассматривал языческую отметину, пока взгляд его не упал на Амбулена, который со странным выражением лица вдруг приблизился к предателю и быстро сделал непонятный жест пальцами. Лицо фальшивого испанца озарилось радостью, и он едва заметно кивнул Амбулену в ответ, после чего физиономия его снова сделалась надменно-равнодушной, а Роберт, словно налюбовавшись на татуировку, отступил назад и смешался с пиратами. Уильям задумался было о том, что бы это значило, как вдруг кто-то дотронулся до его плеча. Харт быстро обернулся и увидел Веселого Дика, который, отступив, назад, задумчиво скреб заросший щетиной подбородок. Он показал глазами на индейца и спросил: – Вы что-нибудь понимаете, Харт? Уильям недоуменно пожал плечами в ответ, вовсе не стремясь подвести своего приятеля, однажды спасшего ему жизнь. – И я не... – задумчиво выругался Дик и отвернулся. Ни испанцы, ни пираты никак не могли взять в толк, как дикарь мог оказаться в роли лекаря на испанском галеоне, при этом великолепно владея языком и повадками белого человека. – Индеец пойдет с нами на «Медузу»! – приказал Веселый Дик. Как только все ценное было снято с галеона и переправлено на флейт, а его мачта спилена, «Медуза» сменила курс и под всеми парусами поспешила отойти от Кубы в открытое море. Прямо на палубе стояли открытые бочки и бутылки с трофейным ромом, найденные на испанском корабле, прозывавшемся «Странствующий монах». Пираты, возбужденные пролитой кровью и добытым золотом, ударились в разгул, и вскоре десятки глоток затянули когда-то слышанную Хартом песню:
* * *
Чтобы как можно выгоднее сбыть трофеи и пополнить запасы воды и продовольствия, они бросили якорь у берегов Мартиники. Уильяму предстояло решить, сойдет ли он на берег или останется на корабле. Его новая жизнь совсем ему не нравилась, потому и этот остров не вызывал у него ни малейшей приязни. Наоборот, он очень хорошо помнил, как едва не стал здесь человекоубийцей и превратился в морского разбойника. Изо всех, кто плавал с ним на «Голове Медузы», он сносил общество только четверых – капитана Ивлина, матроса Джереми, шевалье Роберта Амбулена, настойчивости которого и красноречию Уильям был в большой степени обязан своим теперешним положением, да, разумеется, одноглазого Дика, поскольку отвязаться от него не было никакой возможности. Но и с ними Харт держался несколько отстраненно, не вмешиваясь в их дела и не делясь с ними своими заботами. Таким образом, Уильям почти всегда пребывал в одиночестве, постепенно поддаваясь снедавшему его унынию. Уильям тосковал по прекрасной и, увы, недоступной теперь для него Элейне, он разуверился в своей любви к приключениям, а вспоминая недавний захват судна, он вообще начинал полагать себя конченым человеком. Причитающегося ему золота, возможно, и хватило бы на возвращение домой и приобретение какого-нибудь дела, но беда была в том, что он теперь был преступником, да и никакого ремесла, кроме пиратского, он не знал. Иногда желание поделиться с кем-нибудь своими печалями охватывало его с удручающей силой, но капитан Ивлин управлял судном и хранил обет молчания, Джереми, простой моряк, совсем отдалился от него и как бы слился с командой, а Роберт Амбулен своей истинно французской беспечностью порой приводил Харта в ужас, хотя он-то как раз сам искал общества Уильяма. Итак, глядя на приближающуюся землю, Уильям пребывал в раздумье, стоит ли ему сходить на этот роковой остров, когда Веселый Дик объявил, что высадка будет непродолжительной – после того как опорожнят трюмы и доставят провизию, судно немедленно снимется с якоря и отправится килеваться на Тортуту, а опоздавшие пусть пеняют на себя; впрочем, предложение покинуть шайку тем, кто готов удовольствоваться взятой добычей, остается в силе. После такого предупреждения Уильям из чувства противоречия тут же принял решение сойти на берег, причем в этот момент он еще не знал точно – вернется на корабль или нет. Однако на берегу его ждало одно совершенно невероятное событие, которое еще раз круто изменило все его планы. На берегу «Голову Медузы» встречали многочисленные зеваки, торговцы и моряки, желающие наняться на корабль. Весь этот сброд в беспорядке толпился на пристани и встречал каждую шлюпку, которую выносил к берегу прибой. Уильям сразу же постарался избавиться от докучливого внимания французских аборигенов. Ни на кого не глядя, он стал пробиваться сквозь толпу и уже почти выбрался на пустую улочку одноэтажного портового городка, как вдруг его окликнули. Уильям обернулся. – Не торопитесь так, сэр! – растягивая слова, позвал его один из пиратов по имени Том Харди и имеющий славу остряка и насмешника. – А то убежите вперед своих подметок, ха-ха! Вас тут спрашивают, сэр! Должно быть, хотят предложить хорошую выпивку. Если не осилите, то я всегда готов прийти на помощь, сэр, ха-ха-ха! Услышав, что кто-то интересуется им на Мартинике, Уильям невольно схватился за рукоятку шпаги, но в следующую секунду остыл и даже смутился из-за своей горячности. За спиной Тома Харди стоял тощий негр, одетый в немыслимые обноски, левый глаз его был изуродован отвратительным бельмом. – Мастер Биллем Харт? – радостно спросил негр, старательно растягивая в улыбке большой рот. – Правда, мастер? У Слима для мастера письмо – от очень красивой мисс. Очень красивой! Сердце Уильяма забилось, точно в лихорадке. Он порывисто шагнул вперед и схватил негра за плечо. – Что?! Какое письмо? Откуда оно у тебя? Дай сюда! – Мастер получит письмо! – подмигивая, сказал негр. – Оно издалека! Очень издалека! Слим спал в своей хижине. А негритянская почта его разбудила. Дала конверт и сказала: придет «Голова Медузы» – отдай письмо мастеру Биллему Харту... Слим долго ждал, смотрел «Медузу», ни одного дня не пропускал... Уильям вытащил из кармана испанский реал и сунул его негру. Тот, сверкая бельмом, попробовал монету на зуб и, удовлетворившись результатом, полез за пазуху. Покопавшись, он извлек оттуда сложенный вчетверо засаленный лист бумаги, запечатанный сургучом. Уильям выхватил его и в нетерпении сломал печать. Том Харди захохотал. – Ждал бы и я письма от своей милой, да вот беда, ни она писать не умеет, ни я грамоте не обучен! Ха-ха-ха! Уильям никогда прежде не видел почерка Элейны, но о том, что письмо от нее, догадался сразу. Прежде чем приступить к чтению, Уильям оглянулся по сторонам, но вокруг уже никого не было. Том Харди, весело насвистывая, шагал куда-то вдоль маленьких домиков сложенных из камня, а негр с бельмом бесследно растворился в толпе. Уильям жадно впился в аккуратные строки.«Мисс Элейна Абрабанель – мистеру Уильяму Харту Бриджтаун, 5 ноября 1682 года от Р.Х.
Мой дорогой Уильям! Если вы все-таки получите это письмо, то знайте, что я единственная, кто не поверил лживым слухам и клевете, которую распространяют о вас ваши недоброжелатели, и я по-прежнему уверена в вашем благородстве и душевной чистоте. Я каждый день молюсь за вас и прошу Господа избавить вас от незаслуженных страданий. Никто не знает, что с вами случилось и где вы сейчас, но я верю, что судьба будет милостива к нам обоим и не даст вам утонуть в морской пучине или погибнуть от рук злодеев. Говорят, будто «Голову Медузы» видели на острове Мартиника, поэтому я передала это письмо своей новой служанке. Моя камеристка, которую я привезла с собой, как мне кажется, более предана Хансену, чем мне, и я не могу ей вполне доверять. Но Салли, негритянка, которую любезно уступил мне губернатор, уверила меня, что ее сородичи смогут найти вас где угодно и доставят вам мое письмо. Оказывается, у них есть своя «почта», которая позволяет им обмениваться новостями на расстоянии в тысячи миль! Салли знает всех черных колдунов на острове, верит в переселение душ и вообще язычница, но я изо всех сил буду стараться спасти ее бедную душу, обратив ее ко Христу. Господи, я только что перечитала эти строки и поняла, что пишу полную чепуху. Простите, Уильям, мне столько нужно было вам сказать, что я даже не знаю, с чего начать. Если вы получили это письмо, знайте – мой отец ждет приезда своего друга Ван Дер Фельда, чтобы выдать меня за него замуж. Один наш корабль, следуя из Виллемстада в Антверпен, остановился здесь, чтобы загрузиться ромом и сахаром (который у англичан дешевле), и капитан передал моему отцу весточку от Ван Дер Фельда, который, к нашему несчастию (Господи, прости!), все же выбрался из венесуэльских дебрей. Как только его небольшая флотилия прибудет на Барбадос, должна состояться наша помолвка. Я осмелилась уведомить батюшку, что не желаю выходить замуж за нелюбимого и совершенно чужого мне человека, но отец сначала необычайно разгневался на меня, а затем назвал мои речи чепухой и заказал мне новое платье к предстоящей церемонии. Недавно на остров прибыла вдова нашего соотечественника, очень красивая женщина лет двадцати восьми, госпожа Аделаида Ванбъерскен. Кажется, она намерена обосноваться здесь и поэтому очень интересуется здешними нравами и обычаями. По секрету она рассказала мне, что она и ее покойный муж много вытерпели за свою веру от французских католиков и даже сюда ее привез, как какую-то преступницу, военный корабль. Мисс Аделаида полагает, что французам жаль расставаться с ее деньгами, и поэтому она мечтает прибегнуть к покровительству англичан. Она очень красивая, у нее удивительные зеленые глаза и белоснежная кожа, которую так чудно подчеркивают черные волосы. У нее самые лучшие манеры и платья на острове, несмотря на то что они, по выражению губернаторши, не вполне «в духе времени», а стало быть, не утопают в лентах и кружевах, не так усыпаны драгоценностями и не столь увесисты , как туалеты бриджтаунских леди. Глядя на миссис Аделаиду, я невольно проникаюсь завистью, оттого что я лишена такого изящества, что я не умею быть столь элегантной и остроумной, как она. Миссис Аделаида очень добра и старается улучшить мой французский выговор, развлекая меня новостями из Франции, которая ныне стала столицей всего того, что ваши, Уильям, соотечественники-англичане назвали бы «glamour» и «glance». Мы с ней очень сблизились и поверяем друг другу наши тайны. Как и я, она очень несчастлива, и мы находим утешение в беседах друг с другом. Когда я рассказала госпоже Аделаиде о нашем путешествии, та была потрясена чудесным спасением сэра Фрэнсиса. Кстати, совершенно случайно мы узнали, что у него действительно есть свой дом на другом конце города, – однажды, сгорая от любопытства, я велела рабам проследить за ним, и, несмотря на все уловки и предосторожности сэра Фрэнсиса, мне это удалось! Кстати, хотелось бы знать, зачем этому англичанину такая таинственность, – дом у него самый обычный, хоть и расположен по другую сторону знаменитого бамбукового моста, построенного еще индейцами и давшего название этой местной Пальмире. Милый Уильям! Я готова бесконечно повторять ваше имя, ведь, когда я шепчу его, мне кажется, что незримая нить соединяет мое сердце с вашим. Жаль только, что бумага, которой я в спешке доверяю себя, весьма ограниченна, что не позволяет мне делиться с вами всеми моими мыслями и чувствами. Итак, если в вашем сердце еще есть хоть капля любви к несчастной Элейне – возвращайтесь скорее. Умоляю вас, Уильям, придумайте что-нибудь и спасите меня от брака с нелюбимым мной человеком. Молю Бога, чтобы письмо попало к вам в руки, и верю, что Он не оставит нас Своей милостью. Вечно ваша Элейна».
Конечно, сия эпистола, возможно, и не была начертана с соблюдением всех правил хорошего тона, но она оказала на молодого человека то самое действие, ради которого и писалась. Уильям впал в исступление и был готов немедленно бежать куда-то и любой ценой спасать свое счастье и любовь. Рассудительность, и без того мало ему свойственная, в этот момент окончательно покинула его. Мысль о том, что где-то за сотни миль отсюда решалась его судьба, а он бездействует, повергла его в отчаянье. Спрятав на груди драгоценное письмо, он, перепрыгивая через разложенные прямо на земле фрукты, опрокидывая стоящие на его путь корзины и расталкивая загораживающих ему дорогу людей, помчался обратно на пристань в полной уверенности, что «Голова Медузы» тут же поставит паруса и возьмет курс на Барбадос. Ему повезло: когда он, задыхаясь от быстрого бега, оказался на причале, одна из шлюпок с «Медузы», тяжело груженная бочками с соленым мясом черепах, как раз отваливала от берега, едва не черпая воду бортом. Пристроиться на нее не было уже никакой возможности, но один из матросов, видя, как торопится второй помощник капитана попасть на борт, выпрыгнул с банки прямо в воду, уступив ему свое место. Так Уильям отправился на корабль, а сей добрый самаритянин с великим удовольствием причалил к ближайшей таверне, где и вознаградил себя сполна за этот добрый поступок. Едва только шлюпка ткнулась носом в борт, как Уильям, лихорадочно вскарабкавшись на палубу по веревочной лестнице, тут же бросился искать капитана. Он даже в точности не представлял себе, что он ему скажет и как объяснит ему необходимость плыть на явную смерть. – Капитан у себя, – сообщил боцман, которого в этот момент больше интересовала погрузка бочонков с ромом, которые прибыли с предыдущей партией. – Только не надо бы вам его тревожить, сэр! – крикнул он вслед Харту. – Наш Дик сегодня совсем не весел! Уильям, пропустив предупреждение мимо ушей, ринулся к кормовым надстройкам и, без стука распахнув дверь в каюту капитана, застыл на пороге. Веселый Дик, развалившись в кресле и взгромоздив ноги в грязных ботфортах прямо на заваленный картами стол, мрачно глазел в открытые люмы, поигрывая захваченным на «Странствующем монахе» пистолетом. Вид у Харта, наверное, был довольно забавный, потому что капитан, резко обернувшись и приготовившись обрушить на голову побеспокоившего его наглеца потоки брани, вдруг удержал готовые сорваться с языка ругательства и как-то странно ухмыльнулся. – Капитан! – с отчаянной решимостью воскликнул Уильям. – Я никогда ничего не просил у вас! Мысли беспорядочно теснились в его голове, не желая уступать друг другу пальму первенства, посему Харт, так и не решив, с какой именно ему начать, замолчал. – О чем это вы, сэг? – насмешливо поинтересовался Веселый Дик. – Хотите попгосить свою долю добычи и сойти на бегег? Так обгатитесь к квагтигмейстегу Джеку, он нынче газдавал команде их долю, чтобы гебята могли как следует повеселиться. – Нет, я просто хотел предложить вам новое выгодное дело, – вдруг, к собственному удивлению, заявил Уильям. – Барбадос! Если мы нападем на него, то можем взять много ценностей... В конце концов, если в трюмах Медузы не было груза, значит, он на острове! И еще я узнал, что в Карлайлскую бухту должна прийти флотилия из Венесуэлы, там-то уж мы точно найдем чем поживиться. По-моему, это хорошее предложение... – Во всяком случае, оно, бесспогно, огйгинально... – задумчиво протянул пират. – Свенон, король Норвежский, просит мира. Мы не дали ему зарыть убитых, пока он нам на острове Сент-Кольме не выдал десять тысяч серебром...– произнес головорез на чистейшем английском языке. – Так, кажется, говогил ваш багд по сходному поводу? – О Боже! – вскричал Уильям. Но прежде чем он успел сообразить все до конца, Веселый Дик стянул с головы черную повязку и свалявшийся парик, швырнул все это на стол и захохотал. За столом, где возле лоции Карибского моря, притулился человеческий череп, а заляпанный воском подсвечник подпирал пистолет, где между секстантом и астролябией тускло посверкивали колбы песочных часов, а поверх заляпанных жиром книг беспорядочно рассыпалась колода карт, восседал пропавший без вести сэр Фрэнсис Кроуфорд, в ухе которого болталась крупная жемчужина, а на устах сияла великолепная улыбка. Да, это был он! Уильям, в голове которого никак не укладывалось столь чудесное превращение, медленно поднял руку и, ткнув в него указательным пальцем, вскричал: – А-а-а, какой же я болван! У вас оба глаза?! Что же я говорю – конечно, оба! Но почему? – Потому что! У вас что – их три? Ну, ладно, не волнуйтиесь так, дорогой Уильям! – смеясь, проговорил Кроуфорд, в одну секунду исцелившись от картавости. – Никак не мог удержаться. Да и положение обязывает! Согласитесь, одноглазый головорез – это действует на воображение! Мои проказливые друзья привыкли к своему одноглазому Дику. Не уверен также, что капитан Ивлин пошел бы служить к своему бывшему пассажиру, а мы бы лишились отличного навигатора, которого пришлось бы утопить по убедительной просьбе команды. Все очень просто, Уильям! О ловушке я начал догадываться уже на Барбадосе. Старый жид затеял грязное дельце, в котором вам отводилась довольно скверная роль. На вас свалили всю ответственность за груз серебра, которого никогда не было на этом корабле. Думаю, этот благородный металл вовсе и не существовал или его давно растратил этот попугай Джексон. Голландцы сильно сдали свои позиции в Карибском море, дорогой Харт. Французы и англичане, не говоря уж об испанцах, не дают им здесь ни свободно торговать, ни вольготно грабить Я полагаю, в Амстердаме придумали кое-что получше, чем открытая война. Раз у них нет сил самим завоевать земли, они купят тех, кто правит завоеванным. Это много дешевле и выгодней, не так ли? Скорее всего, Хансен предупредил о нашем выходе Черного Билла – больше ничем не могу объяснить такое странное пересечение курсов «Мести» и «Медузы». Ребята тоже говорят, что Черный Билл знал все заранее... – Сэр Фрэнсис Кроуфорд, я прошу вас, я даже настаиваю, чтобы вы ответили мне определенно – вы пират? – в величайшем волнении спросил Уильям, чья совесть жаждала оправданий. – Странный вопрос! – пожал плечами Кроуфорд. – Вы же видели каперский патент, который выдал нам губернатор как законный наместник короля, вы даже участвовали в нападении на испанский галеон. Некоторые ханжи и сутяги норовят подчеркнуть разницу между разбоем и королевской службой, но я не столь щепетилен... Тем более – война за испанское наследство неминуема... – произнеся эту туманную сентенцию, сэр Фрэнсис жестоко ухмыльнулся, – так что надо поспеть к дележу! – Я не об этом спрашиваю! Когда вас выловили из моря... тогда вы уже были пиратом?! Вы... – Не горячитесь, мой юный друг! Да, я был квартирмейстером у Черного Билла. Потом мы с ним повздорили – не сошлись в цифрах и методах, и эта скотина решила избавиться от меня более изощренным способом, чем прогулка по доске или пеньковый галстук. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь... Как там? Мера за меру? Что, если я, судья его, свершу такое преступленье, пусть тогда мой приговор послужит образцом: меня приговорите к той же смерти!..Да, в общем, Билли, несмотря на свою набожность, не слишком верит в Провидение, но Оно послало мне ваш корабль... Но вам-то, Уильям, грех жаловаться! В некотором роде я подсобил вашему Ангелу Хранителю. Подозреваю, что Черный Билли отправил бы «Голову Медузы» прямиком к морскому дьяволу, если бы я не встретил на ее борту своего Потрошителя и не договорился с ребятами, которых нерадивый Билли послал на флейт вместе с ним. Часть шайки давно была недовольна Пастором и его бессмысленной жестокостью, лишающей их доброй половины нехитрых удовольствий, и эти ребята с удовольствием перебежали от него ко мне. Собственно, маскарад этот – необходимая предосторожность, ведь только в таком обличье я известен на островах. Вот почему все вы теперь живы и даже здоровы, а Уильям Харт достиг весьма необременительной, но почетной должности – второго помощника у Веселого Дика. – Но я не желаю быть пиратом! – возразил Уильям. – Я не желаю служить французскому королю! – Вот как? Но, кажется, вы только что предлагали мне план нападения на Барбадос и на голландскую флотилию одновременно! И вы всерьез надеялись, что губернатор Джексон выдаст вам триста тысяч серебром, а я расстреляю из наших двадцати с небольшим орудий целую голландскую армаду? Или я ослышался? Его справедливые упреки смугили Уильяма. – Я... Я имел в виду совсем другое. Просто мне нужно было заинтересовать вас. Мне нужно, чтобы вы отправили меня на Барбадос. – Скажите, вы не сошли с ума, Уильям? – любезно поинтересовался Веселый Дик – Кроуфорд. – На Барбадосе нас всех ждет виселица. По крайней мере, до тех пор, пока здравствует консорт Абрабанеля и губернатора Джексона. И с тактической точки зрения ваше предложение совершенно бессмысленно. Флейт – не слишком грозное оружие против форта и его гарнизона. Но вы, кажется, сказали, что добыча вас не интересует... Для чего же вам Барбадос? Предупреждаю, Абрабанель не станет слушать никаких ваших оправданий по одной причине – вы не нужны ему живым. – Да, мое положение безвыходно, но я не могу обречь девушку, которую я ценю превыше всего на свете, на брак с нелюбимым стариком! – горячо сказал Уильям. На лице Кроуфорда отразилась неясная борьба. Он пристально взглянул на юношу. – А вы уверены, что этот богатый старик столь нелюбим? – Тысячу раз да! На губах Кроуфорда заиграла язвительная усмешка, и он посмотрел на Уильяма не то с завистью, не то с сожалением. – Положение в обществе, титул и жизнь в роскоши способны вызвать в любой женщине весьма пламенную страсть. Да и вы, разбогатев, сможете сполна насладиться любовью как невинных мисс, так и замужних дам. – Я слишком уважаю вас, Кроуфорд, чтобы поверить, будто вы можете так думать на самом деле. Разве уважение к женщине – не главная черта истинного рыцаря и дворянина? Если бы вы любили так, как я, разве вы не бросились бы на спасение той, что стала для вас смыслом существования? Улыбка сошла с лица Кроуфорда. Он с грустью посмотрел на Уильяма. – Друг мой, вы напоминаете мне об истинах, что я когда-то чтил, но как-то с годами позабыл. Мы все о них позабыли, и это привело нас к самой бездне... Наверное, мы тяжело больны, Уильям. С нами приключилось э-э... – сэр Фрэнсис прищелкнул пальцами, – некое... некая парафора, так сказать, маленькое помешательство, вследствие чего наши представления о чести и достоинствах человека несколько исказились. Он приблизился к Харту и почти ласково коснулся его плеча. – Ну-ну, не смотрите на меня с таким укором, Уильям! У меня и в мыслях не было упрекать вашу Элейну в склонностях к пожилым толстосумам. Просто любовь – это странное занятие – не чета иному ремеслу. Чем более в ней упражняешься, тем менее оказываешься способен ее испытывать. А с чего вы взяли, что эта самая, гм... особа так же мечтает о встрече с вами, как и вы с ней? – Только что на берегу я совершенно чудесным образом получил от нее письмо. Этот негодный меркант Абрабанель, не щадя ее невинности, сосватал ее за какого-то голландца. Она умоляет спасти ее от этого гнусного брака. – Воочию, коль небо не пошлет нам духов, чтоб остановить злодейства, настанет час, что люди пожирать друг друга станут, как чудища морские!– со вздохом продекламировал Кроуфорд. – Быть девушкой нелегко во все времена! Уильям метнул на сэра Фрэнсиса укоризненный взгляд. – Поверьте мне, Уильям, я всей душой хотел бы помочь вашему горю, но, боюсь, это не в моей власти. Действительно, нам остается лишь надеяться на духов, которых пошлет Небо. Правда, оно с этим иногда запаздывает почему-то... Но, полагаю, это тоже направлено к нашему благу. – Не хотите вести корабль на Барбадос – так помогите мне устроиться на корабль, который туда идет! Кроуфорд пожал плечами. – Уильям, нам сейчас следует держаться подальше от кораблей, которые идут на Барбадос! Слышал я, что история эта дошла уже до нашей старой доброй Англии и произвела там очень невыгодное впечатление на тех, кто стоит на страже интересов купеческой братии. Не забывайте, что вы украли не только товары, в которые вложены деньги торговцев из Сити, вы украли серебро, принадлежащее метрополии, которое добыли рабы, а Джексон отправлял лорду-казначею. Все это значит, что встреча с соотечественниками может закончиться для вас очень печально. Послушайте меня, положитесь на волю Провидения. Пусть Небо решает, что будет с вашей избранницей. Поверьте, это самый разумный выход. – Это самый неразумный выход! – воскликнул Уильям. – Вы забыли о помолвке! – Все можно исправить, Уильям, – сказал Кроуфорд, – особенно такой непрочный договор, как помолвку. Разве вы забыли, сколько стоит развод в Англии? Двадцать шиллингов и ни пенсом больше! Конечно, при этом ваша любимая лишится состояния, которое, скорее всего, по условиям брачного контракта, останется у мужа, но, насколько я понимаю, ее деньги вам и так не грозят! Их папенька только что не удавятся, как Иуда, но ни за что не отдадут своих сребреников в нечестивые руки акума *["202]! Так что все можно будет исправить, Уильям, все, кроме сломанных шейных позвонков! Я много чего видел в жизни, но ни разу не видел, чтобы после того, как мужчине повяжут пеньковый галстук, у него появлялись свежие шансы на женитьбу. Поэтому не гневайтесь на меня – на Барбадос я вас не пущу! Уильям посмотрел на него с отчаянием. – Бог с вами! – сказал он. – Я не стану спорить с вами, потому что не вправе подвергать риску вашу жизнь, коль вы спасли уже один раз мою. Он замолчал и отвернулся, собираясь было уходить, но вдруг вспомнил про письмо Элейны. Он достал его и протянул Кроуфорду. – Читайте! В нем написано и про вас! – Про меня?! – Кроуфорд был искренне удивлен. Он взял письмо и принялся читать. Вдруг Уильям увидел, как по лицу его словно пробежала тень, а губы дрогнули и что-то беззвучно прошептали. Но он дочитал письмо до конца и, вернув его Харту, снова стал против света, так, чтобы Уильям не мог как следует разглядеть его физиономии. – Это просто невозможно... к сожалению, невозможно... – Кроуфорд посмотрел на море, кусочек которого виднелся в люме, и тихо произнес:
На следующее утро, покинув Мартинику, они обогнули ее с юго-запада и направились на юго-восток. Ночь Уильям провел без сна, раз за разом перечитывая строки драгоценного письма. В его воображении картины блаженства, которое ожидало его в будущем, сменялись апокалипсическими видениями, где посланцы ада похищали невинных девственниц, и тогда его сердце разрывалось от горя. А более всего убивало его то, что не было никакой возможности преодолеть ту водяную пустыню, которая пролегла между ним и его возлюбленной. Стоило Уильяму выйти на палубу и увидеть равнодушное, мерно колышущееся, как студень, море, которому не было ни конца, ни края, как душу его охватывала такая безысходная тоска, что впору было броситься в это море вниз головой. Около семи часов вечера, когда над морской гладью начали сгущаться недолгие южные сумерки, «Голова Медузы» легла в дрейф в виду земли у западного побережья, в нескольких милях от входа в Карлайлскую бухту. Подходить ближе было опасно как из-за окружающих остров коралловых рифов, так и из-за возможного нападения с берега. Для сэра Фрэнсиса было важно самому попасть на берег, но эту процедуру он собирался проделать как можно незаметнее. Джону Ивлину было велено не зажигать сигнальные огни, на всякий случай поднять британский флаг и ждать их возвращения на рассвете. Спустив на воду шлюпку и захватив с собой запас пищи и рома для команды, Веселый Дик посадил гребцами на весла дюжину пиратов и велел держать курс на Бриджтаун. Пристать Кроуфорд приказал в стороне от порта на диком песчаном пляже, отделенном от берега полосой мангровых зарослей, чьи ходульные корни напоминали подпорки. В пору прилива ветви этих кустов затапливаются, а купы – будто бы плавают по воде. Покинув шлюпку, Веселый Дик строго-настрого приказал бандитам никуда не отлучаться и дожидаться его возвращения, не набираясь крепко привезенным ромом. – Сидите тихо и не вздумайте жечь огонь. Никто не знает, как все обегнется. Мы тут как в мышеловке. Если извегнемся, то счастье наше, а нет, так вегевок у них на всех хватит. Будем сушиться на солнышке, как акульи гебга. Если не вегнемся до полудня – снимайтесь с якогя и гъебите к «Медузе». Потгошитель Джек будет вашим капитаном, он знает, что делать, – прокартавил Кроуфорд и с ироничным смешком взглянул на Уильяма. Головорезы согласно загудели и принялись извлекать из лодки оружие и провизию, собираясь заночевать прямо на прибрежном песке. Веселый Дик последний раз окинул грозным взором своих молодчиков и пошел вдоль берега, держа курс на огоньки. Уильям поспешил за ним следом. Хотя оба были при шпагах, а Веселый Дик еще нес при себе два заряженных пистолета, одеты они были как обычные горожане. Только отойдя на четверть мили и убедившись, что пираты его не видят, Веселый Дик стянул с глаза повязку и засунул ее в карман, снова превратившись в сэра Фрэнсиса. Одно у него естественно переходило в другое. Уильяма так и подмывало поинтересоваться, как случилось, что Кроуфорд, человек, несомненно, благородного происхождения и образованный, вдруг оказался капитаном шайки отъявленных злодеев и мерзавцев. Удерживала его от этого простая осторожность. Между лицедейством сэра Фрэнсиса и кровавым промыслом Веселого Дика все же существовала тесная связь. Пусть резня на «Странствующем монахе» была не самой жестокой, но тем не менее она была. И Черный Билл, пустивший связанного квартирмейстера ко дну вместе с ограбленной «Утренней звездой», обрек его на самую настоящую гибель за вполне натуральную попытку бунта. И как бы сэр Фрэнсис и Веселый Дик ни оценивали свою жизнь, чужая стоила для них еще дешевле. Поэтому Уильям и не спешил со своими вопросами. Он кстати, не совсем понимал, для чего они с Кроуфордом сошли на берег. Когда Амбулен мимоходом поинтересовался, куда это их несет, Уильям даже сразу и не нашелся что ответить. Роберт, чья натура не могла оставаться спокойной при виде новых приключений, немедленно попросился с ними, но Веселый Дик был непреклонен. Судовой лекарь был сильно разочарован, а Харт еще более заинтригован. Разумеется, будь его воля, он бы немедленно помчался к жилищу губернатора и нашел бы способ увидеть там обожаемую Элейну, но Кроуфорд решительно пресек эти мечты. – Если не выбросите эту блажь из головы, то клянусь Небом, я свяжу вас, как поросенка, и прикажу бросить в трюм под замок! Я испытываю к вам почти отеческие чувства, Уильям, посему, заботясь о вашем благополучии, и подвергну вас домашнему аресту не моргув глазом. Нас ждут великие дела! А вы хотите выбыть из игры, даже не начав партии. Вспоминайте о ждущем вас сюрпризе каждый раз, когда вздумаете делать глупости! Что имел в виду Кроуфорд, говоря о глупостях, Уильям догадывался. Но что он подразумевал под великими делами и сюрпризами – оставалось загадкой. Было ясно одно – это не было следствием ни каперства, ни вообще пиратства. Шестым чувством Уильям догадывался, что речь идет о чем-то действительно грандиозном, пред чем бледнеют и меркнут простые пиратские подвиги, в основном состоящие из грабежей да кутежей. И еще все это было как-то связано с письмом Элейны. После этого письма Кроуфорда как будто подменили. Ему до зарезу понадобилось попасть в Бриджтаун к себе домой. Теперь-то сэр Фрэнсис не скрывал от Уильяма существование этого дома. Он даже попытался объясниться. – Поймите, Уильям, когда мы с вами встретились впервые, обстоятельства этой встречи были столь драматичны, а вы так искренне переживали за мою судьбу, что я не мог не проникнуться к вам ответной симпатией. Но вдаваться во всенюансы своей биографии я не имею желания даже сейчас. На кое-что я вам усиленно намекал, кое о чем вы могли догадаться и сами, но про дом рассказать я вам не мог и не хотел по многим причинам. Теперь вы о нем узнали от других, и тайна перестала быть тайной. Моя оплошность: я как-то забыл, что женское любопытство – это страшная сила. За этими неграми уследить невозможно! Они все на одно лицо. Мое убежище раскрыто, и один Бог ведает, чем это может обернуться для нас в будущем. Благодарю вас, что не стали утаивать от меня сей эпистолы. Если бы не она, я бы до сих пор пребывал в неведении... Теперь мы должны забрать из моего дома кое-что очень важное... Судя по всему, сэр Кроуфорд был не на шутку встревожен раскрытием своего секрета. Он очень спешил, и теперь, быстро шагая по берегу, он хмурил брови, озабоченно поглядывая в сторону города, словно опасаясь каких-то неприятностей оттуда. Уильям был не менее расстроен, но совсем по другому поводу. Элейна, беззащитная и несчастная, была так близко, а он ничего не мог поделать! Она просила у него помощи, она взывала к его любви, а он струсил и предал ее, подчинившись капитану шайки пиратов, человеку безбожному и конченому, пусть даже сочиняющему сонеты и свободно цитирующему Шекспира. Но странное дело, поднять мятеж против своего двуликого покровителя Уильям не мог. Он ощущал, что прочная нить связала их судьбы, и Харт не желал рвать ее. Может быть, потому, что в этом человеке крылась какая-то тайна, которую Уильям жаждал раскрыть, может быть, потому, что Кроуфорд завораживал его, как завораживает гадателя стеклянный шар, а может быть, и потому, что он жаждал верить в то, что их с Кроу фордом действительно ждет славное будущее. Эти неясные соображения примиряли его с самоуправством сэра Фрэнсиса и заставляли покорно шагать за своим поводырем. Но все равно по Элейне он тосковал ужасно. Торопясь вслед за Кроуфордом, Уильям все время возвращался мыслями к единственному вопросу, который собирался задать после того, как они достигнут цели и проникнут в дом: «Но теперь-то я могу навестить Элейну?» Не дойдя до рыночной площади, Кроуфорд вдруг свернул налево и, протиснувшись между двумя хибарами, притулившимися у самого берега, двинулся вверх по узкой улочке, выложенной булыжником. За их спиной остались огни портовой таверны, где веселились моряки. Были слышны крики и нестройное пение, доносившееся из-под шаткого навеса из тростника. Но чем дальше продвигались Кроуфорд и Уильям в глубь города, тем приглушеннее звучал шум пьяного веселья. Вокруг было тихо и темно. Каменные дома, сменившие прибрежные хибары, были погружены во тьму, только кое-где горели подвешанные над дверями масляные светильники. Из внутренних двориков сладко пахло ночными орхидеями да заливисто лаяли почуявшие чужаков собаки. Уильям вертел головой, тщетно пытаясь сообразить, в какой части города они с Кроуфордом находятся. Он не успел изучить Бриджтаун так же хорошо, как его спутник. Кроуфорд прекрасно ориентировался в тесных улочках, и без него Уильям несомненно заблудился бы. Наконец они, кажется, добрались до места. Кроуфорд вдруг замер и внимательно осмотрелся по сторонам. Прямо перед ними был сложенный из камня забор высотой чуть больше человеческого роста, за которым смутно белел одноэтажный домик, полностью погруженный во тьму. Кроуфорд вытащил из-за пазухи ключ и, обернувшись, вложил его в замок. Окованная железом калитка беззвучно поддалась, и двое мужчин быстро скользнули внутрь. Уильям очутился в небольшом, выложенном глиняными плитами дворике, где их встречал появившийся из ниоткуда огромный негр. Он выглядел как бес из чистилища: его уродливое плосконосое лицо было испещрено страшными белесыми шрамами, черная кожа блестела как антрацит, а толстые вывороченные губы обнажали в улыбке крупные кривые зубы. Уильям невольно содрогнулся, увидев вблизи такую жутковатую рожу. – Это мой верный Петроний! – усмехаясь, сказал Кроуфорд, указывая на негра. – Он присматривает за моим гнездом. Однако времени у нас в обрез – идем в дом. Прихватив у негра светильник, он провел Уильяма во внутренние покои. Уильям увидел, что они находятся в небольшой овальной зале с высокими окнами, одно из которых, узковатое для того, чтобы в него мог влезть взрослый человек, выходило во внутренний дворик. Пол в комнате был выложен розовой узорчатой плиткой. Кроуфорд опустился на колени и несколько мгновений рассматривал узор на полу. Затем он извлек из-за пояса кинжал и острием подцепил одну из плиток. Плитка звякнула и отскочила в сторону, а за ней еще одна, и еще. Под ними обнаружилась деревянная крышка, которую Кроуфорд без труда извлек наружу, сразу же запустив руку в тайник, для чего ему пришлось лечь на пол. Уильям с интересом наблюдал за всеми манипуляциями, держа лампу над головой. Пошарив в образовавшейся дыре, сэр Фрэнсис с радостным восклицанием извлек оттуда перевязанный пакет из просмоленной парусины и показал его Уильяму. – Знаете, что это такое, Уильям? – осклабившись, спросил он, не вставая с пола. – Это патент. Только не каперский, не пугайтесь. Это патент на могущество. Это патент на то, чтобы владеть миром, – ну, может быть, не всем миром, а только тем, что в нем покупается и продается. Правда, что бы патент вступил в силу, нам необходимо выполнить одно несложное, но необходимое условие... Кроуфорд вдруг оборвал свою речь и прислушался, явно чем-то встревоженный. Уильям тоже обратился в слух и явственно услышал, как стучат по мостовой подковы лошадей и грохочут обитые железом колеса. «Кого принесло сюда в экипаже в столь поздний час? – подумал Уильям. – В такую-то дыру?» Тревога охватила его, и сейчас же шум экипажа затих. Он остановился прямо напротив дома. А через несколько секунд чьи-то кулаки грубо застучали в калитку. – Откройте! Именем короля, откройте немедленно! – Ага! Губернатор уже здесь! – пробормотал Кроуфорд, вскакивая на ноги. – Признаться, я надеялся, что он будет медлительней. Что же, нам все равно повезло. Мы успели сделать все, что нужно. Он сунул пакет за пазуху и, подскочив к окну, ударил ногой в стекло. Со звоном посыпались осколки. – Вперед, Уильям! – воскликнул Кроуфорд. – Мы должны как можно скорее вернуться на корабль. Вылезай во двор, а там через забор и налево. Беги за мной и не отставай ни на шаг! – Мы ломаем двери! Немедленно открывайте! – крики неслись с улицы вперемежку с ударами. Кроуфорд нырнул в окно, протиснулся в узкий проем и исчез в темноте. Уильям бросился за ним.
Глава 11 Сокровища существуют!
Карибское море. Барбадос
А двумя днями раньше, в четыре часа пополудни в Карлайлскую бухту прибыла та самая голландская флотилия, о которой сообщала Элейна. Путешествие было таким долгим и настолько нелегким, что из пяти кораблей, вышедших два года назад из Амстердамской гавани, на Барбадос прибыли только три, да и те были изрядно потрепаны штормами и непогодой, а днища их обросли толстым слоем ракушек и водорослей. Однако адмирал флотилии, отважный Йозеф Ван Дер Фельд, меркатор *["204], путешественник и старый друг банкира Абрабанеля, вернулся из путешествия цел и невредим. Его невозмутимое лицо, обожженное солнцем и продубленное ветрами, выражало несгибаемую волю и стремление идти только вперед, хотя вместе со своей командой он уже и так обошел едва ли не полсвета и повидал много такого, о чем в Европе даже не слыхивали. Он привез с собой множество диковинок, а также пленников-индейцев из самых диких племен, которые он обнаружил в гилеях Венесуэлы и Амазонки. Ему удалось набрести в своих странствиях на месторождение смарагдов *["205]и прихватить с собой целый мешочек этих прозрачных, окрашенных в густой травянисто-зеленый цвет камней. Но даже это Ван Дер Фельд не считал своей самой большой удачей. О самой большой удаче он до поры помалкивал, посасывая свою видавшую виды трубку и принимая поздравления встречавших его людей. А встречать его вышли все значительные люди острова. Новость о прибытии отважного и знатного путешественника мигом распространилась по всему побережью. Заинтригованные необычайным событием и влекомые любопытством, в порт отправились все местные плантаторы, все чиновники, моряки и простые горожане, не считая всякого сброда, который и так торчал в порту безвылазно. Разумеется, среди публики были и Абрабанель с Элейной, и губернатор с супругой, и гарнизонные офицеры. Мадам Аделаида с капитаном Ришери тоже были здесь. Будучи на положении непрошенных гостей, они скромно держались в сторонке, но за встречей наблюдали чрезвычайно внимательно, иногда обмениваясь негромкими замечаниями. Триумфальный вид сошедшей на берег экспедиции произвел на обоих неизгладимое впечатление. – Полагаю, этот Ван Дер Фельд человек с характером! – одобрительно заметил шевалье Ришери. – Глядя на отчаянных молодцов, которые его окружают, об этом можно говорить, не боясь ошибиться. К тому же два года странствий кое-чего стоят. Такие походы всегда чреваты мятежами, сударыня. Голову даю на отсечение, этому голландцу приходилось спать с открытыми глазами, не спуская их с экипажа двадцать четыре часа в сутки. Но он, похоже, своей цели добился! – Хотела бы я знать, чего он добился! – пробормотала Лукреция, жадно рассматривая точно высеченное из скалы лицо Ван Дер Фельда. – Мне почему-то кажется, что вы сумеете это узнать, сударыня. – Ришери бросил взгляд на сосредоточенное лицо женщины и улыбнулся, беря ее под руку. – Монсеньор не ошибся, посылая именно вас. – Ах, оставьте, Ришери! – рассердилась Лукреция. – Нам еще рано трубить в фанфары! Несомненно одно, голландский банкир и агент Вест-Индской компании прибыл сюда с тем расчетом, чтобы первым встретить своего друга, возвратившегося из длительной экспедиции. И хотя он часто заводит речь о помолвке, эти разговоры больше для отвода глаз. И маленькая история с грузом серебра – тоже лишь приятный способ убить двух зайцев, с пользой проведя время. На самом деле все помыслы Абрабанеля направлены на одну великую тайну. Ришери, вы слышали что-нибудь про сокровища Рэли? – Рэли? Никогда. Наверное, нет на свете мореплавателя, который бы не слышал о приключениях Уолтера Рэли, сударыня, – с поклоном ответил шевалье. – Только вот про его сокровища я слышу в первый раз. Впрочем, лучше спросите меня, верю ли я в них. – Я в них тоже не верю, – убежденно сказала Лукреция. – Но мне хочется знать, что думает об этом Ван Дер Фельд. – Может быть, спросить его об этом напрямик, сударыня? Ради вас я готов на все. – Намекаете, что Ван Дер Фельда следует похитить вместе с его тайной? Вряд ли это возможно – пушек вашего фрегата не хватит, чтобы справиться сразу с двумя государствами. Вокруг Ван Дер Фельда теснится толпа народу. А вы сами обратили внимание, что все это отчаянные люди, осторожные и закаленные в походах. Осторожные вдвойне – они на чужой земле и везут тайну. Нет, мы должны действовать по-другому, ударить в спину, не привлекая к себе лишнего внимания. – Тогда остается только надеться, что Ван Дер Фельд сам все любезно расскажет, – заметил Ришери. – Вы же говорили, что ваши переговоры с Абрабанелем прошли успешно и он заключил с вами сделку. Эта старая крыса может пообещать что угодно. Но верить ему было бы непростительной глупостью. Впрочем, кое-какой план созрел у меня в голове. Нужно улучить момент, когда Ван Дер Фельд и Абрабанель уединятся для беседы, и подслушать их разговор. – Что ж, дело за малым: осталось только узнать, где и когда они собираются уединяться... Ах, какие пустяки... И кто выступит в роли провидца? – Вот вы и выступите, Ришери. Пока все будут безмятежно пировать и слушать хвалебные речи, вы произведете рекогносцировку *["206]и выясните, где удобнее спрятаться, чтобы стать свидетелем этой знаменательной встречи. Возможно, вам придется подкупить кого-то из прислуги. Денег не жалейте. Как только будете знать время и место, сразу же сообщите об этом мне, и я вступлю в игру. Если все удастся, Абрабанель окончательно будет в моих руках. – А если они попытаются расправиться с вами? – Полагаю, вы будете неподалеку и не дадите им испортить столь прекрасный инструмент, – с улыбкой сказала Лукреция. – Вы правы! – сверкнув глазами, ответил Ришери. – Если вам будет угрожать опасность, я не остановлюсь ни перед чем! – Вы очаровательны, Ришери! – Лукреция обмахнуласи веером. – Однако нам пора! Публика уже рассаживается по портшезам и экипажам. И не спускайте глаз с Абрабанеля и его адмирала. Еще раз советую воспользоваться слугами – за пару серебряных монет они и в сундуках у них пороются. Мы должны знать, что затевают эти два веселых голландских гуся! – Я сделаю все, что могу, – наклонил голову Ришери. – Вы сделаете все, – поправила его Лукреция. – Даже то, чего вы не можете. Они поспешили туда, где их ожидал нанятый экипаж. Офицеры потихоньку устраивались в резиденции губернатора; истосковавшиеся по твердой земле моряки, получив жалованье, набились в портовые таверны; озабоченные слуги и рабы сновали взад-вперед по лестницам и коридорам, а капитан Ришери, покинув свою прекрасную спутницу, исподволь присматривался к личным покоям в доме и прикидывал, кого из слуг при случае можно будет подкупить. Вскоре он уже знал, какие комнаты были отведены Ван Дер Фельду и как в них можно проникнуть. Фортуна улыбнулась ему, потому что в один прекрасный момент, вовремя скрывшись за шпалерой, он услышал, как коротышка-банкир, приподнявшись на цыпочки, хлопнул своего высокого и широкоплечего соотечественника по спине и сказал на по-голландски: – Дорогой Йозеф! Я горю нетерпением услышать все это в подробностях! Разумеется, следует соблюсти ритуал и принять участие в ужине. Здешний губернатор страшно любит устраивать приемы и произносить пространные спичи. Придется и тебе попотеть, чтобы сказать что-нибудь трогательное в ответ, хе-хе... Но, как только позволят приличия, мы пройдем в сад, и ты мне все расскажешь. Ришери вознес пылкую благодарственную молитву своему батюшке за то, что тот послал его учиться морскому делу в Голландию, полагая, что врага нужно знать в лицо. Ван Дер Фельд что-то ответил, и Абрабанель, понизив голос, тут же пояснил: – В доме мне бы не хотелось! Губернатор Джексон весьма пронырлив и может сунуть нос куда не следует. А что еще хуже... Тут он перешел на шепот, и Ришери, догадавшись, что на сей раз речь зашла, скорее всего, о нем и мадам Аделаиде, предусмотрительно отступил за угол и поспешил исчезнуть, пока банкир его не заметил. Вернувшись в зал, где многочисленные гости терпеливо дожидались ужина, Ришери нашел Лукрецию и отозвал ее в сторону. – Сударыня, я все узнал, – тихо сказал он по-французски. – У наших голландских друзей намечен весьма серьезный разговор. Они, словно любовники после долгой разлуки, никак не дождутся, когда смогут остаться наедине. Но хитрец Абрабанель выбрал сад. Он опасается, что в доме его могут подслушать, имея в виду нас. И второе, самое неприятное, – между собой они разговаривают по-голландски. – Предусмотрительный человек. Хорошо, что не по-еврейски, – заметила Лукреция. – А голландский я знаю. Она быстро оглянулась по сторонам. Никто из гостей не обращал на них внимания. Их появление на острове перестало быть главной новостью, и все взоры теперь были устремлены в сторону вновь прибывших мореплавателей. Те, высоченные, белокурые и загорелые, с довольным видом стояли в окружении разодетых женщин и громко рассказывали о своих приключениях, не забывая жадно разглядывать дам голубыми глазами. Не было среди них только их предводителя Ван Дер Фельда, но вскоре появился и он в сопровождении Абрабанеля. – У меня пропал аппетит, – с усмешкой сказала Лукреция. – Вы, Ришери, оставайтесь здесь и внимательно следите за ними. Как только увидите, что Абрабанель уводит Ван Дер Фельда, сразу направляйтесь в сад и найдите беседку, что находится слева, в конце дорожки. Там я буду вас ждать. Это самое удобное место в саду, к которому нельзя подобраться незамеченным, и я уверена, что Абрабанель облюбовал именно его. – Я все понял, сударыня. Но будьте осторожнее. Вы уже напугали Абрабанеля один раз, а напуганный торговец – животное весьма опасное. – Я умею с ними обращаться, Ришери, – успокоила его Лукреция. – Однако я вас немедленно покидаю. Мне еще нужно сделать кое-какие приготовления. Она не стала вдаваться в подробности и исчезла. Ришери принял участие в пиршестве, не сводя при этом глаз с двух голландцев. Абрабанель изо всех сил старался казаться беззаботным, словно ничего, кроме долгожданного свидания со старым другом, его не интересовало. Он необычно много шутил, то и дело возносил здравицы, щипал за щечки свою дочку, которая в отличие от отца печально смотрела в тарелку, и вообще веселился, как мушкетер. Однако Ришери отметил, что Абрабанель за все время едва ли действительно сделал хоть пару глотков. Он и не ел ничего. Видимо, впереди его и в самом деле ждал очень серьезный разговор, и он желал подойти к нему с ясной головой. Ван Дер Фельд, напротив, совсем никак не демонстрировал своих чувств. Он с большим удовольствием пил вино, пробовал каждую перемену, отдавая дань деликатесам губернаторского стола, и с большим любопытством посматривал на хорошенькую дочку своего друга, которая, видимо, совсем скоро должна была превратиться в его законную половину. Судя по всему, Ван Дер Фельд против такой супруги не возражал. Особый шарм спектаклю придавал губернатор. С тех пор как в его жизнь проник голландский пройдоха, Джексон заметно изменился. Он был все так же важен и все так же любил наряжаться и по-прежнему продолжал устраивать приемы, но в глазах его появился неприятный лихорадочный блеск, как у человека, который знает, что смертельно болен, но не желает показывать это окружающим. Ришери не нравился этот взгляд. Он хорошо представлял себе, на что способны загнанные в угол люди. Наверняка в глубине души Джексон и днем и ночью размышлял, как ему избавиться от банкира, и хотя сделать это было не так уж просто, Абрабанель все же играл чересчур азартно. По мнению Ришери, иметь врагов, подобных губернатору острова и мадам Аделаиде, было слишком рискованно. Мадам Ванбъерскен как-то намекнула ему, что ей известно, как столкнуть лбами купца и губернатора, и Ришери был уверен, что она не приминет это сделать, как только в этом возникнет нужда. Скорее всего, Абрабанель тоже учитывал такую возможность, но пока все его помыслы были сосредоточены на предстоящей беседе, хотя он и пытался убедить всех, и мадам Аделаиду в первую очередь, что сегодняшний вечер – вечер торжества и никакие дела не могут его сегодня отвлечь от столь радостного события. Вскоре ужин подошел к концу. Заметив, что Абрабанель и его друг поднялись со своих мест и пробираются к выходу в сад, Ришери, опередив их, поспешил туда, где ожидала его Аделаида. Однако, добравшись до беседки, увитой ядовито-желтыми цветами, Ришери не нашел никого, кроме безобразной негритянки. Голову ее украшал немыслимый тюрбан из пестрого тряпья, а огромные груди и выпирающий живот не могло скрыть даже бесформенное старое платье. Рабыня подбирала с земли упавшие плоды апельсиновых деревьев и складывала их в большую круглую корзину. Ее черное как смоль одуловатое лицо не выражало ни единой мысли, движения были ленивыми и неловкими, а при каждом наклоне толстуха громко кряхтела и бормотала что-то заплетающимся языком. Ришери равнодушно скользнул по ней взглядом и отвернулся, оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, куда могла запропаститься мадам Аделаида. Услышав за спиной булькающий смех негритянки, Ришери в досаде обернулся и застыл от удивления. Рабыня, уперев руки в жирные бедра и выпятив живот, в упор смотрела на него и скалилась в наглой ухмылке. Но капитана поразило не это. У негритянки были глаза пронзительного зеленого цвета, и Ришери мог поклясться, что видел эти глаза раньше! – Ну что вы таращитесь, Франсуа, будто увидели короля без штанов? – не слишком внятно произнесла странная негритянка. Шевалье промычал что-то нечленораздельное. – Не видите, что это я жду вас:* * *
Час спустя, когда ночь опустилась на город, со двора губернаторского дома выкатил крытый экипаж. На козлах вместо кучера сидел Якоб Хансен, рядом с которым разместилась рабыня-негритянка, сумевшая выследить жилище Кроуфорда. Внутри под пологом разместились мадам Аделаида, капитан Ришери, господин Абрабанель, Ван Дер Фельд и двое голландцев, Бастен и Схаутен, вооруженные пистолетами. Повозка прогрохотала через спящий город и по указке чернокожей рабыни остановилась на узкой улочке, круто спускавшейся прямо к рыночной площади. За белым каменным забором возвышались обычные для здешних дворов пальмы, распространяя вокруг себя густой терпкий аромат. Конспираторы *["210]по очереди покинули экипаж и приблизились к наглухо закрытой калитке. Абрабанель в нетерпении лягнул ее и вполголоса выругался. Солдаты молча ожидали приказаний. – Ну, стучите же... Один из солдат загрохотал в дверь кулаками, а потом и прикладом аркебузы. – Именем короля, – завопил Абрабанель во всю мощь своих легких, – откройте, или выломаем двери! – Да, сделано на совесть, – пробормотал Хансен, оглядывая тем временем крепкие доски. – Такую не сломаешь. Придется перелезть через забор и попытаться отпереть ее изнутри. – Господа, вы уверены, что мы все делаем правильно? – спросил Ван Дер Фельд, с беспокойством оглядываясь по сторонам. Солдаты продолжали методично стучать прикладами в непокорную дверь. – Послушай, предоставь мне решать, как и что нам делать! – с раздражением набросился на него Абрабанель. – С тех пор как казнили сэра Уолтера, прошло более полувека, и просто странно, что никто до сих пор не сумел распорядиться его имуществом. Это очень странно, и мне кажется, нам стоить поспешить! Хансен, лезьте через ограду! – Подержите-ка саблю, Бастен! – попросил Хансен и, передав оружие, подступил вплотную к забору. – Подсадите меня! – приказал он солдатам. В одно мгновение он оказался вверху и протянул вниз руку. – Шпагу! Ему вернули шпагу, и Хансен спрыгнул во двор. Было слышно, как мягко чавкнули его башмаки, попав на влажную землю. Еще через секунду все услышали непонятный лязг, слабый стон и шорохи. Потом все стихло. – Хансен! – с тревогой позвала Лукреция. – С вами все в порядке? Ответа не было. Абрабанель, Ван Дер Фельд, Ришери и Лукреция переглянулись. – Что же вы стоите?! – вспылила Лукреция. – Там кто-то есть! Там засада! – В самом деле, господа, – негромко сказал Ришери, извлекая клинок из ножен. – Начнем! – Быстрее! – прошипела она. – Они там! – Сколько же их там может быть? – с тоской в голосе спросил Абрабанель. – И кто они такие, великий Боже? – Ломайте замок! – приказал Ришери. – Берегитесь! Один из солдат прицелился и выстрелил в замок, следом прогрохотало еще два выстрела. Трое здоровенных мужчин навалились на дверь и после некоторых усилий все же сумели снести ее с петель. Ришери с обнаженной шпагой первым ворвался во двор. Невдалеке послышался звон разбитого стекла и топот. – Вот он!.. – Да не бойтесь – это Хансен. – Он без сознания! – Оставьте его. Скорее за мной! Мужчины с пистолетами в руках бросились вслед за шевалье. Лукреция задержалась и наклонилась к лежащему ничком на траве Хансену. Дотронувшись до его головы, она вздрогнула – пальцы ее попали во что-то липкое и горячее. – Нет уж! – сказала она с отвращением и выпрямилась, вытирая руку о плащ. – Пусть о Хансене позаботится кто-нибудь другой. У меня есть дела поважнее. Она торопливо взбежала по каменным ступенькам, вошла в распахнутую настежь дверь и остановилась. Отовсюду доносились топот и крики ее спутников, кажется, кроме них, в доме больше никого и не было. Не обращая внимания на этот шум, она скользнула в небольшой проем, прошла вперед по темному коридору и очутилась в небольшой овальной комнате, в центре которой прямо на полу стояла зажженная лампа. Полы рядом с ней были взломаны, и в них зияла глубокая черная дыра. Высокое окно, единственное в комнате, было разбито. Лукреция выглянула наружу – за окном обнаружился еще один внутренний дворик, темный и пустой. Лукреция грязно выругалась и в бешенстве сжала кулаки. – Они сбежали! – завизжала она, теряя самообладание от душившей ее злобы. – Идиоты! Слышите? Вы упустили их! Они взломали тайник и ушли из-под самого вашего носа! На ее визг сбежались все. Капитан Ришери понял все без объяснений. – Господа, они не могли далеко уйти. Я следую за ними. Бастен, вы пойдете со мной! А остальные пусть садятся в карету и следуют за нами. Действуйте, господа! Ришери отсалютовал шпагой Аделаиде и ринулся к забору. В одно мгновение он перемахнул на другую сторону и помчался по мощеной улице вниз к порту. Бастен последовал за ним. Стук их каблуков отчетливо разносился по пустынной улице, затихая вдали. Остальные опомнились и бросились к выходу. Лукреция едва успела схватить за рукав Ван Дер Фельда и потребовала, чтобы он отдал ей свой пистолет. – Я останусь здесь, – заявила она. – Это неразумно, сударыня! – Дайте пистолет, чертов дурак, и убирайтесь! – заорала она. – Вы приносите одни несчастья! Оскорбленный Ван Дер Фельд пожал плечами и отдал ей оружие. Громко ступая, он вышел из комнаты и следом за всеми покинул жилище Кроуфорда. Лукреция услышала, как щелкнул кнут и с грохотом рванула с места повозка. «Интересно, кого они посадили за кучера? – ни с того ни с сего подумалось Лукреции. – Надеюсь, не Абрабанеля?» Ей стало смешно. Она медленно вышла из дома и ступила на крыльцо. Внизу на дорожке лежало обмякшее тело Хансена. Вдруг она услышала едва уловимый шорох и быстро обернулась, обеими руками сжимая взведенный пистолет. Из-за угла дома появился человек. Еле различимый в ночи, он крался к выходу. – Дик? – окликнула его Лукреция, уже понимая, что этот человек ей не знаком. Мужчина молча бросился к ней. В темноте тускло блеснул клинок мачете. Лукреция выстрелила, и незнакомец рухнул как подкошенный.Глава 12 Волчица и крыса
Карибское море. Барбадос. Тортуга
– Ну что, мадам Ванбъерскен, вы, наверное, совершенно довольны ходом вещей? – ворчливо спросил Абрабанель, бесшумно возникая за спиной Лукреции. Та, предпочитая одиночество, уже около часа тревожно всматривалась с полубака в видневшуюся впереди землю. Вздымаясь над прозрачно-голубым морем, издалека силуэт Тортуги *["211]напоминал гигантскую черепаху, голова которой была повернута на запад, а маленький «хвостик» на восток, – собственно, благодаря своей форме остров и был назван Колумбом Черепахой. Вид с юга не мог не вызвать восхищения перед удивительным природным богатством и красотой острова: скалы естественными террасами возвышались над лазурными водами, и на них теснили друг друга купы пальм, манценилл, фиговых и банановых деревьев, а позади них возвышались кряжистые артокарпусы, или хлебные деревья. Сам остров имел всего лишь около восьми французских лье *["212]в длину и около двух в ширину. Северный берег Тортуги, состоявший из нагромождения скал, был обращен к открытому морю, а на юге, где берег устилал мягкий песок, через пять-шесть морских миль лежала Эспаньола, Большая Земля, как этот остров называли коренные его жители – индейцы каннибы, или людоеды, некогда заселявшие его. Испанцы столь рьяно приступили к колонизации этого земного Парадиза, что за сорок лет своих неустанных попечений о нем умудрились сократить число индейцев с трехсот тысяч человек всего до трехсот, да и те ныне тщательно скрывались от белого человека. Основное население Большой Земли ныне составляли вывезенные из Африки черные рабы да потомки вышедших из Европы яз ыков. Соседи нередко играют роковую роль в судьбе друг друга. Вот и Эспаньола вот уже два века оказалась тесно связана с лежащей у ее бока Черепахой. – Чувствуете себя сэром Фрэнсисом Дрейком перед штурмом Картахены? – Не мелите вздора, – не оборачиваясь, отмахнулась Лукреция. Как только Барбадос скрылся за горизонтом, Лукреция сбросила с себя маску безутешной вдовы голландского протестанта, сменив нидерландский наряд на платье, скроенное по последней парижской моде, с удивительным искусством уложив волосы так, что они весьма соблазняюще подчеркивали матовую бледность ее кожи и волнующую зелень глаз. Такие перемены подействовали на шевалье Ришери не хуже шпанских мушек *["213], и он принялся оказывать ей знаки внимания с удвоенной силой. Лукреция неизменно воспринимала их как должное, иногда снисходя к его мольбам, но чем сильнее шевалье подпадал под действие ее чар, тем большее презрение она к нему испытывала. Таково, видно, свойство женской любви – презирать тех, кто подчиняется, и унижаться пред теми, кто ими помыкает: в обоих случаях их любовь грозит перейти в ненависть. Роль любовника проще: одна улыбка может осчастливить его, и он ее постоянно добивается. Мужчину долгая осада унижает, а женщину – покрывает славой. Итак, заручившись доказательствами слепой преданности шевалье, леди Бертрам оставалось лишь подчинить себе коадъютора, и тогда половина дела была бы сделана. Но для голландца женские прелести стоили недорого, и Лукреция мучительно размышляла, какую же наживку скормить этой щуке. – О, это не совсем вздор, дорогая вдовушка, – продолжал паясничать Абрабанель. – Глядя на ваш мрачный профиль, на ум невольно напрашивается аналогия не то с Горгоной *["214], не то с гарпией. – А не хотите ли сравнить меня с эриниями *["215]? Кто вам больше по душе: Мегера, Аллекто или Тисифона? Лично мне нравятся все трое. Мне бы их свойства – тогда бы я с легкостью достигла цели. Отчего бы вам не помолчать, месье? Оглянитесь, каким величеством исполнена Натура, окружающая нас, или вам не до Натуры, господин негоциант? А-а, я, кажется, начинаю догадываться – вы страдаете от того, что вынуждены подчиниться женщине? – Сдаюсь, сдаюсь, – в притворном страхе Абрабанель махнул ручками. – Пощадите, мадам! Я не силен в мифологии, я лишь бедный ювелир, которого жестокая судьба заборосила на край света! Я тут у вас почти как пленник, и если вы еще и расстройтесь, по примеру вашего божества, что я тогда буду со всеми вами делать... К тому же вы почти что захватили меня в плен! – Ваше остроумие сродни столовым ножам – такое же тупое из соображений безопасности. Вы не хуже меня знаете, что гостеприимством капитана Ришери вам и вашим соотечественникам пришлось воспользоваться лишь по той только причине, что губернатор Тортуги господин де Пуанси терпеть не может голландцев. И надо сказать, что тут я его понимаю. – Ну, еще бы! Интересы Бурбонов превыше всего! – Ах, прекратите! Мне нет никакого дела ни до чьих интересов, кроме своих собственных, и вам это отлично известно. Просто меня воротит от вашего племени, которое подобно крысам норовит забраться в любую щель. Вы отвратительны в своей ненасытной алчбе – вы любите только движимую собственность, которую можно пощупать и спрятать в карман. – Тем не менее за нами будущее, сударыня! – сменив плаксивый тон на спокойную уверенность, вдруг произнес Абрабанель и посмотрел на женщину, не скрывая злобного торжества. – Если вы не так глупы, как другие назаретяне, вы сами можете это увидеть. Ваши правители обескровили ваш народ, они берут у нас чудовищные займы и тратят их не на создание мануфактур или поддержку фермеров – они меняют их на жалкие предметы роскоши, которые тоже привозим мы на своих кораблях. Вы ведете между собой войны и ненавидите друг друга, хотя в ваших нечестивых собраниях вы говорите только о любви и терпимости. А что касается алчбы... Что ж, накопленные нами деньги научат вас любви и терпимости к нам, сынам Израиля, пока вы будете пожирать друг друга из гуманных соображений! – Вы – трусливы и жадны одновременно! – взорвалась Лукреция. – Вы ползаете по свалкам и, как мародеры, добиваете ослабевших. Вы грызете наши сердца и высасываете деньги даже из наших камней. Ваша правда, Абрабанель, – мы слишком полны ненависти и равнодушия друг к другу, но мы – свободны! Наши народы не знают стен гетто, выстроенных изнутри, в вечном ужасе перед миром, в котором ваши дети, если вы хоть на секунду забудетесь, могут раствориться без следа. Назаретянин, Тот, с которым я могу спорить, которого я могу ненавидеть, в которого я могу даже не верить. – Он дал нам свободу! Вы же, запирающие двери на сотни засовов, боящиеся дотронуться до плодов земных, страшащиеся собственной тени, – вы давно уже рабы своих жутких фантазий! Вы – христопродавцы, и Господь как паршивых собах выгнал вас из собственной земли, осудив в позоре и страхе скитаться по лицу земли, не зная покоя. На вас и ваших детях – кровавое пятно, и вы никогда не смоете его со своих рук. Мы, акумы и назаретяне, сотворили этот мир, унаследовав его от Рима, и эта земля – наша! – Вы не способны даже сохранить то, что с оружием в руках потом и кровью добыли ваши предки, – со злобной усмешкой отвечал коадъютор. – Вы забываете свои песни и говорите на каком-то варварском наречии. Ваши моды придумывают шлюхи и распространяют сводники, а ваша религия распалась на тысячу кусков, как разбитая тарелка. Ваши земли топчат завезенные вами рабы, и неужели вы надеетесь, что Всемогущий Творец отдаст мир таким ничтожным народам? Вы выродились, и, как бедных деревенских дурачков, вас могут развлечь только блестящие погремушки. Зачем вам сокровища, мадам? Чтобы Бурбоны или Стюарты потратили их на фейерверки? – язвительно закончил он, и в глазах его засветилась презрительная радость. – Кстати, у вас в предках не было монахов? Говорят, от них рождаются дети со склонностью к обличениям и распутству... – Еще недавно вы производили меня от евреев, месье. В таком случае я сочетаю в себе лучшие качества тех и других. – Кстати, мадам, вот вам еще один пример – ваш красавчик Рэли. Где те богатства, которые он мог приумножить, разумно распорядившись ими? – Наверное, они где-то поблизости, – безмятежно ответила Лукреция и улыбнулась банкиру. – Во всяком случае, вам не меньше меня хочется в это верить. Видите те туманные берега справа? Это и есть Эспаньола. – Без вас знаю, – огрызнулся Абрабанель. – Но мы-то плывем на Тортугу. Гнусное логово! Я не удивлен, что здесь правят французы. Это развратная нация... – Ваши парфянские стрелы пропали втуне, Абрабанель, – холодно заметила Лукреция. – Я же не француженка. И вообще, вместо того чтобы язвить и ссориться, лучше бы поделились со мной своими идеями. – Я? У меня нет никаких идей, сударыня! – раздраженно ответил Абрабанель. – Обстоятельства складываются таким образом, что мне остается только им подчиняться. С тех пор как вы появились на Барбадосе, все идет кувырком... – Я так не считаю, – перебила его Лукреция. – Все идет как нельзя лучше, а если бы вы, мужчины, не ленились пользоваться своим рассудком, то мы бы давно добились всего, чего хотим. Посудите сами. Ваш друг возвращается из кампании, узнав о кладе на Эспаньоле, и рассказывает об этом вам. Я, в свою очередь, сообщаю вам о том, где и у кого спрятана карта этого клада... – Хорошенькое дело! Где спрятана! А что это нам дало?! – презрительно воскликнул Абрабанель. – Жаль, что вы не способны видеть дальше своего носа. Поражаюсь, как с таким ограниченным воображением вы заработали свои капиталы! – Капиталы, сударыня, создаются трудом, а не воображением! А вот вас ваше воображение гоняет по всему Карибскому морю. И я, старый человек, вынужден скитаться вместе с вами, как бездомный бродяга... А вы ведь даже не можете быть уверены, что найдете на Тортуге своего Кроуфорда... – Вот как раз в этом я уверена абсолютно, – отрезала Лукреция. – После всего, что случилось, ему больше негде быть. Он наверняка вернулся на остров, чтобы собраться с силами и подготовиться к походу, но если бы не ваше с Ван Дер Фельдом скудоумие и медлительность, мы могли бы перехватить его еще на Барбадосе. Абрабанель не слонен был терпеть оскорбления, особенно от женщин, но на этот раз он предпочел пропустить их мимо ушей. У него были веские причины подозревать, что мадам Ванбъерскен права. В ту ночь, когда они совершили налет на жилище сэра Кроуфорда, приключилось множество разнообразных событий, но ни одно из них не могло с убедительностью доказать голландцам, что они напали на верный след. Однако мадам Аделаида была убеждена, что все было сделано правильно и им только чуть-чуть не повезло. «Именно чуть-чуть, – настаивала она. – Испортили все мы сами». Сначала ее никто не желал даже слушать. Абрабанель был зол, как Вельзевул. Его верный Хансен едва не лишился жизни, первым проникнув во двор. Некто ждал его там и встретил хорошим ударом по голове. Это была всего лишь дубинка, но Хансен до сих пор не мог подняться с постели без посторонней помощи. Врач, осмотревший его, заявил, что, будь такой удар нанесен в висок, старшему клерку уже не помог бы никакой доктор. Кроме Хансена, пострадали еще Ришери и Бастен. На темной улице они заметили беглецов и бросились за ними вдогонку. Когда они почти уже настигли их, Бастен выстрелил, но промахнулся и оказался безоружен. В тот же миг двое незнакомцев обнажили шпаги и как бешеные набросились на преследователей. Бастен сразу же получил укол в бедро и благоразумно предпочел выбыть из схватки. Ришери остался один против двоих и, несмотря на то что был серьезно ранен в плечо, сражался как лев, пока не свалился от потери крови. Его нашли Абрабанель и Ван Дер Фельд, которые тем времени кружили по соседним улицам, перебудив полквартала своими воплями и грохотом экипажа. Подобрав раненых, они вернулись к дому и обнаружили, что в их отсутствие мадам застрелила человека. Это оказался огромный негр с изуродованным лицом. Отнеся окровавленного Хансена в повозку и забрав Лукрецию, отряд, фигурально выражаясь, на щите *["216]возвратился в дом губернатора. – Вы жалкая авантюристка! – заявил Абрабанель в ярости от потигшей их неудачи. – Из-за ваших фантазий мы напрасно рисковали жизнью! – Вы? – рассмеялась Лукреция. – Да уж... впрочем, «А la guerre comme a la guerre» *["217], – заключила она и отвернулась.Пересчитав раненых и выслушав полный леденящих душу подробностей и причитаний рассказ Абрабанеля, губернатор пришел в такое возбуждение, что вознамерился поднять на ноги весь гарнизон, от чего, впрочем, легко дал себя отговорить. Слухи о вооруженном нападении на остров пиратов моментально облетели город и стяжали Джексону лавры спасителя отечества. Одним словом, к утру в головах и в делах царила полная неразбериха, а в бессмысленной суете и причитаниях было упущено драгоценное время. Лукреция разъяренно металась по дому, тщетно пытаясь заставить коадъютора и губернатора предпринять хоть какие-то вразумительные действия. Единственный человек, который мог трезво смотреть на вещи, капитан Ришери, был очень слаб, и Лукреция, страшась потерять столь необходимого ей помощника, боялась хоть чем-то потревожить его и поминутно терзала врача расспросами о его самочувствии. Придя в себя через трое суток, шевалье первым делом велел узнать, не покидало ли в ту ночь бухту какое-нибудь судно. Комендант форта доложил, что некое судно накануне бросило якорь у входа в бухту, покинув ее на рассвете следующего дня. Капитан Ришери пожелал уточнить у дежуривших в тот день офицеров, что это было за судно, но из его расспросов мало что получилось: – Какой-то флейт, судя по мачтам и парусам, сэр. На его флагштоке развевался британский флаг, и мы подумали, что это какой-нибудь капер, караулящий голландцев, сэр. Но нам до них дела нет, не так ли, сэр? – ответил офицер и воззрился на коменданта. В глазах его читалось недоумение от того, что его посмел допрашивать какой-то французишко. – Клянусь шпагой, что это никакие не английские каперы! Слишком много совпадений. А главное, если те двое были с «Медузы», то они как раз успевали уйти до рассвета. Проклятие, если бы не моя рана, мы бы схватили их. Лукреция была согласна с шевалье. Корабль, который пожелал быть незамеченным, внушал подозрения, тем более если этот корабль – флейт, а во время его стоянки в доме Кроуфорда вскрыли пол и залезли в тайник. Лукреция понимала, что это не могло быть простым совпадением и Веселый Дик был этой ночью на острове. Раз сокровища на Эспаньоле, а пираты обретаются на Тортуге, которая всего в нескольких милях от нее, то она направится на Тортугу, тем более если предположить, что из тайника была извлечена именно карта. Что ж, все сходится, картина ясна. Абрабанель, который никак не мог прийти в себя от потрясения, отнесся к соображениям Лукреции с недоверием, однако был готов немедленно плыть вместе с ней – как говорится, свой глазок – смотрок. Заодно он прихватил с собой с десяток голландцев во главе с Ван Дер Фельдом и свою дочь Элейну, которую он менее всего желал бы видеть в заложницах у английского губернатора. К тому же ей не мешало бы попривыкать к своему будущему мужу, раз уж не было никакой возможности обручить их на Барбадосе. А еще в голове почтенного коадъютора неосознанно зрела мысль использовать свою дочь как приманку для Харта, только вслух об этом он и себе бы не признался. Согласия Элейны, разумеется, никто не спрашивал. Элейна же отправлялась в эту опасную экспедицию, полная воодушевления и самых радужных надежд. Зная, что они плывут на Тортугу, которую называли Пиратской Республикой и родиной Берегового Братства, Элейна питала надежды, что это приключение позволит ей подучить ответ на письмо прямо из уст самого Уильяма, ведь ныне Уильям числился одним из этих подонков. Она усматривала в этом перст судьбы. Несчастная судьба Харта, его скомпрометированная репутация и нынешнее его ненадежное положение не только не отвращали от него сердце Элейны, но, напротив, привлекали ее к Уильяму еще больше. Теперь Уильям казался ей настоящим рыцарем, который отважно противостоит ударам судьбы, отстаивая свою честь и проявляя благородство. На его образ волей случая был наброшен романтический покров, который удивительно подходил к его небесно-голубым, немного печальным глазам и его безупречному профилю. К тому же Элейна не теряла надежды, что ей или удастся переубедить отца, или произойдет какое-нибудь чудо, и упрямый батюшка даст свое согласие на ее брак с любимым человеком. Она уповала на Провидение и гнала от себя уныние. Что касается Лукреции, то она тоже не хотела выпускать из вида своих конкурентов и предпочла иметь неугомонных голландцев у себя под рукой, чем за спиной, и к тому же она вполне серьезно рассчитывала на их деньги, которые у них были и которые могли понадобиться в любой момент, потому что предприятие, в которое она пустилась, становилось все более непредсказуемым. Подвоха со стороны Абрабанеля она не боялась. Они находились сейчас на ее территории, или, лучше сказать, на территории, на которой она была временно своей, губернатор Тортуги терпеть не мог голландцев и всячески препятствовал их продвижению в Новом Свете, и главное, на Тортуге, видимо, были оставшиеся в живых члены команды флейта «Голова Медузы», который Абрабанель, образно выражаясь, отдал на откуп дьяволу. Возможно, в Англии и Голландии эти люди были вне закона, но на французской территории к их свидетельствам могли и прислушаться. Для Абрабанеля такой поворот дела был бы совершенно нежелателен. Поэтому Лукреция предполагала, что некоторое время банкир будет совершенно ручным. Он и в самом деле не пытался бунтовать, но противоречил Лукреции на каждом шагу. Судя по его словам, в карту он не верил, но страшно боялся ее упустить и остаться с носом. Ради нее он сейчас пошел бы на все – даже бы согласился жениться на Лукреции. Она думала об этом с иронией, в душе посмеиваясь над таким странным браком. Абрабанелю же было не до смеха, потому что он действительно был на грани. Сокровища испанских конкистадоров, которые так занимали мысли главных пайщиков Вест-Индской компании, которые до сих пор были чем-то манящим и недостижимым вроде райских кущ, вдруг стали наконец обретать реальные черты, они вдруг получили имя, адрес и что-то вроде родословной. Они становились для Абрабанеля чем-то вроде живого существа, которое пряталось где-то поблизости, дразнило его и не давалось в руки. Но он явственно чувствовал его запах, слышал его дыхание, различал его полустертые следы. Абрабанель никогда не был ни воином, ни охотником, но охотничий азарт был знаком ему очень хорошо – это чувство овладевало им, лишь только рядом начинало пахнуть золотом. Запах этот становился тем более отчетливым, чем ближе подходили они к пиратском гнезду. Его не мог перебить даже запах опасности. А опасность была немалая. Абрабанель тоже подумывал о той команде, которую сдал пиратам. Эти люди наверняка уже во всем разобрались и жаждут свести с ним счеты. Здесь, на Тортуге, сделать это проще простого, тем более что голландские купцы здесь не в почете у самого губернатора. Единственный человек, который может гарантировать ему безопасность, – это проклятая французская шпионка. Придется смириться и терпеть все ее штучки, пока не возникнет более благоприятного момента. В глубине души Абрабанель был невысокого мнения о женском уме и предполагал, что рано или поздно миссис Аделаида ошибется и чаша весов склонится в его пользу. Это случится обязательно. Абрабанель был в этом совершенно уверен, как человек благочестивый и богобоязненный.
* * *
Гавань Бас-Тер, на юге острова, обращенная к проливу, отделяющему Тортугу от Эспаньолы, да бухта близ селения Ла Монтань – вот те два места, куда могли пристать крупные суда. Лукреция невольно залюбовалась могучим утесом, царящим над Бас-Тером и под вечер закрывающим своей тенью небольшой порт. Утес этот не склонные к поэтическим аллегориям буканьеры именовали просто Горой, вложив в сие прозвание все то восхищение его мощью, на которое были способны их ссохшиеся от прозаические души. Гора и послужила основанием для небольшой, но с большим умом выстроенной фортеции, чьи пушки могли потопить любое неугодное судно, а стены выдержать даже длительную осаду. Гору венчал тридцатифутовый уступ, вершину которого будто обрезали гигантским ножом, превратив в естественную смотровую площадку. Люди окружили ее камнями, соорудив из нее квадрат со стороной около семи ярдов, и установили на ней орудия: две железные и две бронзовые пушки. Лукреция обратилась к подошедшему капитану и, указывая на смахивающий на орлиное гнездо форт, проговорила: – Посмотрите, капитан, пираты, выстроившие эти укрепления, отнюдь не были профанами в военном искусстве. – Я был наверху, мадам, и могу это подтвердить. В этом гнезде все устроено очень разумно. Кроме пушек, там размещается и казарма, а в пещере – продовольственные склады и небольшой арсенал. Конечно, на придирчивый вкус, казарма несколько смахивает на голубятню, но вмещает она порядочное число птичек – около четырехсот душ. Вода у них своя – Гора любезно извергает из себя источник с питьевой водой. Вот возьмите, взгляните сами, – капитан протянул женщине двухколенную подзорную трубу. Лукреция, уверенным движением разложив ее, приложила инструмент к глазу и обратила на вершину утеса. – Видите, там есть вырубленные прямо в скале ступеньки, они ведут от подножия уступа к вершине. – Да, Ришери, но они обрываются. – Ха, этот разбойник Левассер был не дурак! На саму площадку можно забраться только по приставной лестнице – в случае опасности ее втягивают наверх. Я оставляю вам трубу – вы можете наслаждаться видами, мадам, а мне пора на мостик. Я покидаю вас. В удобной бухте в виду пушек форта стояло на якорях несколько десятков кораблей. Флаги на мачтах преобладали французские, но, видимо, это была больше дань определенным приличиям или холодный расчет. Многие из кораблей имели довольно потрепанный вид и явно прибыли сюда для ремонта. Вот только «Головы Медузы» среди них не было. Лукреция пристально всматривалась в корабли, но искомого так и не обнаружила. Она ни на мгновение не поколебалась в своих выводах, но боязнь опоздания снова подступила к ее сердцу. Кто знает, может быть, проклятый Кроуфорд уже покинул Тортугу на какой-нибудь барке, пустив «Медузу» пугать купцов на морских просторах. Он всегда был горазд на неожиданные кунштюки *["218], вот только ни богатства, ни славы стяжать он так и не сумел. Нет, Лукреция не отчаивалась. Она была уверена, что на этом ристалище победа будет за ней, потому что у нее есть главное преимущество – никто не знает, что она жива. Вот только ходят слухи, что на Эспаньоле с недавних пор мертвецы повадились оживать...* * *
Пока Лукреция размышляла о превратностях судьбы и причудах сэра Кроуфорда, виновник ее раздумий находился всего в полутора милях от нее, проводя время в обществе неизменного Уильяма Харта, с которым имел весьма серьезную конфиденциальную беседу. Они сидели возле небольшой гостиницы, во дворе которой столы, срубленные из пальмовых стволов, были врыты прямо в утрамбованную землю, а крышей служили срубленные пальмовые ветки. Ветерок с моря не приносил облегчения от удушливой влажной жары, которая, действуя на людей отупляюще, располагала лишь к безделью и беспробудному пьянству. Между Кроуфордом и Хартом тоже стояла бутылка. Они тянули ром и лениво рассуждали о том, что их ожидает в самом ближайшем будущем. Кроуфорд даже обмахивался своей замусоленной треугольной шляпой. На худом, коричневом от загара лице его проступили капельки пота, который он то слизывал с губ языком, то, поминая черта, утирал рукавом когда-то белой полотняной рубахи. Харт, подперев голову рукой, с мрачным недовериемразглядывал свою тарелку, в которую щедрой рукой трактирщика была навалена местная еда – загадочное блюдо из кукурузной муки и креветок, на языке индейцев носящее весьма игривое название «Ку-ку». – Что, накуковал тебе местный кок пообедать? – изголялся сэр Фрэнсис, хотя перед ним стояла еще более подозрительная на вид снедь из мелко порубленного мяса разных животных, тушенного в остром красном перце. – А я вот ем и не рассуждаю, потому что, если я начну разбираться, каких таких тварей покрошил в это рагу наш добрый хозяин, я впаду в ипохондрию. Ведь за что страдают зверушки? За наших прародителей, что отведали яблочка да и нагрубили Творцу всего сущего. А теперь всех этих крыс, попугаев и обезьян ловят и безжалостно посыпают этим жутким красным перцем... А название-то какое? «Пеперпот» – это звучит как «Пот и перец» – вполне подходящее названьице, Харт. Да ты не слушаешь меня, друг мой! – Я просто недоумеваю, отчего бы не взять нам по доброму куску говядины да не запить это ключевой водой... – Ба-а, да вы не гурман, Уильям! А что вы будете рассказывать своим внукам в долгие зимние вечера в своем графстве Корнуэлл? Мы должны попробовать в этой жизни все! – Кроуфорд отер пот с лица и, отбросив шляпу, принялся за свое рагу. – Все можно, да не все полезно, сэр Фрэнсис, – с улыбкой заметил Уильям, очищая креветки, которые никто не озаботился лишить панцирей прежде, чем смешать с кукурузой. – Уф-ф, хорошо! Ну и отрава! Как будто горящих углей наглотался! Эй, там, на берегу! Тащите еще рому и воды для этого джентльмена! В ответ на вопль собачка, дремавшая на скамейке рядом с Кроуфордом, подняла голову и хрюкнула. Глядя на нее, можно было вообразить, что на протяжении нескольких поколений этих несчастных только и делали, что лупили дверью или кулаком по носу, отчего морды их сплюснулись и втянулись внутрь. Это примечательное создание, которое Харт ненавидел смертельной ненавистью, появилось у Кроуфорда, как только они прибыли на Тортугу. Когда-то эту карликовую породу вывели индейцы племени майя. На их птичьем языке такие собаки именовались течичи, а почитали ее эти язычники как священное животное. Кроуфорд делал вид, что свято верит в эти сказки, и совершенно серьезно заявлял Уильяму, что течичи не обычная собака, а посланец индейских идолов, который провожает души умерших в загробный мир. Судя по всему, Кроуфорд всерьез опасался заблудиться в царстве Аида без провожатого. Уильям с сомнением пожимал плечами, но помалкивал, хотя неказистая тварь цвета ржавчины являлась в его глазах скорее проводником блох да кишечных червей, а не воли заморских божков. Щадя самолюбие сэра Фрэнсиса, Харт утешался тем, что вспоминал рассказы Кроуфорда о морской ведьме. Они тоже выглядели небылицами, но он сам, своими глазами увидел этот призрак! По-видимому, неспроста Уильям слышал так много рассказов о различных чудесах, которые в этих краях приключаются гораздо чаще, чем в Старом Свете.* * *
Как только «Голова Медузы» прибыла на Тортугу и бросила якорь в гавани Ла Монтань, Веселый Дик, оставив требующее починки судно на попечение Джека Потрошителя и Джона Ивлина, отправился на берег. Оказалось, что неподалеку, в местечке Бас-Тер, у Кроуфорда тоже есть свой дом, посему друзья сразу же направились туда пешком. Пыльная, убитая тяжело груженными фурами *["219]дорога петляла между скалистых холмов, поросших густым кустарником, носящим в народе прозвище «французское дерево», так как, по слухам, из сока его готовили настои против болезней, доставляемых ревностным служением Венере. Иногда в отдалении возвышались одичавшие финиковые деревья, усыпанные перезревшими плодами, а вдоль дороги росли пальмы с широкими веерообразными листьями, среди которых укрывались попугаи и дикие голуби. Пройдя несколько миль, они спустились к морю мимо зарослей алоэ и оказались в трущобах на окраине порта Бас-Тер, где в беспорядке теснились лачуги бедняков. Некоторое время поплутав по пыльным улочкам, вдоль которых высились горы мусора, они остановились перед какой-то хижиной, окруженной плетеным забором. – Мои пенаты, – произнес Кроуфорд и толкнул калитку. Пенаты представляли собой небрежно сложенную из неотесанных камней лачугу, крытую пальмовыми листьями. Внутри оказалась единственная комната с окном, забранным деревянным ставнем. Внутреннее убранство заключалось в нескольких деревянных лавках вдоль стен, на которые были набросаны пальмовые ветви, покрытые коровьими шкурами, грубо сработанном столе и пестрых циновках на стенах. Прямо у входа под навесом из тех же пальмовых веток был сложен из камней примитивный очаг, вокруг которого на земле лежали различные глиняные сосуды, пара оловянных блюд и несколько пустых бочонков из-под пороха. Уильям с интересом вертел головой, поскольку никогда еще не бывал в подобных местах. В лачуге хозяйничала молодая индианка, которая, по всей видимости, совмещала роль прислуги и пассии сэра Фрэнсиса. Именно она ухаживала во время странствий своего патрона за крохотным огородом и священной собачкой, которая даже лаять-то толком не умела. Индианка Уильяму совсем не понравилась. Ее темно-коричневое с крупными чертами лицо казалось вырезанным из дерева, а от неуловимого взгляда ее черных диких глаз Уильяму становилось не по себе. Одетая в голубое шелковое платье наподобие длинной рубахи с короткими рукавами, украшенное черно-красной вышивкой, и сплетенные из ремешков сандалии, она молча поклонилась своему господину, отчего многочисленные золотые и серебряные браслеты на ее запястьях и щиколотках зазвенели. Кроуфорд, кивнув в ответ, протянул ей небольшой сверток и бросил несколько слов на странном свистящем языке, которого Харту до сего дня и слышать не приходилось. В глазах женщины сверкнул огонь, и она с детской непосредственностью тут же развернула парусину. В руках у нее оказался отрез великолепного пурпурного шелка, стоящего, вероятно, баснословных денег. Женщина в поклоне коснулась руками пола, по-видимому выразив таким способом свою благодарность, и отошла к очагу, чтобы подать на стол маисовую похлебку в глиняных мисках и лепешки из манионики, которые Уильям пробовал впервые. Увидев, что Кроуфорд разломил лепешку и принялся ее жевать, Уильям немедленно последовал его примеру. – На языке индейцев такой хлеб называется касавой, и белые переняли его у них, – с набитым ртом проговорил Кроуфорд. – Они готовят его достаточно просто: корни манионики растирают на камнях, затем полученную массу запихивают в мешки из плотной хлопковой ткани и отжимают, чтобы она подсохла. Когда манионика затвердеет, ее просеивают сквозь кожаное сито, чтобы получить порошок, схожий по виду с опилками. Его замешивают на воде, раскатывают на небольшие лепешки и пекут прямо на горячих камнях очага. Белые используют при этом железный лист. Готовый хлеб выставляют сушиться на солнышко, а хранят его индейцы прямо на крыше. – Закончив лекцию по гастрономии, Кроуфорд быстро дожевал свою касаву и потянулся за следующей. Уильям продолжал жевать. – Ну как? – поинтересовался сэр Фрэнсис. – Как-то необычно, напоминает то ли кекс, то ли еще что-то. Тем временем индианка поставила перед ними глубокую миску, наполненную какой-то густой вязкой смесью. – Что это? – с некой долей отвращения поинтересовался Уильям. – Это вареная растертая кукуруза, разведенная водой с добавлением какао и перца, – старинный напиток индейцев майя. Удивительно бодрит, надо сказать. Разве я не говорил тебе, что она из этого народа? Потрясенный Уильям, забыв о приличиях, уставился на нее, как на диковинку. – Как?! Из тех самых майя? – Да, я взял ее на Эспаньоле, куда ее и других индейцев их семейного клана вывезли с Юкатана испанцы. Конечно, ей нелегко жить одной среди белых, но я стараюсь, чтобы она не испытывала недостатка в тех предметах, к которым привыкла. Она дочь одного и последних касиков майя. Ее отец и брат были убиты на Большой Земле, и в знак того, что она принимает месть на себя, ее теперь зовут На-Чан-Чель, а как звали до этого – одному Богу известно. Услышав свое имя, женщина насторожилась, но поняв, что Кроуфорд не зовет ее, она вернулась к своим горшкам. – И вы, сэр Фрэнсис, живете с ней как с женой? – задав этот вопрос, Уильям покраснел от собственной нескромности. – Право, Уильям, как женщин, она устроена не сложнее, чем англичанка, а уж стать рогоносцем, или, как говорят у них в племени, «получить от жены зеркало в волосы» я рискую много меньше, чем с цивилизованной супругой. Уильям с таким ужасом посмотрел на Кроуфорда, словно тот взял за себя анаконду. Закончив подавать на стол, индианка невозмутимо уселась в углу у ткацкого станка, на котором плела разноцветную циновку, и принялась за работу, что-то тихо напевая себе под нос. Кроуфорда ее спартанская лаконичность ничуть не смутила, да и внимание он отныне больше уделял собаке, чем своей индейской жене. Против опасений Уильяма, обед оказался на удивление вкусным и сытным. – Скажите, Кроуфорд, разве майя едят касаву? – Нет, просто я предпочитаю этот хлеб кукурузному, и она научилась печь его для меня. Отдохнув, они покинули жилище Кроуфорда, прихватив с собой собаку. Отчего-то сэр Фрэнсис предпочел поселиться вместе с Уильямом в порту на постоялом дворе среди самого невероятного сброда, и Уильям посчитал, что всему виной его нескромность и те неудобства, которые влекло за собой его присутствие в столь убогом жилище.* * *
Итак, покинув родные пенаты, они уже третий день торчали на постоялом дворе. Кроуфорд до поры оставлял полные недоумения вопросы Уильяма без ответа, но за обедом вдруг решился объясниться. – Скажите мне, Уильям, что вы обо всем этом думаете? – поинтересовался он, доставая из кисета щепоть жевательного табаку и весело поглядывая на своего молодого друга. – Я же вижу печать раздумья на вашем челе. Юноша должен быть дерзок и отважен, только так можно понравиться лучшей женщине – Фортуне. А вы поддались меланхолии! Вы не желаете нравиться Фортуне? – К несчастию, я никогда ей не нравился! – вздохнул Уильям. – Наверное, Провидение так напоминает мне о тех неблаговидных поступках, которые я совершил, пойдя против совести. Я покинул отчий дом без родительского благословления, я ввязался в сомнительное предприятие и ступил на тропу разбоя... Единственная отрада в моей жизни – это любовь Элейны, но и с ней мне вряд ли удастся теперь свидеться! Вы правы, Фрэнсис, я думаю обо всем этом непрерывно и не знаю, как мне вырваться из этого заколдованного круга. Прошу правильно меня понять, я испытываю к вам безграничное уважение и благодарность, но... – Занятие каперством не для вас? – подсказал Кроуфорд. – Пожалуй, так. Мне кажется, этот путь... м-м... – Путь греха, вы хотите сказать? – подхватил Кроуфорд. – Но с этим можно поспорить. Многие из тех, кто шел этим путем, заслуживали милость высочайших персон. Например, сэр Фрэнсис Дрейк. Или сэр Уолтер Рэли... – Мне кажется, Рэли отрубили голову? – не совсем уверенно произнес Уильям. – Да, но перед этим он был главным фаворитом королевы, – небрежно заметил Кроуфорд. – Впрочем, я не об этом хотел с вами поговорить, хотя сэра Уолтера Рэли разговор коснется весьма близко... Как вы полагаете, что я искал на Барбадосе в ту ночь, когда мы с вами так мужественно вырвались из засады? – Понятия не имею, – пожал плечами Уильям. – Предпочитаю не вникать в чужие секреты. – В некотором роде это будет теперь наш общий секрет, – сказал Кроуфорд. – Если не возражаете, конечно. – Если вы считаете, что я должен быть в него посвящен... – Думаю, что вас это заинтересует. Так вот, я искал там карту. Карту, указывающую, где спрятан клад испанцев. Это те сокровища, которые были награблены конкистадорами в Мексике и на Юкатане. Они много раз меняли владельцев, перепрятывались и снова находились, но никак не могли покинуть тех краев, где были захвачены. Молва утверждает, что до этих сокровищ добрался сначала Дрейк, но, решив ни с кем не делиться, потерял все, а потом, в поисках мифического Эльдорадо, на них случайно набрел сэр Уолтер Рэли... Он не сумел воспользоваться ими. Не знаю, что ему помешало, Уильям, но, говорят, эти сокровища охраняют злобные индейские божества, а приглядывают за ними волшебные черепа... Одним словом, Рэли нашел эти сокровища и сумел переправить их в иное место, составил карту и погиб. Как вы правильно заметили, ему отрубили голову. Возможно, король что-то заподозрил. Ведь Рэли тоже не хотел ни с кем делиться. – И эта карта у вас?! – пораженно спросил Уильям. – А чему вы удивляетесь? – Но откуда? Как вам удалось ее добыть? – Откровенно говоря, мне не пришлось прикладывать для этого никаких усилий. Я случайно обнаружил эту карту в бумагах покойного капитана Уолтера. – Но где вы взяли эти бумаги, Кроуфорд? – Так ли это важно, Уильям? Главное – карта у нас. И давайте договоримся, что вы будете все-таки называть меня Веселым Диком, хотя и это имя таит в себе нынче большую опасность. Черный Билл уже на Тортуге, и встреча с ним для нас крайне нежелательна. – Черный Билл на Тортуге?! Вы это точно знаете? А ему про нас известно? Кроуфорд погладил собаку по мохнатой спинке, и на его тонких губах заиграла усмешка. – Думаю, на таком убогом клочке суши нелегко сохранить свое появление в тайне, – сказал он. – Тем более здесь пришвартована «Голова Медузы». – Что же нам делать?! – Уильям с досады даже стукнул кулаком по столу. – Едва выпутались из одной передряги, и тут же новая напасть! У Черного Билла втрое больше людей и сорок пушек на борту! – Не принимайте все близко к сердцу! Взгляните на это с другой стороны – вы же отправлялись сюда за приключениями: теперь их у вас более чем достаточно. Конечно, всегда есть опасность подцепить заряд свинца или удар клинка в спину, но ведь в этом и заключается, собственно, прелесть нашей беспокойной жизни! И все не так уж безнадежно, как представляется вам, Уильям. На Тортуге действует что-то вроде неписаного закона о временном перемирии – никто никого здесь не убивает. Конечно, это правило нарушается время от времени, но мы будет надеяться на лучшее. – Ничего себе! На лучшее! И как назло, при вас бесценная карта! Если Билл пронюхает о ней, то... – Откуда ему знать, – махнул рукой Кроуфорд. – Черный Билл, в сущности, примитивный тип. Он склонен к некоторой театральности, но ему не хватает фантазии. Меня он будет искать, но вовсе не из-за карты, а из первобытного чувства мести. Это не значит, что нам можно ни о чем не беспокоиться. Но, в конце концов, меня есть кому проводить в страну мертвых, – он опять усмехнулся и ласково потрепал собачку, которая в ответ на ласку чрезвычайно оживилась и полезла ему на грудь, норовя лизнуть в лицо. Уильям чуть не сплюнул, глядя на такое. – Вам тоже стоило бы раздобыть это чудесное животное... Тогда бы вы могли совершенно не беспокоиться о своей судьбе на том свете. – Нет уж, благодарю! Я пока и на этом себя совсем неплохо чувствую. – Рад слышать, что вы исцелились. – Кроуфорд, смеясь, продолжал забавляться со своей псиной. – Потому что еще пять минут назад вас снедала ипохондрия и жизнь была вам не в радость. Но раз известие о Черном Пасторе вернуло вам вкус к жизни, давайте сменим тему нашей беседы. Мой приятель Билли сам нас найдет, если захочет, так что не будем забивать себе этим головы. Лучше вернемся к нашей карте. Как вы думаете, почему я до сих пор не завладел сокровищами? – Заранее сдаюсь. Злые духи, которые их охраняют, помешали вам это сделать? – Вы зря смеетесь, Уильям! – заметил Кроуфорд. – Общаясь со мной, вы уже имели возможность убедиться, что они существуют. Но здесь причина другая. Я даже еще не приближался к этим сокровищам. Мне все время что-то мешало. Сначала я просто не придавал этой карте никакого значения. Мало ли что можно найти в пыльной связке семейных бумаг... Однако потом я услышал об этой карте из уст одного уважаемого джентльмена, а потом и другого... Впрочем, не стану вдаваться в подробности, они вам неинтересны. Я взглянул на выцветшие письмена другими глазами. Я помыслил, что все это может оказаться правдой и тогда я на самом деле самый богатый человек в мире. Эта мысль согревала мне душу лучше глотка ямайского рома. Не думайте, что все это время я сидел сложа руки. Но очень быстро выяснилось, что нарисованная карта и настоящий остров – это разные вещи. Во-первых, Эспаньола была очень далеко от Англии, где я на тот момент находился. Во-вторых, что я мог сделать один? В-третьих, с кем я должен был поделиться этой тайной, как вы полагаете? В конце концов я нашел такого человека... – глаза его на миг затуманились, но потом блеснули холодным огнем. – Этот человек посчитал мои мысли воспаленной фантазией закоренелого неудачника. Я решил доказать, что это не так. Я нашел способ... Не буду рассказывать вам и об этом тоже – это уже неважно. Я был несколько раз в Новом Свете, обосновался на Барбадосе, карта была спрятана там, и весьма надежно – вы видели. Я несколько раз брался за поиски. Но все мои попытки были тщетны, словно чья-то сверхъестественная воля противостояла моей. Тогда на Карибах было очень неспокойно, все воевали против всех. Вскоре произошло еще одно роковое событие... Впрочем, неважно! На секунду Кроуфорд призадумался, но вскоре как ни в чем не бывало продолжил: – Одним словом, что было, то прошло. Будем смотреть только вперед, иначе, подобно жене Лота *["220], навечно останемся в аду. Дорогой Уильям, что, если, я предложу вам отправиться со мной на поиски сокровищ? – Мне? – изумился Уильям. – Но... Впрочем, я согласен. Нет, в самом деле я согласен. Не хочу показаться алчным, но ведь мне будет причитаться какая-то их часть? Если у меня будут средства, я сумею доказать свою невиновность, не так ли? В конце концов, я смогу внести в казну необходимую сумму взамен утраченного груза с «Головы Медузы»... – Да вы, оказывается, деловой человек! – развеселившись, заметил Кроуфорд. – Разумеется, если мы добудем клад, то на некоторую долю вы определенно сможете претендовать. И на не самую маленькую! Только хочу вас предупредить – до сокровищ мы доберемся еще очень не скоро. А может быть, и никогда. Вы готовы к такому исходу? – Я готов. Вы возьмете всю вашу команду? – Никогда в жизни, – решительно заявил Кроуфорд. – Изо всех, кто находится сейчас на борту «Головы Медузы», я доверяю в какой-то степени только Потрошителю и Джону Ивлину. Сомневаюсь, однако, что он испытывает ко мне хотя бы десятую долю такого доверия. Но в случае, если он ощущает те же неудобства от своего нынешнего положения, что и вы, Уильям, я, пожалуй, готов воспользоваться его услугами. Я оставлю его на судне, который мы наймем. – Есть еще Роберт Амбулен, – вспомнил Уильям. – Он смелый человек и хороший товарищ, хотя и француз. Мы подружились с ним на Мартинике. – Ну что ж, раз вы его так полюбили... – Кроуфорд спустил сопящую собачонку на землю, и та немедленно задрала лапку у ножки стола. – Хотя его характер гораздо сложнее выражения его лица, что весьма подозрительно... Для такого дельца четверо дворян будет в самый раз. Возьмем еще с десяток тех пиратов, которых я знаю, Потрошителя да пяток негров, чтобы нести поклажу. На Эспаньоле нам потребуется проводник, и в этой роли отлично выступит На-Чан-Чель. – А как мы вынесем их из леса, или где там они запрятаны? – Прежде чем их выносить, не мешало бы убедиться, что сокровища действительно существуют. Не думайте, что это будет просто, Уильям. До сих пор, как видите, у меня это не получалось. – Я не думаю, что это будет просто, – сказал Уильям. – Но как мы поступим, если мы найдем сокровища? – Мы поступим как разумные люди, – ответил Кроуфорд. – Большего я вам пока сказать не могу. – Хорошо, я вам верю и готов идти с вами до конца. У меня к вам еще только два вопроса. Когда мы начинаем и что будет с «Головой Медузы»? – С кораблем управится Фил Поллок, наш однорукий боцман, – сказал Кроуфорд. – Надеюсь, что через полгода обо мне забудут. А сейчас мы с вами, Уильям, должны будем купить себе небольшое судно, которое может плавать вдоль берега, да пару рабов, чтобы нести поклажу. Боюсь, это будет непросто сделать, потому что сильных и здоровых негров наверняка разобрали плантаторы, а всякий дохлый сброд, что шатается в порту, нам не нужен. Ну, да подыщем что-нибудь на месте. Давай только поднимемся наверх, чтобы пристроить псину до нашего возвращения. Они допили ром и по шаткой, скрипящей под их тяжестью лестнице поднялись на второй этаж постоялого двора. Вдвоем они занимали самую лучшую угловую комнату с узким окном, забранным рассохшимся ставнем, через которое нельзя было пролезть и ребенку. Застеленные грубыми одеялами сплетенные из прутьев кровати да огромный деревянный сундук составляли всю обстановку этого номера. Кроуфорд с почтением усадил на одну из коек свою собачонку и, сняв шляпу, поклонился ей. – Жди меня, мой маленький Харон! Я вернусь к вечеру, лишь закончу приготовления. Но поутру я соберу своих людей и твою хозяйку, и мы покинем эту дыру... – Чтобы отправиться в следующую, – закончил за него Харт эту проникновенную речь. Но Кроуфорд уже не слышал его, он замер и настороженно к чему-то прислушивался. Уильям с беспокойством посмотрел на него и положил руку на эфес шпаги. Кроуфорд выпрямился, и на губах его промелькнула кривая улыбка. В следующую секунду дверь с оглушительным треском слетела с петель, и сразу несколько бородатых мужчин со свирепыми физиономиями ворвались в комнату. В руках у них сверкали стальные клинки, а на лицах была написана жажда крови. Кроуфорд, не раздумывая, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил. Комната наполнилась пороховым дымом. Уильям с металлическим шелестом вытянул шпагу из ножен и бросился в бой. Кроуфорд присоединился к нему. Один из нападающих сразу же упал, сраженный пулей в голову. Другой, коротышка, в чрезмерном азарте кинулся на Уильяма и чуть ли не сам, как каплун на вертел, нанизал свое тощее тельце на его шпагу. Уильям выдернул клинок, издал победный клич и бросился на следующего, высокого горбоносого мужчину с рожей прирожденного убийцы и абордажной саблей в руке. Они скрестили клинки. Рядом тоже звенела сталь – это дрался Кроуфорд. Негодующим визгом и хрюканьем заходился за их спинами Харон – похоже, перспектива досрочных проводов патрона на поля, поросшие асфоделем, его вовсе не прельщала. Кроуфорд и Харт сражались плечом к плечу, понимая, что скорее всего, они обречены. Размышлять было некогда, но одна предательская мысль в голове Уильяма все-таки промелькнула: он подумал о том, как несправедливо будет сложить голову в этой грязной дыре, так и не испытав блаженства, которое могла подарить ему любовь несравненной Элейны. Это было действительно обидно. Он, дворянин и образованный человек, дрался с какими-то скотами на позабытом Богом острове размером с лондонский квартал. О, насколько бы ему было утешительнее, если бы более героическая смерть настигла его среди зеленых холмов далекой родины! Тортуга Уильяму решительно не нравилась. Она не нравилась ему с первого взгляда – это было место, где даже воздух был напоен преступлениями. Казалось, что здесь нашли себе пристанище человеческие отбросы со всего Старого и Нового Света: пираты, похвалявшиеся зверскими убийствами и грабежами, охотники-буканьеры, от которых за версту воняло трупами и прогорклым жиром, рабы, в чьих глазах горела ненависть к поработителям, работники с плантаций, безжалостно угнетаемые хозяевами и сами жаждущие угнетать, владельцы этих самых плантаций, еще более жестокие и кровожадные, чем другие обитатели острова, – все это отребье, обожженное солнцем, отвратительно или безвкусно одетое, снедаемое ненавистью и алчностью, жило в постоянном страхе, точно находилось на мушке у самого Провидения. По правде сказать, Уильям и сам здесь начал ощущать нечто подобное. Остров Черепахи из маленького Эдема был превращен людьми в осаждаемую крепость: и крутые скалы у побережья, и густые леса, и мощные укрепления форта, и крепкие заборы вокруг жилищ – все свидетельствовало о постоянной готовности жителей острова защищаться и нападать. Через этот клочок суши прокатилось столько войн, что, наверное, каждый фут здешней земли был пропитан кровью. Здесь свирепствовали испанцы и французы, англичане и голландцы, беглые рабы и безродные пираты. Здесь продавали людей в рабство, здесь питались человеческим мясом, здесь вербовали команды для разбойничьих набегов, сюда корабли под «Веселым Роджером» приходили латать пробоины и кренговать днища. Здесь шла бесконечная бессмысленная война каждого со всеми, и жизнь в этом наделе Фортуны была совсем иной, чем в метрополии. Уильям очень скоро понял, что тот, кто зевает на Тортуге, запросто может быть продан в рабство или убит. Люди гибли и пропадали здесь так часто, что это воспринималось как обыденность – такая же, как солнце, ветер или соленая вода. Быть проданным в рабство или ограбленным, имея рядом такого друга, как Веселый Дик, Уильям, конечно, не боялся, но все равно держался настороже. О, и эта предосторожность оказалась тщетной. Кто-то застал врасплох и напал на них, несмотря на все неписаные законы Тортути, требующие от всех занимающихся пиратским промыслом разрешать конфликты за пределами острова. Но, кажется, нападавших не слишком волновали законы. Они жаждали крови Харта и его приятеля. Уильям дрался отчаянно, как загнанный в ловушку зверь. Теснимые Хартом и Кроуфордом пираты не могли ворваться в узкую дверь все одновременно, поэтому им приходилось по одному проникать в комнату, где их в пороховом дыму ждали друзья. Харт уже начал теснить своего противника к дверям прямо на обнаженные сабли его товарищей, но в этот момент кто-то оглушительно свистнул, и головорезы как по команде ринулись вниз по узкой лестнице. Уильям не успел даже удивиться, как в распахнутую дверь влетел брандскугель *["221]с пылающим фитилем. Он тяжело ударился о дощатый пол и покатился Кроуфорду под ноги. Ядро катилось к Веселому Дику, фитиль сыпал искрами, источая вонючий дым, а за дверью грохотали башмаки бегущих вниз по ступеням людей. К собственному удивлению, Уильям вдруг грязно выругался, одним прыжком подскочил к Кроуфорду, подхватил плюющееся дымом ядро и легко, словно мяч, вышвырнул его в единственное окошко под потолком. И почти сразу же на улице грохнул взрыв. Стены постоялого двора содрогнулись, и с них посыпалась известка. Поднятая взрывом пыль, смешанная с дымом, проникла в комнату и заволокла все вокруг. Уильям оглох и ослеп. А когда он опять обрел способность слышать и видеть, в комнате было полно головорезов и со всех сторон на него были наставлены стволы мушкетов и острия клинков. – Подлые клятвоотступники и лицемерные фарисеи! – загремел рядом чей-то оглушительный голос, наполняя собой всю комнату, и нехорошо от него делалось в той же мере, как и от порохового дыма. – Наконец-то достойная кара настигла вас и десница Господня обрушила на вас всю силу своего гнева! Готовьтесь, ибо преисподняя вот-вот разверзнет для вас свое смрадное чрево... Уильям, пытаясь проморгаться, оглянулся на вопли и узрел совершенно невероятную персону – обезьяноподобного верзилу с безумно горящими глазами и с оскаленной в ухмылке пастью, в которой торчали редкие пеньки зубов. Подробнее его физиономию рассмотреть не было никакой возможности, потому что она до самых глаз заросла черной как деготь бородой. Он яростно потрясал еще дымящимся пистолетом и абордажной саблей. Уильяму стало совершенно ясно, что они попали в лапы самого Черного Пастора и спасти их теперь может только вмешательство самого Провидения. Черный Билл жаждет расправы над мятежным квартирмейстером, ну а Уильям пойдет на закуску. Что ж, друзьям оставалось только одно – с честью погибнуть в неравном бою. Харт, собрав все свое мужество, уже приготовился к последней схватке, как заметил, что его товарищ спокойно стоит, окруженный взбешенными пиратами, и даже не пытается сопротивляться. После недолгого раздумья Уильям тоже опустил шпагу и на шаг отступил к сэру Фрэнсису. Кроуфорд едва заметно кивнул ему головой. – Какой приятный сюрприз, Билли! Ты, как всегда, красноречив и убедителен! – обратился он к предводителю шайки. – Только позволь обратить твое драгоценное внимание на то, что мой товарищ вообще не заслуживает твоего гнева. – Не я гневаюсь – Небеса! – с пафосом ответствовал бородатый. – Небеса на него тоже не в обиде, – возразил Кроуфорд. – Он не успел совершить и сотой доли тех шалостей, что отягчают наши с тобой души, Билли! Поэтому отпусти его, и поговорим с тобой как мужчины, потом, если ты, конечно, этого хочешь. – Я хочу одного: покарать большого греховодника и предать его заслуженным мукам! – злорадно объявил Черный Билл. – Сейчас возмездие обрушится на ваши главы. Я вижу скудельные *["222]сосуды греха, которые будут клевать стервятники... – Ты имеешь в виду наши тела? – уточнил Кроуфорд. – Я так и помыслил, но решил на всякий случай проверить, а то тебя иногда трудно понять. Значит, ты все-таки намерен отправить нас к прародителям? – С огромным удовольствием, – искренне ответил бородач и захохотал. – В тот раз у меня вышла осечка, и я потерял из-за тебя аппетит, Веселый Дик! Когда я вздерну тебя на грот-рее «Медузы», которую ты увел из-под самого моего носа, я смогу с чистой совестью радоваться жизни! – И ради этого ты готов нарушить законы Берегового Братства? Ты прольешь здесь пиратскую кровь? Ты не боишься гнева наших товарищей по оружию? – Ни черта я не боюсь, Веселый Дик, и ты это знаешь! – презрительно воскликнул Черный Билл и смачно сплюнул под ноги Кроуфорду пережеванным табаком. – Ну а то, что по обычаям ты не имеешь права убивать меня во второй раз, – это ты тоже не берешь в расчет? – поинтересовался Кроуфорд. – Я не Господь Бог! – загремел Черный Билл. – Я лишь смиренный слуга Его! И безо всякой гордыни готов смиренно исправлять свои ошибки. Не надейся, жалкий пес, я буду убивать тебя столько раз, сколько понадобится! И хватит вилять! Умри как мужчина! Пираты, обступившие своего предводителя, одобрительно загудели. – А вы тоже здесь, джентльмены! Садитесь, не стесняйтесь. Вы вовсе не обязаны стоять передо мной навытяжку... Значит, все-таки смерть? – задумчиво повторил Кроуфорд. – Жаль! Так все неудачно сложилось, что даже и сказать нельзя! – Чем ты опять недоволен, нечестивец? Единственная неудача, которая должна по-настоящему взволновать тебя, – это то, что ты отправишься прямиком в ад без последнего напутствия и Святых Даров! К сожалению, никого из служителей церкви здесь, кроме меня, нет, но я готов принять твою исповедь, исчадье порока! – Ты меня не понял, Билли! – с чрезвычайно серьезным видом сказал Кроуфорд. – Я как раз собирался заняться поисками испанских сокровищ. Речь идет о несметных богатствах. Я давно точу на них зубы. Но только недавно я нашел, что искал, – карту! Карту с точными координатами. Я выменял ее у одного спившегося кабальеро в кабаке на Санта-Крусе. Он оказался прямым потомком самого Кортеса. Но не думай, что это была случайность, – я разыскивал ее много лет... – Ты нашел испанские сокровища? – недоверчиво проговорил Черный Билл, опуская саблю и сверля глазами бывшего квартирмейстера. – Ты их действительно нашел? Тем самые, которые искали Дрейк и Рэли? – Пока я ничего не нашел. И по твоей милости уже никогда не найду. Но я достал карту. Послушай, если ты раздумаешь меня убивать, я могу взять тебя в долю. Золота там на всех хватит. Не только Черный Билл, но и вся его пестрая банда в один миг превратилась в слух, завороженные волшебным словом «золото». Старые счеты, как и павшие товарищи, умирающие у их ног, были забыты. Открыв рот, все жадно внимали Веселому Дику, который с такой легкостью произнес эти чарующие звуки, от которых теплело на душе, а в жизни появлялась цель. Команда Черного Билла давно уже не видела настоящего золота, и заклятье успело вовремя. Первым от наваждения опомнился Черный Билл. – Говоришь, на всех хватит? – ухмыляясь, спросил он. – А мне сдается, такого не бывает, чтобы золота на всех хватало. Я много шлялся по морям, бывал в разных краях, но ни разу не видел, чтобы золото доставалось даром и каждый мог подбирать его сколько захочется. Поэтому вот как мы рассудим, проклятый ты грешник! Если ты про карту не соврал, то так и быть, получишь главный приз *["223]– жизнь. Понял теперь, как я щедр? И никаких сделок! Как я сказал, так и будет. – Это несправедливо, Билл, – невозмутимо возразил Кроуфорд. – Каждый имеет право на свою долю – это тоже кодекс береговых братьев. А к этим сокровищам ты вообще не имел никакого отношения. – Теперь имею, – сказал Черный Билл. – И перестань забивать мне уши этим крысиным пометом. Я взял тебя на абордаж, и я ставлю условия. Или ты отдаешь мне свою карту и отваливаешь от борта, или будешь плясать тарантеллу на рее. Нет, я даже не стану отводить тебя на корабль: здесь поблизости полно укромных местечек, где можно без труда найти крепкий сук для такого сукина сына, как ты! – и он захохотал, чрезвычайно довольный своей остротой. Захохотали и другие пираты, которые всей душой были сейчас на стороне своего капитана и уже видели себя пайщиками экспедиции за сокровищами. Уильям изо всех сил стиснул челюсти, стараясь побороть сотрясающую его дрожь. Костяшки его пальцев, сжимающих эфес, побелели. Он посмотрел на Кроуфорда, пытаясь угадать его истинные намерения. В душной, провонявшей порохом комнате повисла зловещая тишина. Напряжение двух противоборствующих сторон достигло предела, и было достаточно малейшего неосторожного жеста, чтобы краткое перемирие лопнуло как струна, превратившись в кровавую бойню. Трудно было сказать, умилостивит ли банду столь лакомый кусок, как карта; но было совершенно ясно, что если они не получат ее немедленно – и Кроуфорд и Уильям будут разорваны на куски. Уильям посмотрел на торжествующую гримасу Пастора и перевел взгляд на Кроуфорда, который сейчас выглядел как человек, жестоко сожалеющий о том, что проболтался. Он поддался слабости и должен был теперь расплачиваться за свое малодушие. Наверное, можно было как-то поумнее распорядиться картой, но у Кроуфорда опять ничего не получилось, и на лице его без труда читалась ни с чем не сравнимая досада, смешанная с отчаянием. – Когда я окажусь на суку, ты сможешь попрощаться с сокровищами навсегда, – хрипло сказал он Черному Биллу. Но тот тоже был парень не промах. – Ты меня знаешь, Веселый Дик, – сказал он в ответ. – Я люблю золотишко, но не оно главное в моей жизни. Если даже мне не видать карты, то уж на твои вяленые на солнышке мощи я налюбуюсь досыта! Пираты опять захохотали. Уильям почти физически ощутил, как натянулась готовая порваться струна. Кроуфорд медленно обвел взглядом жестокие физиономии с разинутыми от алчности ртами и невидящими глазами убийц, вздохнул и сказал: – Ну, будь по-твоему, Билл! Иногда мне тоже начинает казаться, что не золото главное в жизни. Я, пожалуй, отдам тебе карту. Но мы пойдем за ней вдвоем... – Ты будешь без оружия! – быстро сказал Билл. – Ты тоже, – ответил Кроуфорд. – И еще вы отпустите этого юношу. Немедленно. – Ишь, хитрец! – покачал головой Черный Билл. – Сделаем не так. Этот цыпленок побудет здесь до нашего возвращения. Если мы вернемся с картой, уйдете оба целыми и невредимыми. Ты знаешь, что я слов на ветер не бросаю. Несколько мгновений они, как два бешеных быка перед броском, сверлили друг друга глазами. Потом Кроуфорд снял через голову перевязь и положил шпагу на кровать. – Уильям, – сказал он спокойно, и в уголке его прищуренного глаза мелькнула улыбка. – Мы обязательно вернемся. А ты пока постереги моего Харона. Ему сегодня и так пришлось несладко. Соглашаясь с хозяинам, собачонка завыла.Гава 13 Надел удачи
Карибское море. Тортуга
На следующий день после того, как «Черная стрела» бросила якорь в гавани, наемный экипаж доставил мадам Ванбъерскен и месье Франсуа де Ришери к губернаторской резиденции. Помощник губернатора Тортути с большим пиететом *["224]отнесся к появлению на острове капитана военного фрегата шевалье Ришери. Лукреция категорически не пожелала, чтобы Абрабанель сопровождал их, да и сам он не ипытывал особого желания встречаться с настроенным против голландской Вест-Индской компании сановником. Вместо этого он тут же отправился выяснять, не хотят ли плантаторы тайком вступить в сделку с голландцами и насолить таким образом своему командору. Дело в том, что нынешний губернатор продолжал неблагодарную экономическую политику своего предшественника и ради поощрения торговли с Францией запрещал торговать с чужестранными негоциантами на местах. Тем самым он поставил большинство плантаторов в унизительную зависимость от прихотей французских капитанов, в первую очередь заботящихся о личной выгоде и об интересах своих друзей. – Прошу прощения, господин капитан, но... Все дело в том, что после завтрака губернатор для укрепления здоровья совергпает непродолжительный моцион *["225]в саду и не терпит, когда его беспокоят, – пояснил он срывающимся от волнения голосом. – Никаких моционов, – тоном, не терпящим возражений, заявил шевалье и показал секретарю запечатанный знаменитым красным сургучом бумажный пакет. – Здесь предписания его светлости Кольбера, морского министра Франции. Я должен вручить их лично без всяких отлагательств. Секретарь еще раз оглядел капитана и сопровождающую его красивую даму и поклонился. – О, конечно... Тогда я осмелюсь... Господа, покорнейше прошу подождать, пока я разыщу господина губернатора и приведу его... Я не заставлю вас долго ждать... – Можете не утруждать себя, – произнесла дама с улыбкой. – В саду это даже мило. Проводите нас с капитаном прямо туда – мы поговорим с губернатором под сенью пальм. Секретарь не посмел ослушаться. Втроем они направились в сад, разбитый позади губернаторского дома. Оглядываясь на ходу, Лукреция посчитала, что жилище господина де Пуанси – настоящий оазис среди уродливых построек порта и окружающих его жалких трущоб. Обетованная земля флибустьеров не пришлась ей по душе, тем более что пока она не заметила на ней никаких следов Веселого Дика.Итак, сей Terra Incognita *["226]Карибского моря правил некий шевалье с испорченным зрением, преемник и, по слухам, родственник прежнего губернатора д'Ожерона, месье де Пуанси. Этот толстый, рано полысевший господин самой Натурой был предназначен для благодушного распределения налогов на прибыль, каперских патентов и вечной лести, поскольку обладал удивительно остро развитой способностью разбираться в слабостях менее одаренных натур. В силу сложившихся обстоятельств у него не сохранилось ничего похожего на совесть, и он имел лишь одно твердое убеждение – глубоко укоренившуюся в его сердце ненависть к Голландии. Он держался пиратского кодекса чести, довольно весело проводил время и больше всего на свете боялся нарушить шаткое status quo *["227]. Лукреция и капитан застали господина де Пуанси под лимонным деревом, вокруг которого, опираясь на трость с набалдашником в виде вороньего клюва, он и прохаживался в глубокой задумчивости, то ли внимая пению тропических птиц, то ли изучая цветочный ковер под ногами. На самом деле губернатор размышлял о том, что неподалеку, в бухте Ла Монтань, был замечен корабль Черного Билла «Месть». Это обстоятельство не могло не расстроить его сиятельство. Разумеется, губернатор давно уже воспринимал как данность, что на его земле собиралось самое своеобразное общество, какое только можно себе представить. Он даже получал немалую от того выгоду. Ни один пират не мог обойти уплату особой портовой пошлины, учрежденной еще господином д'Ожероном, не рискуя лишиться стоянки и расположения губернатора. Не нарушал заведенного порядка и сам Черный Билл, но это было единственной уступкой заведенным порядкам с его стороны. В остальном он был совершенно непредсказуем, и его появление на острове почти всегда кончалось драками, поджогами и поножовщиной. Из-за этого Черного Билла не любили даже среди пиратского братства. Уже накануне соглядатаи доложили де Пуанси о том, что Черный Билл на Тортуге и кого-то усиленно ищет. Его люди подобно муравьям рассыпались по всем окрестным селениям, по всем постоялым дворам, по всем бухтам и гаваням. Такая активность могла означать только одно – Черный Билл собрался сводить счеты с кем-то не угодившим ему. Губернатор де Пуанси даже знал, с кем намерен поквитаться Билли. История о ссоре между Черным Биллом и его квартирмейстером, поднявшим мятеж на судне и покусившимся на место капитана, была известна по всему Карибскому морю. Что в этой истории было правдой, а что выдумкой, де Пуанси мало интересовало. В сущности, он ничего не имел против того, чтобы два этих негодяя отправились в адские вертепы, но массовая стычка могла нарушить хрупкое перемирие и привести Бог знает к каким последствиям. Губернатор также был осведомлен, что еще раньше Черного Билла на Тортугу прибыл его кровный враг – прибыл на потрепанном флейте и, уединившись в безлюдной бухте, принялся за его ремонт. Каковы были планы Веселого Дика на будущее, де Пуанси не представлял, но считал, что шансов избежать дуэли с Пастором у бывшего квартирмейстера практически не имеется. Пушки Черного Билла могли разнести лежащее на боку беспомощное судно в щепки, да и команда у Пастора была гораздо опаснее и многочисленнее, чем у Веселого Дика. В одном они были схожи – у обоих мозги набекрень, и как только эта парочка схлестнется между собой, неприятностей не оберешься. Губернатор уже подумывал о том, не подослать ли ему к Веселому Дику каких-нибудь головорезов, чтобы разрубить этот гордиев узел к общей пользе. Или, думал губернатор, может быть, заманить его под каким-нибудь предлогом в тихое место, да и приказать солдатам упрятать его в тюрьму до тех пор, пока Черный Билл не отвалит от острова. Оба плана де Пуанси не нравились по разным причинам,и он продолжал ломать голову над тем, как же ему поступить, как вдруг перед ним на дорожке возникла женщина ослепительной красоты, которую сопровождали морской офицер и его собственный секретарь, выглядевший необычайно взволнованно. Испустив глубокий вздох, губернатор нацепил на лицо благожелательную улыбку и двинулся навстречу гостям. – Шевалье Франсуа Ришери, капитан флота Его Величества короля Франции, прибыл сюда по поручению морского министра господина Кольбера с письмом для вас. Приказано вручить лично. Вы обязаны ознакомиться с бумагами при мне и вернуть их обратно. Шевалье вручил бумаги изумленному губернатору. Но на этом сюрпризы не кончились. Бумаги содержали настоятельную просьбу министра оказывать всяческое содействие доставившему бумаги шевалье Ришери и мадам Аделаиде Ванбъерскен, которую тот имеет честь сопровождать, при этом оказывать им ту помощь, которую они могут потребовать. Полномочия у капитана были самые широкие. Так что было от чего пойти кругом бедной губернаторской голове. Но еще более поразился и даже растерялся де Пуанси, когда протеже всемогущего министра заявила, что она жаждет получить ответ на единственный вопрос: присутствует ли на Тортуте известный пират по кличке Веселый Дик. – Вы, вероятно, обладаете даром прорицательницы, сударыня! – потрясенно развел руками де Пуанси. – Дело в том, что я уже две ночи не сплю, размышляя, как мне поступить с этим сумасшедшим капером. Не подумайте, что я выражаю неудовольствие каперством как политической мерой воздействия на экономику соперничающих с Францией государств, просто колониальные порядки столь своеобразны... – Месье де Пуанси, – отнюдь не с ласковыми интонациями голоса перебила его Лукреция. – О местных порядках я осведомлена не понаслышке. И что за персона этот Веселый Дик, я тоже очень хорошо представляю. Меня всего лишь интересует, где он. Если я верно поняла вас, он сейчас находится на Тортуге? Вряд ли бы вы плохо спали, если бы он качался на волнах за сотню миль отсюда? – Вы совершенно правы, – признался губернатор. – Он прибыл сюда несколько дней назад и сразу взялся за ремонт. Ведет себя тихо, но кто знает, что за этим скрывается? Ходили слухи, что Веселый Дик грубо обошелся с мирным испанским галеоном, но я в эти слухи не верю... – губернатор проговорил это тоном праведника, закатив глаза к небу. Лукреция усмехнулась. – Мне нет никакого дела до вашего отношения к испанцам, – сказала она. – Я и сама их недолюбливаю. Поэтому все эти подробности можно опустить. Мне нужен Веселый Дик. Вы можете его арестовать и доставить сюда? Де Пуанси замялся. – Это очень тонкое дело, сударыня, – сказал он. – По правде говоря, мне не хотелось бы применять такую меру, как арест. Насколько мне известно, Веселый Дик в настоящий момент располагает патентом на каперство, который подписан королевским министром. – Я тоже направлен сюда министром, не забывайте об этом, господин губернатор! – вмешался Ришери. – Миссия, с которой я здесь нахожусь, имеет важнейшее государственное значение! – добавил Ришери, на деле весьма смутно себе эту миссию представляя. – Вы же не хотите, чтобы в этих водах повсюду хозяйничали голландцы? – с укором воскликнула Лукреция, подлив воды на губернаторскую мельницу. – Ни голландцы, ни прочие нации, сударыня, – убежденно заявил Де Пуанси. – Мои помыслы всегда были направлены на процветание Франции и Его Величества. Но мне бы хотелось объяснить вам особенности нашей здешней жизни. По негласному закону, любой капер может чувствовать себя на Тортуге в безопасности. Если мы нарушим этот закон, последствия могут быть самыми ужасными. Ведь те, кто заходит в эту гавань, привыкли рисковать жизнью – и своей и чужой. И у них здесь весьма своеобразные понятия о долге и чести. Мне не хотелось бы спровоцировать волнения среди моряков... – Я не прошу вас фрондировать и воздвигать баррикады по всему побережью, господин де Пуанси, – холодно заметила Лукреция. – Я прошу вас только доставить в мое распоряжение Веселого Дика. Неужели у вас нет способов сделать это тихо и незаметно? Никогда не поверю. Мне рекомендовали вас как весьма опытного и дипломатичного чиновника. Вы же не хотите, чтоб мнение о вас при дворе изменилось? – Гм, – озадаченно пробормотал де Пуанси. – Хочу вас заверить, сударыня, что меньше всего думаю сейчас о своей персоне, а гораздо больше пекусь о вашей безопасности. Впрочем, есть одна хитрость, которую можно использовать в отношении Веселого Дика. Я прикажу разыскать его и пригласить ко мне в дом под предлогом... м-м... неважно, предлог найдется!.. Затем мы тайно препроводим его на ваш корабль – вы отбудете и сможете задать Веселому Дику любые интересующие вас вопросы, не опасаясь бунта, который может возникнуть, если люди Дика что-то пронюхают. Эта опасность, разумеется, никуда не исчезнет, но вас она уже не коснется, поскольку вы будете далеко в море... – Вы нас не поняли, господин де Пуанси! – проговорил с нажимом Ришери. – В отношении Веселого Дика необходимо действовать жестко, быстро и без сантиментов. Именем короля я приказываю, – и Ришери взмахнул письмом перед опешившим губернатором. – И от себя хочу добавить, что внакладе вы не останетесь. Ваше усердие будет отмечено, господин де Пуанси! Губернатор покорно наклонил голову, увенчанную кудрявым париком. – Вашему натиску трудно противостоять! – галантно, но с некоторой грустью сказал он, глядя на Лукрецию. – Что ж, я повинуюсь королю и немедленно пошлю лейтенанта Бошана, чтобы он задержал Веселого Дика. Внезапно губернатор вспомнил о долге гостеприимства и подумал, что вежливость требует от него пригласить к себе незваных гостей. – О нас не беспокойтесь! – ответила на это Лукреция. – Занимайтесь своими делами, а мы с капитаном Ришери займемся своими. Когда Веселый Дик будет в ваших руках, сейчас же уведомите нас. – Мы остановились неподалеку, в доме под красной черепичной крышей и с финиковой пальмой во дворе, – сказал шевалье. Лукреция же впала в задумчивость, размышляя о том, что прием, оказанный им губернатором, вполне объясним. Скорее всего, де Пуанси был связан по рукам и ногам множеством обязательств, а возможно, и злоупотреблений. Требовать от него невозможного было глупо, но и отказаться от мысли добраться до Веселого Дика Лукреция не могла. Захватить главаря шайки мерзавцев хитростью было в силах де Пуанси, а большего от него и не требовалось. А когда Дик будет в ее руках, тогда и посмотрим, кто из них лучше умеет веселиться... Через четверть часа, когда лейтенант Бошан был отправлен на поиски Веселого Дика, а Лукреция и Ришери были готовы покинуть дом губернатора, прямо на них выскочил почтенный Абрабанель, за которым, жалобно крича, бежал растерянный секретарь. Не обращая внимания на окружающих, Меркатор подскочил вплотную к Лукреции и, подпрыгивая от нетерпения, прокричал ей прямо в лицо: – Они тут! Тут! Тут! Вы понимаете, о чем я? Еще мгновение, и я столкнулся бы с ним нос к носу! При этом господин Абрабанель не обращал никакого внимания ни на оправдывающегося секретаря, ни на изумленного де Пуанси, хотя так вертел головой по сторонам и размахивал руками, что Лукреции стало страшно, не оторвутся ли эти столь важные члены от крепенького туловища банкира. – Он зачем-то нацепил на глаз дурацкую повязку, но я все равно узнал его... хотя если за это время ему успели выбить глаз, тогда... Одним словом, он был тут, он прошел через всю площадь и стал подниматься вон по той улице. С ним был такой ужасный... Такой дьявольского вида... С чудовищной бородой и фитилями... Черной как смоль! Я послал за ними незаметно одного человека – Ван Леувена. Он должен проследить, куда они направляются... – О ком идет речь, сударыня? – с беспокойством спросил де Пуанси, внимательно оглядывая возбужденного Абрабанеля. – И кто этот человек? Он, кажется, голландец? Что происходит? – Разумеется, он голландец, – с досадой ответила Лукреция и тоже принялась озабоченно озираться. – А речь он ведет о том самом Веселом Дике, о котором мы с вами только что беседовали. Видите, ваши люди никак не решат, где искать Веселого Дика, а он тем временем бродит у вас под самым носом. – Но второй... С черной бородой, – неуверенно произнес де Пуанси. – Неужели это Черный Билл? Если это так, то я опасаюсь самого худшего. Они смертельные враги и не успокоятся, пока не перережут друг другу горло. Они были вдвоем? – Вдвоем, ваше сиятельство! – с готовностью ответил Абрабанель, который начал наконец понимать, с кем имеет дело, и в силу этого несколько остепенился. – С ними больше никого не было, в этом я могу поклясться на Библии! – Зачем же на Библии? – удивился губернатор. – Я вам верю. Я сейчас же отправлю в ту сторону солдат. – Погодите, не нужно солдат, – сделал протестующий жест рукой капитан Ришери. – Вся эта суета ни к чему. Вы сказали, что отправили по следам этого одноглазого своего человека, месье Абрабанель? – Совершенно верно, это Ван Леувен, – подтвердил Абрабанель. – Он ловкий молодой человек и умеет, хвала Всевышнему, обращаться с оружием. – В таком случае я сейчас же догоню его, и мы решим с ним, что делать. Сударыня, доверьтесь мне! – сказал Ришери. – Веселый Дик никуда от меня не денется. – Деваться ему и вправду некуда, – заметил де Пуанси. – Вокруг море, а «Медуза» стоит без мачт. Команда как раз латает паруса и обновляет такелаж. А вот устроить резню он может очень даже легко. Будьте осторожны, капитан! – Я всю жизнь осторожен, – ответил Ришери и выразительным жестом положил руку на эфес шпаги. – Но и те, кто переходит мне дорогу, должны почаще оглядываться! – Хорошо сказано! – одобрительно воскликнул де Пуанси. – Узнаю истинно французскую доблесть! Лукреция при этих словах слегка поморщилась, но, поскольку она в этот момент отвернулась, этой гримаски никто из мужчин заметить не успел. – Правильно, Ришери! – сказала она. – Я тоже считаю, что нужно идти за ними. Но с одним условием – я тоже последую за вами в экипаже. На всякий случай передайте мне ваш пистолет! Ришери посмотрел на нее с восхищением, но расставаться с пистолетом не спешил. Тогда Лукреция сердитым жестом вытянула вперед руку. – Дайте, я сказала! Ришери вытянул из-за шелкового кушака пистолет и, зарядив его, нехотя передал Лукреции. – На такое способна только истинная француженка, в жилах которой течет кровь Жанны д'Арк! – взволнованно заявил де Пуанси, наблюдая за перепалкой гостей. – Я восхищаюсь вами! – Да уж, – заметила Лукреция и сморщила носик. – Но суть не в этом. Уверенности в том, что мы догоним Веселого Дика, у меня нет, поэтому со своей стороны также продолжайте поиски. Мы вас еще навестим. Она кивнула Ришери, и вдвоем с капитаном они быстро покинули дом губернатора. Де Пуанси проводил их долгим взглядом, а потом вдруг уставился в упор на Абрабанеля. Тот поежился, потер руки и заискивающе улыбнулся. – Меня зовут Давид Малатеста Абрабанель, с вашего позволения, – представился он. – Я скромный негоциант. В настоящий момент совершаю морскую прогулку в обществе нескольких старинных товарищей, юной дочери Элейны и несравненной красавицы Аделаиды Ванбъерскен. – И какое вы имеете к, ней отношение? – О, мадам Аделаида – безутешная вдова друга моей юности, – быстро соврал Абрабанель. – Он тоже был купцом и... – Где нахожусь я, – жестко произнес де Пуанси, – там нет места голландским купцам. Я не против морских прогулок, но пока вы на Тортуге, забудьте про коммерцию, иначе... – Ваше сиятельство может не беспокоиться, – поспешил заверить его Абрабанель. – Моя миссия скромна и благородна – поддержать дух безутешной вдовы... – Судя по тому, как держится эта безутешная вдова, ваша миссия вполне удалась, – заметил де Пуанси. – А теперь прошу меня извинить – мне нужно отдать еще кое-какие распоряжения, посему я вас оставляю. – Он меня оставляет! – горько пробормотал Абрабанель, глядя, как губернатор скрывается за деревьями. – Распоряжения! Хорошо ему быть губернатором и отдавать распоряжения! А что делать, когда на руках взрослая дочь, толпа сумасшедших голландцев и безутешная вдова друга юности, которого ты и в глаза никогда не видел? А помимо прочего ты еще должен блюсти интересы компании и всех тех достойных людей, которые тебя сюда послали. Однако же, пока мы не покинем этого дьявольского острова, надеяться не на что. Никогда еще ты не был в таком двусмысленном положении, Давид Малатеста Абрабанель! А все женщины, авантюристы и безответственные молодые люди! Избави нас от искушений, великий Б-же!.. Абрабанель по-монашески наклонил голову и засеменил в сторону уютного домика, где он уже успел снять весь второй этаж под жилье для себя и своих партнеров. Элейна занимала в нем две комнаты – спальню и небольшую гостиную. Перебравшись на новую квартиру, она закрылась в своих покоях и наотрез отказалась куда-либо выходить. Путешествие изрядно утомило ее, живописные оборванцы на улицах напугали, а какая-то тайная мысль гнала слезы на ее голубые глаза. Абрабанель вовремя заметил перемены в состоянии дочери и, несмотря на бесконечную череду забот, не забывал ободрить ее ласковым словом. Вот и теперь он первым делом поспешил к ней, даже не поговорив с Ван Дер Фельдом, который вышел ему навстречу. – Потом-потом! – отмахнулся Абрабанель. – В самом деле, дорогой друг, дела настолько плохи, что и говорить-то не о чем! Потом-потом, не обессудь! Постучавшись, он просунул в комнату голову и, с жалостью оглядев ее фигурку, поникшую у окна, сказал: – Радость моя, ты не должна поддаваться печали! В здешнем климате это очень вредно. Правда, этот остров не подходящее место для девицы из порядочной семьи, но, обещаю тебе, очень скоро мы отсюда уедем. А уважаемый Ван Дер Фельд ждет не дождется, когда сможет выразить тебе свои чувства... Элейна обратила к нему бледное лицо и сказала довольно твердо: – Отец, я вам много раз уже говорила, что чувства уважаемого Ван Дер Фельда меня не интересуют. Не собираетесь же вы сделать меня, вашу единственную дочь, несчастной на всю жизнь! Все мои мысли отданы сейчас совсем другому человеку, и мне казалось, что на Тортугу мы отправились, что бы узнать о его судьбе. Умоляю вас, скажите, что вы слышали об Уильяме Харте! После этой тирады лицо Абрабанеля вытянулось и приобрело скучное выражение. Он поджал губы и, отвернувшись в сторону, произнес с тем выражением, с каким обыкновенно говорят доктора с больными, которые, несмотря на потраченные на них время и лекарства, все еще не желают выздоравливать: – Милая девочка, все, что ты сейчас тут наговорила, – чистейший вздор! Какое мне дело до подлеца Харта? Я доверил ему огромный капитал, дал шанс отличиться и пойти в гору. Но он предпочел снюхаться с грязными пиратами... – Он не мог этого сделать! – вскричала Элейна, вскакивая и стискивая кулачки. – Уильям – честный юноша! Он не способен на подлость! И вы не должны забывать, что он не один был на том корабле. Раз так, то все, кто там был, по-вашему – предатели! – Так оно и есть, предатели, все как один, – пропыхтел себе под нос Абрабанель, но развивать эту тему не стал, а сказал опять ласковым тоном: – Не будем ссориться. Я потерял с тем кораблем огромные деньги, но я готов обо всем забыть, если этот Харт представит мне убедительные доказательства своей невиновности. Надеюсь, у него хватит духу это сделать, потому что до сих пор он только прячется от меня. Ты спрашиваешь, слышал ли я об этом молодом человеке? Ни словечка не слышал! И должен тебе признаться, прибыли мы сюда вовсе не из-за него, а из-за того бездельника, которого судьба послала нам на обломке мачты в бездонном океане... Ты помнишь, конечно, этого хлыща Кроуфорда? А, ну да, Аделаида выспрашивала тебя о нем... Кстати, зачем это тебе понадобилось выслеживать, где живет этот шаркун? Ну, ладно-ладно, не буду тебя мучить – у молодой девушки могут возникать странные причуды... Тем более что твое любопытство сослужило нам неплохую службу. М-да, одним словом, мы здесь из-за этого Кроуфорда. Если увидишь его, девочка моя, – прячься подальше и сиди тихо как мышь. Это страшный человек. В аду уже приготовили раскаленные щипцы – специально для него. А я еще доверился ему и предлагал вложить капитал в дело... Никакой он не светский человек, а тоже пират... Абрабанель не заметил некоторого противоречия, которое возникло в его характеристиках Кроуфорда, но, пожалуй, это было и неважно. Главное для него сейчас было – успокоить дочь. И самому заодно успокоиться, потому что мысли его постоянно возвращались к тому потрясшему его моменту, когда он едва не нос к носу столкнулся с двумя кровожадными пиратами, от одного взгляда на которых мороз пробирал по коже. Какое счастье, что этот Кроуфорд его не заметил! Был явно чем-то озабочен, хотя не скажешь, что между ним и бородатым существовало какое-то напряжение. Шли как два приятеля на прогулке. Абрабанель мог бы держать пари, что в эту минуту они нисколько не казались похожими на злейших врагов. Но раз они не были врагами, значит, затевали совместную каверзу – тут не может быть никаких сомнений. Сумеет ли Ван Леувен, по сути еще мальчишка, выследить этих двух головорезов? Размышления Абрабанеля прервал какой-то громкий шум внизу. Он услышал встревоженные голоса и заторопился. – Извини, моя дорогая, здесь у меня сплошные заботы... – сказал он дочери. – Мы еще вернемся к нашему разговору. И все-таки будь поласковее с моим другом Ван Дер Фельдом. Он очень богат, между прочим... Абрабанель ушел, покачивая головой. «Надо же! – думал он. – Моя дочь, моя кровь, свет очей моих, а говорит такой вздор, что слушать стыдно. Ее чувства отданы другому... А этот другой – сопляк и мерзавец. Впрочем, будем надеяться, что Г-сп-дь сам разрешит эту проблему. Я слышал, на этих островах долго не живут. Желтая лихорадка, пьянство, раны... И вообще, сейчас надо думать о том, как добраться до карты. Как только карта окажется в наших руках, можно будет заняться другими делами». Он сошел вниз последним. Оказалось, что все голландские друзья уже суетились во дворе вокруг бездыханного тела Ван Леувена. Молодой человек был убит кинжалом. Удар нанесла умелая рука – судя по всему, Ван Леувен умер мгновенно. Абрабанель побледнел, схватился за сердце и украдкой посмотрел по сторонам. На него никто не обращал внимания, кроме мрачной пары, стоявшей чуть поодаль, – Аделаиды и ее верного оруженосца, капитана Ришери. Пистолета в руках Аделаиды уже не было – он вернулся к своему хозяину. Ришери тоже не был похож на человека, разгоряченного схваткой. Абрабанель решил пока не обращать внимания на свое сердце, а сначала выяснить, что стряслось с молодым Ван Леувеном. Он подкатился поближе и зловещим шепотом обратился к женщине: – Боже, какая трагедия! Ведь он только что был жив! Я сам пожал его руку... Что случилось, скажите мне скорее! Это они? Ришери мрачно кивнул. – Никакого сомнения, – сказал он веско. – Ваш соглядатай даже пикнуть не успел. Не стоило посылать его по следам этих головорезов. – Ну, не самому же мне было за ними идти! – развел руками Абрабанель. – Ван Леувена, безусловно, жаль. Он был так молод! Однако получается, что Кроуфорда мы опять упустили?! Сударыня, он был у нас в руках! – Он у вас был в руках, – безжалостно сказала Лукреция. – Но вы, я вижу, предпочитаете действовать чужими руками... – Как и вы, между прочим, – вставил Абрабанель. – Но суть не в этом, сударыня, я никого не хотел упрекнуть. Мы опять упустили карту и к тому же заставили разбойника насторожиться. Что же теперь делать?! – Давайте отойдем немного, – сказала Лукреция. – Ваши товарищи, кажется, весьма огорчены случившимся. Боюсь, они могут потерять интерес к нашим поискам. Возможно, так будет даже лучше, но все же не будем раньше времени дразнить гусей. А вы послушайте внимательно, что случилось. Рассказывать она, однако, не стала, обернувшись вместо этого к Ришери. Тот посмотрел поверх головы Абрабанеля на залив, усеянный иглами корабельных мачт, и глуховатым голосом сказал: – Мы без труда нашли то место, куда направлялись эти двое мерзавцев. Они даже не озаботились тем, чтобы убрать тело. Несчастный юноша, которого вы послали следить за ними, оказался слишком неловок. Они избавились от него и вошли в один из домов. Когда мы оказались там, никого, кроме женщины-индианки, в доме не было. Это не слишком приятное существо, как ни удивительно, довольно бегло разговаривает по-английски. Она охотно рассказала нам, что двое мужчин действительно только что приходили к ней и один, патрон дома, у которого она состояла то ли в качестве служанки, то ли в качестве наложницы, передал другому какую-то старую географическую карту. Второй, носящий огромную черную бороду, долго обнюхивал карту, щупал ее, а потом захохотал и хлопнул первого по спине – похоже, он был очень доволен. Потом они вместе ушли. – И все?! – с ужасом спросил Абрабанель. – И что же все это значит? – Это значит, что Черный Билл тоже будет искать теперь сокровища, – сказала Лукреция. – Если мы не успеем опередить их и не отнимем карту. – Как же мы ее отнимем? – упавшим голосом спросил Абрабанель, невольно оборачиваясь на мертвое тело соотечественника. – Не можем же мы устраивать здесь войну! Нас потопят! – Совершенно верно. Но есть один способ. Губернатор, – сказала Лукреция. – Арестовать Черного Билла или Веселого Дика он в силах. Другое дело, что не очень он этого хочет. Нужны деньги. Хорошие премиальные – и все пойдет как по маслу. Деньги за вами, Абрабанель! – Почему за мной?! – банкир завопил так, что голландцы дружно обернулись в их сторону. – Почему это за мной? Это не разговор, господа! – Странно, а зачем вы мне нужны в таком случае? – пожала плечами Лукреция. – Будете упираться – «Черная стрела» уйдет отсюда без вас. – Вы не можете! – задохнулся Абрабанель. – Еще как можем, – спокойно подтвердил Ришери. – Я тоже никогда не любил голландцев. – Нанять корабль, чтобы выбраться отсюда, будет совсем не просто, Абрабанель! – заметила Лукреция. – Боюсь, что это обойдется вам втрое дороже, чем небольшое подношение губернатору. Абрабанель поперхнулся и задумался. Думал он целую минуту, злым взглядом обозревая лица Лукреции и Ришери. – Хорошо, я согласен. Я уже все понял. Ваши бредовые прожекты и ваше расточительство доведут меня до того, что мне придется, как нищему, просить милостыню у дверей нашей синагоги... – Только вы напишете мне расписку на всю сумму, сударыня! Я ссужаю вам деньги всего под пятнадцать процентов. Наши поиски – дело долгое. – Вы отлично знаете, Абрабанель, что ничего я подписывать не стану, – возразила Лукреция. – Да и что толку вам от моей подписи? Меня здесь все равно что и нет, и вы это тоже отлично знаете. Зачем же совершать поступки, в которых нет ни капли смысла? – В самом деле, – будто прозревая, сказал Абрабанель. – Какой с вас спрос? Беру свои слова обратно, сударыня. Но что же будет после того, как губернатор получит мои деньги? – Он арестует и Черного Билла и Веселого Дика. Он их арестует, а мы вытрясем из них карту. Ну а дальше нам уже ничто не сможет помешать. – Черный Билл на этом не успокоится, – негромко заметил Ришери. – Он побоится мстить де Пуанси, но за нами он обязательно пустится в погоню. Насколько мне известно, его вооружение и его команда сравнимы с нашими. Одолеть ему нас не удастся, но нанести ощутимый урон – вполне. Это было бы очень некстати, если мы собираемся заняться поисками сокровищ. – Поэтому необходимо вырвать этой змее жало, пока она ни о чем не догадывается, – твердо сказала Лукреция. – Как только мы договоримся с губернатором, вы дадите ему в подмогу своих людей, капитан, с наказом – никого не жалеть. Если будет возможно, поджечь его корабль. – Хорошо, я сам поведу людей и сделаю все, что нужно! – загорелся Ришери. – Только берегите себя, капитан! – проникновенно сказала Лукреция. – Я слишком вас ценю, чтобы позволить вам меня покинуть. Позволяю вам на этот раз струсить. – Никогда! – гордо ответил Ришери. – Но за меня не бойтесь, сударыня! Я слишком восхищаюсь вами, чтобы расстаться с вами навеки. – Мне это нравится, – уныло пробормотал Абрабанель. – Одни расточают друг другу комплименты, а другие за это платят. Ну ничего, будем надеяться, что Г-сп-дь не совсем еще меня оставил... Он прошмыгнул мимо своих земляков-голландцев, скорбно застывших над телом погибшего Ван Леувена, и побежал в дом. Вернулся он оттуда не слишком скоро, прижимая к груди мешочек с золотыми монетами. На Абрабанеле лица не было. – Надеюсь, вы не заставите нас краснеть за вашу жадность? – спросила Лукреция. – Нет никакого смысла тянуть с формальностями. Мы должны как можно скорее приступить к поискам сокровищ. «Как же! Не морочьте мне голову, уважаемая! – подумал про себя Абрабанель. – Поиски сокровищ потребуют огромной подготовки. Экспедиция, носильщики, проводники, лошади, мулы, запасы продовольствия – да мало ли! Это займет не менее полугода. А сейчас вы хотите побыстрее захватить карту и избавиться от Абрабанеля. Каким образом, я не знаю, но подозреваю, что ничего гуманного в вашем решении не будет. Только не обольщайтесь – Абрабанеля вам не перехитрить. Я готов к любой каверзе». – Сударыня, позвольте мне вас покинуть, – почтительно поклонился Ришери. – Через полчаса я вернусь с отрядом. Господин Абрабанель проводит вас к губернатору. – Да, это разумно, – кивнула Лукреция. – Только выберите самых лучших солдат, Ришери! – Мои солдаты всегда лучшие, – улыбнулся Ришери. Второе появление Лукреции в доме губернатора де Пуанси вызвало куда меньший восторг, чем первое. Губернатор уже откуда-то знал про смерть Ван Леувена, и это событие вызывало у него исключительно отрицательные эмоции. – Приношу свои глубочайшие извинения за непозволительную резкость тона, – обратился он к Лукреции, – но подобные происшествия чрезвычайно меня пугают. Я никогда не скрывал, что голландские купцы мне не нравятся, но когда их убивают, едва они сходят на мой берег, мне это нравится еще меньше. Такие бессмысленные убийства всегда имеют неприятные последствия. На колониальную администрацию начинают вешать всех собак, и в результате страдают невиновные, а нравы ужесточаются. Нет, я никак не могу одобрить того, что здесь происходит с вашим появлением, сударыня! – Это потому, что вы не послушались меня с самого начала, – заявила Лукреция. – Вы теряли время, вместо того чтобы отправить как можно больше людей на поиски интересующих меня пиратов. Из-за этого нам пришлось искать их самим. И кое-кому не повезло. Однако нет худа без добра. Теперь мы знаем, что ловить нужно не только Веселого Дика, но и Черного Билла... – Что?! Черного Билла? – губернатор уже не скрывал своих чувств. – Вы хотите, чтобы я поссорился с Черным Биллом? – А ссора с министром Кольбером вас не пугает? – ледяным тоном спросила Лукреция. – Остановите припадок и послушайте, что я вам скажу. Вы получите за свое беспокойство неплохие деньги, но окажете нам настоящую помощь... Абрабанель! Банкир со вздохом выступил вперед и хмуро сунул губернатору в карман кафтана мешочек с золотом. Почувствовав приятную тяжесть, де Пуанси слегка оживился. – Только что вернулся один из моих разведчиков, – сказал он. – Доложил, что людей Черного Билла и его самого видели в двух милях отсюда. Это к северу вдоль побережья. Там у них была какая-то заваруха на постоялом дворе. Потом все стихло, и Черный Билл ушел вдвоем с одноглазым пиратом. Вы понимаете, о ком идет речь. Теперь мы знаем, что эти двое побывали здесь и, видимо, возвращаются сейчас обратно. Можно предполагать, что через некоторое время Черный Билл опять будет здесь, потому что его судно находится в нашей бухте. – Капитан Ришери вернется сюда с отрядом солдат, – сказала Лукреция. – Сколько человек у Черного Билла на берегу? – Говорили, что около двух десятков. – Пустяки! Мы разделаемся с ними в два счета. Поднимайте гарнизон. Мы разделим наши силы таким образом, чтобы перекрыть все пути к бегству. И не забудьте – Черный Билл и Веселый Дик нужны мне живыми. За исключением этих двоих, о потерях можно не заботиться. Речь идет об интересах Франции – не забывайте об этом! – Я помню о них каждую минуту, сударыня! – с подъемом сказал де Пуанси, незаметно поглаживая себя по карману. – И у меня уже нет ни малейшего желания избегать потерь. Да поможет нам Бог!
Глава 14 Карта сокровищ
Карибское море. Тортуга
За все время, пока Харт находился на положении заложника, Харон сидел рядом, не шелохнувшись и не сводя с него пристального взгляда своих умных коричневых глаз. Уильям и сам не склонен был резвиться – ведь, кроме собачьих, на него таращилось еще не меньше дюжины глаз, и ему оставалось только гадать, что в них преобладало – свирепость или детское желание позабавиться. У Харта мелькнула мысль, что если Кроуфорд по какой-либо причине не вернется, то его сторожа с превеликим удовольствием проводят его в царство мертвых всей компанией – и верный Харон подскажет самый короткий путь. Его обуревали и другие, самые разнообразные соображения довольно мрачного толка, но храброе сердце и вера в Провидение не позволяли ему предаваться отчаянию. В душе Уильям верил, что Кроуфорд сумеет срезать Фортуну на повороте и удержаться в седле, хотя не представлял, как именно ему это удастся. В то, что Кроуфорд так легко отдаст Черному Биллу заветную карту, Харту не верилось. Уильму показалось, что его другу пришлось заплатить за нее достаточно высокую цену, и слишком близки они были к заветной цели – сокровищам конкистадоров, которые никому до сих пор не давались в руки. С другой стороны, Черный Билл вряд ли удовольствовался бы меньшим выкупом за их жизнь. Гадать можно было бесконечно, но тут возвратились сами капитаны. Черный Билл с громким хохотом собрал вокруг себя пиратов и, разложив перед ними начертанную на куске потрепанного пергамента карту, весело поглядывал на оставшихся не у дел Кроуфорда и Харта. – Ну все, ребята! – заявил он, вытирая руки о засаленные штаны. – Кончилась наша несчастная жизнь! Будем теперь на золоте жрать и в шелка одеваться! Я себе дом на горе построю – с колоннами. Сто колонн, не меньше! И прикажу, чтобы меня все звали полковником. По морям больше шляться не буду, ром этот вонючий и в рот не возьму, буду пить тонкие вина... Пираты восторженно загоготали, хлопая себя по ляжкам и друг друга по плечам. Один из них ткнул грязным пальцем в сторону Кроуфорда. – А как же Веселый Дик, капитан? Они имеют право на свою долю! – Пусть сушат весла! Они свое уже получили! – довольно ухмыльнулся Черный Билл. – Но это против наших обычаев, – возразил неожиданный заступник. – Спасибо, Эд, – я этого не забуду, – тихо сказал Кроуфорд. – Заткнись, свинячье рыло! – заорал Билл. – Хотелось мне вздернуть вас обоих на рее, но уж больно царский подарок сделал мне наш бывший квартирмейстер. Пущай живет. Но до той поры, пока не попадется мне на глаза. Слышишь, Веселый Дик? Встречу тебя на Эспаньоле или еще где – пеняй на себя! – Он опять повернулся к шайке и сказал, сверкая глазами: – Эх! Много баек слышал я про эти сокровища, братцы! И если хотя бы четверть из того, что про них говорят, правда... – А если это не та карта, Билл? – осторожно спросил кто-то. – Она это, ребята! – с трепетом произнес Черный Билл. – Тут ошибки быть не может. Все сходится. Поднимем сейчас якорь... Вдруг раздался громкий топот. Кто-то бегом поднимался по лестнице. Пираты замолкли и обернулись к дверям. Вбежал запыхавшийся хозяин постоялого двора, второпях не снявший даже заляпанного кровью и жиром фартука. Испуганно таращась, он оглядел присутствующих и заискивающе поклонился Черному Биллу. – Значит, такое дело, – глотая слова, с трудом выдохнул он. – Тут недавно поблизости солдаты крутились, вынюхивали, что и как. Про одноглазого, например, спрашивали. Я думаю, что они и тебя, Билл, искали. Уходить вам надо! Пираты зашумели. Билл быстро обернулся к Кроуфорду. – Твои друзья? – подозрительно спросил он. – Что затеял, Дик? – А ничего я не затеял, Билли. Просто забыл тебя предупредить – карту эту ищут. Да так старательно ищут, что про себя иной раз забывают. Просто бросаются как звери, почуявшие свежатину. Нам уже пришлось один раз отбиваться. А вот кто ищет – не знаю. Я на многих думал. На тебя в том числе. – Дьявол тебе в глотку! – задумчиво произнес Черный Билл, почесывая в бороде. – А ведь точно, следят. Вот и в Кайоне пришлось одного продырявить – увязался за нами. Я его тоже первый раз в жизни видел. Кто такой, не знаю. И солдаты, значит? Не нравится мне это. Давайте, ребята, сниматься с этих рифов. До корабля доберемся – и сразу в море. Держимся вместе, и если что – драться до конца. Пираты бросились к выходу. Их тяжелые башмаки загрохотали по ступеням, и через минуту все стихло. Только тогда Уильям с облегчением перевел дух. – Вы отдали ему карту! – воскликнул он. – Испанские сокровища! Кроуфорд взял на руки собачонку и с загадочной улыбкой посмотрел на Уильяма. – Сокровище на свете разве есть – ценней, чем незапятнанная честь? – Но... – растерянно произнес Уильям. – Дорогой друг! – проникновенно сказал Кроуфорд. – Единственная вещь, которая может смягчить сердце Черного Билла, – это деньги. Можете мне поверить, что если бы я не пожертвовал этим куском старой кожи, то мы сейчас оба качались бы, высунув синюшные языки, на жарком карибском солнышке. Вокруг с меланхоличным жужжанием вились мушки, а у нас с вами больше не было бы никаких забот и треволнений. Возможно, стоило именно так и поступить, но мне показалось, что вам хочется еще немного полюбоваться на мир, и я сделал вам этот подарок. Кстати, мы с вами на этом ничего не потеряли, Уильям, – небрежно добавил он. – Ну, может быть, самую малость. – Я не понимаю! – Вы когда-нибудь видели нарисованную от руки карту, на которой указано местонахождение сокровищ? Не видели? Я почему-то так и думал. Мне тоже попалась только одна такая, причем в отвратительном состоянии и на бумаге. Память у меня, должен вам заметить, замечательная, и рисую я неплохо. Мы спокойно можем отправляться на Эспаньолу – оригинал у вас в подушке, Уильям. От неожиданности Уильям сел на кровать и уставился на набитый кокосовым волокном мешок. – Да, да – именно здесь. Я сунул ее туда во время стычки, подозревая подобный ее исход. – Но ведь копия у Черного Билла! – Забыл сказать, – с невинным видом произнес Кроуфорд. – Перерисовывая план, я нечаянно перепутал лес с болотом и забыл проставить широту того места, которое означено крестом. Думаю, нашему сорванцу Билли придется здорово попотеть, отыскивая на Эспаньоле сокровища. – Ловко придумано, а еще лучше исполнено! – восхитился Уильям. – Но тогда нам точно не стоит попадаться ему на пути! – Билл слишком колоритный человек, – махнул рукой Кроуфорд. – Рано или поздно он станет жертвой своей неуемности. Не уверен, что на Эспаньоле все его мысли будут заняты нами. У него будет много других забот. Он сунул собачонку Уильяму в руки и принялся за обычное преображение: снял черную повязку, эксцентричный парик, засаленный камзол и остался в одной рубахе с широкими рукавами. – Вы удивляетесь моему маленькому спектаклю? – усмехнулся Кроуфорд. – Этот скромный трюк многое позволяет, особенно когда тебя разыскивают солдаты губернатора и голландские шпионы... – Голландские шпионы?! – Ну да, в порту за нами неожиданно увязался ничем не примечательный молодой человек. Он старательно делал вид, что прогуливается, но отчего-то оказался возле моего скромного жилища. К сожалению, любопытство часто приводит к трагедии. Как нигде в мире, на Тортуге предубеждены к этому пороку, особенно если он обуревает голландцев. – Откуда вы взяли, что этот человек – голландец? – взволнованно спросил Уильям. – Я обыскал его и нашел у него в кармане письмо на голландском языке. Это человек из экипажа Ван Дер Фельда. Вам ничего не говорит это имя? – Как?! Ван Дер Фельд здесь?! – вскричал Уильям. – Но это значит, что Абрабанель тоже здесь! Послушайте... – Нет, это вы послушайте! – властно перебил его Кроуфорд. – Нам пора убираться отсюда. Те логические выводы, которые осенили вас, я сделал уже давно. Судя по всему, ваш вероятный, но весьма неуступчивый тесть устроил за нами настоящую охоту. Откуда-то он узнал про сокровища, и теперь ему потребны всего две вещи: карта и пара мертвецов. – Каких мертвецов? – не понял Уильям. – Да нас с вами! – засмеялся Кроуфорд, закончив переодевание и отбирая у Харта собаку. – Все, идемте! – Куда мы сейчас? – спросил Уильям, когда они вышли на залитую солнцем улицу. – В порт! Боюсь, что если нас с вами ищут, то о «Голове Медузы» нам придется забыть. Мы заберем с собой вашего друга, капитана Джона Ивлина и попробуем купить здесь подходящий кутер *["228]. До Эспаньолы рукой подать, так что на ней и доберемся. – Что вы собираетесь сказать команде «Медузы»? Кроуфорд удивленно посмотрел на Уильяма. – Наверное, ничего, – ответил он. – А что я должен им сказать? О сокровищах на Эспаньоле? Боюсь, что если все будут об этом знать, то даже на Большой Земле будет немного тесновато. Признаюсь, что с некоторым сомнением отношусь к мысли посвятить в эту тайну капитана Ивлина и вашего друга Амбулена. Но из двух зол выбирают меньшее. Пока они пробирались кривыми горбатыми улочками к порту, Уильям усердно размышлял, а потом задал вопрос, который мучил его уже давно: – Но если мы порываем с людьми, которые нам доверились и которым все же доверяли и мы, то кто поможет нам в случае чего? Кроуфорд, не останавливаясь, обернулся и смерил Уильяма пристальным взглядом. – Не забивайте себе голову, мой юный друг! – сказал он. – Когда придет время, Бог обязательно нам поможет. Он всегда помогает в трудную минуту, вы не заметили? Я вам обещаю, если сокровища по-прежнему на Эспаньоле, то мы их оттуда достанем. У нас будет все – и люди, и мулы, и снаряжение, и припасы. Просто я должен во всем удостовериться сам.Проявив недюжинную сноровку и поглотив не меньше пинты пульке – мутноватого напитка из агавы, Кроуфорд с великим трудом уговорил владельца кутера «Король Луи» продать ему судно всего лишь вдвое дороже его настоящей цены. Наконец мокрые от пота они ударили по рукам, и кутер обрел нового хозяина. Уильям все это время помалкивал, с восхищением наблюдая за способностью Кроуфорда торговаться до бесконечности. Вероятно, будь у сэра Фрэнсиса поболее времени, цена упала бы до номинала, но Кроуфорд спешил, а хозяин посудины был тертый калач. Как только мешочек с испанским золотом перекочевал в бездонные карманы грязных штанов продавца, сэр Фрэнсис свистнул Уильяму, и они двинулись к причалу. Бывший владелец кутера, нормандец с хитрым выражением широкого лица, обязался перегнать судно в Ла Монтань, и вскоре, снявшись с якоря, они вышли в море. Надо сказать, что кутер этот как нельзя лучше подходил для предстоящей экспедиции. На нем была даже одна вертлюжная пушка – медная восьмифунтовка, которая была установлена на носу. Он имел одну палубу и одну мачту с косым парусом, управлялся рулем и не имел штурвала. Зато на юте могло разместиться до десяти человек. Доставив приятелей на место, нормандец пожелал всем удачи, и вскоре широкие спины его и троих матросов затерялись в толпе. Кроуфорд вытащил из кармана повязку и аккуратно приладил ее на глаз. – Вот теперь, дружище, мы можем показаться ребятам на глаза. Но о кутере – молчок! Уильям кивнул, и они направились вдоль берега к лагерю пиратов.
* * *
У кромки пляжа, уткнувшись носом в песок, лежала шлюпка. Несколько матросов дремали рядом, прикрыв голову шляпами. Сэр Фрэнсис вытащил из кармана подзорную трубу и приложил ее к правому глазу. На корабле, стоявшем на середине бухты, суетились похожие издали на муравьев люди. Они с энтузиазмом крепили стеньгу на нижнюю мачту. Судя по всему, Потрошитель знал, как увлечь работой вверенных его заботам ребят. – Поднимайтесь, бездельники! – налюбовавшись на «Медузу», довольно добродушно прикрикнул Кроуфорд на спящих матросов. – Доставьте нас на борт, да поживее! Взобравшись на корабль по штормтрапу, Кроуфорд внимательно оглядел мачту и, напевая «трим-па-па» на мотив жиги, удалился к себе в каюту, перед этим сказав Уильяму: – Прихватите-ка своего дружка с капитаном Ивлином, да позовите ко мне Джека. Нам надо потолковать кое о чем. Уильям нашел Амбулена в чрезвычайно меланхоличном настроении у левого борта. Скрестив руки на груди, судовой лекарь уныло смотрел на синюю морскую гладь и задумчиво покусывал нижнюю губу. – Шевалье! Я вижу, вы основательно заскучали! – окликнул его Уильям. – Вы не в духе? – Скажу вам откровенно, Уильям! – ответил Амбулен, оборачиваясь, – мне не хватает впечатлений. Всю жизнь я мечтал о настоящем деле – таком, что разом приносит славу и богатство! Галеоны, тухлая водица, лихорадка и плесневелые сухари – это все не по мне. Не знаю, может быть, я ошибся с выбором своего досуга. Кажется, я собираюсь бросать пиратство, – все-таки, как-никак я врач, и врач неплохой. Что вы скажите на это? Может быть, отправимся искать счастья вместе? Или вам нравится быть вторым помощником у какого-то бродяги и мерзавца? – Вы как будто угадали мои мысли, Амбулен! – весело сказал Уильям. – Вы удивитесь, но я знаю еще одного человека, который тоже считает, что ему не повезло с ремеслом джентльмена удачи. Присоединяетесь к нам? Амбулен просиял и с чувством пожал Харту руку. – Я с вами! А кто этот человек, Уильям? – Веселый Дик! Глаза Амбулена округлились. – А вы не думаете, что этот человек уже ни на что не годится? – А это мы скоро узнаем. Вот только выберемся отсюда. – А куда? – поинтересовался Амбулен. Уильям оглянулся по сторонам, и хотя поблизости не было ни одного матроса, ответил шепотом: – За сокровищами! – Звучит многообещающе, – кивнул Амбулен, и в глазах его сверкнула радость. – Итак, когда выходим? – А это мы сейчас и обсудим, – сказал Уильям.Оказавшись в капитанской каюте четверо мужчин с легким сомнением оглядели друг друга. Слишком уж разного полета онибыли птицы, и трудно было вообразить дело, которое могло сделать из них единомышленников. Но Веселый Дик умел вербовать себе друзей. Развалившись на кресле и с интересом разглядывая физиономии своих будущих компаньонов, он лениво обмахивался треуголкой. Никто из собравшихся, казалось, не решался первым нарушить воцарившуюся в помещении тишину. Посчитав паузу достаточно эффектной, Веселый Дик отбросил шляпу и, облокотившись на стол локтями, произнес одно единственное слово: – Сокровища. Все вздрогнули и дружно переглянулись. – Я собрал вас, джентльмены, для того, чтобы предложить вам отправиться на поиски сокровищ, – Веселый Дик улыбнулся и снова откинулся на спинку кресла, с видимым наслаждением созерцая удивленные лица мужчин. Хотя Уильям был уже в курсе дела, он невольно поймал себя на свежем приступе золотой лихорадки. Каково же приходилось остальным? Остальные впали в состояние близкое к трансу. – А можно подробнее, сэр? – наконец просипел Джек и утер пот со лба. – Можно, друзья мои! Конечно можно! Я знаю, где зарыты сокровища конкистадоров. Я нанял каботажное судно, и мы немедленно отправляемся за ними. – Гром и молния, – пробормотал Джон Ивлин и трубно высморкался. – Перца мне в кишки, – задумчиво протянул Потрошитель и снова вытер мокрое от пота лицо. – Какая прелесть! – воскликнул судовой лекарь и поправил шарф. – Ну, что, тогда в путь? – переспросил Уильям, поправив шпагу.
На следующее утро новоявленные концессионеры спустились в шлюпку и погребли к берегу. Так Фил Поллок сделал себе карьеру и стал главным до возвращения капитана. Оглядываясь, Уильям неожиданно подумал, что с этого момента всех присутствующих смело можно называть бывшими. Эта мысль почему-то насмешила его, и он до самого берега с трудом сдерживал смех. Его спутники, напротив, казались крайне серьезными. Роберт Амбулен незаметно приглядывался то к своему другу, то к невозмутимому Кроуфорду, который сейчас мало напоминал того кровожадного Дика, которого, что греха таить, Амбулен всерьез опасался – как, впрочем, и все остальные члены команды. Джон Ивлин был абсолютно невозмутим, и к происходящему относился точно так же, как он относился теперь ко всему – с неизменным скепсисом на упрямом лице. Совершенно равнодушными выглядели и пираты, равномерно взмахивающие веслами. Мирный, можно сказать, домашний вид Веселого Дика с крошечной собакой на руках напрочь отбивал желание верить в существование сокровищ. Сам капитан, кроме сказанного накануне, казалось, никому ничего не собирался объяснять. Когда шлюпка ткнулась в песок, он первым спрыгнул на берег и уверенно зашагал в сторону убогих хибар, которых в этой части селения было превеликое множество. Прочие растянувшись цепочкой отправились вслед за ним, думая при этом каждый о своем. Если Амбулен продолжал прикидывать в уме, насколько правдоподобны посулы сокровищ, высказанные веселым Диком и не набрел ли он, наконец, на искомое, то Уильям вспоминал про Элейну. Он пытался представить где она сейчас, думает ли о нем, надеется ли на встречу. Гибель несчастного голландского матроса встревожила его. Этот несчастный был из команды Ван Дер Фельда Совпадение это, или это какой-то знак ему, Уильяму, который он должен поскорее разгадать? Люди, которые напали на них той ночью на Барбадосе, тоже были голландцами или французами. Неужели коадъютор как-то связан со всем случившимся и пытается помешать им?! Эти мысли причиняли Уильяму невыносимые страдания. Не оттого, что он возмущался подлостью Абрабанеля, а оттого, что отец девушки, в которую Уильям был без памяти влюблен, оказался таким жалким подлецом. Ведь он даже не мог перед ним защищаться! Идти по жаре было не слишком весело, а Кроуфорд вскоре еще и свернул с дороги в трудно проходимый колючий кустарник, пахнущий мускусом и наполненный звоном и гудением насекомых. Продираясь сквозь заросли, Уильям потихоньку проклинал Кроуфорда и его дурацкие причуды, как вдруг по дороге мимо них прошагал отряд солдат – полторы дюжины потных и злых мужчин в суконной форме, вооруженных широкими палашами и мушкетами. Их вел за собой сержант верхом на гнедой кобыле, усатый и самый вредный из всей компании. Увидев их сквозь кусты, каперы притихли и постарались сделаться как можно незаметнее. Когда отряд прошагал мимо и исчез за поворотом дороги, Уильям мысленно возблагодарил Господа и заодно с ним Кроуфорда. Сам Уильям уже начисто выбросил из головы, что сказал хозяин постоялого двора Черному Биллу, а вот Кроуфорд, выходит, не забыл, и только благодаря ему они не попались сейчас в лапы рыскающих по всем окрестностям людям губернатора. Поразмыслив об этом, дальше они пошли уже не слишком обижаясь на судьбу и стараясь быть как можно осторожнее.
* * *
– Ну что ж, Уильям, на Тортуте наши дела закончены. Я приказал На-Чан-Чели под присмотром Потрошителя перебраться на катер, где нас будут ждать доктор Амбулен и Джон Ивлин. Оружие и порох уже в трюме, а остальное купим на Эспаньоле. – А куда мы сейчас? – Я бы хотел напоследок своими глазами взглянуть на наших преследователей. Кое-кто подсказал мне, что они остановились неподалеку от площади. Разговаривая между собой, Уильям и Кроуфорд со своей собачкой в кармане вышли к городскому рынку, который по случаю воскресенья являл собой живописнейшее зрелище. То была шумная ярмарка, где на пальмовых листьях грудами были навалены свежая рыба, кожистые черепахи, гигантские туши ламантинов, огромные лангусты, связки жирных голубей, куски вяленого мяса, овощи и битая птица. Рядом, распяленные на шестах и сложенные стопками, красовались невиданного размера бычьи шкуры, прямо за которыми начинались ряды серебряной и золотой посуды и инкрустированной перламутром мебели. Неподалеку одна на другой теснились клетки со злобно орущими попугаями, скалящимися мартышками и порхающими колибри, которых индейцы ловили при помощи кусочка воска, надетого на стрелу. Сверкали на солнце парча и шелка, вперемешку с которыми прямо на деревянных столах была навалена сверкающая золотом богатая церковная утварь, где потиры мешались с дискосами, а семисвечники – с украшенными драгоценными камнями лампадами и кадилами на витых венецианских цепях. Здесь толпились колонисты в шляпах с широкими полями, богатые плантаторы с тростями в руках, всегда готовые к поножовщине оборванные пираты, полуголые рабы с тюками на головах, чья черная кожа блестела на солнце от пота, меднолицые индейцы в хлопковых накидках с неизменными трубками за поясом, наряженные по последним европейским модам дамы и завлекательно хихикающие девицы легкого поведения, с высоко подколотыми юбками и чересчур затянутыми корсажами, грызущие на ходу вареные початки кукурузы. Легкий бриз порой доносил сюда густую волну благоуханий из рядов, где торговали духами, розовым маслом, ванилью, мускусом и различными пряностями, следом накатывали запахи жарящейся в тавернах рыбы и вонь протухшего мяса. Куда-то в сторону уходил нескончаемый фруктовый ряд – пестрый, ароматный, разноцветный, где красовались папайя, финики, гуанабаны *["229], лимоны, апельсины, кокосы, анона, плоды хлебного дерева, ананасы, гуавы *["230]и еще множество других даров этой щедрой земли, которым белые люди, может быть, даже еще не успели дать своего названия. Глядя на все это великолепие, у Харта потекли слюни, и он буквально пожирал глазами горы плодов, словно высыпавшихся сюда из рога изобилия самой Флоры. – Знаешь, какой фрукт утоляет голод получше мяса? – спросил сэр Фрэнсис, заметив голодный взгляд Уильяма. Он взял в руки зеленый плод яйцеобразной формы, покрытый блестящей кожурой. – Это авокадо. Надо разрезать его пополам и, выбросив семя, налить в полчившиеся луночки немного прованского масла, посолить и поперчить. Затем размешать приправу с зеленоватой мякотью – и готово! Так едят его перуанские индейцы, только масло у них, наверное, маисовое. – Вы издеваетесь, сэр Фрэнсис? – грустно поинтересовался Уильям. – Теперь я просто обязан купить его и съесть указанным вами способом. – В другой раз, мой мальчик. Кстати, он очень сытен, в нем много жира. Уильям вздохнул и, купив несколько гуав и небольшую связку бананов, сжевал их прямо на ходу. Чтобы сократить путь, Кроуфорд взял левее и вывел Уильяма к двухэтажному каменному дому, который по здешнему обычаю был окружен пальмами и цветущим кустарником. Не имея никакого особого плана, сэр Фрэнсис собирался забраться в кусты и оттуда понаблюдать за интересующими его людьми. Остановившись на улице, чтобы оглядеться, он уже было приступил к осуществлению своих намерений, но в это время на втором этаже дома раздался какой-то шум, с треском распахнулась оконная рама, и визгливый мужской голос прокричал: – Ну почему именно в этот моиент ты вздумала показывать характер?! Разве ты не видишь, в каком положении мы все находимся? Сейчас не время для женских капризов. Посмотри на бедного Ван Леувена! Он безвременно почил, а мы живы и обязаны выполнить то, что предначертано Господом... Где же этот проклятый экипаж?! В раскрытое окно выглянула голова Давида Абрабанеля. Он искал ожидаемый экипаж и, возможно, потому не обратил внимание на пару мужчин, замерших возле живой изгороди, увенчанной бело-лиловыми цветами. Он не заметил даже Уильяма Харта, хотя тот в первое мгновение, растерявшись от неожиданности, не догадался уйти с открытого места, где его фигура была как на ладони. Наверное, это случилось и потому, что девушка в комнате, к которой была обращена речь банкира, что-то в этот момент ответила ему, и ответ этот задел Абрабанеля за живое. – Как?! Как ты смеешь перечить отцу?! – завопил Абрабанель, скрываясь в комнате. Уильям побледнел. Его глаза впились в раскрытое окошко на втором этаже. Сердце его колотилось. Кроуфорд, поглаживая собачку, с любопытством посмотрел на своего друга: – А тут, оказывается, собралось все достойное семейство! Этого я не ожидал, признаться. Представляю, как сейчас икается губернатору де Пуанси. Вторжение Голландских Генеральных Штатов – иначе это никак не назовешь. Но что самое странное – по-моему, на этот раз губернатор смотрит на голландцев сквозь пальцы. Это меня озадачивает. А вас, Уильям? – А? Что? – рассеянно произнес Харт, не сводя взгляда с окна на втором этаже. – Я должен ее увидеть! Во что бы то ни стало! Не обращая ни на кого внимания, он метнулся мимо живой изгороди прямо к дому. Кроуфорд одной рукой успел поймать его за плечо. Уильям резко обернулся. – Не удерживайте меня! – почти грубо воскликнул он. – Если не хотите потерять моего расположения, Кроуфорд, тогда ради всего святого, не удерживайте меня! – Вас удержать? – с едва уловимой иронией произнес Кроуфорд. – Увы, это невозможно. Влюбленные на крыльях Купидона взлетают без усилий выше крыши!Поэт был прав. Я уже вижу за вашими плечами эти крылья... Но, может быть, все-таки стоит подождать, пока закончится разговор отца с дочерью? Затевать сейчас новый скандал было бы явным излишеством. Прислушайтесь к словам опытного человека... Остановись, безумец! – железной рукой сэр Фрэнсис схватил Уильяма и рванул на себя. Кровь ударила Харту в голову, и он в бешенстве оттолкнул Кроуфорда, схватившись за шпагу. Лицо сэра Фрэнсиса потемнело. Уильям заметил, как рука его метнулась к эфесу, но на полпути замерла, и он рассмеялся. – Сдаюсь, сдаюсь! – весело сказал он, отступая от Уильяма на шаг и поднимая вверх руки. Харт убрал шпагу, уже наполовину извлеченную из ножен, и глухо проговорил: – Простите, сэр Фрэнсис. Но вы не должны были так... – Смотрите, Уильям, ваш будущий тесть выходит из гостиницы! – невинно обронил Кроуфорд. – Еще немного, и вы смело можете бежать... Но Уильям уже ничего не слышал. Придерживая шпагу, он помчался к дому не разбирая дороги. Ум Харта был занят мыслями об Элейне, и он в горячке проскочил мимо идущего ему навстречу коренастого толстячка в шляпе, с до того низко опущенной головой, что, казалось, она тонет в ослепительно белом воротничке. Это был почтенный Давид Малатеста Абрабанель собственной персоной, спешащий в глубоких раздумьях по неотложным делам. Он не мог припомнить, когда в последний раз пребывал в состоянии такого раздражения и растерянности, как сейчас, ведь все шло совсем не так, как было задумано и как ожидалось в расчетливых мечтах. Мир на его глазах вдруг перевернулся с ног на голову, и события посыпались на него, как горох из прохудившегося мешка. Сначала эта сумасшедшая шпионка, потом ночная стычка на Барбадосе, повлекшая за собой ранение Хансена, вдобавок эта совершенно безумная идея поисков на Тортуге... Кстати сказать, господин Абрабанель не считал, что идея была нелепой. Она была именно безумной, потому что вообразить себя в этом гнезде разбоя Абрабанель не мог и в страшном сне, ведь на этом огрызке суши у него не было ни влиятельных связей, ни верных людей. Но не плыть он тоже никак не мог. Во-первых, невозможно оставить без присмотра эту гадину-вдову. Во-вторых, за визит на Тортугу высказались Ван Дер Фельд и Хансен – они тоже почуяли запах золота. А вслед за Ван Дер Фельдом пришлось тащить за собой и Элейну, потому что он не мог оставить в заложницах у Джексона свою единственную дочь. А теперь, когда наконец хоть что-то прояснилось, взбрыкнула сама девчонка. Не хочет, видишь ли, покидать Тортугу! Глупее этого Абрабанель ничего в жизни не слыхал. Да будь его воля, он потопил бы эту проклятую Черепаху вместе со всеми её нечестивыми обитателями! Вдобавок он где-то застудил седалищный нерв, и теперь от ягодицы до колена правую ногу сводила ноющая боль. К тому же он отнюдь не любитель менять каждый день квартиры, а за эту, вопреки своим правилам, он выложил кругленькую сумму вперед, даже не успев теперь толком ею воспользоваться. Конечно, он, как многострадальный Иов, терпеливо и безропотно сносит все удары судьбы, хотя, как злосчастного Иова, его то и дело подмывает возопить, воздевая к небу короткие ручки: «За что мне это все?» Он не так глуп, чтобы не понимать очевидного – они должны как можно скорее покинуть Тортугу. Но почему вдруг заартачилась Элейна, что ее здесь держит? Беда с этими дочерьми!.. В расстроенных чувствах Абрабанель тоже проскочил мимо Уильяма, и только пробежав добрую сотню шагов, он задумался о том, чье это взволнованное лицо промелькнуло сейчас перед ним. Тут его осенило, и он в сердцах даже хлопнул себя ладонью по лбу! Н, конечно же! Это же тот самый упрямый щенок Уильям Харт! Черный Билл, Веселый Дик да он – теперь это одна шайка. Они все здесь! И этот разбойник Харт сумел каким-то образом проведать о том, что его девочка на острове, нашел способ снестись с ней, смутить ее неопытное доверчивое сердце, настроить единственную дочь против собственного отца и теперь покушается на самое дорогое, что есть в семействе Абрабанелей! Негодование не лишило господина Давида обычной осторожности, и вместо того, чтобы в ярости ринуться вслед за Уильямом, коадъютор подумал о том, что его верные голландцы покинули его, только что отправившись в порт вместе с багажом, а гарнизонные солдаты неизвестно где шляются. Потратив пару секунд на размышление, коадъютор развернулся и храбро бросился в противоположную от дома сторону. Кряхтя и стеная, он рысцой трусил вслед за неторопливо громыхающей вниз по улице повозкой, в которой невозмутимо восседал Ван Дер Фельд со своими офицерами. – Стойте, стойте! – истошно завопил он, догоняя голландцев. – Там пираты, там Харт, там моя дочь!Ворвавшись в дом, Уильям без стеснения отпихнул попавшегося ему на пути негра с мокрым бельем и помчался вверх по лестнице. Птицей взлетев на второй этаж, он оказался в длинном коридоре между совершенно одинаковыми запертыми дверьми. Не раздумывая, он принялся толкать одну дверь за другой, как вдруг одна из них распахнулась сама, и прямо перед Уильямом возникла женщина. – Элейна? О нет!.. Уильям отшатнулся от молодой женщины, пробормотав какие-то извинения и кинувшись было дальше, но взгляды их внезапно встретились, и Уильям застыл, онемев от невольного восхищения. Зеленые глаза прелестной незнакомки пригвоздили его к порогу, и на секунду мысли об Элейне улетучились из его головы. – Простите, миледи, – невольно вырвалось из его уст, пока глаза его пожирали это безупречно прекрасное лицо. Незнакомка вздрогнула. – Вы англичанин? – Да, миледи. – Откуда вам известно... – Но тут женщина овладела собой и уже другим тоном произнесла: – Постойте, прекрасный юноша! Кажется, я начинаю догадываться, кто вы! – Она дотронулась до него холодной как мрамор рукой. – Вы Уильям, Уильям Харт! Я помогу вам, идемте! – Она решительно взяла его под руку и увлекла за собой. – Но, миледи... – Я отведу вас к вашей возлюбленной! – она улыбнулась, и Уильям подумал, что за такую улыбку можно отдать жизнь. – Уильям, глядя на вас, я понимаю, почему вас полюбила такая девушка, как Элейна, – мелодичный голос незнакомки проникал в самое сердце, – и я даже немного завидую ей. – Она вела Уильяма по коридору в глубь дома, слегка опираясь на его руку, и он чувствовал пьянящий аромат неведомых духов, исходящий от нее. Несмотря на свой высокий рост и гордую осанку, женщина едва доставала Харту до подбородка, и он мог видеть, как по ее безупречно вылепленной шее змеятся непокорные черные локоны, спускаясь на белоснежную грудь, едва прикрытую полупрозрачной органзой. Наконец они подошли к какой-то двери и остановились. – Кто вы, миледи, и как мне благодарить вас за неожиданную помощь? – спросил Харт, не в силах оторвать глаз от ее пленительного лица. – О, рыцарь, мое имя вам ничего не скажет, а мой облик потускнеет в вашей памяти через мгновение, – произнесла незнакомка и одарила Харта столь грустным и проникновенным взором, что ему захотелось умереть у ее ног. – Не говорите так, миледи! Вы словно ангел Божий явились передо мной, и я никогда не забуду ни вашей красоты, ни вашего участия! Лукреция, а это была она, все еще опиралась на руку Уильяма, лихорадочно соображая, что ей делать. Удача сама шла к ней в руки! Теперь-то она получила неопровержимые доказательства своей правоты. Она торжествовала, и невольная улыбка озарила ее лицо. – Чему вы улыбаетесь, миледи? – спросил юноша. – Я невольно любуюсь вами и завидую вашей Элейне, – она подняла голову, и снова их глаза встретились. Уильям почувствовал странный жар в груди и опустил глаза. – Можно, я поцелую вас на прощание, просто как сестра и подруга вашей невесты? – вдруг произнесла его таинственная спутница, и Уильям в ответ невольно сжал ее тонкие пальцы. Молодая женщина чуть приподнялась на цыпочках и нежно провела рукой по его щеке. Секунду они смотрели друг на друга, затем она коснулась поцелуем его губ и тут же отстранилась. – Идите, Уильям, она ждет вас! – воскликнула незнакомка и толкнула перед ним дверь. Уильям шагнул вперед и замер, не в силах справиться с противоречивыми чувствами. Слишком неискушен он был, а потому чары таинственной красавицы незаметно для него, проникли в самое его сердце, а ее поцелуй всё еще теплился на его губах. Лукреция могла торжествовать. Ей удалось отравить и этот источник, первой отведав драгоценного напитка любви. – Ах! Это ты! – звонкий, полный невыразимого счастья голос пронзил Харта насквозь, как клинок. – Я знала! Я верила, что ты придешь! Элейна юная и свежая, как гроздь белой сирени, бросилась навстречу Уильяму. Он был готов заключить ее в объятья, но вдруг девушка замерла, будто наткнулась на стеклянную стену, и посмотрела на Уильяма чуть смущенным, но счастливым взглядом. – Я так рада, что ты жив и здоров! Я молилась за тебя... И еще я просила Господа, чтобы он не дал совершиться браку с этим ненавистным Ван Дер Фельдом! Он услышал мои молитвы... – Элейна! – прерывающимся голосом сказал Уильям. – Этому браку не бывать! Я решил... Я хочу сказать тебе... Незнакомка исчезла из мыслей Харта, и он вдруг упал на колени перед девушкой и принялся целовать ей руки. – Я не позволю... Мы будем вместе... Никто нас не разлучит... – шептал он. – Мы вернемся в Англию... – Нет, послушай! – тревожно возразила Элейна, высвобождая правую руку и гладя его по волосам. – Мы еще встретимся, Уильям. Но сейчас тебе нужно уходить! Это очень важно! Ты не знаешь, но они все искали тебя и других... пиратов. Они называли такие ужасные прозвища: Черный Билл, Веселый Дик... Они заставили губернатора дать своих солдат. Черного Билла они уже схватили... – Что?! – пораженный Уильям вскочил с колен и схватил девушку за плечи. – Они схватили Черного Билла?! – Да, они арестовали его в порту, обыскали и нашли карту. Мадам Аделаида... – при звуках этого имени Харт вздрогнул и тряхнул головой, словно отгоняя от себя навязчивую мысль... – Ну, та женщина, помнишь, о которой я тебе писала, сказала, что эта карта принадлежит ей. А Черный Билл, когда у него отобрали карту, пригрозил, что посчитается со всеми. Тогда его заперли в здешнюю тюрьму, но губернатор заявил, что к утру его все равно придется отпустить, чтобы избежать волнений. Но пока он сидит в тюрьме, а мы собрались уезжать. Ван Дер Фельд уже перевез наш багаж обратно на фрегат. А я все ждала, я верила, что увижу тебя... Тс-с! Что это? – Элейна в волнении прижалась к Уильяму, задев его щеку локонами золотых волос. С улицы донесся цокот копыт и грохот ободьев по булыжной мостовой. – Это они! Они вернулись! – в ужасе прошептала Элейна. – Если они тебя здесь найдут, тебя тоже бросят в тюрьму! Ты должен бежать! Я слышала, что сейчас мы плывем на Эспаньолу... – Мы встретимся там! – с жаром прошептал Уильям. – Я клянусь тебе, что сделаю все, чтобы мы были вместе, – он приник к губам девушки в долгом поцелуе. – Ты должен беречь себя, – скороговоркой сказала Элейна, отстраняясь и снимая с шеи золотую цепочку с миниатюрным мощевиком. – Это дар моей бедной матушки, он защитит тебя! Она была христианкой, как ты. Позволь, я надену ее на тебя. Едва она успела накинуть цепочку на загорелую шею Уильяма, как дверь в комнату с грохотом распахнулась, и на пороге оказались голландцы во главе с Абрабанелем. Разгоряченный патрон выглядел несколько помято, его потное лицо побагровело, а из груди со свистом вырывалось тяжелое дыхание. Вытянув руку в сторону Уильяма, он завизжал: – Господа, вот этот мерзавец! Убейте его! А ты прочь с дороги, негодная девчонка! Разом лязгнули шпаги. Уильям взглядом, полным любви, в последний раз посмотрел в бездонные глаза Элейны и бросился к окну. – Я найду тебя! – крикнул он, вскакивая на подоконник. – Держи его! – заорали голландцы. Уильям прыгнул вниз, ломая кусты. Кто-то из голландцев сгоряча скакнул следом за ним, но, на его беду, из-за кустов вышел великолепный сэр Кроуфорд. В одной руке он держал собаку, а в другой – пистолет. Голландец, обнажив клинок, прыгнул, Кроуфорд выстрелил, и несчастный рухнул на землю уже мертвым. Уильям, благополучно приземлившись чуть раньше, озираясь, вскочил на ноги, и тут, откуда ни возьмись, вдруг появился Амбулен. – За мной! – в азарте прокричал он. – Бегите за мной! Там за углом повозка! Они завернули за угол и выскочили из садика через боковую калитку. На ходу Кроуфорд зашвырнул теперь уже бесполезный пистолет в цветущие кусты. Голландцы, не желая понапрасну ломать ноги, прыгая через окно, благоразумно воспользовались лестницей, и благодаря этому друзья выиграли у погони пару минут. На небольшой улочке действительно стоял экипаж, запряженный парой лошадей. Возница, увидев бегущих к нему людей, в страхе подхватил вожжи и попытался тронуться, но Амбулен, молниеносно выхватив шпагу из ножен, вонзил ее в филейную часть кучера, и тот со стоном повалился с козел. В ответ на это из кареты выскочил еще один голландец с пистолетом в трясущейся руке. Выстрел сорвал шляпу с головы Кроуфорда. Амбулен не раздумывая вонзил шпагу пряму ему в горло. Мужчина выпучил глаза и, захлебываясь кровью, упал на мостовую. Кроуфорд оттолкнул его ногой и открыл дверцу. – Прыгайте! – заорал он. Как только Амбулен и Харт оказались внутри, Кроуфорд швырнул Уильяму на колени собачонку и вскочил на козлы. Разбирая вожжи, он оглянулся. Увидев разъяренных преследователей, Кроуфорд что есть силы хлестнул лошадей. Те возмущенно заржали. Кроуфорд издал пронзительный вопль, едва не опрокинувшись, экипаж сорвался с места и стрелой понесся по улице, задевая стены окрестных домов. Вслед им прогремело два или три выстрела. Кроуфорд по-разбойничьи свистнул и привстал на козлах, нахлестывая лошадей. Повозка с оглушительным грохотом пронеслась мимо губернаторского дома и свернула к порту. Редкие прохожие шарахались в стороны, ругаясь на чем свет стоит. В трясущемся окне кареты Уильям в какой-то момент разглядел бегущих из боковой улочки солдат, но они тут же пропали. Кроуфорд правил прямо к дощатым причалам, возле которых покачивались на воде каботажные суда. Моряки, находившиеся у кнехтов *["231], видя мчащихся на них обезумевших лошадей, в панике разбегались в стороны. А Кроуфорд, не останавливаясь, продолжал гнать повозку в самый конец причала, где с поднятыми парусами дрейфовал шлюп с французским вымпелом на мачте. Когда до конца причала осталось не более пятидесяти ярдов, а кони замедлили бег, Кроуфорд вновь издал бешеный вопль, от которого у всех заложило в ушах, и так хлестнул лошадей, что слышащим этот звук показалось, что бич прогулялся по их собственным спинам. Копыта прогрохотали по крошащимся в щепу доскам, и со всего разгона экипаж с лошадьми вылетел с причала и рухнул в воду. Взбесившиеся от страха лошади заржали, туча брызг взметнулась к небу, но прежде, чем экипаж пошел ко дну, Амбулен пинком ноги вышиб дверцу и первым бросился в бурлящие волны. Хлынувшая вода накрыла Уильяма с головой. Он выплыл следом за Робертом и, прижимая к груди захлебывающуюся собачонку, поплыл на поверхность. Когда он вынырнул, вокруг плескались поднятые ими волны, а рядом в ужасе бились тонущие лошади. Вдруг он увидел Кроуфорда. Тот, мокрый до нитки, уже стоял на борту «Короля Луи» и размахивал руками. – На абордаж! – орал он. Теперь Уильям увидел и Амбулена – немного впереди он плыл к кутеру. Не прошло и пяти минут, как Кроуфорд уже помогал им забраться на палубу. – Руби концы! – заорал Кроуфорд, едва его маленькая команда снова объединилась. – Ставь парус! И дай нам Бог хорошего ветра! Он прогнал рыжую собачонку в рубку и сам встал к рулю. Потрошитель и еще несколько пиратов отпустили гитовы и развернули рею. Кутер медленно повернулся и будто нехотя направился к выходу из гавани. На берегу кричали и суетились люди. Уильям увидел, как из нацеленных им вслед мушкетов вылетают облачки дыма, а вскоре до них докатился и треск пальбы. – Худо! – прокричал ему в самое ухо Амбулен. – Если не уйдем – болтаться в пеньковых галстуках нам всем на набережной в назидание береговой братии! А ведь не уйдем! Смотри, полнейший штиль! Ах, дьявол! Впоследствии Уильям неоднократно задумывался о том, в каких отношениях находится Кроуфорд с высшими силами и кто, Бог или Дьявол, тогда помог ему на Тортуге; но без сверхъестественного вмешательства тут явно не обошлось. Когда они совсем уже пали духом и даже в рыбьих глазах Потрошителя появилось что-то похожее на беспокойство, вдруг откуда ни возьмись налетел ветер, хлопнул и туго надулся грот, и берег как по волшебству стал быстро удаляться. Далеко на пристани даже самые отчаянные головы опустили оружие, перестав зазря тратить порох и понимая, что кутер им уже не достать. – Сэ манифик! – заорал Амбелен и показал оставшимся на берегу неприличный жест. Ветер дул ровно, и кутер резал волны как масло. Когда он вышел в пролив, Уильям, мокрый как собака, подошел к стоявшему на руле Кроуфорду. Тот молча протянул ему бутылку с ромом, из которой только что пил сам. Харт благодарно кивнул и, запрокинув голову, припал к горлышку. Сэр Фрэнсис смотрел на него с удивлением. Выдохнув и утерев губы мокрым рукавом, Уильям взглянул на Кроуфорда, и они захохотали.
– Скоро мы будем на французской половине Эспаньолы, – сказал Кроуфорд. – Там наши старые неприятности закончатся. – Старые? – спросил Уильям. – Да. Помнишь мои карты таро? – Кроуфорд помолчал. – Сегодня ночью я в очередной раз разложил их. Выпал повешенный, башня и дьявол. – И что это значит? – осторожно спросил Уильям. – Ничего хорошего, говоря по правде. Карты сулят нам сокровища, но предупреждают, что все будет не так, как нам видится. Призраки оживут, деньги окажутся прахом, все отразится как в зеркале, и один падет с башни, а другой познает истину и достигнет цели. По правде говоря, мне не хотелось бы искать истину. Подозреваю, что она никому не будет нужна. Поэтому предупреждение насчет денег мне очень не нравится... – А про женщину с зелеными глазами карты тебе ничего не сказали? – серьезно спросил Уильям. Кроуфорд быстро посмотрел на него. – Что? Почему ты про нее вспомнил? – Я столкнулся с ней лицом к лицу и даже сподобился получить от нее поцелуй. – Уильям сам не знал, зачем он передает Кроуфорду столь маловажную подробность, но отчего-то ему очень хотелось видеть при этом его физиономию. Стоило Харту произнести это, как мучительная судорога исказила черты сэра Фрэнсиса, но, прикусив губу, он удержал слова, готовые сорваться с его уст. Желваки на его лице вздулись, и он метнул на Уильяма столь бешеный взгляд, что тот невольно отшатнулся. Но вслед за этим лицо его с поразительной быстротой приняло прежнее выражение, и только капли крови, выстелившие на его губах, показали, чего ему это стоило. – Продолжайте, Харт, не стесняйтесь, – хрипло сказал он, отхлебывая из бутылки. Уильям поведал ему все, что видел сам и услышал от Элейны. – Хорошо, – мрачно кивнул Кроуфорд в ответ и усмехнулся. – Что ж, какой для ненавистников урок, что Небо убивает вас любовью!.. – Кроуфорд замолчал и жадно глотнул еще рома. – Кстати, Уильям, ты обратил внимание, что в гавани Бас-Тер нет ни одного голландского корабля? Зато там бросил якорь фрегат «Черная стрела». Значит, папашу Абрабанеля доставили сюда силами французского флота. Все это выглядит крайне занятно и все больше напоминает мне игру в шахматы. Правда, одно я могу предсказать с уверенностью: на Эспаньоле у нас не будет ни минуты покоя. Потому что они все явятся туда – и зеленоглазая женщина с фальшивой картой за корсажем, и разъяренный Билл, который не простит французам, что они так невежливо с ним обошлись, и флегматичные голландцы, которым от нас досталось больше всего. А еще не забывайте про надменных испанцев, которые только и ждут, как бы перерезать глотку заблудшему англичанину. Вот поэтому я и предсказываю – нам следует ждать новых неприятностей, сэр Уильям Харт! Кстати, вы не спрашивали у себя, как оказался ваш друг Амбулен там же, где и мы? Уильям непонимающе посмотрел на Кроуфорда и беззаботно пожал плечами. – Не спрашивали, значит, – угрюмо констатировал сэр Фрэнсис и замолчал. Уильям посмотрел вперед – туда, где в зеленовато-голубой дымке возносились к солнцу горные хребты Эспаньолы. Он вспомнил Элейну и поспешно схватился за грудь: мощевик оказался на месте. Уильям улыбнулся и поднял глаза к небу, единой перевернутой чашей накрывшему и шлюп, и Большую Землю, и далекую Англию. «Пусть неприятности! – подумал он весело. – А я буду надеяться и ждать совсем иного. И может быть, как раз поэтому я и достигну цели?». Он вытянул руку в сторону нового берега и сказал: – Земля!
Питер Марвел
 Шутка мертвого капитана
Шутка мертвого капитана
Доверчиво времени отдаем мы в залог,Юность и радость, и все, что имеем,И оно отплатить дает нам зарок,Но платит с годами лишь прахом и тленьем;И тьмою, и тишью могил замыкаемВсе наши пути, по которым блуждаем.Но волен Господь и из праха земногоПо вере моей воскресить меня снова.Сэр Уолтер Рэли, капитан гвардии Ее Величества королевы Англии Елизаветы IПер. Д. Болотиной
Жану де Габриэлю, хозяину заведения «Таверна Питера Питта», вдохновившему меня своим ромом и побасенками на создание этой книги посвящается.Питер Марвел
Да, я люблю.Коснуться этих слов?Да это значит —по лезвию губами прочертить,где вместо звуков льются поцелуи,мешаясь с кровью на моих губах.Фрэнсис Кроуфорд
Моральному выводу не нужно особо отведенных строк, ибо он занимает столько же места, сколько и вся сказка.
Глава 1 Вахта Дианы
Англия. Тауэр. 1618 год
Odor rosarum manet in manu estiam Rosa submot *["232].Луна висела над городом, и ни единой звезды не было в ночном небе. Шел пятый час пополуночи — вахта Дианы *["233], или королевская вахта, или, если угодно, собачья, — кому как нравится. Как и прежде, в Испанском озере *["234]или у дверей спальни Ее Величества, капитан предпочитал нести ее сам. Черное и белое, свет и тьма. На одном из своих портретов он велел подрисовать в углу острый серп полумесяца — этого солнца мертвых, что явился символом долгого царствования рыжей Бесс. Сегодня он видит его в последний раз, как в последний раз несет свою сорокалетнюю стражу при луне. Что ж, все, чего он в жизни не совершил, он не совершил по своей собственной воле — много ли его друзей могут похвастаться тем же? Сэр Уолтер Рэли смотрел в забранное решеткой стрельчатое окно камеры и улыбался. Когда огненно-красный плащ захудалого дворянина упал в грязь перед королевой, кто мог предположить, что единственная новая вещь в гардеробе никому не известного офицера ляжет в основу могущества всесильного фаворита королевы-девственницы? Ему не нужна вечность. Вечная жизнь — это вечная память, это вечное повторение того, что, будь его воля, он бы никогда не совершил. Например, он никогда бы не купил этого алого расшитого золотом плаща. Слишком много красного — это всегда плохо. Черные флаги Армады были куда милосерднее красных полотнищ его соратников по оружию. Черный — это скорбь, а в скорби всегда есть место состраданию. Красный — это кровь. Когда его корабли поднимали на мачтах красные флаги, это означало, что они шли проливать влагу, в которой дымилась жизнь, быстро остужаемая норд-остом. Лаская рыжие кудри Ее Величества, Рэли мнил, что на самом деле есть всего два цвета: черный и белый, а все остальные оттенки лишь идиотская попытка уйти от истины, не впадая в ложь, — как будто это возможно. Тянуло холодом и пресной сыростью с Темзы, огарок свечи на грубо сработанном дощатом столе едва освещал угол географической карты, начертанной уверенной рукой мастера, да пару лимонов на треснувшем фаянсовом блюде. По распоряжению короля Якова в камере было запрещено иметь металлические предметы, поэтому даже ножи у него были костяные — те, которые он сам привез с берегов Новой Гвианы. На жесткой постели валяются книги, кисет, расшитый Елизаветой, нет, не Лунной девой, а его женой, Елизаветой Трогмонтон, леди Рэли, да еще вчерашняя несвежая рубаха и исписанные твердым почерком листы бумаги. Бедная жена! Наконец-то она сможет владеть им безраздельно. Совсем как он написал когда-то, тоскуя по ней в капитанской каюте давно сгнившего на старых верфях корабля:
Глава 2 Охота в разгаре
Эспаньола
Уильям Харт выглянул из-под полога наскоро сложенной из бамбуковых стволов хижины и понял, что их опять ожидают два пренеприятных сюрприза. Один сюрприз клубился над вершинами скал: набухшие дождем фиолетовые тучи, как нарочно, стягивались к тому месту, где Харт с товарищами устроили привал. Не пройдет и часа, как разразится такой ливень, от которого все вокруг — даже острые обломки камней — пропитается водой. Харт еще не успел просохнуть после вчерашнего ливня, и перспектива снова встретиться с водной стихией его совсем не обрадовала. Но куда больше озадачил его второй сюрприз, по сравнению с которым даже тропический ливень казался приятной неожиданностью. С небольшой площадки на уступе скалы, где они раскинули свой бивак, было очень хорошо видно, как далеко внизу, по вьющейся между камнями и низкорослым кустарником тропе осторожно поднимаются около дюжины мужчин. Они шли явно не на охоту за свиньями или быками. В качестве дичи им служили Харт и его спутники, которые сейчас мирно почивали на жестких побегах асаий. Следовало признать, что у голландцев и французов — а это были именно они — имелся резон быть недовольными своими зарвавшимися соперниками. Уильям Харт это отлично понимал, но сдаваться на милость преследователям отнюдь не собирался. Невзгоды последних месяцев закалили его характер и сделали куда более толстокожим по отношению к уколам судьбы. Он теперь все время слышал самый важный параграф из Кодекса Берегового Братства: заботиться о себе нужно в первую очередь, потому что больше никто заботиться о тебе не станет. Потрошитель часто повторял эту нехитрую заповедь, подгоняя отставших и заставляя подниматься тех, кто больше не мог идти. «Так устроен мир, приятель, и с этим ничего не поделаешь, — говорил он, тыкая острием ножа под ребра отчаявшимся. — Если ты забудешь об этом, то вряд ли дойдешь до конца». Но даже это нехитрое пиратское правило Харт не желал принимать без поправок. Шагая по колено в болотной жиже, карабкаясь по острым скалам или падая без сил на землю, Уильям упрямо твердил про себя: «Господи, дай мне силы сделать то, что я должен, отними у меня возможность совершить постыдное и дай мне мудрость отличить первое от второго». Сейчас же, проснувшись от едкого укуса какого-то насекомого, Харт обнаружил, что часовые сладко спят, уткнувшись носами в грязные колени. Уильяму стало жаль незадачливых сторожей: Потрошитель под злую руку запросто мог дать им в зубы, а то и выпустить кишки. Посему Харт потряс за плечо одного из них и, когда Боб в панике дернулся, хватаясь за кремневый пистолет, приложил палец к губам. — Тсс, тихо, — прошептал он. — Вы проспали врагов. Пират вскочил и во всю мощь своих легких заорал было полундру, но Уильям быстро зажал ему рот рукой. В то же мгновение они услыхали за спиной шорох и дружно обернулись. Из шалаша выполз Кроуфорд и, судорожно подавляя зевок, огляделся. В ногах у него путалась крошечная кудлатая собачонка. Кроуфорд по-прежнему не расставался с Хароном, несмотря на неудобства, которые эта тварь всем приносила. Вот и сейчас Уильям сдержал язвительное замечание, которое так и норовило сорваться с его уст, и просто поманил Кроуфорда пальцем и указал вниз на тропу. Кроуфорд, с выступившей на щеках щетиной, не до конца просохший и злой, посмотрел на приближающийся отряд и выругался: — Проклятье! Эти французы, науськиваемые неугомонным Абрабанелем, — упрямые ребята! Я надеялся, что они оставили нас наконец в покое. Есть же у них карта, что им еще от нас нужно? Видно, в сезон дождей у них принято гоняться за англичанами. Надо поинтересоваться у твоего чертова лекаришки Амбулена, нет ли у него какой микстуры от соотечественников. Ба-а, да это же наши часовые все проспали! Ну, сейчас выползет на свет Божий Джек, он им распишет географию на спинах. — Пока вы будете наводить порядок,Кроуфорд — заметил Уильям, — нас схватят и поджарят как куропаток. Эти искатели сокровищ очень на нас сердиты. — За что?! — искренне удивился Кроуфорд. — Мы «ад хонорес», так сказать, то бишь совершенно безвозмездно, отдали им карту, оставили, можно сказать, в залог замечательное судно, а теперь развлекаем их, как можем, гоняя по гилее, как мартышек. Все-таки люди — самые неблагодарные создания. В ту же секунду задом вперед из шалаша выпал Потрошитель. Быстро оглядев компанию, он мрачно сплюнул и повернулся к часовым. — Проспали, значит, вахту, ребятки?! — угрожающе произнес он и с размаху двинул в зубы Джону, тому самому пирату, рожу которого пересекал страшный сабельный рубец. Тот схватился за лицо, и сквозь пальцы его немедленно проступила кровь. Потрошитель повернулся ко второму: — Мы на суше, браток, и у меня нет времени следовать Кодексу. Считай, что получил сухим пайком причитающиеся тебе по закону Моисееву сорок ударов плетью по голой заднице, — закончив, Потрошитель вполсилы врезал матросу в ухо и вытер руку о штаны. — Подберите сопли, джентльмены. Сдается мне, что скоро нам будет так жарко, что наши рубахи наконец-то просохнут. Кроуфорд не обращал на дисциплинарные взыскания Потрошителя ни малейшего внимания. Облокотившись о большой валун, он внимательно обозревал ползущий в гору отряд. — Итак, половина из них с пистолетами, — констатировал он немного погодя. — Причем пистолетов у них в два раза больше. Значит, одни будут заряжать, другие — стрелять. Они не хотят терять время. Отлично! Кроме того, у каждого по два кремневых пистолета за поясом. Ну и, разумеется, сабли. Не очень мне нравятся их физиономии: благородных людей среди них, кажется, немного. Увы, дуэльный кодекс сейчас вряд ли пригодится. Придется довольствоваться теми обычаями, которые здесь в ходу. В конце концов, это и нам развяжет руки. Мы должны разделаться с этой компанией — она становится слишком докучливой. — Как мы можем разделаться с ними? Их в два раза больше, и они лучше вооружены. Все наши припасы или истрачены, или подмокли. Нам нужно поскорее уносить отсюда ноги. — Возможно, Уильям, за поворотом нас ждет неприятный сюрприз, — возразил Кроуфорд, повторяя вслух невысказанную мысль Харта. — Засыпанная обвалом дорога или что-нибудь еще похуже. Нам придется искать обходную тропу, терять время… Нет, мы должны принять бой. Эй, просыпайтесь! Хватит дрыхнуть, потроха собачьи! Шевалье Амбулен! Ваши соотечественники жаждут покороче познакомиться с вами! Капитан Ивлин, французские каторжники вызывают вас на бой, который я не рискну назвать сухопутным, потому что вот-вот разверзнутся хляби небесные и мы поплывем в объятия друг другу… Поднимайтесь, пока противник не намотал вам на уши офицерские шарфы! Его пламенная речь возымела действие, и из-под навеса высунулись две недовольные физиономии: красная, с топорным подбородком, принадлежала капитану Ивлину, молодая, с бородкой и усиками a la roi *["237], — Роберу Амбулену. И тот и другой не менее остальных страдали от высокой влажности, поэтому на них наибольшее впечатление произвела та часть речи, где говорилось о грядущем потопе. Едва выглянув из своего убежища, оба первым делом уставились на небо и хором простонали: — Опять дождь?! — До дождя вы можете и не дожить, — отрезал Кроуфорд, — если не начнете шевелиться. Посмотрите вниз. Через четверть часа здесь будут неприятные и злые люди. Они никак не могут забыть нашей небольшую шалость, которую мы позволили себе на пристани Тортуги. Такая злопамятность наводит меня на мысль, что мы совершенно напрасно доверили им карту. Это никак не повлияло на отношение к нам. Одним словом, мы должны устроить нашим друзьям достойную встречу. Кто-нибудь, бросьте сапог так, чтобы он высовывался из шалаша. Пусть думают, что мы все еще пребываем в объятиях Морфея… Потрошитель, затаись с ребятами в камнях. Кстати, нашу единственную лошадку нужно привязать поближе: вид мирно пасущейся лошади ласкает взор и умиротворяет сердце. Узрев такую пастораль, французы не заподозрят подвоха. Тем временем мы с Уильямом, как люди нехорошие и изощренные в коварстве, поднимемся вот на этот уступ, где, по-моему, не слишком крепко сидят некоторые камни. Вы же, — тут Кроуфорд с поклоном обратился к шевалье и капитану, — как натуры прямые и отважные, спрячетесь на время за кустами неподалеку. Будьте в арьергарде или в засаде — как вам больше понравится. Однако держите пистолеты и шпаги наготове. Когда потребуется ваша помощь, вы не должны терять ни секунды, понимаете? — А что мы будем делать на этой круче? — с подозрением спросил Уильям, задирая голову и рассматривая скалу, про которую говорил Кроуфорд. — Как только французы будут здесь, мы низвергнем на их головы град и жупел, — усмехнулся Кроуфорд. — Они, разумеется, сразу же решат атаковать наш аскетичный приют, а мы с тобой обрушим на них сверху несколько камней покрупнее. Когда же они отвлекутся на эту лавину, на них пойдут Потрошитель с ребятами, да и доктор с капитаном заодно. Завяжется бой, и тут уж мы спрыгнем вниз и тоже вздуем мерзавцев. — Высоковато прыгать, — с сомнением пробормотал Уильям. — Как бы шею не свернуть. — Чтобы не свернуть шею себе, старайся прыгать на шею французу, — глубокомысленно изрек Кроуфорд. — А теперь — все по местам! И не забудьте про сапог! Он должен высовываться наружу как можно естественнее — в этом самая изюминка! Подействовала ли близость опасности или решительный тон Кроуфорд, но, выслушав его, отряд преобразился. Разобрав пистолеты с заведомо сухими зарядами, все бросились выполнять приказания и занимать позиции. У порога Потрошитель выложил приманку в виде сапога, Джон, хлюпая кровавыми пузырями, привел лошадь и привязал возле хижины, Амбулен с Ивлином попрыгали в густые кусты и затаились там. Кроуфорд со шпагой в руке ловко принялся скакать по камням, взбираясь на гребень скалы, нависавший над горной дорогой. Уильяму было не по душе такое занятие, но ударить лицом в грязь перед старшим другом он не мог. Через две-три минуты они оба, ободранные, запыхавшиеся, но довольные, залегли на вершине среди острых каменных обломков, каждый из которых был весом не менее полутора сотен фунтов. Теперь оставалось дождаться гостей. Сверху Уильяму было отлично видно поросшую зеленью площадку, на которой стояла их хижина и паслась уцелевшая лошадь. В нависавших над самым обрывом кустах можно было различить две распластавшиеся на земле фигуры: Амбулен и Ивлин ждали своего часа. Противная собачонка спряталась где-то внутри хижины. Уильям представил себе, как будет выглядеть прыжок с того места, где он сейчас находился, и ему стало дурно: казалось, что, исполнив задание, он наверняка разобьется в лепешку. Уильям покосился на своего спутника. Лицо Кроуфорда выглядело сосредоточенным и одновременно безмятежным. «Он-то наверняка спрыгнет, — подумалось Уильяму, — даже глазом не моргнет. Такое впечатление, будто этот человек играет со своей жизнью, развлекаясь этим от души, и чем непредсказуемее результат, тем сильнее затягивает его игра». Это могло бы показаться даже забавным, коли в сей водоворот не были бы втянуты другие жизни. Если дальнейшие поиски сокровищ будут проходить в такой же манере, то не сносить им головы. Слишком много желающих получить их в трофей: французы под предводительством таинственной незнакомки, разъяренный Черный Билл со своей кровожадной командой и лисица Абрабанель, с которым судьба постоянно сталкивает Уильяма. Вспомнив про банкира, Уильям вздохнул и невольно дотронулся до драгоценного мощевика, подаренного ему дочерью коадьютора. Неужели Элейна тоже высадилась на Эспаньолу? Представить ее карабкающейся по скалам или пробирающейся сквозь ядовитые болота было невозможно, но вот ее папенька… Ради золота он на карачках приползет туда, куда и редкая птица долетит. Уильям украдкой бросил взгляд на лежавшего плечом к плечу с ним капитана. Его прищуренный глаз уверенно смотрел вниз, на горную тропу, губы кривила презрительная усмешка, словно он был уверен в том, что никто, кроме него, не доберется до клада. Только сейчас Уильям начинал как следует понимать Кроуфорда: почему тот, имея карту несметных сокровищ, до сих пор даже не попытался их найти. В каком-то смысле тот поступал даже мудро: без тщательно подготовленной экспедиции, без верных помощников заниматься поисками сокровищ было бессмысленно. — Ты заснул, что ли? — раздался слева звенящий шепот, и Уильям невольно вздрогнул. Опустив голову вслед за пальцем Кроуфорда, он посмотрел вниз на дорогу. Отряд французов окружил их бивак. Один из солдат как раз тянулся кончиком обнаженной сабли к торчащему из-под веток сапогу, как Кроуфорд негромко скомандовал: — Пора! — и навалился на большой камень, едва держащийся на краю уступа. Уильям помог ему, и камень, издав глухой скрежет, стремительно полетел вниз. Но прежде чем он рухнул, они спихнули ему вдогонку еще несколько обломков поменьше. Огромный кусок известняковой скалы обрушился на ближайшего к ним солдата, сбил его с ног, как деревянную кеглю, и придавил второму ногу. Следующий камень упал еще удачнее — прямо на шляпу капрала, прикончив его на месте. — Вперед! — заорал Кроуфорд и прыгнул вниз. Уильям закрыл глаза и сиганул следом. Воздух просвистел у него в ушах, дыхание перехватило, и он упал на кого-то, инстинктивно вцепившись в него руками и увлекая за собой на землю. Открыв глаза, Уильям обнаружил, что Кроуфорд как ни в чем не бывало целится из пистолета в опешившего от неожиданности француза. Грохнул выстрел, и несчастный, обливаясь кровью, упал на тропу. Едва рассеялся пороховой дым, как из кустов с дикими воплями выскочили Амбулен и капитан Ивлин. Они одновременно выпалили из своих пистолетов и бросились вперед, извлекая шпаги из ножен. Испуганная лошадь поднялась на дыбы, оборвала ветку и помчалась куда-то вниз по склону. За ней, подскакивая, побежали мелкие камни. Потрошитель и двое пиратов прыгали на нападавших сзади и, верные своей тактике, перерезали им глотки. Вскоре все было кончено. Около шалаша в беспорядке валялись сраженные свинцом и сталью французы. Двое из них еще подавали признаки жизни: у одного была перебита камнем нога, а второму Уильям, кажется, сломал позвоночник, спрыгнув на него со скалы. Раненый дико кричал, и всем было ясно, что часы его сочтены. Испытывая священный ужас и отвращение к самому себе, Уильям отполз в сторону от изувеченного им человека и поднялся на ноги. Кроуфорд, морщась от пыли и грязи, обозревал поле боя, одновременно пряча пистолет за кушак. Короткая стычка принесла им победу и временную передышку. Единственный уцелевший француз озирался по сторонам с животным страхом и лепетал, умоляюще протягивая к нему руки: — Пощадите, я вам пригожусь, я узнал… Кроуфорд прищурил глаза и шагнул к французу. В тот же момент из груди несчастного вдруг брызнул фонтанчик крови, и следом из маленькой дырочки выглянуло стальное жало. Пленник выгнулся дугой, из груди его ударила тугая багровая струя, он захрипел, словно силясь что-то сказать, но изо рта его вырывались лишь кровавые пузыри. Он взмахнул руками, как будто пытаясь взлететь, и мешком рухнул на землю лицом вниз. Робер Амбулен перешагнул через еще дергающееся на земле тело и принялся вытирать шпагу о грязный платок. Вокруг убитого им человека медленно расплывалась темная густая влага, которая быстро смешивалась с утоптанной каменной крошкой. Сейчас же позади раздался другой стон, и, быстро обернувшись, Уильям увидел, как Потрошитель вынимает окровавленный нож из груди француза со сломанным позвоночником. — Вот тебе и мизерикордия *["238], — пробормотал Кроуфорд, и на красивом лице его мелькнуло отвращение. Джон, хлюпая разбитым носом, увлеченно обшаривал карманы добитого им солдата со сломанной ногой. Живых врагов на дороге больше не было. Уильям ринулся к Амбулену. Он схватил Робера за обшлага кафтана и тряхнул его так, что тонкое сукно жалобно затрещало. — Зачем ты это сделал?! — закричал Уильям ему в лицо. — Зачем ты убил его?! Он же просил пощады! Амбулен слегка оттолкнул Харта свободной рукой и со спокойной улыбкой отступил назад, как бы ненароком выставив руку, в которой была зажата все еще окровавленная шпага. — Что с тобой? — удивленно вскинув брови, произнес он. — Ты, англичанин, заступаешься за француза? Не забывай, эти люди преследовали нас, чтобы убить. — Мы победили и могли его пощадить! — с гневом сказал Уильям. — К чему нужно было брать на себя этот грех? Одно дело — убить человека в бою, а другое — в спину, так по… Амбулен снова вскинул безупречную бровь и с усмешкой поглядел на Харта. — Ну, договаривай, не стесняйся! — Так подло зарезать, — твердо произнес Харт. — Как ты мог, Робер? — Перестаньте ссориться, господа! — вмешался Кроуфорд. — Не будем восставать друг на друга из-за какого-то несчастного лягушатника! Я приношу свои извинения шевалье Амбулену, но его это определение, разумеется, не касается. Я лишь могу сожалеть, что не услышал тех слов, что начал произносить наш пленник. При этих словах Кроуфорд метнул загадочный взгляд в сторону Амбулена. Тот перехватил его, пожал плечами и растерянно потер рукой свой тонкий длинный нос, на котором тут же оказались следы крови. — Мне жаль, что я наделал столько шуму. Если бы я предвидел…. — Этого бедолагу действительно можно было отпустить. — Вы забываете, что он видел наши лица и знает, по какой дороге мы движемся! — возразил Амбулен. — Мы не должны оставлять таких свидетелей! Это слишком дорого нам обойдется! — Возможно, вы и правы, — сказал Кроуфорд, задумчиво глядя на француза. — Видел наши лица… Что ж, ваша предусмотрительность вызывает уважение. Хотя должен заметить, что нас видело предостаточное количество народу на Тортуге, да и тропа здесь практически одна. Ну да ладно, это ваше дело. Обжегшись на молоке, дуют на воду. Не будем ссориться между собой из-за мертвого врага. Лучше уничтожим следы этого спектакля. Сбросим тела с обрыва, соберем оружие, а тропический ливень доделает остальное. Действительно, едва они успели расчистить площадку от мертвецов, как хлынул давно ожидавшийся ливень, и маленькому отряду пришлось укрыться в хлипком шалаше. Своды его, выложенные из бамбуковых стволов, слабо защищали от потоков воды и порывов ветра. Когда дождь поутих, все оказались вымокшими до нитки и раздраженными до предела. — Скоро у меня вода потечет даже из ушей! — пробормотал Амбулен, с отвращением выливая воду из сапог. — А в животе заведутся головастики. — Тогда вам не придется гоняться за лягушками в поисках ужина, — меланхолично заметил капитан Ивлин и с грустью оглядел мокрое огниво. — Такое количество воды хорошо для водоема, где разводят карпов, но для человека и дворянина это просто неприлично. Мы должны что-то придумать, — примиряюще улыбнулся Харт. Пираты не сказали ничего, только зло хлюпнули носами, а Потрошитель, бросив выразительный взгляд на своего капитана, принялся задумчиво обстругивать бамбуковый колышек.* * *
— Так ты говоришь, Джек, что индеец сбежал с «Медузы» в тот же день, когда мы с Хартом так неудачно нарвались на этого жида Абрабареля? — Может, у меня и нет таких мозгов, как у всяких там образованных, кто просиживал штаны в университете, но даже мне понятно, что дело здесь нечисто, капитан, — Потрошитель тихо кашлянул в кулак и высморкался двумя пальцами, вытерев их о засаленные бархатные штаны. — Мы заперли его в трюме, беззащитного, как младенец в пеленках. И вот, когда вы приказали нам перебираться на кутер «Луи», мы хотели, как было уговорено, прихватить этого расписного молодца с собой. Джон спустился в трюм да как заорет: «Джек, сюда, говнюк-то (простите, сэр, вы же знаете Джона!) исчез!» Я, конечно, в сердцах огрел кошкой парочку ротозеев, но делу этим не поможешь! Так вот, сэр, клянусь своей матушкой, это французик его выпустил! Вы небось видали, как перемигивались они с этим ублюдком на испанском галеоне? Кроуфорд вздрогнул и посмотрел в глаза Потрошителю. Но там не было ничего, кроме преданности своему вожаку и жажды убийства. — Ты тоже заметил, Джек… Вот уж я не ожидал от тебя такой прыти. — Мне этот индеец не глянулся еще на Мартинике, где вы подцепили его в таверне. Я с него глаз не сводил. Я так вам скажу, сэр: кто предал один раз, предаст и другой. — Но галеон достался нам: индеец нас не обманул! — Возьмите еще угля, капитан. Ваша трубка совсем потухла! — Потрошитель вытащил из костра тлеющую головешку и поднес ее к серебряной трубке капитана, после чего раскурил и свою, деревянную. — Может, он и не обманул нас с галеоном, Дик, только, значит, это ему самому надо было. — Да, я так и понял. А что, Джек, выходит, лягушатник нечисто с нами играет? — Выходит, так, сэр. А как ловко он заколол того французишку, что попал к нам в плен! Как куренка на вертел надел! Видать, больно хотел заткнуть ему глотку. Вот тот и поперхнулся собственной кровушкой, аж до пузырей! Вспыхнувшая на мгновение трубка осветила улыбку Потрошителя. — Так, Джек, слушай сюда. Я не верю никому, кроме этого сопливого щенка Харта. Так что приглядывай за всеми, особенно за Амбуленом. Если что — сам знаешь. Только чтоб не насмерть. И береги Харта. — На что вам сдался этот птенчик, ума не приложу. Ну да у вас полно причуд, Дик. А насчет остального не беспокойтесь. Я умею сделать так, чтобы даже самые упрямые языки сделались посговорчивее. Вы еще успеете с ними побеседовать по душам. — Послушай меня, Джек, — Кроуфорд притянул Потрошителя к себе и прошептал ему прямо в спрятанное за жесткими седыми космами ухо: — Джек, я помню, что мы с тобой побратались, — после чего оттолкнул пирата и уже совсем другим голосом произнес: — Пора спать, Джек. Вот мы и отстояли свою вахту Дианы. — Что-что, капитан? — Собачья вахта подходит к концу, Джек.* * *
До означенного на карте селения оставалось около четверти мили, как вдруг Уильям, шедший впереди, предостерегающе поднял руку. Мгновенно замерев, все стали всматриваться в серую мглу, опускавшуюся над равниной. Впереди по склону горы, немного ниже компании Кроуфорда, по направлению к тому же селению, что и они, двигались люди. Это был довольно большой отряд — не менее сорока человек. По строгому порядку мерно шагающих людей можно было предположить, что это не просто вышедшие на прогулку местные плантаторы, а настоящий военный отряд. Во главе его ехал всадник на высокой гнедой лошади. — Что это значит? — с тревогой спросил Уильям. Кроуфорд поднес к глазу подзорную трубу и, нахмурившись, уставился на отряд. Вдруг губы его дрогнули, и, опустив трубу, он прошептал: — А это вышел кто из-под земли? — Дик, можно яснее? — Уильям не заметил, что стал называть Кроуфорда его пиратским прозвищем даже наедине. — Можно и яснее. Там в седле женщина. Я не могу разглядеть ее лица. Но люди, которые с ней, без сомнения, солдаты. И мне кажется, что они с «Черной стрелы». — Вы уверены? Вы думаете, это та самая женщина, которая перехватила карту у Черного Билла? Позвольте подзорную трубу, Дик! Кроуфорд улыбнулся и передал ему трубу. — Надеетесь различить черты прекрасной Элейны? Но уверяю вас, там всего одна женщина. Я не заметил там даже папаши-банкира. — А я его вижу! — вскричал Уильям, буквально впиваясь взглядом в окуляр подзорной трубы. — Смотрите, это он! Видите, еще одна лошадь? Действительно, в хвосте колонны появилось еще несколько лошадей. Ту, на которую обратил внимание Уильям, вернее было бы назвать мулом, потому что даже издали было видно, как недовольно это животное прядает своими длинноватыми ушами и насколько оно мало. На его спине умостился тучный господин, которого Уильям не мог не узнать даже издалека. Безо всякого сомнения, это был коадьютор голландской Вест-Индской компании Давид Малатеста Абрабанель собственной персоной. Рядом с предполагаемым тестем на крепкой пятнистой кобыле ехал невозмутимый капитан Ван Дер Фельд. Уильям на секунду затаил дыхание, так как сладкая надежда коснулась его сердца. И она не обманула его. Из-за густого кустарника выступил еще один мул, которым управляла, сидя вполоборота в высоком женском седле, мисс Элейна Абрабанель. — Это она, она здесь! — радостно воскликнул Харт. — Черт возьми, Уильям, дайте же трубу сюда! Нашли время разглядывать девочек, — Кроуфорд раздраженно вырвал инструмент из рук Харта и жадно уставился на отряд. Но женщина на гнедом жеребце уже скрылась за ветвями деревьев, так что на его долю остались лишь мулы с драгоценным грузом на спине, которые неспешно двигались в окружении полудюжины крепких голландцев, оберегавших своего предводителя и его дочь от всяческих бед. Кроуфорд опустил подзорную трубу и оглядел своих спутников. Если Уильям тщетно пытался скрыть нежданную радость, то на лице Ивлина явственно проступила такая ненависть к тем, кто смешал его доброе имя с грязью, что Кроуфорд тут же решил пересмотреть свое мнение о характере англичанина. Амбулен же совершенно безмятежно улыбался, вертя в руках затейливый цветок орхидеи, который он сорвал по пути, пока Потрошитель как-то совсем случайно держался у него за спиной, и изуродованная рука его, напоминающая клешню, лежала на рукояти ножа. Но если бы Кроуфорд подержал у глаза подзорную трубу еще хотя бы на пару секунд подольше, ему многое стало бы ясно. Вслед за голландцами на тропу бесшумно ступил Хуан Эстебано, одетый наполовину как индеец, наполовину как француз. Короткая суконная куртка, надетая прямо на голое тело, облекала его мускулистый торс, не скрывая пресловутой разноцветной татуировки в виде пернатого змея. На груди его на кожаных шнурах болтались большой медный крест, нож диковинной формы, похожий на змеиный зуб, и амулет, изображающий краснокожего сидящего на коленях дикаря с толстыми вывороченными губами и раздвоенным змеиным языком. Голову бывшего испанского доктора украшали вплетенные в косицу разноцветные перышки колибри и мелкие бусинки из осколков кварца. Индеец был бос, его короткие матросские штаны болтались на нем, как юбка, а в руке он нес просмоленный матросский сундучок. Как кошка, он скользил за отрядом, то ли напевая, то ли насвистывая себе что-то под нос. Но Кроуфорд, занятый мыслями о женщине и отряде, поспешил опустить подзорную трубу, и индеец, о котором он совсем недавно вспоминал, остался им не замеченным. Кроуфорд оглядел открывшийся перед ним чудесный вид на поросший пальмами и бамбуком склон горы, на подернутое легкой дымкой лазурное небо и причудливые узоры орхидей, чьи похожие на бороды корни прядями свисали с деревьев, втянул носом густой, насыщенный неизвестными ароматами, влажный воздух, прислушался к крикам и воплям птиц, чьи голоса доносились с верхушек пальм, и подумал о том, что на берегу Тортуги последняя стычка у них приключилась именно с голландцами, и удирали они сломя голову в первую очередь от них; и у тех шестерых, что следят сейчас за тем, чтобы Абрабанель не свалился с мула, наверняка имеются некоторые претензии к пиратам вообще и к Кроуфорду лично. Французы не любят голландцев, это точно, но раз уж и те и другие заключили временный союз между собой, значит, теперь их совместная нелюбовь будет направлена на англичан и пиратов. Амбулен, конечно, не самый плохой француз, но он все-таки француз, и от этого недостатка ему никогда не избавиться. Да и что-то не нравились Кроуфорду его невинные глазки цвета берлинской лазури. А неприятнее всего было то, что французы натянули им нос и явились в селение немного раньше, лишив отряд Кроуфорда ночлега под крышей. Похоже, эта простая мысль наконец-то дошла и до остальных. — Вот дьявол! — мрачно сказал Амбулен, сдвигая шляпу на лоб. — Нас все-таки опередили! А я-то мечтал погреться сегодня ночью у очага! — Благодарите Небо, если нам удастся набиться в постояльцы к какому-нибудь фермеру! — пробурчал капитан Ивлин. — Представляю, что сейчас творится в селении! Ваши соотечественники, месье Амбулен, сожрут все, что наготовили в таверне, да еще кинутся увиваться за девками!.. — Это маловероятно, — заметил Амбулен, доставая из украшенного эмалью футлярчика новую зубочистку. — Солдаты не станут ссориться с колонистами. Такая политика невыгодна королю. — И он задумчиво пожевал деревянную палочку. — Но ужин они сожрут, это точно. И займут все места на постоялом дворе, или что тут у них имеется. Нам негде будет даже лечь, не говоря уже о комнате с кроватью и умывальником… — О чем вы говорите! Лечь в кровать! Как бы нам тут вообще не уснуть вечным сном! Вы забыли, КАК мы покидали Тортугу? Не удивлюсь, если губернатор издал приказ о нашей немедленной поимке. Иногда де Пуанси становится удивительным придирой. Лет пять назад он повесил одного благородного джентльмена только за то, что тот убил в честном поединке парочку французов. Правда, перед этим он устроил засаду на проселочной дороге и стрелял им в спину, но в остальном поединок был совершенно честным… — Странное все-таки у англичан представление о юморе, заметил Амбулен. — И о чести, кстати, тоже. — Наверняка у французов представление обо всем превосходное, — вдруг вмешался в ленивую перебранку Харт. — То-то вы убили ударом в спину своего соотечественника… — Я действовал ради безопасности всех нас! — Оно и видно! — Тише, джентльмены, тише! Мы все расстроены плохой погодой и скверной едой, но это не повод для ссоры! Кстати, месье Робер, у вас нет никаких свежих мыслей по поводу нашего ночлега? — Да нет у меня никаких мыслей! — раздраженно ответил Амбулен, отворачиваясь. — Не мог же я знать, что французы окажутся столь проворными, что опередят нас на полдня пути! — Я думаю, мы должны послать кого-нибудь на разведку, — предложил Уильям. — Я бы и сам пошел, но разумнее сейчас поручить это Амбулену. Он француз, и его уж точно теперь никто не знает в лицо. Он спокойно переговорит с любым колонистом или солдатом и попытается узнать, что на уме у наших противников. А заодно Амбулен может попробовать договориться с кем-нибудь из местных о ночлеге. Честно говоря, больше всего на свете мне сейчас хочется съесть кусок жареной говядины и упасть на какую-нибудь подстилку, чтобы наконец отдохнуть, не опасаясь утонуть во сне. Кроуфорд со странной грустью посмотрел на Уильяма и подумал, что всего месяц назад, окажись Харт в такой ситуации, он думал бы не о бифштексе и койке, а о том, как увидеть ту, в кого влюблен. Кроуфорд прикрыл воспаленные от постоянного недосыпания глаза и улыбнулся.* * *
Когда Роджер оказался на палубе шхуны, которой заправлял Олонэ, ему была уготована грустная участь. Таких неумех, чудом уцелевших после удачного абордажа, либо скармливали акулам при нехватке пресной воды, либо продавали в рабство, если за них нельзя было получить выкуп. Те же, кого по странной прихоти судьбы отчего-то миновала эта участь, опускались на самую низкую ступень пиратской Либерталии *["239]. Они становились шкертами *["240], или «придурками». Когда ударом в зубы Роджера загнали на бак, где в полутьме и сырости ютилась команда, он еще не успел осознать, что его игре в благородного мстителя сейчас будет положен конец. Сплевывая кровь из разбитого рта, он затравленно прижимался спиной к ребрам выступающих из стены полусгнивших коек и с тоскливым ужасом оглядывал троих крепких мужчин. От их давно не мытых тел разило мочой и потом, их щербатые рты щерились в звериных оскалах. Вдруг один из них, которого Роджер про себя успел окрестить обезьяной, сделал шаг к нему и улыбнулся, обдав юношу невыносимой вонью гниющих зубов. В ту же секунду что-то пронзительно пискнуло, и краем глаза Роджер заметил крысу, на которую наступил пират. Крыса, извернувшись, вцепилась ему в голую ногу, а Роджер со всей силы ударил обезьяну в глаза двумя растопыренными пальцами, как били в грязных тавернах Лондона, где он заливал свою боль дешевым джином. В ту же секунду чей-то кулак вмялся ему под дых, но, прежде чем скрутиться в приступе кашля и рвоты, он успел ударить ногой в пах второму, тому, что стоял прямо за обезьяной. Потом его били до тех пор, пока серебряная дудочка боцмана не вызвала эту смену тянуть канаты и убирать паруса. Как ни странно, зубы его уцелели, и, валяясь в тухлой водице на дне трюма, он кончиками пальцев ощупывал сломанные ребра и дышал одним горлом, думая о том, что ему уже никогда не выпрямиться. Гнилое дерево в пять пальцев толщиной отделяло его от соленой смерти, по ногам его бегали крысы, норовя доползти до лица. Однажды кто-то потряс его за плечо, и хриплый голос спросил: — Эй, парень, ты знаешь, чем компас отличается от склянок? — Я даже знаю, в чем разница между секстантом и астролябией, — еле шевеля разбитыми губами, весело, как казалось ему, ответил он. На самом деле штурман услышал лишь сиплый шепот, но он и так узнал все, что ему было нужно. — Тогда вставай, лодырь. Пора приниматься за дело. Шхуна Олонэ шла к берегам Новой Гвианы *["241].* * *
Кроуфорд с трудом разлепил уставшие глаза. — …Да, я бы сожрал сейчас даже крысу, — говорил Амбулен. — Поэтому в первую очередь займусь поисками жилья. Такая толпа, да еще и с обозом, никуда от нас не денется. А планы здесь моментально становятся достоянием публики. Я уверен, утром даже дети будут рассказывать, куда держат путь солдаты и какие именно сокровища поджидают их в горах Северного хребта… Амбулен произнес название гор между прочим, но Кроуфорд с улыбкой посмотрел на врача. — Не старайтесь, Амбулен! — сказал он. — Я не дам вам подсказки, пока мы все не окажемся на месте. — А я вовсе не нуждаюсь ни в каких подсказках! — возразил француз. — Я сказал просто так. Все равно горы здесь велики, и никакая подсказка не поможет найти иголку в стоге сена. — Это верно, — согласился Кроуфорд. — Поэтому и не будем отвлекаться. Мы направляемся в Гро-Шуан. Сначала вы, Амбулен, а потом и мы. А пока мы будем ждать вас вон там, в той пальмовой рощице, на восточном краю села. Признаться, я тоже перекусил бы горяченьким, хотя скажу вам, братцы, крысы вовсе не так вкусны, как кажется. Берите пример с нашего штурмана. Джон Ивлин являет нам пример истинного британца, нечувствительного к боли и усталости. — Нет, господа, истинные британцы, так же, как и все, нуждаются в отдыхе, — заявил капитан Ивлин, оправляя кафтан. — Готов согласиться даже с отсутствием ужина, но нам всем крайне необходимо просушить одежду и получить хотя бы пять часов здорового крепкого сна. — Браво! Великолепно сказано! — засмеялся Кроуфорд. — Да здравствует синергия и единомыслие! Думаю, фортуна сжалится над нами, ведь она любит настоящих джентльменов. Пираты засмеялись в предвкушении еды и выпивки и с уважением посмотрели на своего Веселого Дика.* * *
Тьма быстро накатывалась на равнину с гор. С ветвей посыпались тяжелые капли росы, печально закричала какая-то птица, ей ответил дружный рев обезьян. В полутьме очертания сделались расплывчатыми, уставшие люди то и дело сдерживали нервную зевоту и зябко поводили плечами. Харон, измазавшийся в жирной земле, похрюкивая, рылся в корнях кустов, охотясь за каким-то мелким зверьком. Расположившись прямо на земле, англичане ждали возвращения Амбулена. Но стройная фигура молодого француза возникла в сгущающихся сумерках неожиданно даже для Кроуфорда. — За четыре реала и пистолет местный кузнец готов предоставить нам кров и ужин, — объявил Амбулен. — Он живет на самом краю селения, поэтому проблем у нас не будет. Дальше на площади мои соотечественники выставили посты — вооруженные солдаты наблюдают за порядком в деревне. Остальные разошлись по квартирам. Жаль, кузнец попался нелюбопытный, и мнение по поводу вооруженного отряда французов и голландцев иметь отказался. — Надеюсь, он откажется от мнений и по нашему поводу, — ворчливо заметил Джон Ивлин. — Но, как я и полагал, до утра вряд ли мы что-нибудь узнаем, — Амбулен пропустил замечание Ивлина мимо ушей. — Самое разумное сейчас — отправиться на ночлег. — Вперед! — сказал Кроуфорд, медленно поднимаясь и потирая затекшие ноги. — А что вы подразумевали под скромным ужином, Амбулен? — Свинину и пальмовое вино. Кузнец — человек холостой и не держит кухарку. Мне еле удалось уломать его, но четыре реала и оружие для него то же самое, что для нас — сокровища конкистадоров. Отряд гуськом выступил к селению, настороженно вглядываясь в желтые огоньки окон и в пыльные прямые улицы. Даже издали было ясно, что в селении происходит что-то необычное. На центральной площади взад и вперед разгуливали люди с факелами. Хрипло брехали собаки. Никто не ложился спать. Видимо, такого количества гостей здесь не бывало уже очень давно. Не доходя сотни ярдов до крайнего дома, Кроуфорд знаком приказал остановиться. Притаившись у сложенного из дикого камня забора, они принялись ждать. Шум и крики в селении постепенно стихали: незваные гости разбредались по чужим домам, принимались за еду, заваливались на устроенные на скорую руку постели. Воображая эти завидные картины, Уильям только мрачно вздыхал. Он уже окончательно уверился, что Элейна осталась на фрегате, и в большой степени потерял интерес к встрече с ее отцом. Для решительного объяснения с этим негодным человеком ему требовалось не меньше сундука с золотом и бриллиантами, но все это лежало где-то далеко в горах Эспаньолы, среди колючих зарослей, острых скал и сырых облаков, лепящихся по склонам… Незамеченными они подобрались к дому кузнеца и разместились под его крышей. Кузнец оказался немногословным и недоверчивым человеком, заросшим густой бородой. Правда, получив на руки четыре реала и заряженный пистолет с мешочком сырого пороха в придачу, он повеселел и проявил исключительное для себя радушие — выставил на стол оловянное блюдо с окороком, миску печеных бананов и выдолбленную тыкву с пальмовым вином. Вместо постели он принес со двора и швырнул на земляной пол охапку тростника, прикрыв ее парой пыльных циновок. Он ни слова не сказал против рыжей собачонки, которую Кроуфорд за столом не спускал с рук, только внимательно оглядел ее и что-то пробормотал себе под нос. Путешественники тоже молчали. Кое-как поужинав бананами, они повалились на импровизированную постель — у всех буквально слипались глаза. Кузнец спрятал в тайник драгоценный пистолет и монеты, заботливо задул страшно коптящую масляную лампу и сам улегся спать в углу на кровати, сплетенной из неизменного бамбука и пальмовых листьев, предусмотрительно сунув кухонный нож себе под подушку. Заснуть, правда, он смог не скоро: неслыханная удача, свалившаяся на него так внезапно, подогревала его алчность и кузнец думал о том, что утром, пожалуй, стоит попросить у щедрых постояльцев еще парочку пистолетов или несколько золотых — он отметил, что незнакомцы вооружены до зубов и очень не хотят огласки. Гости же заснули мгновенно, а самым первым — Уильям, который будто провалился в черную бездну, откуда словно не было возврата. Вдруг кузнец почувствовал, как кто-то осторожно касается его руки. Он схватился за нож и приготовился заорать, но мягкая ладонь аккуратно зажала ему рот, а на ухо прошептали: — Тс-с-с, тихо, месье. Я не причиню вам вреда. Я лишь хочу кое о чем вас попросить… И руки кузнеца коснулись прохладные металлические кружочки.* * *
За полчаса до рассвета из объятий Морфея всех вырвал раздавшийся за окном грохот пистолетного выстрела. А потом где-то поблизости вдруг бухнула небольшая пушка, в темноте остро запахло кислым пороховым дымом, и вскоре уже началась настоящая перестрелка.Глава 3 Цель оправдывает средства
Карибское море. Новая Гвиана.
Ноябрь 1692 года
Звезды светили так ярко, что Дамиан был убежден: в случае нужды при подобном свете без труда можно читать молитвенник. Во всяком случае, он видел довольно отчетливо лица своих спутников, и песчаный берег, которым предстояло идти, и белую полоску прибоя, накатывающегося на песок, и призрачное мерцание на поверхности волн, и черный занавес тропического леса, подступающего к самому берегу. Душная влажная жара, казалось, ничуть не убавилась и после захода солнца. К счастью, ветер с моря разогнал хотя бы всякий гнус, которого было неслыханное множество в чаще. Гнус, разъедающий кожу до гноящихся язв, ночные летающие твари, едва не задевающие лица кожаными холодными крыльями, крадущиеся тайными тропами хищники — если бы не проводник, если бы дерзнули они выйти в путь вдвоем, то путь этот окончиться мог большой бедой. Нет, конечно, на все воля Божья, и не зря, шагая сквозь ядовитые испарения джунглей, новоиспеченный коадьютор *["242]Дамиан беспрестанно повторял молитвы, коих память его вмещала великое множество, — потому ночью и не было резонов обращаться к молитвеннику. Господь вывел его к блаженному берегу, и теперь предстояло преодолеть еще с десяток миль в обход тропического леса, чтобы к утру настичь неутомимого отца Франциска, профоса Ордена иезуитов, утверждающего власть ключей святого Петра на берегах реки Ориноко. Об отце Франциске Диасе Дамиан, как и положено, ничего не слышал до того самого момента, как генерал-визитатор и префект Антильских островов, прокуратор обители Сен-Пьере отец Жан де Ла Валлет не вызвал его к себе и не посвятил в детали ответственной миссии. Судя по тому скрытому уважению, которое сквозило в скупых словах префекта, отец Франциск являлся личностью необыкновенной, настоящим воином Христовым, вроде тех овеянных легендарной славой героев, которые подняли меч и крест священных походов и дошли с ними до стен Иерусалима. Оттого духовный коадьютор Дамиан и преисполнился гордости за свою миссию, хотя на первый взгляд не было в ней ничего высокого, никакого подвига — всего-то отплыть с Мартиники к устью Ориноко. В ту страну, которая носит название Новая Гвиана, и отыскать там отца Франциска, второй год несущего слово Божье диким краснокожим племенам, этим злосчастным потомкам Хама *["243], каждый из которых несет на себе проклятие Ноя и мало подобен образу Божьему, по которому, как известно, сотворен человек. Это, действительно, была миссия, требующая безграничного терпения и самоотречения, — Дамиан понимал это сейчас особенно остро, совершив изнуряющий вояж по океану, вкусив прелести морской болезни, отведав заплесневелых сухарей и червивой солонины, испытав удобства судового гальюна, вечной жажды от нехватки пресной воды и насладившись обществом крыс, шныряющих между ногами прямо по верхней палубе. Необходимость самоотречения подтвердилась и в полудиком селенье на побережье, где все хижины были выстроены из пальмовых жердей и крыты пальмовым листом, а по стенам и полу их бегали зеленые и коричневые тараканы величиной с добрую тарелку; где величайшем деликатесом считалось куриное мясо, а воду приходилось разбавлять ромом и особыми порошками, от которого та делалась или ядовито-розовой, или невыносимо горькой. Увидев впервые, как негры-невольники вытаскивают у себя из-под кожи, лениво наматывая на палочку, червей длиной в метр, и поглядев на мух, которые откладывали яйца прямо в кожу скота и белых людей, которых потом заживо сжирали жирные белые личинки, отец Дамиан затосковал и, наверное, в первый раз в жизни задумался о том, что есть бремя белого человека, бремя миссионера, несущего цивилизацию в те края, где об оной даже и не слыхали. Он думал об этом непрерывно, отправившись вслед за проводником сквозь тонущие в зеленом мраке джунгли на поиски отца Франциска, который мог быть где угодно, который вообще мог раствориться без следа в этой непрестанно рождающей и жрущей пучине, которая почему-то называлась лесом, но была наверняка тем самым местом, которое легко может заменить собой пару кругов Дантова ада. И близость дьявола здесь чувствовалась особенно остро. Эти бесконечные вопли в чаще, от которых мороз шел по коже, эта жара, от которой саднило горло и темнело в глазах, это ощущение ненависти к чужаку, которое, казалось, исходило даже от кустов и деревьев, брызжущих и плюющихся в Дамиана зеленой кровью каждый раз, когда он неловко оступался и с хрустом ломал сочные волокнистые стебли. Дамиану всего-то и нужно было, отыскать отца Франциска, а тому приходилось ежедневно и еженощно сражаться здесь с дьяволом и его слугами уже много лет. А слуг у дьявола здесь хватало. Во-первых, все эти дикари, красные, как вареные раки, от одного вида которых Дамиану становилось настолько не по себе, что он с утроенным рвением принимался читать про себя розарий и осенять все вокруг крестным знамением. Но была у дьявола и паства еще худшая, занявшая форпосты на берегах Венесуэлы, пробавлявшаяся здесь торговлей рабами и жемчугом нидерландские лавочники, проклятые протестанты, предавшие истинную веру, вступившие в сговор с нечестивыми жидами и силами тьмы, обманом и силой умножающие неправедные богатства, расползающиеся по земле, как зараза. Чего стоил только тот факт, что голландские купцы додумались нанимать бежавших от преследований инквизиции ведьм для обеспечения успеха биржевых операций?! Ведь сколько угодно можно было потешаться над суеверием старух и отцов-доминиканцев, лежа в дортуаре коллежа где-нибудь в Севилье или Мадриде, но совсем по-другому выглядели истории о черных мессах и колдунах здесь, в дебрях Южной Америки, где даже самые образованные европейцы шепотом рассказывали об охотниках за головами из тайного ордена ягуара или о белых, погибших страшной смертью от краснокожих шаманов. Вот с кем не на жизнь, а на смерть бился здесь отец Франциск — и словом Божьим и разящей сталью. Насчет последнего Дамиан не был до конца уверен, но после всех страхов, что натерпелся он в здешних лесах, представить себе отца Франциска в образе сурового воина не составляло для него никакого труда. Те истинные сыны католической Церкви, что обитали у побережья в убогих хижинах и промышляли торговлей, являлись как бы живым подтверждением подобной догадки. Вынужденное пренебрежение благамицивилизации, хорошими манерами и изысканной одеждой отнюдь не распространялось на употребление самого разнообразного оружия. Они шага не ступали без аркебузы или пистолета, порядочного запаса пороха, сабли и ножа в придачу. Маленький отряд, вышедший на поиски отца Франциска, был вооружен до зубов. Наиболее беззащитен был как раз отец Дамиан, чей арсенал составлял лишь кинжал с резной кипарисовой ручкой в форме креста, не украшенный ни золотой насечкой, ни выгравированным девизом, — безликое оружие, взятое в дорогу человеком без лица. Было у него и еще кое-что, кроме кинжала, но это уже касалось только его самого, и никого больше. Флакон с ядом, который Дамиан должен был принять, попади он в руки врагов. Прокуратор, посылая Дамиана в путешествие, доверил ему священную тайну, знать о которой не должна была ни одна душа. Дамиан и поклялся, что не узнает. Но прокуратор был печален и суров. — Человек слаб, — тихо и твердо сказал он. — Изнемогает его плоть, и обманывает его разум. И я не на мученический подвиг тебя посылаю, твое дело — принести весть, и только. Если же попадешь в руки врага, то выпей, не раздумывая, яд, дабы не искушать судьбу, и Господь примет твою жертву и не оставит тебя своей милостью. До сих пор Дамиану не приходилось искушать судьбу — все шло с Божьей помощью без заминок и без больших неприятностей. По заверениям спутников Дамиана, к утру они уже должны были найти лагерь отца Франциска. Мигель Портеро, который в этом проклятом Богом месте был кем-то вроде алькальда, сразу сказал: — Отец Франциск о своих планах советуется только с Господом. Но иногда он посвящает и нас. На этот раз он собирался отправиться на восток. Там голландская община строит форт, и это не может никому понравиться, потому что если здесь будет голландский форт, а потом порт, если тут будут приставать голландские суда, то рано или поздно нас всех вытеснят отсюда. — Слишком нас тут мало, отец Дамиан! — со вздохом подтвердил это заявление кривобокий силач-коротышка, которого все звали просто Хуаном. — Если бы не отец Франциск, который поднимает наш дух, даже и не знаю, что бы мы тут делали… Отчего король не хочет, чтобы эти берега перешли под славный флаг Испании? Отчего не пришлет сюда солдат и корабли? — Помолчи, Хуан! — строго сказал ему на это Портеро. — Не наше дело указывать королям. Да и отцу Дамиану недосуг с тобой лясы точить. Наверное, не просто так плыл он за моря, как ты думаешь? Дамиану и в самом деле не хотелось вступать в лишние разговоры. Одна из главных заповедей — слушай, а не говори. Даже в невинных словах может проскочить какой-то намек, какой-то важный секрет, а слово не воробей — вылетит, уже не поймаешь. Впрочем, как только отряд ступил под полог девственного леса, так у спутников Дамиана пропала всякая охота разговаривать. Немного полегчало, когда вышли к песчаному побережью, но к этому времени все настолько устали, что даже для любопытства уже не было сил. Шли по раскаленному струящемуся песку, думая каждый о своем. Мигель Портеро был не прочь устроить привал и перекусить чем бог послал. Поход через непроходимую гилею отнял много сил, и организм требовал подкрепления. Но отец Дамиан, который только вчера сошел с торгового галеона «Святая Тереза», торопился, и перечить ему не следовало, потому что послан он был самим генерал-визитатором Антильских островов, благодетелем, чья власть могла посоперничать с королевской. Это не означало, что такое значительное лицо, как генерал, лично ступал когда-либо на этот берег, но заботами своими он не оставлял общину ни на минуту: например, Мигель Портеро ощущал эту заботу сам, на собственной шкуре — особенно в том месте, где голова переходила в жилистую шею. Ведь если бы не вмешательство отца Жана, то давно бы болтался Мигель Портеро на виселице и пеньковый галстук до самых позвонков натер бы ему горло. Кривая судьба была у Мигеля Портеро, да и у всех прочих, кто обосновался с ним сейчас на Невольничьем Берегу, и каждому из этих отверженных созданий помог генерал-визитатор достопочтенный отец Жан. Благодаря его ходатайству всем им была дарована жизнь и дана возможность искупить прошлые грехи перед Испанией под надзором отца Франциска, который, надо сказать, не давал никому покоя — и самому себе в том числе. Оттого и к появлению отца Дамиана все отнеслись довольно серьезно. Мигель Портеро был готов шагать без передышки хоть до полного изнеможения, лишь бы довести посланца до нужного места. И хотя было ему смертельно любопытно, ради чего проделал этот тщедушный иезуит такой непростой путь, даже заикаться об этом Мигель не рисковал. Немало и без того на нем было грехов, не успел замолить и десятой доли. «Пусть все идет как идет», — думал он про себя. Однажды Господь сам скажет ему, когда придет минута искупления и можно будет распрямиться и поднять голову. Господь даст знак — Мигель был уверен в этом. А пока он просто вел одного святого отца к другому святому отцу. До места, где предположительно мог сейчас находиться отец Франциск, оставалось еще не менее двух часов пути. Но встреча произошла немного раньше, сразу же на закате второго дня. Зарево на востоке полыхнуло так, что, казалось, два солнца гаснут одновременно с двух сторон неба. Даже учитывая отчасти сатанинскую природу здешней земли, Дамиан не мог поверить, что видит заход сразу двух светил. Тем более что из-за деревьев, которые опять преградили им путь, донеслись вдруг приглушенные крики и шум выстрелов. Мигель Портеро остановился и жадно всмотрелся в желто-алое пламя, пляшущее над верхушками деревьев. — А ведь пожар! — с каким-то радостно-недоверчивым выражением в голосе воскликнул он. — В той стороне горит, где голландцы форт строят. Услышал, значит, Всевышний наши молитвы! — Погоди! — Дамиан отодвинул его в сторону, словно вокруг не хватало места. — Что значит пожар? При чем тут пожар? Ты говори, отец Франциск где?! — Я так полагаю, что отец Франциск непременно там и должен быть! — с радостной гордостью объявил Портеро. — На пожаре. Не смею рассуждать про замыслы такого великого человека, как отец Франциск, но для него форт этот был как оливковая косточка в горле — все это знали. — Не хочешь же ты сказать, что отец Франциск поджег форт? — недоверчиво спросил Дамиан. — А гарнизон? А чертовы голландцы, прости меня, Господи?! — С отцом Франциском двое наших было, — деловито сообщил Портеро. — Ну а кроме того… Есть у меня одна мысль насчет этого… Давайте вперед пройдем, святой отец! Только теперь нам с вами осторожнее быть нужно. Вы уж посередке ступайте, а мы с Хуаном вас защитим в случае чего… — Господь — защита моя и прибежище мое, — подобающим образом высказался на это Дамиан. — Однако пойдемте. Это очень важно, что вы сказали. Если отец Франциск там, мы должны быть рядом с ним. А если там действительно идет бой, тем паче мы должны поспешить ему на помощь! Вперед! Песчаная коса сворачивала вправо, но, чтобы попасть к пожару, путникам пришлось снова углубиться в мангровые заросли. Там, за деревьями, скрывалась природная бухта, которую стерег построенный голландцами форт — оплот торговли жемчугом и невольниками. Об этом поведал ему Дамиану Портеро, пока они пробирались через гилею. — Людишек у них пока немного, — объяснял он на ходу, все более входя во вкус. — Дюжин пять всякого сброда и рота солдат. Заправляет всем Ван Золленгер, жирная свинья!.. Говорят, в Роттердаме у него с полдюжены доходных домов да несколько мельниц и маслобоен на окраине. Но ему все мало! Хочет здесь обосноваться — торговлю невольниками наладить. Дело выгодное… Только нашла у него тут коса на камень, — в голосе проводника послышалось нескрываемое злорадство. — Ну это мы сейчас проверим, правильно я думаю или нет… Только вы, падре, держите ухо востро, а если я скажу — сразу кидайтесь на землю да прикрывайте голову руками. Хоть в грязь, хоть в муравейник — все равно! «Мнится мне, что они все здесь чего-то недоговаривают! — с неудовольствием подумал Дамиан. — Отец Жан меня об этом не предупредил. Может быть, так ему казалось разумнее, но ведь мне доверена важная информация… Неприятно, когда ты представления не имеешь о том, что вокруг известно всем. Ладно, потерпи, отец Дамиан, сейчас многое разъяснится…» Сквозь пелену запахов преющей зелени и цветочных ароматов донесся удушающий смрад гари. Он вползал под кроны деревьев, саднил горло, от него слезились глаза. Горели не только стены форта — отец Дамиан явственно различил запашок паленого мяса и пороха и на всякий случай осенил себя крестным знамением. Спутники его жадно втягивали ноздрями знакомые ароматы войны, как будто даже повеселев и прибавив шагу. Коадьютор уже едва за ними поспевал. Лес внезапно закончился. В неверном свете надвигающегося вечера перед отцом Дамианом открылась поразительная картина. Перед ним раскинула лазурные воды небольшая бухта, охваченная в бархатное кольцо изумрудной зеленью и золотисто-белой лентой песка, на который заходящее солнце уже отбрасывало голубоватые тени. Там, где воды великой реки смешивались с океанской, клубился желтый песок. На границе гилеи и песчаной косы возвышался срубленный из твердого гваякумова дерева форт — несколько приземистых строений с покатыми крышами, напоминающих склады, которые были окружены частоколом из заостренных стволов высохшего бамбука, вбитых макушками в песок. Форт горел. Легкий пассат нес в глубь побережья черный смоляной дым. В двух кабельтовых на волнах лениво покачивался флейт, на клотике которого трепыхался флаг Голландских штатов, а матросы, стоя на реях, спешно разворачивали паруса. Большая шлюпка, набитая людьми, изо всех сил летела к судну, едва не черпая воду бортами и поднимая веслами брызги. Ворота форта были распахнуты настежь, а одна из окованных железом створок со скрипом качалась туда-сюда, сорванная с петель то ли мощным ударом, то ли взрывом. Вокруг на песке до самой полосы прибоя валялись в разных позах десятки раненых и мертвецов. Еще дюжина человек сошлись в ближнем бою: они разбились на несколько групп и сражались с упорством людей, которым уже нечего терять. Дамиан с удивлением обнаружил, что, кроме европейцев, в схватке с большим энтузиазмом принимают участие темнокожие и почти нагие дикари — на выпады солдат, вооруженных саблями и пиками, они отвечали ударами каких-то суковатых дубинок и копий. Возможно, это примитивное оружие и не могло соперничать с закаленной сталью, но прямо на глазах отца Дамиана одна такая дубинка размозжила череп зазевавшемуся голландцу, который не позаботился защитить свою бедную голову стальным шлемом. И все-таки натиск дикарей вряд ли увенчался бы победой, если бы ими не руководил белый человек в сверкающем в последних лучах солнца шлеме и стальной кирасе. Вращая саблей, он теснил к океану сразу троих голландских солдат, высекая искры из их надетых поверх курток из буйволиной кожи кирас. Солдаты отчаянно отбивались, но, казалось, человек в блестящем шлеме имеет сразу шесть пар рук, подобно тем индийским божкам, чьи бронзовые статуэтки красовались в библиотеке коллежа святого Игнатия. Он без труда отбивал выпады неприятеля и успевал сам наносить молниеносные удары. Отец Дамиан увидел, как одним неуловимым движением сабли он рассек бедро у одного солдата, срезал кисть руки другому и вонзил острие в глаз третьему. Кровь заливала песок, раненые вопили и выли от боли. Над ухом Дамиана раздался торжествующий вопль Портеро: — Слава падре Франциску! Слава Господу нашему Иисусу! Вперед, ребята! Поможем праведному делу! Навались! В этом крике было столько лихого азарта, что даже отец Дамиан не выдержал — выхватил из-за пазухи свой кинжал и, путаясь в рясе, вприпрыжку помчался вслед за Мигелем и Хуаном, которые, обнажив кривые сабли, неслись на помощь человеку в шлеме. Голландцы, брошенные своими товарищами, разом обернулись в их сторону. Хотя из зарослей на помощь врагам бежало всего три человека, для них это было новым ударом. Отступать было некуда: за спиной было море, впереди — пылающий форт и дикари, подбадриваемые испанцами. Полные отчаянной решимости, голландцы сплотились и удвоили сопротивление. Им удалось оттеснить к лесу с десяток озверелых дикарей, которые, потеряв нескольких соплеменников, завыли и заорали как черти и принялись потрясать копьями с бунчуками из пальмовых волокон и яростно размахивать своими утыканными острыми раковинами дубинками. Отец Дамиан решил помочь дикарям и, размахивая кинжалом, резво побежал наперерез голландским солдатам, которые теснили дикарей к лесу. Ему даже в голову не пришло, что он практически безоружен, не умеет драться и ко всему прочему остался один, потому что Мигель Портеро и Хуан направились совсем в другую сторону, а именно туда, где сражался как паладин воин в кирасе и сверкающем шлеме. Но Дамиана, сына воина и потомственного дворянина, подхватила и понесла стихия боя. Годы упражнений и умерщвления страстей пошли прахом. Опьяненный безумным порывом, он был уверен, что обратит противника в бегство одним своим видом, и бесстрашно мчался прямо на начавших уставать голландцев. Клубы едкого дыма неслись ему в лицо, рассыпаясь искрами и пеплом, подол подрясника путался в ногах, они утопали в песке, но, открыв рот, он, захлебываясь, кричал: «Ура!» Голландцы краем глаза заметили бегущего к ним падре, и в их взглядах мелькнуло удивление: зрелище было не из рядовых. Но тут произошло что-то совершенно непредсказуемое. Полет берсерка был грубо прерван. Внезапно на него красным смерчем налетели размалеванные глиной дикари, сбили с ног, повалили на песок и с воплями и криками вырвали из рук кинжал — Бог милостив, хоть не огрели дубиной по темечку. «Но мне рассказывали, — думал Дамиан, валяясь на песке и ощущая тычки и уколы копий под ребра, — что краснокожие не убивали своих пленнников, потому что… их обычно съедали!» Эта мысль не на шутку встревожила низвергнутого коадьютора, потому что индейцы, повалив его, обезоружив и едва не затоптав в песок, принялись буквально сдирать с него одежду. Ужас от такой нелепой смерти сменился горькими сожалениями, что не сумел он выполнить доверенную ему важную миссию. Сопротивляться у него не было сил. Оставалось только молиться, но и помолиться не успел отец Дамиан. «Смерть без покаяния есть акт… — безнадежно мелькнуло в его голове напоследок. — Акт…» В себя отец Дамиан пришел с трудом и не сразу осознал, на каком свете он находится. Вокруг все так же царили дым и смрад, сыпались искры и летел жирный пепел, а горячий воздух с трудом проникал в легкие, вызывая кашель. Примерно так Дамиан и представлял себе преисподнюю. Поблизости даже виднелись демоны — красные и отвратительные. Но над отцом Дамианом склонялся отнюдь не сатана, не дух лукавый, а светлолицый воин в сверкающих доспехах. «Архангел Михаил… — подумал Дамиан и тихо улыбнулся. — Отбили меня, значит, у бесов Небесные Ангелы. А я, глупец, еще в них не верил…» У рыцаря было строгое узкое лицо, волевой нос с горбинкой, твердый подбородок с полоской бороды-эспаньолки, которую небесный воитель, судя по всему, тщательно подстригал. Усов у Архангела не было — возможно, потому, что верхняя губа его была изуродована давним сабельным ударом и неровный шрам придавал его рту несколько болезненное и саркастическое выражение, словно тот вся время то ли кривился в усмешке, то ли подергивался в отвращении. В синих ледяных глазах сверкало пламя. Это было лицо не духа, а воина, и отца Дамиана осенило. — Отец Франциск! — пробормотал он, силясь подняться с песка. — Благословите… Для меня высокая честь… Прошу меня простить… Но… в силу некоторых обстоятельств… Отведя в сторону правую руку с зажатым в ней мечом, отец Франциск протянул левую, в забрызганном кровью кожаном поруче, к Дамиану и, схватив его за грудки, одним рывком, без малейших усилий, поставил коадьютора на ноги. — Вы поступили отважно, но неразумно, — звучным голосом произнес отец Франциск. — Мои новообращенные язычники приняли вас за врага, поскольку никогда раньше не видели. Возблагодарите Бога: Он отвел от вас смерть. Однако мы побеседуем с вами позже. Сейчас нужно завершить дело. Он повернулся и, взмахнув рукой, зашагал к берегу, крича на ходу: — Веселей, веселей, бездельники! Шевелись! Кати их к самой воде! Отец Дамиан увидел, что все те же перемазанные голые индейцы, сверкая ягодицами, волокут по песку тяжеленные бомбарды, которые ранее являлись неотъемлемой и весомой принадлежностью крепости. Другие тащили на руках чугунные ядра. Они трудились как муравьи. Никакие голландцы им помешать уже не могли: как мог убедиться Дамиан, последние защитники разоренного форта были уже мертвы. Золотой песок пестрел пятнами быстро впитывавшейся крови. Немногие уцелевшие голландцы уже поднялись со шлюпки на корабль. Отец Дамиан не думал, что пушки могут причинить им какой-нибудь вред, но отец Франциск придерживался, кажется, иного мнения. Уже три орудия с задранными в сторону флейта жерлами стояли у самой кромки прибоя. Около них подпрыгивал от нетерпения какой-то невысокий чернявый толстяк с зажженным фитилем в руках. — Давай, Педро! — властно поднял руку отец Франциск. — Давай по очереди. Враг далеко, но Господь даст нам силы. Огонь! Педро подскочил к первой бомбарде и поднес фитиль к запальному отверстию. Вспыхнул порох, тяжелая пушка охнула, выплюнула ядро и, окутавшись облаком дыма и пламени, опрокинулась с лафета на песок, едва не оторвав ногу зазевавшемуся индейцу. Снаряд с гулом пронесся над водой и упал в десяти ярдах от корабля. — Огонь! — опять прокричал отец Франциск. Ударили одна за другой еще две пушки. Ядра вылетели и унеслись в сторону корабля. Последнее из них задело брошенную шлюпку и разнесло ее в щепки. Увы, все пассажиры уже успели перебраться на борт флейта, который, наполнив ветром паруса, медленно выходил из бухты. Оттуда не последовало ни единого выстрела: голландцы спешили убраться с несчастливого берега. Должно быть, хорошую трепку задал им здесь отец Франциск со своими «новообращенными». Дамиан невольно хмыкнул. Теперь он догадался, на что по пути сюда постоянно намекал Мигель Портеро. Отец Франциск не терял здесь времени даром и, обращая в христианскую веру дикарей, направлял их гнев против вероотступников-голландцев. Это было остроумно, хотя и дерзко. Дамиан никогда бы не решился на подобный шаг. Но поэтому он и был в Ордене пока всего лишь духовным коадьютором, а отец Франциск — профосом. Задумавшись, Дамиан не заметил, как отец Франциск покинул импровизированную батарею и вернулся к нему. — Теперь мы можем продолжить нашу беседу, — как ни в чем не бывало сказал он, пристально всматриваясь в лицо отца Дамиана. — Голландские собаки сумели унести ноги. Но это лишь временная отсрочка заслуженного наказания. Кара настигнет их всех до одного, можете мне поверить. — В этом нет ни малейших сомнений, — убежденно ответил Дамиан. — Судя по тому что мне довелось увидеть, Господь выбрал себе надежное оружие. — Надеюсь, это сказано искренне, потому что лести я не терплю, — хмурясь, заметил отец Франциск. — И в дальнейшем воздержитесь от подобных высказываний, если не хотите вызвать мое неудовольствие. Давайте говорить о деле. Насколько я понимаю, вы появились в наших краях неспроста. Мигель уже успел сказать, что вы разыскиваете меня. Вы знаете мое имя. Значит… Вас послал Орден? — Да. Меня послал генерал-визитатор и префект Антильских островов отец Жан Ла Валлет. Меня зовут отец Дамиан, я духовный коадьютор. Дело касается только нас двоих, поэтому хорошо бы выбрать такое место… Отец Франциск оглянулся. Его дикари с большим увлечением потрошили разбросанные по берегу трупы: стаскивали с убитых одежду и напяливали на себя прорванные, перемазанные кровью кафтаны и панталоны. В новом обличье они едва узнавали друг друга и покатывались со смеху. — Они непосредственны, как дети, — заметил отец Франциск, покачивая головой. — Они и сейчас не ведают, что творят. Но мы их научим всему, что знаем сами. Как видите, отвращением к вероотступникам они уже прониклись… Однако вы хотите поговорить со мною с глазу на глаз… Пойдемте в форт. Думаю, там не осталось ни одной живой души. Вдвоем они вошли через обугленные ворота в разоренный форт. Как ни странно, одного из строений огонь почти не коснулся: это было недостроенное прямоугольное здание с окнами-бойницами, без крыши. Полом в нем служил утрамбованный песок. Здесь тоже пахло гарью, но дыма почти не было. Солнце зашло, и вместо крыши над головами двух святых отцов нависало сейчас усыпанное звездами небо, да на стенах плясали отсветы пожарища. — Здесь нам никто не помешает, — сказал отец Франциск. — Только рассказывайте толком, последовательно. Я не терплю путаных излияний. — Я буду стараться, — смиренно сказал Дамиан. — Благословите начать. Отец Франциск кивнул и торопливо осенил Дамиана крестным знамением. — Итак, полтора месяца назад достопочтенный отец Жан, вызвав меня к себе, предупредил о сугубой секретности этого дела и продиктовал мне нижеследующий текст, с тем чтобы я донес его до вас, не перепутав и не изменив ни слова. Если в моем рассказе возникнет какая-то путаница, то это возможно только по той причине, что источник полученных сведений сам не всегда был точен в своем докладе. Я обладаю замечательной памятью, отец Франциск, и могу отвечать за свои слова. — Отлично, — снова кивнул отец Франциск. — Я вас слушаю. — В начале сентября этого года в Вест-Индию из Плимута отправился флейт под названием «Голова Медузы», — начал Дамиан. — Команда преимущественно состояла из англичан, но владельцем судна являлся известный меркант и коадьютор голландской Вест-Индской компании Давид Малатеста Абрабанель. На борту судна был груз обычных товаров, а его самого сопровождали его дочь девица Элейна, старший клерк Якоб Хансен и некий эсквайр восемнадцати лет от роду, имя которого Уильям Харт. По пути они подобрали в океане утопающего, назвавшегося дворянином Френсисом Кроуфордом. Был он привязан к обломку мачты и обречен на верную гибель. По его словам, на корабль, на котором он шел в Англию, напал пират Черный Билли, носящий также кощунственное прозвище Черный Пастор, он уничтожил всю команду, а Кроуфорда обрек на мучительную смерть. Произошло чудо, и обреченный остался жив. Вместе с пассажирами флейта он вернулся на Антильские острова и остановился на Барбадосе. Впоследствии выяснилось, что у Кроуфорда на Барбадосе имеется собственный дом с прислугой. Но до поры он тщательно скрывал этот факт, как, впрочем, скрывал все, что касалось его персоны. — А что не так с его персоной? — спросил отец Франциск. — Как выяснилось позже, сей Кроуфорд является не кем иным, как квартирмейстером того самого негодяя Черного Пастора, и носит он мерзкое прозвище Веселый Дик, и за бортом оказался по той причине, что не поделили они с капитаном трофеи… Однако я продолжаю по порядку… На Барбадосе банкир Абрабанель занимался двумя делами: много общался с губернатором острова лордом Джексоном, уличенным в махинациях с голландской Вест-Индской компанией и взятках, и дожидался прибытия экспедиции своего согражданина Ван Дер Фельда, который возвращался на Карибы из этих мест. — Да, я что-то слышал от индейцев про белых воинов, которые поднялись вверх по течению Ориноко. Но мне и в голову не могло прийти… Впрочем, неважно. Итак?.. — Прежде чем они встретились, произошло весьма необычное событие. Абрабанель отправляет флейт в Плимут с большой партией серебра и доверяет этот ценный груз мальчишке Харту, которого едва знает. Но как только флейт выходит в море, на него нападает все тот же Черный Пастор и захватывает его. Не буду утомлять вас ненужными подробностями. На флейте не было серебра. На нем не было вообще никаких ценностей! Это был обман пайщиков компании. А с пиратами банкир явно договорился, разумеется не посвятив бандитов в секрет «драгоценного» груза. Таким образом, этот пройдоха одурачил разом всех: пайщиков, команду флейта, пиратов… Но и это было не главной его целью, ради которой он покинул Лондон. Его главная цель — сокровища индейцев, или конкистадоров, или, иначе, сокровища капитана Рэли — легенды называют их по-разному… — Не объясняйте мне, как называют эти сокровища, — перебил его отец Франциск. — Мне это известно. Где и как Абрабанель собирался искать их? — Он очень надеялся на результаты экспедиции своего друга Ван Дер Фельда. Тот побывал во многих краях и встречался со многими людьми. Судя по всему, ему удалось напасть на след этих сокровищ. Но всего лишь на след. Главное, что потом обнаружилось, — это карта. — Какая карта? О какой карте вы говорите? Не станете же вы утверждать, что нашлась карта пресловутых сокровищ конкистадоров? — отец Франциск с недоверием посмотрел на коадьютора. Дамиан ответил ему утвердительным взглядом. — Именно так! Карта нашлась, — заявил он. — Так утверждает преданный нам человек, который был непосредственным участником событий. Собственно, весь рассказ — это его личное донесение генералу Ордена. Падре выдержал испытующий взгляд отца Франциска и только чуть развел руками, как бы давая понять, что не может нести ответственность за чужие донесения, как бы нелепо они ни звучали. Отец Франциск нахмурился, задумался и медленно опустил в ножны меч, забыв стереть с клинка засохшую пыль и кровь. — Хорошо, продолжайте! — произнес он. — Но я никогда не слышал о том, что существует карта этих сокровищ. Если кто-то пытается ввести Орден в заблуждение, то это может обернуться для него крупными неприятностями. Будем надеяться, что этот некто не столь неразумен. — То, что он доносит, похоже на правду, — заступился за далекого информатора отец Дамиан. — Правда, он так и не узнал, откуда взялась эта карта, но она была в руках Веселого Дика. Если помните, это квартирмейстер Черного Пастора, назвавшийся Фрэнсисом Кроуфордом… — Я помню, — кивнул отец Франциск и закусил обезображенную губу. — Откуда у пирата карта? Вероятно, это фальшивка, какую можно приобрести в каждом порту. — Возможно, но из-за этой карты разгорелась настоящая война, отец Франциск! — воскликнул Дамиан. Почему-то ему очень хотелось, чтобы карта была настоящей. Ведь это обещало волнующие приключения и, возможно, даже продвижение в Ордене. Да и каким идиотом он бы выглядел, проделай он пару-другую тысяч миль по океану и едва не расставшись с жизнью из-за какой-то нелепицы. Поэтому в речи Дамиана зазвучало желание быть убедительным. — После того как Веселый Дик вторично попал в лапы Черного Пастора — теперь уже на «Голове Медузы», — произошли необыкновенные события. Во-первых, ему снова удалось ускользнуть живым и невредимым. Он подбил часть пиратской команды на бунт и ушел от Черного Пастора на захваченном флейте, который с этой минуты стал самостоятельным пиратским судном. Англичане Уильям Харт и капитан Джон Ивлин перешли на службу к Веселому Дику. Преданный нам человек также втерся в эту шайку. На «Медузе» они захватили испанский галеон под командованием дона Мигеля Диаса. При этих словах отец Франциск вздрогнул и непроизвольно схватился за меч. Дамиан удивленно замолчал, но, как требовал устав, быстро опустил глаза долу, давая старшему по званию побороть волнение. Дамиан только что догадался, что не случайно дон Мигель носит ту же фамилию, что и профос. — Продолжайте, — тихо сказал отец Франциск. — При некоторых обстоятельствах ими был захвачен испанский галеон, на котором был один из наших братьев. Он-то и предал корабль в руки пиратов. — Да как он посмел?! — не помня себя от гнева, отец Франциск схватил Дамиана за плечо. Но, справившись с собой, он тут же отдернул руку. — Такова воля Ордена, — ответил Дамиан. Произнося эти слова, он вдруг ощутил, что его наполняет непонятная радость. Даже этот гордый миссионер, даже профос должен смириться перед единой и нерушимой волей Общества Иисуса. Воистину несть в нем ни эллина, ни иудея… А первый станет последним. Чувство торжествующей справедливости захлестнуло коадьютора, и он еще ниже опустил голову, скрывая невольную улыбку. — Продолжайте, — еще тише сказал отец Франциск. Костяшки его пальцев, сжимавших рукоять меча, побледнели. — После ограбления галеона Веселый Дик срубил на нем мачты и отпустил команду. Дон Мигель Диас целым и невредимым достиг Кубы, где и пребывает в ожидании весенней флотилии, — эти слова отец Дамиан добавил от себя, снисходя к отцу Франциску. И в этом он почувствовал еще одну свою победу. Отец Франциск внимательно вгляделся в лицо коадьютора. Он понял, что происходит сейчас в его душе, и на тонких губах его тенью мелькнула неуловимая усмешка, отчего породистое лицо на мгновение стало хищным и жестоким. Отец Дамиан не заметил этой улыбки и не понял, что все его тайные переживания для профоса так же ясны, как «Patere Deum…» *["244]. Он не понял, что, оказав профосу услугу, нажил себе врага, потому что обнаружил его невольную слабость. Он не понял, что иногда гораздо выгоднее не оказать услуги своему патрону, чем унизить его, вынудив принять помощь от подчиненного. Он забыл, что гордыня — страсть обоюдоострая. Ничего не заметив, Дамиан продолжал: — Сбыв трофеи на Мартинике, Веселый Дик совершил тайную вылазку на Барбадос, где, судя по всему, извлек из тайника карту сокровищ. Однако к этому времени о существовании карты уже знали или догадывались Абрабанель и еще одна женщина, которая прибыла на Барбадос на французском королевском фрегате «Черная стрела». Нашему брату ничего не удалось о ней узнать, предполагается лишь, что она шпионка Кольбера. — Больше о ней ничего не известно? — неприятно удивился отец Франциск. — Но она знает про карту… Откуда? — Неизвестно, — твердо ответил Дамиан. — Наш человек даже не видел ее лица и не знает ее имени. Единственная примета, которая фигурирует во всех разговорах, — зеленые глаза. — Зеленые глаза?! Это что еще за дьявольщина?! — Она брюнетка с зелеными глазами, — пояснил Дамиан. — По слухам, она необычайно красива. — Несомненно, эта женщина — орудие дьявола или тех, чьими руками он загребает жар в этом мире, — высказался отец Франциск. — Так откуда она знает про карту? — Нашему брату про это ничего не известно, — еще раз повторил Дамиан. — Но эта авантюристка пыталась отобрать карту у Веселого Дика на Барбадосе — там даже вышла небольшая история по этому поводу. А потом она все-таки завладела ею на Тортуге. Интрига прелюбопытная, право, нарочно не придумаешь, — отец Дамиан позволил себе некоторую игривость в тоне. — Жизнь полна импровизаций, сын мой. Иногда она готовит нам такие сюрпризы, что даже дьяволу они не по зубам. В нашем мире ложь всегда шагает рука об руку с правдой, и даже сахар горчит. Однако продолжай. Мы попытаемся отделить пшеницу от плевел. — Веселый Дик привел «Медузу» на Тортугу. У судна была сломана мачта, и «Медузе» требовался ремонт. На Тортуге между разбойниками существует что-то вроде негласного договора: там они объявляют друг другу перемирие. Но это лишь по виду. Черный Пастор узнал, что его злейший враг находится на Тортуге, и немедленно отправился туда. Силы у него, безусловно, были превосходящие, и он без труда захватил Веселого Дика в плен. Тому опять грозила смерть, но он снова выкрутился! — в голосе Дамиана послышалось восхищение перед изворотливостью пирата. — Знаете, что он сделал? Он заплатил за свою жизнь картой! Он сам отдал Черному Пастору сокровища Рэли! Но Билли пришлось отпустить квартирмейстера. Веселый Дик сохранил себе жизнь и, взяв с собой верных людей, отбыл на Эспаньолу. Ведь согласно карте сокровища спрятаны именно на Эспаньоле… — На Эспаньоле?! — в неподдельном изумлении воскликнул отец Франциск. — А что Рэли мог делать на Эспаньоле? Бред какой-то… Рэли был здесь, в Гвиане. Но… Если это правда, то… А в какой части острова — французской или испанской? — Увы! — склонил голову Дамиан. — Боюсь, это известно лишь одному Веселому Дику. Послушайте, что произошло дальше. Получив в свои руки заветную карту, Черный Пастор собирался отправиться на Эспаньолу, но тут его арестовали люди губернатора острова господина де Пуанси. Синьора с зелеными глазами каким-то образом заручилась поддержкой губернатора и, разведав, у кого находится карта, приняла все меры, чтобы ею завладеть. Черного Пастора засадили за решетку, а карта перекочевала на французский фрегат. — Который также отправился на Эспаньолу, насколько я понимаю? — Совершенно верно! Но не только он. Едва выйдя из тюрьмы, взбешенный Билли тоже ринулся на поиски сокровищ. — И он? Все это весьма смахивает на фарс. Отец Дамиан пожал плечами: — Сеньор префект думает по-другому. Отец Франциск хмыкнул и погладил свою ухоженную бородку. — Так вот, теперь на Эспаньоле, судя по всему, столкнулись интересы четырех партий. Ведь в поисках принимает участие еще и Абрабанель, с которого все и началось. Неизвестно, с какой целью, но эта сеньора предоставила ему и нескольким его друзьям место на своем корабле. Возможно, ее интересуют его деньги. — И что же дальше? — На этот вопрос нет ответа, — торжественно объявил Дамиан. — Преданный Ордену человек успел передать зашифрованное послание иезуиту-священнику на Тортуге, но большего он сделать не мог, чтобы не раскрыть себя. Послание пришло на Мартинику через полторы недели. И меня сразу же направили к вам. Орден надеется, что вы немедленно отправитесь на Эспаньолу, где мы получим более свежую информацию. — Я сделаю это, хотя разум мой протестует, — сказал отец Франциск. — Столько раз люди возбуждались слухами о сокровищах конкистадоров, и всегда это оказывалось нелепыми фантазиями. Но ослушаться приказа, подписанного генералом Ордена, я не могу. Возможно, на этот раз все будет по-другому. Отец Франциск задумался, подняв глаза к ночному небу. — Корабль нас ждет? — спросил он наконец. — Да, корабль бросил якорь напротив испанского селения, — подтвердил Дамиан. — Мне приказано без вас не возвращаться. — Мы выходим немедленно! — решил отец Франциск и вдруг, протянув вперед руку, больно сжал локоть Дамиана и приложил палец к губам: — Тс-с! Затем он, слегка пригнувшись, прошел вдоль стены, к чему-то прислушиваясь. Заинтригованный Дамиан двинулся следом. Вдруг отец Франциск нырнул в раскрытую дверь и выпрыгнул наружу, одновременно выхватив из ножен свой длинный меч. Дамиан ахнул и выскочил за ним. От стены метнулся человек. Он был смертельно испуган, но шансов убежать у него не было: слишком он увлекся подслушиванием и упустил момент, когда можно было спокойно исчезнуть. — Стой, скотина! — рявкнул отец Франциск. — Как ты посмел, сукин сын, подслушивать разговор двух особ священного звания? Разве ты не знал, что это двойной грех? Дамиан с удивлением увидел, что перед ними, совершенно растерянный и насмерть перепуганный, стоит его недавний проводник Мигель Портеро. Он силился что-то сказать в свое оправдание, но у него ничего не получалось — уж слишком безжалостен был отец Франциск с мечом в руках. А ведь еще минуту назад Мигель Портеро был уверен, что Господь наконец подал ему знак. Он подслушал разговор о сокровищах от первого до последнего слова с замирающим сердцем и переполняясь надеждой. Ему казалось, что без Божьего произволения ему и в голову бы не пришло пойти украдкой за уединившимися святыми отцами. Нет, это определенно был промысел Божий — Всевышний хотел, чтобы Портеро узнал о сокровищах и немного разбогател. Мигель еще не знал, как доберется до спрятанного на далеких островах богатства, но сейчас не это было главным. Главным был тот знак, что подавал Господь. И вдруг все пошло прахом. — Тебе был дан шанс загладить вину, — мрачно сказал отец Франциск. — Но ты проявил непослушание и снова вступил на стезю порока. Ты дерзнул проникнуть в тайну, которая слишком велика для такого глупца, как ты. Но я властью, данной мне Орденом, отпускаю тебе все грехи, потому что думаю о твоей несчастной душе. Умри с миром! И прежде чем Мигель успел что-то понять, лезвие меча вонзилось ему в грудь, с хрустом прошло ее насквозь, сокрушая грудину, и, подобно змеиному жалу, вернулось обратно, направляемое твердой рукой отца Франциска. Мигель Портеро пошатнулся, глаза его закатились, и, обливаясь кровью, он рухнул на усыпанный пеплом песок к ногам потрясенного Дамиана. — Мы были не слишком осторожны, сын мой! — сказал отец Франциск, вытирая меч и вкладывая его в ножны. — Но с этой минуты больше ни слова о сокровищах! Вперед! Мы покидаем это разоренное гнездо. Надеюсь, у крыс, облюбовавших это место, нескоро появится желание вернуться обратно. Впрочем, Орден должен будет позаботиться, чтобы сюда послали достойного миссионера. До тех пор пока христианские короли не смогут обеспечить на этой земле достаточное количество войск, мы вынуждены полагаться на самих себя! Он обошел мертвое тело и пошел к воротам. Индейцы, сбившись в кучу у кромки воды, похвалялись друг перед другом добычей. Трое испанцев с хмурыми лицами провожали взглядами тающий во мраке кормовой фонарь уходившего флейта. Отец Франциск выкрикнул что-то на незнакомом Дамиану гортанном наречии, и все дикари отреагировали на этот окрик всеобщим паническим бегством. Пригибая головы, они ринулись всей толпой к лесу и в мгновение ока исчезли в его зеленой пучине. — Эти создания удивительно послушны, когда знаешь, как с ними обращаться, — пояснил отец Франциск. — И если удается разбудить в их душах искру Божью, то одним только словом возможно подвигнуть их на самые смелые и полезные поступки. Таким вот образом с помощью этого народа мы сегодня изгнали голландских крыс. Отряд караибов просто смел горстку этих подлых лавочников. Им повезло, что на этот раз их дожидался корабль. — Меня больше интересует, как поведут себя ваши испанцы, — пробормотал, отводя глаза, Дамиан. — Что-то вид у них не слишком веселый. Надеюсь, у вас есть что им сказать, отец Франциск? Тяжелый, полный неодобрения взгляд был ему ответом. — Если вы об этом предателе, то говорить тут вообще не о чем. Он попытался проникнуть в тайну, за что и был наказан. Во все времена такие поступки караются смертью. Должен заметить, что здешние колонисты — люди с небезупречной репутацией. Их жизнь безраздельно принадлежит Ордену, и они это понимают. Хотелось бы, чтобы и вы это поняли, отец Дамиан. Ведь наши с вами жизни также принадлежат Ордену, не так ли? — Святая правда! — горячо отозвался Дамиан. — Об этом я не забываю ни на минуту. — Аминь. Тогда не будем тратить время на схоластические упражнения, — скупо улыбнулся отец Франциск. — Забираем тех, кто остался, и пускаемся в обратный путь. Не пройдет и месяца, как побеги бамбука и лианы покроют пепелище и у нашего Ордена появится возможность передохнуть. Жаль, что не всегда удается побудить сильных мира сего к решительным шагам, которые под силу только им. Ведь нам с вами приходится рассчитывать только на наши скромные силы. — То, что я сегодня увидел, поразило меня, отец Франциск! — искренне сказал Дамиан. — Я и не предполагал, что в наше время существуют такие воины Христовы. Я счастлив, что судьба свела меня со столь необыкновенной личностью… — Вы опять пытаетесь льстить, — заметил отец Франциск. — И будете за это наказаны. Знайте, что я намерен взять вас с собой. — Как с собой? — не понял Дамиан. — Куда с собой? — На Эспаньолу, — лаконично ответил отец Франциск. — И все, более ни слова об этом. Полагаю, что Орден меня поддержит, да и для вас это будет неоценимый опыт, поверьте. Дамиан и в самом деле не мог вымолвить ни слова. Решение отца Франциска застало его врасплох. Дамиан понимал, что отказ невозможен: обет послушания и то, что он знал, лишали его выбора. Печальный пример легкомыслия в лице Мигеля Портеро стоял у него перед глазами. Он навсегда привязан к этой тайне. Из Ордена не выходят живыми. Подспудная мысль об этом тревожила Дамиана и раньше. Но тогда он гнал ее от себя, гордый тем доверием, которым облек его Орден. Отец Франциск зашагал в обратный путь, не оглядываясь и не окликая спутников. Дамиан с невольным восхицением посмотрел на его сильную и гибкую фигуру, на то, как легко он несет на себе стальные доспехи. «Столько дней и ночей в жарких лесах, — подумал он, — среди непредсказуемых дикарей и прощенных преступников, в противоборстве с еретиками и врагами нашего дела. И теперь, совершив подвиг, он так же спокойно идет обратно, будто просто вышел прогуляться по саду среди цветущих апельсиновых деревьев». Он догнал отца Франциска и спросил: — Нам предстоит трудное испытание, отец Франциск. О чем посоветуете подумать в первую очередь? Отец Франциск покосился на него и сказал: — О добродетели послушания, отец Дамиан, этой матери всех достоинств.Глава 4 Крах Черного Билла
Тортуга. Эспаньола. Атлантический океан
Небольшая каперская шхуна «Ласточка» покидала главную гавань острова Тортуга с такой помпой, как будто она была военным фрегатом. Губернатор Жак Непвё де Пуанси, который накануне вынужден был посадить самого известного пирата Испанского Мэйна под замок, наутро скоренько сменил гнев на милость и освободил Черного Билли, отпустив его на все четыре стороны. Из-за ареста малость двинутого Пастора начала роптать не только его собственная команда, но и другие каперы по всему побережью Либерталии. Пираты, как известно, весьма законопослушны и не терпят нарушения тех законов, которые сами устанавливают, и кое-кто из Гильдии капитанов открыто высказался за то, чтобы по-свойски разделаться с предателем де Пуанси, раз он не чтит Кодекс Берегового Братства. Разумеется, де Пуанси служил королю, а не пиратам. Вчера он не смел ослушаться приказа. Шпионка явилась к нему с предписанием от самого Кольбера и потребовала арестовать Черного Билли. Но знаменитый Пастор был популярен среди пиратов, к тому же имел французский каперский патент — одним словом, обижать понапрасну его не стоило… Поэтому папаша Жак вздохнул с облегчением, когда на рассвете «Черная стрела» покинула вверенную ему Тортугу, унося с собой зеленоглазую женщину вместе с ее предписанием. Губернатор велел выпустить Черного Билла и передать тому, чтобы он убирался подальше и в ближайшее время не показывался наТортуге: на его подвиги, мол, сердиты в самом Версале. Упоминание про Версаль произвело на Билли сильное впечатление. Как часто бывает с тщеславными людьми, Пастор сразу же поверил, что его черная борода испугала самого Людовика, и тут же невыносимо возгордился. Сперва он потребовал вернуть ему карту, которую у него отобрали, и, по обыкновению, пригрозил кровавой расправой. Но к его величайшему негодованию и ярости, тюремщик молча ткнул его между лопатками увесистым кулаком и посоветовал убраться подобру-поздорову, пока на городской площади не сколотили ему качели. А кто-то из караулки даже крикнул ему вслед, что шел бы он, пока, мол, ему эту карту французский капитан не приколол к заднице своей шпагой. Несмотря на снедавшую его злобную досаду, Билли не утратил способность мыслить трезво. Он решил скорее двинуться в погоню, но тащиться на Эспаньолу, лежащую всего в десятке миль, на здоровенном фрегате не имело смысла. К тому же «Месть» давно не килевалась, и ей явно не повредила бы замена такелажа. Черный Пастор, пользуясь тем, что благодаря несправедливому тюремному заключению невольно стал героем дня, быстро и выгодно зафрахтовал небольшую шхуну для перехода на Эспаньолу, в течение двух дней собрав команду и погрузив на нее все необходимое. Плавание было недолгим, зато приключение — опасным. Но перед тем как пойти за сокровищами, ему захотелось если не проучить папашу Жака, то хотя бы хлопнуть дверью напоследок, и Билл разыграл на пристани целое представление. Тортуга давно не слышала такого обилия проклятий, угроз и библейских пророчеств в адрес губернатора и вверенного ему острова. Черный Билли обещал Черепахе скорую и ужасную гибель, предрекая, что «зловонные пучины поглотят проклятый остров со всеми тварями, как четвероногими, так и двуногими». Сами по себе эти угрозы мало что значили, но толпа пиратов, девок и прочей швали, которую привлекло желание поглазеть на Билли и его новую шхуну, пришла в неистовство, намереваясь учинить несправедливому губернатору «ночь длинных ножей». Тогда Черный Билли, которому вовсе не хотелось ввязываться в очередную передрягу, как можно скорее поднял якоря. О нем тотчас забыли, тем более что в общей свалке кто-то пырнул ножом моряка-ирландца и кто-то совершенно точно видел убегавшего с места преступления грязного негра с ближайшей табачной плантации. Земляки убитого ринулись на поиски убийцы, за ними потянулись зеваки, и всеобщее недовольство совершенно естественным образом перекинулось на ни в чем не повинного плантатора, которому подожгли склады с тростником, вытоптали сад и разгромили винный погреб. Тем временем «Ласточка» взяла курс на Эспаньолу. При всех своих причудах Черный Билли умел сделать верный ход. Вступать в бой с французским военным кораблем, имея на своем борту лишь половину команды и несколько старых пушек, ему совершенно не хотелось. Не говоря уже о том, что на стороне французов была профессиональная выучка. Да и вообще, во время морского боя враги могли затонуть, или у них мог бы взорваться пороховой погреб, или они могли бы просто назло Билли уничтожить бесценную карту. Нет, Черный Билли решил действовать по-умному, избегая встречи с французами на море. Маленькая шхуна давала еще и то преимущество, что позволяла относительно незаметно высадиться на французскую часть Эспаньолы. Пастор не сомневался, что зеленоглазая красотка бросится на поиски сокровищ, не медля ни секунды. Нужно просто выследить ее и отобрать карту. Весь экипаж она с собой не потащит, а Билли приложит необходимые усилия, чтобы обезопасить себя. Он высадится со своими молодцами на побережье там же, где высадятся лягушатники, и пойдет за этой стервой по пятам. А «Ласточка» двинется дальше, чтобы дожидаться капитана у южного берега. Там, конечно, полно испанцев, но на побережье предостаточно небольших удобных бухт, в которых можно затаиться. Разработав план, Черный Билли высадился во французской части Эспаньолы и сразу же включился в поиски если не сокровищ, то своих ближайших конкурентов. Он, впрочем, подозревал, что проклятый его квартирмейстер, которого он так непредусмотрительно оставил в живых, хотя и мог убить сто раз, вступил в сговор с французами и теперь тоже находится в их компании. «Что ж, дай Боже, чтобы так оно и было, — размышлял Билли, стоя на капитанском мостике и обозревая проплывающие мимо зеленые берега Эспаньолы. — На этот раз, Веселый Дик, моя блудливая правая рука, пощады тебе не будет, хоть пообещай ты мне все сокровища мира. И на обманщицу-судьбу я больше полагаться не стану. Пеньковый галстук на шею — и на мачту! Приятно иметь дело с покойниками: они не грешат. Хотя, говорят, на Эспаньоле порой мертвецы встают из могил, и тогда от них можно ждать чего угодно. Рассказывали, некий плантатор вошел в сговор с одним бокором и тот нашел способ поставлять ему на плантацию работников — оживших мертвяков. Им не нужно было ни пищи, ни одежды, ни развлечений. День-деньской они только и делали, что трудились, а на ночь убирались в свои могилы. Но потом плантатор вдруг взял да и умер от болотной лихорадки. Родных у него не было, и все его имущество отошло к колдуну, который взял себе заодно душу старого хозяина да потом еще долго поднимал его из могилы и заставлял трудиться на собственной плантации. И еще болтают, что на этой плантации собирали самый крепкий табак… Хуже нет, чем не угодить черному колдуну. Но мы будем держаться от них подальше, и наши дела не будут их касаться. Хотя Джим Льягас утверждает, что с колдунами вуду хорошо водить дружбу. Ясное дело, ему всякая нечисть, должно быть, сродни: он же ублюдок и полукровка — наполовину индеец, наполовину негр. — Черный Пастор хмыкнул при этой мысли. — Джимми хвалился, что с помощью такого колдуна отомстил своему бывшему хозяину и тот помер в страшных корчах. Пожалуй, стоит проделать такой трюк с Веселым Диком!.. Хотя… Нет, с этим стоит расправиться самому — так, чтобы все Испанское озеро всколыхнулось, узнав, каков в гневе Черный Билл! Но сперва нужно отыскать эту дрянную бабенку с картой…» Французский фрегат они обнаружили без труда: тот стоял в удобной бухте северо-восточнее траверза Тортуги. Паруса на «Черной стреле» были убраны, якоря спущены, на палубе не было видно ни души. Никто не проявил интереса к идущей через пролив шхуне с французским флагом на клотике, под которым на всякий случай вышел в море Черный Пастор. Билл, в свою очередь, решил, что основные силы уже высадились на берег. Он прошел еще две-три мили вдоль берега и пришвартовался в небольшой, но удобной бухте, которую окружал пологий берег, заросший мангровыми деревьями и невысоким кустарником. Характер береговой линии был важен для его замысла, потому что Черный Билл задумал прихватить с собой в дорогу пару легких пушек. Как-никак противостоять ему будет регулярная армия, и отношение к ней должно быть соответствующее. От команды Пастор не скрывал своих целей. Он знал, что путешествие вглубь острова будет рискованным и заинтересовать в таком случае людей можно только обещанием щедрого барыша. Не скрывал Черный Билли и того, что искать им придется иголку в стоге сена, потому что карту у него похитили, а поиски иголки будут осложнены еще и тем, что стог сена охвачен пламенем и кому-то на этом огне придется поджариться. Команда была согласна. Легенды о сокровищах испанских конкистадоров десятилетиями бередили умы береговых братьев, и никакие опасности не могли заставить людей отказаться от возможности найти их. На берег сошло двадцать пять человек — половина команды. Каждый был вооружен абордажными саблями, пистолетами и ножами и нес с собой солидный запас пороха и свинца. Корабельный плотник поставил лафеты двух легких пушек на самодельные колеса. Впрячься в них пришлось самим пиратам: лошадей у Черного Билли, конечно, с собой не было — их рассчитывали купить или отобрать на острове. Высадившись, они, двигаясь вглубь острова, пару дней проплутали по заросшим скалам, пока наконец не наткнулись на следы какого-то большого отряда, в котором, судя по навозу и отпечаткам копыт, было с дюжину лошадей. Черный Билл отправил четверых ловких молодцев в разведку. Они вернулись, лишь когда начало смеркаться. Трое напрасно потратили силы, зато четвертый принес совершенно точные сведения: около пятидесяти французских солдат остановились на ночлег в селении Гро-Шуан, милях в шести-семи от побережья. В отряде находились капитан фрегата «Черная стрела» Ришери, две красотки и полдюжины голландцев со своим толстосумом. Отряд выставил часовых, а все остальные улеглись спать. Услышав такое, Черный Билли повеселел и приказал за добрую весть выдать гонцу полпинты рома. Затем он немедленно приказал выступать в путь. — Хорошенько шевелите ногами, маменькины сынки! Веселее, акулья требуха! — радостно орал он, размахивая руками. — Напрягите свои щупальца и побудьте мужчинами хотя бы пару часов! Зато уж, когда мы разделаемся с французами, закатим такой пир, какой и турецкому султану не снился! Шумел он больше для души, потому что никто из пиратов и не собирался отлынивать от дела. Даже те члены команды, на чью долю выпало изображать волов в запряжке, находились в приподнятом настроении и были готовы тащить свою ношу не только за шесть миль, но и на край света. В таком воодушевлении отряд преодолел необходимое расстояние за три с половиной часа и прибыл в Гро-Шуан, когда уже давно перевалило за полночь. Селение спало, и вокруг царила тишина. Высланные вперед лазутчики обнаружили часовых, которым тут же предусмотрительно перерезали глотки, так что противник остался непредупрежденным. Билл, предвкушая скорую и легкую победу, приказал подкатить пушки поближе к городской площади, а пиратам — готовиться к атаке. Ориентироваться следовало на самые добротные и большие дома — в них-то, скорее всего, и разместились на ночлег французы. Оба орудия грохнули почти одновременно, наполнив сонный поселок шумом взрывов, треском ломающихся досок, звоном стекла и криками ужаса. Одно ядро упало на крышу дома, где квартировал сам капитан Ришери, проломило черепицу и устроило небольшой пожар на чердаке, другое разнесло в щепки курятник, и оставшиеся в живых обитатели с громким кудахтаньем бросились врассыпную, попадая под ноги мечущимся спросонья людям и увеличивая панику. Пока перезаряжались пушки, пираты открыли беспорядочную пальбу по окнам и стенам домов, а также по неясным теням, шарахающимся по улицам в безнадежных поисках убежища. В первые же минуты погибло не менее восьми солдат и четырех местных жителей. В двух зданиях на площади занялся пожар. В это время Черный Билл, опьяненный легкой удачей, которая сама шла ему в руки, выхватил из-за пояса огромную абордажную саблю и, проревев: «На абордаж, ребята!», первым бросился врукопашную. Отряд с обнаженными клинками последовал его примеру. Однако, несмотря на суматоху и растерянность, капитану Ришери и войсковому сержанту удалось навести порядок и под флейту и барабан собрать войско. Схватка оказалась недолгой, но гораздо более кровавой, чем рассчитывал Черный Билл. Часть солдат организованно отступила, прикрывая обоз, лошадей и дочку Абрабанеля с тремя голландцами. Благодяря этому численный перевес оказался за береговыми братьями, что позволило им занять селение. Однако солдаты Ришери хоть и отступали, но за их спинами была единственная дорога, а дисциплина и выучка сделали свое дело. Им удалось вывести из строя около дюжины пиратов, перед тем как они рассеялись в лесу, и прикрыть обоз, который к тому времени был уже достаточно далеко. Еще с полдюжины джентльменов удачи было ранено, что означало для Билла самую настоящую пиррову победу. Сами жители Гро-Шуана имели кое-какой опыт по части стычек: было время, их трепали испанцы, пираты, шайки беглых рабов-негров и даже собственные земляки, которым, как водится, соседское добро слаще своего. Дорогой опыт выживания помог выработать самую выгодную тактику. Первейшим ее элементом было массовое отступление. Обитатели селения хватали детей, оружие и ценности и тайными тропами скрывались в непроходимых зарослях вдоль реки или рассеивались по плантациям сахарного тростника. Впрочем, в эту ночь некоторые горячие головы попытались вступить в схватку: прячась за каменными заборами и плетеными изгородями, они некоторое время отстреливались, нанеся дополнительный урон пиратам, но, почувствовав, что пахнет жареным, быстро исчезли с поля боя. Черный Билл пришел в ярость, увидев, сколько бессмысленных жертв принесла короткая стычка с солдатами Ришери, Что касается остальных пиратов, то они, почувствовав, что противник дает слабину и предпочитает отступить, совсем распоясались и начали громить все, что попадалось им на пути. Многие тут же забыли, из-за чего они, собственно, здесь, и принялись искать ром. Пираты запалили несколько зданий, с восторгом наблюдая, как сполохи огня вырывают из тьмы то валяющийся труп человека, то дохлую собаку, то разбитый сундук или развороченное тряпье. Билл почувствовал, что теряет власть над своей командой и вместе с этим лишается какого бы то ни было шанса вернуть карту. Бабы нигде не было видно, и можно было догадаться, что как раз она-то и исчезла из разгромленного селения в числе первых. Это обстоятельство сильно подпортило ему и без того упавшее до нуля настроение. Собрав вокруг себя около дюжины более или менее вменяемых пиратов, он приказал им поймать хоть каких-нибудь из фермерских разбежавшихся лошадей. В тот же момент послышались какой-то топот, крики и смех, перемежающийся горестными стонами и воплями. Билл обернулся, в сердцах намереваясь дать в зубы первому, кто подвернется ему под руку, и пред ним открылась картина, вполне достойная кисти батального живописца. Пятеро перемазанных копотью и облепленных куриными перьями пиратов, озаренные пламенем пылающей конюшни, толкали перед собой нескольких обмотанных веревками и простынями красных и злых мужиков, позади которых плелся, воздевая руки к небу, перепуганный толстяк, который и издавал эти самые вопли и стоны каждый раз, как кто-нибудь из молодцев Билла весело тыкал его саблей в бок. — Разрази меня гром! — завопил в ответ на это Черный Билл, со злости втыкая саблю в землю. — Это что еще за вавилонское пленение? Вы видели что-нибудь подобное?! Эти недоноски, вместо того чтобы заняться делом, таскаются по курятникам и ловят каких-то никчемных засранцев! — О благородный джентльмен, умоляю вашу милость отпустить меня и моих ни в чем не повинных спутников! — завопил коротышка в купеческом одеянии, как только завидел Черного Билла. — А эти еще заявляют, что ни в чем не виноваты! — заорал Билл, переключаясь на пленников. От злости на собственную непредусмотрительность у Билла побагровела шея и начал трястись подбородок, отчего его знаменитая борода судорожно заколыхалась. — Я — Черный Пастор, отпускающий в этих краях грехи всем нечестивцам, какие только пожелают войти в Царство Божие, за всю свою жизнь ни разу не встретил НИ ОДНОГО невинного человека! Человек — это вообще сосуд греха и горшок с дерьмом! Только беспримерная гордыня позволяет вам святотатствовать, объявляя себя невинными! Но Бог противится гордым, и, поскольку Господу некогда заниматься всяким отребьем, вами займусь я, Черный Пастор! Грешников здесь хватает, и каждый из нас должен по мере сил помогать Господу наставлять заблудшие души на путь истинный, — Билл перевел дыхание и утер рот рукавом. Заметив, что его зрители явно заинтересованы исходом его проповеди, он почувствовал новый прилив вдохновения. — Я, например, — снова заорал он, выдергивая саблю из земли и тыча ею в грудь ближайшего пленника, — замечал, что, когда человек, прогулявшись по доске, отправляется за борт, его душа отправляется в небеса! Грешник падает в воду, отягченный страстями, но, пока идет ко дну, достигает совершенного бесстрастия, становясь невинным, как младенец. И тогда уже решительно все равно, гугенотом он был при жизни или верным чадом своей Церкви. Что вы скажете насчет такого символа веры, нечестивцы? Рослые голландцы угрюмо молчали, понимая, что в теологическом диспуте им у Черного Билла не выиграть. Зато внезапно оживился пузатый коротышка, который, несмотря на свой вечный страх, никогда не лишался надежды договориться о чем угодно и уладить какое угодно недоразумение. Он сделал таинственное лицо и украдкой поманил к себе предводителя пиратов. — Могу я побеседовать с вами наедине? — спросил он. — Что?! У меня нет секретов от своих товарищей! Если хочешь сказать последнее слово, то говори — у нас мало времени. — И все-таки этот разговор должен быть между нами двоими, — с ласковой настойчивостью проговорил купец и схватил Билла за пуговку кафтана. — То, что я намерен вам сообщить, касается не совсем меня, а даже скорее вас, и мне не хотелось бы… — Что-то больно мудрено ты поешь, — нахмурился пират. — Не воображай, что тебе удастся обвести меня вокруг пальца. Так и быть, я выслушаю твою байку, но потом ты все равно будешь болтаться на рее! Обыщите пока этих мокриц, ребята! Черный Билли отошел с голландцем в сторону. Тот уже примеривался, как половчее прихватить пирата под локоток. — Быстрее шевели языком, старый бочонок! — мрачно сказал Пастор. — Что ты хотел мне сказать? — Мне хотелось бы заметить, что мы с вами в некотором роде партнеры, — коротышка сыпал словами, как горохом. — И вам не стоило бы пренебрегать моей дружбой. Меня зовут Давид Малатеста Абрабанель. Я очень богат и влиятелен. — Это прекрасно, — желчно рявкнул Черный Билл, — но чем сейчас поможет тебе твое богатство? — Я готов заплатить выкуп, — быстро сказал Абрабанель. — Любую сумму, в разумных пределах. С собой у меня денег нет, но я могу выписать вексель… — добавил он, придавая лицу трогательно-наивное выражение. — Как повешу тебя вниз головой на рее, сразу найдутся твои денежки! — пообещал пират. — И не потребуется писать векселя. Ненавижу крючкотворов! Но почему это ты сказал, что мы с тобой партнеры? Ты занимаешься каперством? — Вы помните флейт «Голова Медузы»? — спросил Абрабанель. — С грузом серебра? Конечно, вы помните! Ведь вы захватили его, верно? Так вот знайте, что про этот флейт и его груз вам рассказал мой поверенный. И выходит, что это я сделал вам этот подарок! Черный Билли был не из тех людей, которых легко сбить с толку, но сейчас он просто опешил. Открыв рот, он недоверчиво уставился на коротышку-банкира, который, по мере того как овладевал вниманием пирата, все более обретал свою обычную самоуверенность и уже снова прихватил пуговку между пальчиками, которые, кстати сказать, были предусмотрительно освобождены хозяином от перстней еще накануне. — Ну что вы так смотрите? — с легким укором сказал голландец. — Я подарил вам целое судно, а вам жалко отпустить меня на свободу. Вспоминайте же! На Тортугу прибыл мой поверенный Якоб, назвал дату, приблизительную широту… — Послушай, гнусный растленный старикашка! — желчно перебил его Пастор. — Ты сам-то понимаешь, что изрыгают твои гнилые уста?! На том самом флейте, про который ты мне здесь плетешь, не было ни грамма серебра! На нем вообще ничего не было, кроме жирных корабельных крыс и тухлой соленой черепашины! И ты надеешься, что этот обман поможет тебе сохранить свою шкуру? — Подождите! — опять обеспокоился Абрабанель. — Какой обман? В каком обмане вы меня упрекаете? На корабле не было серебра? Подумаешь, великое дело! На большей половине кораблей в Карибском море нет никакого серебра! А парусник, который вы получили?! Он же был просто великолепен! Само совершенство, украшение любой флотилии! Одна носовая фигура чего стоит, а медные планширы, а новехонький такелаж! У него же был штурвал! А много у вас было кораблей со штурвалом?! То-то! У него такая вместительность, что два рейса окупят любое серебро! Тоже мне — не нашли серебра! Зато вам подарили великолепное судно с вышколенной командой: прекрасные моряки, отважные люди, капитан — настоящий сквайр… Он хотел еще что-то сказать, но в этот момент терпение у Черного Билла лопнуло. Он что есть силы размахнулся и рубанул саблей по молодым побегам пальмы. Сверкнула сталь, и срезанные ветки отлетели прочь на несколько футов. Но вошедшего в раж Абрабанеля было не так-то просто напугать. — А как же наша сделка? — вскричал Абрабанель. Мы можем легко договориться! Всегда есть и другие вещи, которые могут заинтересовать приличного человека! Например, сокровища конкистадоров… — Клянусь собственной бородой, еще одно слово и я отправлю тебя к праотцам! — рявкнул, не зная, как отделаться от предприимчивого банкира, бедный Билл. — Про сокровища ты вспомнил кстати, и, если бы не твоя болтовня, дрянной ты старикашка, я бы уже давно поймал эту треклятую стерву. — Если бы! — печально вскричал Абрабанель. — Эта низкая женщина, шпионка Бурбонов, натянула нам с вами нос, уважаемый! — Что такое?! — вытаращив красные от рома и дыма глаза, Билли уставился на банкира. — Да я сейчас вот этими руками так и вырву тебе твой поганый язык, жидовская ты собака! Ни одна юбка никогда не обманывала Черного Пастора! — Я не спорю, — кротко сказал банкир, отряхивая свой кафтан. — Но вот эта по крайней мере попыталась. Чтоб вы только знали: когда началась стрельба, кстати, на мой взгляд, совершенно излишняя, наша дамочка прихватила свои вещички, вскочила на коня и ускакала. Я сам слышал стук копыт. И кстати… — он доверительно приблизился к пирату, — несколько позже я слышал, как отъехал обоз. Полагаю, с ним был капитан Ришери. Если бы я не видел в вас в высшей степени порядочного человека, я бы не дал за нашу жизнь и обрезанного луидора короля Генриха IV, изрядного, замечу, фальшивомонетчика, как рассказывал мне мой почтенный батюшка. Но я сразу понял, что мы с вами найдем общий язык и сумеем добраться до сокровищ раньше этих поганых французов, которые не в состоянии довести до конца ни одного дела. Подумайте только! Эта дама вообразила, будто она сумеет добраться до сокровищ, которые десятилетиями не давались в руки самым смелым и благородным мужчинам! Какое самомнение! — Перестань морочить мне голову! — Черный Билл схватил Абрабанеля за беленький отложной воротничок. — Говори, собака, куда она поскакала? Где вы должны встретиться? — Клянусь бородой Моисея! — ювелир возвел на пирата кристально честные, полные глубокой грусти глаза. — Она и не вспомнила о нас. Спасала свою шкуру! Сказать по правде, я вообще играл в этой ситуации несвойственную мне позорную роль. Роковые обстоятельства вынудили меня исполнять при этой авантюристке роль бедной жертвы, из которой она, шантажируя меня, постоянно вымогала золото. — Ага, значит, золото все-таки есть! — зловеще прошипел Черный Билл. — Тебе это нужно было сразу сказать, голландская ты крыса! А у твоих друзей тоже есть золото? — У них его гораздо больше, — тут же ответил Абрабанель. — Клянусь, с меня вы не получите и десятой доли того, что они заработали, путешествуя по Новой Гвиане… — Отлично! Вам повезло, что у меня совершено нет на вас времени! — заявил Черный Билл. — Иначе вы все до одного уже болтались бы на рее… Нет, конечно, не на рее — я бы повесил вас вон на том большом дереве, но это не меняет дела. Однако пока я оставлю вам жизнь. Пошли! Черный Билл обернулся к сидящим на корточках пиратам и заорал: — Баба с картой сбежала, пока вы тут искали, чем бы промочить глотку! Где, дьявол вас побери, лошади, за которыми я вас посылал? По коням, дырявые лохани! — Кстати, — он снова обернулся к Абрабанелю, — куда, говоришь, она поскакала? — Вон туда! — и господин Абрабанель ткнул пальцем на юг.* * *
Черный Билли ринулся на поиск тех, кто пошел искать лошадей. Поскольку он не оставил никаких указаний по поводу пленников, то оставшиеся без приказа пираты затосковали, видя, как их товарищи весело проводят время, потроша погреба и сундуки, пока они так бездарно просиживают штаны вокруг никчемных сухопутных сукиных детей. Они переглянулись, дружно вскочили и отправились в сторону самого большого дома, того самого, где остановился на постой капитан Ришери. Голландцы, связанные по рукам и ногам, растерянно переглядывались. Они уже давно не могли понять, что происходит, и надеялись, что хоть какие-то разъяснения даст им Абрабанель. Но Абрабанель сам еще не решил, как ему себя вести и на что надеяться. Пока будущее оставалось туманным, Абрабанель не мог рисковать. Его товарищи были солидными и состоятельными людьми, имеющими миллион достоинств и заслуживающими всяческого уважения, но ради собственной жизни и благополучия дочери Абрабанель был готов пожертвовать и товарищами тоже. Разумеется, лишь в том случае, если бы эта жертва имела смысл. Хуже всего обстояло дело с Ван Дер Фельдом: погибни он от рук пиратов и о выгодной сделке, каковой Абрабанель почитал будущее замужество своей дочери, можно было бы забыть. Такая перспектива выглядела крайне нежелательной. — Сейчас я вас развяжу! — шепнул он Ван Дер Фельду, хотя, кроме голландцев, поблизости никого и не было. — Мы с вами почти родственники и в страшную минуту должны держаться друг друга. — Но я не понимаю! — ответил раздраженный Ван Дер Фельд. — Что происходит? Почему мы попали в плен к пиратам? Где хваленые французские войска? Кто гарантирует нашу безопасность? Кстати, у меня за голенищем сапога нож. Вы можете им воспользоваться. — Тише, тише, дорогой Ван Дер Фельд! — яростно зашептал Абрабанель, копаясь в ботфорте своего друга. — Есть, — пробормотал он и принялся пилить морской узел, которым пираты намертво стянули локти его будущего зятя. — Хваленые французские войска, — бормотал он, неловко орудуя кинжалом, — как мне кажется, наголову разбиты и бежали. Все теперь в руках пиратов, и безопасность нашу гарантировать никто не может. Зато глотку перерезать — в любую минуту. Впрочем, если вы сумеете задобрить этих мерзавцев золотом, они могут пощадить нас. Страшный их предводитель с бородой прямо намекнул на это. Так что, если зайдет речь о деньгах, советую развязать кошелек, дорогой Йозеф! Старый друг будто не слушал Абрабанеля. Он озирался по сторонам, глядя на фигуры вооруженных пиратов, слоняющихся по улицам, на горящие крыши и на темные узкие улочки, так заманчиво разбегающиеся в разные стороны от площади. — Но мы должны немедленно бежать! — заявил Ван Дер Фельд, сердито хмуря брови. — Нельзя же здесь оставаться и полагаться на порядочность морских разбойников. Среди них, дорогой Давид, крайне мало благородных людей. — Боже мой! — схватился за голову Абрабанель, едва не уронив кинжал на ногу Ван Дер Фельду. — Какое бегство?! Вы знаете, куда бежать, мой друг? Не спорю, вы обошли всю Южную Америку, чувствуете себя своим даже в болоте, можете сутками не кушать и не причесываться. Но здесь не тот случай. При попытке к бегству нас убьют безо всякого сожаления. Ведь у нас теперь нет даже лошадей. А я уже не в тех летах, чтобы таскаться пешком по скалам и лесным тропинкам. Надеюсь, вы не всерьез говорите о побеге? Ван Дер Фельд посмотрел на своего будущего родственника с большим удивлением и даже беспокойством, как нянька, заметившая, что дитя вместо рта подносит ложку к уху, а потом ответил: — Ну разумеется, я говорю о побеге совершенно серьезно, дорогой Давид! А как же иначе? Мне кажется, если ты посмотришь на дело трезво, то согласишься: нас в любом случае убьют без всякого сожаления, если мы останемся в этом бедламе. Просто странно, что этого еще не произошло. Мы теряем драгоценные минуты! А все потому, что ты никак не можешь распилить этот чертов узел да решиться на этот естественный шаг. Даже зайцы разбегаются, когда видят охотника. Сидеть и смотреть, как для тебя вяжут петлю, — это не самое подходящее занятие для мужчины. — Ой, мама, порезался, — взвизгнул Абрабанель и подул на палец, с которого закапала кровь. — Хорошо тебе рассуждать о зайцах! — обиженно сказал он. — Ты здоров, молод, у тебя ноги, как у лошади! Ты можешь прямо сейчас отправиться шататься по миру, как пресловутый Вечный жид! А у меня, позволь тебе напомнить, подагра… — Ты режь скорее, Давид, — вздохнув, поторопил друга Ван Дер Фельд. — Да режу, режу! Я, Йозеф, почтенный человек и не могу бегать по кустам, как кролик. И к тому же я должен подумать о будущем своей малютки. Если меня прикончит какой-нибудь Джон-буль *["245]или Жак в розовых панталонах, на кого ей опереться? Кстати, Ван Дер Фельд, я полагаю, наш договор о помолвке остается в силе? Надеюсь, ты не собираешься разбить мое старое сердце и не откажешься от моей девочки? — наконец-то Абрабанель закончил пилить, и разрезанная веревка провисла на плечах голландца. Ван Дер Фельд крякнул от смущения и, распутываясь и потирая онемевшие руки, сказал: — Разумеется, нет, дорогой Давид, не откажусь! Мне очень нравится твоя дочь, и я буду счастлив связать свою судьбу со столь достойной и привлекательной особой… — произнося эту тираду, он выхватил кинжал из рук Абрабанеля и принялся спешно освобождать двух других голландцев. — Но я тебя умоляю: мы должны бежать! Немедленно! Иначе мы все погибнем. Обопрись о мою руку, и бежим, пока никто не обращает на нас внимания! Вот в этот переулок! Он подтолкнул Абрабанеля к темному углу, за которым начиналась соседняя улочка. Еле владея затекшими руками и поминутно оглядываясь, голландцы поспешили туда. Там не было пожаров, и можно было отлично спрятаться в густой тени от домов и заборов. Ван Дер Фельд обернулся к своим товарищам и тихо проговорил: — Господа, спешите! Я не могу оставить Давида. Мы должны выбраться из городка и найти французов, ведь с ними дочь моего друга и моя невеста.* * *
Тем временем Черный Билли, нашедший наконец своих пиратов и лошадей, уже верхом вернулся на главную площадь и обнаружил, что никем не охраняемые голландцы сбежали. Ярости его не было предела. — Висельники! Остолопы! Акулья требуха! — орал он на полупьяных пиратов. — Мешки с вонючими костями! Обрадовались глотку дешевого рома! У вас под носом лежат миллионные сокровища! Тонны золота! А вы продались за склянку смердящего пойла! Где эти грязные голландцы? Немедленно найти и доставить сюда живыми. Дикий Сэм! Тебе поручаю! Бери надежных ребят, и обегайте всю округу. Когда я вернусь, голландцы должны быть здесь! Особенно этот наглый толстяк. И да поможет тебе Бог, если его здесь не будет! Ты умрешь такой смертью, что про нее будут складывать легенды по всему Испанскому Мэйну! Коренастый и кривобокий пират по прозвищу Дикий Сэм, лицо которого было настолько уродливо, что напоминало застывшую античную маску ужаса, ухмыльнулся и как ни в чем не бывало отсалютовал своему главарю. Страшная угроза как будто нисколько не беспокоила его. Впрочем, во-первых, его уже тоже порядком взял хмель, во-вторых, он знал, что Черный Билли благоволит ему, угадывая в Сэме родственную дикую душу. Дождавшись, пока конный отряд под предводительством Черного Билли скроется в ночи, он свистнул нескольким своим приятелям и заявил им, что отправляется на охоту. Всех каперов он брать с собой не стал, ограничившись тремя, у которых, кроме оружия, было в руках по зеленой пыльной бутыли отменного рома, обнаруженного в подвале какого-то дома, брошенного хозяевами. Прихлебывая на ходу веселящий души напиток, пираты под предводительством Дикого Сэма отправились разыскивать голландцев, ничуть не сомневаясь, что выполнят свое намерение без малейшего труда. За разговорами о том, как нелепо выглядит моряк на лошади, даже если это сам Черный Билли, они незаметно добрались до северной окраины, откуда входили в селение и где бросили обе пушки, которые теперь были просто обузой. Сюда не дошел пожар, улицы были темны, вокруг царила тишина. Четверо пиратов, хохоча и отпуская смачные шуточки, шагали по самой середине улицы и не очень-то замечали, что творится вокруг. Первым заметил какое-то движение Дикий Сэм. Он остановился и поднял руку. Пираты постепенно затихли и принялись с недоумением оглядываться. Сначала ничего особенного они не разглядели, но потом Дикий Сэм определенно рассмотрел, что возле лафета одной из пушек возятся какие-то тени. — Лопни мои глаза! — пробормотал он, хмурясь и делая шаг вперед. — Это ты, Дэн? Почему ты не веселишься вместе со всеми? Дэн был одним из тех, кто так ловко организовал обстрел Гро-Шуана. С пьяных глаз Дикому Сэму показалось, что канонир продолжает обихаживать свои пушки, вместо того чтобы принимать участие в погроме. Еще больше он удивился, когда от лафета прозвучал очень знакомый ему голос, насмешливый и спокойный: — Ничего удивительного, если твои глаза сейчас и в самом деле лопнут, Дикий Сэм! Они вполне это заслужили, раз тебе мерещится Дэн, которого тут и в помине нет! От неожиданности ни Дикий Сэм, ни его спутники не сообразили, кто с ними разговаривает, хотя голос был им, безусловно, знаком, и знаком очень хорошо. Озадаченные, они медленно подступали к пушке, вглядываясь в темноту, пока веселый неузнанный голос не произнес: — Что же ты заткнулся, Сэм? Не узнаешь старого товарища? Не хочешь предложить мне глоток рома? А кто это с тобой? Старый Волк Энди тоже тут? Остальных что-то не признаю — новенькие, что ли? — Лопни мои глаза! — потрясенно повторил Дикий Сэм. — Да ведь это Веселый Дик собственной персоной! Это Веселый Дик, ребята! Что ты здесь делаешь, Веселый Дик? По-моему, Черный Билл сильно на тебя сердит, и лучше бы тебе было держаться от него подальше. Ты слышал, что из-за тебя он даже попал за решетку на Тортуге? — За решетку он попал из-за собственной глупости, — возразил Веселый Дик. — Я-то сделал для него все, что мог, и даже больше. Родная мать не смогла бы для него столько сделать. Разве ты не слышал, что я отдал ему карту, на которой указано место, где зарыты сокровища? Разговаривая с пиратами, Кроуфорд незаметно подавал знаки прятавшимся поблизости приятелям, чтобы они рассредоточились и приготовились к бою. — Верно! — радостно откликнулся Дикий Сэм. — Ребята про это говорили. Но я слышал, что потом ты снюхался с бабой, которая посадила в тюрьму самого Билли, и карта опять перешла к тебе. — Вот как? Ты считаешь, что карта у меня? — удивился Кроуфорд. — И что же я в таком случае тут делаю? — А в самом деле, что? — встрепенулся Дикий Сэм. — Знаешь, Веселый Дик, мне не очень нравится, что ты тут ночью возишься около наших пушек. Мне кажется, ты что-то не то задумал, Веселый Дик! Пожалуй, придется тебя отвести к Черному Билли — пусть он решит, что с тобой делать. — Ты намереваешься отвести меня к Черному Билли? — спросил Кроуфорд. — Меня, его квартирмейстера? — Ты был квартирмейстером, Веселый Дик! — с упреком сказал Дикий Сэм. — Но ты нарушил договор, и мы тебя низложили на сходке. Все справедливо. — С каких пор ты стал таким справедливым, Сэм? — поинтересовался Кроуфорд. — Раньше я не замечал в тебе этой черты. Она пробудилась в тебе недавно? Может, ты начал читать Библию? Между прочим, здешние жители тоже кое-что понимают в справедливости, и, думаю, они постараются ее добиться. Только на этот раз, боюсь, Черному Билли тюрьмой не отделаться — наконец-то он отправится к морскому дьяволу. — Сам ему об этом сообщишь, — с хмурым упрямством сказал Дикий Сэм. — Не знаю, будет ли он рад тебя послушать, но повесит с большим удовольствием. Давай, ребята, вяжи Веселого Дика! Команда Дикого Сэма, разгоряченная ромом и убежденная в своем превосходстве, бросилась было на Кроуфорда, но в ту же самую секунду он свистнул, и из темноты с разных сторон со шпагами и пистолетами в руках выскочили Уильям Харт, капитан Ивлин и Робер Амбулен. В тылу пиратов оказался Потрошитель с товарищами. — Засада! — заорал Дикий Сэм, роняя бутылку. Кроуфорд поднял руку с пистолетом и выстрелил. Пуля попала Сэму в голову, застряв в черепе, и он упал как подкошенный. Прогремели еще два выстрела. Пистолет Харта дал осечку, и Уильям, отшвырнув его в сторону, бросился на ближайшего к нему пирата с обнаженной шпагой. Тот впопыхах вскинул свой пистолет и выстрелил. С головы Харта слетела шляпа. Он прикусил губу и сделал яростный выпад. Острие шпаги вонзилось в грудь пирата. Тот вскрикнул и схватился за клинок, словно хотел удержать его голыми руками. Уильям выдернул шпагу и нанес еще один укол. Пират захрипел и провалился во тьму. Тут же к Уильяму бросился еще один, размахивая огромным палашом. Пират был сильно пьян, и в его движениях было больше решимости, чем мастерства. Уильям без труда увернулся от занесенной над ним абордажной сабли и на треть вогнал шпагу в грузное тело противника. Пират жалобно всхлипнул, выронил оружие, закатил глаза и стал, оседая на шпагу, всем телом наваливаться на Уильяма. Если бы не вовремя подскочивший на подмогу капитан Ивлин, пожалуй, Харта раздавило бы этим тяжким грузом. — Потрошитель! — заорал Старый Волк Энди, и клешня Джека была последним, что он видел в своей жизни. Наконец с помощью капитана Уильям освободился сам и освободил свою шпагу. Победа была полная и безоговорочная. Трое пиратов были мертвы, четвертого держали за руки Боб и Джон. — Этого не трогать! — предупредил Кроуфорд, показывая на пленного счастливчика. — Я хочу, чтобы он поведал нам о замыслах славного Билли! Думаю, мы заслужили этот рассказ.* * *
Между тем Черный Билл скакал в темноте по неширокой тропе, между густыми зарослями, покрывавшими окрестные скалы, пытаясь догнать проклятущую зеленоглазую ведьму с картой. Лошади то и дело спотыкались об узловатые корни деревьев, но от ярости и досады Билли совсем потерял голову и, не дожидаясь утра, рванул наудачу по тропе, указанной Абрабанелем, в компании нескольких умеющих ездить верхом пиратов. Билли полагал, что ночью он без труда настигнет бессовестную француженку и отомстит ей за все обиды, нанесенные Черному Пастору! Надо сказать, что настроение у Билла было преотвратное: его план рухнул на глазах, незнакомка ускользнула, команда вышла из-под контроля, да и жертв среди пиратов оказалось намного больше, чем он рассчитывал. Хуже и неприятнее всего было, конечно, то, что эта ведьма уже второй раз уходила из-под носа вместе с картой. Черный Пастор рассчитывал, что, двигаясь по тропе, где виднелись свежие следы копыт, он рано или поздно нагонит беглянку. Отпечатки подков на раскисшей от постоянных дождей почве были заметны даже в темноте, да и луна светила довольно ярко. Черный Билли с самого начала считал, что женщина не могла ускакать в одиночестве: следы были оставлены несколькими лошадьми. Поэтому он далеко не сразу заметил, что количество отпечатков на тропе все время увеличивается… — Семь тысяч дьяволов, капитан! Клянусь Небом, мы уже в пятый раз проезжаем мимо этой пальмы с двумя верхушками! — воскликнул один из пиратов, сопровождавших Билла. — Разве ты не знаешь, Тим, что клясться, да еще самим Небом, — тягчайший грех?! Самим Господом сказано: не клянись Небом, потому что оно — Престол Всевышнего. Представь, Тим, как далек ты сейчас от этого Престола вместе со своими гнусными делишками, отмолить которые так же невозможно, как вычистить до блеска тот котел из преисподней, где черти сварят тебя живьем после твоей неправедной кончины! Или ты надеешься, что я, Черный Пастор, твой капитан, перед смертью отпущу тебе грехи, очистив тебя от них твоей же кровью? — Брось, Билл, сейчас не время для диспутов на евангельские темы! — оборвал капитана тот самый Джим Льягас, который, по слухам, водил дружбу с колдунами вуду. — Оставь свои нравоучения для жалких купчишек и чванливых испанских кабальеро! Похоже, что мы и вправду заблудились и ходим по кругу: взгляни, вон на том кусте впереди — клок от твоего собственного плаща! Черный Билли в ответ грязно выругался и проревел нечто нечленораздельное, долженствующее свидетельствовать о крайней степени его негодования. — Заткнись, чернокожий выродок! — гаркнул он. — Я сам знаю, что мне делать! Подхлестните коней, олухи, а то можно подумать, что вы скачете на мертвых черепахах! Шевелите копытами, скоро мы их догоним, они не могли далеко уйти! Пастор, конечно, не поверил Абрабанелю. Он был убежден, что зеленоглазая и ее спутники поджидают ювелира в каком-нибудь укромном местечке. Подобная догадка, если бы она оправдалась, несомненно, увеличивала шансы Черного Билли: ведь сбежавшим голландцам негде было взять коней, а следовательно, французы должны были бы ждать их довольно долго. Однако, по мере того как рассветало, он все больше убеждался в правоте Тима: петляющая в горном лесу тропинка вела вкруговую и они напрасно потеряли несколько часов, блуждая в темноте и без толку загоняя лошадей. — Холера меня возьми! Девять тысяч чертей! Будьте вы все прокляты! — зарычал Билли, соскакивая на землю и в бешенстве начиная размахивать клинком направо и налево. Кони остальных шарахнулись по сторонам. Один из пиратов вылетел из седла и угодил прямо в колючий кустарник, другие сочли за благо отъехать подальше. Несколько минут Черный Пастор бушевал, срубая верхушки кустов и лианы саблей, пока ее лезвие не застряло намертво в смолистом стволе какого-то дерева. Билл задохнулся от ярости, со всей силы рванул саблю за эфес и вместе с ней отлетел назад, ударившись башкой об обломок скалы. Отшвырнув зазубренный, изрядно погнутый и совершенно теперь бесполезный клинок, он обхватил руками ближайшее дерево, словно намереваясь выдернуть его с корнем, но в этот момент увидел далеко впереди мелькающие огни костра. — За мной, ребята, скорее! — взревел Черный Билл и, не разбирая дороги, бросился напрямик сквозь чащу. — Сдавайтесь, сукины дети! Не шевелиться или я перестреляю вас, как куропаток! — рявкнул он перед тем, как выскочить из кустов прямо к костру. На ходу пират выдернул из-за пояса пару пистолетов и для устрашения пальнул было в воздух, но курки громко щелкнули и… все. В досаде отшвырнув оружие, Черный Пастор раздвинул широкие мокрые листья какого-то растения и гордо выступил на поляну в предвкушении торжества… Вместо французов вокруг костра расположились отвратительные полуголые создания, вымазанные мелом, кровью и коричневой глиной. В предрассветных сумерках на фоне сереющего неба четко выделялся силуэт плечистого дикаря с диковинной татуировкой на груди. Он был бос и наг, а его одежду составляла только узкая набедренная повязка. Ноги и руки его были унизаны огромными браслетами из резной кости и плетеной соломы. Вего косматые седые волосы были вплетены пестрые перья, цветные лоскутки и клочья шерсти. Он слегка раскачивался из стороны в сторону на полусогнутых ногах и, указывая мускулистой рукой на каких-то зверей, подвешенных над костром на длинных палках, выкрикивал приказания на непонятном гортанном языке. Несколько человек копошилось вокруг огня, другие с трудом поворачивали эти деревянные вертела с жарким. Черный Билл замер, разинув рот. Чего-чего он не повидал в своей грешной жизни, но представшая сейчас перед его глазами картина заставила содрогнуться даже его: над пламенем живьем поджаривалось несколько юношей-дикарей, связанных по рукам и ногам. У костра плясали два представителя племени. Их узкие юбочки из пальмовых листьев задорно подпрыгивали в такт, обнажая мускулистые бедра и ягодицы. На головах сих плясунов красовались яркие повязки из перьев тукана, запястья и лодыжки украшали повязки из древесных волокон — даже такому дремучему человеку, как Билл, стало понятно, что у людей праздник. У одного индейца на затылке красовался пучок обезьяньих волос, который при особенно высоком прыжке развевался, как грива какой-нибудь взбесившейся лошади. Оба плясуна вдобавок ко всему еще и умудрялись гундеть в какие-то дудки, из которых в такт их диким прыжкам неслись отвратительные визгливые звуки. В этом танце индейцы демонстрировали чудеса акробатики: по их покрытым потом голым спинам можно было догадаться, что вот так, широким шагом с подскоками, а часто бегом в едином ритме, они проскакали без передышки по меньшей мере пару часов. Черный Билли нервно сглотнул и хотел было удалиться, как вдруг взгляд его упал на странные музыкальные инструменты, в которые дикари дули во всю силу своих легких: хорошенько рассмотрев их в отблесках огромного костра, Пастор почувствовал, что его сейчас вывернет наизнанку. Дудки были сделаны из человеческих костей. Потрясенный жутким зрелищем, Билл словно застыл. Опомнись он мгновением раньше, он, возможно, успел бы еще сбежать. Но его заметили, и в мгновение ока он был окружен плотным кольцом размалеванных тварей. Привычным движением рванувшись к сабле, рука пирата нащупала лишь пустые ножны… — Тим, Джим, Пит, Энди! Сюда, черт вас подери! Однако никто не отозвался. Пираты либо плутали в лесу, либо просто не сочли нужным сопровождать капитана в его последнем броске через заросли и предпочли вернуться в разгромленный Гро-Шуан, чтобы подсобить приятелям в дегустации рома. Черному Пастору оставалось рассчитывать только на собственные силы. Он двинул кулаком в рожу ближайшему людоеду и одновременно пнул ногой в живот другого. Однако индеец оказался проворнее измотанного ночным налетом и бессмысленной четырехчасовой скачкой капитана и схватил его за ногу. Изрыгая проклятия, Билл повалился на землю, и каннибалы, плотно скрутив добычу по рукам и ногам, подхватили его и грубо швырнули под ноги широкоплечему дикарю, отдававшему приказания. Билли заревел, как раненый медведь, и напряг все силы, стараясь разорвать веревки и вскочить на ноги. Но вождь коротко гаркнул что-то по-своему, и на грудь пирата уселся жирный лоснящийся от пота дикарь со множеством жестких косичек, в которые были вплетены крылья каких-то насекомых. — Дьяволовы отродья, мерзкие хари, свиные рыла, чтоб вам провалиться! — задыхаясь от злобы и бессильного бешенства, бормотал Черный Билл. — На кой зюйд-вест я вам сдался, ели бы себе своих молоденьких сородичей, вон их у вас сколько поджаривается… Проклятая французская сучка, а ведь все из-за тебя! Ну погоди, ты у меня еще попляшешь!.. Впрочем, так Пастор бранился скорее по привычке: он вполне отдавал себе отчет, что через несколько минут состоится последний ужин в его жизни и кушать на нем будут его самого. Потом его посетила другая мысль: «А может, мне и на руку эти недопеченные мальчишки?! Эти твари сейчас их слопают, наедятся, а меня оставят на следующую трапезу…» Билли даже начал озираться по сторонам в надежде увидеть какой-нибудь предмет, об который в случае чего удалось бы перетереть веревки и освободиться. Но тут произошло нечто уж вовсе непредвиденное: вождь обернулся к индейцам, поворачивавшим вертела, к которым были привязаны юноши, и опять что-то прокаркал на своем гадком наречии. Дикари засуетились и один за другим начали снимать шесты с рогатин, на которых те были укреплены. Через несколько минут все шестеро молодых людей, измученные, с обожженной кожей и опаленными волосами, предстали перед вождем. Кто-то подал ему острый каменный, загнутый, как змеиный зуб, нож с рукоятью в форме какого-то божка со змеиным языком, и вождь поочередно коснулся фигурным лезвием груди каждого юноши. Затем он обратился к ним с речью, в которой Биллу почудилось какое-то дикое торжество и угроза, хотя он не понимал ни слова. Если бы Черный Пастор был знаком с наречием племени, в лапы которого так неразумно угодил, то смысл слов вождя его бы не обрадовал: — Дети мои! — говорил тот. — Вы достойно прошли обряд посвящения. С этого дня вы уже не юноши — вы взрослые мужчины, воины и полноправные члены племени. С этого дня вы будете иметь равную долю добычи в каждом военном набеге и на каждой охоте. С этого дня вы получите собственное оружие и право иметь столько жен, сколько захотите и сможете прокормить. Именно обрядом инициации, а совсем не намерением дикарей съесть молодых соплеменников объяснялось то мучительное испытание, которому только что подверглись молодые люди. Людоед, подававший вождю ритуальный нож с рукоятью в виде головы дракона, вынес на поляну шесть копий, разукрашенных лентами и перьями, и шесть великолепных луков с туго натянутой тетивой. Следом еще два индейца несли колчаны со стрелами. А вождь продолжал: — Дети мои! Ваше посвящение отмечено добрым знаком: само небо послало в наши руки белого чужеземца, который станет первым убитым вами врагом. Сейчас его привяжут к дереву, вы возьмете свои луки и поочередно выстрелите в него. Затем вы сможете взять его сердце и печень и, поделив между собой, съесть их, чтобы к вам перешли сила и коварство белых людей. Еще ни одному человеку из нашего племени не удавалось убить и съесть белокожего врага в день своего посвящения. Будьте же достойны того жребия, который указывает вам само небо, — будьте лучшими воинами нашего племени, победителями белых, которые так безжалостно истребили и истребляют наш народ! В следующий момент два индейца резко подхватили Черного Билла и потащили к ближайшему дереву…Глава 5 Рыцарь ниоткуда
Лондон. Вестминстер. 1581 год
Мужчина лет двадцати восьми, в плаще, с длинной шпагой, прицепленной у бедра, что есть силы гнал коня прямо к утопавшему в снегу огромному красному дворцу. Он резко осадил взмыленное животное перед самыми Холбейнскими воротами Вестминстерского дворца — зимнего прибежища королевы Англии и ее двора. Рождество в этом году выпало на редкость слякотным, и, спасаясь от промозглой сырости и холода, он был вынужден пожертвовать на одежду, достойную дворянина, большую часть своего жалованья. И теперь удивительно смуглую кожу и яркие, как зеркала, голубые глаза капитана выгодно подчеркивал роскошный плащ из красного бархата. Мужчина легко соскочил с коня и повел его в поводу к конюшням. Вдруг он заметил живописную стайку сверкающих парчой и драгоценностями леди и лордов: почтительно хихикая, смеясь и чертыхаясь, они в тоненьких бальных туфельках и башмачках тщетно пытались перебраться через огромную лужу, образовавшуюся из тающего снега, в которой явственно проступали островки грязи и конского навоза. Впереди всех, грациозно поддернув золоченый колокол юбки и вытянув крохотную ножку в огненно-красном чулке и усыпанной бриллиантами туфельке, застыла статная рыжеволосая женщина, чье лицо могло соперничать в белизне с тафтяным воротником ее платья. Капитан застыл, жадно пожирая глазами саму королеву. Елизавета вдруг подняла голову, и он прочел в ее янтарных глазах, что королева не хочет окунуться в грязь, но и отступать не желает. Дворянин улыбнулся и сорвал с себя плащ, отчего шелковые завязки с треском лопнули у самого его горла. Не отрывая глаз от призрачного лица, он с поклоном разостлал драгоценное полотнище в грязи перед ней. Королева посмотрела на него и поставила ножку на пламенеющую на снегу ткань. Незнакомец откинул со лба непослушную прядь жестких, как перья ворона, волос и улыбнулся королеве еще раз. В его голубых глазах заплясали демоны. Елизавета тряхнула рыжими, как хвост лисицы, кудрями и хлопнула в ладоши. — Ах, господа, какая невиданная учтивость! — воскликнула она и рассмеялась. Потом, словно невесомая королева эльфов Титания, перешла по бархату на другую сторону мостовой. — Как тебя зовут? — спросила она, на секунду застыв и полуобернувшись, выгибая шею, скованную крахмалом и проволокой воротника. Он вдруг почувствовал, как бьется сонная артерия у ее горла, а сама женщина вдруг сделалась похожа на норовистую лошадь. — Капитан Уолтер Рэли, Ваше Величество. — Я запомню тебя. Можешь забрать свой плащ. Он еще раз поклонился и ловким движением бродячего акробата сдернул его с земли. Ледяная вода обрызгала ему лицо и забарабанила по мостовой, струями сбегая с потяжелевшей ткани. Он слизнул капельки грязи с губы и с усмешкой оглядел свиту. Леди и джентльмены переглянулись. Что-то неслышно оборвалось в сиреневом воздухе. Следуя за удаляющейся королевой, леди и джентльменам пришлось утопать в грязи.Глава 6 Тайный ход
Карибское море. Куба
На голой каменной стене висело бронзовое распятие. В углу крошечной комнаты, напоминавшей монашескую келию, поместилось узкое ложе, небрежно сколоченное из досок. Напротив в узком, как бойница, оконце виднелся кусочек серого линялого от зноя неба. На табурете стоял тазик и кувшин для умывания, а над кроватью, в каменной нише, лежала фляга со святой водой и Бревиарий. Дамиан в смятении кружил по замкнутому пространству — восемь шагов туда, восемь обратно — и пытался читать по четкам Розарий. Однако ум бежал от молитвы. Он никак не хотел входить в привычные рамки и устремляться к вещам, положенным для созерцаний. Половина жизни Дамиана прошла за стенами иезуитского коллежа в Севилье. Впервые за каменные стены Дамиан выбрался спустя десять лет: первый раз год назад вместе с наставником он отправился в миссию на Мартинику, а во второй раз по велению прокуратора отца Жана сплавал в Новую Гвиану — к устью реки Ориноко. Стены миссии, куда отец Франциск определил Дамиана, были ему незнакомы, но он не мог считать их тюрьмой, хотя по виду и уставу жизни в них они при необходимости с легкостью их заменяли. Любая миссия для члена Общества Иисуса словно родной дом, в какой бы части света он ни находился. С момента их прибытия на Кубу отец Франциск дал понять, что не одобряет выхода Дамиана за пределы ограды, которая, надо сказать, была на совесть сложена из местного ноздреватого камня и превосходила высотой два человеческих роста. Дамиан был воспитан Обществом Иисуса в послушании и беспрекословном исполнении приказов, но даже он в таких обстоятельствах затосковал. Отец Франциск постоянно где-то пропадал, трапезу ему приносили прямо сюда, и Дамиану приходилось коротать время лишь в обществе Бревиария да летучих мышей, которые по ночам норовили забраться к нему в келию. Но гораздо более привычного за время четырехнедельных духовных упражнений одиночества угнетала Дамиана мысль о скором отбытии на Эспаньолу. Пока шли на Кубу, у него еще теплилась надежда, что отец Франциск раздумает брать его с собой, но, попав в эту келию, Дамиан понял, что пути назад нет и отец Франциск не изменит своего решения. Последний, как убедился Дамиан, и в самом деле являлся личностью незаурядной. Сойдя в порту Сантьяго-де-Куба в скромной черной рясе, отец Франциск более не возвращался к подобающему его сану платью. На следующий день он неожиданно появился перед Дамианом одетый, как знатный гранд, в атласный черный костюм, шитый серебром. Шею его облегал белый кружевной воротник, а манжеты едва не достигали кончиков пальцев. Его широкополая черная шляпа была украшена пером цапли, заколотым жемчужным аграфом, а черные как смоль кудри тщательно завиты: по испанской моде он не носил парика. На серебряной перевязи висела длинная боевая шпага, рукоять и гарда которой были украшены искусной мавританской чеканкой. Держался отец Франциск в партикулярном платье совершенно естественно, как человек, долгое время вращавшийся при дворе. Но еще более поразился Дамиан, когда отец Франциск самым серьезным образом предупредил его: — Послушайте меня внимательно, дорогой друг! С этого момента мы с вами меняем облик. Отца Дамиана больше нет, а есть дон Диего Веласкес де Сабанеда, сирота и племянник дона Фернандо Диаса, испанского гранда, владельца богатого энкомиендо *["246]неподалеку от Санто-Доминго. Должен вам заметить, что ваш дядя — старый холостяк, давший Пресвятой Деве обет безбрачия. А вот племянник подумывает о женитьбе, и, кстати, у него на примете есть совершенно определенная особа. Догадываетесь, как ее имя? Нет? Я вам подскажу. Эта особа находится сейчас там же, где находятся благоустроенные поместья семьи Веласкесов де Сабанеда, — на острове Эспаньола. Вы и теперь не догадываетесь? Хорошо, скажу прямо — ее фамилия Абрабанель. Возможно, нам будет на руку ваша с ней помолвка, так что мысленно готовьтесь к ней и просите Господа послать вам силы и терпения… — Но, отец Франциск… — ошеломленно пробормотал Дамиан. — Как же в таком случае святые обеты, которые мы давали, вступая в Орден, как же быть с ними, отец Франциск? — Есть еще один обет, отец Дамиан, — строго проговорил отец Франциск. — Обет безусловного повиновения его святейшеству и генералу Ордена. Этот обет не менее, а может быть, даже более важен. И поскольку мною этот обет принесен, то все сложные вопросы за вас решать буду я, ибо я выполняю волю генерала Ордена и самого Папы Римского. А сегодня их воля такова, что известные вам отец Франциск и отец Дамиан временно исчезли, и след их затерялся в дебрях Ориноко. А вместо них есть дядя и племянник, который беспрекословно подчиняется каждому слову своего опекуна, вы поняли меня, дон Диего Веласкес де Сабанеда? Взгляд, сопровождавший этот риторический вопрос, был настолько тяжел, что Дамиану почудилось, будто в лоб ему нацелено круглое дуло пистолета. — Разумеется, отец… дон Фернандо! — поспешно сказал он. — Как благословите… Можете не сомневаться, я все понял. — И учтите на будущее, дон Диего! — смягчаясь, заметил дядя, коим отныне становился для бедного коадьютора отец Франциск. — Набожность — качество, безусловно, достойное и похвальное, но для точного выполнения нашей задачи нам не следует усердствовать в ее демонстрации, понимаете меня? Никто вас не упрекнет, если вы, например, пропустите вечернюю молитву или даже в порыве сильных чувств начнете богохульствовать. Господь отпустит вам этот грех, когда мы вернем Матери-Церкви сокровища ее конкистадоров. — Я учту ваши пожелания, дон Фернандо! — окрепшим голосом ответил «племянник». В конце концов, побыть грандом с готовой индульгенцией в кармане не так уж плохо. — Можете во мне не сомневаться. К подобным делам его, в сущности, и готовили в Ордене, просто он никак не ожидал, что в скором будущем ему придется играть роль знатного дворянина. К такому повороту Дамиан, а ныне дон Диего Веласкес должен был еще привыкнуть. Он понимал, что титулы и имена, скорее всего, настоящие, а задумываться, куда делись их истинные владельцы, ему не хотелось. Другое дело, что отец Франциск на самом деле был до пострига доном Фернандо Диасом — чего только стоила история с капитаном галеона доном Мигелем Диасом, старшим братом дона Фернандо. Так что разоблачения можно было не опасаться. Однако по-настоящему тревожило новоиспеченного Диаса совсем иное. Как может выглядеть богатое поместье на Эспаньоле, он представлял себе смутно. Зато земли, заросшие непроходимой болотистой гилеей, в которой водятся змеи толщиной с дерево, обезьяны, дикие свиньи и леопарды, почерневшие остовы брошенных фортов на пустынных берегах да набеги беглых негров и караибов, питающихся человеческим мясом, он вполне мог себе вообразить, наслушавшись разговоров солдат, моряков и миссионеров. Страхи падре Дамиана зашли так далеко, что он даже засомневался, что отец Франциск обладает необходимыми навыками для преследования пиратов и поисков легендарных сокровищ. Ведь одно дело — воевать с голландцами, которые, может, и были еретиками, но все-таки вполне цивилизованными европейцами, а совсем другое — оказаться на острове, где ты будешь как бревно в глазу не только французам, англичанам, Вест-Индской компании, но и пиратам, и дикарям, и шайкам беглых рабов в придачу. К тому же Дамиан, хоть неделю постись и медитируй, ни на йоту не верил в существование этих сокровищ. Сомневался в них и отец Франциск. Из-за всех этих раздумий Дамиан испытывал несвойственное ему смятение и никак не мог сосредоточиться на положенном ежевечернем испытании совести. Итак, падре Дамиан беспокоился, и в девятом часу вечера это беспокойство умножилось. Случилось это после того, как келию Дамиана посетил отец Франциск. Он был элегантен, завит и надушен, держась с надменностью урожденного гранда. От такого преображения Дамиану становилось не по себе. Самому ему было не под силу сыграть роль отпрыска знатного рода, о чем он без обиняков и заявил сразу же отцу Франциску. — Не нужно ничего играть, — поморщился тот. — Дон Диего Веласкес де Сабанеда — недоросль, которого измученные родители отдали на воспитание в иезуитский коллеж, так как Севильский университет был для него слишком интеллектуален. Дона Диего пять лет приучали к сдержанности. Естественно, он совершенно неопытен и потому часто и самым роковым образом влюбляется. Девица Абрабанель произведет на него неизгладимое впечатление. Кстати, говорят, она действительно очень недурна… Но не это сейчас должно интересовать нас, дорогой племянник, потому что впереди нас ожидают испытания более суровые, чем я предполагал. То, что я сейчас расскажу вам, не только составляет государственную тайну, но и является личной тайной высочайших особ, о которых вам и знать ничего не следует. Однако Провидение выбрало вас, брат Дамиан, а вам остается только смириться и исполнить послушание. Ответственность всегда облагораживает, но в ней заключается и немалая опасность — как человек умный вы должны это понимать. А теперь перейдем к делу. Вы должны хорошенько усвоить то, что я сейчас расскажу, потому что больше мы с вами возвращаться к этой теме не будем. — Я готов, сеньор! — послушно наклонил голову Дамиан. — Итак, достопочтенный отец Жан сообщил вам сведения, переданные с Тортуги нашим братом. Сведения сугубо конфиденциальные, предназначенные только для Ордена. Однако сам способ их передачи не мог гарантировать сохранения тайны. То, что знаем мы с вами, знает еще некий круг лиц. К сожалению, скажу я, потому что убежден: богатства конкистадоров должны быть сосредоточены в руках истинных воинов Христовых, в распоряжении Святой Церкви. В наше время, когда дьявольские идеи Реформации проникают даже во дворцы королей… Одним словом, я хочу предупредить вас, что на пути нас ждут очень серьезные препятствия. Пока нет никаких весомых доказательств существования на Эспаньоле сокровищ. Найти эти доказательства должны мы с вами. Но на остров, кроме нас с вами, отправляется еще одна группа людей, многочисленная и, надо заметить, очень могущественная. Возглавляет ее дон Себастьян де Абанилья, носящий в данный момент титул главного королевского инспектора испанских колоний. Полномочия его в колониях безграничны, людские ресурсы практически неисчерпаемы, амбиции его и алчность велики необыкновенно. Все, что известно нам, известно ему, и отправился он в испанские колонии, имея в виду одну Эспаньолу. Между прочим, этот дворянин является дальним потомком того самого Эрнандо Кортеса, которому приписывается честь обретения разыскиваемых нами сокровищ. — Значит, этот дон Себастьян будет стараться найти сокровища раньше нас с вами? — воскликнул Дамиан. — Он будет стараться не только найти сокровища, — сказал отец Франциск. — Мне намекнули, что у него есть тайный приказ во что бы то ни стало помешать Ордену завладеть ими, уничтожив его верных братьев. — Уничтожить? Как же так? Слуга короля замышляет злодейство против слуг Господних? Возможно ли это? — Очень даже возможно, дон Диего! — строго сказал отец Франциск. — Речь идет о несметных богатствах. При всем уважении к монарху должен заметить, что его поступки не всегда продиктованы высочайшими побуждениями. С тех пор как наш святой Папа Иннокентий XI попытался усилить свое влияние при испанском дворе, а король Испании Карл II грубо тому воспрепятствовал, фавориты короля, настроенные голландскими шпионами против Церкви, всячески натравливают монарха на папу и на наш Орден как верного слугу его святейшества и всех христиан. Но оставим проблемы Эскуриала и внешней политики. Я заговорил о них только для того, чтобы вы поняли, что опасность будет сопровождать нас с вами до тех пор, пока сокровища не окажутся в Ордене или мы не погибнем. — В таком случае позвольте вопрос, отец Фран… простите, дон Фернандо, — почтительно проговорил Дамиан. — Ежеминутно подвергаясь смертельной опасности, должны ли мы с вами принимать какие-либо меры или должны смиренно нести наш крест, полагаясь лишь на Провидение? — Я вас понял, дон Диего, — отец Франциск коснулся кончиками пальцев своей остроконечной бородки. — Орден благословил нас на эту почетную и ответственную миссию, и возможные преграды не должны смущать нас. Смирение в данном случае — не лучший способ обрести искомое. Наша цель вполне оправдает те средства, которыми мы сочтем необходимым воспользоваться, и, руководствуясь этой сентенцией, мы ни в коей мере не отступим от нашего устава, — он помолчал немного, а потом взглянул Дамиану в глаза и добавил: — Должен вас огорчить, дон Диего! Неприятности у нас с вами уже начались. В порту Сантьяго стоит двухмачтовая «Азалия» под испанским флагом. Еще до полуночи мы должны быть на ее борту и отдать якоря. — Я готов, дон Фернандо! — сказал Дамиан, старательно изображая в голосе энтузиазм. — Но о каких неприятностях вы говорите? Нам мешают те самые силы? — И очень, — наклонил голову отец Франциск. — Очень мешают. Я бы даже сказал, в высшей степени препятствуют. Я едва смог вернуться в коллегию: за мной следили и лишь то, что я был не один, спасло меня от нападения. Но думаю, все известные входы и выходы перекрыты, и, скорее всего, наемные убийцы уже ждут нас. Дамиан невольно бросил взгляд в сторону узкого окна, в котором теперь была видна не атласная синева дня, а бархатная чернота ночи и в которое ныне врывался теплый ветерок и отчаянный треск цикад. — Наемные убийцы? — пробормотал он. — Нам даже не дадут выйти из коллежа? Неужели все так безнадежно? — Надежда — одна из трех высших добродетелей, и не стоит прощаться с ней с такой легкостью, — заметил отец Франциск. — Надежды лишены те, кто лишен веры и мужества! Мы находимся в сложном положении, это верно, но я предусмотрел и такую возможность. А теперь прошу вас, дон Диего, как можно скорее соберите свои вещи и следуйте за мной! Отец Франциск повернулся, задев растерянного Дамиана черным атласным плащом, и вышел из тесной келии. Дамиан перекрестился, быстро засунул в свой дорожный узелок Бревиарий и четки и поспешно вышел следом в узкую дверь, со всего маху врезавшись лбом в низкую притолку. — Уй-я-а, — простонал Дамиан и, уронив узелок, обеими руками схватился за голову. — Не ленитесь гнуть шею, друг мой: Господь противится гордым, а смиренным дает благодать, — со знанием дела заметил отец Франциск, не оборачиваясь. «Училищем смирения» называли в монастырях низкие узенькие дверцы, которые напоминали монахам, послушникам и мирянам непреложную евангельскую истину о том, что в рай входят тесными вратами. Стоило забыть об этом, как голову праздного ленивца немедленно венчала шишка. Вот и сейчас на лбу Дамиана мгновенно вздулся аккуратный бугорок, а в голове гудело так, словно она была праздничным колоколом. Еле сдерживая проклятия и поминутно дотрагиваясь до увечного члена, Дамиан подхватил вещи и ринулся за профосом. Длинный коридор с каменными стенами едва освещался чадящим в дальнем конце факелом. Отец Франциск бесшумным шагом уже прошел его и теперь выглядывал на лестницу, спиралью уходящую куда-то вниз. Не услышав ничего подозрительного, он кивнул своим мыслям и быстро вернулся в коридор. Не глядя на Дамиана, он коснулся кончиками пальцев стены у себя над головой и принялся ощупывать ее дюйм за дюймом. Внезапно что-то тихо скрипнуло, и на иезуитов посыпались пыль и песок. Часть каменной стены, на которую только что рассеянно опирался Дамиан, вдруг поехала куда-то внутрь, едва не уронив коадьютора на землю. Через несколько секунд в стене образовалась темная щель, достаточная для того, чтобы в нее вошел человек. Перекрестившись и прошептав короткую молитву, отец Франциск выдернул из стены факел и протиснулся внутрь. Дамиан вздохнул и, царапая локти о выступающие камни, подумал, что кто-кто, а уж он-то никогда не мечтал свести знакомство с тайными ходами, наемными убийцами и сокровищами конкистадоров. Почему так всегда бывает? Те, кто ночами напролет со свечой взахлеб читает о приключениях рыцарей, волшебных чарах и таинственных кладах, чаще всего проживают скучную жизнь, деля время между работой и домом, а те, кто более всего жаждет покоя, вечно попадают в различные передряги… «Несправедливо», — обиженно думал Дамиан, тоскуя об обедах по расписанию, пахнувшей маслом, темперой и растворителями мастерской и уютной келии в Севильском монастыре. Они оказались в небольшом полукруглом сводчатом помещении, на стенах которого даже в неровном свете виделись черные потеки копоти, по-видимому оставленные здесь такими же факелами. Отец Франциск снова нажал пальцами на какие-то одному ему ведомые выступы, приводя в действие механизм дверей, которые тут же с тихим поскрипыванием и щелканием затворились. Воцарилась мертвая гнетущая тишина, нарушаемая лишь дыханием двух мужчин да потрескиванием пламени, которое металось, пожирая спертый воздух подземелья. Дамиану стало жутко, когда он представил себе, что из-за какой-нибудь поломки они могут оказаться здесь как в ловушке. Но отец Франциск, не говоря ни слова, прошел к дальней стене, посветил на нее и воткнул факел в расселину между камнями. Затем он точно так же привел в действие еще один секретный механизм, и снова Дамиану пришлось протискиваться в щель. На этот раз, судя по воздуху, они оказались в помещении более просторном, хотя и погруженном в полный мрак. Затворив дверь, отец Франциск пошарил в темноте, и вскоре толстая восковая свеча затеплилась у него в руке. В ее слабом свете Дамиан увидел комнату с теряющимся во мраке потолком, вдоль стен которой, насколько различал глаз, тянулись стеллажи с десятками книг, свитков в футлярах и фолиантами в переплетах из дерева и кожи. Пахло старыми пергаментами, пылью, камнем и ладаном. Отец Франциск прошел вглубь залы и жестом подозвал Дамиана к себе. Перед Дамианом открылась просторная ниша, в которой аккуратными рядами были сложены и развешаны шпаги, пистолеты, натруски и лядунки, перевязи, мечи и сабли, шпаги и кинжалы. В дальнем углу на крюке, вбитом в стену, даже висело несколько палашей, которые подпирали копья и алебарды. Все оружие было тщательно смазано, вычищено и уложено по своему роду. Неподалеку стоял и небольшой дорожный сундук, который с легкостью мог поднять и нести мужчина. Сундук был обит толстой свиной кожей и окован по углам железом. Укрепив свечу на камне, отец Франциск распахнул сундук и принялся пересчитывать полотняные и кожаные мешочки, под которыми обнаружилась походная дароносица, небольшая книжка в вытертом по углам сафьяновом переплете и пара тонких серебристых кольчуг. Он извлек их из сундука, расправил и бросил одну из них Дамиану. Тот еле успел поймать ее. — Ну, что вы ждете, дон Диего! — нетерпеливо сказал профос. — Надевайте ее! И подберите пистолеты по своей руке. Я, например, захвачу с собой вот эти… Отложив в сторону приглянувшееся оружие, отец Франциск быстро скинул с себя плащ и кафтан. Следом на ящики полетели камзол и рубаха. Он надел кольчугу прямо на голое тело, которое, как краем глаза заметил Дамиан, представляло собой великолепный образчик атлетического сложения, хотя и отличалось некоторой суховатостью по сравнению с античными идеалами. Снова одевшись, отец Франциск нацепил на бедра кожаный украшенный металлическими пряжками и бляхами пояс, к которому по бокам крепились специальные петли для четырех пистолетов, и, подойдя к одному из открытых больших деревянных сундуков, принялся тщательно подбирать оружие, взвешивая его на руке, взводя курки, проверяя, не сбиты ли у них мушки. Дамиан понял, что ему остается только последовать примеру своего наставника. Он неловко разделся, кое-как напялил на себя кольчугу, которая была ему великовата и тут же неуклюже повисла на плечах. Застегивая многочисленные пуговицы камзола, Дамиан заметал, что руки его противно дрожат. Потом он бестолково повертел пистолетами, поймал скептический взгляд отца Франциска и, закусив губу, кое-как рассовал их в такой же, как и у него, пояс. Кроме того, он выбрал себе шпагу, дотошно проверив перед этим несколько клинков на гибкость. Клинки привычно ложились ему в руку, которая почти с наслаждением ощущала подзабытую прохладу закаленного металла. Та, что он выбрал, не выделялась ни украшениями на гарде, ни богатым эфесом, ни гордым девизом, но сталь клинка была просто отменной, а в уголке виднелось известное всему миру клеймо. Отец Франциск оглядел экипировку монаха и, удовлетворенно тряхнув головой, подхватил обретенный дорожный сундук. — Ну что ж, в путь, дорогой племянник! — сказал он. — И да поможет нам Бог! Дамиан вздохнул и, придерживая одной рукой узелок, а другой — шпагу, последний раз окинул взглядом загадочное помещение. Что это была за странная библиотека, почему в ней хранилось оружие и кто ею пользовался, навсегда осталось для него загадкой. Тем временем отец Франциск, который с каждым часом становился все больше похож на воина и все меньше — на монаха, перешел к следующему стеллажу и толкнул его. Стеллаж подался в сторону, открывая черный провал, из которого на них дохнуло гнилой сыростью. — Следуйте за мной! — приказал отец Франциск. — Дверь за нами закроется сама. Подняв над головой свечу, предусмотрительно упрятанную в стеклянный фонарь, он первым устремился в потайной ход. Дамиан поспешил за ним. Вначале они долго спускались по пологой лестнице. Свеча в руках отца Франциска едва разгоняла густой мрак, царящий под этими сводами. Несколько боковых ходов встретились им на пути, и Дамиан догадался, что они ведут в подземные узилища и тайные лаборатории Ордена. Ведь Орден не только преследовал ученых — он еще и воспитывал их, и давал им приют, лишь бы они работали на благо Общества Иисуса. В противном же случае упрямцев ждали подземные камеры, где они могли вдоволь поразмышлять о превратностях судьбы и собственном несносном характере. Нечаянно коснувшись рукой стены, Дамиан ощутил на руке влажную плесень и капли воды — значит, они были уже ниже фундамента и, подобно гномам или углекопам, пробирались глубоко в толще земли. Наконец лестница кончилась, и они двинулись по подземному коридору, где идти можно было, только согнувшись в три погибели. Упрямо пробираясь вперед, Дамиан усилием воли сдерживал ужас, готовый захлестнуть его с головой. Ему казалось, что вот-вот стены и вовсе сомкнутся, сомнут ему ребра, сдавят голову и навсегда похоронят его в жирной глине и камнях. Воздуха не хватало, и он уже шел, дыша ртом и то и дело касаясь стен руками, словно так он мог защититься от обвала и раздвинуть смыкающиеся над его головой тысячи тонн земли. Но вскоре тесный проход сменился открытым пространством, в котором стало немного легче дышать. Шедший впереди отец Франциск выпрямился, и, словно повторяя его движение, пламя свечи взметнулось вверх. — Мы в карстовых пещерах. Раньше местные индейцы поклонялись здесь своим мерзким богам. Дамиан расправил затекшую спину и огляделся. В слабом свете едва проступали из тьмы огромные сталагмиты, розовым хрусталем росшие прямо из пола пещеры. Навстречу им гигантскими водопадами стремились и никак не могли достигнуть земли сталактиты — огромные застывшие слезы земли, которые век за веком струит она в тайниках своего сердца. Еле-еле можно было разглядеть на несколько ярдов вокруг эти шедевры природной архитектуры, перед которыми мерк гений Бернини — этого певца барокко и светоча контрреформации. Тысячи гримасничающих лиц, звериных морд, великолепных цветов то и дело выступали из этого хаоса, словно Дамиану удалось попасть в последние дни творения, когда Создатель своим предвечным Словом вызвал из небытия тварную жизнь. От овладевшего им восторга Дамиан забыл, почему он здесь находится, но твердый голос профоса заставил его прийти в себя. — Здесь приносились жертвы богу мертвых, здесь они и хоронили своих касиков, — сказал отец Франциск и поднял свечу высоко над головой. — …ов, …ов, — повторило гулкое эхо. — Ныне мы ничего не знаем ни об их цивилизации, ни об их обычаях. Почти двести лет назад эти племена были уничтожены нашими с вами предками, — усмехнулся иезуит. — …ами, …ами, — снова откликнулось эхо. — Они исчезли без следа, эти гнусные пожиратели себе подобных, жадные каннибалы. Отец Франциск вынул из кармашка золотые часы-луковицу — неслыханную роскошь и щелкнул крышкой. Сам Дамиан никогда не держал такого чуда механики в руках. — Тик-так, тик-так, тик-так, — потрескивали стрелки, в глубине сферического эллипса что-то тренькнуло и звякнуло. — …так, …так, — шепнуло эхо. — Нам надо торопиться. Мы уже достаточно отдохнули. До выхода осталось ярдов двести. Идемте же. Дамиан с непонятным чувством оглядел этот природный храм. Отчего-то он вспомнил, как старенький преподаватель рассказывал ему о великих христианских монастырях, что вырубили в красных камнях сирийской пустыни великие подвижники древности. Как теперь стоят они заброшенные, и только нарисованные копотью кресты на покинутых стенах еще напоминают о тех, кто победил в самой страшной борьбе — борьбе с тьмой в собственном сердце. И до боли в груди стало жалко, что не придут под эти своды мудрые старцы и юные послушники, не зажгут лампад, не помолятся за мир, подобно роженице, лежащей в скорби и боли, не принесут Бескровную Сыновью Жертву, дарующую любовь, не оплачут мертвецов, чьи души под этими сводами тщетно взывают о милосердии. Сердце вдруг шепнуло ему, что самая великая миссия — это осветить собою мир, в котором ты живешь, а вовсе не носиться со шпагой в поисках кровавой добычи тех, кто заплатил за нее своей совестью, оставив по себе недобрую память. — Эй, не зевай! — резкий голос отца Франциска вырвал Дамиана из забытья. Он вздрогнул и суетливо принялся оправлять на себе оружие. — Скоро выйдем наверх. — …ерх, …ерх, — пропело эхо. И они снова вошли в узкий проход, пол которого постепенно повышался у них под ногами. Вдруг отец Франциск остановился и задул свечу. От неожиданности Дамиан налетел на него, но тут же испуганно отшатнулся. Дамиан угадал, что спутник обернулся к нему, и, несмотря на полную темноту, изобразил на лице вину и почтительное внимание. — Теперь осторожно, — предупредил отец Франциск. — Сейчас будут ступени наверх — всего шесть. Приготовь пистолеты. Про этот потайной ход они не должны знать, но на каждую дюжину найдется свой иуда. Имейте в виду — если кто-то попытается вас остановить, стреляйте не раздумывая. — Слушаюсь, дон Фернандо! — пробормотал Дамиан, высвобождая пистолеты. — Клянусь вам, живым меня не остановить. Молча они поднялись по щербатым каменным ступеням. Отец Франциск осторожно приоткрыл дверцу. Жалобно скрипнули петли. Дверь была такой низкой, что огромный алоэ, росший снаружи, закрывал ее целиком. Отец Франциск внимательно прислушался к ночным звукам и, согнувшись в три погибели, выбрался из подземелья. Дамиан выполз за ним следом.Они находились на каком-то заброшенном, похожем на свалку пустыре, край которого упирался в подножие невысокой, буйно поросшей кустами и пальмами горы, над которой сияли крупные неподвижные звезды. Отец Франциск прикрыл дверцу и, отбрасывая фиолетовую тень на голубоватую в свете звезд траву, осторожно пошел вперед. Вокруг было тихо. Только где-то поблизости шумел и плескался небольшой ручей да трещали цикады. Но едва отец Франциск и Дамиан отошли от подножия горы к небольшой рощице, как вдруг от деревьев отделились человеческие тени. Навскидку их было около шести. Они быстро окружили двух иезуитов, и в свете звезд было видно, как маслянисто поблескивают их обнаженные клинки. — Хотят взять живыми, — шепнул отец Франциск, а затем крикнул: — Abi in pazi! *["247] — что прозвучало не менее страшно, чем боевой клич каннибала. Одновременно с этим отец Франциск вскинул оба пистолета и выстрелил. Грохот выстрелов взорвал ночную тишину. Кто-то завопил от боли. Дамиан, который возле отца Франциска превращался в послушную, не ведающую страха машину, также спустил курки. Из его пистолетов вырвались длинные струи пламени, на секунду молниями осветив лица нападавших, искаженные гневом, болью и ненавистью. Кто-то со стоном повалился прямо ему под ноги. — Дави иезуитскую гадину! — крикнули из темноты, и тут же на Дамиана кто-то навалился сзади, обхватив его руками. Дамиан ловко двинул нападавшего каблуком в голень, одновременно ударив локтем под дых. Хватка ослабла, и в следующий момент, охваченный страхом и злостью, Дамиан не раздумывая ударил незнакомца кинжалом, с которым он не разлучался с тех пор, как покинул Севилью. У иезуитов было одно преимущество — им не надо было щадить своих противников, тогда как те должны были захватить их живыми. Выхватив шпагу, Дамиан сделал выпад, но острие со звоном отскочило от чьей-то кирасы. — Колите в руки! — крикнул отец Франциск, и тут же его шпага вошла противнику в ляжку. Дамиан охотно выполнил бы совет своего наставника, если бы ему выдался такой случай. Но на него уже наседали двое, хотя ему казалось, что один из них ранен. Он на ходу вспоминал полученные в отцовском доме уроки фехтования, стараясь любой ценой задеть противника. В левой руке он зажал кинжал. Но его напор не смутил нападавших. Судя по всему, ночные потасовки были для них обычным занятием, в котором они порядком поднаторели и которому ревностно отдавались, интересуясь не славой, а платой. Правда, изящества в их приемах не наблюдалось, но никто этого от них, видимо, и не требовал. Они зажали Дамиана в клещи: один принимал на себя ярость его атак, а другой снова норовил зайти ему за спину, чтобы нанести предательский удар. Дамиан удвоил усилия, вертясь как волчок. Шпага его мелькала точно молния. Но он понимал, что его мастерства не хватит, чтобы долго сопротивляться двум опытным фехтовальщикам. Нетренированная кисть начинала предательски слабеть, а шпага двигалась все медленнее. Спина его уже невольно холодела, предчувствуя удар, который вот-вот нанесет противник. Вдруг рядом мелькнул щегольской плащ отца Франциска, сверкнул кончик его шпаги — сверкнул и исчез, — но один из противников Дамиана внезапно зашатался и упал на колени. — О, дьявол, мое плечо! — воскликнул он, уронив бесполезную теперь шпагу и хватаясь за правую руку, из которой толчками вытекала кровь. Ободренный помощью, Дамиан тут же собрался с духом и обрушился на осиротевшего врага; отведя его шпагу, он снизу ударил его в горло, использовав прием, секрет которого передал ему учитель фехтования. Мужчина, бросив клинок, схватился двумя руками за горло и, захлебываясь кровью, упал навзничь. Переведя дух и оглянувшись, Дамиан увидел, что отец Франциск расправился еще с одним наемником, который забыл защитить себя кирасой и поплатился за это. Он лежал на боку, поджав под себя ноги, и громко стенал, зажимая ладонями рану на животе. Рядом с ним валялись еще двое, сраженные пулями в самом начале схватки. С непроницаемым лицом, выставив перед собой шпагу, последний убийца отступил назад, затем развернулся и бросился в рощу, скрывшись во мраке. Не вкладывая клинка в ножны и не обращая внимания на раненых, отец Франциск схватил Дамиана за плечо и потащил за собой. Спотыкаясь и падая, они ринулись вниз по склону, к берегу, туда, откуда уже доносился мерный шум волн. На ходу Дамиан то и дело оглядывался, опасаясь погони. — Им потребуется некоторое время, чтобы прийти в себя, — на ходу торопливо говорил отец Франциск. — Но боюсь, они осведомлены о наших планах гораздо лучше, чем мне казалось. Я начинаю подозревать, что им известно, кто снарядил «Азалию». — Значит, на сегодня это не все? — ужаснулся Дамиан. — «Все» кончится только вместе с жизнью, — едко заметил отец Франциск. — Но вы хотите знать, ждет ли нас новая засада? Я этого не исключаю. Но, предвидя ее, я принял некоторые меры. На дороге должна ждать карета, которая довезет нас до бухты. Здесь нельзя пристать к берегу на лодке: плохое дно, очень сильный прибой. Так что придется прокатиться. Они выбежали на узкую горбатую дорогу, разбитую фурами и копытами волов. — Вот она! — радостно вскрикнул отец Франциск. И точно — карета была на месте. Отец Франциск тихо перекинулся с кучером несколькими фразами — Дамиан догадался, что это был пароль, — и распахнул дверцу. Они запрыгнули внутрь, кучер стегнул лошадей, и карета сорвалась с места. Загрохотали подковы, взрывая прибитую росой пыль. В окошке затряслись, запрыгали звезды. Дамиан сидел, вцепившись обеими руками в свою шпагу, и смотрел прямо перед собой. В голове его воцарилась звенящая пустота, во рту пересохло и было солоно от крови: в азарте он прикусил губу. Вдруг в животе у него громко и позорно забурчало: не привыкший к таким переживаниям желудок напомнил о себе. Дамиан покраснел и быстровзглянул на наставника. Но тот, казалось, вовсе ничего не заметил, устремив взгляд в окошко и упиваясь ночной прохладой. Лицо его было черно и неподвижно, только ноздри раздувались, как у разгоряченного скачкой арабского скакуна. Карету безжалостно трясло и мотало на ухабах, сквозь грохот и скрип раздавались щелканье кнута и тихие покрикивания кучера на лошадей. Дамиана то и дело бросало то на спинку сиденья, то на дверцу, то на отца Франциска, который умудрялся оставаться недвижим, как каменный идол. Внезапно карета дернулась и остановилась как вкопанная. Воцарившаяся тишина ударила по ушам. Дамиан вздрогнул и вопросительно посмотрел на отца Франциска. Тот жестом показал, что пора выходить. Дамиан открыл дверцу и спрыгнул на землю. Под ногами у него заскрипел песок, и звуки возвратились. Он услышал, как бьют о берег волны, как потрескивают насекомые и шелестит высохшая трава. Разгоряченные лошади нетерпеливо фыркали, переминались с ноги на ногу и переступали копытами. Их шкуры, мокрые от пота, слабо поблескивали в неровном свете звезд. К ночным ароматам моря и цветов явственно примешивалась вонь навоза и лошадиного пота. Кучер в черной полумаске, закутанный в плащ с капюшоном, страшный, как палач у плахи, наклонил голову, разглядывая своих пассажиров. От этого взгляда у Дамиана мороз пробежал по коже. Отец Франциск выбрался из кареты, подошел к кучеру и что-то тихо сказал ему, подняв на прощание руку. Кучер, подобрав поводья, кивнул в ответ и щелкнул кнутом. Карета с грохотом сорвалась с места, описала на пустоши полукруг и, подпрыгивая на ухабах, понеслась прочь. — Нам нужно дойти до конца мыса, — объяснил отец Франциск. — Там нас ждет лодка. Он повернулся и уверенно пошел куда-то в темноту. Мелкие ракушки и песок поскрипывали под его башмаками. Придерживая на бедре шпагу, Дамиан бросился его догонять. — «Азалия» еще утром снялась с якоря и вышла из залива, — вдруг сказал отец Франциск. — Теперь она стоит на расстоянии четырех кабельтовых от мыса. Придется помахать веслами, но это, я думаю, лучше, чем махать шпагами и брать грех на душу. Те, кто нас ищут, полагают, что наш корабль все еще стоит в порту, и будут ждать нас именно там. Как это в Писании: блуждающие во тьме… По мнению Дамиана, им тоже немало пришлось побродить во тьме, прежде чем они вышли к шлюпке с полудюжиной матросов на веслах. Дамиан вслед за отцом Франциском ступил на мокрый песок. Тут же на его башмаки, шипя, набежала пенящаяся волна. Отец Франциск опять обменялся с кем-то паролем и без церемоний вместе с парой матросов навалился на нос шлюпки, помогая спихнуть ее на воду. Через минуту матросы, яростно налегая на весла, направили шлюпку в открытое море. Волны были совсем невысокие, но у Дамиана при каждом взмахе весел екало сердце. Он уже понял, что не любит морские путешествия. С гораздо большим удовольствием он прогулялся бы по холмам или лесным чащам, чем болтаться в какой-то скорлупке по бескрайним просторам океана. Даже гилея Новой Гвианы показалась Дамиану неплохим, в сущности, местом по сравнению с бездонной пучиной, готовой поглотить без следа все, что попало ей в пасть. Само собой, все эти мысли Дамиан держал при себе. Он даже про голод, донимавший его все больше, предпочитал помалкивать, проклиная свое чрево, то и дело испускающее жалобное бурчание. Как понял Дамиан, отец Франциск в принципе не любил жалоб и уж тем более не желал их слышать от какого-то голодного брюха. Подобно статуе, он сидел на корме и смотрел на море. Мысли его были сейчас далеко. «Вот человек с сердцем леопарда и нравом крокодила, — подумал Дамиан, невольно восхищаясь своим командором. — Ему бы командовать армией или быть министром, а он отрекся от своего знатного происхождения и сменил плащ на сутану». Но из-под ее полы упрямо выглядывал кончик шпаги — так из-под позолоты на кирасе со временем проступает булат.
Глава 7 Амбулен сохраняет лицо
Карибское море. Эспаньола
— Итак, Мак-Магон, ты утверждаешь, что все, кто имеет отношение к поискам сокровищ на этом острове, разбрелись кто куда, как неразумные дети на лужайке? — спросил Кроуфорд, держа в руке горящую ветку свечного дерева и с любопытством рассматривая испуганную физиономию пирата, сидящего перед ним прямо на земле. — Ты именно это хочешь сказать, я ничего не перепутал? Единственный оставшийся в живых после стычки пират Черного Билла Мак-Магон был из новеньких и с квартирмейстером Веселым Диком не плавал. Но о легкой придури этой личности был наслышан, и теперь, когда этот самый Дик отправил к праотцам всех его приятелей, хмель выскочил у Мак-Магона из головы, а сам он сделался на редкость разговорчив и обстоятелен, чего с ним прежде никогда не случалось: в жизни он был на редкость молчаливым типом. Но угроза скорой расправы развязала ему язык. Он выложил Кроуфорду все, что знал о замыслах Черного Билли, и все то, чего не знал, но о чем догадывался или что успел придумать на нетрезвую голову. — Нет, это я тебе все точно передаю, Веселый Дик! — тараща глаза, заявил он. — Мы почему в эту дыру поперлись? Дык за этой бабой с картой. А Черный Билли хотел эту карту вернуть, потому как же без карты искать сокровища? Только вот он немного маху дал… По моему разумению, нужно было потихоньку в эту деревню пробраться, прирезать, кого полагается, и забрать карту. А Билли приказал артиллерию подкатить, шум поднял… Вот… Ну, конечно, дали мы им хорошо, французикам-то, но баба-то улизнула! Теперь Черный Пастор собрал ребят, посадил на коней и рванул вдогонку. Вот. Но ты сам знаешь, каков моряк на коне. Толку, по-моему, от этого не будет. Вот. Голландцев, сукиных детей, уже упустили! Так же вот и бабу упустим. Вот! — Голландцев вы упустили, потому что перепились, — убежденно заявил Кроуфорд. — Эх вы! Искатели сокровищ, домашние шлепанцы! Все у вас было в руках — карта, конкуренты, а вы умудрились променять это на ром!.. Значит, в селении сейчас не меньше полутора дюжин человек осталось? — задумчиво произнес он, оборачиваясь к Уильяму, который в компании насмешливо скалившегося Потрошителя молча наблюдал за допросом. — Как ни крути, а многовато! Даже если использовать эти две дерьмовые пушки. И в погоню за Черным Билли пускаться нет никакого смысла. Моряк на коне — что кобель на гвозде, но пешком его все равно не догонишь. Поэтому мы сделаем все наоборот. — Как это наоборот? — не понял Уильям. — Мы вернемся на побережье, — сказал Кроуфорд, — а наш друг Мак-Магон покажет нам, где Черный Билли оставил судно. — Я покажу, — с готовностью отозвался Мак-Магон, который почуял, что жизнь продолжается. При этом он напрочь забыл, что на Эспаньолу Черный Билл пришел не на «Мести», а всего лишь на чужой шхуне с несколькими кулевринами. — А зачем нам этот корабль? — с подозрением спросил Уильям. — На нем же осталась половина команды. Не надеетесь же вы, Кроуфорд… — Та половина команды ничуть не лучше этой, — усмехнулся Кроуфорд. — Держу пари, что на ногах там сейчас два-три человека, не больше. А зачем нам корабль, вы узнаете чуть позже. Сейчас же мы выступаем, чтобы успеть добраться на место до рассвета. Зовите всю компанию, Уильям! А я пока постерегу нашего друга Мак-Магона, — и он снова ухмыльнулся, трепля за холку выглядывающего у него из кармана Харона. Через пять минут они уже шли по ночной дороге обратно к побережью. Постепенно стихли пьяные вопли и пальба, померкли отсветы пожара у них за спиной. На иссиня-черном бархатном небе сияли бриллиантовые огни звезд. — Мы сглупили, когда отправились через горы, — заметил Кроуфорд, шедший впереди. — Эта дорога куда приятнее и удобнее. Хотя, надо сказать, Черному Билли это не очень помогло. Вот увидите, Уильям, этот несчастный фигляр у нас горько раскается в своем тупом упрямстве. Завтра слух о его бессмысленном нападении на мирный поселок колонистов прокатится по всей французской Эспаньоле, и на него будут охотиться, как на бешеную собаку. — Но это может помешать и нам, — осторожно заметил Уильям. — Несомненно, — кивнул Кроуфорд. — И я озабочен этим обстоятельством. В такой ситуации вся надежда на твоего приятеля Амбулена. Как-никак, а он у нас единственный француз, так что быть ему нашей волшебной палочкой, отпирающей любые двери. — Отмычкой то бишь, — гоготнул Джон и толкнул Боба. Боб в ответ пихнул Джона, и они захихикали. — Цыц на баке, — приструнил их Потрошитель. — И вообще, я полагаю, — продолжал Кроуфорд, не замечая перебранки, — что сбудется скоро заветная мечта Билла: ему удастся так прославиться, что мы будем просто лопаться от зависти к его популярности. — Это почему, сэр? — вдруг спросил Джон и оглянулся на Потрошителя. — Это потому, мой маленький друг, что здешние жители вовсе не такие трусы, какими кажутся. Завтра они соберутся с силами и дадут этому бородатому тупице угля в трюмы. Он кинется на корабль спасать свою паленую шкуру, но корабля у него уже не будет… — Как?! — воскликнул Уильям. — Вы хотите увести его фрегат?! — Почему это его?! — искренне возмутился Кроуфорд и оглянулся на шагавших позади товарищей. — Откровенно говоря, планы у меня несколько иные. Я бы с удовольствием воспользовался «Местью», но, боюсь, у нас нет никаких возможностей для этого. Будь в нашем распоряжении побольше времени, я бы попробовал убедить братьев-корсаров, что их будущее под предводительством Черного Билли, мягко говоря, небезоблачно и имеет весьма туманные перспективы. Но сейчас я не имею для этого ни времени, ни желания. Посему мы опробуем более простой и незамысловатый способ. Мы лишим Черного Билли радости возвращения. — Вы намерены потопить корабль? — с беспокойством спросил Уильям. — Потопить, взорвать, сжечь — как вам больше понравится, — кивнул Кроуфорд. — С самого начала я питаю к нему некую неприязнь, которая, подобно золотухе, возвращается ко мне, как только я его вижу. — Ей-богу, неудивительно, — подал голос Потрошитель. Хоть там вас и окрестили Веселым Диком, но оттуда Билл и пустил вас носиться по волнам. Кроуфорд обернулся и бросил на Потрошителя недовольный взгляд. Тот в притворном испуге взмахнул руками и прижал их ко рту. Сэр Фрэнсис пожал плечами и отвернулся. — Но, полагаю, потопить корабль не так просто, — осторожно начал Харт, невольно поежившись. — Вряд ли команда позволит нам осуществить эти планы. — Тут есть одна загвоздка, как сказал бы Джек, — усмехнулся Кроуфорд. — Мы не станем спрашивать мнения у команды. Все это будет для них сюрпризом. — Трудно преподносить сюрпризы, когда на тебя смотрит сотня пар глаз, — возразил Уильям. — Я уже говорил, что вся эта братия, скорее всего, уже по самую ватерлинию нагрузилась ромом. А кроме того, мы же не станем лезть на рожон. Как более слабая сторона, мы применим военную хитрость. Но детали ее мне еще нужно обдумать. Поэтому прошу вас, давайте помолчим немного, и я смогу все как следует обдумать. Тогда нам будет чем поразвлечь наших приятелей, которые наверняка уже соскучились без шуток Веселого Дика… Капитан принялся обдумывать свою каверзу, и остаток пути все проделали в полном молчании. Харт мечтал о прекрасной Элейне, а жизненный водоворот затягивал его в мутный таинственный омут, откуда, возможно, не было даже возврата. Вообще, он с гораздо большим удовольствием предпринял бы вылазку до той бухты, где на французском фрегате страдала и ждала Элейна. Это было далеко, но расстояние не имело ни малейшего значения. Пиратская шхуна, одиноко стоящая в бухте, наводила тоску. Невзгоды, которые обрушились на него в последние месяцы жизни, укрепили Уильяма Харта в мысли, что он вовсе не трус и в случае чего способен противостоять и людям, и судьбе, но погибнуть сейчас от руки пирата или в морской пучине, так и не увидев Элейны, было глупо. Однако до того счастливого мгновения, когда Уильяму удастся соединить свою судьбу с судьбой возлюбленной, должно было произойти еще множество событий, и ему, как в сказке, следовало выполнить еще массу условий, чтобы заслужить награду. Едва забрезжил рассвет, как они вышли на берег небольшой бухты, где стояла на якоре двухмачтовая шхуна «Ласточка». В утреннем сумраке корабль выглядел мертвым и зловещим, как надгробие. Уильяму это показалось недобрым знаком. На душе у него было скверно. То, чем они занимались на острове, все менее отвечало его внутренним наклонностям. Тем временем Кроуфорд, оба глаза которого жадно всматривались в корабль, от удивления замер на месте, а потом медленно повернулся к пленнику и поманил его пальцем. — Послушай, Мак-Магон, ты куда нас привел? Я хоть однажды и потерял где-то один глаз, но теперь, как видишь, вполне исцелился и довольно неплохо вижу… Мак-Магон, вытаращив глаза, смотрел на Веселого Дика, едва ли поняв, о чем тот вообще говорит. — Где «Месть», болван, и что это там за тазик для бритья? — рявкнул Кроуфорд. Мак-Магон вздрогнул и рухнул на колени перед бывшим квартирмейстером. — Что ты, что ты, Веселый Дик! У меня и в мыслях не было обманывать тебя! Это наш корабль — Черный Билл зафрахтовал его для перехода на Эспаньолу. Он оставил «Месть» килеваться на Тортуге, и часть команды тоже осталась там… вот и все. — Рыбья башка! — рассердился Кроуфорд. — Что ж ты мне раньше не сказал?! Стоило тащиться сюда из-за какого-то плавучего курятника, если фрегат Билла загорает кверху пузом в полусотне миль отсюда?! Кроуфорд в сердцах плюнул и отвернулся. Потрошитель отвесил незадачливому предателю хороший пинок, отчего тот ткнулся носом в песок, и, положив руку на рукоять ножа, задумался. Вид у него был как у мясника на бойне, который, глядя на корову, примеривается, как бы поудачнее содрать с нее шкуру. Воцарилось молчание, периодически нарушаемое всхлипыванием Мак-Магона, покашливанием Амбулена и дружным сопением Боба и Джона. Кроуфорд смотрел на шхуну и раздумывал, имеет ли смысл реализовывать созревший у него план в подобных обстоятельствах. Но Веселый Дик не любил менять свои решения. В конце концов, главная задача — лишить Черного Пастора возможности убраться с Эспаньолы, когда тому заблагорассудится, — в любом случае была бы решена. Вместе с тем тот факт, что целехонькая «Месть» при этом спокойно стояла в одной из бухт на Тортуге, рождал у Кроуфорда надежду когда-нибудь в будущем завладеть этим роковым фрегатом. Поэтому он снова повернулся в сторону до смерти перепуганного Мак-Магона и спросил: — Ты можешь вызвать с корабля шлюпку? У вас же наверняка есть для этого условный сигнал, верно? Мак-Магон еще больше побледнел и пристально посмотрел на корабль. — Да никакого особенного сигнала и нет, Веселый Дик! — проговорил он хмуро. — К примеру, выйду я сейчас к воде и разожгу костерок, да и помашу рукой или шляпой вот… Вахтенный само собой позовет боцмана. На борту ведь Грязный Гарри остался за старшего. Боцман поглядит: свои — и пошлет шлюпку. — Ну, если он тебя одного увидит, то, наверное, шлюпку посылать не станет, — предположил Кроуфорд. — Так что придется и нам изобразить из себя товарищей Билла. На веслах будет гребцов так шесть… Теперь вопрос, как нам этих шестерых прикончить, чтобы на шхуне этого не увидели… Он оглянулся на мангровые заросли, которые почти сплошь покрывали берег. Мак-Магон опять побледнел. — Веселый Дик! — сказал он дрогнувшим голосом. — Ты предлагаешь мне заманить в ловушку моих же товарищей? — Ага, именно это я тебе и предлагаю, — хладнокровно ответствовал Кроуфорд и усмехнулся. — В обмен на твою ничтожную жизнь. Если она тебя, конечно, интересует. Впрочем, ты можешь остаться в памяти этих пропитых джентльменов настоящим героем. О тебе будут рассказывать легенды в портовых кабаках от Маракаибо до Юкатана. Только сразу давай обсудим, как ты хочешь умереть: от ножа Потрошителя или предпочитаешь пеньковую веревку, которую Боб вечно таскает с собой? Мак-Магон задрожал. Веселый Дик говорил как бы шутя, но глаза его были холодны и жестоки. Выражения лиц остальных окружавших его мужчин тоже не предвещали ничего доброго, а клешня Потрошителя любовно погладила нож. Мак-Магон махнул рукой и испустил громкий вздох. — Ладно, Веселый Дик! — сказал он могильным голосом. — Твоя взяла. Я не герой и говорю об этом прямо. — Ну и отлично! — бодро воскликнул Веселый Дик и хлопнул его по плечу. — Значит, договорились. Подымайся с колен, дружище. Даю слово, что сохраню твою никчемную жизнь. — А какие у меня гарантии, сэр? — Одного слова Веселого Дика достаточно, — весело сказал Потрошитель. Поверь, наш капитан — джентльмен и на его слово вполне можно положиться. Мак-Магон неловко поднялся. — Так вот. Сейчас ты выйдешь к самой воде и разведешь костерок. Кремень и кресало я тебе дам. Ты будешь дымить и размахивать руками до тех пор, пока с корабля не спустят шлюпку. Когда она подойдет к берегу, ты объяснишь матросам, что в зарослях лежат тяжело раненные товарищи — сам Черный Билли, ну и еще кого сам захочешь назвать. Цель у тебя одна — гребцы должны зайти в заросли. Для этого тебе придется быть очень убедительным. Если матросы не поверят, то хочешь ты этого или не хочешь, а придется тебе все-таки умереть героем… — и Веселый Дик показал на рукоять своего пистолета. — Ты будешь на мушке у меня и моих друзей. — Я сделаю так, что они поверят, — поспешно сказал Мак-Магон. — Надеюсь, — кивнул Дик. — Затем, когда гребцы войдут в заросли, мы выпустим их души полетать — конечно, если они добровольно не отдадут нам своих нарядов, — а затем переоденемся в их одежду и отправимся на корабль. Те, кто останется жив, позагорают связанными, те, кому не повезет… — Что?! — перебил его Робер Амбулен. — Мы должны подняться на корабль, полный пиратов?! — Вот именно, — сказал Кроуфорд, улыбнувшись французу. — Но для паники нет никакого повода. Тот, кто поднимется на корабль, влезет по забортному трапу или якорному канату, пока сидящие в шлюпке отвлекут внимание вахтенных. — Вот как? — нахмурился молодой доктор. — И кто же этот счастливчик? — Конечно, не вы, Амбулен! На борт корабля поднимусь я. Уильям вспомнил, как однажды Кроуфорд уже проделал это — в ту ночь, когда они взяли испанский галеон. — Дождемся ночи. Мне нужен помощник. Я возьму тебя, Уильям. Пока вы будете морочить головы вахтенным, мы заберемся на палубу. — А что на корабле? — спросил Уильям. — На корабле ты будешь прикрывать меня, — ответил Кроуфорд. — Пока я полезу в крюйт-камеру. — В крюйт-камеру! — воскликнул Мак-Магон. — Ты хочешь взорвать пороховой погреб, Веселый Дик?! — Именно это я и хочу сделать, — небрежно подтвердил Кроуфорд. — Порох — это великое изобретение человечества. Китайцы называли его «китайский снег», арабы — «цветок камня Ассос», европейцы — «летающий огонь». Монах Роджер Бэкон в тринадцатом веке упомянул о нем в своей «Эпистоле», зашифровав рецепт получения пороха в анаграмме. Немецкий алхимик Альбертус Магнус уже открыто сообщал о порохе в своем труде «О чудесах мира». Скоро, очень скоро Европа содрогнулась под грохочущим маршем ужасного летающего огня. Без пороха, господа, мы воевали еще более или менее честно: в поединке, в схватке, в сражении все решали ум командира и мужество воина. Теперь… Теперь я роняю искру на серый зернистый порошок и — бах! В одно мгновение я уничтожаю то, что годами, десятилетиями, веками кропотливо творили люди. Будь я хоть последний дурак, закоренелый мерзавец, гнусный дегенерат со слюной, текущей по подбородку, победа будет за мной! Так да здравствует порох, принесший нам долгожданное равенство! Ура, господа! Кроуфорд сглотнул слюну и рассмеялся. — Но это еще не все! Я предвижу дивные времена, когда человеческий разум, пришпоренный алчностью и завистью к себе подобным, отменит последние заветы совести! Пушки станут стрелять еще дальше, пистолеты — еще быстрее; мы научимся летать по воздуху и будем швырять на головы наших братьев многотонные ядра! Я хочу — значит, имею право! Свобода, господа, свобода — вот что двигает опьяненным похотью стяжания человечеством! Свобода от милосердия, свобода от любви, свобода от ответственности за этот мир! Апрэ ну лё делюж, не так ли, месье Амбулен? После нас — хоть потоп, господа! — Кроуфорд замолчал и обвел глазами смотревших в землю товарищей. — Да, — сказал он после небольшой паузы, — кажется, я снова погорячился. — Ну, так теперь ты понимаешь, как тебе повезло? — громко сказал он впавшему в какой-то транс Мак-Магону. Тот очнулся и хлопнул глазами. — Все твои дружки, как Дикий Сэм, отправятся в ад, а ты будешь по-прежнему коптить это синее небо! — Да, я очень благодарен тебе, Веселый Дик! — с тоской сказал Мак-Магон. — Век за твое здоровье буду молиться. — Тогда начинай прямо сейчас, — деловито произнес Кроуфорд. — Потому что здоровье мне вскоре очень понадобится. — Послушайте, Кроуфорд! — вмешался Амбулен. — Когда мы подойдем близко к кораблю, вахтенные поймут, что мы не те, за кого себя выдаем. Полагаю, что нас начнут обстреливать, и, возможно, даже из пушек. — Очень надеюсь, что так оно и будет, — рассмеялся Кроуфорд. — Чем большее внимание вы к себе привлечете, тем лучше для дела. — Не забывайте, вам еще будет нужна шлюпка, чтобы вернуться на берег! — проворчал Амбулен. — А я этого и не отрицаю, — улыбнулся Кроуфорд. — Поэтому постарайтесь сохранить ее в целости и сохранности. Вы ребята ловкие, и вам это удастся, я уверен. — Меня смущает только одно, — упрямо заявил Амбулен. — На фрегате тоже может найтись пара ловких ребят, которые умеют управляться с фитилем и прибойником. Одного ядра хватит, чтобы обеспечить нам ночное купание с последующим вознесением на небеса. — Не обольщайтесь, Амбулен! На небеса вас уже никто не возьмет! — сказал Кроуфорд. — Полагаю, что даже дьявол не согласится пустить вас в преисподнюю, опасаясь за нравственность вверенных ему душ. Вы обречены скитаться по земле, как Вечный Жид… Однако хватит! Объявляю привал! Люди разбрелись по берегу, выискивая местечко поудобнее, Джон Ивлин отправился вместе с Хартом на охоту, а Амбулен под надзором Потрошителя пошел искать съедобные фрукты. После быстрого марша и бурной ночи все страшно устали и мечтали только об одном: набить желудок и завалиться спать.* * *
Пообедав, щедро разбавляя воду из ручья ромом, добытым в том же Гро-Шуане, пираты расположились на отдых. Уильям и Кроуфорд оказались чуть в стороне от всей компании, и последний из них уже отчаянно зевал. Но Уильяма давно мучил один вопрос. — Помните, сэр Фрэнсис, однажды, мне кажется, что уже много лет назад, хотя прошло всего два месяца, на борту «Головы Медузы» вы спросили у меня: «Уильям, зачем тебе сокровища?» Я тогда не знал, что ответить. Так вот, сэр Фрэнсис, теперь я хочу спросить у вас: сэр Фрэнсис, зачем вам сокровища? Они полулежали в тени пальм на теплом песке и смотрели в голубое полуденное небо. Кроуфорд курил серебряную трубку, а Уильям жевал стебель какой-то жесткой травы. Услышав вопрос Харта, Кроуфорд задумчиво вытащил трубку изо рта и, не поворачивая головы, ответил: — Видишь ли, Уильям. Когда-то давно я мечтал о них просто потому, что каждый юноша, которому в руки попадает карта острова сокровищ, начинает мечтать, как найдет их и будет ими обладать. Потом я стал желать их, чтобы отомстить. Мне казалось, я лучше Господа исполню закон Божественного правосудия и моя справедливость будет самой справедливой в мире. Еще позже мне пришлось искать их уже безо всякого желания. Да-да, Уильям. Ты еще слишком мало повидал мир, а кто мало видел, много плачет. На свете всегда находится чья-то воля, которая будет посильнее твоей. Король, мерзавец с пистолетом, болезнь, смерть, любовь — мало ли на свете сил, которым сломать человека проще, чем мне выкурить вот эту самую трубку. Да и воля Самого Господа Бога, наконец. Я никогда никому не говорил этого, Уильям, а тебе скажу. Просто потому, что я испытываю к тебе какую-то странную привязанность, может быть и не совсем полезную для тебя. Меня сломали, Уильям. Да-да, Веселого Дика скрутили так, что небо показалось ему с овчинку, а преисподняя уже воняла ему в лицо блевотиной и мертвеч и ной. — Вас пытали? — взволнованно спросил Харт, приподнимаясь на локте. — Нет, мой друг. Меня просто припугнули. Оказывается, на свете так много вещей, которых боится старина Кроуфорд. Гораздо больше, чем тех, которых боялся Веселый Дик. — Но при чем тут сокровища? — Они как раз почти и ни при чем. Но теперь мне во что бы то ни стало придется их найти. И заметь, Уильям, любой ценой. Кроуфорд перекатился на другой бок и крикнул: — Эй, Амбулен! Вам знаком девиз одного Божьего общества? Ну, этот: «Цель оправдывает средства»? Амбулен едва заметно вздрогнул и посмотрел на Кроуфорда не то с каким-то ужасом, не то с ненавистью; впрочем, красивые глаза его довольно скоро приняли свое обычное доброжелательное выражение. — Да, мон сир. Так говорят иезуиты. Кроуфорд опять лег на левый бок и засунул трубку в рот. — Приятно поболтать так с друзьями, глядя на величественный океан, морщинистый, как лицо старухи, погреться в лучах солнышка, которое в любой момент может затянуться тучей… А что, сэр Ивлин, черепаха, которую вы приволокли с Хартом, была недурна? — вдруг крикнул он своему штурману и бывшему капитану «Медузы». — Да, сэр. Конечно, мы ловили черепах и пожирнее, да и пережарил ее Потрошитель. Но бывало и хуже. — Пальчики оближешь! — крикнул Потрошитель и для наглядности облизал два своих пальца, на одном из которых не хватало фаланги, а на другом напрочь отсутствовала ногтевая пластина. — А вы, джентльмены, как думаете? — Кроуфорд оборотился на Боба, Джека и Мак-Магона, которого они безжалостно обыгрывали в кости, бросая их прямо на песок. Заметив, что Веселый Дик глядит прямо на них, джентльмены испуганно прикрыли кости рукой и покраснели. — Да ладно, мы ведь на суше. Так что будем считать, что, несмотря на военное положение, азартные игры дозволяются. — Кроуфорд неожиданно зевнул так, что за ушами у него что-то хрустнуло. — Давайте баиньки, сэры, — пробормотал он, выбил трубку и, положив себе под голову локоть, закрыл глаза.* * *
— Мак-Магон, начинай свое представление! — сказал Кроуфорд, едва сумрак начал сгущаться над морем. — Постарайся играть получше. Актерское ремесло — презренная вещь, но сейчас от твоих талантов зависит не только твоя жизнь, хотя твоя зависит только от них. А мы пока посидим в тенечке и послушаем, как поют птички, пока они не начали выклевывать чьи-нибудь глазки… Мак-Магон вздохнул, почесал в затылке и поплелся туда, где океан лениво лизал кромку берега. В руках он держал охапку веток и мешочек Потрошителя с кресалом, кремнем и трутом. Из своего укрытия Кроуфорд с отрядом могли обозревать не только его унылую фигуру, но и весь берег, и большую часть бухты. Несчастному Мак-Магону, находясь на мушке, не сразу удалось разжечь костер. Некоторое время он просто тащился по мокрому песку, взглядывая на залив с таким жалобным и просительным видом, будто надеялся, что шхуна как-нибудь сама собой растает в воздухе. Но этого не происходило, и Мак-Магон, оглянувшись на заросли, со вздохом извлек из просмоленного мешочка необходимые для добывания огня приспособления. Вначале он никак не мог правильно ударить кресалом по кремню. Вместо того чтобы наносить скользящий удар, он тупо стучал обломком стального лезвия по камню, издавая громкий звон. После того как Потрошитель из кустов напомнил ему, кто тут хозяин, он наконец высек из кремня сноп искр, которые теперь, хоть тресни, никак не летели на трут, сделанный из пучка корпии, а быстренько гасли на ветерке. Тогда Потрошитель чуть было не выскочил и не показал этому придурку, как настоящие мужчины разжигают огонь, но был вовремя пойман Кроуфордом за штаны и усажен обратно. — Он же этого и добивается, — прошептал сэр Фрэнсис, а затем крикнул: — Мак-Магон, я считаю до трех. Раз… Мак-Магон еще раз вздохнул, ударил кресалом, и наконец трут начал тлеть. Не дыша, несчастный матрос запалил от него кусок фитиля и бросил его на валежник. Тот вяло задымил, но под напором ветра ветки легко занялись, и вскоре черная струя дыма уже поднималась вверх, где ее немедленно подхватывал ветер и гнал на остров. Длинные языки синевато-оранжевого пламени жадно пожирали дерево, и вскоре костер уже невозможно было не заметить со шхуны. — Вот из-за таких идиотов и изобрели кремневые замки… — задумчиво пробормотал Кроуфорд, которого сегодня просто тянуло на теоретические разглагольствования. — Когда механики поняли, что профанов с каждым годом рождается все больше, они придумали курок. Пружина с силой пошлет курок с кремнем навстречу кресалу, высечет сноп искр, затравочная полка с порохом вспыхнет, и оревуар, бедный неудачник! — Кроуфорд поднял руку и нацелил пистолет на одинокую фигуру на берегу. — И охота вам, сэр, выражаться такими полуторафутовыми словами, — с уважением произнес Джон, чья страшная рожа в темноте отливала синевой. — Я хоть и слушал вас в оба уха, но, мамой клянусь, ничего не понял из того, что вы так красиво сказали.* * *
Наверняка на шхуне уже заметили костер. Пока в быстро сгущающихся сумерках еще что-то можно было увидеть, Кроуфорд извлек подзорную трубу и, выставив ее из-за ствола пальмы, принялся изучать, что происходит на шхуне. Сначала он ничего особенного не увидел: темный борт, убранные паруса, паутина вант и талей — и ни одного человека. Кроуфорд удовлетворенно хмыкнул. Команду Черного Билли он знал отлично, поэтому не ошибся и на этот раз. Вынужденное безделье никогда не шло на пользу этим головорезам, а наличие рома предполагало довольно предсказуемый способ убить время. Кроуфорд был уверен, что сейчас на судне большая часть команды была пьяна в доску и лучшего времени для исполнения его замысла не найти. Главное, чтобы среди этой братии нашелся хотя бы десяток человек, способных спустить на воду шлюпку. Конечно, при желании до «Ласточки» можно было добраться и вплавь, но Кроуфорду вовсе не хотелось всем отрядом нырять в воду и мочить порох. Поэтому он уже с некоторым беспокойством начинал присматриваться к судну, не наблюдая на нем никаких признаков жизни. Прошло еще минут пять. Мак-Магон все реже и реже подбрасывал ветки в огонь и смотрел на свой корабль с тоской и отвращением. Назад оборачиваться он вообще боялся, не желая встретиться взглядом с Веселым Диком, которого до сих пор знал только по рассказам товарищей, но который оказался неприятнее любых рассказов, ни с дулом его пистолета. Сам Кроуфорд не спешил отзывать Мак-Магона. Он упрямо смотрел в подзорную трубу и наконец был вознагражден за свое терпение. На носу появился человек. Лица его Кроуфорд рассмотреть не мог, но отлично видел, что моряк тоже дотошно обозревает берег в подзорную трубу. Вскоре пират на шхуне оглянулся и махнул кому-то рукой. На носу возникла еще парочка матросов. Видимо, они хоть и с трудом, но вспомнили об условленном знаке. После долгой раскачки на корабле все-таки произошло шевеление, и на воду была спущена небольшая шлюпка. В нее с руганью и нетрезвой толкотней погрузились пять человек. Четверо взялись за весла, пятый пристроился на носу, и лодка черным пятном медленно заскользила по черным маслянистым волнам, то и дело взбрыкивающим белыми бурунами. За ней все следили с напряженным вниманием. Мак-Магон перестал поддерживать огонь и теперь стоял неподвижно, сгорбив плечи и исподлобья глядя, как приближается к нему лодка. — Обратите внимание, — сказал Кроуфорд, отрываясь от бесполезной в темноте трубы и убирая ее в карман, — как наш бедный ирландец похож на одинокую душу, ожидающую перевозчика в подземный мир мертвых. — Ладья Харона, что и говорить, — пробормотал Амбулен, изо всех сил пытаясь разглядеть шлюпку. Лодка была уже на расстоянии полкабельтова от берега. Сидевший на носу боцман Грязный Гарри, приложив козырьком ладонь ко лбу, всматривался в озаренного догорающим костром Мак-Магона, застывшего у линии прибоя. Матросам Мак-Магон был неинтересен, им хотелось одного — закончить махать веслами. Когда нос шлюпки ткнулся в песок, на их грубых лицах разом нарисовалось выражение огромного облегчения. — Ба! — воскликнул Кроуфорд. — Да здесь собирается изысканное общество! Смотрите, кто к нам приплыл! Грязный Гарри! Похоже, он единственный, у кого душа не на месте. Иначе зачем бы он сам отправился на берег? Он, верно, как пес, чует, что здесь неладно. Он и всегда был не слишком доверчив, этот Гарри! Он опаснее всех, и, пожалуй, я возьму старину Гарри на себя… Нельзя, чтобы они вернулись на корабль. Он обернулся к товарищам и негромко сказал: — На тот случай, если они что-то заподозрят и попытаются сбежать. Делайте что хотите, но ни один из них не должен вернуться на корабль. Угрюмое молчание было ему ответом. Все, кто прятался за деревьями, думали о том, что должно было произойти через несколько минут.* * *
Грязный Гарри спрыгнул в воду и направился прямо к Мак-Магону. — Какого черта? — хрипло спросил он. — Почему ты один? Где остальные? Что случилось? Тебя послал Билли? Странно, что он выбрал такого придурка… А впрочем, значит, дело плохо, и я его об этом предупреждал. Нет хуже места, чем эта Эспаньола… Какого дьявола ты молчишь? Почему ты подал сигнал? Мак-Магон сделал плаксивое лицо и неопределенно махнул рукой. — Черный Билли… — пробормотал он. — Дело совсем плохо… Он там… — Какого дьявола? — повторил Грязный Гарри, подойдя к костру, но, не дождавшись ответа, сердито заорал: — Что случилось?! Кто там? Что ты ноешь, придурок? — Черный Билли. Он ранен, — промямлил Мак-Магон. — Не может идти. Я оставил его в лесу. Просто нет сил. Все убиты. Мы попали в засаду… — Я говорил! — со злобой гаркнул Грязный Гарри. — В засаду! Тут весь остров — сплошная засада. Нужно сниматься с якоря! Где капитан? Он серьезно ранен? — У него пробито легкое, — на ходу сочинил Мак-Магон. — Я оставил его за ближайшими деревьями, в тенечке… — Идиот! — прорычал Грязный Гарри, отворачиваясь. — Ты думаешь, что все в восторге от твоих подвигов!.. Ребята, надо поискать, где этот растяпа оставил капитана. Он где-то рядом… Повернувшись спиной к Мак-Магону, Грязный Гарри направился к зарослям. Остальные четверо пиратов, бросив весла и вытянув шлюпку на песок, лениво потянулись за ним. Кроуфорд опасался, как бы Грязный Гарри не поднял тревогу и кто-нибудь из матросов вплавь не сбежал бы на шхуну. Но боцману и в голову не пришло, что Мак-Магон мог его обмануть. Грязный Гарри шел в сторону зарослей и по сторонам поглядывал только для того, чтобы отыскать раненого капитана. Пираты, тащившиеся следом, волновались еще меньше. Кроуфорд взял боцмана на себя, но тот неожиданно свернул в сторону и направился прямиком к дереву, за которым прятался Уильям Харт. При этом он с большим интересом приглядывался к многочисленным следам, которые вились по песку среди деревьев. Кажется, он уже начинал что-то подозревать. Уильям не стал испытывать судьбу и, поняв, что в следующую секунду будет разоблачен, метнулся из-за пальмы навстречу боцману и в прыжке, занеся шпагу сверху, нанес ему сильный колющий удар прямо в грудь. Трехгранное лезвие, пробив грудину, пронзило Грязного Гарри сверху вниз, продырявив на его спине камзол, и в эту прореху брызнул фонтанчик крови. Хотя было темно, но и лунного света оказалось достаточно, чтобы спутники Гарри все поняли. Всего какую-то секунду они пребывали в оцепенении, но эта-то секунда все и решила. Кроуфорд, Амбулен, капитан Ивлин и пираты выскочили из своего укрытия одновременно и набросились на них. Трое врагов пали сразу же, а один, вскрикнув, повернулся и бросился бежать назад к воде. На бегу он все пытался вырвать из-за пояса пистолет, но руки у него тряслись, и в конце концов бесполезное оружие шмякнулось на землю. Пират не стал его поднимать, а с удвоенной прытью помчался к спасительному морю. Но когда вода доставала ему уже до колен, то ли Боб, то ли Джон метнул ему в спину нож. Пират вскрикнул и схватился за плечо, упрямо продолжая идти на глубину, но Кроуфорд догнал его и, схватив за шкирку, рванул на себя. Раненый покачнулся и, поднимая тучи брызг, упал в воду. Кроуфорд не устоял, в ноги ему ударила волна, и он рухнул следом. Когда голова пирата показалась на поверхности, Кроуфорд поднырнул под него и, сдернув его за туловище в воду, сам вынырнул, встал на ноги и, схватив пирата за волосы, с силой нагнул его голову под воду. Потом, позволив несчастному, кашляя и отплевываясь, глотнуть немного воздуху, Кроуфорд за ворот потащил его на берег. Когда его окружили со всех сторон, моряк совсем перепугался. По его лицу с волос бежала вода, мокрая борода облепила шею. Он шарил глазами по окружившим его людям и не решался произнести ни слова. Кроуфорд, который узнал пирата, подошел ближе и неторопливо произнес: — A-а, Джо Янг! Давненько не виделись! Не скажу, что сильно рад видеть твою кислую физиономию, но это все-таки лучше, чем глазеть на бороду твоего капитана! Наверное, ты со мною согласишься. Ремесло, конечно, накладывает отпечаток на характер человека, но в случае с Черным Билли речь должна идти уже о помешательстве, как ты полагаешь? Джо Янг, мучаясь от боли в руке и страха, вряд ли услышал хотя бы слово из речи Кроуфорда. — Обыщите его, — поморщившись, распорядился Кроуфорд, — и приведите в чувство. Он, похоже, совсем отупел от страха и потери крови. У Янга отобрали нож, сняли пояс с принадлежностями для стрельбы и позволили сесть на песок. Испуганно озираясь, он отполз в сторону и прижался спиной к дереву. Наверное, так ему казалось безопаснее. — Эй, кто-нибудь, посветите сюда, — Амбулен надрезал край своего плаща и, отодрав от него кусок, туго перевязал раненое плечо моряка. — Жить будешь. Тебе повезло: повреждены лишь мягкие ткани, а мышцы не задеты. — Твоя голова уже начала работать, Джо Янг? — поинтересовался Кроуфорд, нетерпеливо дожидаясь окончания процедуры, пока капитан Ивлин держал горящую ветку, освещая их лица. — У меня не так много времени, и мне хотелось бы побыстрее получить ответы на вопросы. — Вопросы? — недоуменно повторил Джо Янг. — Ты сказал, вопросы, Веселый Дик? — Да, именно это я и сказал, — усмехнулся Кроуфорд. — Если ты еще самую малость напряжешь мозги, то, наверное, вспомнишь, что это слово означает, и поймешь, что я имею в виду, Джо Янг! — Ты хочешь сказать, что у тебя есть ко мне вопросы, Веселый Дик? — очень медленно произнес Джо, не сводя с Кроуфорда напряженного взгляда. — Ты хочешь меня о чем-то спросить? — Твоя догадливость поразительна! Ты угадал, Джо, у меня к тебе есть вопросы. И вот вопрос первый, мой любимый: ты хочешь жить? — Кто же не хочет, Дик? — грустно хмыкнул Джо Янг. — Даже комар и тот пищит, когда его хотят прихлопнуть. Так уж устроил Господь, что всякая тварь хочет продлить свою жизнь… — Это весьма кстати, что тебе хочется ее продлить, — перебил его Кроуфорд. — Тогда мы без труда договоримся. Ответь правдиво на все остальные вопросы — и будешь жить, сколько сможешь. Итак, сколько сейчас на судне пиратов? — Человек двадцать точно будет. Тут он печально оглядел выступающие из мрака тела людей и добавил: — Ну, если считать тех, кого вы тут положили, а то и поменьше получится. — Пьяные есть? Вахту несете? Кто на шхуне за старшего? Джо Янг махнул рукой. — Прямо скажу, Веселый Дик, команда без Черного Билла вразнос пошла! Поверишь ли, из всей братвы на ногах вот только мы были да Грязный Гарри. Остальные в лежку! Пока Билл там за французами гонялся, на корабле открыли винную камеру, и с тех пор ни одного трезвого в команде не найти. Проснется человек, приложится к бочонку — и снова упал. Даже вахту нести некому. Но я тебе скажу, Веселый Дик, оно и к лучшему, потому что ничего хорошего из того, что Грязный Гарри сейчас на берегу увидел, не получилось. Лучше бы он сейчас пьяный на шканцах валялся и нас бы с ребятами не трогал. Глядишь, все бы сейчас живы были… — Не обольщайся, Янг! — сурово заметил Кроуфорд. — Без дисциплины моряка не бывает, и, впав в разгул, вы обрекли себя на поражение. Потому что мы в любом случае поднялись бы на борт, и спасти вас могла бы только бдительность. Просто тебе повезло больше других. Но ты даешь слово, что на шхуне сейчас все пьяны? — Слова я дать не могу, Веселый Дик, — понурился Джо Янг. — Корабль большой, и за всех я не поручусь. Но лично я трезвых не видел. Кто мне попадался — или вповалку лежал, или к бочонку прикладывался. Конечно, жара спала, может, к ночи кто-то и очухался. А ты что задумал, Веселый Дик? Всех наших ребят извести хочешь? А ведь это нехорошо — мы же зла тебе не желали. — Я вам тоже зла не желаю, — сказал, отворачиваясь, Кроуфорд. — Только мне Черный Билл на Эспаньоле со шхуной и экипажем не нужен. В этом все и дело. На душе у меня неспокойно, когда я про вашу «Ласточку» думаю. А тебе, вместо того чтобы мне мораль читать, пора бы выбрать. Будешь служить Пастору или ко мне пойдешь? — У Черного Билла, надо понимать, пробоина ниже ватерлинии? — задумчиво заметил Джо Янг. — А с такой штукой никто далеко не уплывет. Значит, выбор один — на твой галс ложиться, Веселый Дик. Так что считай, свою закорючку я под контрактом черкнул! — Жаль, нет пера и бумаги, — ухмыльнулся Кроуфорд. — Так что пока у нас все на словах. Но ведь слово джентльмена крепче каната. Договорились, значит. Тогда, ребята, вперед, за дело! Харт участия в беседе не принимал. Сложив руки на груди, Уильям стоял поодаль и размышлял о том, что какое-то гнетущее предчувствие давит ему на сердце, только он никак не может понять, что это. Он стоял и, не слыша торга с пленником, все копался в себе и наконец сообразил, что ему так не нравится. Он понял, что угнетает его, как ни странно, поведение именно сэра Фрэнсиса, а не Потрошителя или, например, Амбулена. В какой-то момент его осенило, и он понял, что, кажется, разгадал, откуда у Кроуфорда такая странная власть над людьми. Сначала Господь Бог даровал людям свободу. Люди утратили ее, пожелав узнать, что такое не только добро, но и зло. Но зло оказалось сильнее добра — потому что добрый поступок связан с умалением себя, а злой — с уничтожением другого. Тогда Бог выкупил их дорогой ценой из рабства собственных страстей и иллюзий. Он пришел и восстановил поврежденную природу человека. Даровал новую, совершеннуюсвободу — свободу от необходимости делать зло. Но Бог снова оставил людям выбор — делать зло во имя себя или творить добро во имя любви. Но для многих этот выбор оказался слишком тяжел и неприятен. Ведь за любой поступок нужно отвечать; каждый раз нужно думать, как поступить. Но некоторые из людей научились с открытым забралом смотреть выбору в лицо. Таких людей, неважно, были они злы или добры, люди потрусливее называли сильными личностями, лидерами и говорили, что у них есть харизма — сила или благодать, мало задумываясь о том, что истинная харизма тоже дар Божий, посему зла в ней нет. И тогда слабые люди начали, может даже не думая об этом так прямо, приходить к сильным и говорить: «Возьми на себя мой выбор, а взамен скажи мне, что я счастлив и прав». Так псы приползают к самому сильному кобелю и, припадая на передние лапы, виляют хвостом, подтверждая право вожака решать судьбу стаи. Сильные люди, лидеры приняли на себя бремя чужого выбора, а взамен потребовали, может быть тоже не понимая этого так прямо, полной зависимости от их воли и полного согласия на все, что они предложат. Так из века в век происходит сделка между людьми: слабые отдают сильному право решать за них, теряя только самих себя. Но человек свободен, и стоит однажды почувствовать это, ощутить, что истинная свобода — это свобода от желания делать зло и любить только себя, как ты снова станешь самим собой. Пираты сами отдавали Кроуфорду власть над своими жизнями. А Кроуфорд брал и не отдавал. Кроуфорд хотел играть только свои пьесы. И поэтому первыми гибли те, кто шел ему наперекор. Уильям сделал шаг назад и снова взглянул на разыгрывающуюся перед ним сцену. В усилившемся ветре пламя металось на ветках и рвалось в небо, странные тени плясали на лицах людей, высвечивая в них то страх, то жадность, то гордость, то тоску. Не было в них лишь милосердия и сочувствия: души их были крепко заперты изнутри. «Как вампиры, — прошептал Харт, и ему стало противно. — Будто и не живут сами, а все проигрывают, проматывают чужие жизни. Не свои. А своих-то давно и нету. Они умерли, — вдруг догадался он. — Они умерли и из всех еще живых хотят понаделать таких же мертвецов. Вот откуда берутся живые мертвецы: они отдают в залог свои жизни, чтобы самим ни за что не отвечать. Чтобы не быть жертвами, не мучиться, не страдать. Они все бегут от страданий, а ведь не страдает один только труп». — Страдание — всегда зло, — вдруг сказал он вслух. — Но, заставляя страдать вместо себя другого, ты умираешь сам. — Что? Что ты сказал? Харт вздрогнул и увидел рядом с собой Амбулена. Он посмотрел ему в глаза и повторил: — Заставляя страдать вместо себя другого, ты умираешь сам. — Но ведь злу надо сопротивляться силой? — вскричал Амбулен. — Безусловно. Но только настоящему злу. — Это как? — спросил Амбулен, и губы его сложились в ту самую улыбку, которую столетие спустя назовут иезуитской. — Это значит, что все, что мешает моим страстям, злом не является. Не зло те испанцы, на чей галеон мы напали. Не зло женщина, которую я хочу, но которой не нравлюсь. Не зло, что у кого-то денег и славы больше, чем у меня. Зло, это мы. Насильники, воры и убийцы. Те, кто вечно жаждет больше, чем у него есть. Кто всегда меряет себя с другими. Кто хочет власти, кому нужны рабы и подхалимы. Кто не заснет, пока не добьется своего, а свое — это ненасытное желание иметь. Иметь, а не быть. — Браво оксфордской школе философии! — с иронией сказал Робер, но в глазах его мелькнуло выражение странной обреченности. — Значит, бунт? — Я не могу предать Веселого Дика. Он спас мне жизнь, он заступился за меня, он мне друг. Я пойду с ним, но больше не буду пиратом. Мне не нужны сокровища, и я отказываюсь от своей доли, — тихо сказал Харт и отошел к шлюпке. Волны уже не лизали песок, а с ревом набрасывались на него. Одна из них подпрыгнула, размахнулась и ошпарила пеной сапоги Уильяма. Он, не замечая ничего, смотрел в черный мрак горизонта. — Эй, — услышал он крик своего капитана, — подбросьте еще дров! Нам же надо как-то вернуться. Потом Уильям, сразу намокнув до пояса, вместе со всеми толкал лодку. Волны грохотали, вздымая со дна песок, пенные гребни все чаще мелькали во мраке. Было так темно, что небо, которое заволокли тучи, и море слились воедино, окружив людей и шлюпку непроницаемым мраком. Кроуфорд усадил на весла Мак-Магона и Джо Янга, Амбулена и Потрошителя, Боба и Джона, на корму отправил капитана Ивлина, а Харта и себя устроил на носу. Вдоль кромки воды по песку бегала оставленная Кроуфордом собака, задирая к небу уродливую морду и сердито скуля. — Ветер крепчает, — сказал Потрошитель и, облизнув палец, поднял его вверх. — Кажись, вест-вест-зюйд. Ох, вымокнем мы, как кутята. — Да, кажись, скоро ливанет. Не потерять бы корабль, да и шлюпку может отнести в открытое море, — поддержал квартирмейстера Боб. — Что ж, это усложняет задачу, — заметил Кроуфорд. — Придется ловить конец да привязывать шлюпку к шхуне. Держим курс на кормовые огни, странно, что их не забыли зажечь. — Да их и не тушил никто, — радостно сказал Джо Янг. — Их еще при Билли зажигали. — Как бы то ни было, но главное, чтобы нас не унесло. Подналягте на весла, ребята. — Когда мы с Уильямом полезем на палубу, — обратился Кроуфорд к капитану Ивлину, — вы останетесь за главного. Если что, попробуйте отвлечь команду от того борта, по которому мы с Уильямом полезем. Задача сложная, но вам, сэр Ивлин, она вполне по плечу. И постарайтесь сделать так, чтобы в случае чего в вас не попали из пушки. — Да уж, — саркастически процедил сэр Ивлин. — Раньше я правил кораблями, а теперь мне доверяют паршивую шлюпку и просят обращаться с ней аккуратнее! А я что же? Я отвечаю: есть, сэр! Потому что у меня нет другого ответа, сэр! И это истинная правда! — закончив тираду, и так слишком длинную для него, Джон Ивлин снова ушел в себя, собираясь исполнить возложенное на него поручение — строго и угрюмо, как он теперь делал абсолютно все: правил шлюпкой, дрался на шпагах или просто обедал. Не прошло и пяти минут, как к потокам соленой воды, которые заливали нос, то и дело зарывающийся в воду, добавились новые — это начался дождь. Сразу же тонны воды обрушились на утлое суденышко — не было ни первых капель, ни тонких струек. Так начинались все дожди в здешних краях, но привыкнуть к этому было невозможно. В одночасье темнота вокруг наполнилась гулом и свистом, высоко в небе засверкали молнии, и оттуда низвергнулась такая масса воды, что Уильяму показалось, будто это океан встал дыбом и, перевернувшись, рухнул обратно. Потоки хлыстами секли головы и плечи, носы и рты заливала вода, и даже собственную руку можно было рассмотреть лишь с трудом. Шлюпка быстро начала наполняться водой. — Вычерпывай воду! — заорал Кроуфорд, перекрикивая рев волн и шум дождя. — Утопите шлюпку — всех повешу! Уильям, ну же! Потрошитель открыл рот и затянул песню. Пираты запели, чтобы не сбить ритм, с которым весла погружались в бушующие волны. Их хриплые сорванные голоса заливало потоками воды, уносило ветром, топило в волнах, но песня рвалась из глоток, потому что песня сейчас означала жизнь. — Держи курс на полгалса праве-ей! — ревел Ивлин с кормы, лихорадочно вычерпывая воду найденным под банкой ковшом. Ветер вколачивал ему команды обратно в рот, заливая рот дождем и соленой водой. Харт и Кроуфорд черпали воду шляпами. Мокрые весла рвались из рук, вода превратилась в сталь, отталкивающую каждый взмах, воздух приходилось рвать зубами. Вдруг послышался глухой удар и треск. Лодка с размаху ударилась носом о деревянную тушу корабля и, едва не перевернувшись, уже снова отлетела от него, подхваченная следующей волной. — Ну, Харт, давай! Хватай якорный канат! — заорал Кроуфорд и прыгнул за борт. Харт лихорадочно стянул с себя намокший кафтан и, привязав к поясу кинжал, нырнул вслед за Кроуфордом в кипящую белыми пузырями волну. Неожиданно из-за водяной пелены на него вынырнула черная громада, под уголом уходящая куда-то ввысь. Громада ходила ходуном, ее бока то вздымались, то опускались. При свете молнии Харт отчетливо увидел перед собой жирную натянутую змею — четырнадцатидюймовый якорный канат. Кроуфорд, вынырнув, уцепился руками и ногами за этот канат и полез по нему вверх, навстречу низвергающимся с неба потокам. Снизу за ним яростно потянулась волна, но, бессильно лизнув его ноги, в бешенстве повалилась на Харта. Харт ушел под нее с головой, но, отчаянно барахтаясь, выплыл и из последних сил поплыл к спасительному канату, который, как пуповина, один только и привязывал нынче небо к земле. Ощутив в своей руке скользкое тело пеньки, Харт вцепился в него, подтянулся и, напрягая мышцы, пополз из воды. Лезть по канату было невозможно, но он лез, прижимаясь к нему лбом, обнимая его ногами, как любимую женщину, приникая к нему, как к матери, и от отчаяния вгрызаясь в него зубами, как во врага. Вода ревела и стонала внизу, вода била его сверху. Прошла вечность. Казалось, руки сейчас оторвутся и повиснут так сами по себе, намертво сжимая проклятую веревку, а туловище мешком полетит в черную пенную воду. Харт плакал, но слезы его смывало дождем. — Вперед, вперед, ползи, засранец, — бормотал он, захлебываясь рыданиями. Он шептал самые мерзкие ругательства и самые пылкие молитвы. Но скользкая плоть каната по-прежнему уходила вверх, а ветер еще сильнее отдирал Харта от него, чтобы унести прочь. И в этот момент архангельским благовестием сверху грянул надсадный крик Кроуфорда: — Давай руку, щенок! Давай руку! Уильям до крови прикусил губу и рванулся вверх. Мокрая рука Веселого Дика как стальными клещами обхватила его ладонь и рванула в спасительную высоту. Планшир тупо рубанул его в живот. Царапая кожу под разодранной рубахой, Харт перевалился через фальшборт и, обессиленный, рухнул на палубу, по которой хлестал дождь и с которой сквозь отверстия в фальшборте в море извергались ручьи. Грохот здесь стоял такой, будто тысячи плотницких молотков разом колотили по мокрым доскам. На верхней палубе не было ни души: экипаж прятался от дождя на баке, юте или на нижних палубах. Сквозь пелену дождя Уильям с трудом видел Кроуфорда, который уже сматывал с кнехта швартовый, чтобы бросить его Ивлину, если, конечно, тот еще не потонул к чертовой матери со своими молодцами. Харт поднялся с четверенек и, с трудом удерживая равновесие на ходящей ходуном палубе, подошел к Кроуфорду. Тот, сбрасывая швартовый куда-то за борт и лишь на секунду придержав канат одной рукой, вытащил откуда-то из-за пазухи флягу и сунул ее Харту в руки. Харт запрокинул голову и влил себе в рот обжигающую влагу. — Я боюсь только одного: вдруг они задраили люки! — крикнул Кроуфорд. — Тогда нам придется здорово попотеть, прежде чем мы попадем в крюйт-камеру! — Закончив, он перегнулся через борт и заорал: — Эй, есть кто живой? — но раньше, чем ему успели ответить, он разглядел внизу какое-то черное пятно. — Надеюсь, что есть, — ответил сам себе Кроуфорд и утер лицо руками. — Пойдемте, Харт, у нас все равно нет выбора. Вы хоть нож не утопили? Уильям помотал головой и, едва не падая, медленно двинулся за капитаном к люку на юте. Ничем не огороженный люк был наспех прикрыт куском просмоленной парусины, в которую с брызгами лупил дождь. Они откинули парусину, и тут же в лицо им ударила теплая вонь. Чтобы попасть в крюйт-камеру, где хранился порох, им оставалось спуститься по трапу и пройти несколько футов по тесному коридору. Но у подножия трапа, на нижней палубе, держась за стойку и покачиваясь, стоял здоровый, как бык, мужичина в рыжих кожаных штанах чуть ниже колен и в короткой куртке без рукавов. Он смотрел на них, и круглые пьяные глаза его выражали неподдельное изумление. — Глазам не верю! — воскликнул пират и покачнулся, едва не упав. — Веселый Дик собственной персоной! Откуда ты здесь взялся, старый висельник?! Ребята говорили, что ты ушел тогда на «Медузе» с Потрошителем… А теперь ты пришел за остальными? — Что-то вроде того, Каспер! — небрежно бросил Кроуфорд, медленно спускаясь на следующую ступеньку. Рука его с зажатым в ней кинжалом легко скользнула за спину. Хотя в полумраке трюма, освещаемого лишь одним фонарем, болтающимся под потолком, Каспер не заметил этого движения, но раскрывать объятия бывшему квартирмейстеру явно не спешил. — У тебя ничего не выйдет, Веселый Дик! — решительно заявил он, гордо скрещивая руки на груди, отчего ему пришлось немедленно опереться спиной о переборку. — Убирайся, откуда пришел, или ребята выбросят тебя за борт на поживу акулам! — Сначала ребята пусть глаза продерут! — презрительно фыркнул сэр Фрэнсис, опускаясь еще на одну ступеньку. — Боюсь, правда, у них все равно ничего не выйдет. Кишка тонка. — Здесь не все настолько пьяны, Веселый Дик! — весело возразил Каспер. — И тебе не стоит так говорить про людей, которые лучше тебя… Убирайся, или я позову боцмана, и он быстренько приищет тебе достойную смерть! — Долго тебе придется звать своего боцмана, — пробормотал сквозь зубы Кроуфорд и снизу из-за спины метнул в Каспера нож. Лезвие мелькнуло, сказало «чмок» и вошло прямехонько в горло пирата. Каспер захрипел и лицом вниз упал на нижние ступеньки. Кроуфорд перепрыгнул через него и ринулся в коридор. Уильям услышал звук шагов, чьи-то неразборчивые вопли и бросился следом за Кроуфордом. Едва он добежал до следующей перегородки, как из полумрака вынырнуло чье-то бородатое лицо. Уильям наугад ткнул кинжалом. Бородач застонал и отлетел к стене. — Скорее! — крикнул Уильям, наклоняясь и довершая дело ударом кулака. — Давай сюда! — крикнул Кроуфорд Харту. — Сторожи проход. Только, ради всего святого, не давай ребятам палить в ту сторону, иначе мы все взлетим на воздух! Я быстро! Он исчез. Двое заколотых пиратов неподвижно лежали в тесном проходе. Их кровь мешалась с льющейся в открытый люк водой и грязными ручейками растекалась под действием качки в разные стороны, медленно приближаясь к босым ногам Уильяма. Испытывая странное чувство отвращения и страха, он переступил ногами, и кровавый ручеек побежал дальше. «Море крови, — подумал он тупо. — Карибское море — это море крови. И одержимые люди мечутся по нему, как падшие души по преисподней, алкая *["248]не счастия, не избавления от мук, а золота. Оно-то в конце концов и погубит нас всех. Золото — вот роковой гений этих мест. Призрак, который никому не дается в руки». Вдруг откуда-то выскочил Кроуфорд, со спутанными волосами, с какой-то дьявольской усмешкой на физиономии, облепленный мокрой одеждой, с коптящим факелом в руках. Уильям вздрогнул и инстинктивно занес кинжал для удара. Нервы его были напряжены до предела, и ему стоило некоторых усилий удержать свою руку в воздухе. Кроуфорд хохотнул. — Что, напугал? Но по правде говоря, мне хочется как можно скорое убраться отсюда. Я уже развел огонь в крюйт-камере, а теперь хочу вас попросить разбить бочонок с оружейной смазкой, который находится за моей спиной. Просто грохните его хорошенько об пол!.. Уильям сунул кинжал за пояс и нырнул в темноту. Действительно, за спиной Кроуфорда валялся тяжелый бочонок, бока которого намокли от масла. Уильям поднял его над головой и что есть силы швырнул о палубу. Раздался треск. Остро запахло смазкой. Кроуфорд свободной рукой подтолкнул юношу к трапу. — Бегом наверх! — скомандовал он. — Я за вами! Уильям рванул вверх по ступенькам. Краем глаза он увидел, как горящий факел плюхнулся в лужу масла, рыжеватые языки пламени весело заскакали по дощатому настилу, шипя в ручейках, облизнули деревянную переборку, и вдруг за его спиной полыхнуло жаром и сделалось светло, как днем. Уильям выскочил на палубу, и ревущий дождь снова оглушил его. Он растерянно оглянулся, пытаясь сообразить, куда нужно бежать. Но из трюма вылетел Кроуфорд, дернул Уильяма за руку и, едва удерживаясь на ногах, кинулся к фальшборту. Уильям опомнился и побежал за ним, удивительным образом упав всего два раза. Из люка вырвалось пламя, и вдруг где-то под ногами страшно, по-звериному закричал человек. Схватившись руками за планшир, Кроуфорд обернулся и заорал: — Скорее! Они перелезли через фальшборт, и Кроуфорд вдруг перекрестился левой рукой. — Ну что, Харт, молись, — сказал он, скаля зубы, и из глаз его выглянула смерть. Уильям изо всех сил оттолкнулся ногами и нырнул вниз головой. Упав в воду, он едва не захлебнулся, но жажда жизни, владеющая каждым человеческим телом, вытолкнула его на поверхность. Он хватил воздух открытым ртом, и в глотку немедленно хлынул дождь. Харт мгновенно потерял ориентацию и плыл наугад, надеясь, что Провидение или кто там еще, чья очередь нынче дежурить, само выведет его куда нужно. Каждую секунду он ждал чудовищного взрыва у себя за спиной, но его все никак не было. Потом из мрака, словно из ниоткуда, вынырнул силуэт шлюпки. Дождь уже не так сек голову и лицо: видно, стих ветер. Да и волны оказались пониже. — Давайте руку! — рявкнул капитан Ивлин. Уильяма втащили в шлюпку. К его удивлению, Кроуфорд уже сидел на банке и с удвоенной энергией вычерпывал воду, которая, однако, не убывала. Шлюпка то и дело черпала бортами, грозя утонуть. — Ветер стихает — дождю конец, — глубокомысленно изрек кто-то, наверное опять Потрошитель. Гребцы навалились на весла, и шлюпка пошла прочь от шхуны. «Что же, взрыва не будет? — подумал Уильям. — Все напрасно? Или огонь не добрался до пороха? Ему кто-то помешал?» Но он даже не успел испытать сожаление: в сырой мгле вдруг раздался глухой удар и Уильям оглох. Потом были еще четыре взрыва подряд — один мощнее другого, — как будто тяжелая береговая батарея в упор расстреливала несчастную шхуну огненным студнем — смертоносной смесью селитры, серы, смолы и масла. Пелена дождя и мрака разорвалась, и сквозь нее выплеснулся ослепительно-желтый столб огня, объятый со всех сторон клубами белесого дыма. По воздуху с леденящим душу гулом и свистом пронеслись обломки лопнувшего корабля. Огромная волна плеснула и, точно скорлупку, опрокинула шлюпку со всеми находящимися в ней людьми. Уильям полетел вверх тормашками и сразу же ушел с головой в неожиданно теплую мутную воду. Он был оглушен. Некоторое время Уильям бестолково молотил руками, оставаясь на месте, но потом вода сама вытолкнула его на поверхность. Харт вынырнул, едва не ударившись головой о край перевернутой лодки. Вцепившись в нее, под дождем уже дрейфовали капитан Ивлин и Кроуфорд. Чуть позже Уильяма к ним присоединился Джо Янг, подгребли Боб и Потрошитель, который волок за шкирку потерявшего сознание Джона. Вот только Амбулена и Мак-Магона почему-то не оказалось. — Где Робер? Где этот Мак-Магон? Они что, утонули? — крикнул Уильям в ухо Кроуфорду, судорожно цепляясь за скользкие бока шлюпки и старательно колотя ногами по воде. — Вероятно, да, — проорал за Кроуфорда тоже оглушенный капитан Ивлин. — Амбулена вообще смыло волной, как только вы поплыли к шхуне. Упокой, Господи, их души. Харт зажмурился, и перед глазами у него возникли белые-белые лица Амбулена и бедолаги-матроса. Он видел, как их тела медленно опускаются на дно, вытягиваются на песке и лежат там долго-долго. К ним подплывают рыбы, осторожно отщипывают их мясо… Харт очнулся от острой боли в боку, и видение исчезло. Дождь кончился, а холод медленно подбирался к сердцу. — Не спи, — осипшим голосом прохрипел Кроуфорд. — Давай греби ногами. — Он был зол как черт, а исчезновение Амбулена вселяло в него неясные подозрения. Харт тряхнул головой и попытался прикинуть в уме, каковы шансы Амбулена выплыть в такую погоду на берег. Ему не верилось в его смерть. Так, ругаясь, предаваясь размышлениям и отпуская грязные шуточки, отряд Кроуфорда доплыл до берега, держась за перевернутую шлюпку. — Земля! — проорал Боб, кончиками пальцев ощутив спасительный песок, и тут Уильям отключился.* * *
Надо сказать, что беспокоился Кроуфорд не напрасно. Робера Амбулена вовсе не смыло за борт шлюпки: он добровольно покинул ее, пользуясь дождем как прикрытием и преследуя вполне определенные цели. Надо добавить, что если француз преследовал некие цели, то его самого преследовали жестокие угрызения совести, с которыми он, впрочем, умудрялся довольно успешно бороться. Амбулен чувствовал почти то же самое, что и Уильям Харт, только гораздо сильнее. Поручение, данное ему Орденом, приобретало все более гнусный привкус, и в душу прокрадывалось чудовищное сомнение в том, что к заочному отпущению грехов, которое высокочтимый отец Шарль де Нойель поспешил выдать ему авансом на все путешествие, можно относиться всерьез. Еще только ступив на берег Эспаньолы, Амбулен обдумывал, как передать Кроуфорда и его людей в руки капитана де Ришери. Накануне его до гениальности простой и незамысловатый план растаял в грохоте пушек Черного Билли. Робер мучительно боролся с собой: он видел, как Всевышний сам разрушает неправедные начинания, давая возможность заблудшей овце стать на путь истинный, но не мог и не смел ослушаться приказа. Чтобы заглушить голос совести, Амбулен непрестанно повторял самому себе, что с Кроуфордом его ничто не связывает, тогда как Орден давно стал ему и отцом, и матерью, и любимой… Амбулен привык к мысли, что вся его жизнь принадлежит иезуитам — отнюдь не только из-за страха быть наказанным в случае ослушания, а просто потому, что молодой человек не мыслил и не представлял себе никакой жизни вне Ордена. Поэтому он с отчаянным упорством продолжил осуществление своей задачи. Подплывая к берегу в пелене дождя, Амбулен поймал себя на мысли, что был бы рад сейчас пойти ко дну, избавившись от тяжкой обязанности. Однако в следующий момент он почувствовал, что его ноги уже касаются дна. Со стороны невидимой сейчас шхуны раздались один за другим несколько оглушительных взрывов, в воздух, разрезая дождевую мглу, поднялся роскошный фонтан огня, а затем все умолкло. Ливень начал стихать. Выбравшись на песок, такой же мокрый, как и все вокруг, Амбулен увидел странную картину. Под пальмой, задрав приплюснутую морду кверху и скаля кривые зубы, сидела маленькая течичи. При этом она подвывала так гулко и противно, что молодому человеку стало не по себе. Припомнив рассказ Кроуфорда о том, что индейцы считают этих собачонок проводниками в небытие, Амбулен содрогнулся. Ему пришло в голову, что псина наткнулась на посланца загробного мира. В следующий момент он убедился, что недалек от истины. На дереве, вокруг которого с воем крутилась собака, примостился крупный, жирный удав толщиной с ногу барашка. Происхождение змеи не оставляло сомнений: это был, пожалуй, единственный друг индейца-иезуита Хуана Эстебано. Караиб, чьи предки принадлежали к тотему пернатого змея (как о том свидетельствовала татуировка на его груди), даже взятый в неволю и воспитанный иезуитами, в действительности сохранил в душе верования и обычаи своего племени. Как сын касика, Хуан Эстебано был просто обязан уметь говорить со змеями — и он умел. Индейца всюду сопровождал огромный, не менее четырех-пяти ярдов в длину, пятнистый удав. Эстебано обращался с ним нежно и ласково, как с новорожденным котенком. Удав в присутствии хозяина становился почти кротким и даже охотно прятался, свернувшись кольцами, в небольшой саквояж, который караиб всюду таскал с собой. Поэтому о существовании змеи мало кто знал. Но на этот раз удав был выпущен и тяжеловесной спиралью примостился в ветвях пальмы. Это означало, что Эстебано тоже находится поблизости. Харон, чуя присутствие человека, способного наводить чары, да еще на такое существо, как змея, прямо бесился. Индеец, убедившись, что, кроме Амбулена, на берег никто не вышел, выбрался из своего укрытия и что-то гулко приказал удаву. Тот послушно спустился с пальмы на песок и, свернувшись клубком, дал запрятать себя в саквояж. — Они будут здесь минут через двадцать, самое большее — через полчаса, — сказал Амбулен после того, как они обменялись приветствиями. — Все ли готово для засады? — В полумиле отсюда скрытно сидит полторы дюжины солдат с оружием наизготовку, — ответил индеец. — Остается лишь добиться, чтобы они пошли по нужной нам тропе. — В таком случае мне понадобится твой нож, потому что все мое оружие осталось в море, — заявил Амбулен, безжалостно оторвав карман от своего камзола и манжету от рубахи. Затем он достал из кармана мокрых кюлот пряжку от плаща, предусмотрительно снятую накануне. Полоснув ножом по тыльной стороне левой ладони, он бросился на песок и несколько раз перекувырнулся, стремясь изобразить следы борьбы и оставить кое-где кровавые отметины. Собачонка Кроуфорда с громким лаем кинулась на Амбулена и вцепилась зубами в полу кафтана. Схватив собаку за шкирку и отшвырнув ее в ближайшие заросли вместе с куском материи, застрявшим у нее в зубах, Робер поднялся на ноги и удовлетворенно хмыкнул: получилось неплохо. Обломав вдоль тропы ветки и дополнив декорации кровавым следом, стелющимся по мокрому песку, Амбулен в сопровождении индейца направился к тому месту, где их уже поджидали люди Ришери. В глубине души он надеялся, что снова хлынет дождь и смоет все «подсказки». Но небо больше не хмурилось, а с очистившегося от туч небосклона изливала фантастический свет огромная желтоватая луна.* * *
Очнувшись, Уильям первым делом огляделся по сторонам. В него тут же влили ром из запасов, ждавших их на берегу. Первые мысли его были об Амбулене. — Как вы думаете, Кроуфорд, мог ли наш шевалье спастись? В этот момент к ним, яростно виляя хвостиком, подбежала собачонка и принялась поскуливать и вертеться у ног хозяина. — Что это у тебя в зубах, Харон? — вдруг воскликнул Кроуфорд. — Смотрите, господа, что это такое? — одновременно с ним крикнул капитан Ивлин. Песок вокруг них был словно перепахан, и на нем отчетливо виднелись темные пятна. — Полагаю, здесь кто-то совсем недавно дрался, уже после того, как прекратился ливень. А потом того, кому не повезло, потащили во-он туда! — капитан Ивлин махнул рукой в сторону рощицы. Пока джентльмены рассуждали, Потрошитель наклонился и, зачерпнув горсть песка, поднес его к носу, а затем лизнул. — Дик, это кровь, — хрипло сказал он и осклабился. — Сдается мне, что тут и повязали нашего доктора. Следы борьбы вели в заросли, где между пальмами петляла неприметная тропка. Трава здесь была примята, как будто по ней что-то волокли, а ветки вокруг были обломаны. — Дик, смотри, что я нашел, — крикнул Уильям, — это же пряжка Амбулена! Значит, Робер все-таки выбрался на берег, но на него кто-то напал! — Если только он не потерял пряжку раньше, когда мы укладывали пиратов, — скептически проворчал капитан Ивлин. — А вот и нет! Она была на нем — вместе с плащом, разумеется, — когда мы уже отвалили от берега! Я почему-то обратил на это внимание, когда мы сидели с ним на веслах. — Дайте-ка взглянуть, — потребовал Кроуфорд. — Да, Уильям, похоже, что вы правы. Амбулен был здесь совсем недавно, незадолго до нашего прихода. — Но здесь на него напали, ранили и потом потащили куда-то в чащу! В ту сторону! Господа, скорее вперед! Мы сможем их догнать и выручить Амбулена. — Не торопитесь, мой друг! — осадил его Кроуфорд. — Во-первых, мы не знаем, сколько их. Во-вторых, мы устали, а порох отсырел и вряд ли просохнет до утра. Мы и так еле держимся на ногах. Огня нам не разжечь, значит, надо глотнуть хорошенько рому. — То есть как? Вы что, считаете возможным отказаться выручать товарища, Кроуфорд? — опешил Уильям. — Во-первых, Амбулен друг только для тебя, Уильям, а для меня он всего лишь случайный деловой партнер, к тому же довольно неприятный. Во-вторых, я прибыл на этот остров для того, чтобы искать сокровища, а не для того, чтобы вытаскивать из передряг каких-нибудь французских докторишек. В-третьих, для начала было бы очень кстати обсушиться — лично я промок до костей. Ну, и в-четвертых, если выручка Амбулена будет связана с большим риском для нас, от нее и в самом деле придется отказаться, потому что в противном случае золото сэра Уолтера Рэли нам с тобой, дорогой Уильям, уже никогда не понадобится… — Веселый Дик! — крикнул в этот момент Джо Янг из зарослей. — Поскольку Грязному Гарри и ребятам их палаши больше не пригодятся, недурно будет нам взять на борт их личный арсенал, а? Кроуфорд направился к Янгу, копошившемуся у тех кустов, где отряд оставил четырех убитых пиратов. Остальные поплелись за ним. Сняв оружие с мертвецов, Кроуфорд заметил окровавленный клочок Амбуленова камзола, заботливо насаженный на какой-то сучок у тропинки. Маленькая течичи, до этого без толку носившаяся по песку от счастья вновь обрести хозяина, громко залаяла. — Н-да, если у меня и оставались сомнения насчет француза, то теперь они развеялись, — вслух подумал Кроуфорд. — Но только нравится мне это все меньше и меньше. Как будто нарочно подстроено: ясно, гладко, как по нотам… Шевалье давно вызывает у меня подозрения, и с каждым разом они крепнут. Сдается мне, что, двигаясь по этой тропинке, мы прямиком попадем в лапы противника. — Может быть, и так, — вмешался Ивлин. — Но я бы все-таки двинулся на его поиски. Вдруг мы ошибаемся? Но даже если вы и правы, сэр Френсис, то тогда тем более следует отбить доктора и держать его при себе, не спуская с него глаз! Находящийся в стане врага — по своей воле или нет, — Амбулен для нас в любом случае опаснее. Взяв его в плен, французы наверняка постараются переманить этого парня на свою сторону. — А если это не французы, а люди Черного Билли? — испуганно спросил Джо Янг, которого вовсе не радовала перспектива встретиться с Пастором после того, как по его, янговской, милости на корм рыбам пошла значительная часть команды, взятая Биллом с Тортуги, а он почему-то до сих пор жив. — Это ничего не меняет, — подняв голову после тяжелых раздумий, ответил Кроуфорд. — Пожалуй, вы правы, капитан Ивлин. Нам следует отыскать Амбулена, а там уж станет ясно, что делать дальше: таскать его с собой, не спуская глаз день и ночь, или найти более простой и действенный способ лишить его возможности причинить нам вред. — Что это значит, сэр Фрэнсис?! — в ужасе промолвил Уильям. — Уж не хотите ли вы сказать?.. Но как же так?! — К сожалению, дорогой Харт, к сожалению!.. Иногда в жизни бывает так, что человека, начинающего представлять опасность, приходится убивать, пока он не убил тебя…Глава 8 Ваша карта бита!
Карибское море. Эспаньола
— Однако какова шпага у этого мерзавца! — Капитан Ришери принял из рук солдата трехгранный клинок, который тот отобрал у Кроуфорда и теперь с почтением подносил своему командиру. Шпага была необычно широка у основания, но в отличие от виденных Ришери на войне с германцами колишмардов к острию сужалась плавной изящной линией. Она имела витую рукоять и довольно простую гарду с прямой крестовиной. Заметив возле самого эфеса из резной стали какие-то буквы, Ришери поднес шпагу к самым глазам. «Вас ему жертвую» — гласила надпись на старом клинке. — Ого, — презрительно воскликнул шевалье, — эта скотина, оказывается, в душе еще и поэт! Сзади медленно подошла Лукреция и, взглянув на клинок в руке капитана, зябко передернула плечами. Ришери краем глаза заметил женщину и резко обернулся, едва не задев ее платья лезвием своего трофея. — Если я не ошибаюсь, сударыня, а что-то мне подсказывает, что я не ошибаюсь, это и есть то лицо, которое мы ищем? — очень тихо спросил Ришери, указывая эфесом шпаги на валяющегося возле него пленника, и на его побледневшем лице проступили желваки. — Да, это он. — Лукреция хотела сказать это громко, но отчего-то голос ее сел. — Это он, — повторила она и добавила про себя: «Это он, мой пропавший жених». На боку у ее ног лежал оборванный и избитый мужчина, локти которого были связаны за спиной, а ноги опутаны веревкой. Он с трудом повернул голову в ее сторону и разлепил заплывшие глаза. На его разбитых губах мелькнула улыбка. — Кто алчно жаждет чем-то обладать, тот все готов отдать, чем он владеет, готов он все растратить, проиграть… — прошептал он, но не успел докончить, так как Ришери пнул его кончиком сапога в грудь. Лукреция вздрогнула, словно шевалье ударил ее. — А луч надежды меркнет и слабеет, — вдруг тихо произнесла Лукреция, и злобное торжество на миг исказило ее лицо. — Я обещала вернуться за тобой, Дик, и я вернулась. — О милая леди Бертрам, — прохрипел пленник и попытался сплюнуть кровь, но не смог, и алая слюна потекла по его заросшему щетиной подбородку. Он облизнул распухшие губы. — Я все же сам закончу эту поэму. Итак, прекрасная леди! Пусть счастья ветерок тебя овеет, но день зловещий быстро настает, весть принеся о том, что ты — банкрот! — договорив, он расхохотался, но смех его быстро перешел в кашель, и он, дернувшись, уткнулся лицом в развороченную копытами лошадей землю, вдруг потеряв сознание. В ту же секунду Лукреция почувствовала, что слабеет, и, не подхвати ее любезный шевалье под руку, она бы упала рядом с пленником. — Мне что-то нехорошо, — пробормотала она и дотронулась пальцами до лица. Зубы ее стучали, и лишь усилием воли ей удалось подавить нервную дрожь, сотрясавшую все тело. — Этот негодяй напугал вас? Слишком много чести вы оказали ему, разговаривая с ним. Лукреция невидящими глазами посмотрела на капитана. — А?! Что? С кем разговаривала? — Аделаида, мне кажется, у вас начинается лихорадка. Эй, где этот вшивый доктор, эта индейская клизма, со своими порошками? Скорее сюда! Даме плохо! Эстебано бесшумно вынырнул из-за пальмы и скользнул к Аделаиде, которая, сцепив руки, продолжала что-то бормотать себе под нос. Слишком учтиво поклонившись Ришери, так что этот поклон слегка смахивал на издевку, он с некоторым усилием высвободил руку миледи и внимательно оглядел ее, пощупав пульс. — Я дам сеньоре порошок. Вы, сеньор, растворяйте в воде на один прием столько, сколько уместится на кончике ножа, и давайте ей пить. Что? Нет, это не лихорадка, это злой дух. — Боже, в медицине остались одни дикари! Только злых духов нам еще не хватало! — шевалье Ришери воздел глаза к небу, тряхнул локонами короткого парика и, вздохнув, повел Лукрецию к палатке. — Да, кстати, — кивнул он своему помощнику, — проследите, чтобы этого, — он подбородком указал на лежавшего без сознания Кроуфорда, — привязали к дереву отдельно от других пленников, да выставите часового. — Простите, сеньор, может, его стоило бы осмотреть? — вмешался индеец. — Мне кажется, он ранен. — Охота вам возиться с этой скотиной. Впрочем, он нам еще нужен, так что поступайте, как вам угодно, — и Ришери, заботливо поддерживая Лукрецию, медленно повел ее в палатку, представлявшую собой кусок просмоленной парусины, натянутый на бамбуковые колья. В соседней палатке Абрабанель не скрывал своей радости перед одновременно грустной и ликующей Элейной и, как всегда, невозмутимым Ван Дер Фельдом, который по-прежнему жевал мундштук своей неизменной трубки.* * *
Человек, которого она так долго искала, теперь был в ее власти. Лукреция отняла от лица руки и поправила упавшие ей на лоб волосы. — Он нужен нам живым, конечно, живым, зачем нам мертвый? — прошептала она, лихорадочно потирая руки, словно они были чем-то запачканы. Она сидела на дорожном сундуке, плечи ее были укрыты шерстяным плащом. Ее знобило. Послышались шаги, и в палатку, наклонившись, вошел Ришери. Подойдя к ней, он с нежной робостью провел ей рукой по волосам. — Все будет хорошо, Аделаида. Лекарство поможет. Ощутив его прикосновение, Лукреция вздрогнула и отшатнулась от него, как от змеи. — Оставь меня, — крикнула она и, вскочив, попятилась от него. — Аделаида… Но она, сорвав с себя его плащ, выбежала из палатки. Она бежала, не обращая внимания ни на его встревоженные крики, ни на удивленно оборачивающихся на нее солдат, ни на внимательный, оценивающий взгляд Абрабанеля, которым он провожал ее до тех пор, пока она не скрылась за деревьями. — Я спасу тебя, я спасу тебя, — бормотала она, как безумная, не замечая, что все дальше и дальше уходит от лагеря. — Я спасу тебя, потому что люблю… — произнеся это слово, она неожиданно остановилась, словно придя в себя. Душа ее разрывалась от боли и отчаяния, и она, обхватив голову руками, без сил рухнула на землю. Слезы хлынули из ее глаз, а она скребла землю ногтями и кричала в обступавшую ее зеленую пустоту: — Да, да, я люблю тебя, Роджер, слышишь, я люблю тебя… Будь ты проклят, проклят, — и она стучала по земле кулаками, не замечая, что руки ее уже разодраны в кровь. Когда она пришла в себя, то увидела, что начало темнеть. Скорые в этих широтах сумерки уже сгущались в кронах деревьев, наползали из-за плотно переплетенных стволов, стелились по влажной траве. Глаза ее распухли от слез и плохо видели, из-под сломанных ногтей текла кровь. Она поднялась с земли, кое-как отряхнула налипшие на платье грязь и листья и огляделась. Пора было возвращаться, только вот куда? Она убежала слишком далеко от лагеря, даже не заметив, в какую сторону. Она судорожно огляделась. Запоздалый страх перед этой лесной пустыней охватил ее, и она в ужасе прижалась к дереву. Вокруг не было ни души, огромные стволы колоннами уходили ввысь, а оттуда свешивались мясистые лианы, белесые корни орхидей, зеленые папоротники. Она заблудилась. Обняв себя за плечи, женщина боялась двинуться с места, повсюду теперь ей мерещились ползущие змеи, подкрадывающиеся хищники, следящие за ней индейцы или беглые рабы. Подавив крик, она искала выход, но мысли ускользали, кружились, путались в ее голове. Тогда она со всей силы укусила себя за руку и хлестнула по щеке. «Заткнись, дура, — прошептала она себе. Что ты взбесилась как последняя шлюха. Ну-ка, приди в себя, или к утру от тебя не останется даже костей. Для начала попробуем понять, откуда я все-таки приперлась сюда. Идиотка, тупица, истеричка! — она в голос ругала себя последними словами, и от этого спокойствие медленно возвращалось к ней. — Тебе надо спасти его. Хватит, пора поставить точку в этой затянувшейся мелодраме», — она тряхнула головой и выпрямилась. В ту же секунду справа от нее раздался хруст ломаемых веток. Она обернулась и увидела Ришери. — Вы?! Что вы тут делаете? — вскричала она и топнула ногой. — Вы как будто недовольны, Аделаида, — с мягким укором произнес капитан, — а между тем я искал вас. Опасно так далеко забираться в гилею, мадам. — Это мое дело. — Простите, мадам, — он подошел к ней вплотную и двумя пальцами аккуратно вынул сучок, запутавшийся у нее в волосах. — Я все понял, Аделаида, — тихо сказал он и взглянул ей в глаза. — Вы и вправду приносите гибель всякому, кто на вас посмотрит. Как голова Медузы, — он грустно усмехнулся. — Я люблю тебя, Аделаида, и я помогу тебе. Я устрою твоему жениху побег. Она опустила голову и отвернулась. Безумная надежда захлестнула ее сердце, а в глазах сверкнул дьявольский огонь. «Я спасу тебя, Дик, любой ценой, — подумала она, — потому что и ты, и твои сокровища принадлежат только мне!» Но когда она повернулась к Ришери, то он смог разобрать на ее лице только нежность и слезы благодарности. — Поскольку я уже становлюсь предателем, буду предателем до конца, — Ришери схватил ее за плечи. — Как там в Писании: «Что делаешь, делай скорее»? — он с силой привлек женщину к себе и жадно приник к ее губам. Потом, прижавшись к ее щеке, зашептал ей в ухо: — У индейца письмо за подписью короля. Он иезуит, и он привез мне приказ арестовать вас. Кольбер нынче слаб, а духовник короля отец Ла Шез силен. Но я убью индейца — и у нас развязаны руки. Лукреция слушала капитана, опустив глаза. Она уже вполне справилась с собой: лицо ее вновь стало бесстрастным, а ум обрел обычную ясность. — Хорошо, Франсуа, так и сделаем. А теперь нам пора возвращаться, не то наша затянувшаяся прогулка покажется некоторым слегка подозрительной.* * *
В лагере французов готовились к ночлегу. Солдаты раскладывали одеяла поверх срубленных веток, часовые занимали посты, повар с подручными лениво споласкивали до блеска оттертый песком походный котел. Свободные от караула мужчины сбивались в кучи по интересам. Кто-то с азартом шлепал картами, строго запрещенными в походе, кто-то гремел костями в латунном стаканчике, кто-то грустно рассматривал дырявые чулки и прохудившиеся сапоги. Над лагерем плыл дымок костров, в него отдельными струйками вливался дым от трубок, красные огоньки которых то и дело вспыхивали с разных сторон. Из леса тянуло прелью, от лошадей — кислым потом и навозом, от отхожей ямы — дерьмом. Ришери вздохнул и поморщился: все-таки он был капитаном и не сильно любил запахи, неизбежные для сухопутной войны. Хорошо хоть, что поблизости не было походного лазарета, из которого неслись бы неизбежные вопли, перемешанные с проклятиями, а наиболее крепкие нервами солдаты выплескивали бы прямо из проемов медные тазики с мочой, калом, кровью и отрезанными членами. Да и пропитанная гноем корпия могла вызвать рвоту даже у самого крепкого бойца. Неподалеку заржала лошадь, ей ответила другая, третья фыркнула, и послышался лязг ведер — это поили уставших от жары и укусов насекомых коней. Хорошо, что все лошади были на ходу: в путешествии слишком многое зависело от этих животных. Ришери откинул полог и выбрался наружу, думая о том, как выполнить обещание, данное им любимой женщине, и при этом не только не вызвать подозрений, но и постараться принести наименьший ущерб их общему делу. Довольно удачно Веселый Дик был привязан отдельно от остальных — его легко можно будет освободить, не вмешивая в это дело остальных пленников. Их с Аделаидой план был скроен на скорую руку и шит белыми нитками. — Это безумие, — сказал он, когда Аделаида закончила излагать свои идеи. — Фортуна любит тех, кто рискует! — с вызовом ответила она, и Ришери ничего не оставалось, кроме как рискнуть или признать себя неудачником. Он вздохнул и, посмотрев на свои холеные руки с траурной каймой под ногтями, с тоской оглядел лагерь. В море ему все было понятно. Была постоянная зависимость от капризов ветра и волн, была опасность умереть от жажды или цинги, была ясная цель и настоящий враг. Здесь, на суше, все немедленно теряло четкие очертания, твердь под ногами превращалась в зыбучие пески, и любое неверное словосулило гибель. Вездесущие иезуиты, далекий Кольбер, несчастная Франция, таинственные сокровища, прекрасная Аделаида, полуголый индеец с письмом от короля, жидовские хитрости господина Абрабанеля и вонючие тупые пираты — все сплеталось в какой-то змеиный клубок, который хотелось, зажмурившись, отбросить от себя пинком ноги, а потом открыть глаза уже на выдраенной до блеска палубе своего корабля, чтобы паруса надувались ветром, на склянках сверкало солнце, а матросы, дружно запевая песню, тянули канаты. Он еще раз вздохнул и уже было нырнул под полог, как вдруг заметил закутанную в плащ фигурку, почти неразличимую в наступившей темноте. Он галантно придержал кусок ткани, и через секунду довольная Аделаида скользнула внутрь его палатки. Она откинула капюшон и обернулась к нему. При скудном свете походной масляной лампы она была черт знает как хороша. Ее растрепанные волосы черными змеями скользили по плечам, смеющиеся губы обнажали краешки белоснежных зубов, а зеленые глаза-омуты светились торжеством. — Дьявол меня побери, если эта дурочка не притравит сегодня своего папашу, — воскликнула она и протянула Ришери руки для поцелуя. — Когда луна пойдет на убыль, ты заберешь у Веселого Дика карту — настоящуюкарту, а взамен освободишь его и вернешь ему шпагу, — она кивнула в сторону трофейного клинка, который Ришери, знающий толк в оружии, заботливо обернул куском кожи. — И мы будем в расчете! Шевалье вздрогнул и выпустил ее руки. — О чем ты, Аделаида? На секунду повисла неловкая тишина. В лесу пискнула какая-то тварь, и тут же, как по команде, гилея наполнилась воплями, стонами и уханьем. Ни с того ни с сего ему вдруг ужасно захотелось домой, туда, где сонная Луара медленно катит свои воды мимо белокаменных замков, где вьется по стенам зеленый виноград, а по ночам пахнет розами и фиалками. И он подумал, как хорошо было бы, если бы он никогда не знал эту женщину. Или если бы она оказалась совсем другой. Нет, лучше бы никогда не знал. — Не обращай внимания, Франсуа, — вдруг громко сказала мадам Аделаида. — Я сегодня сама не знаю, что делаю. Лучше дай мне вина, да лей побольше. А я расскажу тебе, как я уломала эту дуреху, — она громко рассмеялась и потерла руки, словно озябшая проститутка с Нового моста.* * *
— …Я догадываюсь, что вы французская шпионка, и я не могу вам доверять, — говорила Элейна, вглядываясь в лицо миссис Аделаиды, словно ожидая, что та ее все же опровергнет. — Жизнь — жестокая штука, — отвечала та, улыбаясь. В ее по-кошачьи удлиненных зеленых глазах не было ни удивления, ни сочувствия. — Я бы на вашем месте вообще никому не доверяла — ни вашему отцу, мечтающему повыгоднее сбыть вас с рук, ни вашему жениху Ван Дер Фельду, подсчитывающему барыши с вашего брака. Пожалуй, только тот юноша, англичанин с невинными голубыми глазами, что валяется сейчас под пальмами, пришелся мне по вкусу. Элейн вспыхнула и наклонила голову. — Что вам до него? — тихо проговорила она, пытаясь скрыть смущение. — Ровным счетом никакого дела. Я не питаюсь юнцами и не нуждаюсь в доказательствах своей власти над мужчинами. Я просто искренне сочувствую вашей любви. — Вы — искренне? Не смешите меня, — Элейна подняла голову и снова посмотрела в глаза Аделаиде. — Да ведь и я когда-то любила, моя девочка, хотя тебе это и трудно представить, — Аделаида невесело улыбнулась. — Так зачем вы вызвали меня сюда? — Я договорилась с капитаном Ришери, и его часовые позволят вам поговорить с Уильямом. Вы только должны как-нибудь избавиться от опеки своего папеньки. Когда луна повиснет над вершиной вон той горы, вы подойдете к часовому и скажете ему условленную фразу: «Бог, Закон, Король», и он пропустит вас к пленникам. Если вы услышите звон шпаги, вы немедленно покинете Харта и вернетесь обратно. Это все, что я могу для вас сделать. — Но мой отец… Мы спим с ним в одной палатке, и я не смогу выбраться незамеченной… — Держите, — и госпожа Ванбъерскен вложила в руку Элейны маленький граненый флакон. — Что это? — Это снотворное, совершенно безвредное, я сама использую его от бессонницы. Вы вольете его в питье или ужин, и он спокойно проспит до самого утра. Смотрите только не попадайтесь на глаза индейцу. Это страшный человек. — Но… — Делайте, что я говорю, и вы сможете поговорить с вашим возлюбленным. — Но почему вы помогаете мне? — Мне кажется, из вредности. Мне так надоели коммерческие способности вашего батюшки, что я хочу насолить ему, — молодая женщина тихо рассмеялась и ободряюще пожала Элейне руку. — Ну же, действуйте. Ваше счастье зависит только от вас. Мадам Аделаида накинула на голову капюшон и, закутавшись в плащ, исчезла во мраке. Элейна подняла голову и посмотрела на луну. До заветной вершины было еще очень далеко, и она, сжав в кулачке флакон, вернулась к себе.* * *
Когда Уильям так необдуманно подталкивал Кроуфорда к погоне за людьми, похитившими Амбулена, ему и в голову не могло прийти, что эта затея так плохо для них кончится. Плохо — это еще слишком мягко сказано. Не успели они пройти и двухсот ярдов, как чей-то голос произнес: — Руки вверх, джентльмены! Именем короля Франции. И не думайте сопротивляться. Вы окружены. Кроуфорд схватился за шпагу, которая вновь висела у него на бедре, но через секунду медленно поднял руки. — Сдаемся! — сказал он. Его спутники удивленно переглянулись, но, заметив нацеленные на них дула и выставленные клинки, послушно подняли руки. Силы были слишком неравны. Семеро против… примерно против двух с половиной дюжин отдохнувших, хорошо вооруженных и тренированных солдат французской регулярной армии. Уильям застонал от собственного бессилия. Всегда у него все выходило по-дурацки. Плохо и наивно. Даже в дортуаре над ним смеялись старшие мальчики, потому что он любил читать рыцарские романы и описания путешествий и не любил сыпать в чернила сахар и мазать мелом скамьи в классах. Однажды, когда они бегали наперегонки по заснеженному саду и, играя в войну, бросались снежками, он вдруг совсем поверил, что они с другом действительно в засаде и на самом деле окружены врагом. Теряя голос от мороза и волнения, он кричал своему товарищу: «Беги, беги, я задержу их» — и, загородив собой узкую тропу между сугробами, стал швырять снежки в нападавших. На его глазах кипели слезы, и он, верный оруженосец, был готов умереть, но не пропустить «сарацин» туда, куда мчался его израненный господин король Ричард Львиное Сердце. Его сопротивление было столь яростным, что он и вправду застопорил всю игру, и мальчишки, исполнявшие роли диких арабов, потом сказали ему, постукивая согнутым пальцем по лбу: «Ты что, Вилли, дурак? Это же игра такая!»… Уильям вздохнул и судорожно сглотнул слюну. Снег и голые черные деревья на фоне уныло-серого холодного неба исчезли, а перед глазами его была непроницаемая стена чужого, не знавшего вьюг и морозов леса. Рядом, прижавшись к Уильяму боком и уронив ему голову на плечо, тихонько похрапывал Потрошитель. Слева, прислонившись спинами друг к другу, дремали Боб и Джон. Вечером, перед сном, их, по выражению солдата, «пустили прогуляться», развязав им ноги и руки и надев на шею веревки. Несколько солдат с палашами и пистолетами стояли вокруг, не спуская с них глаз. Так заботливые конюхи гоняют по кругу лошадей. Харту никогда не приходило в голову, что ходить по нужде под прицелом не только неудобно, но и мучительно стыдно. Потом им дали одну миску на всех, в которую повар щедро плеснул какой-то баланды и кинул горсть плесневелых мокрых сухарей. — Ничуть не хуже, чем на баке! — философски заметил Потрошитель, извлекая червяка из сухаря. — Бывало, что и червяки были для нас праздником. — Да и жевать мягче, когда десны пухнут от цинги, — поддержал своего квартирмейстера Боб, сворачивая пальмовый лист в кулек и сливая свою порцию баланды в эту импровизированную посуду. — Я так понимаю, сэр, что вешать нас пока никто не собирается, — заметил Джон и улыбнулся, отчего изуродованная щека его уползла куда-то на ухо. — Ну, Джон, от твоей улыбки и черви попрячутся, — сказал Потрошитель, жуя плесневелый сухарь. — Приятного аппетита, господа, — сказал Уильям и, стараясь не дышать носом, принялся за еду. — Слышь, мусью, а нашего капитана ты видел? — спросил Потрошитель, тщательно подбирая французские слова и хитровато поглядывая на сторожившего их во время ужина солдата. — Это вы того молодца, что валяется сейчас носом в землю, называете капитаном? — спросил часовой и хмыкнул. Судя по всему, ему было ужасно интересно поговорить с «настоящими пиратами», лично против которых он ничего не имел. — Угу, — ответил Потрошитель и улыбнулся, обнажая полный набор зубов. — Его еще допрашивать будут, — чувствуя, что сейчас здесь все от него зависит, снисходительно проговорил солдат. — Знать, ты здесь важная шишка, — уважительно подмигнул ему Потрошитель, а Джон и Боб тут же в унисон затрясли грязными нечесаными головами. — Ты здесь небось как у нас боцман, — продолжал Потрошитель, следя за малейшими изменениями в мимике часового. — Может, ты еще и подскажешь старым морским акулам, чего мы здесь мокнем кверху килем, как старые шлюпки? — Кверху чем? — спросил часовой, и Потрошитель понял, что дело в шляпе. — Задницами, вот чем, — Потрошитель снова ему подмигнул. — A-а, — протянул солдат и гоготнул. — Небось вас тоже допрашивать будут. — Когда я плавал с Черным Билли, — сказал Потрошитель со значением, — мы и не в такие передряги попадали. — Да ну? Ты с самим Билли? Говорят, это он напал на нас в ту ночь. — О, Билли — страшный мерзавец, — с укоризной произнес Потрошитель. — Ты знаешь, что у него на корабле не было даже Библии, а сам он никогда не осеняет себя крестным знамением? — Врешь? — Клянусь покрывалом Пресвятой Девы Марии! — А ты морского дьявола видел? — часовой поудобнее оперся на свой палаш и жадно разглядывал Потрошителя. — А как ты думаешь, кто мне такую клешню из руки сотворил? — Потрошитель почувствовал себя в своей стихии и приготовился к самозабвенному вранью. — Ну, дело на мази, — шепнул Боб Харту и ухмыльнулся. Уильям улыбнулся в ответ. На самом деле он ничего не мог слушать и ни о чем думать. Элейна была в сотне ярдов от него, а он, такой же пират и убийца, как и те, что сидели с ним плечо к плечу, был далек от нее, как никогда. А теперь, пока его спутники храпят, он смотрит, как чужая луна медленно восходит на чужое небо, а чужие звезды слепо смотрят на чужую землю. Не дай Бог никому умереть на чужбине. Да еще прожив такую короткую и бессмысленную жизнь, в которой даже и подвигов-то никаких не было, и счастья не наблюдалось. Ему вспомнилась его первая встреча с Элейной, их первый разговор наедине, вспомнилось, как они встречали закаты на палубе «Медузы», вспомнился ее тихий нежный голос, и он скрипнул зубами от бессильной тоски. Эх, Уильям, Уильям! Зачем ты сбежал в Плимут, зачем забил себе голову романтическими бреднями, зачем влюбился в дочку еврея? Ненавидя себя, он даже пару раз стукнулся затылком о ствол большой пальмы, о которую опиралась его спина. — Уильям, Уильям, проснись! — невесомая ручка схватила его за плечо, и, вздрогнув, Уильям открыл глаза. Над ним, заглядывая ему в лицо огромными фиолетово-черными очами, склонилась Элейна. — Нет, — тихо воскликнул Уильям. — Тебе нельзя здесь быть. Уходи! — он мучительно покраснел, представляя, в каком виде предстает перед своей возлюбленной и какой от него исходит запах. Что может быть страшнее для влюбленного самолюбия, чем обнаружить, что тебе свойственны все те низменные потребности и свойства человеческого тела, о которых в обществе даже и вспоминать неприлично! — О нет, Уильям! Я должна была увидеть тебя! — Но ты не можешь, Элейна, не должна говорить с тем человеком, каким я стал. Дворянина Уильяма Харта больше нет, я превратился в отброс человеческого общества, я потерял свою честь и опозорил свое имя! Я пролил кровь невинных людей и ты не можешь быть рядом со мной! — он говорил это торопливо, сбиваясь, словно боясь, что мужество изменит ему и он, вместо того чтобы сказать правду, начнет врать ей и унизит ее своей ложью. — Я возвращаю тебе твои клятвы и верю, что ты отдашь свое сердце человеку более достойному, чем я. — Нет же, Уильям! — Элейна с силой тряхнула юношу за плечи и попыталась заглянуть ему в глаза. — Неправда! Ты знаешь, что это мой отец и его жадность толкнули тебя на этот путь! Отец служит своей вере и не может ослушаться, иначе его проклянут и ни один иудей, ни ашкенази, ни сефард не осквернят себя общением с ним! Но я — христианка, Уильям! Я верю, что нет такого преступления, такого греха, который не искупил бы наш Бог на Кресте! Разве ты оттолкнул бы меня, если бы волею случая я стала жертвой роковой ошибки или предательства? Разве ты усомнился бы во мне, если бы, плача, я умоляла тебя о прощении? Я люблю тебя, Уильям, люблю больше отца, и в этом единственное мое преступление! Ради того, чтобы говорить с тобой, я совершила ужасное: я подсыпала отцу в ужин снотворное, что дала мне эта страшная женщина. А теперь ты гонишь меня? — Я прошу тебя, Элейна, не мучай меня, — Уильям взглянул в глаза Элейне, и она опустила свои. — Уходи. Ты знаешь, что я полюбил тебя еще там, в Плимуте, когда глупый юнец, размахивая сундуком, взбежал на палубу и увидел прекрасную незнакомку, увидел печальную девушку, которую не могла очернить даже грязь, если бы случайно упала на нее. Элейна, я бы по капле отдал за тебя кровь из своего сердца, я бы скорее умер, отрезав себе руки, чем осквернил бы тебя нечистым прикосновением. Уходи, я умоляю тебя. Пойми, у меня нет сил гнать тебя, и долг борется во мне с любовью! Уходи! — Нет, Уильям, я не уйду. Видно, ты гонишь меня, потому что приключения и золото оказались сильнее твоей любви к еврейке. Что ж, я не виню тебя. Когда бы те самые губы, что сейчас произносят мой приговор, помнили бы, как шептали клятвы любви, они бы не посмели швырнуть мне в лицо это гордое «уходи». Куда мне идти, Уильям? Я предала отца, обманула жениха, подкупила часового, и все для чего? Чтобы ты оттолкнул меня на том основании, что ты меня недостоин? Дай мне хоть что-то решить в своей жизни, или и ты думаешь, что я вещь, которую можно продавать и менять, брать и отшвыривать? Уильям хотел было что-то сказать. Элейна замолчала, но он так и не произнес ни слова, глядя куда-то мимо ее. Ему было больно. Странная боль в груди сдавила сердце, охладила руку и запульсировала в горле. Он хотел вздохнуть, но не смог: боль схватила легкие в ледяные тиски и медленно сжимала их, отнимая воздух. — Но ведь и у меня есть гордость, Уильям. Если ты прогонишь меня, я уйду — как я могу навязывать себя тому, кому я стала в тягость? Но прошу тебя, пожалей меня, свою Элейну. Не убивай нашу любовь. В опущенных глазах Уильяма мелькнули слезы, но он упрямо покачал головой. Боль не давала говорить, но он усилием воли овладел своим онемевшим языком и прошептал: — Я не дам тебе сделать выбор, в котором ты слишком скоро упрекнешь меня. Я нищий пират, и в Англии меня ждет каторга. — Глупец! Моих денег хватит на то, чтобы купить половину английского парламента, а не только вернуть тебе доброе имя! Я богата, Уильям, я страшно, безумно, колоссально богата! Мы уедем. У тебя будет титул, поместье, имя, корабль — все, что ты захочешь. Мы начнем свою жизнь заново! Мое состояние перешло мне от матери — единственной дочери купца из Антверпена, которому принадлежала вся торговля алмазами, рабами и слоновой костью на Берегу Скелетов. Оно независимо, и поэтому отец вынужден считаться со мной! В эту секунду рядом с ними послышался какой-то шорох, они испуганно дернулись и замолчали. Но вокруг снова все было спокойно. Превозмогая боль, иглой впивающуюся ему в сердце, Уильям наконец поднял голову и посмотрел в глаза Элейны, глаза, полные страстной мольбы и любви. Лицо его белело во мраке, на висках и верхней губе выступили мелкие капли пота. Он облизнул пересохшие губы и прошептал: — Глупышка! Неужели ты думаешь, что я смогу уважать себя, спрятавшись под чужим именем, как под одеялом! Моя совесть запятнана: я убивал людей не на войне, не только защищаясь, а ради наживы. Моя мать, слушая, как в Лондоне у позорного столба зачитывают мое имя, небось молила Бога о том, чтобы он помиловал свое неразумное дитя. Мой отец, чьи седины я опозорил, сгорбившись, сидит ныне за столом, не смея и показаться в любимом трактире. Мои братья кровью смывают позор, которым я запятнал нашу фамилию. А я просто возьму и сменю имя… Нет, моя девочка, от себя не убежишь! — Харт усмехнулся и снова попытался облизнуть пересохшим языком потрескавшиеся губы. — Я люблю тебя, и я знаю, что больше никогда никого так не полюблю. И поэтому я отказываюсь от тебя. Негоже пачкать в грязи святыню только потому, что грязен ты сам. — А я не оставлю тебя! — вдруг сказала Элейна и, не обращая никакого внимания на то, что от Харта действительно попахивало, как от козла, а щеки его покрывала щетина длиной в полдюйма, вдруг обняла его за шею и поцеловала в губы. — Молодец девчонка! — громко раздалось у них под боком, и Элейна в ужасе отпрянула от Уильяма. — А я-то прям заслушался, как, бывало, дома, на театре! — сказал Потрошитель и одобрительно цыкнул зубом. Уильям покраснел и неловко дернулся, словно хотел двинуть квартирмейстера под ребра. Элейна ойкнула и испуганно схватила Уильяма за руку. Тупая игла медленно отпускала сердце Уильяма, и, хотя он все еще плохо чувствовал левую часть своего тела, но вдруг переглянулся с Элейной, и молодые люди захохотали, давясь, прыская и тщетно пытаясь соблюсти хоть какую-то тишину. В ту же секунду раздался какой-то шум, и тут же поляну огласил истошный вопль, который сменился отчаянной трелью флейты и барабанным боем. — Сбежа-ал! И-и-и, сбежа-ал! Тревога! — истерично орал кто-то. Заспанные солдаты вскакивали и хватались за оружие. Из палаток высыпали голландцы и французы, часовые стреляли в воздух и размахивали горящими ветками. — Я еще приду, — прошептала Элейна, и в ту же секунду железная рука шевалье схватила ее за плечо.* * *
— О дочь моя, о, моя карта! — горестно вопил Абрабанель, бегая по гудящему, как растревоженный улей, лагерю. Воздух потихоньку начал сереть: приближался рассвет. — И это мое семя, это ветвь от корней моих! — Дорогой Давид, что вы так бегаете? Молоденькие девушки, попадая под дурное влияние, часто поступают безрассудно, — заметил Ван Дер Фельд, тщетно пытаясь поймать своего будущего тестя и удержать его на одном месте. — Но как она могла! Помочь! Этому! Мерзавцу Кроуфорду бежать! — запыхавшись, орал Абрабанель и бил ногой в волосатый ствол кокосовой пальмы. Наверху кокосы угрожающе тряслись и покачивались, а с дерева сыпалась какая-то труха. — Ночью пойти к этим страшным людям и разговаривать с ним, как будто он ее родственник! — Абрабанель, громко застенав, вырвался из рук голландца и снова закружил вокруг их палатки, как птица над разоренным гнездом, не забывая при этом то и дело внимательно вглядываться в лица французов, толпившихся неподалеку вокруг Ришери. — Где она? Где эта гадюка? Это она во всем виновата, эта ведьма! — вдруг завизжал он, осторожно терзая свою манишку и ловко перепрыгивая через разбросанное по земле снаряжение. — Я здесь, месье. Чем обязана? Абрабанель не смог вовремя затормозить и с размаху влетел головой мадам Аделаиде прямо в грудь. Мадам пошатнулась, но выдержала удар. С пальмы с громким стуком один за другим посыпались кокосы, и один из них, расколовшись, обдал сапоги Ван Дер Фельда липким соком. Вежливо отстранившись, Аделаида поправила смятый корсаж и, ослепительно улыбнувшись, двумя пальчиками стряхнула соринку с кафтана коадьютора. — Как я понимаю, мы разыгрываем второй акт замечательной, хотя и несколько подзабытой комедии «Венецианский купец»? Браво! Беру места в партере! — Вы со своим Шекспиром надоели мне еще больше, чем этот треклятый Кроу… — оборвав сам себя, Абрабанель издал шипение, похожее на звук, с которым из плотно закрытой кастрюли вырывается пар: — Тс-с-с… хр-р… к-к… — просипел он и ударил кулаком себя по голове. Все сошлось, все стало на свои места. Шекспир выдал их. — Я не могу согласиться с некоторыми пунктами ваших обвинений, — продолжала женщина, не обращая внимания на банкира и его состояние. — В конце концов, у вашей дочери был хоть какой-то смысл помогать пленникам. Но у меня-то не было никакого! Но Абрабанель ее не слушал. Он вдруг все понял, обо всем догадался, все вспомнил. Ночью, когда снотворное, подсыпанное Элейной, подействовало, к Абрабанелю пришел Малох-Гавумес, Ангел смерти. Он был в белых чулках и черных кюлотах, на его арбе-канфосе *["249]висели спасительные кисти цицит, он был опоясан черным широким шелковым поясом и облачен в длинный черный шелковый кафтан с бархатными обшлагами. Поверх одежды он предусмотрительно накинул белый фартук мясника, а в руке держал острую бритву, которой он пресекает жизнь всех евреев. Лицо его было похоже на лицо могеля из старой синагоги, глубокие морщины сбегали от его носа ко рту, а усталые глаза были мудры и печальны. Там, где он стоял, пропадал свет, и холодом и пустотой веяло от его черной фигуры. — Давид, сын Соломона, — выдохнул Ангел смерти. — Еще немного, и нить твоей жизни оборвется. Язык Абрабанеля словно примерз к гортани, и он лишь затряс головой. Малох-Гавумес вздохнул и порылся в кармане фартука. Отчего-то Абрабанелю показалось, что на белоснежном льне явственно проступают алые пятна крови. Вдруг сами собой появились и зажглись серебряные шандалы, а над головой посланника засияло семь священных огней. Откуда-то прилетел ветер и зашевелил на лбу банкира седые волосы. Ангел смерти вынул из фартука кусок мятой пожелтевшей бумаги, и тут Абрабанель увидел, что вместо рук у Ангела цепкие птичьи лапы с длинными загнутыми когтями. — Смотри, Давид, будь осторожен. Не торопи то время, когда придется тебе приложиться к отцам твоим, — Малох жестом раби развернул бумагу и зашевелил бескровными восковыми губами. Он что-то еще говорил, но уши Абрабанеля словно кто-то воском заткнул, и оттого он совсем не слышал, что говорит ему вестник. Набравшись смелости, он вскричал: — О Малох-Гавумес, разве настало тебе время вскрыть мою жилу и произнести форму заклания? И что ты читаешь в той бумаге? Но Ангел с острой стальной бритвой в когтях лишь покачал головой, тая во мгле, а в мозгу банкира отчетливо прозвучало: «Взвешен…»Очнувшись, банкир обнаружил, что держится за сердце, а мерзкая воровка стоит напротив как ни в чем не бывало и что-то ему говорит. Она говорила бы и дальше, но Абрабанель махнул на нее левой рукой. — …Никакого, — сказала женщина. — Никакого???!!! — отдышавшись, банкир завопил так, что кони шарахнулись и испуганно заржали. Господин Абрабанель снова схватился за сердце и прислонился к пальме. Миледи вдруг все поняла, как понял и он, и поистине дьявольская усмешка заплясала на ее розовых безупречных губах. — Карта, где карта, скверная вы женщина?! — изнемогая, прохрипел банкир. — У меня в корсаже, месье, — Лукреция рассмеялась и двумя белыми пальчиками вытащила кусок мятой, пожелтевшей от старости шелковой бумаги. На миг Абрабанелю показалось, что вместо ногтей ее пальцы заканчиваются острыми птичьими когтями.
Глава 9 Тот, кто танцует, чтобы стать богом
Карибское море. Эспаньола
Только когда Черный Билли привязал его к мачте горящего корабля и оставил на милость фортуны, Кроуфорд чувствовал себя столь же отвратительно. Думая о Лукреции, он бежал наугад, не заметив ни того, что оказался на берегу речушки, ни того, что на остров надвигается очередной шторм. Через мгновение стена дождя низверглась с небес и затянула все сплошной серой пеленой, в которой не было никакой возможности различить даже собственную руку. Вода в реке будто закипела и стала на глазах подниматься. Кроуфорд вцепился в лианы, подтянулся и ввалился в прибрежные заросли, которые сейчас мало отличались от русла реки — так много в них было воды. Поскальзываясь и хватаясь за шатающиеся деревца, он было бросился прочь от берега, но вскоре понял, что прорваться сквозь гудящую стену дождя ему не удастся. Вздувшаяся речонка будто преследовала его по пятам, захлестывая волнами по пояс. Несмотря на свою выносливость, Кроуфорд был вынужден отдаться на милость ревущему потоку, увлекающему его за собой, как щепку, и лишь старался нащупать рядом в воде что-нибудь, за что можно было бы ухватиться: вглядываться в наступившую тьму египетскую все равно не имело смысла. Зажав в зубах кинжал, подаренный ему Лукрецией, и пытаясь не потерять шпагу, Кроуфорд барахтался в реке, даже не пытаясь плыть: сила течения в любом случае свела бы на нет все его усилия. Он лишь изредка молотил руками по воде или шарил ими вокруг себя, надеясь, что Господь пошлет ему какой-нибудь вырванный с корнем ствол или ветку дерева в качестве опоры. Спустя какое-то время, наглотавшись мутной серой жижи, смешанной с древесной трухой, листьями и прочим мусором, и тщетно пытаясь обрести какую-либо опору, Кроуфорд почувствовал, что устает. Спасительное бревно упорно не желало проплывать мимо него. Ноги начинала сводить судорогой. Напитавшись дождем, река переполнила берега, заливая окаймляющие ее мангровые заросли. Кроуфорд, увлекаемый течением, уже несколько раз рисковал запутаться в переплетенных корнях и лианах и захлебнуться. Разрубить их было нечем, поскольку нож Кроуфорд берег и не стал пускать в дело, опасаясь остаться вообще без оружия. «Теперь бы я тысячу миль моря отдал за сажень бесплодной земли, с вереском, с темным дроком, с чем угодно. Воля неба да совершится, но хотелось бы мне умереть сухой смертью», — подумал Кроуфорд. Волны то и дело захлестывали его с головой, ливень не утихал. В очередной раз застряв между корнями и лианами, Кроуфорд в отчаянии воздел руки кверху и неожиданно нащупал над головой крепкий сук какого-то дерева. Судорожно перебирая ногами, он попробовал ухватиться за ветки, пока его не унесло течением. На его счастье, в этот момент под пятку подвернулась то ли коряга, то ли клубок лиан. Оттолкнувшись от нее и вцепившись в сук, Кроуфорд с трудом подтянул уже немеющее тело вверх, повис на руках и после нескольких попыток взобрался на дерево. Дождь по-прежнему лил, река продолжала бурлить, сметая все на своем пути, и Кроуфорд почувствовал, что совершенно выбился из сил. Он выбрал развилку между двумя крепкими сучьями, устроился поудобнее, обхватил себя руками и замер, наклонив голову. Бесконечный водопад обрушивался на него сверху. Он потерял чувство реальности. Время будто остановилось. Очнулся Кроуфорд от удара о землю, точнее, о корни и стебли, переплетшиеся в сплошной ковер под деревом, послужившим его спасению. Дождь перестал, но солнечные лучи не могли пробиться сквозь нависшие густые тучи. Кругом виднелись большие лужи желтоватой воды, похожие на мутные, грязные пруды. Из размытой почвы поднимались горячие испарения и насыщали воздух нездоровой сыростью, так что лес вокруг представлял собою сплошное болото. Грязь в значительной степени смягчила удар: упади Кроуфорд на землю, он бы непременно расшибся. Предположив, что в воде могут шнырять змеи, сэр Фрэнсис поднялся и продолжил свой путь, то и дело спотыкаясь и шлепаясь на четвереньки. Так, поднимаясь и падая, падая и поднимаясь, он брел довольно долго, но, как далеко ушел от реки, не знал. Ливень полностью изменил окружающую местность. Он даже не мог понять, движется ли параллельно руслу реки или, наоборот, удаляется от нее, приближаясь к скалам, ограничивающим ущелье.Сон на ветвях деревьев немного восстановил его силы, но теперь Кроуфорду отчаянно захотелось есть. Как назло, никаких деревьев со съедобными плодами вокруг не было видно. Он стал внимательно оглядываться по сторонам в поисках кокосовой пальмы, манго или чего-нибудь в этом роде, и наконец ему показалось, что впереди виднеется нечто подходящее. Правда, чтобы подобраться к вожделенному дереву, необходимо было пролезть сквозь очередные заросли. Ругаясь на чем свет стоит, Кроуфорд прорубил себе путь кинжалом и опять оказался на берегу речонки. Была ли это та самая река, в которой он едва не утонул несколько часов назад, или ее приток, но, во всяком случае, во время ливня она тоже вздулась и сейчас нехотя возвращалась в свои берега. У самой кромки бурлящей воды к большому дереву был привязан высокий человек. Плечи его были опущены, руки безжизненно обвисли вдоль худого, морщинистого тела густо-шоколадного цвета, голова свесилась набок. Мелко вьющиеся волосы на макушке были абсолютно седыми, что придавало лицу одухотворенное и вместе с тем жалкое выражение. С первого взгляда не удавалось определить, жив ли еще этот старик. Сейчас вода доходила несчастному до пояса, но можно было предположить, что несколько часов назад его захлестывало с головой. Кроуфорд зашел в реку и приблизился к негру. Тот вдруг открыл глаза и, заметив белого человека, метнул на него испепеляющий, полный ненависти взгляд. Бедняга напряг все силы, словно пытаясь освободиться, с шумом набрал воздуху в легкие, собрался было произнести какое-нибудь страшное ругательство, но неожиданно снова обмяк, и глаза его потухли. Кроуфорд разрезал веревки и, подхватив негра, осторожно вынес его на берег. Повеселившись наивной идее найти место посуше, он положил старика на спину прямо на сорванные бурей мокрые листья, устилавшие землю и блестевшие после дождя, как антрацит. Затем он приложил указательный и средний пальцы к яремной вене почти не дышавшего негра и вытянул тому руки вдоль тела, отметив про себя, что на ощупь кожа африканца была немного плотнее, чем его собственная, а ладони хоть и огрубели, как кора старого дуба, но были при этом розовые, как пятки у кота. Удивившись тому, откуда в его мыслях возникли коты, сэр Фрэнсис сцепил пальцы в замок и пружинистым движением обеих ладоней несколько раз надавил негру на грудь. Внимательно оглядев своего страшного пациента, он немедленно повернул его на бок. Тут же изо рта негра извергнулся целый фонтан грязной воды и слизи, под веками сверкнули белки глаз, и он захрипел. Кроуфорд удовлетворенно улыбнулся краешками рта и со вкусом влепил негру несколько звонких пощечин. Тот дернулся и застонал. Это был тощий старик с мудрым и хитрым взглядом, среди белых людей часто встречающимся у дельцов и политиков, а среди туземцев — у знахарей и колдунов. На его узком лице с глубокими носогубными складками, удлиненным лбом и толстыми обвислыми губами застыло выражение бесконечной усталости. С минуту негр, не мигая, с враждебностью и отвращением смотрел на своего спасителя, после чего произнес на ломаном английском: — Дух возвращаться в нгомбо *["250]. Злой дух уходить в лес от нгомбо. Дух воды уходить в небо, добрый дух возвращаться и нгомбо оживать. Белый масса приходить за дух нгомбо, но злой дух убегать в лес и нгомбо оживать. Белый масса не может ничего сделать нгомбо, иначе злой дух возвращаться из лес и нападать на белый масса. — Слушай, ты, двоюродный племянник Калибана, — сердито начал Кроуфорд, у которого от голода в желудке урчало так, будто Пёрселл *["251]настраивал орган Вестминстерского аббатства. — То, что к этому дереву тебя привязали белые люди, совсем не значит, будто я намереваюсь проделать то же самое. Напротив, как ты, может быть, успел заметить, я освободил тебя от печальной необходимости захлебнуться или помереть с голоду. Старик, похоже, постепенно начал что-то осознавать. — Белый масса не убивать нгомбо? — все еще с подозрением переспросил он. — Белый масса прийти к нгомбо за дело? — Ты начинаешь делать успехи, — ядовито заметил Кроуфорд, который никак не мог решить, как ему поступить с неожиданным знакомцем: взять с собой или оставить тут, и пусть убирается ко всем чертям самостоятельно. — Я не намерен тебя убивать. Напротив, если ты заметил, я даже немного тебя спас. Только в одном ты ошибся: никакого дела мне до тебя нет. — У белый масса нет дело к нгомбо? Белый масса не хотеть говорить с духами через нгомбо? — еще больше удивился негр. — А зачем белый масса пришел? — Белый масса просто идти мимо, — брякнул Кроуфорд, не замечая, что сам начинает разговаривать корявыми негритянскими фразами. — Увидеть, что нгомбо умирать, и спасать его. Понял, Сикораксин сородич? — Нгомбо понял, — кивнул чернокожий. — Белый масса отвязать нгомбо и возвращать в него дух. Масса есть белый нгомбо?! Кроуфорд, которому было показалось, что он начинает что-то понимать в этой галиматье, вновь опешил и даже растерялся: — Нгомбо — это ведь твое имя? — уточнил он. — Я — великий нгомбо! — подтвердил старик, постучав кулаком по своей тощей груди. — А мое имя — Кроуфорд, — облегченно вздыхая и тоже указывая на себя, сказал Кроуфорд. — Добрый белый масса есть в опасности! — предостерегающе подняв руку, веско заявил негр. — Другие белые возвращаться и насылать на добрый белый масса того духа, который войти в нгомбо, изгонять духа нгомбо, наружу и изгонять духа воды, и убивать нгомбо. — Они не вернутся, — сказал Кроуфорд. — И никто не сможет меня убить. — Белый масса Кройфорд не боится злого духа? — Нет, я его загнал во-он на ту пальму, — неожиданно развеселившись, ответил Кроуфорд, для убедительности тыча кинжалом в сторону зарослей. — Белый масса умеет обращаться с духами белых и негров? — почтительно и даже с опаской переспросил старик. — Белый масса прогонять злого духа в лес и злой дух убегать от него? — Во все лопатки, — кивнул Кроуфорд, искренне понадеявшись, что чернокожий незнаком с такими идиоматическими языковыми тонкостями. — Добрый белый масса Кройфорд есть великий белый нгомбо! — расширив глаза от страха и уважения, медленно произнес старый негр. — Масса Кройфорд изгонять злой дух, возвращать дух нгомбо, и нгомбо оживать! Нгомбо очень благодарен белый масса! Нгомбо помогать белый масса! Нгомбо ходить с белый масса! — Интересно, куда это ты собрался со мной идти? — Нгомбо идти, куда пожелает белый масса Кройфорд. Нгомбо благодарен белый масса, нгомбо любить белый масса! — Ты что ж, готов служить, прикажешь ли лететь, иль плыть, иль броситься в огонь, иль мчаться на облаках курчавых? — произнес Кроуфорд, с тоской подумав, что его собеседник не способен оценить возвышенный слог директора «Глобуса». — Нгомбо должен помогать добрый масса, чтобы масса не наслал злого духа с пальмы, чтобы нгомбо умирать. — Час от часу не легче! — окончательно запутавшись, Кроуфорд шумно вздохнул, словно старался заглушить репетицию духового оркестра в собственной утробе, и медленно спросил: — Что есть нгомбо? — Нгомбо есть великий хозяин духов, — гордо ответил старик. — Нгомбо приказывать духам, духи слушать нгомбо. Нгомбо делать фетиши, нгомбо лечить негры и делать дождь. Нгомбо, какой только говорить с добрые духи, делать дождь и лечить люди, есть унган. Чужой нгомбо говорить злые духи и насылать их на люди, и злые духи входить в люди и делать живых мертвых — есть бокор. Нгомбо есть тот, кто танцевать… Нгомбо танцевать, чтобы стать бог… — Ты танцуешь, чтобы стать богом? — переспросил Кроуфорд, наконец сообразив, кто перед ним. Он знал, что, принеся в колонии христианство, европейские миссионеры, разумеется, не смогли полностью уничтожить языческие культы, процветавшие на островах. Хотя они почти полностью истребили индейские верования вместе с теми, кто эти верования исповедовал, однако многочисленные африканские рабы, тоже силой обращенные здесь в католичество, образовали фантастическую и весьма зловещую религию, представляющую собой невообразимое сочетание абсолютно несочетаемых вещей. В ее основу была положена жестокая первобытная магия негритянских племен Центральной и Западной Африки, причудливо приправленная отдельными элементами христианских верований, впрочем понятых на дикарский лад. Право же, стоило уничтожать индейцев с их кровожадным культом, от которого вставали дыбом волосы даже у видавших виды и не знающих жалости испанских конкистадоров, чтобы получить взамен такую страшную смесь языческих воззрений с католичеством. «Католик приходит в храм, чтобы говорить о Боге, а негр вуду танцует, чтобы стать богом», говорят об этой страшной религии. — Значит, ты вуду? — еще раз уточнил Кроуфорд. — Да! — гордо заявил негр, хлопая себя по груди. — Нгомбо есть вуду, нгомбо танцевать быть богом! Добрый масса Кройфорд тоже нгомбо! Белый нгомбо есть унган? — Нет! — Кроуфорд так энергично замотал головой, что из его шевелюры в разные стороны полетели листья и древесная труха. — Белый масса не есть нгомбо, не есть унган, не есть бокор. Белый масса есть моряк… есть солдат… Тьфу, пропасть, привязалось! Нет, старик, я не нгомбо, я не колдун. Изумлению негра не было предела. — Масса Кройфорд лгать! — решительно отрезал он. — Масса загонять злой дух на пальму, масса есть белый нгомбо! Тут Кроуфорд задумался: едва ли чернокожий, верящий в существование духов гораздо сильнее, чем правоверный гугенот — в предопределение своей незавидной участи, смог бы оценить его шутку. Еще, чего доброго, обвинит в кощунстве над своей ужасной религией! Но отрицать факт перемещения злого духа из негра на вершину пальмы теперь тоже нельзя. Значит, необходимо найти объяснение, одновременно доступное сознанию туземца, не противоречащее его представлениям о мире и по возможности не слишком расходящееся с христианским вероучением. Проведя на островах треть жизни, Кроуфорд имел многократную возможность убедиться в реальности духов, которых боятся, почитают, насылают и изгоняют друг из друга индейцы и черные рабы. Он нисколько не сомневался в их существовании, но, будучи христианином, трезво оценивал их происхождение. Абсолютно все духи, как «добрые», так и «злые», к которым обращались в своих нуждах туземцы, были не что иное, как «духи злобы поднебесные», служители преисподней, сам сатана и аггелы его… В то же время Кроуфорд знал, что большинство дикарей, пусть в самом извращенном и исковерканном виде, все-таки сохранило веру и представления о Едином Истинном Боге-Творце. Однако завоевания, проводимые европейцами, работорговля и насильственное обращение в христианство целых племен породили у туземцев уверенность, что Единый Верховный Бог белых пришельцев относится к этим последним намного лучше и внимательнее, чем к черно- и краснокожим. Поэтому Кроуфорда посетила блестящая идея. — Послушай! Верховный Бог белых людей, Великий белый Бог послал меня, чтобы я тебя спас. Злой дух, который приблизился к тебе, скрылся, когда увидел, что я иду сюда, — Верховный Бог намного сильнее всех людей и всех духов, и поэтому духи боятся Его и тех, кого Он посылает, понимаешь? — Нгомбо понимает, что злой дух испугался добрый белый масса. А зачем Бог белых людей послал белый масса к нгомбо? Разве Великий белый Бог знает негров? Разве у Великий белый Бог есть время думать о черных людях? — Есть, — заверил старика Кроуфорд. — Великий белый Бог — Отец и создатель всех людей и всех духов, поэтому Он их всех знает. — А почему Великий белый Бог не приходить сам к нгомбо, а послать масса Кройфорд? А, знаю, знаю: Великий Бог лучше знать белый масса, чем черный человек, и Он легче просить белый масса? Кроуфорд кивнул: — А еще Великий белый Бог бывает очень доволен, если люди — неважно, черные, или белые, или все вместе — сами заботятся друг о друге и помогают друг другу. Поэтому Он послал меня помочь тебе, понимаешь? — Нгомбо понимать. А Великий белый Бог будет доволен, если нгомбо теперь помогать белый масса? — Думаю, Он будет очень доволен. Особенно если нгомбо помогать поскорее найти белый масса поесть! — Нгомбо поведет белый масса к черным, там для белый масса найдется много-много ямс, и кокосы, и дикая курица, и много-много масла, — заявил на это колдун. — Негры уходить в лес от хозяев, которые такие, как злые духи, и какие надо наказать. Они мучить негры и заставлять делать то, что у негра нет сил сделать. Негры уходить от них в лес, чтобы жить в лес. Нгомбо спасать много людей, которые уходить от хозяев. За это белые хозяева разгневаться на нгомбо, поймать его, и призвать злой дух и дух воды, и мучить нгомбо у дерева. Злой дух мучить нгомбо, пока не приходить добрый масса Кройфорд и не спасать нгомбо. — Что? Что ты говоришь? В лесу живут беглые рабы? Мароны? — Да, масса. — Их много? — Не так много, как волосы на голове, масса Кройфорд. Но их много, они живут прямо в лес, а нгомбо помогать им уходить от хозяев и помогать им общаться с духи: лечить негры, делать дождь и наказывать злой хозяин, посылать злой дух на хозяин, какой мучить свои негры, бить их и принуждать делать, что негр не хотеть и не мочь делать. — У них есть оружие? — спросил Кроуфорд и видя, что старый колдун не понимает, уточнил: — Ну, стрелы, ружья, копья, сабли? — Ружья нет, черные не иметь ружья, в ружье жить страшный дух, сильный дух, какой слушается только белый человек. Черные иметь стрелы, намочить их в воде дерева и стрелять. Если стрелять в человека мокрая стрела, человек умирать, потому что его дух уходить далеко: дух человека не любить мокрая стрела. Кроуфорд подумал, что негр говорит об отравленных стрелах, и удовлетворенно хмыкнул. — Масса хотеть наказать своих врагов? Масса насылать на враги злой дух и убивать? — Не совсем. Я хочу спасти моих друзей, которых захватили враги, понимаешь? Мне нужно напасть на врагов и освободить моих друзей. — Масса хотеть сам нападать на враги? Не духи нападать, а масса Кройфорд нападать на враги? Нгомбо не понимает. Нгомбо хотеть послать злой дух на враги массы Кройфорд, враги бежать от злой дух и отпускать друзья белого масса. — Боюсь, мои враги не очень-то верят в духов, — пробормотал Кроуфорд, на ходу обдумывая план освобождения Харта и остальных. — Не говорить так, масса! Духи разгневаться! Белый человек не всегда верить в духа, пока не видеть духа собственными глазами. Нгомбо показать белым врагам массы Кройфорд злые духи и показать человек делать себя ягуар. Нгомбо вызывать духи и оживлятьчеловек, какой покинул его дух, и насылать на враг масса Кройфорд! — решительно заявил старый негр. — Духи пугать и наказывать враги масса и освобождать его друзья! — Это замечательная идея, — на всякий случай промямлил Кроуфорд, чтобы не спорить с колдуном. — Но белый масса любит сам нападать на своих врагов вместе с другими людьми. Например, с такими, у которых есть моченые стрелы. Понятно? Скажи, как много в лесу людей, убежавших от злых хозяев? — Много, — поспешно ответил старик. — Так много, как рабов на плантации. А зачем масса Кройфорд хотеть люди со стрелами, моченными в деревянной воде? Если масса Кройфорд нужен солдаты победить его враги, нгомбо сделает столько солдат, сколько хотеть масса. Нгомбо быть страшный бокор, сильный бокор, но не для белый масса Кройфорд и его друзья, а только для его враги. — Что ты говоришь, Калибаново отродье?! — Нгомбо делать хороший мертвый солдат. Из мертвый человек, мертвый негр, мертвый белый, как скажет масса. Мертвый солдат — хороший солдат, он не просить есть, не просить отдыхать, он мучить и убивать враг и потом уходить под землю. Нгомбо великий, нгомбо делать мертвый солдат ходить и убивать, когда вдова Мбуки просить наказать хозяина, убившего Мбуки… Нгомбо делать живой на мертвый негр, мертвый человек и отправлять их на враги масса Кройфорд. Нгомбо танцевать, и мертвый оживать, нгомбо насылать его на враги и заставлять делать, что хочет нгомбо. Кроуфорд знал — к счастью, в основном понаслышке — о чудовищных обрядах оживления мертвецов, характерных для дикарской религии. Иногда мертвое тело клали у ритуального костра и под мерные удары барабанов, сопровождаемые дикими плясками соплеменников, колдун ложился сверху трупа, накрывая его туловище собой, и начинал вдувать ему в рот воздух своим ртом. По поверью, после некоторого времени мертвец должен был начать двигаться, дергая то одним, то другим членом тела. Оживляющий в таких случаях был обязан в точности повторять рывки и конвульсии оживляемого, как бы будучи к нему приклеен, — до тех пор, пока покойник не становился на ноги и не «оживал» окончательно. Этот феномен следовало понимать в том смысле, что через вдыхание воздуха в рот умершему колдун передавал ему часть своей жизненной энергии. Затем, управляя этой энергией, нгомбо мог заставить ожившего мертвеца делать все, что необходимо. При этом тело такого несчастного продолжало разлагаться, как обыкновенный труп, вскоре становясь совершенно непригодным для проведения магических экспериментов. Иное объяснение таинственного влияния мага на оживленного им мертвеца буквально согласуется с верой туземцев в личного духа каждого человека. По их мнению, колдун обладает способностью чувствовать даже слабую связь между материальной оболочкой человека и его душой, которая будто бы сохраняется некоторое время после кончины. И не только чувствовать, но и укреплять эту связь, объединяя душу и тело заново. Наконец, третье толкование заключалось в том, что предназначенному на роль жертвы предлагали выпить зелье, которое затем странным образом заставляло его превратиться в живого мертвеца. Такой бедолага не помнил ничего из того, что с ним приключилось ранее, хотя внешне разум его казался незамутненным. В действительности его сознание подчинялось колдуну, совершившему обряд, жизненные же процессы в теле как бы замирали. Человеку, подвергнувшемуся такому эксперименту, не хотелось и даже не приходило в голову ни есть, ни пить, ни испражняться. И уж конечно он не задумывался над этической стороной тех поступков, которые диктовал ему нгомбо, — а это чаще всего были убийства неугодных людей. Хотя… о какой этике можно говорить применительно к дикарям, воспринимающим как нечто естественное и человеческие жертвоприношения, и самые жуткие виды колдовства… Да и не были ли до известной степени правы европейские миссионеры, когда, отчаявшись донести до сознания туземцев образ Бога Любви, сочли за благо истребить кровожадных неофитов?.. Однако принимать решение следовало незамедлительно. Кроуфорд чувствовал: он уже узнал о старом вуду столько, что подобру-поздорову тот его не отпустит. Следовало принять правила игры, предложенные колдуном, с тем хотя бы, чтобы впоследствии постараться направить их в нужное русло. — Хорошо, старик, — после небольших раздумий согласился Кроуфорд.
* * *
Лагерь беглых рабов, или маронов, был так хорошо скрыт в самом сердце непролазных лесов, что никаких следов его заметить было невозможно, даже проходя мимо в непосредственной близости от него. Впрочем, в такую глушь все равно никто не решался сунуться. Негры встретили своего колдуна бурными криками радости. Старик что-то пробормотал им на своем языке, и восторг чернокожих немедленно обратился на Кроуфорда. Они усадили его на почетное место поближе к огню, сняли с вертела дымящееся жаркое и положили к его ногам, откуда-то притащили целую гору плодов и фруктов, причем названий некоторых из них не знал даже видавший виды Кроуфорд. В том состоянии, в котором пребывали в этот момент беглые рабы, их нетрудно было побудить к нападению на лагерь французов. За спасителем своего нгомбо чернокожие пошли бы сейчас в огонь и в воду. Кроме того, среди них нашлись прекрасные проводники, не только знающие все глухие тропинки в чаще, но и заметившие, где именно пару дней назад разбили лагерь белые люди… В том, что это экспедиция Лукреции и Ришери, сомнений не было, поскольку в описании лазутчиков фигурировали две «очень красивый белый мисс». Разумеется, без помощи этих юрких, пронырливых и озлобленных на своих плантаторов «детей природы» план спасения Харта и остальных становился предприятием, едва не обреченным заранее на провал. Купание в бушующем потоке лишило всяких ориентиров в джунглях. Теперь же, размышляя над необыкновенно удачным стечением обстоятельств, Кроуфорд был готов поверить, что «Великий Бог белых людей» и в самом деле слышит его и благосклонен к нему, как никогда. Однако, решив, что успеет стать ханжой к старости, если доживет до нее, и отобрав три дюжины наиболее крепких и рослых негров, вооруженных бамбуковыми трубками с большим запасом отравленных колючек, Кроуфорд в надвигающихся сумерках выступил в сторону, где мирно спал предполагаемый противник. Колдун вуду отправился вместе с ними. Как от воина от него, конечно, не было никакого толку, но старик твердил, что может быть полезен отряду если не в бою, то впоследствии, когда, завладев пучком волос или клочками одежды врагов, он сумеет наслать на них чудовищные болезни и даже смерть при помощи ведовства. Кроуфорд же полагал, что нгомбо рассчитывает поживиться частями тела убитых белых, чтобы изготовить из них амулеты. Чернокожие верят, что с помощью амулета можно оказывать различное воздействие не только на окружающих людей, но и на силы природы. Чем большую ценность имеет предмет, из которого изготовлен амулет, тем большей силой будет обладать магическое орудие. Поэтому для их создания вуду охотнее всего используют части человеческого тела: обладая, по мнению дикарей, всеми свойствами живых людей, такие орудия могут сообщать новому хозяину громадное могущество и силу. Именно поэтому высоко ценятся глаза, куски сердца, желчный пузырь белого человека — чтобы добыть их, туземцы нередко разрывают свежие могилы. Кроуфорд не препятствовал старому нгомбо в его желании сопровождать отряд. Пока они шли к лагерю французов, окончательно стемнело. Лунный свет почти не проникал в густые заросли, а пышный ковер растительности заглушал шаги. Привычка же скрываться от жестоких хозяев приучила беглых рабов передвигаться по лесным тропам практически бесшумно. Отдав неграм приказ затаиться, Кроуфорд сам отправился в разведку, поскольку никто другой не мог бы оценить обстановку в стане противника. В его планы входила лишь организация побега Уильяма, капитана Ивлина, Потрошителя и пиратов. Вступать в открытую схватку с людьми Ришери не имело ни малейшего смысла. Кроме того — и в этом Кроуфорд менее всего хотел себе признаться, — его сердце трепетало при мысли, что в бою могла пострадать Лукреция… Поэтому он старательно уговаривал себя, что не хочет подвергать опасности крошку Элейну: уж точно Харт не простил бы ее гибели или увечья!* * *
Лагерь французов был со всех сторон окружен кострами. Может быть, диких зверей они бы и остановили, однако ловкому человеку были лишь на руку. Яркие огни были рассеяны достаточно далеко друг от друга, для того чтобы можно было подкрасться незамеченным почти вплотную: нужно было лишь проскользнуть между двумя кострами… Извиваясь ужом, Кроуфорд почти вполз на территорию стана и в нескольких ярдах от себя увидел палатку, вокруг которой прохаживались часовые с пистолетами. Несомненно, в ней держали пленников. Мгновение поразмыслив, не стоит ли, в самом деле, поставить Богу свечку за то, что Он надоумил Ришери столь неосмотрительно поместить заключенных так близко к лесу, Кроуфорд снова огляделся. Поодаль, ближе к центру бивака, горел еще один большой костер, возле которого расположилось десятка полтора солдат. Некоторые из них лежали у огня и, возможно, спали, другие курили трубки, болтали или глодали жаркое. По территории было разбросано несколько палаток: в них располагались главные участники экспедиции. С той точки, откуда наблюдал Кроуфорд, не удавалось ни различить, есть ли свет внутри палатки, ни услышать человеческие голоса. Впрочем, учитывая поздний час, можно было надеяться, что обитатели лагеря видят третий сон. Совсем вдалеке виднелись в отблесках костров двое или трое караульных: вероятно, они обходили весь лагерь по периметру, а потом начинали сначала. Но в настоящий момент они оказались дальше всего от Кроуфорда. Медлить было нельзя. Снова нырнув в чащу, он метнулся к размещенному в засаде отряду. Оставив при себе четырех наиболее метких стрелков вместе со старым нгомбо, Кроуфорд приказал неграм бесшумно окружить лагерь, но стрелять лишь в самом крайнем случае, ни в коем случае не обнаруживая себя. Впрочем, не слишком надеясь, что чернокожие послушаются его беспрекословно, он потребовал от колдуна припугнуть своих соплеменников какой-нибудь вудуистской карой. К его удивлению, старик охотно согласился. Выждав время, необходимое, по его мнению, для того, чтобы, прячась в зарослях, негры плотным кольцом окружили лагерь, Кроуфорд в сопровождении стрелков и старика снова подкрался к палатке, в которой, как он надеялся, спали его друзья. Караульных было четверо — точно по числу негров-стрелков, — и уже через мгновение все они рухнули мертвыми. Нгомбо, зажав в кулаке нож, кинулся к ближайшему солдату с явным намерением освежевать его и наделать фетишей из его скальпа. Четверо негров вознамерились было сделать то же самое, но были остановлены тихим гортанным окриком колдуна и замерли на месте. Кроуфорд, стараясь не шуметь, подхватил пистолеты троих караульных (четвертый упал с противоположной стороны от палатки, и, чтобы подползти к нему, необходимо было выйти на свет костра) и широким взмахом разрезал полотно от крыши до земли. Нырнув во тьму палатки, он немедленно споткнулся о спящего человека. Пират Джон был так глубоко погружен в объятия Морфея, что не проснулся, даже когда Кроуфорд наступил ему на руку. Ближе к выходу из палатки раздавался мерный храп капитана Ивлина, у ног которого посапывали Боб и Потрошитель. Только Уильям, чьи нервы были до предела напряжены от переживаний последних дней и, главное, от недосягаемой близости любимой девушки, моментально очнулся, услышав слабый треск разрываемой ткани. — Сэр Фрэнсис! — воскликнул было Харт шепотом, но Кроуфорд метнул на него такой зверский взгляд, что юноша подавился словами, как Робин Бобин — восьмым куском пирога. Молниеносно разрезав путы на ногах и руках Уильяма, Кроуфорд приложил палец к губам и осторожно подполз к пологу. Приподняв его, он дотянулся до лежащего у выхода из палатки мертвого часового и втащил его внутрь. Затем то же самое Кроуфорд проделал с ружьем караульного. Пока Харт, затаив дыхание, пытался разбудить Ивлина и пиратов, Кроуфорд обшарил карманы солдата и вооружился еще одним кинжалом. Вместе с Уильямом они освободили товарищей и собрались было покинуть палатку, как вдруг Харт шепотом обратился к Кроуфорду: — Сэр Фрэнсис! Дозвольте мне на минуту отлучиться… — Что еще? Заспанные глаза Уильяма с такой горячей мольбой смотрели на него из темноты, что Кроуфорд без труда угадал причину просьбы: — Уж не хотите ли вы похитить прекрасную Элейну из-под носа ее жениха и папеньки? Услышав в голосе друга насмешку, Уильям сник: — Нет, то есть да, то есть… дозвольте мне хотя бы попрощаться с ней!.. Вы не дали мне такой возможности, когда… — И теперь не дам, — решительно отрезал Кроуфорд. — Вы же не собираетесь подвергнуть любимую женщину многочисленным опасностям, которые поджидают нас, если мы выберемся отсюда? — Не говоря уже о том, какой опасности подверглись бы мы сами, будь с нами мадемуазель Элейна: ее папаша пустил бы по нашему следу всех собак! — вдруг раздался из дальнего угла чей-то шепот. — Это не по-товарищески — ставить в подобное положение своих друзей! — Уж вам-то, сударь, никак не пристало болтать о товариществе, — сердито проворчал Кроуфорд, заметив в темноте еще одну торчащую голову. В суматохе последних дней он решительно забыл о существовании Амбулена. Тот почему-то лежал вповалку с остальными в дальнем углу, был так же крепко связан и, несомненно, проснулся от шума. Следовало бы, впрочем, предположить, что француз не спал по причине нечистой совести, но сам Робер ни за что не согласился бы с таким утверждением. Амбулен попытался что-то сказать, но Уильям поспешил приложить палец к губам и принялся энергично освобождать его от пут. — Стойте, Харт! — решительным шепотом прорычал Кроуфорд. — Оставьте господина доктора! Его французская физиономия будит во мне слишком большие подозрения… — Но, Кроуфорд… — Молчать! Решения здесь принимаю я!.. Он не договорил. В дыру просунулась голова старого нгомбо. — Белые люди идти сюда, масса! — с тревогой зашептал он. — Проклятье! Скорее уходим! — выпихивая из шатра одного за другим пиратов и капитана Ивлина, отозвался Кроуфорд. — Черт с вами и с вашим французом, Уильям, хватайте его за шиворот и быстрее за мной! Живее! Живее! Выбравшись наружу, они услышали шум, доносившийся от центрального костра. Солдаты, вероятно, что-то заметили. Пираты, Ивлин и несколько негров как можно скорее ринулись в заросли, Уильям и перемазанный кровью часовых колдун последовали за ними. Кроуфорд шел в арьергарде, вооруженный сразу четырьмя пистолетами, и прикладом одного из них подгонял впереди себя не до конца развязанного Амбулена, шепотом ругающегося по-французски *["252]. В ту же секунду от костра на краю лагеря отделилась странная тень человека с пучком перьев на голове и чем-то вроде толстой веревки, обмотанной вокруг шеи. Обернувшись в сторону индейца, Амбулен освобожденной от веревок рукой начертил в воздухе тайный знак и, получив от Кроуфорда крепкий пинок в спину, отлетел в темноту густых зарослей. Кроуфорд с ненавистью глянул на удаляющегося вглубь лагеря караиба, подавил в себе желание выстрелить в него из пистолета и вслед за Амбуленом нырнул в лес.Глава 10 Королева Луна
Лондон. Таверна «Морская дева». 1590 год
— Мне кажется, я раскусил ее, — сказал полковник Уолтер Рэли, нетвердо облокотившись на заляпанный вином и жиром стол и глядя в глаза Уильяму Шекспиру. — Она не человек. — Да? А кто же? Суккуб? — Уильям с сожалением оглядывал атласный, шитый жемчугом дуплет Уолтера, безнадежно погубленный неряшливостью своего хозяина да дешевым хересом, и аккуратно отложил карты, в которые Рэли все равно уже подглядел. — Нет, Вилли. Она эльфийская ведьма. Уильям был одним из любимых драматургов Елизаветы, и его театр «Глобус» всегда был полон. Уильям многое знал, о еще большем умел вовремя забыть. Поэтому он внимательно посмотрел на друга и кивнул пышногрудой красотке, что несла эль к соседнему столу: — Эй, крошка, не напоишь ли ты нас из своих бочонков? Девушка, плюхнув тяжелые кружки на доски, рассмеялась и поправила корсаж, который и без того мало что скрывал. — Отвяжись, дурак, — сказала она и шаловливо хлопнула драматурга по щеке. Тот попытался ущипнуть ее за грудь, но девица ловко вывернулась и еще пуще развеселилась. — Нет, Вилли, она ведьма. Вспомни, что у ее матери было по шести пальцев на руках, а сама наша Цинтия пуще всего на свете боится потерять девственность! Это я тебе говорю, я, который мог сто раз трахнуть Ее Величество, но отчего-то до сих пор этого не сделал. А ее чертовы танцы? Если бы ты видел, старина, как она порхает по залу, когда заманивает меня к себе в спальню… — Ты пьян, Уолтер. Может быть, тебе стоит заткнуться? — Что, Вилли, боишься Мавра? Не списал ли ты своего Отелло с натуры? — Уолсингем и его шпионы здесь ни при чем, Рэли. Просто ты зол на то, что… — Старина, я зол на то, что с тех пор, как я подстелил под ноги этой венценосной шлюхе свой плащ, я сам превратился в подстилку. Черт возьми, приятно видеть Лондон из королевской спальни. Но неприятно осознавать, что с этого балкона спектакль жизни смотрит еще с десяток ослов. — Так ты ревнуешь? — Чушь и ересь! Я в бешенстве оттого, что кобыла ездит на жеребце, как хочет. Знаешь что! Давай ей отомстим. Давай сочиним какую-нибудь гадость. — Уолтер прищелкнул пальцами и небрежно смахнул со стола свои карты Таро, которые вопреки правилам были превращены в игральные. — Сочиним гадость, чтобы ей и мне было понятно, а всем остальным нет! — Я не хочу в Тауэр, — грустно сказал Шекспир и допил свой эль. — Сюжет прост. Однажды ночью — черт возьми, ведь я впервые увидел ее голой 15 августа, — однажды летней ночью, назло Оберону, королева эльфов Титания решила развлечься…* * *
Однажды летней ночью королева решилась развлечься. Слишком долго эти синие глаза жадно раздевали ее на балах и приемах. Слишком долго она ждала неоспоримых доказательств его страсти. Его сонеты, его сильные руки, его взгляды, которыми он провожал ее и очередного любовника до тех дверей, куда вход ему был заказан. И вот однажды, в ночь на Успение, она танцевала с ним в полном одиночестве, увлекая его к тем дверям. За ними была пустота. Внутренние покои были пусты — не было ни фрейлин, ни… Никого не было. Не выпуская его руки из своей, она сняла с шеи серебряную цепочку, на которой висел ключ, и вставила его в замочную скважину. Ключ повернулся, а он мягко прикрыл за собой дверь. В королевской спальне царил зеленый полумрак. Казалось, он утонул и теперь, увлеченный морской девой, медленно опускается на дно, чтобы никогда больше не увидеть солнца, не насытить легкие свежим морским ветром. Он раздевал ее медленно, больше доверяя опыту пальцев, развязавших не один корсет и расстегнувших тысячи крючков. Когда, повинуясь ей, он лег первым, то заметил горевшую в изголовье свечу. «Как над покойником», — подумал он, но ее маленький горячий рот уже шарил по его телу. Она не отдалась ему ни в эту ночь, ни в последующие пятнадцать лет. Он переспал со всеми ее фрейлинами — она лишь хохотала и спрашивала, что он с ними делал и понравились ли они ему. Он ложился с ней пьяный, он крыл ее площадной бранью, он курил трубку и выпускал ей дым в лицо, он заваливался на горностаевое покрывало в грязных ботфортах, он писал ей стихи и целовал ноги — она лишь хохотала и спрашивала, что он чувствует. Спрашивала наутро — ночью говорить было запрещено. Ее желтые глаза с кошачьими зрачками впивались ему в душу и пили, пили из нее жизнь и радость. Она пожирала его, и он сбегал от нее — в Ирландию, в Америку, в Новую Гвиану… Она выслушивала его советы, она, задыхаясь от страсти, ласкала его безупречное тело, она любовалась синими сполохами его глаз, но она была чужая и ненавистная. Королева Мэб, эльфийская принцесса, ведьма, которая скорее бы умерла, чем позволила себе расстаться с девственностью — расстаться с властью. Любила ли она Англию? Рэли так не думал. Наверное, Англия была для нее зеркалом — тем магическим черным хрусталем, в котором она жаждала увековечить себя, навеки отпечатать свой образ в ее истории. Она плакала по ночам, потому что боялась смерти. Она верила: если бы ее мать не вышла замуж за смертного старого короля, дочери не пришлось бы умирать. Она не имела вечной молодости и мечтала сохранить вечную власть. Он помнил, как рисовали ее портрет: Елизавета — Владычица морей. Нога в расшитой бериллами и сапфирами туфельке попирает карту мира, в глазах — тоска низвергнутого Денницы. Вокруг нее всегда были книги. Раскрытые как попало труды Аристотеля, советы Макиавелли, оды Овидия. Не хуже ее он применял на практике все, что там написано, — вот отчего они легко понимали друг друга. Рэли привел к ней своего друга, астролога Джона Ди, и тот, поглядев в добытый Уолтером черный кристалл, что-то нашептал ей. Она рассмеялась и крикнула Рэли через зал: — Жребий брошен! Жребий брошен, красавчик!..* * *
Полковник Уолтер Рэли скрипнул зубами и яростно рванул ворот шелковой рубахи. На грязный пол таверны горохом сыпанули бриллиантовые пуговицы и, подпрыгивая, покатились под грязные башмаки местных пропойц. Даже целуя жену, он видел перед собой порочно-белое лицо с губами, раздвинутыми в хищной усмешке.Глава 11 Зеркало и Страж
Карибское море. Сердце Эспаньолы
«Великий белый Бог» по-прежнему благоволил Кроуфорду — а заодно всем, кто шел с ним. Едва беглецы скрылись в густых зарослях, как небесные хляби разверзлись и началась очередная репетиция второго Всемирного потопа. Дождь мгновенно смыл следы, надежно укрывая пленников от их возможных преследователей. Дабы не потерять в кромешной тьме (наступило утро или нет, в стене ливня сделалось совершенно безразлично) из виду Амбулена, Кроуфорд привязал к нему Боба и Джона — одного впереди, другого сзади, — а веревки, стягивающие всех троих, намотал себе на руку. Старый нгомбо торжествовал: ему удалось вырезать глаза, печень и половые органы у двоих французских солдат и уже предвкушал то могущество, которым облечется благодаря талисманам, изготовленным из этих кровоточащих кусков человеческих тел. Капитан Ивлин шел молча, разминая на ходу натертые веревками запястья, но по его лицу — если бы удалось разглядеть это лицо в сплошной пелене дождя — можно было догадаться, что он искренне рад освобождению. Побег из плена на время даже примирил его с нестерпимой сыростью. Потрошитель и вовсе не скрывал радости от того, что вновь оказался на свободе, однако в водяном шуме все равно невозможно было расслышать дурацкую песенку, которую он напевал, сочиняя прямо на ходу. Что касается Джона и Боба, их впечатление от освобождения было испорчено необходимостью топать в связке с Амбуленом. Сам француз был весьма мрачен. Он отчетливо понимал, что Кроуфорд догадался обо всем или о многом и вовсе не намерен с ним, Амбуленом, церемониться. Интересно, зачтут ли ему почтенные отцы и сам Господь Бог смерть от руки этого англичанина как гибель ad majorem Dei gloriam или как покладание души своей за други своя? Ведь предпринятая экспедиция грозила полным провалом, и возложенные на него Орденом поручения фактически не были выполнены. Карта находится в руках женщины, капитан Ришери, хоть он и француз, похоже, под воздействием чар Лукреции готов пойти против воли короля… то есть в конечном счете, против воли Ордена! Остается, правда, слабая надежда на то, что Хуан Эстебано сумеет как-нибудь похитить карту у дамы, однако и это вряд ли поможет Амбулену. Добыв карту, индеец, конечно, представит иезуитам дело в отнюдь не выгодном для Робера свете. Вся награда достанется караибу, а Амбулену?.. Что ему, в самом деле, грозит, если Орден узнает, что он не осуществил ни одной из порученных ему задач, обнаружил себя и вдобавок лишился шансов самостоятельно раздобыть карту? И как могло случиться, что тщательно спланированная операция провалилась с таким треском? Где он допустил ошибку? В чем виноват? Что он такого сделал, что теперь словно весь мир ополчился на него? Даже небо, тихое, молчаливое, бесстрастное небо разверзлось над ним, обрушивая прямо на его бедную голову потоки воды, по тяжести подобные кузнечным молотам? За что?! Нет, об этом лучше не думать! При мысли о том, почему Бог оставил его, насылая такой чудовищный, давящий страх, который хуже всякой пытки, хуже, чем этот отвратительный ливень, чем гнусные люди, к которым он привязан, чем его враги, Амбулен почувствовал, что у него под ногами разверзается ад… Злодейка-память, словно в насмешку, вызвала из небытия образы убитых людей — их лица проплывали сейчас пред внутренним взором Робера с ужасающей четкостью. Он остановился и со всей силы дернул плечами, стремясь освободиться от веревок. Жгучая ненависть буквально переполнила все его существо. Боб дернулся, Амбулен чуть не упал от резкой остановки, а Джон, рухнув сзади на колени, наподдал французу в спину головой. Почувствовав неладное, Кроуфорд тоже остановился и, примотав веревку поближе и подтащив к себе веселую троицу, со всего размаху несколько раз двинул каждому по физиономии. Не обращая внимания на возмущенные крики пиратов — их, впрочем, было почти не слышно из-за дождя, — Кроуфорд приблизился к Амбулену и без стеснения выместил на его опрокинувшемся теле злобу и раздражение, накопившиеся за эти дни. После этого он заставил всех троих встать и продолжить путь. Постанывая, Джон и Боб поднялись на ноги, вынудив француза сделать то же самое, и поплелись дальше. Отчаяние и злость буквально клокотали в груди Робера Амбулена, но он чувствовал свое полное бессилие изменить что-либо в сложившихся обстоятельствах.* * *
Несмотря на плотную стену дождя, негры-проводники безошибочно привели всю компанию обратно в лагерь беглых рабов. Переплетенные лианами ветки деревьев образовали над вытоптанной площадкой плотный шатер, задерживая потоки дождя и ветер. У костра, обложенного крупными обгорелыми поленьями, несмотря на ранний предрассветный час, уже копошилось несколько чернокожих женщин и мужчин. Они восторженными криками приветствовали Кроуфорда и старого нгомбо и по знаку последнего немедленно притащили пальмовые листья с завернутой в них нехитрой снедью — маисом, фруктами и кусочками мяса диких голубей, которых мароны искусно ловили силками. Кроуфорд с хозяйским видом уселся на ставшее «своим» почетное место у костра, устроил рядом Уильяма и, с наслаждением стянув насквозь мокрые камзол, штаны и рубаху, подставил жаркому огню оголенную спину. Пока одежда сушилась над костром, участники экспедиции плотно пообедали птицей с печеными бананами и завалились спать. Задремал даже привязанный за ноги к дереву Амбулен. Джон с Бобом, наконец-то расправив затекшие плечи и спины, захрапели громче всех. Ивлин нашел местечко посуше и свернулся там калачиком, став похожим на крупного кота, вымокшего до последней шерстинки. Измученный переживаниями минувших суток, Уильям раскинулся навзничь около огня, его бледное лицо, обрамленное белокурыми волосами, приняло выражение тихой блаженной грусти. Однако к Кроуфорду сон отчего-то не шел. Кроме него, у догоравшего костра остались бодрствовать лишь несколько негров да старый колдун. После нескольких отчаянных попыток заснуть Кроуфорд от нечего делать решил заняться починкой своего порядком изодранного кафтана. Хорошенько встряхнув, Кроуфорд расправил одеяние на земле и вдруг заметил, что правый карман оттопырен. Запустив туда руку, он с изумлением извлек черное зеркало в резной оправе из старой слоновой кости. То самое зеркало — наследство Уолтера Рэли, — которое когда-то подарил Лукреции. Удивительно, что оно оказалось в его кармане после их последней встречи, но еще удивительнее, что он не потерял его, когда тонул в бушующем потоке, когда подползал ужом к французскому лагерю, вызволяя товарищей, когда в сердцах лупил по морде треклятого Амбулена… Старый же нгомбо при виде зеркала из отполированного черного хрусталя побледнел и затрясся. Негры, стоявшие и сидевшие около костра, попятились, а затем с воплем восторга и ужаса упали ниц. Некоторые из них сочли за благо забиться куда-нибудь подальше в заросли. Кроуфорд вспомнил, что горный хрусталь черного цвета — морион — считают камнем некромантов, облегчающим магам общение с миром усопших. «При помощи сего магического камня можно увидеть всякое лицо, какое пожелаешь, в какой бы части света оно ни находилось, пусть даже скрывалось бы в самых отдаленных покоях или пещерах, что помещаются в недрах земных», — писал в одном из своих зловещих трактатов приятель сэра Уолтера — придворный астролог Елизаветы I Джон Ди. В благодарность за кое-какие услуги Рэли привез Джону Ди из заморских странствий зеркало майя из полированного черного горного хрусталя — не это ли самое, которое Кроуфорд сейчас держал в руках? «М-да… Есть многое на свете, друг Горацио, что и во сне не видела наука… И сам бы я теперь поверил, что есть великий белый нгомбо — это я», — мысленно рассмеялся Кроуфорд. Между тем старик-негр встал, низко поклонился Кроуфорду и, грозя пальцем, сказал: — Масса Кройфорд есть великий белый нгомбо! Самый великий! Белый масса напрасно скрывать это! Духи не любить, когда нгомбо обманывать и говорить, что он не есть нгомбо! — Я не есть нгомбо, Калибанов ты племянничек! Отец моего отца дружить с главный белый нгомбо… И подарить это зеркало, а он подарить мне… «Боже милосердный, я начинаю сходить с ума от этой чудовищной ломаной речи…» — Отец отца масса Кройфорд быть великий нгомбо? — О! Отец моего отца быть больше, сильнее, чем большой белый нгомбо! — Кроуфорд подумал, что в конечном счете не так уж далек от истины, называя сэра Уолтера больше чем колдуном. «Несомненно, дед, ваши заслуги перед Англией и всей Европой не менее велики, чем заслуги вашего друга Джона Ди — астролога, некроманта, географа и астронома, который, замкнувшись в сладостном уединении, чтобы постичь все таинства науки, которую невежды презирают… Гм… Да». Вслух же он пояснил: — Великий белый нгомбо, друг отца моего отца, говорил, что, изучив всю премудрость разных земель и племен, он узнал, что истинная мудрость и могущество не могут быть достигнуты усилиями человека. Настоящую мудрость человек получает только тогда, когда ему дает Великий Верховный Бог, Бог белых людей и Отец всех людей, зверей и духов… — Тот Великий Бог, Который послал белый масса спасать нгомбо от злой дух дерева и дух воды? — немного недоверчиво уточнил старый колдун. — Да! — Кроуфорд почувствовал нечто вроде прилива вдохновения и подумал, не получится ли из него проповедник почище Черного Билли. — Только Великий белый Бог дает знание и настоящую власть над духами… — Разве это так? — удивился вуду. — Нгомбо тоже может говорить с духи, вызывать и насылать духи, изгонять злой дух из человек, из негр, чтобы возвращать дух человека домой и человек оживать! — Верно, — остановленный на всем скаку, был вынужден подтвердить Кроуфорд. — Но скажи мне, великий нгомбо, — добавил он, понизив голос, чтобы его слышал только старый негр, — всегда ли тебе удается, например, вернуть доброго духа в тело человека, если в него вселился злой дух и убил его? Прекрасно понимая природу «духов», вызываемых и насылаемых стариком на своих соплеменников, а еще чаще — на врагов, Кроуфорд нисколько не сомневался, что бесы повинуются колдуну отнюдь не всегда, а лишь тогда, когда им это выгодно. Однако, чтобы не уронить авторитет знахаря в глазах бывших рабов и не навлечь тем самым на себя его гнев, он сразу же добавил: — Не отвечай, старик. В зеркале отца моего отца я не только вижу далеких людей и души умерших: я могу видеть чужие помыслы и знать ответы на свои вопросы прежде, чем услышу их из твоих уст. Я не нгомбо, но в этом зеркале я могу видеть даже то, что не видят многие нгомбо, — для большей убедительности он погрозил старому негру морионовым зеркалом. — Великий белый Бог сказать тебе? Я знаю, что Верховный Бог лучше слушать белые люди? Ты мочь говорить с Великий белый Бог? — Да, меня учили говорить с Великим Богом, — медленно ответил Кроуфорд, с трудом пытаясь вспомнить, когда он в последний раз искренне обращался к Богу. Его вдруг одолели сомнения. Не то чтобы он боялся бесов, которых негритянский колдун может наслать на него, его друзей или людей Ришери. Однако он впервые задумался о том, в какую духовную ловушку попал в свое время приятель его деда, и начал прикидывать, не рискует ли попасть в эту ловушку он сам…* * *
В ноябре 1582 года, во время вечерней молитвы, на фоне полыхающего за окном заката Джон Ди увидел величественного сияющего младенца — «ангела Уриэля», который подарил ученому предмет еще более загадочный, чем черное зеркало майя. То был средних размеров прозрачный кристалл, переливающийся всеми цветами радуги (как писал о том впоследствии сам сэр Джон). Следом за «духом света Уриэлем» взорам Ди предстал Архангел Михаил с огненным мечом, приказавший взять и использовать магический кристалл, но при условии, что, кроме него, ни один человек не будет прикасаться к сокровищу.* * *
Однако, рассуждая здраво, Кроуфорд никак не мог поверить, что некроманту и астрологу и в самом деле явились ангелы. Его смущала перспектива оказаться один на один с каким-нибудь «сияющим духом света», из локонов которого в самый неподходящий момент норовили выглянуть рога. Кроме того, имея дело с вуду, следовало опасаться, что их колдуны за силу и власть продают врагу рода человеческого отнюдь не собственную душу… Негры верят, что нгомбо расплачиваются с дьяволом душами других смертных. И хотя это не отменяло власти сатаны над душой самого колдуна, Кроуфорду совсем не хотелось оказаться в роли разменной монеты или подвергнуть такой участи друзей. В действительности жертву колдуна, предназначенную в уплату дани Вельзевулу, сознательно доводили до полного умственного и душевного истощения — так, чтобы человек лишился способности управлять своими поступками. Для этого его могли долго изнурять ритуальными плясками и бессмысленным тягучим пением заклинаний или подмешивали ему в пищу ядовитый порошок — смесь истолченной рыбы-собаки, сушеного желчного пузыря человека или буйвола, жабьего яда, дурмана, черного пороха и, в исключительных случаях, размолотых костей черепа недавно умершей негритянки — колдуньи или жрицы. Тогда, в состоянии, близком к помешательству, человек становился совершенно беззащитен. Его можно было убедить в любом бреде, в любой лжи, заставить признаться в преступлениях, которых он не совершал, и даже искренне верить при этом в собственную виновность. Тем более колдуну не составляло в этом случае труда принудить находящуюся в его полной власти жертву к любому самому кровавому злодеянию или же к самоубийству. Но под влиянием обстоятельств Кроуфорду приходилось принимать правила игры, до поры до времени плывя по течению: раз связавшись с беглыми неграми и их жутковатым предводителем, не так-то просто от них отделаться. Да и выгода может оказаться немалой: не только шанс вернуть карту и наказать зарвавшихся французов, но и… При мысли о Лукреции он вздрогнул и постарался отогнать нахлынувшие воспоминания. Нет! Ни за что! Эта женщина не заслуживает подобного! Кроуфорд почувствовал, как гордость стальными пальцами сжимает ему горло. Он видел ее в объятиях француза. Как так?! «Тонкий и скользкий каналья, изыскатель случаев, у которого такой глаз, что он умеет чеканить и подделывать возможности, хотя бы действительных возможностей никогда и не представлялось!»Боль, тянущая куда-то в безумие, в черноту, как и много лет назад, заполнила его грудь. Ему хотелось убить ее, уничтожить, растоптать, как она топтала его сердце. Он мотнул головой, отгоняя от себя лютую ревность. «Проклятье!.. Я склонен думать, что любезный Мавр вскочил в мое седло. Мне эта мысль грызет нутро, как ядовитый камень… Эта женщина тебе духовный взор мутит как соринкой!Ты, Кроуфорд, ты становишься ревнивым, как дряхлый жид, взявший за свои кошели молоденькую вертихвостку, и жадным до любви, как старая дева!.. Да будь Лукреция в тысячу раз прекраснее, будь она благороднее, умнее, будь непорочна и невинна, как младенец, она не стоит того, чтобы рисковать ради нее спасением собственной души, чтобы ради нее «танцевать, чтобы стать богом»!.. «Останься честным хотя бы сам с собой, Веселый Дик! — насмехался над ним кто-то у него внутри… — Ты вовсе не так всесилен, как тебе хотелось бы, и твоя страсть к этой женщине тем сильнее, чем больше она делает вид, что пренебрегает тобой, что предпочитает тебя другим! А все почему? Да потому, что ревность в тебе способна превозмочь даже твою гордость! Лукреция Бертрам! Будь ты блаженный дух или проклятья демон, неси дыхание небес иль вихри ада, будь злобны умыслы твои иль милосердны, — так обаятелен твой вид, что я с тобой… О дьявол! Да чего бояться? Не стоит и булавки жизнь моя. А что душе моей он сделать может, когда она бессмертна?..» Он еще продолжал мысленную дуэль с самим собой, когда до его слуха донесся голос старого колдуна: — Если масса Кройфорд дозволять нгомбо прикоснуться к его зеркало, нгомбо делать хороший мертвый воин, зомби, сейчас же. С трудом продираясь сквозь вымученный английский негра, Кроуфорд сумел выудить из него, что тот имел в виду. Вуду утверждал, что способен сотворить действительный призрак, подобный живому мертвецу, из отражения любого человека, когда-либо смотревшегося в черное зеркало майя. — Даже если этот человек жил за много-много лун до нас с тобой? — сверкнув глазами, спросил он. — Вот именно, масса! Человек смотреть свой лицо в зеркало, человек жить давно и умирать, но он оставаться в зеркале… Нгомбо брать человек из зеркало, заставлять его говорить, ходить, стрелять — что пожелает масса Кройфорд! «При помощи сего магического камня можно увидеть всякое лицо… пусть даже оно скрывалось бы в недрах земных…»* * *
Зимой 1582 года придворный астролог Елизаветы I сэр Джон Ди во время ежедневной прогулки наткнулся в поле на необычайно красивую девушку. Она без сил лежала на снегу, черные спутанные волосы облепили лоб и шею, обескровленное лицо застыло, как гипсовая маска, а стекленеющие глаза неподвижными кристаллами смотрели в небо — она умирала. Сэр Джон остановил коня, спешился и склонился над несчастной. Поднял тонкую руку с просвечивающими голубыми жилками, постарался нащупать пульс, но безрезультатно. Тогда он достал из кармана странное зеркало — гладко отполированную полусферу черного цвета, — подаренное ему другом, недавно вернувшимся из колоний Нового Света. Уолтер Рэли утверждал, что в тех краях, где он странствовал, местные дикари знают удивительный секрет безупречной полировки горного хрусталя. Зеркало, по словам капитана, обладало огромной магической силой, подчинить себе которую еще никому не удавалось. Джон Ди поднес полусферу к лицу умирающей. Слабое дыхание, вырвавшись из полуоткрытых побелевших губ, едва затуманило блестящую поверхность черного камня. Подхватив бедняжку — она, казалось, почти ничего не весила, — Ди завернул ее в свой плащ и, перекинув почти безжизненное тело через седло, во весь опор погнал коня. Он привез ее домой и нанял лучших докторов, но прошла неделя, другая, а красавица не выздоравливала. Она была так слаба, что не могла вставать с постели — и с каждым днем жизнь крохотными капельками вытекала из хрупкого тела. От слабости девушка почти лишилась дара речи, и Джону Ди даже не удалось узнать, как ее зовут. Впрочем, помнила ли она это сама? Ничто не притягивало ее внимания, она не могла есть, ничего не просила и целыми днями лежала неподвижно — только еле уловимо вздымавшаяся грудь свидетельствовала о том, что душа пока не покинула худое тело. Лишь одна вещь привлекла незнакомку. Джон Ди, потрясенный красотой девушки, а еще больше — собственным бессилием что-либо сделать, подолгу просиживал у постели больной, любуясь неземным совершенством ее черт и плавностью линий худенького тела. Однажды, уходя, он случайно оставил рядом с кроватью девушки то самое черное зеркало с ручкой из пожелтевшей слоновой кости. Вернувшись к больной через час, он увидел, что она, поднявшись с подушек, словно зачарованная созерцает свое отражение в бездонной черноте индейского мориона. И это навело астролога на мысль, что раз уж обычными человеческими средствами спасти девицу невозможно, то, вероятно, стоит попытаться сделать это другим способом. В его руках была магия, и нельзя было придумать лучшего повода испытать, на что способно зеркало майя, хранящее в своей дымной глубине таинственные силы Нового Света!.. И зеркало открыло ему свои тайны. Взяв каплю крови девушки, он при помощи заклинаний вызвал из черных глубин ее отражение, растворил его на блестящей поверхности мориона и из двух психических субстанций, которые представляли собой как бы образы незнакомки по ту и по эту сторону зеркала, сотворил наполненный жизненной энергией фантом. Усыпив затем больную, Джон Ди приказал фантому войти в ее тело, покрыв тем самым недостаток сил и вернув девушке здоровье. Проснувшись, красавица действительно почувствовала себя намного лучше и смогла встать с постели. И все-таки вполне достигнуть цели Джону Ди не удалось. Его прекрасная незнакомка и после «воскрешения» больше напоминала не живого человека, а призрак или фантом. Кроме того, она ничего не помнила из своей прошлой жизни, не могла назвать свое имя, своих родителей, родных или сообщить, откуда она… Окружающий мир, люди, платья, развлечения, книги не интересовали ее. Она мало говорила, зато долгие часы могла простаивать посреди лаборатории астролога, восторженно созерцая атрибуты его ремесла — звездные, нумерологические, магические таблицы и астрономические приборы, глобусы и небесные карты, колбы, наполненные странными газами и таинственными порошками, магические кристаллы, старинные манускрипты, редкости и диковинки со всех концов света — словом, все то, из-за чего придворного ученого не без оснований считали чернокнижником и колдуном. Джон Ди вскоре сделал девушку своей помощницей. Она наводила порядок в лаборатории; надев стеклянную маску, составляла яды, растирала для него минералы, толкла порошки и даже помогала с вычислением астрологических таблиц: не помня семьи и откуда она родом, незнакомка обладала удивительными в женщине способностями к логике, математике и астрономии. Ди назвал девушку Лукрецией; в сущности, он мог бы выбрать любое другое имя, ей было совершенно безразлично, на какое откликаться, но уж больно астролог любил поэму Шекспира. Впоследствии сэр Джон обнаружил у Лукреции недюжинный талант ясновидящей и медиума. Когда в ноябре того же года «духи света» передали астрологу радужный кристалл, он нередко просил девушку вглядеться в его глубину, а то, что она рассказывала о виденном, старательно записывал. Ди считал Лукрецию незаменимой помощницей. Ее молчаливость, равнодушие к окружающей жизни и застывшее на лице печально-безразличное выражение не только не огорчали его, а скорее были даже на руку. Лишь одно пугало: однажды он заметил, что, глядясь в зеркало, его подопечная не может увидеть своего отражения… Лукреция могла поднести любое зеркало к самому лицу, но его гладь оставалась безучастной к ее присутствию, показывая зрителю лишь то, что находилось за спиной девушки или по бокам от нее. Это давало недоброжелателям астролога дополнительные поводы для его травли. Странную приживалку Джона Ди молва окрестила ведьмой, вампиршей или просто привидением: слишком располагали к этому ее неестественная манера держать себя, сомнамбулический взгляд, вымученная походка, застывшее мертвенно-бледное лицо, на котором, истекая берилловой зеленью, жили одни глаза. Впоследствии Джон Ди пришел к выводу, что чернь не так уж далека от истины, что, спасая девушку, он сделал ее полностью зависимым фантомом черного зеркала. Вместе с Лукрецией он скрывался от подстрекаемой завистниками разъяренной черни, которая сожгла его «колдовской» дом с уникальной коллекцией старинных манускриптов, редкостей и камерой для «зеркальных видений», и вместе с ней наблюдал за этим в черном зеркале, подаренном Уолтером Рэли. Стоически перенося утраты и гонения, Ди не потерял интереса к своим исследованиям и всю жизнь продолжал эксперименты с магическими кристаллами и зеркалами. В этом ему помогала Лукреция… После смерти астролога девица исчезла без следа. Интересно, могла ли она умереть, будучи призраком?! В первое время после кончины Ди появилось множество слухов: будто бы то тут, то там являлась его «мертвая девка» — призрак, привидение, колдунья, отродье сатаны… Являлась она то сама по себе — как обычно ходят привидения: в простом черном платье тонкого сукна, которое она всегда носила с тех пор, как Джон Ди оживил ее; то вдруг выглядывала из-за спины какого-нибудь щеголя или записной кокетки, тщеславно глядящихся в зеркальце, и тогда поверхность стекла мутнела, а отраженный облик чернел и таял. Все, кто якобы видел ее, вскоре умирали внезапной смертью, без покаяния и последнего напутствия. Один упал во время танца, другой свалился с коня на охоте, третью так и нашли навеки застывшей перед туалетным столиком, уставленным гранеными флаконами и золотыми коробочками. Глаза мертвецов были широко раскрыты, рты полуоткрыты в замершем крике… В народе поговаривали, будто приходит она лишь к тем, кто продал свою душу дьяволу в обмен на удачу, славу или богатство… И не явится ли она теперь сюда, вызванная другим, менее изощренным, но, безусловно, более древним и ярым колдовством, чем вполне рафинированные чары Джона Ди?!* * *
Кроуфорд с трудом оторвался от мыслей об этих необъяснимых событиях столетней давности. Ему казалось, что еще немного, и он найдет ключ к какой-то давно мучившей его загадке, однако ускользающая идея вертелась в голове и не давала поймать себя… Отчаявшись сообразить, что же хочет подсказать ему его сознание, Кроуфорд протянул старому колдуну черное зеркало: — Что делаешь, делай скорее! *["253] — Однако этот малый меня утешил: он отъявленный висельник, а кому суждено быть повешенным, тот не утонет… — пробормотал спросонок Уильям, садясь на земле и с отвращением стряхивая с себя капли дождя, все-таки просочившиеся на него за время сна, несмотря на густые кроны деревьев над головой. — Фу-у, до чего мокро!.. С ума можно сойти. Кажется, и я уже стихами заговорил… Мне снилось, что я не то юнга на корабле, не то сам вероломный Антонио — брат Просперо Миланского… И знаете, Кроуфорд, стих поразительно подходит к нашему положению: как ни ужасен этот бесконечный дождь, нас с вами скорее вздернут… если не государевы слуги, то уж черти на том свете — непременно… Кроуфорд вдруг выпрямился, словно его хлестнули плетью: перед его внутренним взором, как живой, встал призрак морской ведьмы. Черные растрепанные ветрами волосы, мертвые бериллово-зеленые глаза… Привидение не могло быть Лукрецией Бертрам — это он теперь знал наверняка, — но, значит, ему являлся самый настоящий демон… Вот оно как! Ключ найден, но дверца, как оказалось, ведет вовсе не в залу, а всего лишь в лакейскую, набитую, как поношенными камзолами, новыми загадками! — Будь что будет. Хотя бы и самый ад разверзся и мне велел молчать… — сказал он, ни к кому не обращаясь. И добавил: — Вы боитесь призраков, мой дорогой друг? — В вашем присутствии, сэр Фрэнсис, немного меньше, чем без оного, — галантно ответил Уильям и звонко, по-мальчишечьи, расхохотался. — Я полагаюсь на волю Божию — больше ведь ничего и не остается. За последний год по своей и вашей милости я успел столько нагрешить, что, не будь во мне той крошечной капли веры, которая еще хранит мою душу от верной погибели, мне придется пойти прямиком в ад — уж больно длинные счета предъявят мне черти. Боюсь, мне будет нечем платить! — Вы становитесь философом, Уильям, — с иронией заметил со своего места тоже проснувшийся Амбулен. — Скорее теологом, — расхохотался Кроуфорд. — Быть может, Харт, вы все-таки напрасно отказались от карьеры сельского пастора и вам стоит вернуться к этой мысли? — Что это? — вдруг шепотом спросил Уильям, забытым движением накладывая на себя крестное знамение и указывая глазами на отошедшего в сторонку нгомбо. Старый негр стоял, вперив взгляд в блестящую полированную поверхность кристалла, протяжно произнося какое-то тягучее заклинание и мерно раскачиваясь в трансе. — Тише, — почему-то тоже шепотом ответил ему Кроуфорд. — Не смотрите. Если вы и в самом деле еще не утратили надежду на спасение, для вас будет лучше даже не думать об этом! Лучше поспите еще немного! — он почти силком уложил юношу обратно на ковер из опавших листьев и заботливо прикрыл его своим камзолом.* * *
Лукреция испытывала беспокойство, от которого в груди колотилось сердце, а руки тряслись против воли. Перед рассветом ее разбудил страшный шум и визг, словно солдаты по всему лагерю ловили разбежавшихся кошек. Ничего не объясняя и не стесняя себя никакими проявлениями приличий, Ришери нагло ворвался в ее палатку и приказным тоном потребовал, чтобы она немедленно одевалась. Лошади были уже наготове. Однако погоня не удалась. Из разговоров солдат Лукреция поняла, что пленники ночью бежали, а мерзкий индеец-полукровка Эстебано якобы видел среди них самого Веселого Дика. Пару часов они убили на бессмысленную погоню, блуждая по каким-то тропам, пока сплошной водопад с неба не лишил их возможности хоть что-то разглядеть. Лукреция не понимала, зачем Ришери потащил ее с собой, неужели нельзя было остаться в лагере? Неужели нельзя было хотя бы последовать примеру этих проклятущих голландцев, которые спокойненько оседлали коней, а потом поехали кавалькадой, умеренным шагом, будто на пикник?! Нет, нужно было непременно найти какую-то полузаросшую лесом дорогу и, увязая в чмокающей грязи, как в болоте, в конце концов очутиться здесь, в заброшенной деревне! С первого взгляда было видно, что полуразвалившиеся хижины с упавшими крышами и разваленными очагами не видели в своих стенах живого человека по крайней мере года три, а может, и все пять. Гилея наступала на когда-то отвоеванный у нее клочок земли. Лианы уже опутали стрехи и балки, сломанными ребрами торчащие из разорванной плоти крыш. Орхидеи уже покрыли причудливо-злыми цветами стены, густая трава и папоротники росли прямо в полах. Но поскольку ливень не прекращался, решено было тут заночевать. Лукреции это решительно не нравилось: проклятая деревушка, казалось, просто-таки насыщена чем-то тяжелым, пугающим, тягучим, как патока, — как будто в ней не хватало воздуха, как будто зелень тропического леса сжирала его, выделяя в воздух смерть. Здесь даже деревья выглядели так, как будто их вылепил из воска сумасшедший скульптор, и пахли они тяжело и сладко, как ладан на похоронах… Она попробовала вдохнуть глубже и, невольно схватившись за грудь, вдруг вспомнила про карту, спрятанную за корсажем. Нет, не так представляла она себе поиски этих сокровищ! Почему все так обернулось? Где и когда она совершила роковую ошибку? И совершила ли?! Лукреция не видела в своих поступках ни единого промаха. Она действовала точно и расчетливо, за ее спиной был королевский фрегат с вымуштрованным экипажем, ее крыльями осеняла тень могущественного Кольбера, она удачно вывела из игры конкурентов и быстро нашла союзников. Правда, она не смогла устоять перед… перед собственной слабостью и помогла ему спастись… Она не выдержала испытания. Пять лет она жаждала отомстить, но стоило ей увидеть его, услышать его голос… Вот она, проклятая женская слабость. Червь любви, которую она так и не смогла раздавить. Дура. А ведь как она ненавидела его, стоя в убогой шлюпке и грозя ему возвращением… Как она ненавидела его, умирая от жажды и расковыряв себе вены, чтобы пить собственную кровь… Как она хотела растоптать его, потому что он разлюбил ее. Но она увидела в его глазах другое. Он не забыл ее. Не разлюбил. Поэтому она и не смогла. Но ведь он должен, должен, должен погибнуть в этих проклятых джунглях!!! Если он не может умереть от ее руки, пусть этот всепожирающий ад, одержимый вечным голодом и размножением, поглотит его. Почему, почему, почему он снова остался жив?! Лукреция яростно стиснула кулаки, вонзая ногти в ладони. Внезапно грохот выстрела заставил ее вздрогнуть. Она вскинула голову. Над кронами неподвижных деревьев метался отсвет пожара. Женщина вздрогнула, сердце ее бешено заколотилось. Она терялась в догадках: что могло произойти в этом жарком, влажном, напоенном тревогой мраке? Откуда взялся пожар? Почему стреляли? Неужели все оказалось куда хуже, чем ей представлялось? Он же просто пошел перед сном проверить выставленные на ночь караулы! Что происходит на краю деревни?! Если Ришери пострадает, то положение ее станет просто отчаянным. Проклятый караиб с письмом короля — он сделает с ней все, что захочет. Она заметалась по темной комнате, потом, не выдержав, выскочила на улицу, под звездное небо. Сполохи отдаленного пожара были здесь еще заметнее. Горело как раз в той стороне, куда ушел Ришери. Несмотря на духоту и влажность, Лукрецию начала бить дрожь. Она попыталась взять себя в руки. — Угомонись, дура! — шептала она себе. — Успокойся! Хуже того, что с тобой было, уже не случится! Хуже-то не бывает! Наоборот, пришло твое время! Ведь карта же у тебя! Уговоры не помогали. Ночь наполнилась какими-то странными звуками, которые пронизывали воздух, как стаи насекомых, лезли во все щели, становились все более назойливыми и пугающими. Они предупреждали, что в селении помимо отряда, остановившегося на ночлег, есть кто-то еще. Дикари? Язычники? Пожиратели человеческого мяса? Бр-р-р! Лукреция вспомнила, как слышала краем уха про каннибалов, про охотников за черепами. Эти истории никогда ее не увлекали, казались столь же бесполезными, как деревенские сказки про эльфов и домовых. Лукреция даже и представить себе не могла того, чтобы может столкнуться с туземцами. И вот теперь эти странные полудикие существа, не знающие Божьих и человеческих законов, вдруг возникли в ночной тьме, переполнили ее топотом босых ног, в них приходилось стрелять, их приходилось бояться, от них хотелось бежать сломя голову и прятаться, прятаться, прятаться… Охваченная страхом, Лукреция, тяжело дыша, металась по двору, пытаясь отыскать себе какое-нибудь оружие. Она ругала себя за непростительное легкомыслие: почему не сняла притороченные к седлу пистолеты, почему забыла там кремень и кресало?! Из-за забора послышались торопливые шаги, хриплое чужое дыхание. Лукреция в ужасе метнулась обратно в хижину, поплотнее затворила дверь и в изнеможении упала на убогое ложе из покоящихся на деревянных чурбанах палок, переплетенных пальмовыми листьями и застеленных каким-то ветхим тряпьем…* * *
Капитан Франсуа де Ришери, устроив Лукрецию на ночлег со всеми возможными в этой дыре удобствами, отправился на другой конец деревушки, где расположились солдаты. Никому не доверяя после побега пленников, он решил сам расставить часовых. Голландцы, отставшие еще в самом начале пути, теперь плелись где-то в арьергарде. Возможно, ливень заставил их сделать привал прямо в лесу, однако капитану не верилось, что старая лиса коадьютор согласился бы подвернуть такому риску красавицу дочь. Следовательно, их появления нужно ожидать ночью… Ришери уже подходил к краю деревни и мог различить голоса: это переговаривались солдаты. Вдруг со всех сторон он совершенно явственно услышал шаги. В этих шаркающих звуках чувствовалось что-то зловещее. Капитан был человеком неробкого десятка, но неизвестно почему его внезапно объял ужас — дикий, животный, нестерпимый. Дыхание перехватило, в голове помутилось, и захотелось бежать, бежать куда глаза глядят, не разбирая ни цели, ни дороги. Преодолев эту странную волну непонятного страха, он взял себя в руки и, сжав покрепче эфес шпаги, кинулся в сторону костров, не сразу заметив, что солдаты в панике мечутся по лагерю. Вдруг совсем рядом затрещали кусты, и из листвы прямо на него выломилась высоченная сутулая фигура, от которой остро пахло свежей землей. Кто-то пронзительно завизжал в стороне. Длинная холодная рука шаркнула по его плечу. В нос ударил смрад могильника. Ришери показалось, что перед ним — мертвец. Крик застыл у него в горле. В этот момент в паре ярдов от него грохнул пистолетный выстрел. Вспышка пламени на краткий миг осветила непроглядную темень, и Ришери увидел перед собой существо, будто вышедшее из кошмарного сна: мертвец, наряженный в мужское платье начала века, с истлевшим лицом, мертвыми пустыми глазницами и провалившимся ртом. На макушке — клок волос, больше похожий на приклеенный пучок пакли. Но уже в следующую секунду пуля переломила покойнику шею, и страшная голова с остановившимися глазами покатилась в темноту. Долговязая фигура зашаталась и с глухим стуком упала на землю. Из темноты вынырнул сержант: — Это вы, господин капитан? Вы живы? — Да, Жозеф. — Нехорошее это место, господин капитан!.. Эти язычники… — Они не язычники, Жозеф. Разве ты не видел?.. — Нет. А кто же? — Они не язычники! Они не язычники, — торопливо повторил Ришери. — Они вообще не люди. Они… О, дьявол! Они уже здесь! Капитан и сержант ринулись к бивачному костру. Со всех сторон на них наступали, дыша в спину, какие-то жуткие существа, и можно было лишь порадоваться, что ночная мгла мешает хорошенько рассмотреть их. — Боюсь, Жозеф, что мы стали жертвой колдунов вуду, — с трудом переводя дух, пояснил Ришери. — Я в это никогда не верил. Но, кажется, мое неверие посрамлено… Это восставшие мертвецы, которые подчиняются злокозненной воле человека, заколдовавшего их… Но они приближаются! Будто подтверждая его слова, из-за деревьев одна за другой стали появляться темные безмолвные фигуры. Неверными, но упорными шагами они топали в сторону живых, силящихся скорее попасть в лагерь. Ноги капитана Ришери и Жозефа будто пристывали к земле и плохо слушались. На краю селения с новой силой вспыхнул огонь, освещая клочок открытого пространства перед французами, и они отчетливо увидели отпечатки босых ступней, на многих из которых не хватало пальцев. Некоторые следы были оставлены просто голыми костями. Ришери почувствовал, как по его спине побежали мурашки. — Пресвятая Дева! — вскрикнул Жозеф, в ужасе осеняя себя крестом, и указал на шагающих мертвецов: — Они опередили нас! Тени неудержимо стекались в лагерь, накатываясь как волны. Зарево плясало над призрачными головами. Их было несколько десятков, и их шествие напоминало бы гуляния горожан на каком-нибудь столичном бульваре, если бы… У всех у них были темные, неживые лица с остановившимися глазами, а провалившиеся рты расплывались в чудовищных улыбках, больше напоминающих оскал. Некоторые существа были одеты в европейское платье, но какого-то странного покроя — явно не французского и давно вышедшего из моды. Они казались спустившимися в зрительный зал со сцены, где разыгрывали пьесу столь любимого соперником Ришери Шекспира. Но самое нелепое и жуткое заключалось в том, что среди пристойно, хоть и старомодно одетых дворян и купчишек затесались какие-то полуголые краснокожие дикари с искаженными в мерзких гримасах лицами, раскрашенными желтой и белой глиной… Не хватало слов, чтобы передать все уродство этих отвратительных рож, черты которых напоминали злобные маски. Такие кровожадные физиономии должны были видеть перед собой сподвижники Кордобы и Монтехо *["254], когда они, прибыв на Юкатан, кинулись истреблять туземные племена. Наиболее кошмарно выглядели те призраки, чьи тела носили знаки ритуальных церемоний: рассеченные члены, проколотые языки с продернутыми веревками, вспоротые тулова и вырванные из груди сердца были способны довести до истерики даже самого мужественного человека. Ришери показалось, что он в неурочный час заглянул прямо в преисподнюю. За такую дерзость положено суровое наказание, и оно не заставило себя долго ждать. От толпы упырей отделилась одна фигура и шагнула прямо на него. Мурашки на коже капитана будто превратились в гадких ужей, его сердце сковал ледяной ужас, и Ришери почувствовал, что теряет рассудок. Ему почудилось, что он где-то видел это темное лицо, этот вперившийся теперь в него страшный взгляд… Этот призрак был он сам — Ришери узнал, хотя узнать было почти невозможно: капитан смотрел, будто в зеркало, на свое собственное лицо, которое перестало быть похожим на себя. Скорее это был двойник капитана Ришери, до мелочей повторяющий детали его внешности, но абсолютно чужой. Парик, черты лица, одежда, фигура — все это было знакомо до боли. Ришери протянул руку, коснувшись собственного носа, глаз, щек… Все вроде бы оставалось на месте. Но напротив стоял точно такой же человек — если только это был человек!.. Пожалуй, только одно отличие можно было заметить: кожа, лицо призрака были практически черными, как будто в лунную ночь в густом лесу капитан смотрел на свое отражение в глубоком мрачном омуте… Однажды, без спросу заглянув в каюту Лукреции и не найдя ее там, капитан Ришери со скуки посмотрел в зеркало из полированного черного камня, случайно забытое женщиной на столике… Как она рассвирепела, застав его с этой вещицей в руках! В тот момент Ришери показалось, что так, как выглядело его отражение, мог бы выглядеть он сам, если бы был мертв… Закричав неожиданно громко, гортанно и не узнавая собственного голоса, капитан де Ришери повернулся и бросился бежать сломя голову, сам не зная куда…* * *
Бесконечный шум деревьев убаюкивал Лукрецию, но страх не покидал ее, а тревожные шаги все приближались ко входу в хижину… Женщине казалось, что человек за стеной — если только это был человек! — ей знаком… «Ну почему все это произошло именно со мной? — обреченно подумала она. — Это несправедливо. Я рождена совсем для другого. Величественный замок, модный выезд, изысканные платья… Влияние при дворе, уважение в обществе, муж заседает в Верхней палате… Почему вдруг судьбе вздумалось посылать мне одно испытание за другим? Неужели по той причине, что именно мне суждено извлечь из небытия сокровища конкистадоров? Да, это так! Это перст судьбы, жестокий и неумолимый. Испытание, ниспосланное избранным…» Лукреция вдруг почувствовала, как она устала, — даже голова закружилась. Она вытащила из-за корсажа клок парусины, в который была завернута заветная карта. Перед глазами плыли какие-то бурые пятна. Лукреции показалось, будто все, что было нарисовано на карте, теперь исчезло. Ее снова охватил ужас, к которому примешивалось предчувствие чего-то, что она не могла толком определить. В этот момент дверь с шумом распахнулась, и вместе с порывом ветра в хижину ворвалась уродливая плоскомордая шавка, а за ней — Кроуфорд, грязный и страшный. В глазах его сверкала неутоленная жажда мести, а рука сжимала ту самую шпагу. — Наконец-то я убью тебя, — хрипло сказал он, откидывая со лба спутанные волосы. Доли секунды потребовались Лукреции, чтобы оценить обстановку и принять решение. Она вскочила и бросилась к мужчине на шею. — Я люблю тебя, Роджер, — воскликнула она и, царапая рот о жесткую щетину, поцеловала его в губы. Шпага выскользнула из его руки и со звоном упала на каменный пол. Он прижал ее к себе и жадно вдохнул запах ее волос, ее кожи, ее треклятой нероли. Руки его сами собой стиснули ее тело — такое знакомое, такое забытое, такое прекрасное. Они снова стали одной плотью — два осколка разбитой чаши, той самой, в которую и по сей день так щедро льется вино Каны Галилейской. Они встретились, и острые зубы времени вошли друг в друга, как входят они в механизме часов: маятник качается, звенит молоточек и время утекает между пальцев, как мелкий океанский песок. — У тебя есть сын, — шепнула она, заглядывая ему в глаза сверху вниз. Мучительная судорога пробежала по его лицу, но огрубевшая за десять лет разлуки ладонь лишь крепче сжала ее плечо. Они оба пили из этой чаши… Собака вдруг зарычала и залаяла. Кроуфорд что-то коротко приказал ей, и животное покорно уселось у двери. — Харон преградит путь мертвецам и призракам, — сказал он, снова опрокидывая ее на постель.— Аделаида! Дорогая! Где вы? Откликнитесь! — дверь слетела с петель и с громким стуком ударилась о стену. На пороге, озираясь, безумно сверкая глазами от только что пережитого потрясения, с обнаженной шпагой в руке, стоял шевалье Франсуа де Ришери. Увидев полуобнаженную женщину и обнимающего ее мужчину, Ришери издал не то крик, не то вой и одним прыжком очутился возле них. Кроуфорд кошачьим движением скользнул ему навстречу, в руке его блеснул кинжал. До шпаги ему было никак не дотянуться, она лежала как раз позади француза. — Вот мы и встретились, — сказал Ришери, и судорога пробежала по его красивому лицу. — Я убью вас, сударь. — Нет, Дик, не убивай его, — вдруг закричала Лукреция и бросилась между ними, заслоняя собой капитана Ришери. Кроуфорд усмехнулся, и в глазах его полыхнуло бешенство. — Он не виноват, Дик, они все не виноваты! Это все я, понимаешь?! Только я виновата перед тобой, так меня и убей! Ничего не ответив, Кроуфорд левой рукой отшвырнул ее к стене, даже не обернувшись в ее сторону. — Ну что ж, — он переместился чуть правее, стараясь заставить капитана развернуться, чтобы самому оказаться возле беспечно брошенной шпаги. — Значит, и вправду будет лучше, если я убью вас, как дворянин, а не зарежу, как мясник. Ришери разгадал его немудреный маневр и, отступив назад, ногой подтолкнул шпагу ее хозяину. Клинок подпрыгнул и, звеня, покатился по полу. Молниеносным движением Кроуфорд подхватил его левой рукой. Теперь они оба были вооружены одинаково — шпагами и кинжалами. — Оказывается, вы благородный человек! — усмехнулся Кроуфорд, принимая боевую стойку. — Не все же как вы, — ответил Ришери, наматывая на левую руку плащ и улыбаясь. — Не надо! — закричала Лукреция. — Ужасно, леди, — вдруг сказал Ришери, слегка поклонившись ей, но не сводя глаз с Кроуфорда, — ужасно, что это действительно вы убили нас всех. Поэтому я приговариваю вас к жизни. Впрочем, и это я делаю из малодушия. У меня тоже недостает духа расправиться с вами. Живите, живите, как позволяет вам ваша совесть, и помните все, — Ришери замолчал и посмотрел в глаза Кроуфорду: — Ну, что ж вы медлите? Но Кроуфорд неожиданно опустил шпагу и произнес: — Я не буду с вами драться. Уходите. Я устал. На серых от напряжения последних дней щеках шевалье вдруг вспыхнул румянец. Пару секунд промедлив, он с лязгом вложил свой клинок в ножны и дрожащей рукой ослабил на горле завязки плаща. — Она недостойна вас, — вдруг тихо сказал он и, коротко поклонившись, вышел вон. Собака Кроуфорда, до этого момента сидевшая неподвижно, с глухим рыком ринулась следом за ним. В открытую дверь вдруг потянуло холодом и стали отчетливо видны крупные, как светляки, звезды. Лукреция поднялась и стала собирать свою одежду, в беспорядке разбросанную вокруг. — Где мой сапог, Роджер? — Там же где и мой, Лу. Они одновременно плюхнулись на разгромленную кровать и замолчали. — Курить хочется, — сказала она. — Могу предложить только листья коки, — ответил он. — Да и те — пожевать. — Давай. — Для начала надо найти мой кисет. — Так ищи. — Сама ищи. Лукреция ткнула его в бок локтем. Он обнял ее за плечо, и они снова умолкли. — Что делать будем? — спросила она. — Разойдемся по позициям, а там видно будет. — Но как я вернусь в лагерь к Ришери? — Молча, а лучше плача и рыдая. Карта-то у тебя. — Можно подумать, ты не помнишь ее наизусть. — Кстати, а зачем нам сокровища? — Ты сам всю жизнь твердил, что они сделают из тебя человека. — Врал. А тебе зачем? — Я очень много трачу. Химия, рецепты тинктур, шелковые чулки, новые платья — ты сам знаешь, мне никогда не хватает наличности. — А мое поместье — под опекой отчима. — Ты по-прежнему связан с ним? — Крепче, чем раньше. — Дьявол, где же твои листья? — У тебя под задницей, дорогая. Она нащупала рядом с собой вышитый кисет, и горькая улыбка мелькнула в уголках ее рта. — Я вышила его тебе к Рождеству. Помнишь? — А я подарил тебе зеркало. — Оно у меня. — Разве?! — насмешливо произнес он, протягивая ей морионовую полусферу с ручкой из потемневшей слоновой кости. — Ты сказала, у меня есть сын? — Ему почти десять, — кивнула она, пряча в карман зеркало майя. — Так вот почему ты не вышла тогда… — Да. — Мы были дураками, Лу? — Мы и сейчас такие, Дик. — Что делать будем? — спросил он. — Разойдемся по позициям, — ответила она. — Но я… — Надо выбирать, Дик. Или мы вместе, или каждый сам по себе. — Мир выталкивает нас. — Мир любит тех, кто живет по его законам. — Мы — неудачники? — Нет, мы — другие. — Ты ведь принцесса эльфов? — А ты — сын Океана? — Внук. — Давай оденемся, светает. — Я, кажется, придумал, что нам делать. Он помог ей натянуть сапоги, а потом обнял и принялся шептать на ухо… — Ну вот и все! — сказала Лукреция, выслушав его и поднимаясь на ноги. — Да, Лу. Прощай, прощай и помни обо мне! — и Кроуфорд исчез в дверном проеме.
* * *
Ришери брел в сторону лагеря, стараясь не смотреть по сторонам и вообще никуда не смотреть. Его охватывали бессильная злоба и раздражение. По пятам тащилась, то и дело тыкаясь ему в сапоги, неведомо откуда взявшаяся собачонка. Ночь, наполненная жаркой влагой, тошнотворно-сладковатыми запахами и ужасом, словно вознамерилась никогда не кончаться. Небо было чистым, но рассвет все не наступал. Огненные сполохи постепенно погасли, но это лишь прибавило жути. С того края деревни, где ночевали солдаты, раздавался тревожный шум. Призраки окружали лагерь со всех сторон. Ришери никак не мог решиться подойти ближе: ужас от увиденного лицом к лицу собственного отражения, да еще такого жуткого, сковывал движения и мысль. Он сделал несколько неуверенных шагов и почувствовал присутствие призрака у себя за спиной. Капитан резко обернулся, готовый сделать выпад, но в этот момент у него из-под ног с рычанием выскочила Кроуфордова собачонка. Привидение, словно испуганный зверь, отшатнулось и нырнуло куда-то далеко в темноту. Псина дважды обежала вокруг ног застывшего в недоумении и страхе Ришери, а затем, заливаясь призывным лаем, бросилась по дорожке в лагерь. Капитан нехотя последовал за нею. На биваке творилось что-то невообразимое. Призраки теснили солдат со всех сторон. Люди бестолково метались в темноте, пытаясь заслониться от оживших мертвецов (или это все-таки были тени?!), прикрыться от них огнем костра или поразить с помощью оружия, но все было безрезультатно. Вместо этого, оглушенные страхом, будто ослепнув, солдаты налетали друг на друга, сшибаясь, обнажая клинки, падая и нанося раны своим же. В пелене мрака раздавались вопли ужаса, вой, ругательства на французском и голландском и истерический женский визг: голландцы достигли лагеря в самый неподходящий момент. Теперь между палатками и кострами, выкрикивая проклятия, носился Абрабанель, умоляя кого-то спасти его дочь и примерно наказать ее. Несоответствие этих требований друг другу отнюдь не смущало коадьютора, несмотря даже на то, что Ван Дер Фельд всячески старался указать ему на это. Что касается Элейны, она воспринимала все творящееся вокруг нее, как обыкновенная девушка: очень стараясь сохранять мужество, она все-таки сильно испугалась и не сдерживала рыданий. Впрочем, прекрасная голландка воспринимала обрушившееся несчастье с истинно христианским смирением — она сочла, что в нападении призраков виновата она, непослушная, своевольная и непочтительная дочь, оскорбившая отца своим нескромным, вовсе не подобающим барышне поведением. Ведь, каким бы он ни был, это был ее отец! Но в уголке сердца ее таилась совсем иная мысль: «Какое счастье, что Уильяма с нами нет и он не подвергается опасности! И еще. Он так храбр и благороден, несмотря на все испытания, которые пришлось ему пережить. Как бы он теперь страдал от невозможности защитить меня! Слава Богу!» Харон с оглушительным лаем бросился в самую гущу свалки, заставляя призраков отступить. Однако в целом это мало помогло — так много мертвецов сновало сейчас по лагерю… — Как, это вы, капитан? Мы думали, они растерзали вас, — прерывающимся голосом промолвил кто-то из солдат, увидев Ришери. — Сержант-то вон он лежит… мертвехонек, не то, что эти твари, — добавил другой караульный, указывая куда-то во мрак. — Жозеф?! — почти вскрикнул Ришери. — Но я говорил с ним всего четверть… может быть, полчаса тому назад!.. — Вот так-то, капитан… Господь знает, кто такие эти мертвяки, а только убивают они нашего брата не хуже, чем живые испанцы или англичане! О Пресвятая Дева Мария, спаси и помилуй мою душу!.. — вдруг возопил говоривший, вглядываясь куда-то за спину Ришери, и внезапно начал оседать прямо на руки своему капитану. — Ты ранен, Жан-Батист? — подхватывая парня, прошептал Ришери, но не получил ответа: солдат был мертв. Ришери закричал. Эхо подхватило крик и утопило его в деревьях. В следующую секунду шевалье почувствовал, что на его горле сжимается цепкая ледяная клешня…* * *
Кроуфорд мчался по тропинке, как будто кто-то подгонял его ударами хлыста. Сын! Нет, это невозможно, невероятно, нелепо, не… Господи, сколько всего произошло за эти долгие, за эти вечные-бесконечные десять лет! Что случилось с ним, во что он превратился! И зачем, ради чего, с какой целью?! Найти эти проклятые сокровища? Только-то? Он резко остановился. Сокровища! Вот что должно волновать его в эту минуту больше всего на свете. Сейчас он, как никогда, близок к заветной цели. Разумеется, он и без карты без труда найдет место, где они спрятаны. Но надо спешить. Ведь его конкуренты буквально дышат в спину… Его сын! Его наследник! Теперь есть кому оставить эти сокровища, свое обеленное золотом имя, будь оно трижды проклято! Ему, ему, славному мальчугану, а не сводному брату, законнорожденному сэру Рэли — тупице и бездельнику, — они принадлежат по праву! Скорее, скорее за Хартом, за Ивлином и Потрошителем, за своими!..Он подошел к костру, устало отмахнулся от готовых к услугам беглых рабов и начал трясти Уильяма за плечо со словами: — У жизни у твоей особый почерк… Но доблести души уделены тебе не для того ведь, чтобы впустую, взаперти пропасть!Вставайте, Харт! Мы близки к нашей цели и должны добыть сокровища до тех пор, пока нас не опередили конкуренты! Усталый юноша, глубоко провалившись в сон, сперва не реагировал на попытки Кроуфорда разбудить его… Но через минуту над тропическим лесом разнесся такой душераздирающий вой, что Харта аж подбросило на его подстилке из пальмовых листьев. Все остальные повскакали с мест. Уильям сел на земле, протирая глаза, и в изумлении обратился к Кроуфорду: — Что это было, сэр Фрэнсис?! Это… это… не человеческий голос… — Скорее напротив, дорогой Харт. Это голос человека, увидевшего перед собой нечто нечеловеческое. — Что вы хотите этим сказать? Что происходит? — В это трудно поверить, но думаю, что в этот момент наших преследователей самих преследуют… — Кто?! — Ожившие мертвецы, упыри, привидения, блуждающие покойники — как вам больше нравится… — Вы хотите сказать, что экипаж «Черной стрелы» окружен призраками?! — Вы на удивление понятливы, — в привычной издевательской манере кивнул Кроуфорд, которому не хотелось терять время на пустые разговоры. — Идемте, друг мой, нас ждут великие дела и еще более великий трофей! — Нет уж, Кроуфорд! Я слушался вас всегда, я подчинялся вам беспрекословно, чем бы это ни оборачивалось, из-за вас я совершил множество промахов, но на этот раз я буду действовать по своему усмотрению! Не удерживайте меня! Если вы примените силу, мы будем драться, но я не отступлю — я не могу оставить Элейну в таком бедственном положении. Пустите, или!.. Уильям вскочил, одной рукой перехватив перевязь со шпагой и принадлежностями для стрельбы, а другой — подхватив валявшийся у костра пистолет, направился в ту сторону, откуда только что пришел Кроуфорд. — Я мог бы сказать, что без меня вы не только наделали бы гораздо больше ошибок, но и что именно ваше непослушание и стремление поступать по своему усмотрению, не считаясь с моими благоразумными советами, всего пару дней назад чуть не стоило всем нам жизни… Но я просто скажу: остановитесь и не совершайте очередного неблагоразумного поступка, который не принесет пользы ни вам, ни прекрасной Элейне, но только еще больше повредит!.. В этот момент воздух разорвал еще один вопль, протяжный и преисполненный безысходного ужаса. На этот раз кричала женщина… Немедленно переменив решение, Кроуфорд, на ходу поднимая другой пистолет, ринулся по тропинке в сторону заброшенной деревни: — За мною, Харт! Скорее! И да поможет нам Господь! Потрошитель, Джон и Боб, подхватив первое попавшееся оружие, бросились следом. Ивлин, кряхтя, поднялся с земли и, изъясняясь знаками, потребовал от негров, чтобы они сопровождали Кроуфорда. Несколько африканцев с завидным проворством отправились следом — капитан Джон Ивлин и впрямь обладал качествами, незаменимыми в офицере: когда он приказывал, его, не раздумывая, слушались не только непосредственные подчиненные… Сам он, пошарив вокруг, вооружился последним пистолетом, конфискованным у часовых при побеге, и двинулся догонять отряд. Кроуфорд и Харт уже достигли селения и миновали хижину, где всего полчаса назад Кроуфорд предавался сладостным воспоминаниям в объятиях Лукреции. Им оставалось пересечь только узкую полоску тонущего в предрассветном сумраке пространства, когда наперерез им выскочил старый нгомбо. — Нет, масса Кройфорд не ходить туда! Духи гневаться и наказывать! Нельзя! Белый масса Кройфорд опасно ходить… — затараторил он. — Пусти, Калибаново отродье! — отмахнулся Кроуфорд. — Не смей останавливать меня! Крики с той стороны, где вели неравный бой с призраками французские солдаты, становились все громче, сливаясь в сплошной гул, полный ненависти и страха. — Нгомбо не пустит масса Кройфорд! — решительно заявил колдун. — Так останови их! — вне себя от ярости закричал Кроуфорд. — Останови духов, заставь их убираться обратно в свои могилы!! — Нгомбо не уметь… не мочь… нгомбо знать, как сделать мертвый солдат из зеркала, но нгомбо не мочь отправить духи домой… нгомбо не знать власть над духи зеркала… — вдруг плаксиво и беспомощно запричитал старый негр. Он рухнул на землю и принялся кататься по ней, запустив грязные ногти в остатки жестких седых волос, царапая себе лицо и глухо подвывая. — Проклятый детеныш Калибана! — только и смог вымолвить Кроуфорд, от неожиданности выронив оружие и тоже опускаясь на траву. — Что же делать, сэр Фрэнсис?! — в растерянности Харт заметался вокруг, жаждая и опасаясь подойти ближе к краю деревни. — Молиться, — по-прежнему язвительно ответил Кроуфорд, сидя прямо на дорожке и обхватив голову руками. — Молитесь, мой друг, может быть, Господь услышит вас…
* * *
Лукреция, оставшись одна, почувствовала, что не может дольше оставаться в этой хижине. Она вышла на улицу и медленно побрела туда, откуда слышались крики. Она так устала от переживаний этой ночи, что совершенно забыла о страхе, о призраках и охотниках за черепами, которые должны были подстерегать ее на каждом шагу. Но то, что она увидела, приблизившись к лагерю, заставило ее содрогнуться и издать тот самый пронзительный крик, который услышали Кроуфорд, Уильям и остальные. На тропинке, вцепившись мертвой хваткой самому себе в глотку, стоял Ришери. Странным образом капитан раздвоился, и теперь первый, запрокинув второму голову, сжимал его горло так, что пленник мог с трудом издавать лишь жуткие булькающие звуки. Остановившиеся глаза того Ришери, который держал своего двойника за кадык, горели зловещим ледяным огнем, а лицо казалось темным, как у мавра… У ног обоих Ришери, упершись в землю всеми четырьмя кривыми лапками, стояла собака Кроуфорда. Ее шерсть поднялась дыбом. Злобная уродливая мордочка еще больше исказилась, и она глухо, непрерывно рычала… Лукреция отшатнулась. Чтобы не смотреть в мертвые дьявольские глаза призрака Ришери, она выхватила черное зеркало и уставилась на свое собственное отражение в нем. Привидение вдруг издало странный рык, похожий то ли на стон, то ли на проклятие, и начало таять в предрассветном тумане… Над блестящей поверхностью мориона заклубился густой пар, но тут же исчез. В ту же минуту первый луч утреннего солнца выглянул из-за затянувших небо туч, в лесу заверещали птицы, и наваждение исчезло…Глава 12 Безумный день
Карибское море. Эспаньола
В суматохе битвы с призраками все напрочь забыли об Амбулене. Умчавшись вслед за Кроуфордом, Ивлин и пираты оставили француза без присмотра. Убежище беглых рабов с началом рассвета опустело: кто спал, кто просто покинул стоянку в поисках пищи. Привязанный к дереву, Амбулен сидел на земле и размышлял о своей дальнейшей судьбе, которая представлялась ему довольно безрадостной. Вдруг за спиной послышался слабый, едва уловимый шорох. Амбулен насторожился. Через несколько мгновений обрывки толстой веревки, которой он был примотан к пальме множеством оборотов, упали на землю. Караиб Хуан Эстебано протягивал Амбулену нож и два пистолета. Затем он тихим шепотом отрывисто проговорил: — Нельзя медлить ни минуты. Вам надо быть в отряде Ришери, а я отправлю весточку кому надо. «Я тоже», — подумал Амбулен, а вслух спросил: — А что же с картой? — Она у женщины. — А вы? — с плохо скрытым беспокойством спросил француз. — Я догоню вас по дороге. Мне необходимо завершить кое-какие дела и закрыть один неоплаченный счет, — усмехнулся индеец. Так он и знал! Этот туземец, лишь прячущий за личиной благочестия свои дикие языческие привычки и обычаи, принесет карту провинциалу, ему достанется вся слава, а что же Амбулен?.. Эти мысли вихрем пронеслись в голове шевалье, но вслух он только спросил: — Где мне искать его? — Он пойдет туда же, куда и вы, — к перевалу через Северный хребет. Он сам найдет вас, когда вы выберетесь на горное плато. Там вы получите дальнейшие указания. Не так плохо… значит, надежда все-таки есть, и он, возможно, еще поборется за… А собственно, за что ему бороться?! Чего добиваться?! Уничтожат его сразу, накажут или на сей раз позволят заслужить прощение — не все ли равно? Ради чего все это? О святая Женевьева, я просил бы у тебя благословения и совета, если бы ты не была так далеко… Господи, вскую оставил мя еси?.. Индеец исчез в зарослях так же бесшумно, как и появился. Амбулен поднялся, засунул за пояс кинжал и пистолеты и двинулся вглубь чащи по направлению к горам. По дороге он пытался понять, что смутило его сегодня в облике караиба. Как будто в нем чего-то не хватало… Наконец француз вспомнил, что Хуан Эстебано явился без своего неизменного сундучка, а значит, без змеи… Странно…* * *
Убедившись, что лучи солнца заставили призраков исчезнуть, а истошные крики во французском лагере затихли, Кроуфорд и остальные незамеченными вернулись в лес. После обильного завтрака было решено как можно скорее отправляться в горы — именно там, по словам Кроуфорда, следовало искать сокровища. Без карты ему приходилось полагаться только на собственную зрительную память. Однако, пропустив вперед Харта, Ивлина и пиратов и указав им, в каком направлении следует двигаться, Кроуфорд задержался. Он хотел найти свою собачку: встреча с призраками убедила его в правдивости предупреждений индианки На-Чан-Чель и ему хотелось держать стража загробного мира при себе. Харон довольно долго не откликался. Наконец в ответ на особый свист послышался скулеж, и Кроуфорд, обернувшись, увидел далеко позади какое-то мелькающее темное пятно. Собака вприпрыжку подбежала к хозяину и зашагала рядом. Теперь им предстояло догнать Уильяма, капитана Ивлина и Потрошителя с Джоном и Бобом.* * *
Черный Билли сидел взаперти в одинокой индейской хижине, томясь от безделья и чувствуя, что монотонный шум дождя сводит его сума. Крыша протекала, почти не защищая пленника от бесконечного небесного водопада, и от этого мысли Билла были гораздо чернее его собственной бороды. Он уже четвертый день сидел тут без всякой надежды на побег, хотя развалить хлипкий шалаш ему ничего не стоило: страж, охранявший пирата, был молчалив, жесток и неподкупен. А главное, Черный Пастор боялся его как огня… Это был, наверное, первый раз в его жизни, когда он действительно кого-то боялся. Стражем был жирный пятнистый удав, обернувшийся вокруг ноги Билла и не позволявший пленнику сделать даже шага в сторону выхода. Змея была столь огромна, что без труда могла задушить и не такого рослого и плечистого малого, каким был Билл. Тоска, терзавшая Черного Пастора, подсказывала ему нехорошие мысли о том, что для него, возможно, более легкой участью стала бы кончина от рук людоедов, в самый последний момент почему-то освободивших свой ужин и отдавших его хозяину этой проклятущей пятнистой чешуйчатой гадины… В тот момент, когда Билли, привязанный к пальме в качестве мишени, уже прощался с белым светом, а шестеро поджаренных молодых индейцев нацеливали на него свои луки, у костра, где плясали дикари в предвкушении редкого лакомства (пират сплюнул, подумав об этом), появился еще один туземец. Он разительно отличался от остальных хотя бы тем, что вместо набедренной повязки на нем красовались нормальные человеческие штаны из старой парусины, а на голое разрисованное тело была напялена морская куртка. В волосы дикаря были вплетены крохотные цветные перья и какие-то красные и белые бусы. В руках он держал походный морской сундучок, с каким путешествуют матросы, списанные на берег. Вновь пришедший что-то приказал двум людоедам, и они кинулись отвязывать Билла. Дикарь в матросской одежде сел рядом с высоким туземцем, распоряжавшимся на этом спектакле, и они о чем-то заговорили вполголоса на своем варварском наречии. Затем индеец-моряк поднялся, открыл свой сундук — и оттуда выползла та самая гнусная тварь, которая теперь сторожила выход из лачуги. Дикарь взял удава и повесил его на шею Черного Пастора. Змея обвилась вокруг шеи оцепеневшего от ужаса пирата, как свободно болтающаяся веревка, а затем положила плоскую голову на плечо своего пленника. Билл понял, что в случае попытки к бегству тварь немедленно свернется и задушит его, поэтому покорно дал привести себя в эту заброшенную хижину и запереть крепко-накрепко. Впрочем, замок навешивать было необязательно: питон стерег пирата намного лучше, чем десяток дюжих английских констеблей. Раз в день какой-то туземец приносил Биллу еду и подавал через окошко лачуги, но заговорить с ним Черному Пастору так и не удалось: туземец не знал английского языка… Внезапно послышался странный свист. Змея подняла свою приплюснутую башку и повернула ее в сторону, откуда исходили звуки. Из ее пасти метнулся черный раздвоенный язык. Дверь отворилась, и на пороге возник Хуан Эстебано. Удав при виде хозяина ручьем сполз с Билла и нежно обвился вокруг ног Хуана. Индеец присел на корточки, гладя своего любимца так, как благородные леди нянькают своих мосек… Черного Билла аж передернуло при виде такой пакости. Он вскочил и, одним ударом кулака опрокинув караиба, опрометью кинулся вон из хижины. Он не успел далеко убежать. Змея настигла его и дважды обвилась вокруг туловища. Билл замер, боясь даже дышать, чтобы удав не стиснул свои смертоносные пятнистые кольца. — Не стоит так торопиться, сударь, — на английском языке с небольшим акцентом сказал индеец. — Тики не отпустит вас просто так, если вы не будете проявлять благоразумие. Но я думаю, что мы сможем с вами договориться и станем полезными друг другу. — Что может быть у меня общего с тобой, ворона драная?! — заревел от ярости Черный Билл. — Поганый язычник, не ведающий истинного Бога, акулий корм, печеная ящерица, змеиный поводырь?! Что тебе от меня понадобилось?! — Вы напрасно так горячитесь, сэр. И притом совершенно излишне именовать меня язычником. Я принадлежу к монашескому Ордену, который не только пользуется у белых людей особым почетом, но и обладает огромным могуществом… Одним словом, вы перешли дорогу людям, к вящей славе Божией утверждающим истинную веру среди варварских племен во всем Новом Свете. Вас бы следовало за это сурово наказать, но честные отцы сочли, что вы можете выразить Ордену свое нижайшее почтение при помощи некоторых услуг… Караиб не договорил. На тропу, где они стояли, с оглушительным лаем выскочила взлохмаченная течичи. За ней быстрыми шагами следовал Веселый Дик. Эстебано судорожно схватился за пистолет и выстрелил, но порох, видно, отсырел, и кресало напрасно чиркнуло по кремню. В ответ собака бросилась на индейца и, вцепившись ему в лодыжку, принялась яростно рвать ее. Катаясь по земле в попытке отцепиться от рассвирепевшей твари, тот никак не мог дотянуться до кинжала, висевшего у него сзади на поясе. Удав тотчас оставил Билла и метнулся к хозяину, голую ногу которого терзала обезумевшая от злобы псина. Воспользовавшись некоторой передышкой от пятнистой гадины, Черный Пастор, не раздумывая, бросился на Кроуфорда: — Ну что ж, Веселый Дик! Вот и пришла пора покончить с тобой! Немного неожиданный исход, правда?! Молись, нечестивец, через несколько минут ты предстанешь перед лицом Высшего Судии — это обещаю тебе я, Черный Пастор! Он обхватил своего бывшего квартирмейстера за плечи и навалился на него всем телом. Однако Кроуфорд изловчился и прикладом пистолета, который был у него в руках, ткнул Билла в бок, заставив на мгновение ослабить тиски. Вывернувшись, Веселый Дик выхватил шпагу и приготовился сделать выпад. — Это не по правилам Берегового Братства, Дик! И не по-христиански! У тебя есть и шпага, и пистолет, а я безоружен… — Уж кому рассуждать о христианстве, как не тебе, Черный Билл, — язвительно заметил Кроуфорд. — Но будь по-твоему. Зная твою подлость, мне следовало бы сразу пристрелить тебя, как собаку, однако, так и быть, я предоставляю тебе равные со мной шансы. Он отбросил пистолет и шпагу в сторону. — Ты, кажется, хотел бороться, Билл? Давай посмотрим, получится ли у тебя честная игра! С медвежьим рыком Черный Пастор, пригнувшись, ринулся на противника, целя ему головой в живот. Но Кроуфорд легко отскочил в сторону и тоже принял боевую стойку. Их силы были примерно одинаковы: если Билл выигрывал в весе и физической силе, то Веселый Дик обладал большей ловкостью и проворством. Несколько минут соперники кружились на тропинке, пытаясь достать друг друга, и совершенно не обращали внимания на то, что творится рядом с ними. А бой разгорался не на шутку: течичи мертвой хваткой вцепилась в индейца и, казалось, на свете нет силы, способной ее оторвать. Ясно было, что псина скорее сдохнет, чем разожмет челюсти. Удав, пытаясь схватить собаку, никак не мог этого сделать, поскольку, кувыркаясь в пыли, Харон и Хуан Эстебано будто слились в единое целое. Чтобы зажать между своими кольцами собачонку, змее пришлось бы заодно задушить и любимого хозяина. В Харона же словно бес вселился. Он сдавленно рычал и визжал, несмотря на крепко стиснутые зубы, а когтями задних кривых лапок остервенело царапал индейца, норовя достать до груди с вытатуированным на ней пернатым змеем. Казалось, что собака пытается разрыть плоть караиба и выскрести сердце из его грудной клетки так, как некоторые ее сородичи разрывают землю в поисках запрятанной косточки… Ослабев в борьбе с животным, Эстебано вдруг сделал отчаянное движение, высвободил одну руку, поднес ее ко рту и засвистел. Удав, до этого бестолково извивавшийся по земле в двух футах от хозяина, приподнял над землей плоскую голову с частью длинного пятнистого тела и, раскачиваясь, как цветок на стебле, издал тихий, но пронзительный звук, от которого у всех присутствующих кровь застыла в жилах. Этот звук, не похожий ни на свист, ни на вой, ни на стон, как будто исходил из-под земли, из загробного мира. Течичи бросила терзать свою жертву и неестественно, свирепо, придушенно зарычала. Шерсть на спинке встала дыбом, так что собачонка сделалась похожей на дикобраза, искривленные лапки напряглись всеми мускулами, а черные глаза навыкате налились кровью. Она подскочила на пол-ярда вверх и вмиг очутилась прямо на шее у питона, стремясь перегрызть ему позвонки, соединяющие голову с туловищем. Продолжая издавать потусторонние звуки, змея стала извиваться верхней частью туловища, силясь сбросить собаку. Течичи мотало, как бочку в пустом трюме во время шторма, но она не ослабляла хватки своих маленьких челюстей. Тогда удав в порыве какого-то змеиного сальто-мортале обвился вокруг жилистого темного тельца и сдавил его всеми своими кольцами так, что от проводника в царство мертвых вмиг остались только клочки окровавленной шерсти да куски внутренностей… Индеец поднялся на ноги. В это время Кроуфорд и Черный Билл, стиснув друг друга в совсем недружеских объятиях, старались каждый опрокинуть своего противника так, чтобы самому оказаться сверху. Веселый Дик точным движением сломал Пастору нос, и Билли выл от невыносимой боли, цепляясь гнилыми зубами за одежду противника, пытаясь укусить его за шею или хотя бы за плечо. У самого Кроуфорда была рассечена бровь и все лицо оказалось замазано кровью, застилавшей глаза. Они все еще стояли, не в силах сбить с ног один другого, когда Черный Билл увидел направленное на них индейцем дуло пистолета. Не раздумывая, в кого именно целится дикарь, он мгновенно выпустил Кроуфорда и метнулся к Хуану Эстебано, дернув того за руку. Караиб взвыл — не рассчитавший своей силы Пастор сломал ему лучевую кость — и выронил пистолет. Метнув на пирата дикий взгляд, Эстебано левой рукой подхватил пистолет и снова прицелился, но Черный Билл швырнул ему под ноги валявшийся тут же пистолет Кроуфорда и заставил упасть на колени прямо на вылезшие древесные корни… Выстрел грянул в сторону, сбив верхушку с высокого кровавого дерева *["255]. Часть кроны с острыми сучьями обрушилась вниз. Спасаясь, Черный Пастор метнулся в ту сторону, где стоял, отирая окровавленное лицо, Кроуфорд, и, сшибив его с ног, накрыл своим телом. Огромный сук кампеша придавил индейца, вонзившись острым обломком ему прямо в грудь, и цвет древесины на сломе был действительно кроваво-красным…* * *
12 декабря 1682 года в гавань Санто-Доминго на юго-восточном побережье Эспаньолы безо всяких происшествий вошел бриг «Азалия». Двое его пассажиров, судя по всему, никуда не торопились и, прежде чем сойти на берег, весьма тщательно привели себя в порядок. Дон Диего Веласкес де Сабанеда и дон Фернандо Диас — так назвались они испанскому таможенному чиновнику в порту, и так называла их вся команда. Взошедшее солнце еще только позолотило голубовато-зеленые воды залива, утренний ветерок приятно обвевал лица, едва колыша ленивые волны, когда с «Азалии» был спущен трап, и, громыхая высокими дорожными сапогами, путешественники ступили на огромную деревянную пристань, изогнутым языком высунутую далеко в море. Отец Дамиан смотрел по сторонам во все глаза — Эспаньола была первым островом, на который ступила нога Колумба, принявшего его за берег желанной Индии. Да, в самом деле, здесь было на что посмотреть. Великолепная гавань, обустроенная за века испанского владычества со всеми ухищрениями торговой цивилизации, защищенная пологими горами от всех ветров, вмещала в себя до полутора сотен кораблей разом. Каких только судов здесь не было! Могучие галеоны — цвет испанского торгового флота, гордые линии которых и замысловатые резные украшения свидетельствовали о богатстве и знатности их владельцев. Трюмы их загружались дарами щедрой природы Нового Света. Все, что возделывалось на здешних берегах: какао, капсикум, табак, фрукты, сахарный тростник, — все имело огромный спрос в Европе и приносило купцам немалые барыши. Военные корабли щетинились пушками, жерла которых в три-четыре ряда выпирали из откинутых портов. На мачтах их бились флаги, шитые золотом. Шхуны, бриги, каравеллы, галеры, фелюки, ялики, простые лодки — иглы мачт и притертые к другу борта, с перекинутыми к соседям сходнями, сброшенными веревочными лестницами, натянутыми якорными канатами, убранными парусами, горели на солнце медными планширами, красовались раскрашенными черной, белой, голубой и красной краской топтимберсами, плескались поднимающимися парусами, хлопали вымпелами и скрипели рангоутным деревом. Снасти переплетались, как паутина, моряки шныряли, как муравьи, купцы с бумагами в руках толпились на причале, как на бирже. Все богатства Нового Света вмещал остров Эспаньола. Для охраны Санто-Доминго, столицы одной из главных испанских колоний, служила и мощная каменная стена, окружавшая его полукольцом, и орлиным гнездом нависшая над бухтой мощная крепость, отстроенная еще во времена конкисты. За городской стеной текла вполне мирная купеческая жизнь: Санто-Доминго являлся центром торговли на всем южном побережье Эспаньолы. Дальше за городом зеленели бесконечные плантации, курчавились рощи и перелески, постепенно поднимавшиеся по горным склонам, за которыми раскинулась центральная часть острова. Множество птиц сновало над гаванью, оглашая воздух сварливыми воплями. Главную крепостную башню венчал гордо развевающийся красно-белый с золотым шитьем флаг Испании. — Вот мы почти и дома, — умиротворенно сказал отец Франциск, не сводя глаз с развевающегося на ветру полотнища. — Во всяком случае, мне хотелось бы, чтобы вы чувствовали себя здесь именно так, дорогой Диего! Отец Франциск не баловал Дамиана разговорами, поэтому тот, услышав сейчас его голос, даже вздрогнул от неожиданности. — Диего? М-м… Да-да… В самом деле. Я прекрасно себя чувствую, дорогой… м-м… Фернандо! — говоря это, Дамиан сделал виноватое лицо, точно ученик, не слишком твердо выучивший урок. — Мы должны держать дистанцию, — заранее объяснял стратегию их будущего поведения отец Франциск. — На островах нравы более простые, нежели при дворе в Испании. Если мы поддадимся кумовству, царящему на острове, то не миновать нам бесчисленных визитов, свадеб и похорон, на которых мы будем почетными гостями. Кроме того, на нас немедленно набросятся плантаторы с соседских энкомиендо, которые вечно что-то продают, покупают, закладывают и берут в аренду. Нашими землями, которые на самом деле, конечно же, земли Ордена, по-прежнему будет распоряжаться управляющий, а мы прибыли сюда для поиска сокровищ. В гостинице «Белая лошадь» нас ждет человек с инструкциями. Так что поспешим. Наняв носилки и пару людей для переноски багажа, благородные сеньоры отправились в «Белую лошадь», которая располагалась на главной площади, прямо против дворца местного губернатора и городского собора. Это было обширное квадратное двухэтажное строение, состоящее из основного здания, покрытого белой штукатуркой, и боковых крыльев, в одном из которых на нижнем этаже располагалась конюшня и службы. Попасть в нее можно было через огромные окованные железом ворота, над которыми также располагались номера — для путешественников попроще. По испанским обычаям, заимствованным еще от мавров, квадратный, выложенный булыжником двор находился внутри, с четырех сторон окруженный номерами, попасть в которые можно было с открытой галереи, по всему периметру окружавшей гостиницу. При необходимости все строение мгновенно обращалось в неприступную крепость. Едва путешественники попали во внутренний двор, как им навстречу выбежал управляющий в коричневого цвета камзоле поверх полотняной рубахи и низко поклонился. — Добро пожаловать, высокочтимые сеньоры! — вскричал он, и его потное оливковое лицо осветилось самой широкой и гостеприимной улыбкой, а огромное золотое кольцо в ухе закачалось в такт приветствию. — Мы остановимся у вас на пару ночей, — ответил отец Франциск. — Нам самый лучший номер, ужин, и проверьте, нет ли корреспонденции на имя дона Фернандо Диаса. Управляющий склонился в еще более низком поклоне, присовокупив к нему и шарканье левой ногой. — О да, благородные доны. Есть. Не будет ли вам угодно войти? Вместо ответа отец Франциск щелкнул пальцами, и носильщики аккуратно опустили портшез на землю. С легкостью шестнадцатилетнего юноши дон Диас взбежал по пяти каменным, истертым сотнями ног ступенькам и вошел внутрь. Следом, маясь от жары и тесного воротника, поплелся дон Веласкес, который больше всего на свете хотел пить и снять с себя тяжелый костюм аристократа.— Итак, — сказал отец Франциск, сворачивая полученное письмо и тщательно пряча его в небольшую резную шкатулку, — только что я получил последнее письмо от нашего доверенного человека на Эспаньоле. Оно весьма лаконично, но я усматриваю в нем некоторую надежду. Если вы помните, я уже говорил вам о своих подозрениях. Почта наша, увы, не столь тайная, как того хотелось бы. Множество шпионов заглядывают нам через плечо. Нужно быть очень осторожными. Но сейчас, полагаю, нам все же удастся опередить всех и уберечь одного из наших людей от печальной участи, которая его непременно ждет, если на Эспаньолу прибудет кто-то из людей королевского инспектора дона Себастьяна де Абанилья. — Разве этот человек назвал в письме свое имя? — удивился на это Дамиан. — Он назвал адрес постоялого двора в Санто-Доминго, где нас будет ждать проводник с последними известиями. Как вы понимаете, этой информации с избытком хватит для того, чтобы лишить нас возможности добраться до места. Вот что меня беспокоит, — отец Франциск обернулся и взглянул на отца Дамиана, который, пока наставник читал, поудобнее устраивался на жестком деревянном кресле и потихоньку вытянул под столом ноги. — Я с вами совершенно согласен, — быстро ответил отец Дамиан и выпрямился, снова придав телу и конечностям положение, соответствующее этикету. — Поскольку я намерен нанести визит здешнему губернатору, — продолжил отец Франциск, — и засвидетельствовать ему свое почтение, то постоялый двор придется навестить вам. К сожалению, губернатор на этот раз будет лишен чести приветствовать своего главного землевладельца, но я объясню вашу невежливость досадным кишечным недомоганием, случившимся от грубой пищи. А вы, пока я буду беседовать с губернатором, отправляетесь на постоялый двор «Карраска» — это где-то в северной части города. Кажется, раньше там была пальмовая роща… — И что же я там должен делать? — осторожно спросил Дамиан. — То же самое, что делают сейчас шпионы Абанильи: будете искать нашего человека. Это не так сложно. Это мулат, сирота, полукровка, наполовину француз, наполовину африканец. Прекрасно владеет испанским и французским. Воспитанник здешней миссии. Во всяком случае, достопочтенный отец Жан отрекомендовал его именно так. — Может быть, надежнее все-таки спросить имя? — поинтересовался Дамиан. Отец Франциск покачал головой. — Мы не знаем истинных имен наших братьев, — ответил он. — И не знаем, сможет ли он назваться тем именем, под которым его представил нам генерал-визитатор. Да и вообще, лучше, если не будет звучать никаких имен. — Но что я должен сказать, если обнаружу этого человека? — Все, что вам требуется сказать, это наш девиз: «Ad majorem Dei gloriam!» Этого вполне достаточно. Наш мулат, по-видимому, всего лишь новициант, но девиз, разумеется, ему известен. Он вас поймет. Несмотря на предосторожности, путешественники с «Азалии» все же привлекли к себе некоторое внимание. Несколько праздных горожан, шатающихся по портовым улочкам, парочка лакеев, чистящих башмаки господ во дворе, да грязные уличные мальчишки, играющие прямо на мостовой, готовые за мелкую монету подержать путешественнику стремя или лошадь, обратили взоры на странную пару, одетую по последней испанской моде. Все в полной мере оценили стать и манеры господина, смуглое лицо которого было немного изуродовано шрамом, оставшимся на верхней губе и левой щеке после сабельного удара. Его высокую, исполненную скрытой мощи фигуру провожали уважительными взглядами и одобрительным свистом. Зато над его малорослым и малость застенчивым спутником зеваки потешались от души. Всех позабавила та неуверенность, с которой этот простак носил на себе платье от лучшего мадридского портного. Казалось, что длинная шпага, болтающаяся у его бедра, повешена там лишь ради соблюдения некоторых условностей и хозяин вряд ли слишком часто пускает ее в ход. Островитяне, знающие толк в оружии и не позволявшие ему ржаветь попусту, вдоволь надивились на знатного по виду гостя, особенно когда услышали, что он спрашивает у прохожих, как пройти к постоялому двору «Карраска». К тому времени отец Франциск уже оставил своего спутника в одиночестве и, погрузившись в носилки, отправился прямиком к дому губернатора. Дамиан не стал откладывать дело в долгий ящик и занялся поисками постоялого двора. Но молодой мужчина в богатой одежде, разгуливающий по городу пешком, вызывал лишь недоумение и любопытство. — Позвольте дать вам хороший совет, молодой человек! — чуть высокомерно заявил ему господин с двойным подбородком, судя по внешнему виду, мелкий торговец. — Постоялый двор «Карраска» — не самое подходящее место для приличного человека. Вы-то, я вижу, прибыли прямо из Мадрида? — Я бы так не сказал, — подумав, ответил ему Дамиан. — Старая добрая Испания мало изменилась, и славный город Мадрид по-прежнему не имеет выхода к морю. Поэтому, с вашего разрешения, я прибыл сюда прямо из Кадикса. — Я это и имел в виду! — воскликнул раздосадованный торговец. — И прямо вам скажу, не стоило пересекать океан, чтобы осесть в «Карраске»! — Похоже, мой испанский отстал от жизни, — спокойно отреагировал Дамиан. — Я ведь спрашивал не совета, а как пройти… — Да идите вы… вот этой авенидой, — буркнул торговец, показывая рукой направление, в котором следовало двигаться. — И не далее как через полчаса окажетесь у северных ворот города. Там спросите. Хотя выбор ваш, молодой человек, может вызвать лишь сожаление! Дамиан нисколько не расстроился, а, наоборот, подняв голову, отправился в указанном направлении. На его круглом лице было написано доброжелательное любопытство, которое постоянно сопровождало его с тех пор, как он ступил на землю Эспаньолы. Город Санто-Доминго произвел на него наивыгоднейшее впечатление, потому что был очень похож на какой-нибудь обычный городок на юге благословенной Испании, разве что больше здесь попадалось экзотических, невиданных ранее растений и пестрых птиц, оперение которых было Дамиану незнакомо. Даже манера горожан одеваться, к удивлению Дамиана, не слишком отличалась от того, что он привык видеть у себя на родине. Следовало понимать, что сообщение со Старым Светом было налажено здесь прекрасно и даже веяния моды доходили сюда, хотя и с понятным опозданием. Не удивил Дамиана и постоялый двор, похожий на тысячи подобных постоялых дворов, разбросанных по всем землям и континентам. Разве что публика, в нем обретающаяся, имела свой неподражаемый колорит: это были вольные охотники, скотоводы, издольщики, владельцы небольших клочков земли и крошечных плантаций. Люди эти отличались грубостью, сочетающейся с редкой заносчивостью и подозрительностью, — смесь довольно гремучая и опасная, особенно если не знать, как с ней обращаться. К счастью, в этот самый день народу на постоялом дворе было совсем немного и забавная, по мнению местных, фигура Дамиана привлекла не столь обширное внимание, на какое она могла рассчитывать. Двое ловцов черепах из Эль-Котуи, поджарые, загорелые до черноты парни, попытались было вызвать Дамиана на перебранку, но он ответил им такой кроткой улыбкой, что забияки тут же отстали, а один даже покрутил возле собственного виска пальцем. Дамиан между тем нашел хозяина постоялого двора — жирного, мрачного и недоверчивого мужика лет сорока, с пудовыми кулаками, каждым из которых можно было гнуть подковы, — и перекинулся с ним несколькими словечками. Разумеется, хорошо зная человеческую природу, Дамиан вначале сунул в один из кулаков несколько мелких серебряных монет, надеясь, что это нехитрое средство расположит к нему собеседника. Хозяин, которого звали Толстый Педро, хладнокровно ссыпал деньги в карман кожаного фартука, который был надет на нем по той причине, что с утра он возился с лошадьми, и промолвил: — Сеньор, должно быть, впервые в наших краях? Только что прибыли из Старого Света, а? И как там поживает старушка Испания? — Она процветает, — кратко, но с улыбкой ответил Дамиан, который не видел этой старушки года три. — Пятнадцать годков, как я не ступал на землю моей Андалусии, — мечтательно сказал толстяк. — Осел здесь. Здесь теперь мой дом. А господин, должно быть, заблудился? Я сужу по вашему платью. У нас тут все больше простой люд останавливается. А если благородные господа и заходят… — Не надо лишних слов, друг мой, — с кроткой улыбкой прервал его Дамиан. — Все мы Божьи дети, и платье тут совершенно ни при чем. Вспомни, Христос заходил в простые хижины и говорил с рыбаками и блудницами… Мне тем более незазорно. К тому же мне есть о чем с тобой поговорить. Специально для этого прошел через весь город. — Ага, — сказал Толстый Педро. — Поговорить. А у меня как раз ни минуты времени на разговоры. Хлопот полон рот… — Для убедительности он указал рукой на свой фартук. — Так у тебя и карман тоже не пустой, — хладнокровно напомнил Дамиан. — А если торопишься, то скажи мне побыстрее вот что… Мулат, молодой, проныра, по выговору — француз, одет, должно быть, вполне прилично, хотя, возможно, и стеснен в средствах. — Молодой мулат? — Толстый Педро поскреб в затылке. — Не люблю я этих ублюдков… И какой белый позарится на черномазую… Он испытующе уставился на Дамиана, и тот понял, что хозяин что-то знает. — Я не прошу тебя его любить, — спокойно заметил Дамиан. — Я спросил, бывал ли он тут. Хозяин почему-то быстро обернулся через плечо, а потом с непонятным выражением на толстом красном лице вновь уставился на Дамиана, от напряжения пошевелив усами, похожими на платяную щетку. — Ей-богу, память стала… — пробормотал он. — Народу бывает пропасть… А тут мулат. Тут вообще мулатов не любят… Дамиан полез в кошелек и достал оттуда серебряный реал. — Возьми, друг, вот это и хорошенько подумай, что ты еще знаешь про этого француза, кроме того что его не любят, — назидательно сказал он. И это серебро исчезло в кожаном кармане так же быстро, как до того исчезло прежнее. Но оказалось, что хозяин только вошел во вкус. — Господин впервые в наших краях, — с расстановкой сказал он. — Оттого и удивляется, что мулатов здесь так не любят… — Я ничему не удивляюсь, дорогой друг, — подняв руку, заявил Дамиан. — Разве что твоей непонятливости. Или, наоборот, исключительной сообразительности. Но в этих краях я действительно раньше не бывал и ваших обычаев не знаю. А потому скажи сам, чего ты хочешь, возможно, тогда мы поймем друг друга. Толстый Педро опять оглянулся через плечо и почему-то шепотом произнес: — Один дублон, благородный господин! Всего-то один золотой дублон и… — Ты просишь дублон за то, чтобы немного почесать языком? — удивился Дамиан. — Ты великий грешник, мой друг! Если бы библейская блудница обладала твоими аппетитами, ее бы никто не решился побить камнями… — Уважаемый господин! — многозначительно сказал Толстый Педро, приближая свое залитое потом лицо к самому уху Дамиана. На того пахнуло крепким запахом пота, чеснока и перегара. — Поверьте человеку, который хорошо знает местные обычаи. Вам, может быть, кажется, что вы зря истратите золотой, но любой бродяга на Эспаньоле скажет вам… — Хорошо, я улавливаю в твоих словах обращенный ко мне призыв, — сказал Дамиан. — И откликаясь на этот призыв, я даю тебе требуемое… — он полез в кошелек и достал оттуда золотой дублон. — Но если ты собираешься меня обмануть, то предупреждаю: мне придется вразумить тебя чем-нибудь покрепче, чем братское наставление, — и Дамиан положил руку на эфес. Хозяин взял золото, и глаза его вспыхнули. — Я человек богобоязненный, — сказал он, пробуя монету на зуб. — Каждое воскресенье стараюсь ходить в церковь и надеюсь, что Господь не отвернется от меня и дальше. А сейчас, добрый господин, пойдемте со мной и постарайтесь не шуметь. Вы приехали и уехали, а Толстому Педро здесь жить. — Не бойся, я тебя не выдам, — пообещал Дамиан, который начинал смутно о чем-то догадываться. Они вошли внутрь добротного каменного строения и по крепко сбитой лестнице поднялись на второй этаж. Коридор со множеством дверей был погружен в полумрак. Свет сюда проникал через единственное окошко, прорубленное в дальней стене и забранное решеткой. Толстый Педро с удивительной для его комплекции стремительностью прошел на цыпочках несколько ярдов и молча ткнул пальцем в одну из дверей. Затем он приложил палец к толстым губам и, стараясь не греметь деревянными подошвами своих сандалий, проскочил мимо Дамиана, едва не задев его толстым животом. Так, с прижатым к губам пальцем, он и выскочил обратно на лестницу. Оставшись в одиночестве, Дамиан пожал плечами и бесшумно подошел к указанной двери. Все на этом постоялом дворе было сделано на совесть, из толстых прочных досок, поэтому из комнаты не доносилось никаких определенных звуков. К тому же в одном из соседних номеров кто-то храпел с такой силой, что его вздохи вполне можно было принять за рев небольшой медной трубы. Одним словом, подслушать под дверью не представлялось возможным. Дамиан заглянул в замочную скважину и убедился, что ничего не видит, так как дверь заперта изнутри ключом, который забыли в скважине. Чуть-чуть подумав и перекрестившись, он решительно постучал в дверь кулаком. За разъяренным храпом он, разумеется, не услышал, как подошли к двери, и пожалел об этом: характер походки многое мог бы сказать о человеке, даже больше, чем его голос и внешность. А голос, который вдруг прозвучал по другую сторону двери, был грубым и без малейшего французского акцента. — Кто там еще?! — с раздражением спросил голос. — Что за проклятое место! Я же запретил беспокоить… Что за дьявол колотит в дверь? Что надо? Эти интонации насторожили и заинтересовали Дамиана. Говорил человек, привыкший командовать и наказывать, — ошибиться было невозможно. — Дьявол, увы, часто приходит не с той стороны, откуда его ждешь, — смиренно ответил Дамиан. — Никто бы и не стал вас беспокоить, добрые люди, если бы не пожар, который только что начался внизу. Горит все под вами! С южного угла занялось, но при такой погоде долго ли?.. Дым-то чуете? Дымком действительно припахивало — с кухни ли, где готовился обед, с кузницы ли на заднем дворе, где хозяин подковывал лошадей, но этот запах оказался очень кстати. Тот, кто разговаривал с Дамианом через дверь, несомненно, ощущал дымный запах уже давно, не обращая на него внимания, но теперь, после соответствующего разъяснения, призадумался и пришел к выводу, что разговор про пожар может быть правдой. А то, что Дамиан сообщал об этом спокойно, без надрыва, почти флегматично, почему-то даже больше убедило сердитого человека. Он несколько раз провернул ключ в замочной скважине и с силой рванул дверь на себя. На мгновение они оказались с Дамианом лицом к лицу — чуть простодушный с виду воспитанник монастыря, открывающий для себя увлекательную светскую жизнь, упитанный и коренастый, как крестьянин, и злой невысокий человечек с коричневой бородавкой на левой ноздре, платьем и манерами похожий одновременно и на чиновника, и на военного. Этого мгновения им оказалось достаточно, чтобы понять друг о друге многое. Маленький человечек откинулся назад, намереваясь выхватить из ножен оружие, но Дамиан, не раздумывая, просто по-студенчески хватил его кулачищем между глаз. Раздался тихий хруст, и незнакомец, отлетев на пару ярдов, опрокинулся на спину и затих. Тут Дамиан сделал то, что помешал сделать своему противнику, а именно выхватил шпагу и прыгнул через порог, обнаружив в глубине комнаты, возле умывальника, еще одного неприметного, похожего на чиновника, меланхоличного человека, который, судя по всему, только что пытал третьего, крепко связанного и подвешенного за руки на прочном крюке для одежды, вбитом в стену. Впрочем, господину меланхолику пришлось волей-неволей пытки прекратить. Он повернулся к Дамиану и выстрелил в него из пистолета. Но капризное оружие дало осечку. — Проклятие! — вскричал чиновник и, отбросив бесполезный пистолет, выхватил шпагу. Вид чужой шпаги отчего-то всегда пробуждал в обычно флегматичной душе отца-иезуита зверя. Клинки со звоном скрестились. Едва запела сталь, как соперник Дамиана начал сдавать. Он явно не ожидал столь мастерской атаки, да и вообще фехтование, судя по всему, не являлось его коньком. Еле отбив фланконад, при котором шпаги касались друг друга левыми сторонами, и едва не вывихнув при этом кисть высоко поднятой руки, он вдруг заголосил: — Эй, любезный, любезный! Вложите шпагу в ножны! Вы не знаете, с кем связались! Вас ждет виселица! Именем короля… Дамиан сделал безумное лицо, применил кроазе, мгновенным ударом по слабой части шпаги противника вскользь выбил ее из руки по-настоящему перетрусившего вояки. Шпага чиновника отлетела в угол. Не теряя ни секунды, Дамиан убрал клинок в ножны, ухватил растерявшегося соперника одной рукой за шиворот, а другой — за штаны, приподнял в воздухе и, разбежавшись, вышвырнул его в окно. Снизу немедленно донесся его слабый крик и недовольный поросячий визг. Дамиан, воодушевленный легкой победой, тут же подхватил с пола чиновника с бородавкой и тем же манером спровадил его восвояси. Внизу снова хрюкнула свинья и ойкнул человек. — Здорово! Ура! — слабым голосом произнес человек, висящий на крюке с задранными вверх, посиневшими и распухшими от веревок руками. — Если бы вы выкинули на двор и меня, то я до смерти молил бы о вас Пресвятую Деву… Дамиан отряхнул руки и тут только внимательно рассмотрел подвешенного на импровизированной дыбе человека. Это был, несомненно, мулат, выговор его за милю отдавал французским прононсом, а что касается вероисповедания… — Ad majorem Dei gloriam! — внятно и даже торжественно произнес Дамиан, не сводя взгляда с пленника. — Аминь! — со вздохом отозвался сверху молодой человек. — Значит, это вы? Ну что же, лучше, как говорится, поздно… Может быть, тогда снимете меня с этого крюка, пока я окончательно не превратился в свиной окорок, причем подкопченный по причине происхождения? Дамиана не нужно было упрашивать — ловко орудуя ножом, он спустил мулата на пол, правда, несколько не удержав его неожиданно тяжелое тело, отчего тот неловко грохнулся на бок. — Прошу прощения, — пробормотал Дамиан и бросился распутывать веревки, крепко стягивающие его тело. Пока освобожденный, морщась, растирал затекшие руки и ноги, Дамиан с любопытством рассматривал его. Перед ним сидел мужчина лет двадцати, с курчавыми волосами до плеч, довольно приятной наружности, но с кожей очень смуглой. Нос его был немного приплюснут, губы несколько более выворочены, чем полагалось европейцу, а глаза, слегка выпуклые, смотрели весело и нагловато. Его распухшие руки были грязны, а одежда, явно с чужого плеча, напоминала одновременно платье погонщика мулов и одежду лакея. Полотняная рубаха была на груди разорвана, выставляя на обозрение великолепно развитые грудные мышцы и загадочный амулет, кожаный жилет валялся неподалеку, а суконные штаны с кожаными заплатками были покрыты пятнами засохшей глины. Некоторые меры убеждения, примененные к нему недавно, оставили на лице мулата следы, которые его отнюдь не украсили. Тем не менее в его красивых, хоть и грубоватых чертах, в его смелом взгляде чувствовалась огромная энергия, да и сама манера шутить в таких отчаянных обстоятельствах свидетельствовала о некоторой незаурядности натуры этого полукровки. — Можете наконец идти? — нетерпеливо осведомился Дамиан. — Держите руку! Нам нужно убираться отсюда. Вы уже заплатили за комнату? — Я не занимал здесь никакой комнаты, — ответил мулат, с трудом поднимаясь на затекшие ноги. — Последние три дня у меня почти не было денег. Я наведывался сюда, надеясь, что однажды вы появитесь. Но вместо вас на меня напали эти два мерзавца, которые стали задавать мне вопросы… — Тихо! — воскликнул Дамиан, прислушиваясь. — Я слышу грохот колес и топот копыт. Кто-то подъехал сюда в карете. Это лишний повод бежать отсюда как можно быстрее. Если вам тяжело, обопритесь о мое плечо! — Ничего! Я справлюсь! Они быстро покинули комнату, спустились по лестнице и выскочили во двор. У ворот стояла великолепная карета. На козлах восседал кучер в ливрее, а из раскрытой дверцы выглядывал сам отец Франциск, надменный и величественный. — Сюрприз! — сказал Дамиан и дернул спутника за руку. — Бегом в карету! Они запрыгнули в экипаж. Отец Франциск крикнул кучеру: «Пошел!» и захлопнул дверцу. Карета понеслась. — Я не стал задерживаться у губернатора, — сообщил отец Франциск, внимательно разглядывая своих пассажиров. — Но он был так растроган нашим знакомством, что сам предложил мне карету, дабы я мог с удобствами добраться до своего поместья. — А куда мы вообще едем? — без стеснения поинтересовался бойкий молодой человек. — Я, может быть, не ел три дня, а после того, как на постоялом дворе меня подвесили, точно тушу… — Ваше имя, молодой человек! — сверля его ледяным взглядом, произнес отец Франциск. — Если ваше имя Жан, то рассказывайте все, что вам известно о поисках сокровищ. Я желаю знать все немедленно. — Меня зовут Жан-Поль, — молодой человек оскалил белоснежные крупные зубы и усмехнулся. — Меня направил Орден. У меня сообщение от Робера Амбулена, и я буду вашим проводником. Отец Франциск оглядел мулата, его залатанные штаны, с которых на красные, обитые бархатом сиденья осыпалась грязь, и подумал, что в жизни не встречал более противного типа. «С кем только не приходится работать», — подумал профос и вздохнул. Отец Дамиан истолковал вздох предводителя по-своему. — Да, нас ждет трудное путешествие, — произнес он и выглянул в окно, словно опасаясь, что их кто-то подслушивает. — Расскажите нам все. — А я и не знаю-то ничего. Мне, между нами, до вашей экспедиции и дела-то никакого нет. Меня падре попросил — я сделал. Мне что так в гилею идти, что этак. Живу-то я при миссии, вот падре и дает мне разные поручения. Амбулена вашего я и в глаза не видел. Пришла от него весточка недели полторы назад. Ну, падре меня на шхуну посадил и отправил с попутным ветром. Мне что: день, два — и готово. А на словах падре меня вот что просил передать: «Амбулен встретил юношу по имени Уильям Харт, который оказался в приятельских отношениях с известным пиратом Веселым Диком, истинное имя которого — Роджер Рэли. Он незаконнорожденный внук того самого Рэли, который нашел эти сокровища и спрятал их на Эспаньоле. Сэр Кэрью Рэли, сын Уолтера Рэли, передал Роджеру бумаги его деда, в которых находилась карта спрятанных сэром Уолтером сокровищ. Амбулен сумел войти Харту в доверие, а впоследствии приблизился и к Роджеру Рэли, который известен на островах под именем капера Веселого Дика. Вместе с ним он отправился на Эспаньолу, пытаясь завлечь Веселого Дика в ловушку или как-то еще завладеть картой. На помощь ему прибыл Хуан Эстебано, агент Ордена, индеец-караиб, который имел на руках приказ короля капитану флота Его Величества шевалье Франсуа Ришери о всяческом содействии членам Общества Иисуса, полученный отцом Франсуа, духовником короля. Но шевалье Ришери, соблазненный шпионкой Кольбера мадам Аделаидой Ванбъерскен, отказался выполнить приказ и арестовать женщину, дабы изъять у нее карту, полученную ею от Веселого Дика при невыясненных обстоятельствах. Потом после некоторых неординарных событий индеец погиб, а шевалье Ришери, голландцы и женщина без помех двинулись к месту, где спрятаны сокровища. Надо спешить, иначе кладом завладеют другие. Возможно, придется нанять людей с оружием. Ришери не подчинился один раз, взбрыкнет и в другой». — Вот и все, сеньор, что мне велено передать на словах. А я уж доведу вас куда следует. Нам бы, чтобы успеть, надо погрузиться на судно сегодня ночью, самое позднее — завтра утром. — Прекрасно. Значит, выступаем сегодня в полночь, — отец Франциск извлек из кармана часы и посмотрел на циферблат: — Сейчас три часа пополудни. Значит, мы должны успеть. Отец Дамиан, я черкану пару строк, а вы будьте так любезны, отправьте их капитану «Азалии». Они успеют пополнить бочки водой, а трюмы — мясом. Тем более, как я понимаю, плыть нам придется недолго. — Да, мы обогнем и подойдем туда с востока. Дальше — пешком. В миссии нас будет ждать отряд, падре обещал все подготовить. — А как же наши противники? Ведь они наверняка уже нашли клад? — Насколько я могу предположить, следуя формальной логике, Роджер Рэли или имеет копию карты, или вовсе в ней не нуждается. У него мало людей, и он, даже если и доберется до места, конечно же, не сумеет так быстро перепрятать или вывезти сокровища. Ведь там должны быть сотни килограммов золота, — уверенно сказал отец Франциск. — Те же проблемы ждут и французов с голландцами. В любом случае нас, скорее всего, ждет драка, — и в глазах профоса сверкнула молния. Отец Дамиан вспомнил сожженный в устье Ориноко форт и загрустил.
Глава 13 Шутка мертвого капитана
Карибское море. Эспаньола
«За горой — гора» — гласит поговорка коренных жителей Эспаньолы — индейцев-араваков. В этом Кроуфорд и его отряд убедились на собственной шкуре. Третий день, перевалив Северный хребет, они шли туда, где неподалеку от небольшой горной реки, в одной из карстовых пещер, больше полувека лежали сокровища, упрятанные туда капитаном гвардии королевы Елизаветы Тюдор сэром Уолтером Рэли. Уже в который раз, приваливаясь к острым обломкам известняка, Кроуфорд с трудом переводил дыхание и, прикрывая уставшие от блеска меловых скал глаза, думал о том, как удалось сэру Уолтеру доставить сюда этот груз. Неужели его ненависть и презрение к королю Якову были таковы, что он, не жалея ни себя, ни матросов, ни рабов, гнал сюда караван с золотом? Зачем? Для кого? Он не находил ответа, и, трясясь в подхваченной лихорадке, он слизывал холодный соленый пот с губ и с тоской думал о том, что, скорее всего, он никогда не выберетсяотсюда. Даже если они опередят французов, даже если Лукреции удастся сделать все, о чем они договорились тогда ночью, им предстоит драка. Людей катастрофически не хватает, и, даже если он сможет убедить полоумного нгомбо дать ему своих маронов, им все равно не вынести отсюда все. Значит, придется брать самое ценное: найти черепа, изумруды и жемчуг. Золото придется бросить или перепрятать. Но почему, почему Рэли спрятал их здесь? Абсурд. Нет логики. Отчим прав: Уолтер Рэли спятил. При воспоминании об отчиме по лицу Фрэнсиса пробежала судорога ненависти. Да, тот был умен, любил его мать и оплатил все счета пасынка. Но если бы не он, если бы не сэр Леолайн Дженкинс, если бы не глава секретной службы Англии, разве он, Роджер Рэли, стал бы теперь тем, кто он есть? Убийцей, жалким авантюристом, шпионом на службе Карла? О-о, мать плакала от счастья, что ее беспутного сынка, прижитого во грехе, взяли на королевскую службу. Что Роджера, игрока и мота, ждет блестящее будущее под крылом заемного папеньки. Ведь наш новый папенька, наш обожаемый супруг, наш толстый индюк сэр Леолайн — министр Карла. У него есть бювар, набитый письмами короля, кабинет в Вестминстре и дом в Лондоне. Глупенький Роджер не понимает своего счастья — счастья грабить и убивать под флагом Британии, предавать и унижаться под гербом желтого Льва и белого Единорога. «Dieu et mon Droit» *["256]. Кроуфорд изодранным рукавом утер пот со лба, и уголки его обветренных губ дернулись, складываясь в привычную усмешку. Убейте в человеке личность, и он станет отличным гражданином. — Привал, — прохрипел он и осел на камни, пытаясь найти тень под редкими кустиками, росшими на выжженном солнцем склоне горы. — Фрэнсис, выпей, — Харт приставил нагревшуюся от жары серебряную флягу к его губам. Кроуфорд сделал пару глотков, и тут же новый приступ скрутил его, выламывая суставы, растягивая и сжимая жилы, сокращая мышцы. — Ты болен, нам надо остановиться. Кроуфорд помотал головой. — Достань из кисета листья и дай мне. — Но ведь это опасно. Ты уже третий раз за сегодня прибегаешь к этой отраве. — А что мне еще остается, — огрызнулся Кроуфорд и клацнул зубами, которые под действием болезни норовили выбить барабанную дробь. Дрожащей рукой он сунул пару сморщенных посеревших листочков в рот и принялся их жевать. Боб и Джон тащили на себе бурдюки с водой и пару тушек копченого агути — местного грызуна, больше всего похожего на помесь зайца и морской свинки. Их, как и самодельные кожаные мешки для воды, дали им с собой беглые рабы, снабдив также кукурузными лепешками и сушеными фруктами. Провизия была на исходе, но до цели был всего день перехода — так что, если не будет дождя, к вечеру они доберутся до места. Старый нгомбо дал отряду и двух проводников — молодых негров, с которыми при случае можно было отправить и весточку. Те держались особняком от «больших белых», как они уважительно называли спутников Веселого Дика. Потрошитель раскладывал прямо на камне нехитрую снедь, тщательно отмеряя каждому причитающийся паек. Капитан Ивлин разулся, разжег трубку и, подставив босые ноги солнышку, предался созерцанию. Все это Кроуфорд видел как в тумане, кока все меньше и меньше действовала на истощенный «желтой смертью» организм. — Еще немного, ребята, и мы будем на месте, — сказал он. Ребята кивнули и вернулись к своим занятиям. Был полдень — самое жаркое время дня. Сезон дождей подходил к концу, а здесь, по эту сторону хребта, климат оказался более сухим и жарким. Ветер с океана не достигал этих мест, остановленный каменным барьером хребта, и изнуряющая жара мучила отряд с утра до вечера. В сумерках же температура падала, и, страдая от нехватки дров, люди тряслись от холода, который, может быть, и не был столь силен, но казался таковым для обожженной и разогретой солнцем кожи. — Солнц нет, мы придем, — вдруг сказал один из негров и махнул рукой куда-то на запад. — Там твой скала. Мой ходил туда. Нгомбо послал — там место силы. — Откуда ты знаешь? — спросил Кроуфорд, поднимая голову. — Много лет назад, много, столько пальцев нет у нас всех, там жили белый человек. Один, два, — много. Их мучал злой дух: он забрался в них и ел их внутренности. Но белый не сдавался. Он молился свой Великий Белый Бог и делал для черных людей добро — учил, как стрелять, жалел, прятал от другой белый. Тогда «большие белые» туда никто не ходить — там смерть. «Большие белые» боялись злой дух: кто хочет, чтоб его руки и ноги съели, съели глаза и пальцы? Наши отцы прятались там — Великий Белый Бог защищал их, и злой дух не трогал черный человек. А потом все добрые белые люди ушли на Восток, на Небо — злой дух съел их тела, но их души были белее и сильнее, чем прежде, — старый нгомбо видел, как они поднимались в небо по золотой лестнице. У них были новые тела — значит, они победили злой дух. Они поставили там крест — и злой дух не ходит туда больше. Но черный человек тоже боится — нгомбо не посылать, мы — не ходить. Вдруг злой дух вернется и съест нас? — Вы что-нибудь поняли из этой тарабарщины? — Уильям оглянулся на капитана и Кроуфорда. — Я полагаю, — сказал капитан Ивлин, вытаскивая трубку изо рта, — что когда-то там было селение белых. Может, они были чем-то больны, поэтому были вынуждены уйти так далеко от всех. Но они поддерживали отношения с беглыми рабами и помогали им. Плантаторы боялись заразы — и рабы пользовались этим. Больше я не понял ничего, — капитан снова сунул трубку в рот и выпустил дымное колечко в небо. — А я понял, что кто-то обитал прямо рядом с кладом и, возможно, охранял его. Но не воспользовался ли этот кто-то золотом раньше нас? — Кроуфорд скрипнул зубами от боли и попытался дотянуться до пищи. Потрошитель заметил это и ножом подвинул еду своему капитану. — А я ничего не понял, — сказал Уильям. — Наверное, я начисто лишен абстрактного ума и воображения — мне трудно превратить эту абракадабру в связный рассказ. Значит, у меня Аристотелево мышление, а не Платоново, — присовокупил Уильям и рассмеялся. — Ну хоть какое-то есть, — буркнул Кроуфорд. — Я и этого-то не замечал. — Свистать всех наверх! — квартирмейстер оглянулся, и все потянулись к трапезе.* * *
Днем 18 декабря отряд капитана Ришери добрался до наивысшей точки перевала, находившейся на высоте двух тысяч футов. Они очутились на небольшом плоскогорье, откуда открывался обширный вид. Где-то на юго-востоке сияли отраженным солнцем вершины хребта, пустынные и безжизненные, столь высокие, что на них даже в этих тропических широтах изредка выпадал снег, а на северо-западе высились горы поменьше, изрезанные глубокими ущельями и безымянными бурными реками, склоны которых поросли до самых вершин одинокими соснами и мелким кустарником. Далеко позади них остались зеленеющие пространства гилеи — ее плодородные земли, высокие леса. Этот край имел первобытный вид. Здесь природа еще владычествовала над своими творениями — над водами рек, над огромными соснами и дубами, незнакомыми с топором, и буканьеры, которым не на кого было здесь охотиться, пока не решались вступать с ней в борьбу. Казалось, что этот хребет отделяет друг от друга две различные страны, одна из которых сохранила первобытную дикость. Солнце стояло высоко над головой, и его лучи, прорываясь сквозь мрачные, разорванные ветром облака, оживляли краски безлюдного края. Южная часть острова, заслоненная горами, терялась в смутной мгле, и там, казалось, наступал преждевременный вечер. Зрители, стоявшие между двумя резко отличавшимися друг от друга областями, живо почувствовали этот контраст и с некоторым волнением смотрели на простиравшийся перед ними почти неведомый край, через который им предстояло пробираться до затерянного среди гор плато, раскинувшегося у подножия Скалы Последней Надежды. Еще несколько дней назад путешественникам пришлось спешиться и вести лошадей в поводу. Горная тропа, вернее ее видимость, была настолько плоха, что бедные животные ежесекундно рисковали сломать себе ноги. Не лучше было и людям, которым пришлось скакать по склонам, как местным агути. Однажды Ришери указал пальцем на жесткую притоптанную траву и сказал: — Видите, они идут впереди. Обгоняют нас на день. — Это все из-за вас, — немедленно встрял потный Абрабанель и утер шею грязным батистовым платком. — Все из-за вас и вашей безалаберности. Вы позволили удрать этому висельнику, вы проворонили нападение маронов, вы допустили, что нас едва не разорвали эти ходячие покойники, — коадьютер, сопя, привалился к камню и злобно посмотрел на Ришери. — Отец, нам всем трудно, но скоро наше приключение закончится… — подала голос Элейна, которой по примеру мадам Аделаиды тоже пришлось облачиться в мужскую одежду. Но если мадам Аделаида была одета в платье, сшитое по ее мерке на заказ, то на Элейне были запасные штаны из гардероба капитана Ришери, так как в одеяниях своих рослых соотечественников она рисковала заблудиться, а папенькины можно было обернуть вокруг нее три раза. Кафтан ей ссудил Ван Дер Фельд, шляпу еще кто-то: надевать одежду с трупа девушка решительно отказалась и ее поделили между собой оставшиеся в живых солдаты. — А ты вообще молчи, блудная дщерь! — вскричал господин Абрабанель. — Если бы не твое безрассудство, мы бы сейчас не тащились по камням, а… — Интересно, откуда бы взялась удобная дорога? — заметил месье Амбулен и приподнял брови, изображая удивление. Он-то был довольнее всех. Индеец, черт его возьми, пропал; письмо духовника короля у него в кармане, Ришери, если не хочет прослыть изменником и попасть под суд, должен ему подчиниться. Значит, сокровища достанутся Ордену. «Quod erat demonstrandum» *["257] — что и требовалось доказать. Против обыкновения мадам Аделаида не приняла участия в назревающей перепалке. Воспользовавшись минутной передышкой, она присела на камень и углубилась в собственные размышления. Следы стоянки Кроуфорда укрепляли в ней надежду на счастливый исход. В любом случае он жив, значит, вместе они что-нибудь придумают. Главное — перетащить на свою сторону Ришери и избавиться от свалившегося на голову иезуита. Не успели избавиться от одного, и на тебе — другой. Но ведет он себя весьма самоуверенно. Неужели он здесь не один? Но кто еще? Или он успел переправить записку в миссию? Проклятие! Она краем глаза следила за Амбуленом, пытаясь прочесть его мысли по выражению лица. А выражение, прямо скажем, было простым и безмятежным до омерзения. «Вот дрянь, — подумала Лукреция. — Прикидывается овцой. Но я-то знаю, где пасут таких ягняток. Клыки у них почище волчьих, а лапки заканчиваются коготками. Неужели Кольбер настолько плох, что наш иезуитский падре ла Шез *["258]переупрямил его? Нет, не может быть. Король всегда стремился ограничить власть Ватикана во Франции. Но теперешняя “мадам сегодняшнего дня” *["259] — истовая католичка… Неужели есть новые указания, более весомые, чем слово Кольбера?» — и Лукреция снова испытующе посмотрела на Амбулена из-под полуопущенных ресниц. На кону стоял не просто успех ее предприятия — на кон ставили ее жизнь. — Если бы мне посчастливилось объяснять его светлости морскому министру месье Кольберу, как выглядит Эспаньола, то я, скорее всего, взял бы кусок бумаги, смял его и, положив на стол, сказал: «Вот, ваша светлость, как выглядит ваша колония», — шевалье Ришери вздохнул и оглядел свой пыльный и местами рваный костюм. — Но, боюсь, мне может не посчастливиться… — Да, это вы, месье, отлично придумали, — рассмеялся Амбулен. — Когда я увидел громаду гор, словно вертикально поднимающихся со дна моря, то сразу оценил название этого острова, данное ему местными индейцами. — И что же это за название? — спросила Элейна, которой чем-то нравился этот простодушный молодой врач, манерами и прямотой напоминающий ей Харта. — Гаити. Индейцы-таины из племени араваков называли свой остров «Гаити» — «Горная страна». — А откуда вы знаете? — Поднабрался от своего приятеля-индейца, — снова встрял неуемный коадьютор. — Водитесь со всякой швалью, а ведь с виду дворянин. — Я действительно дворянин, — доброжелательно улыбнулся Амбулен. — Но я рано осиротел и мне пришлось самому добывать себе хлеб. С юности я питал слабость к наукам и избрал для себя медицину. Мадам Аделаида вздрогнула и еще внимательнее всмотрелась в лицо молодого мужчины. — Это благородное поприще, — кивнула Элейна. — Моя няня тоже разбиралась в медицине и все лечила меня от детских хворей. — Знаю я эти лекарства: пичкала тебя шоколатом да взбитыми яйцами с медом, проворчал Абрабанель. — Едва не испортила малютке желудок! От этого у нее всегда был такой понос! — Ну папа!.. — Элейна покраснела до кончиков ушей и отвернулась. Ришери захохотал и невольно посмотрел на мадам, а мадам Аделаида соизволила улыбнуться. «Седьмой, — отметила она. Он посмотрел на меня седьмой раз с той ночи. Что ж, дождемся десятки и пойдем в наступление!» — Сколько нам еще осталось, не соизволите ли сказать? — Абрабанель обернулся к женщине. — Два перехода. Завтра к вечеру мы должны быть на месте. — Но где это место? — Чуть западнее, — ответила Аделаида и ослепительно улыбнулась. — Хватит болтать, привал на заходе солнца, — вдруг скомандовал капитан Ришери, и вскоре уже цепочка людей снова медленно потянулась в горы. После нападения оживших мертвецов отряд сильно поредел и теперь едва насчитывал около полутора дюжин человек. Что они будут делать с сокровищами, старались не думать. Главное было теперь только одно — найти их.* * *
Два десятка рабов, матросы с «Азалии», рота испанских солдат под предводительством дона Фернандо Диаса и его племянник достигли перевала через хребет и разбили лагерь. Перевал оказался узкой тропой между скалами, и навьюченный мул мог протиснуться туда с большим трудом. Они шли по следам капитана Ришери и его отряда, останавливаясь только для ночлега и в полдень, — следов было много, они были свежими, и очень скоро дон Фернандо должен был их догнать.* * *
На закате измученные люди Кроуфорда ступили на плоскогорье, заросшее низким кустарником, соснами и священным деревом мапу и обозначенное сэром Уолтером на карте черепом и двумя скрещенными костями под ним. «Веселый Роджер» скалил в усмешке провал рта — символ пиратов всех морей знаменовал собой место, где любимец Елизаветы, подчиняясь какой-то безумной прихоти, спрятал индейское золото, добытое им в дебрях Новой Гвианы. Здесь, как указывала карта, в разломах известняковых скал, нависших над плоскогорьем справа от тропы, следовало искать приваленную камнями пещеру, в которой прямо на поверхности лежали сундуки, набитые золотыми идолами, ритуальными дисками и посмертными масками касиков, цивилизацию которых испанцы некогда стерли с лица земли. Плоскогорье, как оказалось потом, было, словно гигантским ножом, разрезано надвое горной рекой, которая, пересекая его с юго-востока на северо-запад, низвергалась вниз величественным водопадом, образуя внизу, в ущелье, на расстоянии около семидесяти футов, небольшое похожее на чашу озерцо, вода в котором казалась черной то ли от глубины, то ли от странного цвета окружающих его камней. Из озерца река вновь вытекала, но уже более спокойно и катила свои воды дальше, теряясь среди деревьев небольшой равнины, замкнутой крутыми скалами в кольцо. Тишина этого места нарушалась лишь грохотом водопада, шум от которого ветер сносил прямо на скалы, да жужжанием каких-то насекомых, которых потревожил шагающий по жесткой траве отряд. Небо казалось близким-близким, и Уильям, оглянувшись, ощутил странную пустоту, которая вдруг напомнила ему просторы холмов Англии. Какое-то безумное веселье, невиданный прилив энергии вдруг подхватил людей; казалось, сама мысль о близости колоссального богатства вдохнула в них новые силы, укрепила дрожащие мышцы, согрела уставшие сердца. Громко смеясь и перекрикиваясь, люди бежали к пещерам в скалах, зияющие пасти которых были видны издалека. Только два негра вдруг замедлили ход и, чертя в воздухе различные охраняющие знаки, нерешительно двигались за белыми. Черные лица их посерели как пепел, и, громко вопя, они указывали на что-то пальцами. Кроуфорд вдруг замедлил шаг и, обернувшись, всмотрелся туда, куда указывали дикари. Высоко над их головами, прямо на скале, то ли копотью от факелов, то ли еще какой-то загадочной смесью золы и глины был нарисован крест в виде огромного якоря. — Вот она, Скала Последней Надежды, — прошептал он, и странный холодок пробежал у него по спине. — Масса, здесь жил белый, здесь он умер. Мы дальше не ходить, мы ждать здесь, — затараторили негры, отчаянно маша руками и притоптывая босыми ногами. — Ищите вход под знаком! — закричал Кроуфорд. Неожиданный порыв ветра вдруг с силой пронесся над плоскогорьем, и откуда-то послышался резкий и печальный звон колокола. Семеро человек застыли как один и молча переглянулись. Снова послышался звон — будто на кладбищенской колокольне звонил пономарь. Негры в ужасе обхватили головы руками и попадали на колени.* * *
Воздух в пещере был сухой и прохладный, видно, она имела и другие выходы наружу. Пол ее был покрыт мелким камнем, в стенах кем-то вырублены ниши, похожие не то на сиденья, не то на матросские рундуки. Над каждым проемом тем же способом, что и на скале, был начертан крест в виде якоря. — Отличные полки для наших сундуков, — громко сказал Потрошитель, — только что-то я их не вижу. Кроуфорд подошел поближе к одной из стен и поднял факел над головой. На мягком, слегка закопченном белесом камне были старательно высечены слова на латыни:«Именем Христа! Ты, кто пришел сюда после нас, знай, что здесь нашли приют и последнее упокоение те, кого милостивый Господь сподобил понести тяжкий крест болезни во искупление грехов и очищение сердец. Ныне, накануне Успения Божьей Матери лета 1640, я, милостью Божьей, последний из пришедших сюда пятьдесят лет назад людей, начинаю свой труд, чтобы сохранить для потомков память о тех, кто нес скорби и молитвенный труд здесь, на далекой земле Санто-Доминго, или Гаити, во Славу Имени Божьего и во освящение этой языческой земли. В лето 1590 года шхуна “Кэтти Сарк” высадила сюда людей, принявших на себя монашеские обеты, после того как их поразила проказа. Мы решили покинуть родную Англию и отправились сюда на купленном мной, смиренным священником и монахом Патриком, в миру сэром Кристофером Уолсингемом, судне, для того чтобы, уйдя от мира, приносить в тиши и безмолвии Бескровную Жертву нашего Господа и молиться о спасении всего мира и всех христиан, ибо гонения на нашу святую веру сделались повсеместны и нетерпимы. Ныне я один из двадцати трех добровольцев, покинувших Европу, остался в живых. Кто бы ты ни был, соверши над нами заупокойную молитву, и да пребудут на тебе милость и благословение Божьи. Вот наши имена: …— Лепра… — прошептал Кроуфорд. — Проказа! — завопил Боб и, толкнув Джона, выскочил из пещеры, как пробка из бутылки. Джон, едва не упав, ринулся следом. — Печать дьявола, — сквозь зубы, содрогнувшись, пробормотал Потрошитель. Кроуфорд стиснул зубы и, борясь с лихорадкой, произнес: — Что за странные шутки? Он выхватил факел из рук застывшего от ужаса Джо Янга и решительным шагом двинулся вглубь пещеры. Уильям оглянулся на Ивлина и Потрошителя и пошел за Кроуфордом. Вскоре за спиной он услышал шаги — это оказался капитан Ивлин. Пройдя по узкому темному переходу, который вел куда-то вниз, они вдруг оказались в просторном помещении почти правильной формы, по периметру которого на каменных полках аккуратно лежали человеческие кости и черепа, многие из которых были словно изгрызены или изуродованы каким-то невиданным зверем. — Ассуарий… — выдохнул Кроуфорд. — Кладбище… — пробормотал Потрошитель и, переложив факел в левую руку, перекрестился клешней. — Они все умерли от проказы, — сказал Ивлин, указывая головой на обезображенные останки и невольно отступая к выходу. — Господи, помилуй, — прошептал Уильям. — Господи, помилуй. И, не сговариваясь, они развернулись и бросились обратно, к выходу из пещеры. — Ты привел нас сюда на погибель, — дико озираясь, взвизгнул Джо Янг. Пираты сгрудились вокруг него, на безопасном, по их мнению, расстоянии от зловещей пещеры-кладбища. — Мало того что твои скровища — это блеф, ты еще хочешь, чтобы мы сдохли от ленивой смерти! — Заткнись, шкерт, — Потрошитель выступил вперед и вынул из-за пояса нож, лезвие которого было длиной не меньше фута, — или я пощекочу тебе горло! — Товарищи, — сказал Янг и оглянулся на Боба и Джона, — смотрите-ка, Веселый Дик завел нас сюда на верную смерть, а теперь мы еще и виноваты! — Ты что, Джо, хочешь пролезть в капитаны? — в голосе Потрошителя звучала неприкрытая насмешка, и он, улыбаясь, смотрел на растерянных пиратов. — Требую сходки! — выкрикнул Янг. — Веселый Дик должен быть низложен! — Уж не ты ли займешь его место? — спросил Потрошитель. — Может, ты умеешь прокладывать курс или управляться с рулем? — Брось, Джек. Я досыта наелся чужих команд и теперь буду поступать, как хочу. — Клянусь, я научу тебя слушаться: не было еще человека, который остался бы жить на земле после того, как не поладил со мной, — сказал Потрошитель и поудобнее перехватил нож изуродованной клешней. Янг посмотрел на Боба и Джона, ища поддержки, но те молчали, не сводя настороженных глаз со своего квартирмейстера. — Вот так всегда, дети мои, — Потрошитель усмехнулся и оглядел всех троих: — Храбрости не хватает. Кишка тонка у вас, молокососы, спорить со мной. Боитесь увидеть перед смертью собственные кишки, намотанные на мой славный ножик? Тогда по местам, ребята. Все вы увязались с нами добровольно — значит, должны с честью принять то, что уготовила нам судьба. А ты, Янг, вообще жив только милостью Дика — вот уж удивляет он меня иной раз. Я бы уже давно поглядел, какого цвета твоя кровь: сдается мне, она белесая, как сопли, и жидкая, как водица. Кто-то хмыкнул, и Потрошитель повысил голос: — Фортуна посмеялась над нами — в другой раз мы задерем ей подол. Так что давайте-ка поужинаем, а то в моем брюхе уже играет целый оркестр, — Потрошитель снова окинул взглядом всю компанию и, убрав нож за пояс, демонстративно обратился к ним спиной. Уильям поглядел на его крепкий, загорелый до красноты затылок, на который из-под шелковой выгоревшей косынки падали желтовато-седые космы, и подумал, что иногда человеческая преданность таится под самыми причудливыми оболочками.Раб БожийСвященник Патрик».
* * *
После короткого размышления было решено заночевать прямо на плоскогорье, благо воды здесь было предостаточно, а немного еды еще болталось в заплечных мешках. Подавленные крушением своих великих надежд, люди молча разбрелись вокруг пещер, которые хоть и были более сырыми и неудобными, чем помеченные на карте, зато в них не было заметно следов человека — следов проказы. — Да, вот это шуточки! — бормотал Потрошитель. — Такого я еще не видал, лопни моя селезенка! Он сооружал небольшой костер из веток кустарника и готовился вскипятить воду в небольшом медном котелке, который повсюду таскал с собой. Унылое молчание, изредка прерываемое короткими ругательствами, воцарилось в лагере. Никто не хотел никого видеть, все избегали любых разговоров, словно боялись, что жестокое разочарование, терзавшее их души, может ненароком выплеснуться в слепой и яростный гнев, который приведет к бессмысленным обвинениям и поножовщине. Кроуфорд сидел, прислонившись спиной к сосне, и боролся со сжигающей его изнутри лихорадкой. Половину жизни потратил он, чтобы добраться до этих сокровищ, и вот все рухнуло в одно мгновение. Но он не потерял головы. Он думал о том, как отсюда выбраться. Остальное теперь было неважно. Он оглядел свою команду. Что ж, все, кто пришли с ним, живы и относительно здоровы — значит, он не такой уж плохой капитан. Теперь его долг — вывести их к заливу, где с На-Чан-Чель на борту их ждет кутер «Король Луи». А ведь она с самого начала бормотала какую-то ерунду про то, что здесь нет никаких сокровищ. Кроуфорд вспомнил горячие глаза дочери майя. Да уж. Как в воду глядела. Он не вспомнил о ней ни разу — ни разу за этот месяц, с тех пор как нога его ступила на этот проклятый остров. Интересно, поплачет она о нем или злорадно усмехнется, — она всегда ненавидела белых. Но тут тень другой женщины возникла в его мыслях, и образ индианки растаял. Лукреция… Каково же будет тебе найти здесь вместо золота кости умерших от проказы… — Эй, — крикнул Кроуфорд, — позовите сюда кого-нибудь из черномазых… Капитан Ивлин жестом поманил к себе одного из маронов и кивнул на Веселого Дика. Негр, который так и не сумел побороть страх, с суеверным ужасом оглянулся на скалу с крестом и чуть ли не на карачках приблизился к Кроуфорду. — Ты пойдешь назад, найдешь французов, что идут за нами. Там будет белая женщина, черные волосы, — Кроуфорд указал себе на голову, зеленые, как вода, глаза. Понимаешь? — Да, масса, я видел ее в ночь, когда нгомбо танцевать. — Скажешь ей: «Золота не было. Уходи». И возвращайся обратно. Понял? Я буду ждать тебя здесь. — Да, масса, да, — негр затряс головой и повторил то, что он должен был передать Лукреции. Не прошло и четверти часа, как марон исчез. Кроуфорд снова закрыл глаза и погрузился в размышления, то и дело впадая в короткую, не приносящую облегчения дрему.* * *
Поужинав и кое-как пристроившись на угловатых камнях, постепенно все заснули тяжелым сном. Небо заволакивалось большими тучами и делалось еще темней. Не чувствовалось ни малейшего ветерка. Ночная тишина нарушалась лишь заунывным криком какой-то незнакомой птицы. К этому времени порывы ветра усилились. Сухие ветви громадных сосен с глухим стуком ударялись друг о друга. Порой было слышно, как они, отломившись, падали на размокшую землю. Не одно гигантское дерево, высохшее, но все еще стоявшее, повалилось в эту бурную ночь. Среди треска деревьев и рева водопада раздавались завывания ветра. Густые тучи, гонимые к востоку, неслись так низко над землей, что казались клубами пара. Беспросветный мрак делал еще страшнее эту и без того отчаянную ночь. Однако в оглушительном шуме порой на короткое время наступало затишье. Ветер приостанавливался, словно для того, чтобы перевести дух. Одна лишь горная река бурлила среди острых обломков скал и черной завесы старых деревьев мапу. В такие минуты тишина казалась особенно глубокой. Тогда Потрошитель, который всегда в минуты опасности предпочитал нести собачью вахту сам, внимательно вслушивался в ночь. Вдруг, как собака принюхавшись к ветру, Потрошитель вскочил и, не будя никого из своих спутников, точно дикарь в гилее, исчез среди трав и кустарника. Вересковая пустошь раскинулась вокруг Роджера на много миль вокруг. Иногда розово-зеленое море обнажало огромные серые валуны, такие же, как тот, на котором он сейчас сидел. Ветер гулял по холмам, пригибая длинные пряди вереска. Роджеру то и дело приходилось хвататься за шляпу, и он, раздувая ноздри, полной грудью пил воздух, напоенный горьковатой свежестью и сладким медом. С тех пор как последний пикт исчез с этих холмов, никто больше не варил из вереска пьянящих напитков, и розовые метелки спокойно отцветали, насыщая бескрайние пустоши ароматами старой Англии… — Что, Дик, жаль тебе покидать родные холмы? — отчим подошел незаметно и положил руку ему на плечо… Кроуфорд вздрогнул и открыл глаза, едва не заорав от ужаса. Но в следующую секунду он сообразил, что это не дьявол пришел за ним, а всего лишь вернулся негр, посланный им к Лукреции. — Я ходил, масса. Я все сказаль. Она дал это. Негр протянул ему какой-то мятый сверток, и, хотя пальцы Кроуфорда еще не коснулись его, он уже знал, что это такое. — Спасибо, друг, — Кроуфорд благодарно пожал запястье марона и улыбнулся ему. Тот сверкнул зубами и выскочил из пещеры, туда, где под открытым небом спал его товарищ. Кроуфорд поднес бесполезную карту к лицу и с жадностью вдохнул пропитавший ее аромат нероли. — Вот и все, — прошептал он и закрыл глаза. Отчего-то в его ушах зазвучала далекая музыка. Та-ти-та-там-та, там, там, там… Это была павана, медленная, давно вышедшая из моды, павана, которую они с Лукрецией танцевали всего один раз в жизни, под Рождество. Сияли свечи, пах натертый воском пол, зеленые венки из омелы украшали стены, а на столах, заваленных жареными поросятами и пудингами, источали аромат красные яблоки да пахли солнцем и пряностями пузатые кружки с подогретым итальянским вином… — Вставай, Дик, проснись, — Потрошитель тряс его за плечо. — Вставай, дела плохи. Вчера ночью подошли французы, значит, они будут здесь, как только рассветет. Я видел угли их костров там, внизу, на тропе. Боюсь, они прижмут нас к реке. В карстовой пещере, где они заночевали, было темно, как в матросском сундуке. Где-то в глубине бежала по камням вода, в спертом воздухе пахло сыростью и давно не мытыми человеческими телами. — Капитан, порох отсырел. Если нас здесь зажмут, мы не сможем долго обороняться. Надо уходить, капитан. Кроуфорд резко сел и потер руками лицо. — Говоришь, у нас нет выхода? — Надо уходить сейчас, капитан. — Я сейчас вроде как балласт, Джек. Мне далеко не уйти, — Кроуфорд усилем воли попытался не трястись. — Дай мне мою флягу, Джек. Коки больше нет. — Возьми, Дик. Кроуфорд еле отвинтил крышку и, лязгнув зубами по металлическому горлышку, вылил в себя два последних глотка. — Значит, они совсем близко. Одно утешает: здесь их ждет не меньшее разочарование, чем нас. Утраченные иллюзии, да и только! — Кроуфорд попытался рассмеяться, но приступ кашля согнул его пополам. — Если нас зажмут — только рукопашная, и да поможет нам Бог! Думаю, ляжем мы все здесь, хоть и противно моряку гнить на суше. Обидно так глупо сесть на мель, сэр. Будто серая погибель наползла на нас в собачью вахту и сманила на рифы. — Отчего ты вспомнил про призрака, Джек? — Однажды я видел ее. Серую погибель. Мы шли на «Мести», как раз вскоре после того, как вы пустили по волнам эту бабенку, что теперь встретила нас на Эспаньоле. Да, Дик, я сразу узнал ее, как и ты. Так вот, видел я эту бабенку тогда. Она села на кнехт, когда я стоял на вахте, перед самым рассветом. Села и улыбается. Прозрачная, что твоя кисея. А глаза светятся, как у болотной гнилушки, — зеленью. Села, погрозила мне пальцем и давай смеяться. Громко так. Ну, я занес руку-то для крестного знамения, а у самого мороз по коже. Как бы не обделаться, думаю, как щенок. И только дотронулся я двумя пальцами до лба, а она как сиганет через борт, и все. Только волна вдруг скакнула через планшир и разлилась по палубе. Склянки тогда пробили для меня, как на Пасху. Я с того раза три дня рому в рот не брал: думал, утащит меня за борт, и хана. — И к чему ты это вспомнил, Джек? Я знаю тебя, ты просто так не болтаешь. Потрошитель схватил капитана за локоть и нагнулся к нему: — Не было здесь никогда сокровищ, Дик. Здесь прокаженные жили сто лет назад — сам видел надпись. Кто-то очень хотел, чтобы мы навечно бросили здесь якорь. Он и послал серую погибель. И карту эту проклятую. — Да, Джек. Я вот думаю, может, так и выглядит наказание за грехи? Пещера, обманная карта, ленивая смерть… Все мерещится, а наяву — погибель в чужих краях. — Тьфу на вас, капитан. Это лихорадка вам мозги мутит. Наврала карта, и хрен с ней. Надо пробиваться к морю. Там воля. Золотишка у нас и так хватает — схрон-то никуда не денется. — Нет, Джек. Всем нам не уйти. Они наверняка решат, что сокровища есть где-то еще, а я просто вожу их за нос. Они ринутся в погоню, тогда еще день-полтора, и мы все останемся в этих горах. Так что вы идите, а я встречу их здесь. Им ведь нужен я, а вы уходите. Прикури-ка мне трубку, Джек. Есть из чего? — Да есть немного. Только вот трут кончился. А одежда сырехонька. Нам бы бумаги клочок — вспыхнуло б как по маслу. Не по правилам это, Дик, сдавать своего капитана. — Есть у меня бумага, Джек. Подай-ка сюда кремень. Капитан сдается сам и уходит к рыбам со своим кораблем. Потрошитель вынул простой полотняный мешочек с остатками табака. Кроуфорд вытащил из кармана засаленный кусок бумаги, что передала ему накануне Лукреция. — Это же карта, Дик! — Теперь это просто бумага, Джек… — Зачем эта ведьма вернула ее? — Видно, что-то почувствовала… Она всегда все чувствовала заранее, Джек. Да и ни к чему ей она больше. Все и так ясно. Если бы золото было здесь, они бы прихлопнули нас прямо на сундуках. А если нет… Тогда к чему карта? Карта, Джек, уже никому не понадобится. Кроуфорд высек из кремня сноп искр, и бумага затлела по краям. Дождавшись, пока она займется с краю, он поднес ее к трубке. Бумага вспыхнула понизу, и вдруг Джек ткнул в нее пальцем и закричал: — Дик, Боже, Дик! Потрошитель выхватил из рук капитана карту и начал тушить ее руками. — Да ты рехнулся, Джек! — заорал Кроуфорд, на голые руки которого посыпался раскаленный докрасна пепел. В воздухе завоняло паленым. Джек дрожащими руками расправил обгорелый снизу лист, на котором откуда ни возьмись проступили витиеватые коричневые буквы. — Смотри, капитан! Кроуфорд осторожно поднял лист и поднес его к глазам. В сером утреннем свете на засаленном клочке явственно виднелись слова:«Тебе, который читает это…»— Тайнопись, — хрипло прошептал Кроуфорд. — Боже, — вскричал он, — какой я тупица! — и он в отчаянии ударил себя кулаком по лбу. — Это же лимон!!! Дед писал о странных свойствах его сока… То, что написано лимонным соком на бумаге, невидимо, но стоит бумагу нагреть… Да, сэр Уолтер Рэли, вы славно пошутили над нами… Потрошитель хлопнул себя по коленям. — По местам, ребята! Ставьте парус! Кроуфорд аккуратно сложил карту и покачал головой. — Нет, Джек, Веселый Дик отходил свое по соленым дорогам. Тащи сюда Харта. Потрошитель с сомнением посмотрел на капитана, но поднялся и ушел вглубь пещеры. Оттуда послышались какие-то тычки, сонное бормотание, и вскоре зевающий со сна Уильям, спотыкаясь и заваливаясь на стены, подошел к Кроуфорду и, борясь с чудовищным зевком, пробормотал: — Ну что еще? — Садись и слушай, — сказал Кроуфорд, и что-то в звуках его голоса заставило Уильяма опуститься на землю рядом с ним. — Уильям, — Кроуфорд подавил кашель, рвущийся из груди, и сунул в руку Уильяма сверток, — здесь карта сокровищ Уолтера Рэли… Молчи, идиот! Потрошитель все тебе объяснит. Вам надо уходить немедленно. Возьмите маронов — они выведут вас к заливу. Я остаюсь. — Но?! — Цыц, Уильям! Обещай мне, обещай мне всем святым, что у тебя еще осталось, что ты найдешь клад моего деда. Это будет славный памятник мертвому капитану. Потрошитель! — Дик? — Подымай ребят. Чтобы через полчаса здесь никого не было. Это мой последний приказ. Потрошитель встал и пинками принялся будить вповалку лежавших на земле спящих людей. Пещера огласилась бранью, сонными вскриками и шумом ворочающихся тел. — Уильям, — Кроуфорд обнял юношу за шею, — Уильям, я… Черт возьми, всю жизнь я играл словами, как хотел, а когда они понадобились по-настоящему, они все куда-то разбежались… Трусы, а не слова. Харт смотрел на изможденное лихорадкой, обросшее щетиной лицо Кроуфорда, чувствовал его воспаленный взгляд, его отдающее ромом и табаком дыхание и молчал. — Послушай, Уильям. Я завещаю тебе эту карту. Больше мне дать тебе нечего. Я был мот, Уильям. Я родился ни с чем, ни с чем и сдохну — значит, я в расчете с судьбой. У меня есть сын, Уильям. Его зовут баронет Генри Бертрам. Найди его, Уильям, и отдай ему это, — Кроуфорд, плохо владея негнущимися пальцами, с трудом отстегнул от пояса шпагу и протянул ее Харту. — Это шпага Уолтера Рэли, подаренная им младшему сыну Кэрью Рэли. Мой легкомысленный папа когда-то вручил ее мне вместе с бумагами деда. Теперь отдай ее моему сыну и скажи ему, слышишь, скажи ему, кто его настоящий отец. Уильям хотел что-то сказать, но Кроуфорд снова перебил его: — И еще, Уильям. Я очень… любил тебя, Уильям. Прости меня, мой друг. А теперь уходите. Исполни приказ своего капитана, Харт. Кроуфорд слабым движением оттолкнул от себя юношу и закрыл глаза. Новый приступ лихорадки сотряс его тело. То ли Потрошитель уже донес до отряда последнюю волю капитана, то ли люди сами что-то почувствовали, но никто больше не тревожил его. Низкие тучи повисли над небольшим плато, влажная жара, губительная для белого человека, опустилась над водопадом, чей грохот на время словно заглушили низкие облака. Пираты молча сворачивали лагерь, на ходу жуя нехитрую снедь, состоящую из горстки сушеных плодов и куска твердой как камень, лепешки. Кроуфорд, опершись спиной о камень, лежал у входа в пещеру, закрыв глаза и сложив руки на груди. — Капитан… Кроуфорд вздрогнул и открыл глаза. Сэр Джон Ивлин стоял перед ним, держа измятую шляпу в руке. — Капитан, мы уходим. Может, вы передумаете, сэр? Мы может соорудить носилки… Кроуфорд улыбнулся и открыл глаза: — Сэр Джон, почему вы называете меня капитаном? Небо упало на землю или в Англии оглашен билль о правах бандитов? Но Джон Ивлин никак не прореагировал на слова Кроуфорда. На его продубленном ветром и солнцем лице царило обычное невозмутимое выражение. — Команда не должна бросать капитана, сэр. У нас на флоте это называют изменой. — Оставьте, сэр Джон. Какая измена? Кому? Мне? Веселому Дику?! Вы благородный человек, капитан, и ваша жизнь стоит подороже моей. В конце концов, вы исполняете приказ. Эй, слышите все? До сходки я назначаю капитаном «Медузы» Джона Ивлина! Все оглянулись, но на нахмуренных лицах нельзя было прочесть ни одобрения, ни порицания последней воли Веселого Дика. — Есть, капитан, — ответил за всех Потрошитель, и Кроуфорд благодарно ему кивнул. — Вы дадите мне руку? — вдруг спросил Ивлин и протянул Кроуфорду давно не мытую, покрытую ссадинами ладонь. Кроуфорд с трудом поднял дрожащую руку, и Ивлин с силой сжал его пальцы. — Прощайте, капитан! — Прощай, капитан! Пираты обернулись и, отсалютовав Кроуфорду ножами и саблями, медленно начали спускаться с плато. — Мы еще встретимся, Дик! — вдруг заорал Потрошитель. — Не знаю, здесь или на том свете, но, разрази меня гром, мы еще встретимся! — Проваливай, старый дурак! — крикнул ему в ответ Кроуфорд. Уильям шел последним и оборачивался до тех пор, пока сэр Фрэнсис не показал ему кулак. Когда звук удаляющихся шагов стих окончательно, Кроуфорд откинулся на камнях и поднес к губам оставленную Потрошителем флягу. Что-то похожее на слезы мелькнуло в его глазах, но никто не сказал бы такого про Веселого Дика наверняка.
Глава 14 Ставьте парус!
Эспаньола. Атлантический океан
Не успело солнце просушить росу на траве, а утренний туман — рассеяться над водопадом, как на плоскогорье ступил отряд Ришери. Кроуфорд заполз на камни, чтобы лучше видеть происходящее, и теперь рассматривал плоскогорье в подзорную трубу, как сцену. «Вот впереди всех, ведя в поводу хромающего тяжело навьюченного мула, шагает шевалье Ришери. Лицо его нахмурено, губы плотно сжаты. За ним, низко надвинув на лицо шляпу, в черном грязном кафтане, идет женщина. Ее походка легка, несмотря на усталость, она задумчиво грызет какую-то травинку, она знает, что их ждет. Вот и голландцы — их совсем мало, но они все так же плотным кольцом окружают своего толстого предводителя и его дочку — за их спинами видна только ее шляпа и мелькает хорошенькое личико. А вот и… Дьявол, их-то и не ждали так скоро. Словно стая воронья, слетелись на плоскогорье одетые в черно-серые плащи испанцы. Наверное, тот, с хищным орлиным лицом, — их предводитель. Одет как знатный сеньор, держится словно адмирал… Ату его! Роджер Рэли рассмеялся. Ба-а, а вот и наш французский голубок — лицо-то как повытянулось, словно месяц жевал одни лимоны… Кислая, видать, жизнь у предателей…» Рэли в изнеможении опустил горячий лоб на руки. Пот градом катился по его лицу, обметанные губы горели, шершавый язык с трудом скребся во рту. «Интересно, кто быстрее меня доконает — они или лихорадка?» И тут он потерял сознание. Так что он лишился удовольствия наблюдать то бешенство, которое овладело искателями сокровищ, когда они поняли, что их нагло обманули.* * *
Дон Фернандо был в ярости. Наткнуться на гнилые кости каких-то прокаженных вместо сокровищ? Вот уж воистину: «Insperata accidunt magis saepe guam guae speres!» *["260] Слабое утешение он находил только в одном: несмотря на то что людям Кроуфорда удалось ускользнуть, сам капитан пиратов был у него в руках. Теперь будет чем оправдаться перед Орденом: пусть этот мерзавец под пыткой расскажет правду о сокровищах. Хотя… Из-под личины дона Фернандо вдруг на секунду высунулся отец Франциск, и змеиная улыбка скользнула по его тонким губам: у него есть чем развязать язык этому ублюдку. Веселого Дика со связанными руками вытолкнули на середину круга, образованного испанцами, французами и голландцами. Пират стоял, пошатываясь и пряча от солнца слезящиеся глаза. — Что ж, Кроуфорд, теперь вы в наших руках. Надеюсь, вы сполна оцените это обстоятельство и примете верное решение. — Уж лучше бы мы договорились, — слабо всхлипнул коадьютор из-за спин своих соотечественников. Кроуфорд услышал и, обернувшись, подмигнул в его сторону. — Что вы скажете, сэр Роджер Рэли? Пленник вздрогнул, снова повернул голову к испанцу и прищурился, так как вечернее солнце било ему в лицо. — Короткая, но веселая жизнь — вот мое правило! — громко сказал сэр Роджер Рэли и улыбнулся. Господи, какое счастье снова слышать свое собственное имя! Лукреция быстро посмотрела на Дика, затем взгляд ее скользнул по лицам капитана Ришери, дона Фернандо, дона Диего, месье Робера Амбулена и господина Абрабанеля и остановился на осунувшемся личике Элейны, в котором не было ничего, кроме горя и сочувствия кглавному неприятелю ее отца. За это смиренное выражение, в котором не было ни торжествующего самолюбия, ни отомщенной гордости, ни яростной алчности, миледи вдруг почувствовала к ней странную благодарность, кольнувшую ее в грудь, туда, где некогда у нее было сердце. — Ну что ж, — дон Фернандо принял вызов, сверкнувший в глазах пленника. — Я могу лишь укоротить ее, но развеселиться вам надо будет самому. Вы пленник испанского короля… — Позвольте, я протестую! — воскликнул господин Абрабанель и, отпихнув Ван Дер Фельда, протиснулся вперед. — В плен его взяли мы! Тем более мы находимся на спорных территориях! — Мы — это кто? — похолодевшим тоном спросил дон Фернандо, и на бледных щеках его проступили пятна еле сдерживаемого раздражения. — Мы — это капитан королевского флота Его Величества короля Франции Людовика Четырнадцатого, имеющий при себе предписание о задержании месье Роджера Рэли за шпионаж против короля Франции и Наварры в пользу Англии, — Ришери шагнул к испанцу и достал из кармана бумаги, запечатанные красным сургучом. — Сеньор Амбулен, подойдите сюда, — громко сказал дон Фернандо. — Отдайте мне письмо, которое вы получили из рук Эстебано. Амбулен вздрогнул и оглянулся. Он увидел Кроуфорда, глядящего на него с грустной усмешкой, капитана Ришери, на лице которого было написано презрение, Лукрецию, чей взгляд сулил ему нечто большее, чем смерть. Ему очень хотелось, чтобы проклятое письмо исчезло из его кожаной лекарской сумки, чтобы его вовсе и не было, чтобы вообще все было по-другому. Тогда он бы не стоял сейчас перед людьми, с которыми делил хлеб и кров, которые, пусть когда-то, но считали его своим. Тогда бы никто не презирал его за то, что он всего лишь исполнил свой долг. А что? Ведь они тоже врали, убивали, крали, они тоже были готовы на все ради золота конкистадоров. Чем они лучше, чем он? Он ведь не для себя… — Ну же, я жду… — Пресвятая Дева, — прошептал он и левой рукой залез в кожаную сумку, висевшую у него на бедре. Правая рука, словно и не зная о том, что делает левая, сама собой потянулась к горлу и ослабила повязанный на шее платок. — Пожалуйста, сеньор, — подскочивший дон Диего мгновенно выхватил письмо из руки Амбулена и передал его дону Фернандо. — Видите, капитан Ришери, видите и вы, сеньоры! Здесь — воля самого Людовика, его последний приказ, подписанный им самим всего три месяца назад касательно негодяя и шпиона Роджера Рэли, называющего себя Фрэнсисом Кроуфордом. Король желает, чтобы этим еретиком занялось Общество Иисуса, о чем он недвусмысленно и заявляет в этой бумаге, — дон Фернандо торжествующе оглядел стоявших вокруг него французов, голландцев и испанских солдат. — Так что проводите арестованного в пещеру и поставьте на караул испанских солдат! А то я не слишком доверяю остальным, — дон Фернандо развернулся на каблуках и зашагал к своей палатке, которую спешно устанавливали рабы под бдительным присмотром пяти солдат. Лукреция ногтями впилась в рукав капитана и с силой потянула его на себя. — Нам надо его освободить любой ценой, слышите?! — Увы, мадам, я ничего не могу сделать, — ответил Ришери, накрывая ее руку ладонью. — Или не хотите? — И не могу, и не хочу, мадам. — Ришери снял шляпу и отвесил женщине поклон. — Сеньор, одну секунду, сеньор, — человек, называющий себя доном Диего, но сильно смахивающий на провинциального аббата, торопливо подскочил к ним и, поклонившись капитану, сказал, переводя дыхание от быстрой ходьбы: — Сеньор, дон Фернандо имеет предписание французского короля об аресте мадам. Но, ставя во главу угла мир между нашими державами, он предоставляет право осуществить это вам. Капитан Ришери, ответив испанцу слабым кивком головы, медленно повернулся к Лукреции и произнес: — Мадам, будьте так любезны, пройдите в мою палатку. Вы арестованы. Лукреция невозмутимо пожала плечами и отправилась под арест. «Интересно, что будет делать Франсуа ночью?» — размышляла она, внимательно осматриваясь по сторонам. — Сеньор… — снова подал голос дон Диего. — Сеньор, — перебил испанца капитан, — va faire ta foutre! *["261] И, оставив растерявшегося дона Диего размышлять над этим пожеланием, повернулся к нему спиной.* * *
Ришери покачал головой и отступил от нее на шаг. — Миледи, у вас нет души — есть только ищущий приключений ум. Мне страшно рядом с вами, как было бы страшно рядом с гадюкой. — И столь же противно? — Лукреция подняла на него глаза, холодным блеском схожие с изумрудом, и губы ее дрогнули в полуулыбке. — Милый Франсуа, вы так же наивны, как большинство мужчин. Вы существуете как прямая линия, как вектор, — в одной плоскости. Эту плоскость вы назвали миром и управляете им при помощи мускулов, зубов, оружия и юриспруденции. Вы, мужчины, загнали меня в угол. Я — женщина, значит, земли моих родителей перейдут по закону майората в чужую семью, а я могу выбирать между монастырем и публичным домом. Если ваша шлюха произведет от вас младенца — вы вольны поступать как угодно. А не задумывались вы, мон шер, что делать шлюхе? Когда вы кому-то не понравитесь или, наоборот, приглянетесь, вас не потащат за волосы к ближайшим кустам, не так ли? Кому нужно мое милосердие, мои ангельские улыбки и кроткий нрав, когда вокруг меня бродят двуногие обезьяны, крокодилы и свиньи? Дворянство дало вам шпагу, чин, звание, шанс, наконец! А не хотите узнать, что было у меня, когда мне исполнилось восемнадцать? Лукреция вскочила с колен, подошла к нему и притянула его к себе за офицерский шарф. — В восемнадцать, когда вы приятно проводили время в полку, игорных домах и фехтовальных залах, я была брюхата от нищего бастарда, которого отчим услал подальше от бесприданницы. Позорный дом — вот что мне грозило, а вовсе не свободные занятия химией, танцами и музыкой, которые были мне столь милы. Но я не хотела умирать, мой друг. Капитан Ришери стоял не шелохнувшись, а глаза его с какой-то тоской и ужасом смотрели на прекрасное лицо женщины, сломавшей ему жизнь. — Я вышла замуж за толстого старого лорда, который храпел по ночам и едва не придавил меня своим брюхом в первую брачную ночь. Мой сын волшебным образом стал из ублюдка баронетом, а я из падшей дурочки — леди Бертрам. Потом меня немножко утопили. Вас топили когда-нибудь, шевалье? Да? По глазам вижу, вы видели смерть, смерть глупую, скотскую, смерть для живодерни, а не для парадного входа. Но я уцелела, а мой лорд качался на рее с мокрыми штанами. Лукреция оттолкнула от себя капитана и, скрестив руки на груди, посмотрела ему в глаза. Ришери отвел взгляд. — Глупые родственники моего мужа хотели лишить меня титула и права на наследство, но вот что они получили! — Лукреция сложила пальцы в гадкий уличный жест и рассмеялась. — А ведь им помогал сам Карл! Карл-жеребец, Карл-король, Карл-потаскун! Он не забыл, как я не отперла дверь в ответ на его стук. Но я и тут выиграла! Ведь у Карла была любовница, приставленная к нему самим Людовиком, — мадемуазель де Керуаль, и она щедро отблагодарила меня за мое целомудрие. Так я стала шпионкой Кольбера, а Карл, всю жизнь таскавшийся на поводке у французского короля, только поджал губки — вот так — и сделал вид, что мы лучшие друзья. Но и за это надо платить, верно? За все надо платить в вашем плоском мирке, капитан, и поэтому я вас всех ненавижу, — она на секунду прижала пальцы к вискам, а потом снова приблизилась к нему и обхватила его лицо ладонями, заставляя смотреть себе в глаза. — Глядите, глядите, капитан! Или вы забыли, как домогались меня, как жаждали ласкать мое тело, целовать эти губы? Вас не оттолкнула даже моя жестокость, да-да, я помню порку на корабле не хуже вас! Вы терпели мой дурной нрав, вы отпустили на свободу врага Франции — моего неверного любовника, моего Роджера, отца моего ребенка, Ришери! Знаете, почему вы это сделали? Ну, не качайте головой, не опускайте ваших чудных нежных глаз. Вы сделали это, потому что, кроме собственных прихотей, у вас нет иных законов. Ни родина, ни долг, ни честь, ни религия — ничто вас не остановит, если вашему преступлению не будет свидетелей! Добро пожаловать в великий клан Каинова отродья, мой милый! Лукреция рассмеялась и снова отпустила его. — Бросьте, шевалье. Вы и сейчас хотите меня. Ну так берите! Хоть час, да наш, не так ли? Я не много возьму у вас взамен: вы, если я умру, если умрет Кроуфорд, вы должны будете найти моего сына и защитить его. Если я выживу — делайте что хотите! Клянитесь, шевалье! Ришери хотел было что-то сказать, но из его горла вырвался лишь какой-то хрип. — Ну же, я жду! — Клянусь, — ответил он едва слышно. — Тогда идите же ко мне, мой любимый шевалье, ведь, может статься, завтра мое тело уже скормят стервятникам.* * *
Дон Фернандо Диас, брат адмирала испанского королевского флота, в монашестве отец Франциск, не любил откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Едва спала полуденная жара, как он приказал привести пленника и устроить в высшей степени нравоучительный допрос. Едва умолк походный барабан, как испанская рота выстроилась в каре, в центре которого на раскладном стуле устроился дон Фернандо. Позади него угрюмо стоял Ришери и взволнованно перешептывались голландцы. Вдруг раздался слабый женский вскрик, и, к ужасу Ришери, рядом с ним очутилась Лукреция, которую люди дона Диего привели на допрос. Лукреция посмотрела на капитана и прошептала: «Ты обещал». Затем она вскинула голову, отчего ее длинные волосы рассыпались по плечам, и усмехнулась. Дон Диего посмотрел в ее сторону и довольно кивнул. Затем он подал знак, и двое солдат под руки приволокли едва живого пленника и хотели было поставить его на колени, но отец Франциск незаметно покачал головой, и тот остался стоять, поддерживаемый испанцами под локти. — Что ж, приступим, — сказал отец Франциск и потер руки. — Итак, сеньор, если вы не соблаговолите сказать нам правду о сокровищах, я буду вынужден приказать швырнуть эту женщину в водопад! — сказал отец Франциск, повел бровями в сторону Лукреции и посмотрел на Роджера Рэли. — Я не скажу, — ответил тот, глядя иезуиту в глаза. — Ну что ж, вы сделали свой выбор. Отец Франциск махнул рукой в перчатке, и двое солдат потащили Лукрецию к обрыву. — Остановитесь! — крикнул Ришери и рванулся к ней, но испанцы уже крепко держали его за плечи. — Нет! — крикнул Харт, но Потрошитель заткнул ему рот грязной ладонью и пригнул за камень. Нарушив приказ Веселого Дика, Харт все-таки вернулся за своим капитаном, вернулся слишком поздно, чтобы чем-то помочь. — Вы не сделаете этого! Вы не смеете! — закричал Ришери. — Она дворянка на службе короля! — Еще как сделаю, — твердо ответил отец Франциск и кивком подтвердил приказ. — Скажите же ему, Роджер! — закричал Ришери. — Я умоляю вас! — Нет. Солдаты тащили упирающуюся женщину к обрыву. Она бранилась и выворачивалась, как кошка. — Хорошо, остановитесь, — прошептал Роджер Рэли. — Эй, остановитесь! — отец Франциск хлопнул в ладоши, и солдаты замерли у края. — Роджер, не оставляй меня! Не оставляй меня снова одну! — вдруг закричала женщина, и тогда он бросился к ней, с нечеловеческой силой разбрасывая преграждающих ему путь испанцев. Добежав до нее, он схватил ее за руку и рванул на себя. Солдаты инстинктивно отпрянули от пропасти, и на секунду они оказались свободны. Мужчина и женщина посмотрели друг на друга. — Милосердный Боже, помилуй нас! — прошептал Роджер, и, прежде чем кто-нибудь сумел их остановить, они взялись за руки и прыгнули вниз. Отец Дамиан зажмурился. Страшный крик разорвал воздух. Когда господин Абрабанель подбежал к обрыву и осторожно заглянул вниз, он увидел только воду, тонны зеленой воды, которые с шумом низвергались с камней в круглое озеро далеко внизу. — Сик транзит глория мунди — так проходит мирская слава, — горестно сказал он и покачал головой. — Прах есть и в прах обратишься. Боюсь, мои друзья будут сильно расстроены.* * *
Амбулен шел сам не зная куда. Он не мог больше находиться среди людей, он их ненавидел. Но еще больше он ненавидел себя. «Я убил их», — шептал он, продираясь между кустами. «Я убил их, — повторял он, словно доказывая себе что-то или в чем-то еще сомневаясь. Иуда, Иуда… Иуда. Иуда? Амбулен раздирал лианы, словно это они стянули его по рукам и ногам, словно они опутали его совесть, будто они связали его волю, будто они вынудили его совершить предательство. Они, или… Господи, Ты ведь все слышишь, все знаешь, все можешь! Почему Ты так несправедливо устроил этот мир, почему Ты позволил злу быть сильнее, почему Ты дал ему такую власть? Господи, почему ты никогда не останавливаешь нас вовремя! Это несправедливо, Господи!» Вдруг ноги его поскользнулись, он, тщетно хватая руками воздух, упал, земля куда-то поехала, и он рухнул вниз, увлекая за собой поток мусора, камней и прелой листвы. Очнулся он оттого, что большие мухи ползали у него по лицу. Судорожно отмахнувшись и отирая лоб и щеки, Амбулен поднял глаза и застыл в изумлении. Прямо перед ним, опутанный корнями и зеленой листвой, возвышался огромный вырубленный из камня крест. Плохо понимая, что делает, Амбулен поднялся и принялся рвать руками зеленые жилы стеблей, обнажая реликвию от поглотивших ее растений. Вскоре крест был очищен, и тогда Робер увидел, что в его центре выбита какая-то надпись. Наклонившись, он попытался разобрать буквы и понял, что это латынь. Шевеля губами и то и дело ошибаясь, он с трудом прочел:* * *
Атлантический океан лениво катил теплые волны на песчаный берег небольшого залива, где стоял на якоре кутер «Король Луи». Валяясь под пальмами, пираты лениво пережидали жару, отсыпаясь за весь этот страшный месяц на Эспаньоле. Неподалеку от лагеря в тени огромной кокосовой пальмы Уильям Харт в одиночестве предавался размышлениям. Он сидел, тупо глядя на лезвие шпаги, едва тронутое ржавчиной по одной из граней, и явственно ощущал во рту солоновато-железный привкус крови. Ленивый ветер пробежал по листьям, похожим на пилы. Со стуком посыпались с них насекомые. Одно из них угодило Уильяму прямо за шиворот. Ему сделалось вдруг невыносимо тошно, зубы его сжались сами собой, и он прошептал: — Клянусь никогда не возвращаться на эту проклятую Богом землю. — Ну что, Харт, — незаметно возникший рядом Потрошитель усмехнулся. — Сходка постановила взять за капитана нашего штурмана Ивлина. Хоть он и большая зануда. — Что? — Уильям поднял голову и непонимающе посмотрел на пирата. — Идем на Тортугу. Там ждет наш кораблик, наша «Голова Медузы». Она-то и доставит нас к сокровищам. Не так ли, сэр? Уильям сунул руку в карман и нащупал там карту, лимонным соком начертанную сэром Уолтером Рэли в Тауэре, где он нес свою последнюю вахту Дианы. — Ставьте парус, — тихо сказал он.
Питер Марвел
 Хрустальная удача
Хрустальная удача
Иссякли радости мои, пустые, как мечты,И прошлое блаженство не вернется.Обманная любовь, ужель ушла и ты?Так все проходит — горечь остается.Знамения земли, восторги — прочь, долой!Путем безвестным мне блуждать придется —Покинут! Жизнь моя в руках фортуны злой.Но все проходит — горечь остается.Как на чужбине я, без спутников, один,Стенаю от того, что смерть мне не дается.Прошла моя весна, и лето позади.Да, все проходит — горечь остается.Но упредить спешу я зимний холодИ жребий свой поймать, не пав под его молот.Сэр Уолтер РэлиПер. Д. Болотиной
Я бороздил чужие океаны,Чертил, клинком событья по волнам,Но боль незакрывающейся раныНе лечат солью незнакомых стран.Фрэнсис Кроуфорд
Глава 1 Все сначала
Побережье Новой Гвианы — Устье реки Ориноко
Предрассветная дымка быстро таяла над водой. Перегнувшись через планшир, Уильям Харт тоскливо всматривался в незнакомый берег: что таит в себе эта земля? Принесет удачу или станет для них могилой? Мутное желтое пятно расплывалось в лазурных водах там, где впадала в Атлантический океан великая Ориноко. В русле, раскинувшемся на несколько миль, река распадалась на множество притоков, заболоченных, заваленных стволами мертвых деревьев, забитых травой и водрослями, поросших тростником и кустарником. — На мой взгляд, вход в ад для разнообразия может выглядеть и так, — капитан Ивлин угрюмо разглядывал в латунную подзорную трубу расстилающийся перед ними берег. — Говорят, сэр, в аду жарко, — заметил Потрошитель и утер пот со лба концом грязной косынки, покрывающей его бритую голову. — А тебе что, холодно? — Уильям взял трубу у Ивлина и в свою очередь уставился в нее с задумчивым видом. — Нет, сэр. Не то чтобы холодно, но как-то сыровато. В аду, сэр, должно быть, сухо. Жарко, но сухо, — боцман проговорил это тоном, не терпящим возражений. Ивлин хмыкнул. — Как бы там ни было, но я полагаю, что здесь еще хуже, чем там. Вы читали записки сэра Рэли о Новой Гвиане? Уильям выразительно глянул на него. — Помилуйте, откуда у меня в Девоншире могли оказаться записки Рэли? Это по части Кроуфор… — Уильям вдруг замолчал, оборвав себя на полуслове, и снова уставился в трубу. — Так вот, сэр Рэли не раз писал, что… — как ни в чем не бывало продолжил Ивлин, не замечая возникшего кругом неловкого молчания. Потрошитель кашлянул и оглядел свою изуродованную руку-клешню. — В начале дела не вспоминают мертвых и неудачников, — он мрачно сплюнул за борт пережеванный табак и отошел от них. — Право, сэр Ивлин, ведь Кроуфорд был ему как… — Бандит и жулик ваш Кроуфорд! — обрубил капитан Ивлин и забрал у Харта свою трубу. — Только вот интересно, к какой категории отнес его Потрошитель: к мертвецам или к неудачникам? — Я говорил про Рэли! — вдруг рявкнул за их спинами боцман и, покачиваясь на палубе, отошел от них на этот раз окончательно. В ту же секунду раздался разъяренный свист боцманской дудки и топот босых ног на палубе: Потрошитель свистал всех наверх. — М-да… Так вот: сэр Уолтер предупреждал об опасностях, таящихся в неизведанных землях Новой Гвианы, — с невозмутимым видом капитан извлек из широкого кармана камзола толстую книжицу в истертом кожаном переплете и раскрыл ее. «В июне, июле, августе и сентябре плавать по этим рекам невозможно, ибо такова стремительность течения и так много затоплено деревьев и бревен, что если лодка только приткнется к какому-нибудь дереву или колу, то невозможно будет спасти никого из сидящих в ней»*["262]… — А про туземцев что-нибудь есть? И откуда у вас эта книга? — поинтересовался Уильям. — А вот и про туземцев… — второй вопрос капитан в свойственной ему манере пропустил мимо ушей. «Гвианцы, а также индейцы из пограничных мест и все другие жители в этой стране, с которыми я встречался, — удивительные пьяницы, и в этом пороке, я думаю, с ними не сравнится ни один народ»… — Даже хуже, чем ирландцы? Капитан бросил на Уильяма мрачный взгляд: — Сказано хуже, значит хуже. Но я бы на вашем месте, молодой человек, заострил свое внимание на описании сокровищ, которые некий Мартинес собственными глазами созерцал в главном городе индейцев, называемом им в письме к сэру Роберту Дадли «Эль Дорадо», что в переводе с испанского означает «Позолоченный». — Что вы имеете в виду, сэр Ивлин? — Уж не те ли это сокровища, из-за которых весь сыр-бор разгорелся? С другой стороны, как-то слишком много сокровищ на один кусок земли. Тут тебе и Кортес, и майя, и Эльдорадо… а может, и вовсе нет этих сокровищ? — капитан Ивлин задумчиво посмотрел сквозь Харта. Тот досадливо передернул плечами: — Короче, капитан, что вы предлагаете? — Я предлагаю вообще туда не соваться. — Гениально! Восхитительно! Великолепно! Мы порем горячку, готовим экспедицию, продаем даже серебряные пуговицы с камзолов, чтобы закупить солонину и ячмень, и вот, когда мы буквально в двух шагах от сокровищ, вы советуете мне поставить паруса и плыть обратно на Тортугу? А вы помните, сколько мы должны любезно забывшему наши недоразумения губернатору? Я лучше подохну здесь, чем вернусь с пустыми руками. К тому же… — Харт не договорил. Конечно, главная причина крылась в прелестной девушке, жениться на которой без денег и тем более без пуговиц было решительно невозможно. — Полундра, свистать всех наверх! Истошный вопль вахтенного и повторный свист боцманской дудки вырвали Харта из оцепенения. Воздух разорвался от яростного грохота канонады. Харт обернулся и увидел, как справа по борту одно за другим, поднимая тучу брызг, в воду шлепались дымящиеся пушечные ядра. На всех парусах из утреннего тумана на них надвигался корабль, отрезая «Медузе» выход в море и прижимая ее к берегу. Невооруженным глазом было видно, как на грот-мачте развевается испанский флаг. Из носовых портов брига вырвались две вспышки, и уже через мгновение новые ядра упали в воду, обдав водяной пылью стоявших на баке матросов. Харт повернулся к капитану Ивлину, но того как ветром сдуло. Он уже сыпал командами прямо со шканцев, страшно крича: — Право руля! Паруса поднять, развернуть рею… Скрипя снастями, флейт медленно, слишком медленно разворачивался левым бортом к берегу, пытаясь выбраться из ловушки. Если бриг прижмет их к устью Ориноко, конец: в мангровых зарослях двигаться некуда, даже на шлюпках. — Орудия к бою, пли! Кормовые пушки дали ответный залп, и корабль жалобно заскрипел, качаясь на волнах. Пламя попеременно вырывалось то из одной, то из другой пушки брига, одно ядро с грохотом ударило в кормовую часть «Головы Медузы». Флейт тряхнуло от киля до клотика. В ответ с «Медузы» снова выстрелили. Пороховой дым облачками окутывал оба борта, кругом по палубе, грохоча башмаками, носились матросы, спасая корабль, а Уильям оглядывался, не понимая, что ему делать. Внезапно клешня Потрошителя впилась ему в плечо. — Бегите в каюту и не высовывайтесь, ваше время еще не пришло, Харт! — крикнул боцман ему в самое ухо и оттолкнул прочь от планшира. Стараясь не споткнуться о брошенные концы и не налететь на катающиеся по палубе бочки, придерживая шляпу, Харт рванул изо всех сил, но не в каюту, как советовал Потрошитель, а к капитану на шканцы. — Боюсь, нам крышка! — проорал Ивлин, едва Харт взбежал по ступенькам. — Мы не успеем развернуться: ветер дует нам в задницу и течение тащит к берегу! — Боцман, постарайтесь попасть в ватерлинию! Если повезет, мы утопим эту испанскую лохань: в этом наш единственный шанс! — капитан перевесился через борт, едва не падая. Снасти трещали, реи не желали поворачиваться, и матросы, не жалея сил, травили канаты. Вокруг свистели и рвались ядра. — Скажите спасибо, Харт, что они не стреляют картечью! Если начнут палить по матросам — хана! Уильям сбежал вниз и ринулся на нижнюю палубу, где закопченые и злые как черти канониры подкатывали тяжелые пушки обратно к портам. — Стреляйте в ватерлинию! — заорал он старшему канониру Бобу. — Есть, сэр! Только наши пушки против них — тьфу! — Тащите их к корме — будем стрелять из всех! В это время корабль вздрогул всем корпусом, и Харт невольно втянул голову. Одно из ядер попало в фокмачту, и она с треском, увлекая за собой груду парусов, рухнула вниз, повиснув на канатах прямо над морем. Вокруг торчали обломки рей. — Рубите мачту, свиньи, рубите мачту! — Сэр, мы тонем! — Молчать, идиоты! Сукины дети, все на левый борт, рубите канаты! Остальные к грот-рее, держите ее по ветру! Харт, обливаясь потом, помогал тащить пушки к кормовым портам. Клубы дыма, окутавшие палубу, покрыли все вокруг, а едкая гарь, попадавшая при дыхании в горло, казалось, прожигала легкие насквозь, вызывая доходящие до рвоты приступы кашля. Но Харт, стиснув зубы и задыхаясь, упрямо волок пушку. Сейчас в ней виделся их первейший шанс на спасение! Второй заключался в том, что у испанцев, видать, было плохо с меткостью: ядра свистели повсюду, но пока, кроме дыр в парусах и сломанной мачты, особых разрушений и жертв не было. Наконец самая большая кулеврина была установлена. Боб перекрестился и поднес факел. Харт набрал воздуха в легкие и зажмурился, зажав уши…— Ура!!! Мы спасены! Уильям нагнулся и увидел, что чуть выше ватерлинии прямо в борту испанского брига зияет огромная пробоина, в которую хлещет вода. Харт выдохнул и перекрестился, как давеча Боб. «Голова Медузы», с трудом ловя ветер остатками парусов, медленно выправила курс и пошла вдоль берега. — Норд-норд-ост! — орал охрипший капитан. — Возвращаемся на Тортугу! — Харт хлопнул оглохшего, но счастливого Боба по спине и побежал наверх. — Всем рому на обед! — первое, что услышал Харт, очутившись на верхней палубе. Глазам его предстала ужасная картина. Палуба была завалена обломками мачты и тлеющими парусами. Окровавленные и закопченные пираты поливали палубу морской водой из кожаных ведер, туша искры. Стонали раненые, под ногами катались пустые пороховые бочонки, а прямо над ними в опустевшем небе кружилась огромная птица. Они возвращались назад. Выхватив у капитана поздорную трубу, Харт попытался разглядеть, что же происходит на борту у испанцев. Ветер уже сносил в сторону пороховой дым, которым были окутаны оба судна, и очертания неприятельского корабля проступали явственно. На «Азалии», а это была она, царил хаос. Харту хватило одного взгляда, чтобы оценить весь ужас происходящего. Судно, накренясь на нос, стремительно погружалось в волны, а команда предпринимала отчаянные попытки спустить на воду шлюпки. Деревянная фигура, украшавшая нос корабля, была расколота до пояса, а одно из ядер со всей силы ударило в носовую каюту, разнеся ее в щепки. Наконец испанцы принялись спускаться по боковым трапам в шлюпки. Те, кто посмелее, прыгали прямо в море. На борту, с ненавистью глядя в сторону удаляющегося флейта, замерла высокая фигура в черном, развевающемся на ветру плаще. Харт узнал профоса — виновника всех их несчастий — и яростно погрозил ему кулаком. — Это проклятые иезуиты! — крикнул юноша Ивлину. Тот вытащил изо рта едва раскуренную трубку и выпустил колечко дыма. — Я так и знал, — сказал он, и на его обветренном красном лице мелькнула странная улыбка.
Глава 2 По горячим следам
Карибское море — Тортуга
«Человек предполагает, а Б-г располагает» — эта совершенно ненавистная уму и сердцу Давида Малатесты Абрабанеля простая истина почему-то преследовала его уже несколько дней. Как ни пытался коадьютор отвязаться от приставучей мысли, она настойчиво проникала в душу, липко обволакивала мозг, и старый банкир положительно не знал, как от нее избавиться. С того самого момента, как голландцы покинули Эспаньолу, все, буквально все шло не так, как планировал Абрабанель. Прежде всего, против коадьютора обернулось его собственное желание наконец-то начать действовать отдельно от лягушатников и их заносчивого капитана. Но Франсуа де Ришери, которому общество Абрабанеля опостылело ничуть не меньше, чем он сам — ювелиру, по дороге к побережью предусмотрительно затеял с голландцами ссору, после чего с оставшимися у него людьми отправился к морю другим путем. По счастью для французов, этот путь оказался более коротким и Ришери удалось сняться с якоря раньше, чем спутники Абрабанеля достигли побережья. Таким образом, голландцы остались без корабля, а, зафрахтовывая другой, потеряли время и, что особенно болезненно сказалось на самочувствии коадьютора, деньги. Вторая неприятность логически проистекала из первой. Судно, которое в конечном счете взялось доставить коадьютора и его людей на Тортугу, хотя и носило изящное имя «Глория», с виду больше походило на старое корыто и обладало небольшим водоизмещением. Поэтому, попав сразу после отплытия в пустяковый, в сущности, шторм, оно на какое-то время потеряло управление. А когда ветер утих, выяснилось, что посудину снесло на вест от предполагаемого курса, к Малым Антильским островам. Вдобавок ко всем прочим бедам во время бури сломалась грот-мачта. Все это вынудило команду вместо Тортуги пристать для начала к Арубе, чтобы подлатать утлую посудину. Кратковременное пребывание на населенном козами и индейцами острове, где, кроме крошечного голландского гарнизона, не было ни одного белого человека, оказалось для всех крайне утомительным. А очередная проволочка и необходимость втридорога платить за воду и продовольствие привели Абрабанеля в крайне мрачное душевное настроение. Он был настолько зол и подавлен всем случившимся начиная с неудачи в поиске сокровищ на Эспаньоле и до злополучного перехода в несколько миль, превратившегося в целую морскую экспедицию, что в первый момент почти не удивился, очутившись за бортом корабля в открытом море. Впрочем, то, что с ним произошло, вообще не поддавалось никакому разумному объяснению. Когда ювелир раздраженно мерил шагами грязную палубу в послеполуденный час, налетевший ветерок игриво сорвал с него шляпу. Абрабанель попытался поймать головной убор, ведь шляпа была почти новой, представляла материальную ценность, и бросился за ним в погоню. Не успел он пробежать и пяти шагов, как неведомая сила заставила его остановиться и поднять голову. Поодаль, прислонившись спиной к фок-мачте, стояла и смотрела на него темноволосая женщина в белом платье, а злополучная шляпа лежала у самых ее ног. — Мадам, позвольте! — удивленно вскричал коадьютор. — Кто вы и как здесь очутились? Незнакомка улыбнулась ему и жестом поманила к себе. Недоумевая и поражаясь поведению дамы, коадьютор торопливо засеменил к ней. В то же мгновение резкий порыв ветра повернул плохо закрепленную рею, канаты лопнули, и она, с размаху ударив коадьютора в живот, отбросила его на планшир. Гнилые доски проломились под телом грузного банкира, и несчастный искатель сокровищ полетел в воду. Подняв фонтан брызг, он в сопровождении пузырей воздуха пошел на дно. Но, подчиняясь инстинкту самосохранения, он так энергично заработал руками и ногами, что не только не утонул, но даже довольно быстро вынырнул на поверхность. Судорожно хватая воздух ртом, он попытался позвать незнакомую даму на помощь, но, даже щуря слезящиеся от соли глаза, не мог никого разглядеть на палубе. Женщина исчезла, и ни одна живая душа не видела, как он свалился за борт. — Спасите, помогите! — жалобно крикнул Абрабанель, отплевываясь от воды. Но его крики ветром относило в сторону от судна и корабль стремительно уходил от него. Бесплодные попытки привлечь к себе внимание людей на «Глории» навели коадьютора на мысль, что таким манером он всего лишь выбьется из сил, нахлебавшись воды. Природная расчетливость и здесь не подвела старого лиса. Он видел, что судно удаляется в сторону Тортуги, и мысли его заметались в поисках выхода. Как ему продержаться на воде подольше? Может быть, его исчезновение заметят и «Глория» возвратится за ним? О том, что его пропажу обнаружат, когда корабль будет уже далеко, и о том, что такое корыто практически не способно ходить против ветра, дувшего в противную сторону, он старался не думать. Плавать ювелир толком не умел, но сообразил, что морская вода выталкивает его тучное тело на поверхность. Башмаки, парик, жилет и камзол пришлось снять, чтобы они не тянули его вниз. Коадьютор расслабил члены и постарался как можно удобнее — насколько это слово вообще применимо к сложившейся ситуации — устроиться, лежа на воде. Хорошо еще, что треклятый ветер дул поверху, не поднимая волны. В других условиях он давно бы принялся жаловаться на жизнь и возмущаться. Но сейчас, когда никто не слышал его, кроме разве что ангела Смерти Малох-Гавумеса, Абрабанеля охватило не раздражение, не страх смерти и даже не тоска. В момент, когда жизнь его висела на волоске, он сотрясался в бессильной ярости из-за того, что так глупо теряет драгоценное время. А еще ему было жалко карманных часов с эмалями. Но без ножа его резала мысль о том, что сокровища Уолтера Рэли могут теперь достаться другим! Если, конечно, его, Абрабанеля, не подберет вовремя какое-нибудь судно. И эти думы даже заглушали в нем досаду, вызванную привязчивой поговоркой «Человек предполагает, а Б-г располагает». Он не знал, сколько прошло времени с момента падения за борт. Коадьютор пробовал сосчитать, за какой период «Глория» могла бы возвратиться, после того как кто-нибудь наконец заметит его пропажу, но быстро оставил это занятие. Расчетливый и сообразительный, он учел, что морские течения, ветер и волны перемещают его тело в неизвестном направлении даже тогда, когда сам он не пытается плыть. Иногда ему казалось, что он носится по поверхности океана уже дни и месяцы, даже целую вечность, и тогда в банкире просыпалось что-то похожее на удивление, почему он до сих пор жив. Наконец, измученный бесплодными размышлениями и бессильной злобой, он начал впадать в забытье. Чтобы сбросить с себя одурь, Абрабанель перевернулся на живот и, молотя руками и ногами по воде, огляделся. Ветер стих, солнце медленно склонялось к горизонту, теряясь в предзакатной дымке. Вдруг коадьютор заметил точку на горизонте. Точка росла, приближаясь. У банкира словно открылось второе дыхание. Забыв, что он не умеет плавать, и загребая по-собачьи, Абрабанель устремился навстречу спасению. На его счастье, ему не приходило в голову, что на гладкой поверхности моря расстояние до видимого предмета куда как больше, чем представляется глазу. Толку от его водных процедур было немного, но поднимаемые им брызги привлекли внимание человека, управлявшего небольшой шлюпкой с косым парусом и парой весел. Это был рослый, крепкий, с огромной всклокоченной черной бородой и изуродованным шрамами лицом мужчина. Видно было, что в последнее время ему приходилось несладко: усталость проглядывала сквозь крепкий загар, руки, выглядывающие из порванных рукавов кафтана, были слишком худы для такого широкоплечего головореза, а где-то в глубине его глаз свила гнездо тоска. Черный Пастор — а это был он — старательно греб, стремясь с Эспаньолы попасть на Тортугу, где он оставил свой фрегат «Месть» и часть команды. Остальные уже никогда не вернутся обратно, навсегда успокоившись на «чертовом острове» или взлетев на воздух вместе со взорванным Веселым Диком вторым судном Пастора — «Ласточкой». Уцелел в этой передряге только Черный Билл, но ему пришлось пережить много такого, о чем и вспоминать неохота. Больше всего пират ругал себя за необдуманный поступок: впопыхах, ненароком он спас жизнь своему бывшему квартирмейстеру, вместо того чтобы предоставить душе Дика возможность прогуляться прямиком в ад! Досада грызла Билла изнутри не хуже, чем Абрабанеля — страх утерять навсегда сокровища. Ничего не зная о прыжке Роджера Рэли в водопад, Пастор сгорал от желания поскорее разыскать бывшего приятеля и рассчитаться с ним за все. Но для этого ему нужен был корабль и команда. С оставшимися у него людьми управиться с огромным судном было просто невозможно. Однако Билли искренне считал, что губернатор Тортуги — его должник и просто обязан помочь ему снарядить «Месть» наилучшим образом. К тому же пирата не оставляла мысль о сокровищах. Если Дик добрался до указанного на карте места, следовательно, золото уже у него! И не грех поделиться им со своим старым товарищем. Одним словом, ничего не зная о драме, разыгравшейся на Эспаньоле, Черный Билли спешил на Тортугу за кораблем и командой. Фонтанчики брызг, поднимаемые коадьютором, заставили его повнимательнее вглядеться в морскую гладь. Он извлек из кармана подзорную трубу и приложил ее к глазу. Разглядев тонущего человека, пират, следуя неписаному закону всех моряков, развернул лодку. Ему потребовалось меньше часа, чтобы доплыть до Абрабанеля, который к тому времени совершенно обессилел. Поравнявшись с ювелиром, Пастор грубо поинтересовался: — Эй ты, мокрая кошка, говори, кто выбросил за борт такой дрянной товар? Однако Абрабанеля не смутила такая цветистая манера выражаться. Он подумал, что раз уж Билли приплыл, то надо брать быка за рога. — Несчастный путешественник, я оказался за бортом случайно. Но спасшего меня я не оставлю без вознаграждения! — Ба! Да это старый знакомец! — вскричал Билли, бросая весла и за шкирку втаскивая тяжелющего банкира в лодку. Едва не перевернув посудину, коадьютор плюхнулся на просмоленные доски. С него ручьями бежала вода. Черный Пастор с интересом оглядел свой улов. — Эй, чертово отродье, безбожный жид, семя дьявола! Ты, как я погляжу, все еще продолжаешь надувать честных христиан? Или ты забыл, как провел меня год назад с грузом серебра, якобы шедшего с Барбадоса?! — Помилуйте, господин пират, — простонал Абрабанель, с трудом поднимаясь со дна лодки и еле переводя дыхание, — я всего лишь скромный коммерсант, я сам пал тогда жертвой подлых игр тамошнего губернатора!.. Разве вы не знаете, господин пират, как бессердечны и бессовестны эти королевские чиновники?! Они только и думают, как обидеть беззащитного купца и отобрать у него с таким трудом заработанные средства! Не переставая говорить, купец стянул с себя рубаху с портками и, хорошенько отжав, снова натянул на себя. — Ты мне тут не пой про совесть, старый пес! Ишь! Я догоняю сукина сына Дика, удравшего с сокровищами… — Ой-ой-ой, господин пират, жизненный опыт подсказывает мне, что на такой посудине вы рискуете и впрямь очень скоро догнать упомянутое вами лицо!.. Однако, боюсь, вас ждет жестокое разочарование! — протараторил купец, устраиваясь на лавке и извлекая из-под нее бочонок с водой. — Ты еще вздумал издеваться надо мной, жид?! — взревел Пастор, так яростно шлепая веслами по воде, что Абрабанель едва не захлебнулся второй раз за день, но уже жадно глотая пресную воду. — А может, ты думаешь, что я на этой калоше собираюсь гнаться по морю за моим мерзавцем-квартирмейстером?! Я спешу на Тортугу, где меня ждет фрегат с командой… — Что вы, что вы, — отфыркиваясь, пробормотал Абрабанель, утолив жажду, — вы совершенно превратно поняли меня, любезнейший господин пират! Я всего лишь хотел предостеречь вас, дабы вы не последовали за Диком, или Кроуфордом, или как там зовут этого негодяя по-настоящему… Одним словом — не угодили бы прямиком на тот свет!.. Признаться, я был бы чрезвычайно опечален таким исходом… — Абрабанель с наслаждением потянул затекшие руки и ноги. — Что-о-о?! Что ты там треплешь, разрази меня гром?! Хоть бы дьявол набил свининой твои кишки, предварительно выпустив их из тебя! — Выбирайте выражения, господин пират, я, хоть и всего лишь скромный торговец, однако старше вас и имею право на более уважительное обращение… — Или к черту — там тебе самое место, а не… Погоди, так что, Веселый Дик и впрямь откинул ноги?! — Полагаю, что так, хотя участь каждого из нас в конечном счете зависит лишь от высшего промысла… — стараясь придать своему голосу печаль, отозвался коадьютор. — Ты так уверенно говоришь это, собачье рыло, будто своими глазами видел, как Дик отдал душу дьяволу! — Может быть, все может быть, — многозначительно покачал головой ювелир. — А где же тогда, черт побери, сокровища?! — от удивления Билли выпустил весла. — Сокровища? Да вы гребите, гребите, нам еще далеко… Какие сокровища? Ах, сокровища… Ну нет, господин пират, более я не скажу вам ни слова. А скажи я вам сейчас, где сокровища, вы тотчас оставите меня, несчастного старика, снова носиться по воле Фортуны без руля и без ветрил, так сказать… — Ладно, так и быть, я возьму грех на душу и не выброшу тебя обратно за борт, хоть ты и жрешь мои сухари, старая обезьяна, если ты мне расскажешь, как подох Дик и куда он подевал сокровища! — Хотя бы позвольте мне глоточек рому — я, признаться, устал и порядком продрог! А в моем возрасте это грозит множеством неприятностей… подагра, знаете ли… Вместо ответа пастор выругался и протянул купцу свою флягу. Тот, нимало не церемонясь, поспешил осушить добрую половину, ибо и впрямь успел замерзнуть. Хоть они и находились в низких широтах, где температура воды постоянно высока, все же не менее чем четырехчасовое плавание не пошло коадьютору на пользу. Немного придя в себя и застенчиво икнув, Абрабанель как ни в чем не бывало заговорил светским тоном, словно продолжая прерванную беседу: — Я и в самом деле могу засвидетельствовать, что наблюдал момент гибели господина Кроуфорда. Ну а вы, любезнейший господин пират, глубоко заблуждаетесь, если и впрямь считаете, что он нашел сокровища… — Да не тяни ты из меня жилы, старый черт! — рявкнул Билли. — Каждое слово приходится выцарапывать из тебя так, как будто оно отлито из чистого золота! — Эээ, любезнейший, — перебил его ювелир. — Слова о золоте и впрямь могут быть не дешевле самого золота! Однако если я сейчас выдам вам все тайны, что помешает вам в ту же минуту вышвырнуть меня за борт с той же легкостью, с какой вы только что вытянули меня из воды? Нет, теперь до самого порта я не пророню ни слова. Кроуфорд лишился своих сокровищ и погиб, но это не значит, что его богатства не смогут отыскать другие… — Говори толком! — вконец обозлился Пастор. — Ну уж нет, господин пират. Я маленький, слабый, старый человек, вам ничего не стоит расправиться со мной — и никто никогда даже не узнает об этом! Я помолчу до техпор, пока мы не пристанем к берегу! — А где гарантия, что ты и в самом деле что-то знаешь? Небось врешь, как всегда?! Однажды ты уже провел меня… — при воспоминании об истории с «Медузой», на борту которой не оказалось обещанного серебра, Черный Пастор бросил на коадьютора такой злобный взгляд, что коадьютор задрожал. — Согласен, господин пират, гарантий я представить не могу — какие могут быть гарантии у старого, слабого, несчастного человека, по роковой случайности оказавшегося за бортом?.. Но если вы не поверите мне, раскаетесь, что спасли, и вторично выкинете в море или даже убьете меня, как вы сможете узнать, правду ли я сказал вам о гибели Кроуфорда и о том, что до сокровищ он не добрался? В ответ пират лишь выругался и ударил по воде веслом так, что едва не перевернул лодку. В раздражении он принялся грести с удвоенной силой — только затрещали весла да жалобно заскрипели уключины. Что до Абрабанеля, то теперь он чувствовал себя более уверенно, чем за последние несколько дней. С того момента, как он и его спутники покинули Эспаньолу, от него, Абрабанеля, не зависело буквально ничего. А сейчас коадьютор, несмотря на ограниченные возможности, все-таки мог вести игру, дудеть в собственную дудку и заставлять единственного собеседника слушаться себя. Такое положение вещей устраивало его гораздо больше, чем необходимость всецело зависеть от непредсказуемого Провидения! Пожалуй, встань старый банкир перед выбором: ходить по твердой земле, но так, чтобы от него ничего не зависело, или вот так болтаться в открытом море в одном исподнем, диктуя свои условия Черному Билли, вполне вероятно, Абрабанель выбрал бы второе. Уж очень не хотелось ювелиру реализовывать не вполне ясные планы Б-га… Тем временем наступила ночь. Утомленный коадьютор сладко захрапел на дне лодки. Билл, кряхтя и божась, спустил парус, закрепил весла и последовал его примеру.Утро, как ему и положено, оказалось мудренее вечера — а главное, радостнее его. Первым проснулся Абрабанель: он озяб на утреннем ветерке. Поднявшись и потягиваясь, коадьютор едва не опрокинул утлое суденышко и этим разбудил Черного Пастора. Билл продрал глаза и обнаружил, что земля совсем недалеко. Совершив это открытие, пират без дальних разговоров приналег на весла. Солнце подходило к зениту, когда они высадились на пустынном берегу, а еще спустя несколько часов Абрабанель обнимал плачущую от радости Элейну в главном порту Тортуги. Мрачный как туча Черный Билл наблюдал за этими телячьими нежностями со все возрастающим раздражением. Однако даже он оттаял, когда девушка, вдоволь наобнимавшись с отцом, подошла и, пожимая грубые руки пирата и называя его спасителем, привстав на цыпочки, торопливо поцеловала его в косматую бороду. Пастор тотчас отвернулся, чтобы скрыть смущение. Присутствие Элейны заставило пирата повременить с вытягиванием интересующих его сведений из Абрабанеля. Тот, в свою очередь, воспользовался дочерью как ширмой, чтобы вовсе увильнуть от исполнения обещания, и ни на минуту не отпускал от себя девушку. Мысленно чертыхаясь и проклиная себя за снисходительность, Билл уже готов был, несолоно хлебавши, отправиться на поиски своих людей, весело проводивших время в трактирах. Однако его неожиданно выручила Элейна, пригласив на следующий день отобедать в знак признательности за чудесное спасение ее отца. Поступок пирата тронул сердце девушки, и она, презрев светские условности, настаивала на своей просьбе. Абрабанель, скрывая недовольство, попытался возразить, ссылаясь на свое положение и дурную репутацию морского разбойника. Но тут союзником Элейны неожиданно выступил капитан Ван Дер Фельд, который все это время винил себя в исчезновении коадьютора: — Милейший… ээ… гмм… господин, — начал он, — я согласно с моей невестой хочу выразить вам свою бесконечную благодарность за спасение ее отца — моего будущего тестя, и если он найдет неудобным принять вас в ближайшее время по причине… эээ… своего не вполне удовлетворительного самочувствия, то я почту за честь сделать это вместо него… Абрабанель всплеснул руками. — Йозеф! Давно ли ты водишь дружбу с прощелыгами и авантюристами? Йозеф, может, ты от счастья видеть меня совсем заболел? Йозеф, подумай, зачем тебе это нужно? — Папенька, — Элейна обратилась к отцу, беря его за руку, — папенька, но мы ведь должны отблагодарить твоего спасителя! Во взгляде Абрабанеля мелькнуло сомнение, но ему вдруг вспомнилось как Билли неосмотрительно хвастался своим кораблем с командой, — и старый коадьютор решил, что у него есть шанс продать историю о сокровищах подороже. Капитан Ришери и его «Черная молния» были потеряны для коадьютора навсегда, и в голове ювелира возник план склонить к сотрудничеству Черного Билла и воспользоваться его фрегатом в обмен на обещание доли сокровищ. Впрочем, выполнять обещание Абрабанель, конечно же, не собирался. Понимая, что Пастор тоже не дурак, коадьютор решил обойти Билли с флангов.
Обед по случаю чудесного спасения господина Абрабанеля и возвращения экспедиции был дан на следующий день в доме одного из родственников губернатора — там разместились сразу же по прибытии на Тортугу голландцы — и проходил в несколько напряженной обстановке. Это сомнительное с точки зрения состава приглашенных меропритие сулило новые огорчения и новые радости одновременно. К слову сказать, оплачены вина и закуски были из кармана Ван Дер Фельда — Абрабанель не преминул поймать будущего зятя на слове и на деле показать ему, к чему приводит сумасбродное желание зазывать к себе разных проходимцев. Когда подали третью перемену блюд, беседа потекла в желательном для Абрабанеля направлении, но ее эмоциональный накал никак не отвечал надеждам старого пройдохи. Не привыкший к светским беседам Черный Билл сразу же взял быка за рога и задал вопрос о гибели Кроуфорда, что называется, в лоб. Элейна, не подозревающая о том, что таким образом пират проверяет ее отца, со всем возможным простодушием поведала об ужасном прыжке сэра Фрэнсиса и мадам Аделаиды в водопад и их гибели, чем развеяла сомнения Пастора в правдивости мерканта. Увлекшись, девушка предположила, что причиной этого отчаянного поступка стало тяжкое разочарование, постигшее Кроуфорда, когда все его планы рухнули. Ведь в пещере вместо сокровищ обнаружились лишь изъеденные проказой скелеты. Абрабанель пришел в ярость от слов дочери, несколько раз пытался ее остановить, но безрезультатно. Элейна не замечала ни его гневных взглядов, ни угроз, ни тычков под столом — она вдохновенно, с горящими глазами, рассказывала все новые и новые подробности. Билли уже намеревался бросить в лицо коадьютору обвинение в обмане, и лишь такт да некоторые будто ненароком оброненные фразы хозяина дома удержали его от этого. Стараясь не допустить очередного всплеска откровенности у Элейны, Абрабанель перехватил инициативу в разговоре, одновременно следя, чтобы гостю исправно подливали в рюмку. Он принялся расспрашивать Билла о его судне и команде, попутно нахваливая мореходные качества фрегатов вообще и «Мести» в особенности, а также суровую дисциплину, которую Пастор установил среди своих людей после того, «как вышвырнул с должности квартирмейстера этого мерзавца Кроуфорда, которого все мы знаем под именем Веселого Дика». Черный Билл сперва не давал себя одурачить. Но время шло, вино лилось рекой, пират хмелел… Заметив это, старый коадьютор примолк, давая слово Ван Дер Фельду, а тот в свою очередь затронул животрепещущую тему благочестия, — и Пастор попался на нехитрую удочку! Расписав свой корабль невиданными красками, Билл сел на своего любимого конька, толкуя о преступлении и наказании, о падении нравов и о неблагодарности тех, кто под его началом может из настоящей свиньи превратиться в настоящего человека. — Должно быть, береговые братья конкурируют между собой, стремясь попасть на «Месть»? — невзначай и слегка заискивающим тоном поинтересовался Ван Дер Фельд. — Что вы, сударь, — пробурчал в ответ Билли, которого уже порядком развезло, — эти безбожные неверы сами не понимают своего счастья. Большинство из них боятся меня больше, чем адского пламени. Болваны! Всем им без исключения грозит пекло после смерти… Ведь они живут хуже поганых язычников, им мозги набекрень свернули эти церковники… Ну эти, вроде тех, что вместе с нами охотились за сокровищами Веселого Дика!.. А та половина команды, что отправилась со мной на Эспаньолу, будь трижды проклят этот дерьмовый остров!.. Ох, простите, сударыня!.. — сильно захмелевший Билли, подняв голову, встретился взглядом с Элейной и рыгнул. — Дочь моя, не пора ли тебе покинуть наше общество? Едва ли наши дальнейшие разговоры будут интересны для тебя… — Абрабанель поспешил воспользоваться бестактностью пирата, чтобы заставить девушку уйти из-за стола, тем более что обед подходил к концу. Элейна, досыта налюбовавшись на простые манеры простого моряка, вежливо улыбнулась гостю напоследок и ускользнула к себе. После ее ухода язык у пирата окончательно развязался. Схватив Ван Дер Фельда за рукав, Билли поведал ему о злоключениях, постигших его людей на Эспаньоле, а затем, икая, долго и многословно сетовал, что от большого фрегата с половинной командой никакого толку, а болтающиеся на суше безбожники ни за что не желают поступать под руку Черного Пастора. Ван Дер Фельд, выражая ему сочувствие, одновременно делал знаки прислуге, с тем чтобы они помогли пирату найти выход. Проснувшись наутро от головной боли, Билл с удивлением обнаружил в кармане своего кафтана документ, подписанный его собственной рукой. Суть документа сводилась к тому, что банкир и коммерсант Давид Малатеста Абрабанель заключил с капитаном фрегата «Месть» почтеннейшим Уильямом П. (на месте подлинной фамилии Билла стояла им же самим накарябанная неразборчивая закорючка) при свидетелях Йозефе Ван Дер Фельде и Жюле-Бертране де Клима, кузене губернатора острова Тортуга, договор о найме оного фрегата для нужд вышеупомянутого Давида Малатесты Абрабанеля. При этом помянутый Давид Абрабанель обязывался самостоятельно и за свой счет укомплектовать команду фрегата недостающим для обслуживания этого судна числом матросов. Вопль, вырвавшийся из глотки Черного Билла после того, как он два раза прочел документ, сдул пять жирных голубей с подоконника и так испугал чумазого негритенка, что тот свалился с шаткой лесницы трактира, сломав при этом целых три балясины. Злые языки потом утверждали, что этот вопль также повредил жене трактирщика, вызвав у нее преждевременные роды, и именно поэтому младенец оказался черным, как сапог. В гневе Билли тотчас разодрал гнусную бумагу. Перехватив на скорую руку глазунью из четырех яиц и запив ее теплым кислым вином, пират бросился к Абрабанелю, чтобы, как выразился Билли, прояснить ситуацию. Но после шумной процедуры прояснения оказалось, что все гораздо хуже, чем виделось ему сначала. Господин коадьютор не только имел второй экземпляр, подписанный Биллом, но и успел сообщить всем о содержании кабального договора. Если бы не этот факт, старому пирату было бы, конечно же, глубоко наплевать на любые договоры. Черный Пастор попробовал добиться встречи с губернатором Тортуги, надеясь оказать на того давление и тем самым не только отменить условия злополучного документа, но и вернуть себе утраченное влияние. Но Жак де Пуанси через секретаря сообщил пирату, что отбыл осматривать плантацию сахарного тростника. Губернатор побаивался своего кузена, выступившего свидетелем при подписании договора, ибо задолжал тому кругленькую сумму. Жюль-Бертран де Клима, в сущности, приходился родственником не самому губернатору, а его жене, состояние которой де Пуанси успешно пустил в свое время по ветру, из-за чего и вынужден был переехать в колонии. Присутствие кузена на Тортуге было своего рода гарантом благополучия губернатора, по сути пребывавшего в выгодной и почетной ссылке. Путь в Европу Жаку де Пуанси был заказан, а кое-какие темные делишки и гарем превратили его в послушную марионетку в руках незаметного Жюля де Клима, снабжавшего незадачливого родственничка золотом под проценты. Бедняге Пастору ничего не оставалось, как принять правила игры, продиктованные Абрабанелем. Поиском матросов для «Мести» занялся Ван Дер Фельд. Справедливости ради стоит сказать, что он жалел Пастора, оказавшегося в столь двусмысленном положении, и при наборе команды старался с ним советоваться, отлично понимая, что управлять кораблем и управляться с матросами придется все-таки не ему, Ван Дер Фельду, и не Абрабанелю, а Черному Биллу. Вследствие этого голландец и Пастор довольно много времени проводили в совместных беседах, обсуждая подробности предстоящего предприятия, тонкости снаряжения и набора подходящих матросов. Кроме того, Ван Дер Фельд весьма охотно выслушивал излияния Билла и его богословские сентенции. За годы жизни порядком уставший от бесконечных разговоров о прибылях и убытках, выгодных партиях и торговых операциях, голландец с удивлением обнаружил у грубого и неотесанного пирата живой природный ум, недюжинный ораторский талант и умение интересно, с нетривиальными выводами, рассуждать на отвлеченные темы в сочетании с искренней верой в то, о чем шла речь. Хотя голландцу отчасти претила грубоватая фамильярность пирата, но единственная страсть флегматичного Ван Дер Фельда как нельзя лучше совпадала с натурой Билла. Они оба до беспамятства любили приключения. Однажды вечером невольные компаньоны, обсуждая возможные направления поисков, доставили на борт «Мести» очередную партию солонины и сухарей. Поднявшись на борт, они расположились в капитанской каюте и, потягивая вино, предавались воспоминаниям о пережитых опасностях. Менее воздержанный Билли, осушив несколько бутылок, сменил тему и принялся изливать душу собеседнику: — Будь проклят ваш будущий тесть, дружище, не в обиду вам будет сказано! В самом деле, на кой сдался вам этот мерзавец, эта хитрая лиса и чего ради вы намерены жениться на его дочери? Разве вы не знаете, что все беды на этой земле происходят от баб?! Ха! Да со времен праматери нашей Евы… Черт побери! Посмотрите на меня, дружище, разве не погиб я в одночасье из-за глазок вашей хорошенькой невесты? Дьявол дернул меня принять ее приглашение — впрочем, сначала этот самый дьявол ее надоумил пригласить меня, не правда ли?! Или, может быть, папаша-ростовщик воображает, что, заключив со мною договор, он вместе с кораблем получит меня самого?! Эта сентенция была внезапно прервана криками на палубе. Ван Дер Фельд вышел посмотреть, в чем дело, и замер от удивления. В порт Тортуги входил военный линейный корабль под британским флагом. Пушечные порты, окружавшие корабль в три ряда, были открыты, и оттуда торчали черные жерла. Вид громадины был столь внушителен, что все видевшие это зрелище, как по команде, развернулись в его сторону, вытянув шеи, чтобы получше разглядеть этакого красавца. Стряхнув с себя оцепенение, голландец потребовал подзорную трубу и, направив ее на пристань, с изумлением наблюдал, как туда в клубах пыли подкатила губернаторская коляска. Жак де Пуанси, в сбившемся парике, перепуганный не на шутку, выскочил из нее и согнулся в подобострастном полупоклоне. Он оставался в этой позе весьма долго, а именно до тех пор, пока шлюпка с линкора не достигла причала.
В это же время за прибытием английского военного корабля напряженно наблюдали, затерявшись в толпе зевак, пираты с «Головы Медузы». Судно, порядком потрепанное, они оставили с другой стороны острова, а сами на лодках добрались до единственного порта и столицы острова одновременно. Размеры корабля, его неторопливость, флаг английского королевского флота — все это свидетельствовало о значительности события в жизни Тортуги. Разглядев британский флаг, Уильям Харт устало опустился на мешки с маисом, ждущие своей очереди для погрузки на какое-то судно, и уронил голову на руки. — Только этого нам еще не хватало, — пробормотал он. — Что вы имеете в виду, сэр? — почтительно поинтересовался молодой пират, стоявший рядом с Хартом, а Потрошитель, жуя табак, ответил со свойственным ему философским отношением к жизни: — Бросьте, Уильям! Одним кораблем больше, одним меньше… Уж не думаете ли вы, что это по вашу, простите, не слишком дорогую душу снарядили этого красавца? Да и по сравнению с той публикой, которая шатается за нами по всему Мэйну с тех пор, как вы имели несчастье наняться к старому коадьютору, вы кристально честный человек. Вас и на каторгу-то не за что посылать, повесят и все! — Нечего сказать, утешил, — пробурчал Джон Ивлин, а Харт, мотнув головой, со вздохом процитировал: — …Крупица зла все доброе проникнет подозреньем и обесславит*["263]. Вот именно — обесславит. — Вы заразились у покойного Кроуфорда любовью к пьесам? — фыркнул Ивлин, который при виде линейного корабля Его Величества Вильгельма III тоже почувствовал себя не в своей тарелке. — У Шекспира на любой случай найдется порядочная цитата. Как находилась у сэра Фрэнсиса. Мне это нравится в них обоих, — Уильям посмотрел на Ивлина, пытаясь держать себя в руках. — Уильям, мой юный друг, мне кажется, Потрошитель прав. Не слишком ли много чести, чтобы для поимки таких, как вы… ну или я, — добавил он после небольшой, но заметной паузы, — присылать линкор? — С кучей народу и пушек? — подхватил кто-то из пиратов. — Невыгодно королевскому флоту, — резюмировал Потрошитель. — Так что они не за вами. Эти соображения придали Уильяму бодрости. — В любом случае нужно выяснить, для чего линкор Его Величества появился здесь. Может быть, объявлена война, умер или отрекся кто-нибудь из европейских монархов… ну мало ли что? Должна же быть причина для такого события. Кто из ребят выглядит наиболее прилично и наименее подозрительно для подобной миссии? — Стив Брэнкли, Боб и Сэм, отправляйтесь-ка на разведку, — тотчас распорядился Потрошитель, не слушая возражений пиратов, которым вовсе не улыбалось вместо таверны и сна шататься по набережной с расспросами. Прибытие английского линкора нарушило размеренный ритм жизни всей Тортуги. Губернатор и приближенные к нему лица суетились, стараясь угодить представителям Его Величества короля Вильгельма. Впрочем, это мало волновало британских моряков и военных, которые оставались равнодушны к балам и увеселениям, устраивавшимся в их честь. Капитан судна всем своим видом показывал, что прибыл на Тортугу лишь по необходимости и задерживаться на острове не намерен. При этом все безуспешно пытались угадать, каковы миссия линкора и цель его командующего. Толковали о возможной войне, о смерти короля Франции, последнее время сильно хворавшего, о перемирии с Испанией и даже о захвате острова англичанами. Из-за неизвестности в атмосфере островка копились раздражение и недоумение, которые неминуемо должны были рано или поздно вырваться наружу. Многие французы, скучавшие после неудачи с поисками сокровищ на Эспаньоле, и капитан Франсуа де Ришери — первым из них, не прочь были бы затеять ссору, встречаясь с англичанами в порту и на улицах. Однако отсутствие сведений о международной обстановке в Старом Свете удерживала их от опрометчивых поступков. Абрабанель при виде английского военного судна благоразумно сказался больным и почти не выходил из дому, никого не принимая. Заодно он распорядился держать взаперти Элейну — мало ли что? — и принялся внушать бедной девушке, что корабль прибыл на Тортугу для ареста Уильяма Харта, Джона Ивлина и других бывших подданных Его Величества, запятнавших себя пиратством. Коадьютор припомнил документ, составленный еще в 1668 году сэром Леолайном Дженкинсом, и, то и дело перемежая свои речи цитатами из сего ордонанса, старался повлиять на дочь и заставить ее выбросить Харта из головы. — Все пираты и морские разбойники находятся, — цитировал он злополучную бумагу, — вне закона у всех народов, то есть не подлежат защите правителей и законов. Каждый должен быть управомочен и вооружен для борьбы с ними как с мятежниками и предателями, для того чтобы подавить и искоренить их! Но окончательно убедить Элейну, что Уильям обречен, удалось не Абрабанелю, а Черному Биллу. Подготовка «Мести» к плаванию резко замедлилась, в результате чего сильно заскучали и Ван Дер Фельд, и Билли, успевшие, как говорилось выше, найти общий язык на почве обсуждения своих злоключений. Пират отчаянно тосковал, томился без дела на суше, и даже выпивка ему опостылела. От нечего делать он торчал на кухне абрабанелевского дома и, пощипывая рабынь за округлые места, методично ел и пил все подряд. Скучающая под замком Элейна мечтала хоть как-то скрасить свое одиночество — общество отца и Ван Дер Фельда ей изрядно надоело — и потому рада была даже такой неподходящей компании, как Черный Билл. Она тайком пробиралась на кухню, и пират развлекал ее байками об ужасах морской жизни. Тревожась за судьбу Уильяма, она воспользовалась случаем, когда пират был в сносном настроении, и обратилась к нему с вопросом. — Господин Билл, — спросила Элейна, — а правда ли, что английский корабль прибыл, чтобы арестовать Харта и других английских моряков? — Конечно! — не моргнув глазом подтвердил он с энтузиазмом. Элейна побледнела. — А вы знаете, мисс, как в Англии не любят пиратов? — продолжал Билли, прихлебывая любимое коадьюторское вино из оловянной кружки. — Если суд над пиратом происходит в Британии, мисс, то осужденных обычно доставляют в лондонскую тюрьму «док висельников». Это в Уоппинге на берегу Темзы, мисс… Не бывали там, нет? Ну так вот, эта тюряга… — простите, темница, мисс! — зовется еще «пристань казней». Там у линии отлива сооружают деревянную виселицу. Приходит какой-нибудь узколобый капеллан, которому самому надо просить Небо о помиловании, с чванливым видом произносит молитву, потом осужденному пирату дают сказать последнее слово… хотя что там могут сказать эти висельники по большому-то счету, сударыня?! Ну а потом, ясное дело, происходит казнь. — А казненные быстро умирают, сэр? — спросила Элейна, стараясь не показывать, как ей страшно. — Да, сударыня, только после этого они еще остаются висеть в назидание прочим. После того как повешенного трижды зальет прилив, тело извлекают из петли, пропитывают смолой, засовывают в железную клетку и выставляют на всеобщее обозрение — например, где-нибудь на берегу в районе с оживленным судоходством, на холме или у входа в порт… Солнце, дождь и мороз постепенно сделают свое дело над бедолагой: плоть года за два-три распадется на части, чайки повыклюют глаза, решетке останется удерживать одни кости. Дрожа от волнения, охватившего ее, Элейна прерывающимся голосом спросила: — Неужели так жестоко поступают со всеми пиратами, не разбираясь, насколько виновен каждый из них?!.. — Нет, сударыня, только с самыми знаменитыми! Король английский — известный скряга, ему жаль для такого дела железа и крюков! Тех пиратов, что попроще, после трех приливов просто снимают и хоронят в безымянной могиле или бросают в море. Это не христианское погребение, мисс, — разбойники его не заслуживают — но все же лучше, чем висеть просмоленным в клетке. Однако все это пустяки, — войдя в раж, продолжал Пастор, — по сравнению с повешением в цепях. Завернут, обвяжут нашего брата здоровенной цепью да и подвесят у причала или у берега бухты над водой. Сперва, конечно, тяжко: холод или жара, опять-таки голод, жажда… А глядишь, через несколько дней уже висит себе, раскачиваясь, и нет ему дела ни до чего бренного в этом мире, а птицы знай себе клюют мертвое тело!.. — Скажите, господин Билл, а… как вы думаете, Уильяму Харту тоже грозит быть повешенным в назидание потомкам, до тех пор пока от него не останется лишь скелет?! — бедная девушка собрала в кулак все свое мужество, чтобы задать этот, столь жестоко мучивший ее, вопрос. — Харт, Харт… кто это, сударыня? Уж не тот ли молодчик, который командовал по указу вашего батюшки судном с якобы грузом серебра, а потом столкнулся с моим недоброй памяти квартирмейстером? Ну, не беспокойтесь! Уж этот бессовестный молокосос не уйдет от правосудия. После гибели Веселого Дика он занял его место, а это значит, что его непременно вздернут и потом выставят в железной клетке где-нибудь в устье Темзы под Лондоном или в Гэллоу-Пойнте Порт-Рояля, на Ямайке. Будьте уверены, он провисит долго, а его грязная душонка — даром что он мерзкий католик — не найдет успокоения даже и на том свете. Ведь когда куски разлагающегося трупа падают в воду сквозь прутья решетки, их пожирают рыбы, а это обрекает душу на вечные скитания и мучения. Святая правда, мисс! До глубины души огорченная клеветой в адрес Уильяма, Элейна вскочила со своего места с намерением высказать Черному Биллу все, что она думает о нем, и выставить его из дому, но силы вдруг покинули ее, и девушка без чувств упала на руки прислуги. Перспективы, красочно обрисованные Черным Пастором, потрясли Элейну. Она искренне поверила словам отца и старого пирата о том, что Уильяма ждет позорная смерть. После обморока она несколько дней не вставала с постели, то заливаясь слезами, то молча глядя перед собой. Прекрасная голландка перестала разговаривать даже с собственным отцом, не на шутку перепуганным ее болезнью, и целыми днями просиживала в тишине, погрузившись в раздумья. Абрабанель запретил принимать Черного Билла, предпринял несколько безуспешных попыток пригласить к дочери доктора, упал духом и даже начал подумывать, не вернуться ли ему в Европу, ибо на кону стояла жизнь его дочери. Мучаясь бессонницей, он взвешивал все за и против, вглядываясь в ночную тьму за окном, словно оттуда к нему могло прийти решение. Однажды ему почудилась подозрительная тень за шторой. Он бросился к окну, но увидел лишь огромную кошку, бесшумно спрыгнувшую с дерева, росшего возле самого дома. Наутро выяснилось, что не один коадьютор видел эту тварь. Странное животное напугало Элейну, заметил его и Ван Дер Фельд и даже успел разглядеть, пока зверь позволял луне светить себе в спину. По словам капитана, он был похож на тех диких кошек, которые обитают в Новой Гвиане, в глубине сельвы, и которых местные индейцы зовут онзой. Присутствовавший за завтраком де Клима подтвердил, что в горах действительно иногда встречается животное, напоминающее пуму с чрезмерно длинными ногами и ушами, свирепое и прыткое, как волк. Оно часто режет овец и ворует кур, но охотникам никак не удается его подстрелить. Конечно, нет ничего удивительного в том, что на островах обитают диковинные звери, однако как эта тварь оказалась на Тортуге? Пока Абрабанель, Ван Дер Фельд и Жюль-Бертран де Клима гадали над сим вопросом, туземная прислуга, подслушав господские разговоры, с жаром, присущим южным народам, принялась толковать об этом на кухне. И дня не прошло, как по Тортуге разнеслась весть об оборотне, который по ночам убивает каждого, кто его увидит. По неписаному закону сплетен сия новость вернулась к коадьютору, обретя новые подробности. А после того как еще дважды заметил в своем саду необычное животное, он добился от губернатора, чтобы возле дома выставили охрану. Нечего и говорить о том, что доступ в жилище Абрабанеля был жестко ограничен даже для знакомых.
* * *
Что касается Черного Пастора, то ему ничего не оставалось, как затаиться в портовой гостинице, тем более что ему ничуть не меньше, чем Уильяму Харту, приходилось опасаться чинов английского королевского флота. Ван Дер Фельд — и тот стал избегать пирата после истории с обмороком Элейны. Черному Билли оставалось лишь одно общество — ром. Напиваясь до одури, старый капер начинал с новой силой жалеть о сокровищах, которые, казалось, еще так недавно были почти рядом — только руку протяни. И в один из дней ему, казалось, вновь улыбнулась удача. Приняв крепко, он вдруг вспомнил, что у Веселого Дика на Тортуге была сожительница-индианка. Эта мысль воодушевила его. Разыскать индианку не составит особого труда. А она все равно что-то должна знать про Веселого Дика и сокровища. Не мог он исчезнуть вот так в никуда — все равно что-то должно было после него остаться. Может, он что-то говорил ей, куда-то брал с собой… Любовницы всегда что-то знают. Пастор сам не очень-то в это и верил, но уж больно надоело ему торчать на берегу, как акулий хвост из задницы. Чем больше Билли размышлял над этой идеей, тем больше она ему нравилась. Наконец, выражаясь цветисто, он поднял паруса, то есть поднял себя с лавки, на которой спал прямо в одежде, и выбрался с постоялого двора. Билли не удивился, когда примерно через час поисков ему указали на убогую хижину на самом краю города. Хижина была без дверей, окно пустой глазницей глядело во двор, где за шаткой оградой паслась коза. В наступающих сумерках она казалась пустой и мертвой, как покинутая могила. Но, судя по уверениям старожилов, именно здесь проводил время Веселый Дик, когда появлялся на Тортуге. Оглядев убогую хижину, Билли почесал подбородок и пробормотал себе под нос: — Эта стерва должна быть дома. Дрыхнет, наверное, как корова. Не понимаю, как Веселый Дик с ней вообще разговаривал? Эти индианки ни черта не понимают по-человечески! Билли в сердцах сплюнул себе под ноги. И тут его настигла еще одна мысль. — Вот дьявол! — сказал себе Билли. — Как же я буду с ней объясняться? От этой мысли он окончательно расстроился. К тому же сказывалось легкое нездоровье после беспробудного пьянства. — Эх, попадись мне этот Веселый Дик в руки… Что будет, если Дик попадется ему в руки, Билли не уточнял, может быть, потому, что Дик уже не раз попадался ему в руки, но все время каким-то образом ускользал, а может быть, и потому, что теперь Дик был недоступен ни для каких рук, пребывая в мирах, куда как отличных от нашего. Билли не стал додумывать такую сложную мысль, а, чертыхаясь и божась, высек огонь и зажег предусмотрительно захваченный с собой факел, ибо по опыту знал, какая царит темень в этих вонючих трущобах. С чадящим факелом он ввалился в лачугу, едва не треснувшись головой о деревянную балку, заменявшую дверной косяк. Трепещущее на сквозняке пламя выхватило из мрака картину, от которой даже привычный ко всему Билли невольно поежился. Посреди лачуги прямо на земляном полу на коленях стояла женщина. Ее широкоскулое бронзовое лицо, жесткие черные волосы, спадающие на плечи, и застывший взгляд, устремленный прямо на Билли, напугали бы любого. Женщина смотрела ему в глаза так, словно она знала, что именно в эту минуту он войдет к ней и начнет задавать вопросы. Она походила на одно из тех индейских каменных изваяний, которые испанцы выкорчевывали из земли и топили в море, ожившее и оттого еще более пугающее. Только нежить могла так неподвижно, так страшно застыть с открытыми глазами и ждать. Сколько она ждала? Часы? Сутки? Недели? Билли опомнился довольно быстро. Он был достаточно примитивен для того, чтобы вдаваться в дальнейшие аналогии, и он не привык бояться индейцев, почитавшихся им за некое подобие рабочего скота. Да и женщин он ценил невысоко, а цветных и подавно не считал за людей. Поэтому, быстро справившись с растерянностью, он рявкнул: — Черт бы тебя подрал, обезьяна! Что за манера у вас такая — пугать честных христиан! Торчит тут, как статуя! Черт знает, почему эта тварь сидит в темноте! Поскольку Билли ситал самым достойным собеседником самого себя, то к себе самому он по привычке и обратился. Он не мог понять, почему эта странная женщина оказалась в темноте посреди пустой хижины. — Наверное, молится! — наконец решил он. — У этих выродков сто богов, и каждому надо помолиться. Вот времени днем и не хватает. Индианка, как будто не услышав монолога пирата, по-прежнему не сводила с него черных маслянисто сверкающих глаз, от взгляда которых ему становилось все больше не по себе, как если бы на него пристальным взглядом смотрела дикая хищная кошка. — Что пялишься, тварь? — недовольно буркнул он. — Хочешь сказать, молиться тебе помешали? Успеешь еще помолиться. У нас тут дела поважнее. Ты вот что скажи: ты та самая, что Веселого Дика ублажала? Вот дьявол! Она же ни одного слова не понимает! Ну как это тебе объяснить… Веселый Дик! Любовник твой. Вот обезьяна немая… — Зачем злишься? — вдруг бесстрастным глубоким голосом произнесла индианка. — Ты пришел искать Веселого Дика? Но его здесь нет, разве ты не знаешь? — Вот дьявол! Она разговаривает! — еще больше изумился Билли. — Ты слышишь? Она разговаривает на чистом английском языке! Похоже, ее Дик научил. Ну ладно… То, что Дика здесь нет, я и сам вижу — ни к чему мне об этом напоминать. Умную из себя строишь? Все равно не получится. Все вы, краснокожие, обезьяны и безбожники. А ты мне скажи, где этот проклятый Дик сокровище запрятал? Давай, говори все, что ты знаешь про Веселого Дика! — Ты и сам про него все знаешь! — с прежним равнодушием проговорила женщина. — Разве ты не шел следом за ним? Она, не переменив позы, продолжала сидеть неподвижно, как надгробие, чрезвычайно раздражая этим Билли. — Вот дрянь! — выругался он. — Это что, у них индейский обычай такой — говорить загадками? Я шел следом за ним… Ну шел! Когда это было-то! Меня интересует, жив он или нет? — Белого не интересует другой белый, — спокойно возразила индианка. — Белого интересует золото, которое спрятано в горах. — Ловко! — воскликнул Билли, отступая на шаг. — А с тобой, оказывается, нужно держать ухо востро! Ты никак колдунья? Таких, как ты, нужно жечь на кострах! Ну, не бойся! Я пошутил пока… Откуда ты знаешь про золото? Тебе Веселый Дик рассказал? В ответ женщина поднялась с колен и сделала шаг в сторону пирата. Факел выскочил из его руки и упал на землю, рассыпая искры. Сквозь пелену дыма он вместо женщины вдруг увидел перед собой животное, напоминающее волка и кошку одновременно. Пастор мотнул головой — существо исчезло, и вместо него посреди хижины снова стояла индианка. — Что тебе нужно, гнусная язычница? — вскричал Билли, в ужасе отступая назад. — Ты забыл, что это ты пришел ко мне, — насмешливо ответила ему женщина. — Это ты здесь пришелец, ты на земле моих предков, моего племени, загубленного твоим народом! — она мягким вкрадчивым движением еще на шаг приблизилась к нему. — У тебя тоже не получится. Я наследница царского рода, последняя оставшаяся в живых, обладающая небесным знанием. От предков мне досталось имя На-Чан-Чель. Это великое имя, но мало кто из вас может правильно произнести его… Бледнолицые погубили мой народ, хотя мой народ принял их за богов и оказал им все почести. Но бледнолицые оказались хуже злобных собак. Они не помнили добра. Их интересовало только золото. Холодный металл был им дороже, чем… — Но-но! — прикрикнул на нее Билли, на всякий случай отступая еще на шаг. Женщина внушала ему смутный ужас. — Ты не смеешь говорить такие вещи про белого человека! Белый человек перед тобой и в самом деле вроде бога. И насчет золота ты ничего не понимаешь. Только мне некогда учить тебя, дикарку, уму-разуму. Сама разбирайся, раз из царского рода… Одним словом, что ты знаешь про сокровища? — Про какие сокровища хочет знать пришелец? — индианка рассмеялась, обнажая белоснежные острые зубы. — Может, про те, вместо которых вы нашли скелеты и из-за которых ты бросил пиратское ремесло? Билли, побагровев от злости, сжал кулаки. — Или про те, — индианка, не обращая внимания на то, с какой яростью смотрит на нее пират, повела головой, отчего тяжелые серьги в ее необычно удлиненных ушах мелодично звякнули, — про те, которые сторожит мой народ и про которые хитростью проведал один бледнолицый много дождей тому назад? — Уж не хочешь ли ты сказать, что Веселый Дик подарил тебе карту? — от такой нечаянной удачи Билли вмиг позабыл все свои страхи и обиды. — Мне не нужна карта, — ответила женщина. — Человек, которого ты зовешь Веселым Диком, правда, много болтал — он доверял мне больше, чем своим бледнолицым братьям. Но даже он не знал, где на самом деле спрятаны сокровища, охраняемые моим народом. Не знал — потому и не нашел их на Эспаньоле. Не знал даже мой брат, а я знаю. — Какой еще брат? При чем здесь брат? — Черный Билли окончательно запутался. — Да ты знаешь его! — индианка тихо рассмеялась грудным смехом, но черные глаза ее были пусты. — Бледнолицые отняли его у моей матери младенцем, его воспитали иезуиты — и, если бы он знал, он бы отдал им эти сокровища в обмен на власть в Ордене! Но эту тайну в нашем роду хранят женщины. Это мои сокровища — я последняя. Но одной мне не справиться… Индианка уже подошла к Билли почти вплотную и теперь медленно обходила его сбоку. — Мой брат, да пожрут его внутренности койоты, едва не использовал тебя, думая добраться до карты Рэли, да только мозги у него были такие же, как и у тебя, — птичьи!.. К этому моменту Черный Билли окончательно опомнился. Последние слова индианки здорово задели его за живое. — Выбирай выражения, чертова ведьма! Он попытался схватить ее за руку, но она скользнула ему за спину, и когда он обернулся, то увидел, что вместо женщины на него смотрит огромная бурая кошка. Уж на что Билли не любил католиков, но и его рука невольно сложилась для крестного знамения. — Не дури, пират, тебе меня не одолеть, — хищная пасть злобно оскалилась, обнажая острые клыки. — Я и онза — одно! Но если ты хочешь вернуть себе власть — я помогу. Я расскажу тебе, как найти сокровища, а ты принесешь мне всего лишь одну вещь из них, все остальное — золото, изумруды — будет твое. В этот момент невыносимо чадящий факел наконец потух и хижина погрузилась во мрак. В ужасе Билли выскочил наружу и, откашливаясь, тщетно крутил головой, словно стараясь отогнать безумное видение. Вдруг в хижине зажегся свет. На пороге возникла индианка, держа в руке масляную лампу. — Ну что, Черный Пастор, мы заключили сделку? — спросила женщина как ни в чем не бывало. Билли потер подбородок, унял дрожь в руках и поднял голову. — Если ты не врешь, то я согласен. — Ты не передумаешь? — Нет. — Тогда я сама найду тебя. Подуспокоившись, Билли наконец разглядел, что одета она была странно: на плечах ее едва держалась шелковая, расшитая варварскими узорами, ткань. Нелепое это одеяние подчеркивало стройность ее фигуры и поистине царственную осанку. Билли даже немного удивился про себя. «Пыжится и в самом деле как какая-нибудь графиня с континента. Может, правда, из королевского рода? Да нам-то все равно! Мы и со своими королями не чинимся, что же мы на тебя-то будем смотреть? Вот покажешь нам, где золото зарыто, — тут я тебе хоть в ножки поклонюсь. Это же какое бешеное богатство должно там быть!» — Да как ты найдешь меня? А если я уплыву куда? — Билли постарался, чтобы голос его звучал твердо. — Ты можешь уплыть от На-Чан-Чель, но от онзы ты никуда не скроешься! — прозвучал холодный голос в его голове. Когда Билли сморгнул, он понял, что в хижине темно, как в могиле, а вокруг по-прежнему нет ни души. А он стоит возле привязанной козы, и факел дотлевает в его крепко сжатой руке.Впоследствии Черный Билли так и не смог внятно объяснить самому себе, почему он послушался проклятую ведьму и сделал все в точности так, как она велела ему. Узнав от индейской колдуньи о пути в Новую Гвиану, он отправил Ван Дер Фельду записку, в которой сообщал, что знает местонахождение сокровищ. Пастор также просил голландца доложить обо всем Абрабанелю, чтобы не мешкая отправляться на поиски. Что касается Ван Дер Фельда, то, отнесясь к сообщению пирата крайне недоверчиво, но повинуясь требованию будущего тестя, он отправился к Биллу, надеясь выманить у него сведения или самое карту. Услышав в ответ, что карты не существует, голландец укрепился в своем мнении, что Пастор решил поводить их с коадьютором за нос. Однако сам Абрабанель сразу и решительно поверил Черному Биллу и с несвойственной ему горячностью распорядился возобновить процесс снаряжения «Мести» для похода к берегам Новой Гвианы. К тому же ювелир сам явился к Пастору, намереваясь вытребовать у него карту, но натолкнулся на решительное заявление, что как таковой карты просто нет. Тем не менее рассказ о том, как были получены сведения о сокровищах, Абрабанеля убедил. Он даже стал более ласков и подобострастен с Черным Биллом, уговаривая того поскорее выйти в море. Успевший привыкнуть к самым отвратительным поворотам судьбы, Пастор, на чем свет стоит проклиная мерзавцев, недостойных Божией милости, отправился на борт «Мести», чтобы отдать распоряжение подготовиться к отдаче якорей в ближайшие дни. Билли сообразил, что судьба дарит ему шанс возвратить себе полную власть над кораблем и командой, авторитет и славу грозного пирата. Ведь в открытом море проклятый Абрабанель окажется у него, Билла, в руках! И, приглядывая вполглаза за тем, как Ван Дер Фельд с помощниками из числа пиратов готовит судно к отплытию, Черный Пастор погрузился в мечты о крахе коадьютора.
Глава 3 Служители культа
Тортуга
Отец Франциск не погиб вместе с несчастной «Азалией». Благополучно добравшись до берега на шлюпке, он нашел приют в миссии, и там же его ждал небольшой бот, который и доставил его на испанский галеон, груженный какао. Показав письма капитану, отец Франциск милостиво согласился занять соседнюю с ним каюту и был благополучно доставлен на Тортугу вместе со своими людьми. Туда же со дня на день должна была подойти бригантина «Барселона», отправленная генералом Антильских островов в помощь своему профосу. В те времена богатство иезуитских миссий превышало даже самые смелые фантазии, и посему потеря брига была хоть и досадной, но все же невеликой жертвой во имя стоящей перед профосом Ордена блистательной цели. Перед входом в гавань отца Франциска ждало новое разочарование: вечное перемирие, которым жила Тортуга, не позволяло преследовать Уильяма и других пиратов на территории, подконтрольной здешнему губернатору. Даже в гавань пришлось войти как можно тише и дом для своего временного пребывания нанять поскромнее. В придачу ко всему на рейде стоял огромный линкор английского королевского флота, как будто застилавший собой весь горизонт. Его присутствие было не так-то просто объяснить, и, вместо того чтобы как можно скореезаняться насущными делами, профос был вынужден разослать своих шпионов, дабы выяснить, чем вызван визит на Тортугу английского корабля. Вдобавок присутствие на острове самоуверенных англичан создавало дополнительные сложности для иезуитов. Отец Франциск оказался скован в своих действиях. Тем не менее профос не собирался отказываться от первоначального плана. Сняв квартиру неподалеку от порта, глава иезуитской миссии направил соглядатаев во все концы острова, надеясь выследить Харта: он был совершенно уверен, что флейту просто некуда податься, кроме Тортуги. К тому же дон Фернандо подозревал, что Уильям и его товарищи не станут слишком удаляться от вожделенных берегов Южной Америки. Но вынужденное бездействие претило деятельной натуре профоса и подогревало и без того свойственную ему нетерпеливость. Один отец Дамиан рад был возможности передохнуть от интриг и предаться духовным упражнениям в благословенной тишине. Пока от него хотя бы временно не требовалось откликаться на нелепого «дона Диего Веласкеса де Сабанеду», носить тяготившее его как монаха пышное светское платье, фехтовать на шпагах и придумывать поэтические экспромты в честь очаровательной златокудрой особы. Молодой иезуит не питал иллюзий относительно своего начальника, а посему, сознавая, что подобное положение вещей долго не продлится, наслаждался каждой минутой, которую удавалось провести наедине с самим собой и своими мыслями. Его простому духу были глубоко чужды мрачные раздумья и вспышки гнева его патрона и наставника дона Фернандо Диаса, бог весть отчего не пожелавшего перевоплощаться обратно в отца Франциска и продолжавшего на Тортуге носить светское платье. Ранее отец Дамиан не скорбел по поводу того, что карта сокровищ оказалась подложной, и не испытывал мстительных чувств по отношению к ее хозяину, Роджеру Рэли, ушедшему из жизни при столь драматических обстоятельствах. Отец Дамиан тихонько вписал его в свой келейный помянник и аккуратно молился за упокой его души на каждой утренней и вечерней молитве. Вот и теперь он не разделял пылкого желания профоса захватить в плен молодого англичанина, дружившего с Рэли и, по-видимому, унаследовавшего от него подлинную карту. Посему отец Дамиан, радуясь, что патрон временно предоставил его самому себе, уединился в своих покоях, где и предался чтению Священного Писания и трудов по истории завоевания Америки. Одна только мысль беспокоила его совесть, и, не зная как разрешить сию дилемму, отец Дамиан мучительно искал выход. Что касается отца Франциска, то он, не привыкший к таким сокрушительным неудачам, чередой преследовавшим экспедицию в последние месяцы, находился в состоянии, которое можно было бы сравнить с чувствами дикого животного, запертого в клетке. Недовольство профоса в полной мере ощущали на себе монахи Ордена и сопровождавшие иезуитов индейцы. Но самым жестоким ударом для дона Фернандо стало письмо, извещавшее его о нелепой гибели караиба Хуана Эстебано. Иезуит-касик был слишком заметной фигурой и представлял величайшую ценность для миссии. Отец Франциск ни на минуту не поверил в случайность кончины знатного индейца и назначил специальное расследование. Однако дознаватели, отправленные для того на Эспаньолу, не нашли ни малейших подтверждений насильственной смерти Хуана Эстебано. Точнее, они обнаружили непреложный факт, безусловно доказывающий обратное. Чтобы пронзить человеческое тело веткой кампешевого дерева, да еще, простите за кламбур, намертво пригвоздить его к земле, как это случилось с Эстебано, недостаточно было бы совместных усилий даже нескольких человек. Ни одно человеческое существо не смогло бы нанести подобный удар: роковой сук, с невероятной силой обрушившийся на караиба и пронзивший насквозь его грудь, вошел в землю более чем на фут, прежде чем сломаться напополам. Эта странная смерть и удивительные обстоятельства, ей сопутствовавшие, мгновенно послужили распространению нелепых слухов и самых диких суеверий, до которых так охочи бывают туземные жители, в том числе и обращенные в христианство. Индеец, первым обнаруживший тело Хуана Эстебано, сразу же предположил, что касик пал жертвой злого демона. Тем более, что поблизости оказался трупик священной индейской собаки — течичи, а вглубь джунглей уводили характерные следы, обозначавшие путь огромного питона. Передаваясь из уст в уста, зловещие новости о гибели иезуита-касика обрастали множеством подробностей. К моменту прибытия монахов профоса на Эспаньолу все местные индейцы, а заодно и негры с окрестных плантаций сошлись на том, что только демоны могли так жестоко расправиться с Хуаном Эстебано. Иезуиты, отправленные отцом Франциском для расследования, тщетно пытались вычленить из горы фантастических басен хоть какие-то рациональные факты. В результате, как это и бывает с подобными делами, многие из них, вместо того чтобы анализировать события, тоже уверовали в смерть касика от сверхъестественных сил. Особую роль в тех слухах, которые с переполненными ужасом глазами пересказывали местные индейцы, играл гигантский питон из сундучка Хуана Эстебано. По словам аборигенов, личина пятнистого змея — самая подходящая для демона. Разумеется, кому, как не касику, пристало водиться с тварью из загробного мира, да только на сей раз дело явно пошло не по правилам!.. Иезуиты низших ступеней из миссии, наслушавшись дикарских небылиц, не смогли ни в чем разобраться и были вынуждены донести отцу Франциску, что караиба убил сам дьявол, вселившийся в удава, — так они переосмыслили языческие домыслы индейцев. В конце концов, прибавили они, это все попущено Богом для Эстебано как вполне справедливая кара за гнушение Светом Христовым и возвращение к страшным кровавым обрядам предков. А за что же еще?! Выслушав посланцев, профос еще больше помрачнел и затребовал трактат одного из своих предшественников, который, как он знал, изучал индейские верования. Наивный прелат еще в начале века надеялся отыскать в них лазейку, с помощью которой удалось бы сделать проповедь христианства более понятной язычникам. Отец Франциск не разделял этих прекраснодушных порывов, считая наиболее правильным и эффективным для дикарей обращение в католичество огнем и мечом. Еще будучи молодым человеком, готовящимся к посвящению в сан, он говорил товарищам: «Если мы ненароком убьем в этой войне нашего потенциального сторонника — не беда, ибо тогда мы приобретем надежного ходатая пред Господом, и он будет поддерживать наши дела, благосклонно взирая с Неба и помогая нам молитвами. Но еще больше пользы мы принесем, убивая несогласных. Так мы не только устраняем противников физически, но и даем слабым, колеблющимся и малодушным убеждение, что наша вера могуча не только благодаря мистике и чудесам, но и благодаря прямой силе. Все живущие во тьме невежества и самую грубую силу считают исходящей от Всевышнего. Они будут удостоверены, что Господь помогает нам!» Труд преподобного Томмазо да Сангры показался отцу Франциску скучным и пресным. Он изобиловал рассуждениями на темы духовного мира, от которого человек отделен завесой в результате грехопадения; о том, что блаженство Адама и Евы в Эдемском саду заключалось прежде всего в том, что они могли непосредственно, без усилий общаться с Богом и ангелами. В раю, писал отец Томмазо, духовный мир был реальным и близким первым людям, а человечество, по замыслу Творца, должно было вместе с Небесным воинством составлять стройный хор, который бы «созерцал единого Главу хора и пел в гармонии с Главой». Обширное продолжение сей цитаты из свт. Григория Нисского отец Франциск пролистнул особенно раздраженно, ибо с семинарских лет питал глубокое отвращение к древним Святым Отцам, предпочитая сочинения более современного ему церковного автора — основателя Ордена*["264]. Более занимательными показались достопочтенному иезуиту собственно мифологические сведения, почерпнутые у язычников. Правда, к подробному перечислению заслуг одного из главных индейских идолов, Пернатого змея, перед родом человеческим, отец Франциск отнесся не более благосклонно, чем к сентенциям из Григория Нисского. Но зато сделал закладку на странице, повествующей о противостоянии ягуара и змея — символов индейских богов Тецкатлипоки и Кетцалькоатля. В качестве главного божества туземцы, писал преподобный Томмазо, почитали, очевидно, человека-ягуара — оборотня, воплощающего могущество и безжалостность сил земли и ночи. Как антипод человеку-ягуару, своего рода надежду на лучшее, индейцы создали в своем воображении сказочный гибрид райской птицы-кецаль и змеи-коатль, символ соединения вековечной мудрости с красотой и светозарностью. Тецкатлипока, по мнению язычников, как говорилось далее в манускрипте, положил конец эпохе доброго Пернатого змея, творца наук и искусств, изобретателя календаря и земледелия. По легенде, подручные ягуара дали Кетцалькоатлю зеркало, чтобы он посмотрел на свое дряхлеющее тело. Змей глубоко опечалился, чем воспользовались колдуны, предложившие лекарство от старости. Кетцалькоатля напоили опьяняющим напитком и заставили вступить в кровосмесительную связь с родной сестрой, нарушив тем самым все благородные принципы, которые он сам же и прививал людям. Здесь автор отвлекся на небольшую морализующую проповедь, апеллируя к авторитету апостола Павла*["265], в результате чего отец Франциск вновь со вздохом потер уставшие глаза и, перевернув страницу, продолжил чтение о человеке-ягуаре. Тот якобы требовал приносить в жертву людей, что очень нравилось воинственным туземцам. На этом месте иезуит многозначительно хмыкнул и похвалил себя за несгибаемое решение не допускать сентиментальностей в обращении индейцев ко Христу. По языческим представлениям, обильные возлияния крови на идольских алтарях помогали отдалить конец света. Прочтя это, отец Франциск снова усмехнулся, на сей раз саркастически. Они считали, что боги и люди заключили негласное соглашение о взаимной поддержке: боги дали жизнь людям, люди приносили жертвы богам, подпитывая их энергией, которая представлялась индейцам в виде газа и которую можно добыть из человеческой головы, сердца или печени. Далее повествование ненадолго возвращалось к Пернатому змею, который, протрезвев, с ужасом осознал все, что натворил пьяным. Последнее предложение вызвало у дона Фернандо смех. Огорченный Кецалькоатль наложил на себя наказание — добровольное изгнание — и на плоту из змей убыл на Юкатан, пообещав, впрочем, вернуться из-за океана в год «Се Акатль», соответствовавший 1519 году. Туземцы, подчеркивал падре Томмазо, никогда не забывали этой легенды и, когда именно в 1519 году в Новом Свете появились испанцы, без раздумий приняли Кортеса за Кетцалькоатля. Тут клирик-идеалист принимался горько сетовать на жестокость конкистадоров, которые не воспользовались этим благоприятным обстоятельством и не отвратили несчастных язычников от их ужасного, кровожадного нечестия, не утвердили их в христианской любви и кротости с помощью понятного им «доброго идола», Пернатого змея. Дон Фернандо еще раз раздраженно хмыкнул, пролистнул прекраснодушные советы «будущему миссионеру» и, с трудом продираясь сквозь бесполезные, с его точки зрения, благочестивые рассуждения автора, сближавшего туземных идолов с библейскими чудовищами и греческим Офионом, добрался наконец до интересовавшего его места, касающегося непосредственно гигантских змеев. Последние, по индейским верованиям, подразделялись на чешуйчатых и пернатых, причем и те и другие в равной мере обладали крыльями. Он уже было вздохнул с облегчением, приготовившись прочитать подробности, но тут размышления почтенного да Сангры вновь ушли, казалось, в сторону. Связывая библейского Змея, соблазнившего Адама и Еву, с Левиафаном и апокрифическим Орниасом «Соломонова Завета», а тех, в свою очередь, с крылатыми змеями индейских верований, отец Томмазо писал, что, облекая человека в грубую плоть — «кожаные ризы», — Господь промыслительно закрыл людям доступ в невидимый мир. В этом, по мнению покойного прелата, содержалось заботливое попечение Творца о падшем создании, ведь после прельщения Змеем человеческая воля приобрела греховное направление, расположившись к общению с бесами, а вовсе не с ангелами и Богом, как раньше. Далее, почему-то без перехода, следовали описания индейских поверий о вселении демонов, во-первых, в ягуаров, а во-вторых, в крупных пятнистых змей и о том, как таких питонов используют для отправления языческого культа. Автор сочинения почему-то настойчиво повторял в нескольких местах, что при совершении этих ритуалов индейцы используют черный горный хрусталь — морион — вставленным в перстни либо в виде ошлифованных пластин, либо в качестве зеркала. Сей камень, пояснял отец Томмазо, индейцы считают наилучшей ловушкой для демонов, позволяющей жрецам держать нечистых духов в подчинении. Утверждение дополнялось подробнейшим — со слов какого-то индейца — описанием кровавого обряда. В рассказе фигурировало морионовое зеркало, человеческие и животные жертвоприношения, а также громадный питон, вступавший в схватку с собакой течичи и под воздействием демона, выпущенного на волю из черного камня, обретавший, по словам очевидца, крылья… Дочитав до этого места, отец Франциск почувствовал, что ирония уступает в его душе место неодолимому раздражению. Он вспомнил, что недавно уже слышал разговоры о морионовом зеркале: этот предмет упоминал Роджер Рэли в беседе со своей любовницей! Почему-то два факта, не имевших, кажется, отношения друг к другу, — наличие черного зеркала у Рэли и гибель Хуана Эстебано, странным образом связанная с питоном, — показались профосу объединенными зловещей таинственной связью. Уж не убил ли Рэли иезуита-касика при помощи питона? Отец Франциск, он же дон Фернандо, вздрогнул при мысли, что ему в голову лезет подобная чертовщина, достойная скорее суеверной старухи, чем священника. Забегая вперед, стоит отметить, что профос был все же недалек от истины, но не понимал, где именно в трактате преподобного да Сангры ее нужно искать! Дон Фернандо Диас совершенно напрасно прошел мимо символического сближения Змея из Книги Бытия с Левиафаном и индейскими «священными» питонами и не заметил духовного предостережения, скрытно содержавшегося в рукописи; а заодно пренебрег эпизодом, демонстрирующим высокую потенциальную опасность искуситься и впасть в соблазн при посредстве зеркала. После прочтения трактата отец Франциск был одержим мыслью во что бы то ни стало раздобыть морионовое зеркало, принадлежавшее любовнице Рэли. Профос был теперь убежден, что мистический предмет ему необходим так же, как и карта сокровищ! Неразрывная таинственная связь карты и черного зеркала ослепительной вспышкой вдруг озарила сознание дона Фернандо и заслонила собой все остальные дела. Он уже видел перед собой решение задачи, но в этот момент ему доложили, что за особыми распоряжениями прибыл молодой врач, член Ордена.* * *
Робер д’Амбулен вошел в покои профоса не без трепета. Нет, вовсе не потому, что испытывал страх перед отцом Франциском или излишнее почтение к нему. Просто после того, как он случайно наткнулся на Эспаньоле на крест с надписью, разрешающей все его вопросы, он каждый свой шаг, каждый самый пустяковый поступок совершал так благоговейно и осторожно, как бы перед лицом Самого Бога. Первым и наиболее сильным движением его души тогда, в горах, было отчаяние. Оно оказалось так велико, что следом, как бы ниоткуда, пришло и понимание: унывать бессмысленно и бесполезно, нужно действовать. Просто потому, что предаваться отчаянию значит продолжать терпеть ту самую невыносимую муку, которая терзала его, причем без всякого смысла и без всякой перспективы от этой муки избавиться. «Господи, — взмолился тогда д’Амбулен, — неужели Ты оставишь меня, как я Тебя оставил? Неужели для меня никакой надежды больше нет? Накажи меня как угодно, только не этой незримой казнью, которая терзает меня изнутри. Впрочем… что мне остается, как не покориться Твоему праведному гневу?! Карай, Господи, да свершится Твоя воля!» Выбора-то нет! И когда молодой человек осознал все это и мысленно сжался, готовый принять еще большее страдание как заслуженное, то мгновенно ощутил в себе отклик: надежда есть, если целиком и полностью положиться на волю Божию; а внутренний голос принялся подсказывать ему ответы на вопрос, что делать дальше. Все это произошло слишком быстро, чтобы можно было хорошенько осмыслить. Так что Роберу пришлось действовать больше по наитию. Именно это позволило не совершить необдуманных поступков и не наломать дров сразу. Порыв отсечь все связи с прошлой жизнью и попытаться скрыться от Ордена д’Амбулен мгновенно охладил в себе, и вовсе не потому, что из-под контроля иезуитов уйти невозможно. Он не боялся, что его все равно отыщут, нет. Просто внутренний голос прошептал ему — и продолжал нашептывать это снова и снова, — что, во-первых, прервать связи и скрыться он всегда успеет и, во-вторых, связь с Орденом сама по себе не может помешать исправлению того, что можно еще было исправить в жизни Робера. Главное — действовать достойно, вдумчиво, тщательно, с духовной внимательностью к себе. Ни на минуту не забывать, что Бог все видит, что Он всегда рядом. Под влиянием все того же голоса д’Амбулен решился вернуться в миссию. Но ему не удалось осуществить это сразу, потому что, прочитав надпись на старинном каменном кресте, молодой иезуит остаток дня просидел, уставившись в одну точку и глубоко погрузившись в себя. Лишь с наступлением сумерек он вспомнил, что ничего не ел с утра, с удивлением заметил, что неизменный тропический ливень прошел, промочив его одежду до нитки. В темноте д’Амбулен двинулся куда глаза глядят в поисках пищи и топлива для костра, чтобы как-то обсушиться. Тем более что внутренний голос настойчиво подгонял Робера вниз. Однако ходить по горам ночью, особенно после дождя, — занятие неблагоразумное. Не пройдя и полусотни шагов по почти неразличимой тропинке, молодой человек оступился и, всплеснув в воздухе руками, рухнул ничком, с размаху ударившись лбом и ободрав о камни подбородок и ладони. Это произошло так быстро, что Робер даже сообразить не успел, почему вдруг оказался лежащим животом в луже. Если не считать ушиба лицом, приземление показалось довольно мягким. Физическая боль в руках и звон в голове как-то сразу отвлекли на себя внимание от боли душевной, ноющей, будто зуб с дуплом. «Н-да, — подумал Робер, — черт побери, больно! Попросил, называется, скорбь поменьше!.. А где, интересно, в этот момент был мой Ангел Хранитель?..» — продолжал размышлять он, но, привстав и оглядевшись, в ужасе перекрестился. Возле тропинки, в паре футов от лужи, в которую он свалился, торчал едва заметный в темноте большой иззубренный валун. Если бы д’Амбулен упал не на живот, а навзничь, его висок пришелся бы в точности на острие камня. Убедившись, что Господь желает его, д’Амбуленова, присутствия на сей грешной земле еще в течение какого-то времени, молодой врач, не обращая внимания на головную боль и шум в ушах, встал и хотел продолжать путь. Однако, отойдя от зловещего камня ярда на три, внезапно потерял сознание. Он очнулся в какой-то хижине. За ее оконцем было темно, слышался шум ливня. Возможно, он провалялся без памяти почти сутки, а то и больше. В дальнем конце помещения при тусклом свете огарка можно было различить человеческую фигуру. Услышав шорох со стороны д’Амбуленова ложа, фигура поднялась со скамьи и приблизилась к нему. Робер разглядел, что это пожилая женщина-туземка. Она приподняла раненому голову и напоила каким-то странно пахнущим отваром, отчего у француза, которого и так подташнивало, все кишки вывернуло наружу. Индианка, казалось, пожала плечами и вернулась на свое место. Он не знал, как долго спал, но, когда пришел в себя, история повторилась. Индианка, заметив его шевеление, подошла и, прежде чем д’Амбулен успел воспротивиться, напоила его гнусным зельем. Страдая от боли и дурноты, Робер погрузился в тяжелый сон. Так продолжалось несколько дней — иезуит не успевал ни оттолкнуть плошку с вонючей жидкостью, ни сказать что-то своей странной спасительнице. Да и как бы она его поняла? Наконец, придя в себя после сильного приступа рвоты, обессиленный француз даже умудрился найти философское обоснование своему положению. Лежа на вонючей подстилке, он вообразил, что это как нельзя конкретнее воплощает состояние его души. «Пес, возвратившийся на блевотину свою, — вспомнил Робер слова Писания, — да, я пес. Что ж, Господь услышал меня и дал в полной мере ощутить свою греховность через этот смрад… Привыкайте, шевалье д’Амбулен, в аду вонь будет куда как гуще! А эту… эту боль вполне даже можно терпеть. Вот и потерпим. Как там говорил наш падре из коллежа? Терпение — христианская добродетель? Самое время поупражняться в добродетели. Другого-то ничего и не остается». Размышляя в таком духе, он постепенно начал ощущать что-то вроде мстительного, болезненного наслаждения, упиваться досадой и обидой на индианку, Бога и весь белый свет. Следом пришла еще одна мысль: собственно говоря, женщина, несмотря на избранный ею немилосердный способ лечения, все-таки к нему добра. Ведь она могла бросить его, представителя белых людей, к которым у ее племени наверняка достаточно претензий, в бессознательном состоянии на дороге, а то и добить. Она же язычница, пострадавшая от европейцев, — сама или ее близкие, ее предки… Даже если принять за аксиому, что обращение индейцев в христианство, предпринятое миссионерами из Старого Света, — безусловное благо, нельзя не признать, что проводилось это обращение зачастую варварскими методами. А это значит, что в лучшем случае внуки новообращенных способны будут в полной мере оценить и осознать всю пользу и благодать, полученные их дедами от европейцев. Ныне же туземцы в массе своей едва ли считают, что должны быть благодарны белым пришельцам. Сделав сии душеспасительные выводы, Робер вновь уснул, а проснувшись на другое утро, почувствовал себя значительно лучше. Воспользовавшись тем, что индианка куда-то ушла, молодой человек потихоньку покинул ее гостеприимное жилище. Идти ему сначала было трудновато, шатало от слабости и безумно хотелось есть, но вскоре на дороге попалось дерево с очень сладкими и сочными плодами, и после трапезы стало полегче. Вскоре, на свое счастье, д’Амбулен набрел на индейское селение, где ему удалось нормально поужинать и переночевать, а после отдыха — хорошенько расспросить дорогу к морю. Благополучно добравшись до порта, молодой человек принялся искать возможность отправиться на Кубу, в миссию, но выяснил, что в ближайшее время ни одно судно не снаряжается туда. Проболтавшись несколько дней без пищи и пристанища, поскольку денег на пропитание и квартиру у него не было, д’Амбулен совершенно измучился и впал в уныние. Ему казалось теперь, что Господь совершенно напрасно спас его, не дав разбить голову о камни. Заработать даже на дневное пропитание он не мог, ибо ослабел во время болезни и не успел еще оправиться. Его спасла случайность: шатаясь в порту без дела, он столкнулся с одним из посланцев отца Франциска, занимавшихся расследованием смерти Хуана Эстебано, и узнал от него, что профос выслеживает Харта на Тортуге, а вовсе не отдыхает в миссии в Сантьяго-де-Куба. Услышав имя Уильяма Харта, д’Амбулен почувствовал что-то вроде укола совести. Он считал себя обязанным этому молодому человеку, так простодушно и по-доброму обошедшемуся когда-то с Робером, а затем так легко преданным им в руки противника. Молодой француз подумал, что предупредить Харта и помочь ему избежать лап отца Франциска будет вполне достойным делом, краеугольным камнем в фундамент исправления и добродетельной жизни его, Робера д’Амбулена! Упиваясь этой мыслью, он и отбыл на Тортугу.Но краткая аудиенция у профоса разочаровала Робера. Вопреки уверению внутреннего голоса, что с беседы с отцом Франциском начнется какой-то совершенно новый этап в его, д’Амбуленовой, жизни, ничего подобного не произошло. Молодой врач не получил ни ожидаемого предложения выследить Уильяма Харта, ни вообще какого-либо конкретного задания. Глава миссии, разговаривая с предателями и вообще с людьми, которых он использовал ad majorem Dei gloriam, брал роль и позу благородного аристократа, а не иезуита. Если бы профос просто унизил д’Амбулена как отец Франциск, Робер стерпел бы это, так как был воспитан в правилах Ордена; но старый иезуит принял молодого с безупречно вежливой, непередаваемо ледяной изысканностью дворянина как дон Фернандо Диас. Кровь прилила к лицу д’Амбулена, как только он покинул кабинет профоса. Прежняя его решимость стоически переносить унижения, обиды и удары судьбы в надежде исправить свою жизнь и получить прощение от Бога куда-то улетучилась. Молодой человек был самолюбив до крайности, мнителен и обидчив, каковы бывают брошенные дети. При этом в момент переживания самого жгучего и отвратительного унижения он порой ощущал и своего рода извращенное наслаждение. Конечно, в подобных случаях можно говорить только о наслаждении отчаяния, но ведь в чувстве безысходности бывает и самое сильное, самое горькое удовольствие, переходящее даже в блаженство. Самолюбие д’Амбулена заставляло его считать себя втайне умнее и выше тех, кто окружал его, — несоизмеримо умнее и выше. Он и стыдился этого, и бранил себя внутренне, упрекая в несмирении, и терзался чувством вины за то, что оказался умнее, и призывал на помощь все свое великодушие, хотя вряд ли смог бы утверждать наверняка, великодушный он человек или нет. Но от мыслей о великодушии на сердце Робера делалось только тягостнее, ибо он осознавал всю бесполезность великодушия в его положении, особенно сейчас. Ведь он не мог ни простить своего обидчика, и посему в известном отношении профос был прав, так обращаясь с д’Амбуленом, ни забыть обиду, потому что, будь отец Франциск тысячу раз прав, будь даже Сам Бог тысячу раз прав, указывая д’Амбулену на его жалкое место, — а все-таки жгуче обидно! Но если бы молодой врач даже самым невеликодушным образом пожелал отмстить обидчику, то и этого бы он сделать не смог. И вовсе не во власти и могуществе отца Франциска или Господа Бога дело: просто Робер не решился бы что-нибудь совершить. О, если бы отец Франциск просто унизил его, д’Амбулена, поиздевался, осыпал оскорблениями! Но профос обращался с визитером так, будто того вообще не существовало. Как с пустым местом. И этого молодой француз вынести не смог. Ему вдруг остро, до дрожи в коленках, до ломоты в руках захотелось совершить поступок. Все равно какой — он лишь хочет быть замеченным, выведенным из небытия. — Брат, подойдите сюда, пожалуйста! — вдруг услышал он у себя за спиной приглушенный голос. Робер вздрогнул и поежился. Давно никто не именовал его «братом», пожалуй, еще со времен коллежа. А еще чтоб таким мягким голосом… Он обернулся и увидел священника, в котором узнал племянника дона Фернандо. — Вы, кажется, врач, брат… не припомню, простите, вашего имени? — все так же вполголоса продолжал отец Дамиан. — Робер д’Амбулен. Да, я врач… падре. Мы с вами кажется встречались раньше? Отец Дамиан густо покраснел и ответил: — Ну да, но я был, пожалуй, совершенно тогда неузнаваем. Только сейчас это неважно. Значит, я не ошибся, и вы действительно доктор… — Вам нужна медицинская помощь? — Не мне. Одной особе… видите ли, она находится здесь… тайно. И я опасаюсь, что дон Фернандо… то есть его высокопреподобие… — пролепетал Дамиан. Видимо, сильно растерявшись, он окончательно перешел на шепот: — Видите ли, он не будет рад, если… а ей… то есть этой особе… необходима, по моему мнению, врачебная помощь и… Д’Амбулен хмыкнул и, по-своему истолковав смущение стройного, привлекательной наружности прелата, просящего медицинского совета и явно говорившего о женщине, снисходительно бросил: — Зачем так много слов, падре?.. — Грешный монах Дамиан, к вашим услугам. — Пока это я к вашим, — почему-то раздражаясь, оборвал его Робер. — Вы напрасно утруждаете себя многословием, отец Дамиан, я все понимаю, и недаром состою врачом при Ордене. Где она, эта особа? Покажите мне ее. Священник с готовностью подхватил д’Амбулена под руку и повел куда-то в дальнюю комнату. В полутемном углу на убогой кровати действительно лежала женщина. Она металась в жару, спутанные темные волосы рассыпались по подушке. В комнате горело лишь несколько свечей, поэтому лица больной — бледного, осунувшегося, с двумя яркими пятнами лихорадочного румянца на щеках — Робер сперва не мог хорошенько разглядеть. К тому же вопреки его подозрениям дама отнюдь не была похожа ни на беременную, ни тем более на роженицу. Но через несколько мгновений д’Амбулен, внимательно всмотревшись в черты страдалицы, испытал настоящий шок. — Не может быть!.. — вскричал он, поразившись тому, какой козырь выкладывает перед ним судьба. Но отец Дамиан, подскочив, зажал ему рот обеими руками и торопливо зашептал: — Ради Бога, тише! Отец Франциск не должен знать, что я позвал вас сюда. Бедняжка, сколько она натерпелась и как страдает! Она больна уже давно, мечется, бредит, почти не приходя в себя… невозможно смотреть на ее мучения и не быть в силах помочь. Его высокопреподобие запретил приглашать врача из города, а здесь никого нет… Как я сожалею, что не знаю лекарского ремесла! Я так обрадовался, увидев сегодня вас, брат Робер, помогите ей, умоляю! — А вам-то это зачем, падре Дамиан? — не без ехидства поинтересовался д’Амбулен. Он сам не знал, откуда берутся в нем тот ядовито-снисходительный тон и то мрачное раздражение, с которыми он обращался к священнику. Но молодой прелат не обращал внимания на настроение своего собеседника. Он, как ребенок, радовался тому, что нашел способ осуществить свои чаяния — помочь больной: — Мне? Низачем. Просто невыносимо глядеть, как она мучается. Я давно оказал бы ей помощь сам, если бы изучал хотя бы основы медицины. И как д’Амбулен ни искал в словах Дамиана лжи или недоговоренности, пусть даже неосознанной, но не мог ее уловить. Пожав плечами, он принялся осматривать больную.
Глава 4 Тени прошлого
Тортуга
Лукреция пришла в себя ранним утром. Прежде чем открыть глаза, она лежала, ощущая телом колючее пальмовое волокно под холщовыми простынями, влажную от духоты рубаху, облепившую ее тело, и солнечный луч, светивший ей прямо в лицо. Открывать глаза ей было просто страшно. Лежа с закрытыми глазами, она словно пребывала в блаженном неведении, и все, чем грозил ей этот мир, будто бы и не существовало, прячась от нее за шторами век. Но стоит ей только открыть глаза, как жестокая реальность ворвется в ее жизнь, чтобы кромсать и кроить ее по своим безжалостным меркам. Лукреция помнила про свой прыжок в пропасть, помнила, что тонула и что Фрэнсис тянул ее вверх из вспененной их телами мути, помнила острые камни, на которые упала без сил. Помнила, что бредила, что ее мучали жар и жажда, что какой-то мужчина поил ее из чашки, и все. Она лежала закрыв глаза и боялась их открывать. Смерть была страшна и отвратительна, но жизнь порой оказывалась куда ужасней. Но так не могло продолжаться вечно. И, набравшись решимости, она села на кровати. Интуиция не подвела ее. Не прошло и пары минут, как брякнул дверной засов и на пороге возникла негритянка в просторном хлопковом платье-рубахе, подвязанном коричневым фартуком из мешковины. Голову ее венчал полосатый тюрбан. Сверкнув белками глаз, она приблизилась к кровати и на ломаном французском произнесла: — Что мадам будет угодна? Лукреция с легкой брезгливостью оглядела чернокожую и вздохнула: — Сменить ночной горшок, переменить платье и завтрак. — Хорошо, мадам. Негритянка поклонилась и вышла. За дверью снова брякнул засов. Из этой сцены мадам сделала несколько бесценных наблюдений. Во-первых, она у недругов. Во-вторых, она в плену. В-третьих, ею пока дорожат. Молодая женщина попыталась самостоятельно подняться с кровати. Она ступила на обмазанный глиной пол прямо босиком, но ее ослабевшие ноги дрогнули и она едва не упала. — Что ж! — Лукреция схватилась за кровать и села. Голова ее кружилась. — По крайней мере, могу сделать вывод, что провалялась я так не менее месяца. Иначе ноги мои так не ослабели бы. Она провела рукой по волосам. Они были спутанны и грязны, их блеск померк, и на ощупь они больше напоминали солому, чем шелк. — Теряют больше иногда, — пробормотала она слова великого Лопе Де Веги и усмехнулась: — Значит, я у испанцев. Только эти варвары не дают женщине вовремя умыться и могут так дурно обращаться с французской шпионкой и английской леди. Она снова усмехнулась. Негритянка вернулась спустя полчаса и принесла на подносе горький отвар из кофейных зерен и какао, а также миску с кукурузной кашей. Венчал сервировку ананас в окружении бананов. Отослав негритянку за одеждой, Лукреция принялась за завтрак. Не успела она ополоснуть руки в оловянном тазике, как дверь снова лязгнула и на пороге возник мужчина. Невольно Лукреция зажмурилась, а когда открыла глаза, то увидела совсем рядом оливковое энергичное лицо дона Фернандо. Он наклонился над ней так низко и так пристально уставился на нее, что в голове у Лукреции мелькнула шальная мысль, не хочет ли этот полумонах-полувоенный овладеть ею. Она инстинктивно вжалась в подушки, но сквозь страх из нее вырвался презрительный смешок. Разве для этого высохшего фанатика существуют женщины? — Вы сильно изменились, сударыня! — вдруг произнес испанец странно охрипшим голосом. — Кажется, эта роль оказалась для вас слишком тяжелой, верно? В глазах мужчины мелькнуло нечто, что заставило Лукрецию подобраться и вспомнить о своих чарах. Конечно, это чушь, но, как говаривал один мудрец: «я верю, потому что абсурдно». — Пожалуй, — прошептала Лукреция, менее всего желая оказаться жертвой насилия. — Вы были слишком жестоки и несправедливы ко мне. Обычно роль бедной овечки плохо удавалась Лукреции, но полное истощение сил после пережитого придало ее голосу и взгляду несвойственную им слабость. — Не думайте, что я попадусь на ваши чары, — перебил ее профос. — Вы красивы, нет, вы больше чем красивы, но в вас я вижу только кусок обезумевшей, обуреваемой страстями плоти. Лукреция мысленно поежилась. Этому ее еще не уподобляли. Она обессиленно прикрыла глаза и постаралась вздохнуть как можно глубже, так чтобы ее грудь под тонкой батистовой рубашкой призывно колыхнулась. «Берегись, святоша, — подумала она, — я тебе отомщу». Острая игла боли пронзила ее сердце при мысли о Фрэнсисе. Она обрела его на мгновение только затем, чтобы потерять навсегда. Ее пальцы непроизвольно сжались, ощутив на мгновение призрачное прикосновение его руки перед роковым прыжком. — Проклятый Рэли погиб, будьте уверены, — профос словно читал ее мысли, и ей показалось, что ее муки доставляют ему удовольствие. Стиснув зубы, она изобразила на лице удивление. — Вы так боялись его? — она улыбнулась краешками губ. — Я никого не боюсь, — воскликнул гордый монах и вскочил с края ее постели. Он сделал несколько шагов по убогой комнатушке, заменявшей пленнице тюрьму. — Просто этот негодяй спутал все мои планы. — Уж не потому ли он негодяй, сеньор, что захотел взять то, что принадлежит ему, а не вам? — Замолчите. Вы как гадюка… — Жалю прямо в сердце? — Лукреция рассмеялась своим бархатистым смехом, от которого у мужчин всегда сжималось что-то в груди. — Или у вас нет сердца? Странно, если так. Ведь именно туда вам надлежит спускаться перед каждой исповедью. — Не смейте… — профос подскочил к ней, сжимая кулаки. — А то вы меня ударите? — Я не бью женщин. — Да вы, сеньор, благородный человек… — Лукреция подалась вперед, и рубашка упала с ее мраморного плеча. Профос отвел взгляд. — Однако это не мешает вам издеваться над беззащитной женщиной, держа ее взаперти и допрашивая. — Вы не женщина, а французский шпион. — Только что вы утверждали обратное! О-о, в лоне софистики Лукреция чувствовала себя как дома. — Прекратите! Вы знаете, стоит вам только захотеть… — И что? Лукреция вскочила с кровати. Ее безукоризненное, как у статуи, тело просвечивало сквозь тонкую ткань. Профос отступил назад, прикрыв глаза рукой. — Немедленно вернитесь в постель! — А то что? — Лукреция шагнула ему навстречу, отчего ее прекрасная грудь оказалась в непосредственной близости от мужчины. — Проклятие, я прикажу, чтобы вас одели, и тогда мы продолжим беседу! — Профос развернулся и выскочил из комнаты, хлопнув дверью. Лукреция судорожно вздохнула и рухнула на подушки. Еще парочка таких представлений, и дело сдвинется. Душивший ее ужас перед этим человеком сменялся приступами острой ненависти. В такие моменты ей было все равно, что делать и что говорить, лишь бы добиться своего, вырваться на свободу, подать Ришери весточку, что она жива. Если только… Если только Ришери сам не определил ее сюда, договорившись с чертовым иезуитом. Лукреция вскочила с кровати и огляделась. Профос позволил, чтобы ей вернули ее заветную шкатулку, разумеется перед этим тщательно обыскав ее. Она пристроила ее на кровати, расположилась поудобнее на тюфяке, набитом пальмовым волокном, и откинула крышку. В зеркале отразилось ее лицо. Проклятие! Слишком бледное, слишком изможденное, с припухшими глазами. Ее единственное оружие должно быть в порядке. Она выдвинула ящичек с притираниями и взором наемника, приценивающегося к оружию в лавке, окинула хрустальные флаконы, лежавшие в бархатных ложах. «Выбор оружия успокаивает нервы и возбуждает смелость», — подумала она и извлекла первый флакон. Ее цепкий быстрый ум уже рождал комбинации по спасению, примеривал маски и позы, перебирал уловки и хитрости. Она добьется своего, и тогда… Страшный спазм сдавил ей грудь, она невольно прижала руку к солнечному сплетению. Что тогда? Сокровища для Кольбера? Служба королю? О, она не сомневалась, что ее выбросят как негодную тряпку, как только она перестанет быть нужна или колесо власти качнется в другую сторону. Что тогда? Роджера больше нет. Любую цену она готова заплатить, лишь бы все вернуть, все исправить. Любую. И из глаз ее хлынули слезы. Она зажала рот руками, стараясь не всхлипывать. Рыдания сотрясали ее, она качалась из стороны в сторону, ее черные вьющиеся волосы рассыпались по плечам. Она беззвучно выла, как простая крестьянка на похоронах. Вдруг ей почудилось какое-то движение. Она испуганно обернулась. Позади нее, в углу между кроватью и небольшим высоким оконцем, стояла женщина. Незнакомка молча смотрела на нее, и в ее холодных изумрудных глазах не было ни жалости, ни сочувствия. Ее черные волосы были взбиты и высоко зачесаны, как во времена королевы Елизаветы, старинное, давно вышедшее из моды черное бархатное платье на испанский манер было заткано серебром. В руках незнакомка держала маленькое черное зеркальце. — Что вам угодно? — Лукреция отпрянула к стене и вдруг заметила, что прямо сквозь даму она видит и каменную кладку стены, и оконце. Ледяной ужас сжал ее сердце. — Кто вы? Черная дама неуловимым движением скользнула к Лукреции и положила зеркальце на край кровати. Потом она подняла указательный палец, украшенный изумрудным перестаем, и прижала его к алым губам, покачав головой. Холодный ветерок промчался по комнате, и дама исчезла. Лукреция вскрикнула и потеряла сознание. Когда она пришла в себя, в комнате никого не было. Жаркий воздух лился в забранное решеткой окно. Она была мокрой от пота, ее лихорадило. Менее всего ей хотелось подцепить болотную лихорадку, но мысли ее путались, мучительно хотелось пить. Она оглядела кровать. Что это было? Бред? Видение? Призрак? Мозговая горячка — вот то, что совсем не нужно ей в эти дни. Но все же, что это было? Конечно, никакого зеркала не было и в помине. То есть зеркало-то было, ее собственное, то, которое ей подарил Роджер. Оно по-прежнему лежало на дне шкатулки среди других безделушек. Как оно туда попало? Кажется, она отдавала его кому-то или дарила… Лукреция не помнила. Ей действительно было нехорошо. Собравшись с силами, она позвонила в колокольчик, милостиво оставленный на стуле возле кровати ее тюремщиком. Послышались шаги, и на пороге возникла негритянка в своем невообразимом тюрбане. — Что мадам угодна? — коверкая французский, спросила она, приседая в нелепом полуреверансе. — Мадам угодна пить, — Лукреция не могла удержаться и передразнила служанку. — Принеси воды и помоги мне причесаться. — Слушаюс, — негритянка снова присела и исчезла. Звякнул засов в петлях. Лукреция прислушалась к себе. Ей все еще нездоровилось. Опять заломило в висках, заныли суставы рук и ног. Но она не могла позволить себе слабость. Тело может болеть, но ум должен быть здоров. Никаких мозговых горячек. Простуда, и все. Лукреция опустила голову на жесткую подушку и прикрыла глаза. Ей надо набраться сил. Она еще не пришла в себя после того прыжка в водопад… …От прыжка она помнила только руку Роджера, крик, разорвавший грудь, и тугую массу воды, о которую она ударилась. Роджер не хотел отпускать ее, он тянул ее вверх, к жизни, и сквозь толщу зеленого мрака ее вытолкнуло к солнцу. И все. Больше она не помнила ничего. Только воду, раздирающую легкие, боль и руку Роджера. Его правую руку. И вот она жива. Он вытолкнул ее, спас, но покинул. Он снова оставил ее одну… Слеза сбежала по щеке и утонула в волосах. Он снова оставил ее одну наедине с этим ненавистным миром. Когда она ненадолго пришла в себя, вокруг были испанцы. Они вытащили ее на берег, привели в чувство, дали одежду. Потом принесли ее вещи. Она все время находилась в полузабытьи — то ли не выдержал даже ее закаленный организм, то ли в питье ей добавляли снотворное. Она смутно вспоминала, как в закрытых носилках ее доставили на корабль, как заперли в каюте. Помнила недолгое плавание и снова берег, снова паланкин, а потом эта тюрьма. Из людей она видела только этого фанатика да глупую негритянку. Сколько продолжался ее плен? Около месяца, не больше. У женщин ведь свой календарь, он не обманет. Лукреция улыбнулась. Если бы она родилась мужчиной, она былабы гораздо счастливей. Но тогда бы у нее не было ни одного шанса выбраться отсюда. А так… Пусть профос врет себе, ее женское чутье он не обманет. Такая же жадная похотливая свинья, как и остальные. Она видела и блеск в его лицемерно отвернутых глазах, и дрожание рук. Что ж, тело служило ей исправно все эти годы, послужит и еще раз. Тело как орудие мести — другого ни природа, ни люди ей не оставили. И она снова повторила про себя страшную клятву: «Любой ценой я выберусь и отомщу. Я вернусь. Я увижу сына. Я сделаю все, но я не погибну, не сломаюсь, не покорюсь. Я выживу. Я одержу победу». Звякнули запоры. Ей принесли воду и ужин. Значит, вскоре заявится профос. Дождавшись, когда негритянка уйдет, Лукреция схватила зеркальце и взглянула в его мутную черноту. Ей надо собраться с силами перед новой схваткой с двуногим зверем, носящим шпагу поверх сутаны.* * *
Напрасно, изнывая в плену, Лукреция так плохо думала о Ришери. В это время бедняга страдал от тоски и неопределенности. Он безвылазно торчал в своей каюте на «Черной стреле», задумчиво смотря поверх писем и докладов в распахнутые настежь иллюминаторы. Пальцы его медленно перебирали жемчужины драгоценного ожерелья, зажатого в руке на манер четок. Вот уже которую неделю он пытался сочинить доклад министру Кольберу. Но докладывать не было сил. Возвращаться во Францию в данном статус-кво означало безоговорочно признать свое поражение. Он не исполнил поручения Кольбера. Он потерял людей и женщину. И последнее гораздо горше первого. К своему ужасу, Ришери понимал, что эта шпионка, эта авантюристка значит для него больше, чем ему хотелось бы. Она затронула в его душе давно умолкнувшие струны, и та мелодия, что родилась из этой игры, доставляла ему наслаждение. Эта мелодия отличалась от пресных песен давно приевшихся особ, титулованных и не очень. Да — Ришери усмехнулся, — когда-то он слыл покорителем сердец. Его галантные манеры и светский лоск, флер моряка и аристократа крушили женские сердца не хуже, чем его пушки — борта враждебных кораблей. А теперь… Ришери с отвращением потер давно не бритую щеку. К черту этих куриц. Надоели. Все до одной. Все они как луковый суп после трюфелей: от них так и разит похотью и глупостью. Как можно сравнить их с Аделаидой? Ришери твердо решил для себя звать ее так. Так она была его женщиной, так ее не надо было делить с тем, с другим… О, как много он отдал бы за то, чтобы ее зеленые глаза хоть раз подарили ему такой взгляд, которым она смотрела в тот проклятый день на этого англичанина… Ришери носком сапога отшвырнул книгу, брошенную возле кресла. Томик Мольера отлетел в сторону. Ему никогда не забыть этого взгляда. В нем было все — любовь, страсть, мольба, вера, обещание счастья… Капитан усмехнулся и прикусил губу. Зато он обладал ею. Ему принадлежало ее тело эти месяцы, ему она отдала последнюю ночь своей жизни. У него столько же прав на нее, как и у этого ублюдка. Даже больше. Он может дать этой женщине все — титул, богатство, место при дворе. Он даст… Капитан стиснул ожерелье в пальцах. Он уже ничего ей не даст. Как и тот бродяга. Она мертва, и зеленые воды горного озера навсегда поглотили ее. Зеленые, как ее глаза… Ришери застонал и поднялся с кресла. Проклятие, он же дворянин, он капитан. Он должен довести дело до конца. Он должен… И у него есть цель: он отомстит этой испанской сволочи, этому сумасшедшему фанатику, сломавшему ему, Ришери, жизнь. Он заставит безумного иезуита повыть от бессильной злобы и тоски, как выл ночи напролет он, потомственный дворянин, ведущий свой род с первых Крестовых походов… Ришери распахнул дверцу и шагнул на залитую солнцем палубу. Солнце немедленно ударило жаром ему в затылок. Вот и прекрасно. Он выследит испанскую сволочь, а там посмотрим…Глава 5 Но все проходит — горечь остается
Эспаньола — Тортуга
Когда Кроуфорд открыл глаза, вокруг была ночь. Все-таки он крепко приложился головой во время падения, и, как он выбрался, известно только дьяволу или Господу Богу. Он помнил, как они прыгнули, держась за руки, в ушах его до сих пор звучал крик Лукреции. Он помнил, как, оглушенный, он из последних сил тащил ее наверх, помнил, как положил на камни, а потом поскользнулся и упал… Когда он открыл глаза, вокруг царил мрак, слабо подсвеченный мерцающими водами озера и отражающимися в них крупными, как бриллианты, звездами. Его бил озноб, мокрая одежда облепила тело, и, клацая зубами, он попытался забраться на камни подальше от воды. Судя по всему, его просто прибило течением к берегу и, на счастье, он не нахлебался воды. Он дотронулся до головы. Так и есть. Рваная рана, покрытая коркой из подсыхающей крови и слипшихся волос. О том, чтобы куда-то двигаться и что-то делать в темноте, и речи быть не могло, поэтому он свернулся на жестких камнях в комок, чтобы хоть как-то сохранить тепло. На удивление, он мог дышать. Резкая боль в груди утихла, и кашель на время отступил. Кроуфорд закрыл глаза и, трясясь от холода, предался невеселым размышлениям. Рассвет он встретил с радостью, поскольку появился шанс просохнуть под палящими лучами солнца. Серая дымка рассеялась, истошно заорали птицы, и лес наполнился дневными звуками. Кроуфорд разделся и разложил одежду на камнях, напился прямо из озера, с ужасом думая о возможных последствиях. Надо бы и поесть, но для этого необходимы были силы. Кроуфорд решил отложить мысли о еде на потом и осмотрелся. Он находился в небольшой природной бухточке с отмелью, куда его и прибило вчера. Сразу за камнями плотной стеной возвышался лес, откуда-то сбоку доносился приглушенный рев водопада, а прямо перед ним, на другом берегу, начинались отвесные скалы, откуда он, собственно, вчера и совершил отчаянный прыжок. Присмотревшись, он обнаружил прямо у себя за спиной тесный проход между камнями, напоминающий природой проложенную тропинку. Недолго думая он натянул влажную одежду и решил двинуться обратно наверх, ибо джунгли таили для безоружного белого человека неизмеримое количество опасностей. Тропа вилась между камнями, круто забирая вверх, и, с трудом пройдя около ста ярдов, Кроуфорд прислонился к обломку скалы, чтобы отдышаться. Прямо над ним, еще ярдах в пятидесяти, зияла пещера, куда можно было пролезть, согнувшись. Кроуфорд подумал, что поскольку двигаться надо в любом случае, то движение вперед в его обстоятельствах ничуть не хуже, чем движение назад. Он протиснулся между обросшими мхом камнями и оказался в полумраке пещеры. Беглого взгляда было достаточно, чтобы убедиться: здесь были люди. Стены несли на себе следы грубой обработки, сверху, через искусственные шурфы, пробивался слабый дневной свет. На свой страх и риск он решил пробираться дальше. Под ногами хрустели песок и ракушки, и с каждым шагом становилось заметно, что уровень земли постепенно повышается. Вскоре в полумраке показались грубо вытесанные ступени, круто забирающие вверх, как лестница церковной колокольни. Кроуфорд остановился и задрал голову. Ступеньки терялись в темноте. Вдруг, повинуясь неведомой силе, он обернулся. Справа на каменной стене были процарапаны какие-то буквы. Кроуфорд провел по ним ладонью, счищая забившую их пыль. «У. Р.» Кроуфорд расхохотался, но смех его перешел в хриплый кашель. Он долго кашлял, сплевывая кровь на белый песок. Отдышался и, неуверенно осенив себя крестным знамением, поставил ногу на первую ступеньку.Когда перед его глазами снова забрезжил свет, от бесконечного подъема по спирали кровь бешено стучала у него в висках, во рту пересохло, а сердце глухо бухало в груди. Он прислонился к сухой бугристой стене и прикрыл глаза. Безумная идея осенила его во время подъема, и теперь он тщетно пытался сдержать нервную дрожь, сотрясавшую его тело. Он сцепил руки и прижал их к груди. Какая жестокая шутка, жестокая шутка мертвого капитана. Если он угадал, то его дед был циничный человек.
* * *
Ему везло. Французскую часть Эспаньолы он пересек верхом, выменяв одну из жемчужин на лошадь в первой же попавшейся по пути деревне. Кроуфорд устал, был голоден и хотел спать, но не останавливался ни на минуту. К утру он достиг побережья. Кроуфорд еще лелеял слабую надежду, что сумеет застать французский фрегат. Каким образом он мог бы попасть на него, это был отдельный вопрос. Но французы уже давно подняли якоря. Кроуфорду пришлось потрудиться, пока он отыскал рыбака, согласившегося переправить его на Тортугу. Кроуфорд расплатился с ним, отдав ему лошадь вместе с упряжью. В тот же день он был на Тортуге. Седина и отросшая борода сделали его неузнаваемым. Первым делом он кинулся в свою хижину — туда, где жила На-Чан-Чель. Кроуфорд не знал, о чем он будет сейчас с ней говорить, какой вопрос ей задаст, но ему было совершенно необходимо встретиться с ней, заглянуть в ее непроницаемые, темные как ночь глаза. Кроуфорду казалось, что тогда он поймет нечто важное, без чего ему уже никогда не будет покоя. Но его дом был пуст. Индианки и след простыл. Жила она более чем аскетично, поэтому выяснить, ушла она насовсем или отправилась в гавань купить рыбы на ужин, было невозможно. Соседи ее не видели. Разыскивать женщину Кроуфорду было некогда. Он лишь в глубокой задумчивости еще раз обошел пустой дом; хмурясь, обшарил все углы и наконец ушел, так и не разрешив загадки. Ему хотелось еще немного побыть мертвым. Поэтому, разузнав, что «Голова Медузы» в гавани и собирается скоро отплывать, он выкинул Харта из головы. Гораздо больше он думал о том, что, собственно, в свете последних событий изобразил его веселый дед Уолтер Рэли лимонным соком. Однако, справедливо рассудив, что у Уильяма сейчас больше возможностей этим заняться, Фрэнсис задумался о том, как ему связаться с покровителями. Лукреция мертва, у него есть сын, значит необходимо честное имя в Англии. Вот это, пожалуй, сейчас по-настоящему заботило Роджера Рэли.Глава 6 Блажен, кто узрит незримое
Тортуга
Неприятная и, в сущности, довольно пустая беседа с Робером д’Амбуленом неожиданно помогла отцу Франциску упорядочить собственные мысли и определиться с последовательностью грядущих действий. Трактат преподобного да Сангры, сокровища, карта, морион, пленница, до сих пор не пойманный Уильям Харт, наконец, сам бестолковый француз-лекарь — все уложилось в более-менее связную картину. К осуществлению своих планов профос приступил немедленно. Самым простым оказалось обследовать вещи Лукреции: достаточно было добавить несколько капель опийной настойки в питье пленницы. Отец Франциск угадал верно: черное зеркало хранилось в одном из отделений несессера. Приказав вернуть шкатулку с оставшимся содержимым на место, он с любопытством рассматривал добычу, попутно размышляя, каким образом с помощью куска шлифованного камня жрецы получают власть над духами. Богатая библиотека миссии, оставшаяся на Кубе, пришлась бы весьма кстати: фолиантов по чернокнижию там хранилось в избытке. Теперь же снедаемому нетерпением профосу оставалось довольствоваться разрозненными сведениями из труда отца Томмазо. Беда профоса была не только в том, что он не имел под рукой достаточного количества книг, но и в том, что он и имеющиеся читал невнимательно, пропуская по несколько страниц. Тем не менее он убедился, что морион действительно считают камнем магов и прорицателей. Отец да Сангра добавлял, что даже отпетые дьяволопоклонники побаиваются сверхъестественного могущества, заключенного в черном камне. Одолевая собственные силы чародея, морион способен полностью подчинить своего хозяина. «Камень также облегчает общение с миром усопших, вызывает вещие сны, часто используется в некромантии…» — сведения опять сменились более чем подробными рассуждениями на данную тему. Дон Фернандо торопливо перелистнул страницы: ему был вовсе не интересен механизм насильственного вызова душ умерших из преисподней и уж тем более профос не собирался таким образом узнавать будущее. Далее текст был так обильно пересыпан цитатами из Святых Отцов, что профос пролистнул их, даже не просматривая. А зря! Иначе заметил бы выделенный киноварью заголовок на одном из листов: «Mirror Morionis*["266] есть темная сторона каждого из человеков, то, что лежит глубоко внутри, по ту сторону Зеркала». Зато его внимание привлек абзац, в котором говорилось: «Морион является гарантом равновесия сил, но в то же время коварным и опасным союзником, который может привести праздно любопытствующего к смерти и безумию, не говоря уже о посмертных муках». Себя профос к праздно любопытствующим, разумеется, не относил, а потому посмертных мук не испугался. Не испугался иезуит и странного ощущения, возникшего, как только он стал пристально изучать каждый сантиметр морионового зеркала, будто пытаясь пересечь границу дозволенного. Внешний осмотр ничего не дал отцу Франциску, и он решил сменить тактику. Рассудив, что зеркало-то прежде всего должно отражать, профос, осенив себя крестным знамением, наконец вперил свой взгляд в глубь гладко отполированной поверхности мориона. В первое мгновение он не увидел ничего, кроме собственного лица, разумеется черного, как у мавра. Но затем в глубине зеркала словно заклубился дым, чернота камня втянула и растворила во мраке лучи солнечного света, проникавшие через окно, а перед глазами отца Франциска раскрылась чужая жизнь: улицы мертвых городов, шествия индейцев, белые пирамиды, толпы людей… Их лица, искаженные гримасами боли, страха и ненависти, в большинстве были незнакомы профосу, но пару раз ему показалось, что он видит черты мерзавца Рэли. Дон Фернандо вздрогнул и обвел глазами комнату, желая убедиться, что находится в ней один. В пустом кабинете действительно никого не было, но профосу почудилось, что кто-то стоит за его спиной. Он обернулся и ничего не увидел, лишь воздух будто слегка сгустился за его креслом и помещение начало заволакивать туманом. Все еще крепко сжимая в руках морионовую полусферу, отец Франциск тряхнул головой, надеясь, что морок рассеется. Но вместо этого в центре зеркала почему-то мелькнула Лукреция Бертрам или особа, до крайности похожая на нее внешне. Глаза женщины ярко сияли, подобно изумрудам, на покрытой дымкой глади камня, а волосы развевал ветер. Это продолжалось всего несколько секунд, но их оказалось достаточно, чтобы иезуита переполнил страх, смешанный с яростью. Он замахнулся, хотел швырнуть зеркало в стену, но, сделав над собой усилие, остановился и посмотрел в него еще раз. В морионе вновь отразилась его собственная физиономия. Но позади себя профос заметил в зеркале женскую фигуру. Дон Фернандо развернулся, но никого не увидел и собрался временно прекратить эксперименты с черным зеркалом, как вдруг услышал, что прямо из зеркала кто-то заговорил с ним. По спине профоса побежали мурашки. Он зажмурился, с усилием помотал головой и открыл глаза. Видение в зеркале не исчезало — сразу за его, отца Франциска, отражением по-прежнему виднелась какая-то женщина. Но самое странное: когда профос поднял голову, он обнаружил, что эта женщина стоит перед ним вживую. Да-да, не за его спиной, как показывал морион, а напротив. Их разделял массивный стол, заваленный бумагами, поверх которых иезуит швырнул том преподобного Томмазо, раскрывшийся на сентенциях о Кетцалькоатле и Кортесе. Незнакомка оказалась индианкой довольно высокого роста, необычайно стройной и гибкой, движениями и грацией сходной с дикой кошкой, в невообразимой вышитой хламиде, отливающей всеми цветами радуги. Ее привлекательную для краснокожей внешность портили длинные, словно отвисшие, мочки ушей, в которых качались, позванивая, тяжелые золотые серьги, а взгляд наводил на собеседника оторопь. Только потом отец Франциск догадался, почему ему было так не по себе: зрачки у женщины были не круглыми, как у человека, а вертикальными. — Хочешь понять, как погиб мой брат? — со странным акцентом проговорила На-Чан-Чель по-испански, на удивление легко взяв со стола раскрытый том in folio и небрежно пролистав несколько страниц. — Или ты хочешь узнать, как действуют черные зеркала? Ты прав, иезуит, зеркала созданы для того, чтобы отражать. Но отражают они совсем не то, что ты думаешь! — ее грудной голос звучал чуть насмешливо и вместе с тем завораживающе. — Для тех, кто умеет пользоваться черными зеркалами, они отражают не только лицо! Они отражают всего человека — и внешность, и нутро, и мысли! — она засмеялась коротким сухим смехом. — Но мне черное зеркало не нужно. Мне нужно кое-что другое. Почти то же, что тебе. Часть сокровищ майя, которые я тебе покажу… да-да, не сомневайся. Если, конечно, не будешь слишком строптив, — она снова засмеялась, и сухой хохот прозвучал гораздо более жутко, чем в первый раз. — Кажется, гордость и строптивость не в почете в религии белых? Насмешка в голосе На-Чан-Чель стала более явственной. Отец Франциск неподвижно застыл на высоком резном стуле. Он чувствовал, как леденящий ужас сковывает его члены, и, трепеща от бессилия, пытался мысленно заставить зеркало, валявшееся на столе между ним и женщиной, помочь ему одолеть индианку. Если бы профос должным образом изучил творения по магии и некромантии, он бы знал, что морион не терпит эмоций. Злиться, ревновать, завидовать или питать иные страсти вблизи морионового зеркала было смертельно опасно для его хозяина. Черное зеркало запульсировало, дымка на его поверхности сгустилась, и профос вдруг почувствовал, как у него откуда-то из солнечного сплетения протянулась незримая нить, связывающая его с камнем. Оцепенев, он каждой клеточкой тела ощущал, как жизненная сила медленно перетекает из него в зеркало, как его сердце гулко бьется в груди, с трудом качая кровь, как в глазах у него темнеет и с ним вот-вот произойдет что-то страшное. Но недаром дон Фернандо был выбран профосом. Он умел владеть собой. Долгие медитации по методу святого Игнатия Лойолы научили его контролировать свои эмоции, не допуская срывов. И в то мгновение, когда уже находился на грани между бодрствованием и обмороком, он усилием воли заставил себя сбросить ледяное оцепенение и схватил со стола зеркало, выставив его между собой и индианкой как щит. Горячий камень едва не обжег ему руку, но отец Франциск только крепче сжимал его. Он приказывал зеркалу убить женщину, и лицо незваной гостьи исказила ненависть. Зрачки ее звериных глаз на миг расширились, как у разъяренной кошки, и снова сузились до едва различимой черты. Она рванулась вперед, и профосу показалось, что это вовсе никакая не женщина, а тварь с длинными волчьими ногами, а вместо пальцев у нее когти. — Будь ты проклят! — выкрикнула На-Чан-Чель. — Мой брат не лгал, ты сам колдун! Она отступила от стола. Наваждение рассеялось. Чуть дыша, профос в изнеможении откинулся на кресло, не выпуская из сведенных пальцев раскаленное зеркало, с которого тек черный туман. — Твоя взяла, — произнесла женщина, отбрасывая с лица волосы. — Но так будет не всегда. — Что тебе надо? — спросил отец Франциск, с трудом шевеля онемевшим языком. — Ты верно рассудил, что поиски сокровищ нужно начинать с черного зеркала. Считай, что ты уже на полпути к цели. Пока прощай! Но завтра я вернусь и сама проведу тебя к запретному городу. Вели собирать людей. Черный туман в зеркале рассеялся и против всех законов физики отец Франциск увидел в нем себя и женщину-кошку. Но мгновение спустя он уже не видел в нем ничего — даже самого себя. Зеркало потухло. Отец Франциск огляделся, но не заметил ни малейшего следа пребывания индианки. Лишь труд преподобного да Сангры лежал на столе, раскрытый вовсе не на той странице, на которой прервался профос. Несколько минут профос сидел, пытаясь совладать с нервной дрожью, сотрясавшей его тело. Затем, по-видимому приняв какое-то решение, он протянул руку к серебряному колокольчику и позвонил, потребовав от вошедшего слуги немедленно разыскать отца Дамиана. — Брат Дамиан, — нарочито бодрым голосом начал отец Франциск, когда юный монах предстал перед ним, — наш краткий отдых подходит к концу. Готовьтесь к новому путешествию. Впрочем, у вас ведь не такие уж большие сборы, верно? Поэтому прошу вас об еще одной услуге: внимательно изучите этот трактат и выпишите в отдельную тетрадь все, что касается упоминания камня мориона и морионовых зеркал. Я вас благословляю, сынмой! Отец Дамиан молча выслушал патрона, также молча поклонился, приняв из его рук фолиант, и вышел из кабинета, так и не проронив ни единого слова. Перспектива вновь перевоплотиться в дона Диего де Сабанеду, так ярко обозначенная профосом, его не радовала, но что поделать? Закрывшись в келье, он принялся изучать сочинение отца Томмазо и быстро ощутил в этом авторе родственную душу. Внимательное чтение позволило ему отвлечься от неприятных мыслей, а идея ненасильственного обращения в христианство индейцев, столь раздражавшая профоса, молодого прелата привела в полный восторг. Ведь это отвечало его собственным потаенным мечтам: мирным путем превратить индейцев в добрых католиков, чтобы они не приносили кровавых жертв. В процессе чтения отец Дамиан, как и приказал ему отец Франциск, старательно выписывал все фрагменты, связанные с морионом. Но по-настоящему увлекся, позабыв все на свете, когда дошел до той части фолианта, в которой повествовалось о Кетцалькоатле и его легендарном отплытии на Юкатан в добровольное изгнание. Отец Дамиан прочел данный раздел, в отличие от своего патрона, весьма внимательно, стараясь вникнуть в каждое слово. Задержавшись на эпизоде, который он мысленно прозвал «грехопадением Кетцалькоатля», молодой священник отметил про себя редкое чувство справедливости и далеко не языческую покаянную настроенность индейского божка. Вслед за рассуждениями о тяжелой духовной ответственности испанцев, не воспользовавшихся возможностью мирно проповедовать Христа американским племенам, отец Томмазо поместил своего рода памятку будущему миссионеру — ту самую, которая недавно разозлила дона Фернандо своей якобы неуместностью в тексте. Прилежный отец Дамиан, напротив, не стал пропускать эту страницу, а несколько раз перечитал советы преподобного да Сангры, помещенные на ней. И когда перечитывал, не мог отделаться от мысли, что в строках, кроме текста «памятки», содержится еще что-то важное, но ускользающее из его поля зрения. Глубоко вздохнув, священник взял обеими руками книгу, лежащую на столе, поднес ближе к глазам левый край страницы — и с удивлением обнаружил, что первые буквы каждой строки складываются в странноватую, но осмысленную латинскую фразу: «Блажен заглянувший за крышку, ибо он узрит незримое». Чепуха какая-то. Отец Дамиан задумался, за какую крышку необходимо для достижения этой замечательной цели заглянуть, но довольно быстро сообразил, что этим латинским словом обозначается дощечка, которая защищает книгу. Значит… Молодой иезуит тщательно осмотрел и ощупал фолиант и обнаружил, что задняя часть переплета толще передней, а из-под протершегося у обреза сафьяна слегка заметна щель между двумя тонкими плоскими дощечками. Это было странно, потому что в таком месте полагалось находиться цельному куску дерева. Дамиану страшно не хотелось повреждать книгу, но любопытство пересилило, и, затаив дыхание, высунув от усердия кончик языка, он осторожно, дрожащими пальцами надрезал тонкий, немного истлевший по краям сафьян изящным серебряным ножичком для бумаги. Переплетная крышка действительно оказалась состоящей их двух тончайших дощечек, а между ними было ловко спрятано несколько листов бумаги, покрытых мелким аккуратным почерком. Текст был на испанском, манера выражаться у писавшего казалась очень похожей на некоторые части трактата, из чего отец Дамиан сделал вывод: автор письма тоже преподобный Томмазо. «Тебе, моему единомышленнику и последователю, читающему эти строки, — говорилось в послании, — завещаю я самое важное, что есть в моей книге. Увы! Перевелись ныне чадолюбивые пастыри, достойные знать то, что посчастливилось узнать мне, а иные, прочтя нижеследующее, пожелали бы отправить меня на костер. Слишком много завистников и противников оказалось у меня. Трактат мой ругают и считают сборищем душевредных бабьих басен, а над словами о том, как следовало бы обращать туземцев ко Христу без насилия, откровенно смеются — и даже священники! Никому не нужно то, что они называют глупым прекраснодушием. Но ты, мой читатель, если держишь в руках это письмо, едва ли похож на них. То, что ты нашел эти листки бумаги, означает, что мою книгу ты прочел со вниманием. Знай же, что ни демонические ритуалы, ни черные зеркала не страшны для верующего сердца. Самые кровавые чародейные обряды не опасны для доброго католика, уповающего на Бога и прибегающего к заступничеству Его Пречистой Матери. А морион способен отразить действительность в черном свете да вызвать из небытия лица и личности некогда живших на земле. Да и что такое морион? Зеркало из этого камня на самом деле всего лишь темная сторона каждого из нас. Но у здешних язычников есть нечто гораздо более жуткое и чудодейственное, чем морионовые зеркала, и этот предмет дает великое могущество! С его помощью можно узнать причину существования каждой вещи на земле. Индейские жрецы, создавшие это чудо, верят, что после отплытия их божка на Юкатан нет более ни одного существа, достойного полноты знания о сем чудодейственном предмете. Лишь когда души человеческие очистятся от греха и станут прозрачны, как хрусталь, когда не будет риска использовать с дурными намерениями знание, даваемое сим удивительным предметом, — только тогда заключающееся в нем знание станет всеобщим достоянием. Совершенно очевидно, мой дорогой читатель, что древние предсказатели под полнотой очищения душ имели в виду обращение их соплеменников ко Христу, хотя и не знали Его по имени. Пока же знание о сем предмете отнюдь не полно, я могу открыть тебе, мой преданный читатель, лишь то, что знаю сам, а знаю я малую толику… Объект, о котором идет речь, — cranios*["267] из прозрачного горного хрусталя. Древние мастера сумели добиться удивительного свойства создавать с его помощью обманы зрения. Так, если под сим кранием, подвесив его над подставкой, поместить горящую свечу, его глазницы озарятся ярким светом либо начнут испускать тонкие лучи. Нет лучшей камеры-обскуры, чем подобный краний, если же камера расположена отдельно, рядом с сим чудодейственным кранием, и лучи солнца, проходя сквозь нее, попадают на череп, в нем видны необыкновенные вещи. Также он обладает свойством вбирать в себя и показывать на обратной своей стороне очертания любых предметов, облик людей, находящихся неподалеку, расположенных под особым углом и освещенных солнцем либо свечою. Хрустальная челюсть, вырезываемая отдельно, подвешивается к самому кранию на совершенно гладких шарнирах и приходит в движение при малейшем прикосновении…» Обладавший живым воображением отец Дамиан прервал чтение и попытался представить, какой эффект создавал висящий в полутьме языческого капища череп со сверкающими глазницами, двигающий челюстью и изрекающей повеления идолов. Тем более когда в нем можно видеть любые вожделенные вещи, как существующие наяву, так и в виде плодов собственной фантазии! «Я сам наблюдал впечатление, которое производит этот череп из кварца на чувствительных и слабонервных людей, — говорилось дальше в письме отца Томмазо. — У одних учащается пульс, другие испытывают жажду или ощущают различные запахи, пугаются неведомо чего и хотят убежать, впадают в тоску и уныние либо, напротив, вкушают миг блаженства, некоторые засыпают, иные начинают говорить на неизвестных языках или даже падают в обморок и на какое-то время теряют память, а кто-то, напротив, успокаивается. Долгое созерцание сего крания вводит человека в особое состояние, заставляя его видеть видения, обонять, осязать и слышать то, чего нет. Так или иначе все, кому довелось побыть возле чудесного крания сколько-нибудь продолжительное время, ощущали исходящую из него сверхъестественную притягательную силу и бывали поражены светящейся аурой, образующейся вокруг, как только череп оставался наедине с наблюдателем. Немудрено, что туземные жрецы, умело пользуясь всем этим, прослыли всемогущими, — но дело тут не только в обмане зрения, ибо мне известна лишь малая толика того, на что способен хрустальный краний. Он не только наводит морок — он действительно обладает чудесной дьявольской силой, которую мне удалось испытать на самом себе. Тому, кто, ложась спать, кладет у изголовья хрустальный череп, снятся дивные, необычайные сны — такие яркие, подлинные, осязаемые, будто другая жизнь. Сновидец слышит и понимает разговоры окружающих его людей, умерших столетия назад и говоривших на неизвестных языках, наблюдает за повседневными занятиями неведомых племен, за их праздниками, ритуалами и даже кровавыми жертвоприношениями! Впрочем, чтобы увидеть и почувствовать все это, вовсе не обязательно ложиться спать. Есть люди, утверждающие, что даже наяву видели они в хрустальной глубине странные видения из далекого прошлого, а возможно, и из грядущего: другие черепа, костлявые пальцы, камни, искаженные лица, горы и прочие удивительные картины. Иные часто слышали звон серебряных колокольчиков, тихий, но отчетливый, голоса, хором распевающие на непонятном языке или шепчущие что-то, шорохи и постукивания, а также рычания ягуаров — священных животных индейцев майя. Иные полагают, что краний обладает сверхъестественной способностью — поднимать с одра самых безнадежных больных. Доводилось и мне видеть тех, кто долго пробыл возле черепа и излечивался после того от тяжелых недугов. Если его крепко сжать в руках и одновременно ясно назвать свое желание — оно обязательно исполнится. Однако довелось мне слышать, что, когда верховный жрец туземцев желал кому-то смерти, используя магическую силу крания, смерть всегда наступала. Совершенно ясно, что все это отнюдь не попытка жрецов запугать простых туземцев с помощью сложных механизмов. Череп, производимые им чудеса и вызываемые его близостью состояния имеют своим началом магическую силу. Как верный сын Католической церкви, я готов бы был поверить, что все эти диковины — от диавола, который есть отец лжи, если бы не предание о том, как должно быть обретено чудодейственное знание о волшебном крании. Нет сомнений, что имелся в виду благословенный миг, предвозвещанный Спасителем нашим Иисусом Христом при посылании на проповедь Его апостолов, миг, когда свет Евангелия воссияет даже в самых отдаленных уголках тварного мира, и воссияет не благодаря насилию, а мирным путем. Легенды гласят, что посвященные могли увидеть в черепе «день возвращения богов», в том числе и самого Пернатого змея, который подарил туземцам письменность, математику, астрономию, научил строить города и пользоваться календарем. Того, который, увидев свое отражение в черном зеркале из мориона, иными словами, свою темную сущность, извел ее на свет, согрешив пьянством и кровосмешением, а после раскаялся и уплыл в океан куда глаза глядят. Сей день должен был настать с прибытием Эрнандо Кортеса, но неразумны были его спутники, пролившие кровь индейцев вместо благодатной проповеди среди них. И по сей день продолжается это варварство, никак не подобающее добрым католикам. Впрочем, гораздо страшнее миссионеров оказались некоторые из туземцев, захотевших враз перенять все, что принесли им европейцы, — как доброе, так и худое — и чрез слепое следование проповедникам-завоевателям стать святее святой инквизиции. Конкистадоры губили тела, последовавшие им индейцы — души, притом не только свои, но и своих единоплеменников. Говорят, что один из жрецов майя проклял этих предателей и всех, кто в будущем пожелал бы поступить подобным образом, на хрустальном крании, прежде чем отойти в мир иной, и это проклятие, несомненно, действует и продолжает действовать. O tempora, o mores!*["268] Одна моя надежда на тебя, мой преданный читатель, — сделай все, чтобы приблизить светлый миг обретения благодатного знания, просвещения язычников Божественным светом, открытия истины, Второго Пришествия и врат Небесного Царства! Обращай индейцев ко Христу не силой оружия, а силою любви Божией! Аминь». На этом тайная рукопись преподобного да Сангры заканчивалась. Отец Дамиан в растерянности сидел над фолиантом с испорченным переплетом, пытаясь собрать воедино свои мысли. Слишком странным ему показался конец письма, в котором мешались полные магии рассказы о хрустальном черепе и проповедь Евангелия, загадочное «светлое знание» и зловещая роль морионового зеркала, наконец, возвращение Кетцалькоатля, почему-то понимаемое — да полно, так ли это? — отцом Томмазо как Второе Пришествие Христа. Молодой прелат почувствовал, что окончательно запутался. Из всего прочитанного за этот день ясным ему казался лишь завет мирной проповеди христианства индейцам, остальное сливалось в чудовищную абракадабру. Он даже не заметил, что зажженные свечи догорели почти до самых шандалов, распространяя вокруг себя запах гари. В келье стало темновато и к тому же очень душно. Отцу Дамиану показалось, что его голова наливается свинцом, в висках застучало, веки набрякли, и, уткнувшись лбом в свои сложенные на раскрытом фолианте руки, священник забылся мучительным сном. Впрочем, впоследствии он не мог внятно сказать, спал ли в самом деле и как долго. Свечи потухли, но неожиданно комната наполнилась радужным сиянием. Отец Дамиан поднял голову и в смущении узрел перед собой необычайное существо — покрытого разноцветными перьями змея с человеческим лицом, разрисованным белилами, сурьмой и охрой. Змей парил в воздухе, слегка поводя пестрыми крыльями, и заполнял собой большую часть комнаты. Свечение исходило, несомненно, именно от него. Священник отпрянул, перекрестился сам, широким крестом осенил видение и начал было произносить Pater noster*["269], но разноцветное существо не только не исчезло, но, казалось, совсем никак не отреагировало на действия Дамиана. Кое-как закончив молитву — от волнения у прелата дрожали губы, и язык не повиновался ему, — отец Дамиан решил попробовать на змее заклинание экзорцизма, но и это не привело к желаемому результату. Он бессильно застыл на стуле, созерцая чудного посетителя. — Ты напрасно пытаешься отогнать меня, призывая Великого Бога, — заговорил наконец Кетцалькоатль, не меняя своего положения в воздухе — лишь крылья его затрепетали чуть быстрее. — Мы тоже знаем Его и поклоняемся Ему, но совершенно иначе, чем вы, пришельцы из-за моря. Мы — это потомки богов и людей, ушедших под воду прежде, чем родился ваш мир и воплотился Единый Бог. Ты разгадал половину загадки, таящейся в труде твоего предшественника, но второй половины он не знал и сам. Вторую половину могу открыть только я: главное, для чего нужен хрустальный череп, не знание прошлого или будущего, не лечение болезней и не исполнение желаний. И даже не чтение мыслей других людей, о чем не мог знать твой предшественник. Могущество и сила черепа — в знании, которое он хранит. Это знание старше вашего мира, старше всего на свете, и его с каждым годом становится больше. Череп вмещает в себя весь мир, для него нет ни расстояний, ни времени, потому так легко видеть в нем прошедшее и грядущее. Появление черепа обессмертило знания жрецов, которые стали слишком стары, чтобы продолжать свою миссию. Во время торжественной церемонии старый жрец и его преемник одновременно клали руки на череп таким образом, чтобы все знание, хранящееся в голове старого жреца, могло переместиться в голову молодого. Благодаря черепу наши жрецы также обменивались мыслями, не только находясь за сотни миль друг от друга, но и пребывая в разных мирах; через него мертвые могли сообщать живым свои думы, а живые — отвечать мертвым. Нет беды, если тот посвященный, кто возьмет череп в руки, захочет говорить мыслями с чужестранцем и человеком, находящимся за много лун впереди или позади, — ибо через череп люди говорят всегда на одном языке, на том, который забыли после Великого потопа. Умение читать чужие мысли соблазнило многих, желавших с его помощью управлять миром. Стремление стать над другими, подчинить себе волю людей погубило наших праотцов и увело их под воду. Но ты обладаешь чистым сердцем и не ищешь власти над себе подобными. Поэтому для тебя открыто знание о хрустальном черепе. Но берегись! Если когда-либо твоя душа откликнется на зов корыстолюбия, алчности, жажды могущества, тебе несдобровать. Гнев хранителей обрушится на тебя, и отчаянная судьба наших предков постигнет и тебя. Сторожи свое сердце! Видение исчезло так же неожиданно, как и появилось. Пернатый змей растворился в воздухе, лишь разноцветное сияние еще несколько мгновений колебалось под потолком кельи, да слышался откуда-то сверху отдаленный перезвон серебряных колокольчиков, но вскоре затих и он. Отец Дамиан перекрестился и с испугом огляделся по сторонам. В келье никого не было, только оплывшие свечи источали слабый чад и воздух был неимоверно спертым. Священник подошел к окну, отдернул штору и распахнул ставни. В помещение ворвался ветерок, не жаркий и иссушающий, как днем, а теплый и нежный — прохладная не по сезону ночь неохотно отступала, небо на горизонте только-только начинало светлеть. Отец Дамиан вернулся к своему рабочему столу и в недоумении уставился на переплет трактата, который выглядел совершенно так же, как в момент вручения ему книги отцом Франциском пятнадцать часов назад. Выходит, вся история с письмом ему тоже приснилась? Но пожелтевшие листки, исписанные уже знакомым почерком, лежали тут же. «Тебе, моему единомышленнику и последователю, читающему эти строки…» Он пробежал глазами послание до конца: вне всякого сомнения, это было письмо отца Томмазо, извлеченное из-под переплетной крышки. Что за искушение! Сраженный несообразностями, священник, уверенный, что это бесы играют с ним, с трудом дождавшись урочного часа, поспешил обеспокоить отца Франциска своей глубокой и чистосердечной исповедью.Глава 7 Тайный визит
Барбадос
Благодаря многочисленным знакомствам среди завсегдатаев портовых кабачков Кроуфорд спешно покинул Тортугу, незамеченным поднявшись на борт шхуны, шедшей с грузом какао до Барбадоса, где капитан рассчитывал подхватить почту и сбыть товар купцам, ведущим торговлю с Европой. Удалось ли ему провернуть сделку, Кроуфорд так и не узнал, потому что на Барбадосе он сразу же сошел на берег и растворился в толпе. Капитан шхуны больше никогда его не видел. Сбыв немного жемчуга и пару золотых безделушек, Кроуфорд без труда снял просторную комнату на окраине Бриджтауна, из окон которой прекрасно просматривалась гавань. Из Бриджтауна Кроуфорд отправил письмо по одному ему известному адресу и стал ждать. Он очень мало полагался на снисходительность сильных мира сего, поэтому в определенный срок стал все чаще поглядывать из окна на гавань. Кроуфорд точно знал, как будут выглядеть гонцы, которые явятся по его душу, и был уверен, что угадает с первого взгляда, с чем они к нему явятся. Слишком долго он не давал о себе знать, чтобы теперь надеяться на теплый прием. Спасибо, если герцог вообще не забыл его, хотя во многих случаях предпочтительнее, когда о тебе забывают. Но на этот раз Кроуфорд был готов идти до конца. Хрустальный череп, болтающийся на дне деревянного матросского сундучка, укреплял его в мыслях, что посетившее его в пещере с сокровищами видение было не следствием временного помрачения рассудка из-за пережитых страданий. Оно оставило такой глубокий след в его душе, что теперь Кроуфорд был готов любой ценой добраться до тайны клада. Именно до тайны, потому что теперь он был уверен: главное в спрятанных сокровищах не золото и не изумруды. Пару раз, запершись в комнате, он доставал череп и пристально вглядывался в его прозрачно-пустые глазницы, словно пытаясь отыскать в них ответы на мучающие его вопросы. Однажды ему почудилось, что череп в его руках мутнеет и в глубине его клубится серый туман. Он еще пристальнее вгляделся в него, но туман вдруг напомнил ему о Лукреции, и Кроуфорд со стоном отбросил череп прочь от себя, на кровать. Увидеть еще раз ту, в чьей смерти он себя винил, было свыше его сил. В ночных кошмарах он раз за разом видел, как ее руки на дне озера объедают рыбы, как колышат воды черные волосы, как водросли обвивают ее тело, и просыпался с криком в холодном поту, хватая ртом горячий влажный воздух. Больше всего на свете он хотел навсегда покинуть эти края, больше никогда не чувствовать изматывающей жары и не просыпаться от воплей ссорящихся негров и попугаев. Но для этого он должен был угодить своим покровителям. Он возлагал слишком большие надежды на этот кусок хрусталя, и если на свете были безумцы, верящие, что с его помощью они обретут неслыханную власть над людьми, то попутного им ветра. Главное сейчас — не отступить, не дрогнуть и убедить герцога, что он не терял здесь попусту времени. Пусть герцог получит череп, Харт разбирается с сокровищами и с герцогом. Кроуфорд просто хочет в Англию. Хочет холодного ветра над пустошами, хочет лондонских туманов и вони. Он хочет домой. Около двух месяцев после того дня, как Кроуфорд отправил письмо, на закате в гавань вошел английский фрегат. Кроуфорд сложил подзорную трубу и усмехнулся. Что ж, ему осталось ждать совсем недолго. Он приказал подать на ужин вина и сыра и уселся на балконе, закинув ноги на перила. Он жевал листья коки, запивая их вином и закусывая сыром. Эта странная смесь доставляла ему удовольствие, и вскоре он уже мурлыкал себе под нос грязную портовую песенку, воспевающую слишком примитивные для такого образованного джентльмена ценности. Ночь опустилась на город, когда до его ушей донесся стук копыт и грохот колес. Едва освещамая болтающимся на ней фонарем черная карета, запряженная парой лошадей, въехала на постоялый двор. Лицо кучера скрывал шелковый платок, и Кроуфорду подумалось, что в таком обличье к нему мог бы явиться посланец от самого дьявола. Разумеется, дьявол был тут ни при чем. Карета остановилась, и уже через минуту в его дверь трижды постучали. На пороге стоял высокий надменный господин в черном платье и шляпе с белым плюмажем. Увидев Кроуфорда, он слегка наклонил голову. — Имею ли я честь разговаривать с Капитаном? — осведомился пришелец. — Да, именно так я предпочитаю себя называть, — ответил Кроуфорд. — Меня зовут Джон Смит, — представился незнакомец. — Что это за дурацкое имя? — Именем короля мне приказано немедленно доставить вас… — К губернатору? — В одно место, — уточнил гонец. — Это недалеко отсюда. Около четверти часа езды. Их милость предпочел не оповещать губернатора о своем присутствии на острове и очень надеется, что предстоящий разговор вы сохраните в тайне. — Хотелось бы быть уверенным, что со стороны доверенных лиц милорда тайна также будет соблюдена, — заметил Кроуфорд. — Я, видите ли, сам очень люблю тайны. — Прекрасно. Тогда едем! Доверенное лицо ждет вас. Кроуфорд оделся, оглянулся в поисках шпаги, но вспомнив, что она осталась в руках дона Фернандо, прикусил губу. Что ж, он сунул за пояс кинжал и пошел следом за Джоном Смитом. Они сели в карету, и она с грохотом помчалась по неровной дороге. За все время путешествия они не обмолвились ни словом. Со стороны могло показаться, что у этих двух людей, отправившихся куда-то на ночь глядя, случилось какое-то непоправимое горе. К счастью, поездка действительно закончилась очень быстро. Карета въехала в чье-то поместье, огороженное высокой стеной, и кованные по английской моде ворота со скрипом закрылись за нею. Подбежавший негр в ливрее откинул подножку, и мужчины ступили на посыпанную мелким гравием дорожку перед великолепной лестницей. Перед ними был большой дом, окруженный со всех сторон симметрично высаженным и искусно постриженным кустарником. Здание было погружено во мрак, только в нескольких окнах первого этажа теплились огоньки свечей. Лакей поднял фонарь, и мужчины, по-прежнему сохраняя молчание, двинулись вслед за ним. Чернокожий лакей распахнул одну дверь и отвесил поклон. — Прошу вас, господа, следовать за мной, — произнес он на плохом английском. Они прошли через тяжелые двери в дом и, прежде чем добраться до места, пересекли целую анфиладу погруженных в темноту комнат. Внутри здания было мрачновато, может быть, из-за того, что стены были также отделаны деревянными панелями по английской моде. Скудный свет фонаря едва освещал им путь, их шаги гулко раздавались в пустом доме. Наконец лакей остановился перед запертыми дверьми и осторожно постучал. Потом он распахнул дверь и пропустил мужчин вперед, бесшумно закрыв ее за ними, едва они переступили порог. Сэр Леолайн Дженкинс сидел за широким письменным столом и что-то лениво чертил гусиным пером на листе гербовой бумаги. Перед ним в массивных бронзовых подсвечниках горели свечи. За его спиной красовалось чрево камина, в котором бог весть зачем в этих широтах были сложены горкой дрова. Дождавшись, пока гости приблизятся, министр поднял голову. Лицо его в обрамлении тщательно завитого парика выглядело бледным и изможденным. Но сквозь кажущуюся хрупкость и усталость проглядывала недюжинная внутренняя сила. Кроуфорда всегда забавляла эта обманчивая щуплость отчима, но демонстрировать свою веселость он не собирался. Хотя сидящий перед ним мужчина и был мужем его матери, но кроме этого он был еще всемогущим министром, и от него сейчас зависела судьба пасынка. К тому же Кроуфорд не был уверен, посвящен ли его спутник в их запутанные семейные отношения. — Сэр, вы оказали мне великую честь, решив лично принять участие в делах невзирая на вашу занятость, — с поклоном произнес Кроуфорд, приблизившись к столу. — У меня для вас важные новости. Отчим посмотрел на Кроуфорда и раздвинул в легкой усмешке тонкие губы. — Сэр Фрэнсис! — проговорил он тихим бесцветным голосом и отложил перо. — Вы всегда являетесь некстати, как призрак с того света. Вы поседели, у вас борода… Вы сменили имидж*["270] повесы на имидж зрелого мужа? Что ж, выглядит несколько диковато… В колониальном стиле, так сказать. Или это очередной прием маскировки? Честно говоря, в глубине души я надеялся, что вас давно повесили где-нибудь на островах. Кроуфорд ничуть не смутился. Уж такова была у его приемного папеньки и главы английской разведки манера изъясняться. Главное, что отчим дал ему понять: присутствующий при их разговоре Джон Смит не знает, кто скрывается под именем Кроуфорда. Их инкогнито было взаимным. Небрежный тон маскировал явную заинтересованность вельможи, а возможно, министр хотел подразнить Кроуфорда и вывести его из себя: человек в гневе менее тщательно следит за своими мыслями, а особенно за словами. — Мужчины в моей семье предпочитают умирать у себя дома, — ответил Кроуфорд. Вначале он даже хотел вместо «умирать» сказать «быть казненными», но после короткого раздумья предпочел смягчить дерзость своего ответа. Отчим был, несомненно, заинтересован в разговоре, но обострять отношения все равно не стоило. Кроуфорд не знал, куда сегодня дует ветер в Британии. — И все же, все же, — тихо продолжил министр, поправляя отложенное в сторону гусиное перо. — Сколько лет я вас не видел? Пять? Семь? — Девять, сэр, — невозмутимо уточнил Кроуфорд. — Девять! Отлично! — скептически заявил министр. — Вполне достаточно, чтобы вычеркнуть вас из завещания. Кстати, под каким прозвищем вы нынче наводите ужас на испанские галеоны? Я наверняка его слышал. — Мое прозвище достаточно скромное, чтобы ваша милость что-либо знала о нем, — смиренно ответствовал Кроуфорд. — В морском деле я не настолько преуспел, чтобы сравниться со своим дедом. Последнее время я предпочитаю, чтобы меня называли Веселым Диком… Однако осмелюсь напомнить, что за те девять лет, что пролетели так незаметно, я дважды встречался с доверенным лицом вашей милости и докладывал ему… Министр слабо махнул рукой и, откинувшись в кресле, принялся разглядывать Кроуфорда с выражением легкого любопытства на морщинистом лице. — Знаю я, что вы там докладывали, — пробормотал он, и уголки его рта дрогнули. — Французские сказки из «Тысячи и одной ночи» по сравнению с вашими докладами — образец достоверности. Если хотите знать, я уже давно поставил крест на вашей миссии, и скажите спасибо, что не на вашей фамильной усыпальнице. Слушать ваши баллады, может быть, столь же приятно, как и баллады других мужчин вашего рода, — на этом слове министр сделал ударение и усмехнулся своим мыслям, парируя замечание Кроуфорда, — но оставим это занятие публике иного свойства. Мы же должны исполнить предназначение, которое возложил на нас Господь. — Я бы не решился беспокоить министра балладами, — сказал Кроуфорд. — И Шахерезада из меня скверная. Но то, чем я собираюсь поделиться, и в самом деле напоминает сказку. Я льщу себя надеждой, что у вашей милости достанет терпения выслушать меня до конца. — Это зависит от вас, Фрэнсис! — многозначительно произнес министр. — Я бросил неотложные дела и тайно прибыл сюда почти что с единственной целью — дать вам последний шанс. Гм, да. Как бы не последние наставления, — пробормотал министр себе под нос и хмыкнул. — Если вы не сумеете им воспользоваться, тем хуже для вас. Много лет назад, когда вы испытывали серьезные затруднения, я помог вам и устроил вас на службу… не слишком обременительную, я надеюсь, для человека вашего склада, и, поверив вам, поручил вам отыскать сокровища вашего… м-м-м… сокровища адмирала Рэли, о которых он весьма туманно разглагольствовал в свое время на допросах. Я хорошо изучил материалы по тому давнему делу и пришел к выводу, что Уолтер Рэли скрыл от Его Величества нечто весьма важное. Вы сами подсказали мне тогда, о чем могла идти речь. — Я это помню, сэр, — вставил Кроуфорд. Министр нетерпеливо отмахнулся от него как от мухи. — Вы обнадежили меня, что знаете, как добраться до сокровищ. Вы попросили немного времени… — Все оказалось гораздо сложнее, чем я полагал тогда, сэр. Многое здесь оказалось совсем другим, чем виделось из Англии. Уолтер Рэли оставил слишком неточные распоряжения… Думаю, ему пришлось пролить немало крови, чтобы добиться своего. — Разве я вас ограничивал в чем-нибудь? — спросил министр, подняв на Кроуфорда холодные глаза. — Вы были вольны делать все, что угодно. У меня не было возражений, когда вы заделались морским разбойником. Нужно признать, что в тех условиях это был самый остроумный выход. Но, по некоторым слухам, вы слишком заигрались в пирата, Фрэнсис! Веселый Дик, подумать только! Вы знаете, что есть свидетели, показания которых могут сильно вам навредить? — Уверяю вас, это все не слишком существенно. Людям свойственно ошибаться. — Вот в этом я нисколько не сомневаюсь, — пробормотал министр и оглядел свои кружевные манжеты. — Ну что же, я готов вас выслушать. Заранее надеюсь, что это время не будет потрачено так же впустую, как и предыдущие девять лет… — Эти девять лет были потрачены не напрасно, — заявил Кроуфорд, глядя прямо в глаза отчиму. — Я искал ключи к тайне капитана Рэли, и наконец я их нашел. Министр откинулся в кресле и вопросительно приподнял одну бровь. Кроуфорд воспринял это как разрешение приступить к рассказу и, в свою очередь откинувшись на спинку стула и закинув ногу за ногу, принялся излагать отчиму историю поиска сокровищ, кое-что в своем рассказе благоразумно опуская, кое-где приукрашивая подробности, а кое-где вставляя и вымышленные эпизоды, чтобы придать повествованию необходимую гладкость и убедительность. Сэр Леолайн рассеянно вертел в руках изящную табакерку, инкрустированную бриллиантами, и не перебивал, лишь в самых драматических местах рассказа еще больше приподнимая левую бровь. Когда Кроуфорд умолк, он не произнес ни слова и еще некоторое время молчал, хлопая крышечкой безделушки и любуясь игрой света в камнях. Джон Смит тоже не смел прервать затянувшееся молчание министра и почтительно замер, размещаясь в кресле немного позади Кроуфорда, отчего его лицо оказалось полностью погруженным в тень. Кроуфорд тоже тянул паузу, лениво щурясь на трепещущее пламя свечей. Он понимал, что для такого человека, каким был сэр Леолайн, любой рассказ о приключениях в Новом Свете выглядит ничуть не достовернее, чем либретто модной оперы. Министр размышлял не о степени правдивости рассказа, а о возможности его приложения к жизни. Наконец сэр Леолайн прервал молчание. Он аккуратно положил табакерку перед собой на инкрустированную столешницу и, подняв голову, испытующе посмотрел на Кроуфорда. — Я правильно понял, сэр, что леди Бертрам мертва? — спросил он, не сводя глаз с лица Кроуфорда. Желваки на щеках сэра Фрэнсиса дернулись. — Да, сэр. — Я правильно понял, что вы наконец поставили точку в этом затянувшемся водевиле с бастардами, сбежавшими из-под венца юношами и мужьями-рогоносцами? — Да, сэр. — Повторите громче, сэр, я не слышу уверенности в ваших словах. Кроуфорд стиснул кулаки. — Да, сэр. — И вы не ринетесь с первым попутным кораблем в Англию, чтоб предъявлять права на сына покойного лорда Бертрама и вносить сумятицу в и без того запутанные дела его семейства? Кроуфорд отвел глаза. — Итак, я жду, сэр Фрэнсис. — Не знаю, — тихо ответил Кроуфорд. — Ваш ответ столь же туманен, как и состояние вашего рассудка. Я требую ясности в этом вопросе, иначе… — Иначе что? — сэр Фрэнсис наклонился к министру. — Иначе я объявлю вас умалишенным и отправлю под опеку вашей бедной матушки, сэр. — А как же сокровища? — Ну чем не предмет помешательства? Насколько я понял, вы обнаружили место, где, предположительно, находятся сокровища конкистадоров, но вы не видели самих сокровищ… — Это так, — с легкостью согласился Кроуфорд. — Но хочу обратить внимание милорда: если бы я увидел сокровища, вряд ли бы вы сейчас видели меня. Сэр Уолтер Рэли очень хорошо позаботился о том, чтобы защитить свою тайну. Карта в руках Уильяма Харта, и в данный момент, я предполагаю, он на всех парусах плывет в Каракас. — Значит, вы опять ничего не видели, — отчим хлопнул крышечкой табакерки. — Вы отдали карту, лишились корабля, потеряли всех своих людей и вернулись ни с чем. — Но, милорд, я видел настоящую карту, я знаю, где Уолтер Рэли закопал несметные сокровища. Разве не в этом заключалась моя миссия? — Только дебрей Ориноко нам не хватало. Я так и знал, что все снова закончится поисками Эльдорадо, будь оно неладно. Ваш… ваш Рэли безумец, и вы туда же. К тому же эта земля принадлежит Испании и правят там иезуиты. Вы это знаете лучше меня. Судя по тому, что вы рассказали, мне необходимо послать туда большой, хорошо снаряженный отряд. Его передвижение неизбежно привлечет внимание местных жителей, а это чревато многими осложнениями. Мы не можем сейчас идти на конфронтацию с испанцами. Вы представляете, каковы могут быть последствия этого шага? — Последствия могут быть самыми неприятными, — согласился Кроуфорд. — Нежеланные свидетели могут стать конкурентами в поисках сокровищ и осложнить их доставку к кораблю. Мы должны проникнуть в эти земли как можно незаметнее, маскируясь под шайку разбойников. — Ну как же без этого… — вздохнул отчим и, взяв щипцы, осторожно снял нагар со свечей. — Вам уже и маскироваться не надо. Добавлю: вы меня не совсем убедили, что сокровища эти существуют на самом деле. Рисковать людьми и добрым именем я не хочу. А что вы скажете, мой милый Джон Смит? Кроуфорд вздрогнул, поскольку совершенно забыл о присутствии молчаливого соглядатая. — Мне кажется, рискнуть можно. Английские солдаты, переодетые испанцами, хорошие проводники, несколько преданных и опытных офицеров… В конечном счете мы всегда можем сказать, что они действовали на свой страх и риск, и вынести им смертный приговор за бесчестье короны и каперство, — голос Смита был скрипуч и скучен, как скрип тележных колес. Кроуфорд усмехнулся про себя. Алчность всегда побеждает. Каков бы ни был результат новой экспедиции, то, чем он откупится от Англии, уже лежит у него в кармане. Что ж, подтравим рыбку. — Наверное, я плохо объяснил, милорд, — сказал он вслух. — Позвольте напомнить, что сокровищами конкистадоров интересуются очень многие. Французский король, Вест-Индская компания, пираты… Это серьезные конкуренты. А главное, они не боятся риска. Если карта не лжет и если те же голландцы сумеют обойти нас и перехватить Харта, то мы можем распрощаться с мыслью об индейском золоте и хрустальном черепе. Да-да, я сам читал в бумагах деда, что череп там. Над нами будут смеяться по обе стороны океана, милорд! У нас была карта, мы нашли место и мы упустили сокровища — это невероятно! Теперь настал черед министру кусать губы. Он метнул в сторону Кроуфорда раздраженный взгляд: — Не дерзите, сэр Фрэнсис. Вам бы пьесы писать, там ваша фантазия была бы вполне уместна, а вы вечно суетесь в разные авантюры. Говорят, у капитана Рэли был такой же скверный характер. Он никогда не мог вовремя остановиться. В нем было слишком много от авантюриста и слишком мало от джентльмена. «Ну конечно, куда ему до вас, милорд! — мысленно парировал Кроуфорд. — Однако он обвел вас всех вокруг пальца. Обвел так, что вы до сих пор не можете запустить руку в его карман. Будь я хотя бы наполовину так же стоек, этого разговора никогда бы не состоялось. Но, увы, без возможностей, которыми вы располагаете, мне не справиться. Пока не справиться. А там посмотрим. Не всегда побеждают могущество и хитрость. Иногда побеждает и ум». Вслух же он произнес: — Прошу прощения, милорд, но я не имел намерения дерзить вам. Просто я предпочитаю называть вещи своими именами. Поэтому призываю вас прислушаться к голосу рассудка. Ведь вы не просто так пересекли океан, отложив государственные дела! Значит, в глубине души вы признаете важность этого дела. Так давайте не будем обманывать сами себя. Пока у нас есть шанс, мы должны его использовать. Иначе его используют другие. Сейчас все они покинули остров, но они непременно вернутся. Может быть, они уже возвращаются… — Довольно! — прервал его министр. — Я попрошу предоставить вам необходимые письменные принадлежности, и вы немедленно приступите к составлению списка всего необходимого для экспедиции вместе с описанием предполагаемого маршрута. К утру список должен быть готов. Постарайтесь подойти к этому делу со всей несвойственной вам ответственностью. И постарайтесь уложиться в разумные суммы. Уже завтра мы начнем снаряжать корабль для вашей экспедиции. Кроме корабля вы получите оружие и полсотни солдат. По мере необходимости вы сможете привлечь к поискам матросов из корабельной команды. Вы возглавите экспедицию, но… — здесь министр ненадолго прервался, раскрыл табакерку и, зачерпнув щепоть табака, заложил его себе в ноздрю. Кроуфорд почтительно ждал окончания процедуры. Министр порозовел, вытащил отделанный кружевами батистовый платок и с аппетитом чихнул. — Но за неудачу вы ответите головой, мой милый друг! При вас постоянно будет находиться мой поверенный по особенным поручениям — вы с ним уже немного знакомы, — сэр Леолайн кивнул за спину Кроуфорду, — мистер Смит будет следить за каждым вашим шагом. Поэтому советую не совершать опрометчивых шагов. — Вот как? Вы приставите ко мне шпиона, милорд? — усмехнулся Кроуфорд. — Да еще с таким именем? Вы издеваетесь, что ли? Сэр Леолайн склонил голову набок, отчего сделался похож на старого ворона, и, немного помедлив, ответил: — Будь это в моих силах, сэр Фрэнсис, я бы приставил по Джону Смиту возле каждого королевского подданного, хотя и в этом случае ни в чем нельзя было бы быть уверенным. Думаю, поразмыслив об этом на досуге, вы со мной согласитесь. Кроуфорд хмыкнул и поднялся. Аудиенция была закончена. Следом черной тенью из кресла бесшумно встал мистер Смит. — Итак, мой друг, на рассвете я жду вас с докладом. Кстати, я думаю, вам будет небезынтересно узнать, что король возложил на меня ответственную миссию провести ревизию в его заокеанских владениях, и, боюсь, первой жертвой проверки падет небезызвестный вам сэр Эдуард Сессил, лорд Джексон, наш очаровательнейший губернатор Барбадоса. Слишком уж он наряден, — при этих словах министр хмыкнул и высморкался. — И еще. Я сам доставлю вас на Тортугу. Мне кажется, так будет удобнее для всех нас.Глава 8 Святой отец
Тортуга
Элейна сидела у окна в глубокой задумчивости. Только-только начало рассветать, но красавице не спалось. После болезни ею овладело какое-то тупое спокойствие, словно она отвыкла желать чего бы то ни было. Девушке ничего, совершенно ничегошеньки теперь не хотелось — а более всего не хотелось кого-либо видеть и с кем бы то ни было говорить. Мысль о том, что Уильям Харт потерян для нее навсегда, казалась такой непоколебимо ясной, что Элейна даже не гнала ее от себя — просто смирилась. Она нисколько не сомневалась в правдивости сведений о том, что ее возлюбленный арестован чинами королевского флота и вскоре предстанет перед судом, выносящим только смертные приговоры. Однако скорбное чувство, которое она при этом испытывала, нельзя было назвать унынием. Прекрасная голландка по-христиански, всей душой приняла тот печальный факт, что человек, которого она любила, будет подвергнут мучительной казни — а она, как бы ни были горячи ее чувства, не в состоянии ни изменить, ни даже облегчить его участь. Может показаться странным, что Элейна так покорно примирилась с ужасной судьбой, ожидающей, по ее мнению, Харта. Порой она сама себя не понимала. Но, мысленно вглядываясь в будущее, девушка приходила к философскому выводу о том, что кончина рано или поздно ждет каждого человека и никогда не известно, насколько и у кого она будет безболезненной, мирной и непостыдной. Бедный Уильям, сделав единственную ошибку, в дальнейшем был вынужден совершать их одну за другой, и каждое очередное отступление влекло за собой множество новых. Где первопричина его злоключений? В непослушании родителям и своеволии, с которым он сбежал из дому, чтобы наняться на корабль ее отца? В его наивности и доверчивости? В коварстве окружающих? В неразумной жажде приключений, ставших для него настоящей, испепеляющей страстью, почти идолом? Элейна отчего-то искала именно христианского объяснения. Но как знать, что случилось бы с Хартом, не покинь он отцовский кров и сделайсясвященником согласно желанию родных? Разве есть гарантия, что так он непременно прожил бы прекрасную и достойную жизнь, спас свою душу? А кто знает, был бы Уильям счастлив или нет, не испытай он всего того, что пришлось ему пережить в погоне за ускользающими сокровищами и призрачной удачей — в погоне, которая приведет его, и уже очень скоро, на виселицу?! Быть может, история яркая и короткая, пусть с бесславным концом, намного лучше, чем долгие годы, проведенные в томительно-правильном, пресно-благочестивом полусне, называемом «порядочными людьми» жизнью? Да и возможно ли истинное счастье на земле? В продолжение последних двух лет Элейна убедилась, что многие вещи, принимаемые людьми за безусловное благо, на самом деле не более чем призраки, туманные картинки, исчезающие при приближении к ним. Богатство, слава, положение в обществе, даже невинные приключения и увлекательные путешествия часто в реальности оказываются совсем не такими, как воображают люди. Не говоря уже о цене, которую приходится платить за осуществление эфемерной и хрупкой мечты. Земная жизнь скоротечна, даже если с высоты наших семнадцати, двадцати пяти или сорока лет нам и кажется, что она длинна. А вечность… она тянется целую вечность, как ни глупо звучит подобный каламбур. Обеспечить столь долговременное существование своей бессмертной душе — задача не из легких. Особенно если тебя ожидает перспектива остаться непогребенным злодеем, которому морские чайки выклюют глаза и части тела которого отправятся на корм рыбам! Вспомнив, как Черный Пастор с мрачным вдохновением рисовал судьбу пиратов, повешенных у входа в гавань и долго, мучительно умирающих о жары, голода и жажды, Элейна все-таки расплакалась: философия философией, мужество мужеством, а Уильяма она обожала. Ей уже мерещилось, как его, связанного цепями, волокут к месту казни, как он извивается в предсмертных корчах, а потом, неприкаянный, является в виде призрака, пугая тех, кто довел его до столь жалкого конца, и умоляя о помощи оставшихся в живых друзей в надежде, что их молитвы хоть немного облегчат его загробную участь… Ну уж нет! Если она не может помочь Уильяму на земле, если даже они никогда больше не увидятся в этой жизни — жизнь будущую и участь после смерти Элейна постарается ему обеспечить наилучшую! И приложит все усилия, чтобы в вечности они с Уильямом все-таки соединились. Во-первых, она примет католичество, и как можно скорее. Во-вторых, тайно покинет дом и начнет вести богоугодную жизнь, совершать как можно больше добрых дел — тогда она сможет «поделиться» ими с Уильямом! Прекрасную голландку всегда очень удручало одно место в евангельской притче, которую ей в детстве часто рассказывала кормилица. Десять девиц пошли встречать жениха. Дело было ночью, поэтому в руках у девиц были масляные лампы, чтобы освещать дорогу. Но пять из них были мудрыми и догадались захватить с собою пузырьки с маслом на случай, если придется долго ждать на темной улице, а пять неразумных такого запаса не сделали, и в результате их светильники угасли раньше, чем пришел жених. Пять дев, лампы которых потухли, стали просить пятерых запасливых поделиться с ними маслом, но те отвечали: «Тогда никому не хватит, ни нам, ни вам, идите и купите себе». Пока недогадливые девы ходили в лавочку за маслом, пять предусмотрительных встретили жениха и отправились вместе с ним на брачный пир, а неразумные туда опоздали, и их не пустили вовсе. Маленькой Элейне было отчаянно жаль неразумных, недогадливых и незапасливых девиц, и она, топая ножкой, всегда высказывала свое возмущение няне: «Ну почему же, почему они не поделились с подружками?!» — «А ты поделилась бы, ласточка?» — спрашивала нянюшка. — «Конечно!» — запальчиво отвечала в таких случаях Элейна. — «Но ведь мудрые девы не дали неразумным масла потому, что в таком случае не хватило бы ни одной из них!» — «А я бы специально взяла бы с собой побольше, чтобы не только мне хватило! Вдруг кому другому понадобится?» Однажды на этом месте в детскую неожиданно зашел папаша Абрабанель. Услышав ответ дочери, он крепко отругал и отшлепал ее, а разобравшись, в чем дело, просто рассвирепел. В тот же вечер нянюшка была с позором выдворена из дому, а девочку коадьютор приказал запереть на несколько дней и месяц оставлять без сладкого. Правда, из этого ничего не вышло. Сначала Элейна радостно представила себя христианской подвижницей, святой Варварой*["271], заточенной в башне не знающим Христа отцом; а вскоре и Абрабанель смягчился и отменил наказание. Теперь эта история всплыла в мозгу Элейны в мельчайших подробностях. Девушка вообразила, что приходит время исполнить сказанное ею нянюшке. Судьбоносное решение о перемене веры начало вызревать гораздо раньше, но сейчас!.. Дело в том, что, как ни благодарна была девушка своей няне, научившей ее когда-то основным христианским понятиям, но уже давно ощущала, что в рамках протестантизма ее душе тесно и она не находит ответов на многие свои вопросы среди кальвинистских догматов. Полюбив католика, Элейна еще более утвердилась в мысли, что нашла разрешение своим смутным душевным чаяниям и порывам. Если бы судьба была к влюбленным более благосклонной, перед венчанием юная красавица все равно перешла бы в католицизм. Теперь это представлялось даже более важным: смена веры должна духовно приблизить ее к Уильяму, который так далеко, и стать гарантом того, что они встретятся в будущей жизни (если бы они исповедовали разные религии, то как смогли бы соединиться за гробом?!). Значит — решено! К тому же переход в католичество поможет ей не выходить замуж! Она не согласна принадлежать никому, кроме Уильяма, и поступит в какой-нибудь монастырь, чтобы день и ночь молиться за него. Она пойдет служить больным, обездоленным или даже прокаженным вроде тех, чьи кости нашли в пещере Эспаньолы вместо сокровищ, — только ради него, ради Уильяма. Даже если Господь не примет его покаяния, то уж ее усердие Он должен будет оценить? Она постарается, сделает все для того, чтобы ради ее стараний Бог простил ее возлюбленного. Ведь Он любит всех Своих детей, следовательно, Уильяма тоже. Любит гораздо больше, чем она сама. Разве Он не услышит?! Да и не может Небо быть так несправедливо, как люди! Разве Харт не каялся, разве не страдал от того, что ему приходится быть пиратом? Разве не сгорал от стыда и горя, видя, как его собственные поступки отличаются от поступков истинно верующего католика? И разве он оправдывал при этом себя? Нет! Напротив, обвинял еще жестче, несмотря на то что даже друзья, даже она, Элейна, убеждали: далеко не он один повинен в ошибках и преступлениях, но и другие люди, и обстоятельства… Так неужели за такое раскаяние и самоукорение Бог не помилует ее возлюбленного, как благоразумного разбойника, распятого вместе с Ним на кресте и в последние минуты жизни попросившего: «Помяни меня, Господи, во царствии Твоем»?! На этом месте Элейне окончательно надоело размышлять в тишине — она решила, что пора действовать. Неприметное платье и скрывающий лицо головной убор, которые позволили бы ей беспрепятственно ходить по улицам неузнанной и без сопровождения, подобающего барышне из общества, были предусмотрительно заготовлены несколько дней назад. Переодевшись, Элейна убедилась, что ее вполне можно принять за прислугу, посланную господами в лавку или еще куда-нибудь. Запрятав поглубже в складки одежды кошелек с золотом на всякий случай и убедившись, что все в доме еще спят, девушка незаметно выскользнула из дома, мысленно упрашивая Бога помочь ей. Прежде всего, рассуждала про себя Элейна дорогой, нужно найти священника, который согласился бы присоединить ее к Католической церкви. Идти в городской собор она, разумеется, не собиралась: там запросто можно было встретить знакомых если не Абрабанеля, то губернатора и его шурина Жюля-Бертрана де Клима. Да и время такое раннее, что ворота заперты, а на улицах — ни души. Еще одну опасность девушка видела в том, чтобы по незнанию не напороться случайно на иезуита. Слишком сильна была ее ненависть как ко всему Ордену, так и к отдельным его представителям, а в особенностях внешнего облика священнослужителей различных католических братств и конгрегаций Элейна не разбиралась. А может быть, сначала все-таки стоит вернуться в Европу? Там будет гораздо легче найти монастырь, в который можно поступить, затерявшись среди монахинь. Или, по крайней мере, куда-нибудь в другую колонию — для начала. На Кубу или на Барбадос. Ведь отец непременно бросится ее искать, а на небольшом острове так трудно спрятаться. А если как можно скорее сесть на корабль, то… Ой, нет. Как она объяснит свое путешествие в одиночку капитану или владельцу корабля? И самое главное, какой ужасный ей предстоит переезд даже в том случае, если ее возьмут на борт, ведь моряки суеверны и присутствие женщины на судне, по их мнению, хуже чумы и лихорадки? Молодая девушка, одна, среди мужчин, большинство которых грубы и неотесанны, а корабельные офицеры пусть и обучены манерам, но так редко видят приличных женщин, что рады любой из них, но в единственном разрезе, так что… Ох, лучше и не думать! И как это она не додумалась запастись для побега мужским платьем?! Правда, Элейна не умела носить его с таким достоинством и элегантностью, как мадам Аделаида (бедняжка, как страшно та встретила свою смерть!), но все-таки за неуклюжего мальчика вполне могла бы сойти. Прекрасная голландка уже подумывала повернуть назад, чтобы подготовить побег тщательнее и в следующий раз осуществить его более уверенно, но в этот момент увидела идущего навстречу высокого человека в старой монашеской рясе. Решив, что сам Господь посылает ей помощника, Элейна, забыв о приличиях, почти подбежала к нему со словами: — Благословите меня, святой отец! Монах вздрогнул от такого напора и отступил назад на пару шагов. Девушка шагнула к нему, чепец на ее голове сбился, отчего пара белокурых прядей выбилась из-под него. Вдруг незнакомец остановился. — Пожалуйста, благословите меня, святой отец, — жалобно повторила Элейна, спешно поправляя головной убор. Монах выпростал из-под длинного потертого по краям рукава сутаны сильную загорелую руку и размашисто перекрестил ее: — Господь да будет благословен! Но кто же слух мой будит приветом нежным в ранний час такой?*["272] Элейне благословение показалось немного странным, но она решила, что в каком-нибудь католическом ордене так принято. Зато на иезуитов не похоже. — Простите, пожалуйста, святой отец, а к какому ордену вы принадлежите? — К… м-м… бенедектинскому, — голос из-под капюшона прозвучал неуверенно и глуховато, но Элейна уже прониклась неожиданным доверием к незнакомцу и не придала этому значения. — Как славно! — радостно воскликнула Элейна. — Вы не откажете мне в помощи? Я хочу перейти в католичество. Если можно… — она сделала паузу и опустила глаза. — Если можно, то прямо сейчас! — сказала девушка и, словно спохватившись, добавила: — Ну, то есть как можно скорее. Она ожидала, что монах тотчас начнет выспрашивать, насколько серьезно ее решение и чем оно продиктовано, как относятся ее родители и близкие к такому выбору, и внутренне напряглась, подыскивая ответы, которые не слишком бы нарушали заповедь «Не лги». Однако вместо этого бенедектинец пробормотал: — Должен быть гоним тоской тот, кто так рано расстается с ложем. Мы, старики, спать от забот не можем. Где сторожем забота — нету сна; но юность беззаботна и ясна, сон золотой ее лелеет ложе, — и твой приход меня смущает. Что же? Иль ты в беде? Иль можно угадать, что вовсе не ложился ты в кровать?*["273] — Ложился, — машинально ответила Элейна. — То есть ложилась. Правда, спать не смогла, — добавила она с обезоруживающей честностью и, все больше и больше волнуясь, заговорила так быстро, что слова, произнесенные первыми, буквально наскакивали на последующие: — Я действительно в беде, святой отец, вернее, не совсем я, но это очень важно. Дело в том, что я была крещена в протестантскую веру, а мой жених… точнее, не совсем жених, потому что мой отец не хочет нашего брака — он католик, и я… Понимаете? Вы не откажете в моей просьбе, святой отец? — Брат Лоуренс, дитя мое. — Как? Вы англичанин? — Некоторым образом, дочь моя, некоторым образом. Но все это частности. Главное, что я тот, кто нужен вам, и охотно выслушаю вас. Ваше желание похвально и естественно, ведь Католическая церковь для протестантов является родной матерью, она говорит с вами на одном языке, мыслит в понятных для вас категориях, служит человечеству не хуже, чем служат многочисленные протестантские миссии, разбросанные для проповеди святого Евангелия по всему свету. — Вы так считаете, отец Лоуренс? — радостно спросила Элейна, осмелев. — Так утверждает Церковь, дитя мое. Пойдемте, здесь неподалеку есть тихий уголок, где никто не сможет помешать нашей беседе, — и бенедиктинец направился, слегка подталкивая девушку перед собой, в сторону густого, тенистого сквера, разбитого вокруг соборной площади. Вскоре они вышли к беседке, созданной природой, где ветви деревьев и кустарников образовывали густо переплетенную стену, за которой образовалось небольшое тенистое убежище, надежно укрытое от посторонних глаз. Монах усадил Элейну на дерновую скамью и продолжил: — В Католической церкви вы сможете реализовать все ваши дарования и таланты в служении Христу. Для этого разработано множество инструментов — многочисленные братства, конгрегации, ордена, миссии, содружества, союзы. У каждого свое призвание, у каждого свои задачи и цели, дополняющие главную цель Католической церкви: являть присутствие Христа в этом мире вплоть до скончания веков. Процесс воцерковления в Церковь-матерь не будет для вас скучным. Вам нужно начать с разговора со священником, который разработает для вас надлежащую схему присоединения, а потом пройти полный курс катехизации, длящийся от двух-трех месяцев до года, в ходе которой вас ознакомят с основами церковного учения, с историей, богословием и практиками католичества. — До года?! Но это очень долго! — воскликнула Элейна. — В моем положении отсрочка немыслима! — Кто слишком поспешает — опаздывает, как и тот, кто медлит*["274]. — Но вы же ничего не знаете, святой отец! Дело в том, что человек, которого я люблю, арестован. Он попал в разбойничью шайку, хотя и не по своей воле. Теперь ему придется отвечать перед королевским судом — он ваш соотечественник, отец Лоуренс, — отвечать не только и не столько за свои грехи и ошибки, сколько за прегрешения тех, кто толкнул его на преступления. Весь ужас в том, что одним из толкнувших был мой собственный отец… О Боже, что я говорю! — воскликнула Элейна, чувствуя, что выдержка изменяет ей и она вот-вот разрыдается. — Не поймите меня превратно, отец Лоуренс, я знаю, что не все в моих словах звучит убедительно, а многое может указать на то, что не только мой возлюбленный — разбойник, но и сама я недостойная, непослушная дочь и не могу сделаться доброй христианкой. Ведь я вижу, что вы уже составили обо мне самое дурное мнение. Однако все же прошу вас помочь мне перейти в католичество, чтобы усердным служением Богу в каком-нибудь уединенном монастыре искупить и свои грехи, и грехи дорогого мне человека. — Пусть все будет так; пойдем теперь со мною. Все, что возможно, я для вас устрою: от этого союза счастья жду, в любовь он может превратить вражду, — ответствовал монах в своей странной манере. — Вражду? Какую вражду?.. — пролепетала Элейна, но вдруг, сраженная неожиданной догадкой, вскочила и отбросила капюшон с головы монаха. — Сэр Фрэнсис! То есть, я хотела сказать, дорогой мистер Рэли! Какая же я глупая: никак не могу догадаться… — она кинулась на шею монаху, стараясь не слишком громко выражать свою радость. Но, смутившись, она остановилась и еще раз посмотрела мужчине в лицо. — Сэр Рэли… Что с вами сталось, Боже мой… — Элейна вдруг прижала руки ко рту, и из прекрасных голубых глаз ее полились слезы. — Вы, вы… вы седой, как мой батюшка… И этот рубец на виске… Эта борода… Вы… Вы… — и, не имея сил сдерживаться более, Элейна разрыдалась, закрыв лицо руками. — Ну будет, будет, девочка. Хватит. «Спасение потери превышает», — кажется, так говорил Шекспир. Это слабое утешение, но все же… — Простите, простите моего батюшку, сэр Фрэнсис, то есть сэр Рэли… Он не хотел, не знал, что так выйдет… Он добрый на самом деле, это все проклятая его неусидчивость… Услышав последние слова девушки о своем отце, Роджер не выдержал и расхохотался. — Неусидчивость? Браво! Впрочем, — и тон его сделался серьезным, — я никого не виню. Бог нам всем судья. Каждый из нас руководствовался чувством долга или тем, что мы понимали под этим. Каждый из нас дошел до этой скалы длинной дорогой собственных судеб, сложившейся по камешку из поступков, страстей и надежд. Все обманчиво, Элейна, все слишком самонадеянно… Они посидели еще немного, пока Элейна совершенно не успокоилась. Кроуфорд задумчиво перебирал четки — неотъемлемую деталь монашеского одеяния. — А я вас узнала… Как только стихи вспомнила… Это ведь из той пьесы, которую наша вера запрещает… Мне подарила томик мадам Аделаида… Я подумала… — С чего вдгуг монах стихами заговогил? — лукаво уточнил Кроуфорд, искажая слова на манер Веселого Дика. — Вот именно. Вы мне подсказываете, подсказываете, даже назвались почти шекспировским именем, а я будто оглохла. Просто не верится, сэр Фрэнсис: вы живы! Это же истинное чудо Божие! А мадам Аделаида? Она ведь тоже спаслась? Да? Вместо ответа Рэли поглубже надвинул сброшенный Элейной капюшон на лицо. — Послушайте, дитя мое, уж если вы доверились мне в первой половине, довершите начатое до конца и расскажите, отчего это вы так скоропалительно собрались в монастырь? — ответил он вопросом на вопрос. Ведь, как гласит одна умная мысль: тем, кто спешит, грозит паденье. — Тоже Шекспир? — И та же пьеса. Так объясните мне, прекрасная Джульетта, с какой это стати вдруг решились вы изменить вашему Ромео с, бесспорно, лучшим из женихов?! — Как, разве вы не знаете? Ну конечно, ведь вам и без того хватило горя. Недавно на Тортугу прибыл большой корабль английского королевского флота и доставил предписание, по которому все пираты британского происхождения подлежат аресту. Уильям… — она всхлипнула и чуть было не заплакала в голос, но взяла себя в руки, чтобы закончить почти твердым голосом. — Уильям Харт и его товарищи были схвачены, чтобы предстать перед королем и быть повешенными. Таких преступников, насколько мне известно, лишают даже права на христианское погребение, и, чтобы выкупить его душу и не заставлять ее мыкаться хотя бы после смерти, я и решила поступить в монастырь, дабы умолить Господа простить Уильяма и дать нам соединиться. Пусть за гробом, но быть вместе! Чего бы мне это ни стоило. По мере того, как Элейна говорила все это, ее голос укреплялся, в нем зазвучали нотки непреклонной решимости и отваги. Лицо Кроуфорда посветлело. Он со все возрастающим изумлением смотрел на девушку. — Вы удивительная девушка, Элейна, — наконец произнес он. — Честно говоря, ничего подобного я не ожидал. Вы облагораживаете не только мой взгляд на дамский пол, но, как ни странно, и на вашего Уильяма. Знаете, когда я в первый раз увидел его там, на «Медузе», я отчего-то вспомнил себя. Все ошибки моей юности, все безрассудство, весь пыл, все надежды, что я питал, как в зеркале, отражались в его глазах… Странно и страшно встретить себя, видеть, как кто-то совершает те же безрассудства, ступает на тот же обманчивый путь, и быть не в силах остановить его, как был не в силах остановить себя. Если бы я только мог исправить свое прошлое… Мне жаль, Элейна, мне искренне жаль, что Харт оказался замешан в эту грязь. Но есть сердца, мисс, сделанные из золота, и грязь, покрывая их, не вызывает ржавчины… Я рад, что Харт оказался таким, я рад, что он оказался не похож на меня… Может быть, — Кроуфорд при этих словах усмехнулся и стукнул себя четками по колену, — может быть, если бы встретил такую, как вы, если бы я не предал… Но это не для девичьих ушей, мисс Элейна. Вы слишком сильная и благородная натура, чтобы полюбить человека недостойного. Даже если ваш избранник оступился, вы способны помочь ему и удержать его на краю пропасти, потому что ваша любовь заставляет его сделаться лучше и чище. Впрочем, «заставляет» здесь не самое удачное слово, в нем есть элемент принуждения. Скорее ваша внутренняя и внешняя красота возбуждает желание стать достойным вас, стремиться к тому, чтобы соответствовать идеалу вашего избранника. Поскольку избранником такой девушки может быть… нет, не идеальный, идеальных не существует, но лучший и достойнейший. Я перевидел на своем веку многое, милая Элейна, и привык считать — да и никогда не отрекусь от этого мнения, — что только тот, кто не боится совершать ошибки и даже преступления, достоин и лучшей доли, и прощения, и самой жизни. — Разве ошибка — это не всегда грех? — Нет. Грех может быть следствием ошибки. И обратно: ошибка может оказаться следствием греха. Но они — разное. Хотя бы потому, что, боясь греха, можно стать святым, но, боясь ошибок, не станешь даже более-менее зрелым человеком. Вы удивительно ясно и верно продемонстрировали это сейчас своей решимостью. Я на миг подумал даже: а вдруг вся моя жизнь со всеми ее промахами и трагедиями сложилась так лишь из-за того, что я не смог, не захотел остановиться и та, которая могла бы… — Вы говорите о мадам Аделаиде? Ой, простите, я снова совершаю бестактность… — Уже ничего не изменишь, милая девочка, и хватит об этом. Все это вздор, но уже одно то, что подобная чепуха пришла мне в голову, говорит о многом. — Не знаю, заслуживаю ли я всех этих комплиментов, сэр Фрэнсис, — ничего, что я называю вас так, как привыкла? — но по-другому я просто не умею, — ответствовала Элейна. — Но все мои мысли заняты сейчас другим. Скажите, сэр, как вы думаете, мне удастся умолить Бога о прощении Уильяма и соединиться с ним за гробом? — Я нисколько не сомневаюсь, дорогая Элейна, что Господь Бог услышит и зачтет ваши молитвы об Уильяме, но, что касается вашего соединения, поверьте, оно произойдет гораздо раньше и на этом свете. По крайней мере, мне бы очень хотелось на это надеяться. — Но как же… Или вы полагаете, что его могут оправдать? — Я полагаю, что его не будут судить. Хотя бы потому, что еще не поймали. Да-да, милая барышня, вас обманули — как это ни неприятно, ибо я догадываюсь, кто убедил вас в том, что Харт арестован. Большому кораблю, вернее, тому, кто на нем прибыл, совершенно нет дела до вашего возлюбленного, и цель миссии англичан совершенно иная. Я это знаю. Кроме того, Харт никоим образом не может быть схвачен никакими англичанами, поскольку в данный момент находится довольно далеко от Тортуги, на континенте. — На континенте?! — Да, где-нибудь в сельве. Незадолго до моей… гм… гибели у Харта на руках оказались непреложные свидетельства того, что сокровища были вовсе не на Эспаньоле, а где-то в дебрях Новой Гвианы. — Подождите, сэр Фрэнсис, я ничего не понимаю. Слишком много событий за раз: ваше чудесное воскресение, поход в сельву, какие-то свидетельства и… Вы уверены, что Уильям жив и ему ничто не угрожает?! — В последнем совершенно не уверен: сказать, что ему не угрожает ничего, было бы наивно. Угрожать может что угодно, особенно в дикой сельве — так индейцы называют джунгли на берегах великих рек их родины. Но великий британский королевский флот и все его адмиралы, вместе взятые, Уильяму сейчас определенно не страшны. — Сэр Фрэнсис, милый мистер Рэли, вы просто настоящий волшебник! Вы как… как ангел: сами воскресли и меня вернули к жизни. Кстати, а как вам удалось спастись? Расскажите, пожалуйста, это так интересно! — Едва ли, милая Элейна, едва ли. Мое спасение только кажется чем-то необыкновенным — со стороны. Быть может, вы замечали, что многие вещи, которые кажутся людям привлекательными, яркими и замечательными, на самом деле гораздо будничнее и проще, чем о них думают? Между прочим, с теми же грехами и ошибками: большинство обывателей уверено, что ошибка — вещь поистине ужасная, даже хуже греха. Потому что грех — это страшно и поэтому даже по-своему красиво (ибо трагично), а ошибка глупа и смешна. А для простого смертного нет ничего хуже, чем показаться смешным. — Как мне отблагодарить вас, сэр Фрэнсис, за то, что вы подарили мне надежду? — Подарите мне при случает томик Шекспира, тот, что дала вам мадам Аделаида. И прощайте, дитя мое. Мне пора. Вы еще обязательно встретитесь с вашим Уильямом. Псевдомонах поднялся и, надвинув капюшон на лицо, зашагал в сторону, противоположную той, откуда они пришли. — Но как же вы, сэр… — И ничего не говорите папеньке! Это смертельно не только для меня, но и для него! Растерянная Элейна поднялась со скамьи и, отряхнув платье, двинулась обратно домой. Она была истинная дочь своего отца, посему в ее прелестной головке уже зрел план.Глава 9 Господин, приятный во всех отношениях
Карибское море — Тринидад
Настойчивый стук в дверь каюты оторвал Кроуфорда от очень интересного занятия. Он брил бороду, то и дело вытирая лезвие бритвенного ножа о полотняную салфетку. На прикрученном к половым доскам столе возвышался роскошный шандал в стиле барокко, полдюжины свечей освещали помещение. В свете этой непозволительной роскоши парик, небрежно кинутый на спинку стула, отливал таинственным золотистым блеском, словно был сделан из золотых нитей. Кроуфорд трудился, облокотившись коленом на стул. На нем красовалась тончайшая батистовая рубаха, отделанная кружевами по вороту и манжетам, и облегающие светло-голубые панталоны из атласа. Такой же голубой, расшитый серебряными цветами по обшлагам камзол лежал на неубранной койке. Бриг «Морская дева», шедший под французским флагом, разместивший на борту солдат, оружие, пушки и роскошный паланкин, привязанный к палубе и накрытый парусиной, подходил к порту городка Сан-Хосе*["275], столицы острова Троицы*["276], заложенного неким Антонио де Беррио. Ирония судьбы заключалась в том, что именно с этих берегов более ста лет назад испанские авантюристы собирались начать поиски рокового Эльдорадо — золотого города. Что ж, круг замкнулся. Сегодня в залив Парья вошел тот, кто найдет Эльдорадо. Море было на редкость спокойно. Ветер дул самый благоприятный. Черное небо искрилось тысячами звезд. Смутные очертания острова медленно выступали из мглы. Капитан «Девы» не раз ходил через пролив, однако маневрировать в темноте не рискнул и приказал бросить якорь на расстоянии четырех кабельтовых от берега. До рассвета оставалось около часа. На корабле спали все, кроме капитана, сэра Кроуфорда, мистера Смита и вахтенных. Кроуфорд не вмешивался в управление судном. Практически все время проводя у себя в каюте, он тщательно разбирал свой новый гардероб и пытался привести в порядок лицо, избавляясь от изрядно опостылевшей ему бороды. Стук в дверь оторвал его от этого увлекательного занятия. Отложив бритву, Кроуфорд отпер дверь. На пороге каюты стоял безупречный и полный достоинства мистер Джон Смит. — A-а, это вы, Смит. Все бдите? Кроуфорд отступил на шаг, глядя на своего визави тем особенным взглядом, которым часто пользовался, когда бывал в свете. При этом, хотя глаза его были устремлены на собеседника, они смотрели как бы сквозь него, точно собеседник был всего лишь бледной тенью самого себя, если вообще не ночным кошмаром смотрящего. Поговаривали, что из-за этого взгляда у Кроуфорда даже состоялось две или три дуэли. Хотя в данный момент убийственный эффект был несколько смазан щекой, перепачканной мыльной пеной. — Позволите зайти? — с преувеличенной любезностью осведомился Смит. — А что это вы сами бреетесь? При вашем положении… — Боюсь быть зарезанным, — пояснил Кроуфорд, и было неясно, чего в его словах больше: серьезных опасений или горького сарказма. — И вообще, Смит, каким ветром вас прибило в мою гавань? Я, видите ли, занят. Хочу сойти на берег в человеческом виде. — Наконец-то вы признали, сэр, что стремитесь выглядеть человеком. Признание болезни — это путь к исцелению, — Джон Смит вошел в каюту, выискивая глазами, куда бы ему сесть. — Впрочем, воспитание из вас человека не в моей компетенции. А вот насчет гавани я как раз хотел с вами поговорить. — Насчет гавани? — Кроуфорд изящно приподнял бровь. — Я вас не понимаю. — Мы, кажется, прибыли сюда ради одного и того же дела? — кротко спросил Смит. — Стоит хотя бы в общих чертах обсудить его, вы не находите? За время плавания мы не перекинулись и двумя словами. Пришла пора исправить это. — Не вижу, что тут надо исправлять, — пожал плечами Кроуфорд. — Дело это мое. А вы всего лишь приставлены к моей особе наблюдать. Вот и наблюдайте в свое удовольствие. Лицо Смита осталось невозмутимым. — Не забывайтесь, сэр Кроуфорд. Я доверенное лицо сэра Леолайна! И прошу относиться ко мне с большим почтением, иначе я заставлю вас быть вежливым, милостивый государь. — Интересно, каким образом? — скучающим тоном отозвался Кроуфорд, разглядывая свои ногти. — Уж не на дуэль ли вы собираетесь меня вызвать? Да нет, это невозможно! Министр никогда вам этого не простит. Он привязан ко мне, бедняга, и наверняка велел вам беречь меня как зеницу ока. И вы будете выполнять этот приказ, даже если я окончательно откажусь от попыток очеловечиться. При этих словах мистер Смит бросил на него взгляд, каким змея провожает упорхнувшую у нее из-под носа птицу. Однако он воздержался от дальнейших пререканий и только смотрел немигающим взглядом на Кроуфорда, который продолжал как ни в чем не бывало: — Да вижу, вижу. Попадись я вам в качестве арестанта или подозреваемого, уж вы бы постарались воспитать из меня достойного гражданина. Что и говорить, служение такому человеку, как сэр Леолайн, имеет свои несомненные преимущества. То-то я заметил, что у вас всегда такой самодовольный вид. Наверняка вам завидуют сотни клерков и уж никак не менее тысячи лакеев. Увы, здесь не Лондон. И здесь мало значат имена. Или нет, вру. Они значат много, но они недосягаемы. Не верите? Сегодня же я вам это докажу. — Послушайте, сэр Кроуфорд, — проскрипел наконец Смит, обладавший поистине железной выдержкой. — Вы правы: подвести министра я не могу, я связан долгом. Но не думайте, что ваши оскорбления сойдут вам с рук. Как только наша миссия закончится, вы дадите мне удовлетворение и расплатитесь за все оскорбления. — На вашей службе надо быть терпеливее, Джон. Вы что, предлагаете мне дуэль? Вы дворянин? Если да, я убью вас — вы это хотите сказать? — уточнил Кроуфорд. — Но если вы не дворянин, вам придется отложить вашу месть и продолжить свое бренное существование. Я не могу убить на дуэли простолюдина. Только давайте договоримся, в этом путешествии я откликаюсь на имя месье Рауль Феро де Кастиньяк. Забудьте про Фрэнсиса Кроуфорда. Это имя привлечет ненужное внимание к нашему предприятию. — Как вам будет угодно, — сухо сказал Смит. — И все же: вы согласны обсудить дальнейшие действия, месье Рауль? — Буду готов через четверь часа, — ответил Кроуфорд, беря Джона под руку и аккуратно подводя его к дверям. — Мне бы хотелось, чтобы ваше отношение ко мне никоим образом не вредило нашему общему делу, — заметил Смит, по-прежнему не меняя выражения лица. — Полностью с вами согласен, но через пятнадцать минут, — ответил Кроуфорд и, ловко вытолкав Смита за порог, быстро захлопнул дверь и дважды повернул ключ в замочной скважине. Затем он покачал головой и вернулся к прерванному занятию.* * *
Столь многие усилия к улучшению своей внешности Кроуфорд прилагал неспроста. Одноглазая рожа Веселого Дика, квартирмейстера Черного Пастора, да и чудаковатые манеры экзальтированного англичанина сэра Фрэнсиса Кроуфорда были порядком на слуху на всем побережье Испанского Мэйна. К тому же на данный момент оба они были покойниками, так что являться в виде одного или другого беспокойному внуку Уолтера Рэли было никак нельзя. Посему сэр Роджер просто сменил очередную маску. Возможно, прав был его отчим и в нем действительно пропал актерский талант. Как бы там ни было, Роджер в очередной раз позаимствовал себе биографию. Испания прилагала множество усилий для колонизации этого по-прежнему полудикого и полунищего острова, и Кроуфорд решил воспользоваться тем, что власти острова объявили: каждому католику, пожелавшему стать жителем этих земель, гарантируется около тридцати акров земли и еще дополнительные льготы, находящиеся в прямой зависимости от количества рабов, которых он обещает завезти на него. Сим выгодным предложением и решил прикрыться сэр Фрэнсис, изобразив из себя французского негоцианта. Именно поэтому их экспедиция подходила к острову под французским флагом. Многие солдаты умели свободно изъясняться по-французски. Никаких военных мундиров. Все выглядело так, будто разбогатевший на спекуляциях французский дворянчик желает не только обрести вторую родину на острове, но и приобрести в собственность у Испанской короны земли в Новой Гвиане под плантации какао. Конечно, при этом, боясь разного отребья, он нанял отряд для охраны собственной драгоценной персоны. К тому же последние месяцы, после того как был найден хрустальный череп, его терзали смутные подозренья. Что, черт побери, нашел дедуля в чертовой Новой Гвиане, что пометил крестиком на одном из притоков Ориноко, зачем нарисовал символ Святой Троицы рядом с устьем реки? Троица, допустим, понятна — остров Троицы. Но почему крестики стоят в дебрях Гвианы и на месте острова? Что, тупые вилы ему в бок, он имел в виду? Ладно. Затем он, Роджер, и прибыл сюда, чтобы с этим разобраться. У него есть деньги, люди, со дня на день будут и официальные бумаги. С такой экипировкой он доберется до места, и тогда все станет ясно. Теперь, когда хрустальное доказательство удачи у него в кармане, он может с развязанными руками предаваться своей мании — разгадыванию загадок покойного деда. Однако теперь, когда все было готово и до разгадки оставалось совсем немного по сравнению с тем, что он уже преодолел, Кроуфорда вдруг охватила тоскливая апатия. Он присел на койку, отодвинув камзол, и посмотрел в распахнутое круглое корабельное окошко, из которого тянуло свежим утренним ветерком. Собственно, увидеть Рэли там ничего толком не мог, разве что сереющую у линии горизонта тьму с призрачной россыпью тающих звезд, но именно эта туманная дымка, этот ветер, залетающий в каюту, как нельзя лучше сейчас соответствовали состоянию его души. Он был спокоен за найденные сокровища и не волновался за череп, который всегда с ним. Но что-то снедало его изнутри, и теперь, в эту невольную минуту тишины, это непонятное чувство поднялось из глубин души, как поднимается со дна океана увлекаемый волнами утопленник. Он перебирал в уме последние события одно за другим, как перебирают игроки выпавшие им карты. Что, что именно лишало его покоя, вселяя тоскливую безнадежность в сердце? Может, смерть Лукреции? Нет. Там все понятно. Глубокая боль от незаживающей раны, чувство вины, печаль от невозможности что-то исправить. Страх за сокровища? Чепуха, он и без них обойдется. Видение На-Чан-Чель в пещере прокаженных, едва его не убившее? Да, вот это ближе. Это отозвалось в душе. Но не индианки же он боится, в конце концов? Нет, не индианки, а того, что стояло за ней. Какие-то древние, непознанные, необъяснимые силы, которые пугали больше, чем смерть. Это был отголосок какого-то древнего, как сам мир, ужаса, а может быть, этот ужас был древнее мира. Что или кто скрывался за призрачным мороком? Что это, вызов или предупреждение? Да, вопросов здесь было больше, чем ответов. Но из пещеры он вынес не только седину. Что-то впилось ему в сердце и, как пиявка, сосало, сосало из него силы, мужество, решимость. Кроуфорду подумалось, что, возможно, Уолтер Рэли оставил эти богатства в пещерах Эспаньолы не только из-за холодного расчета. Возможно, все дело было в том, что ему тоже пришлось преодолевать эту тяжесть на сердце, эту гнетущую тоску, камнем ложащуюся на душу, и, возможно, все дело было не только в его или сэра Уолтера личной усталости или слабости, но еще и в некой необъяснимой, потусторонней, мистической, если угодно, силе, которая сторожила эти сокровища, или, что еще вернее, которая и была неотъемлемой частью этих самых сокровищ. И сэр Уолтер, как человек отнюдь не глупый, догадался об этом и принял решение не тащить в Англию то, что могло стать ее проклятием, а спрятать сокровища в надежде, что спустя время магическая сила иссякнет и можно будет спокойно вернуться за ними. Но, по всей видимости, ни время, ни пространство не властны над тем, что вне времени и пространства, и проклятие древнего ужаса достало Уолтера Рэли даже за океаном. Кроуфорду теперь казалось, что позорная смерть его деда на плахе могла быть следствием его противоборства с неизвестными силами. Уолтер Рэли, самый великий и самый ненавидимый человек в Англии… Ему все сходило с рук до того рокового плавания… Он назвал свой корабль «Судьба» — что за странная прихоть или он знал заранее, за чем плыл, и это горькая ирония человека, предвидевшего свою кончину? …На эшафот он взошел как на сцену, и даже свою смерть он превратил в представление, которое Англия запомнила на века. Приговоренный к смерти, Рэли разослал приглашения на собственную казнь самым близким друзьям. При этом одному из них он рекомендовал не опаздывать в своей обычной манере, а прибыть на площадь пораньше, чтобы выбрать лучшее место. Свое знаменитое письмо он закончил словами: «Что же касается меня, то я себе место уже обеспечил». Адмирал Рэли невозмутимо поднялся на эшафот и оглядел публику. На губах его мелькнула едва заметная улыбка. Он медленно опустился на колени перед плахой и положил на нее голову. Один из палачей захотел, чтобы, согласно обычаю, адмирал повернул голову на восток. Рэли поднял на него вгляд: «Мой друг, как выясняется, совершенно не важно, где находится ваша голова, потому что главное — чтобы ваше сердце было там, где нужно». Когда, по обыкновению, палач поднял отрубленную голову казненного, чтобы публика убедилась в том, что отрубили ее у того, кого нужно, какой-то философ из толпы крикнул: «Эта голова была бесценна для Англии!»… Король Яков, питая к Рэли ненависть, которую обычно испытывает всякая посредственность к гению, боялся его, ибо не понимал. Он был трус, и всякая отвага вызывала в нем постыдные воспоминания о собственной ничтожности. Он так хотел казнить Рэли, что не позарился даже на посулы богатсва, не захотел слушать того, кто предлагал нечто, что сделает Англию истинной владычицей мира. Но что это было? Не сундук же с золотом, в конце концов. Череп? Какой прок в куске кварца, пусть даже и искусно обработанном? Рэли, конечно, был мистиком и водил дружбу с черкнокнижником королевы Джоном Ди, но не настолько же он был наивен. Нет, дело не в черепе, хотя все как взбесились, услышав о нем. «Невиданное могущество, страшная власть, тайные силы, великие способности…» Воспоминание о неслыханных богатствах индейцев то и дело будоражило умы наиболее предприимчивых и азартных политиков. Многие желали до него добраться, и наиболее подходящим для поисков человеком им почему-то казался Роджер Рэли. Впрочем, причины были для этого достаточно веские: кому же, как не внуку гениального авантюриста, искать сокровища, припрятанные дедом? Но как можно извлечь могущество из хрусталя, если ты сам ничтожество? Кроуфорд был истинным внуком своего деда и знал один вечный принцип: где ничего не положено — ничего не возьмешь. Но об этом лучше не напоминать сильным мира сего. Министр верит, король требует, герцог жаждет — да нет вопросов! Заберите свою стекляшку, и попутного вам ветра. Нет, истинное сокровище было там, куда вела подлинная карта. Но что это, что? Не сохранилось вообще никаких достоверных сведений о кладе. Осталась лишь карта, начертанная Уолтером Рэли, что пролежала почти век, чтобы попасть наконец в руки его незаконнорожденного внука Роджера. Да, он нашел пещеру, нашел сундук, нашел мифический череп. Но куда девать страх, поселившийся в глубине его души с того самого момента, как он оказался в пещере? Кроуфорду снова пришла на память жутковатая завораживающая картина огромной пещеры в толще скал, наполненной неестественным светом таинственных пирамид. И На-Чан-Чель, вовсе не похожая на рабыню, которая исполняла его прихоти в те недолгие часы, что он проводил с ней на Тортуге. Хотя если хорошенько вспомнить, его всегда завораживал ее взгляд, странный, проникающий в душу и будто принадлежащий не женщине, а совсем другому существу, прятавшемуся до поры в ее смуглом теле. От таких мыслей становилось не по себе, но сейчас Кроуфорду не хотелось обманывать себя. Интуиция подсказывала ему, что совсем скоро его ждут нелегкие испытания.* * *
Он уже не мог сказать точно даже себе, нужны ли ему те несметные богатства, которые принесли столько несчастий всем, кто к ним прикасался. Кости жрецов майя, конкистадоров, пиратов давно истлели в земле, а сокровища продолжали будоражить их потомков и толкать их на новые безумства. Наверное, самым правильным решением было бы сейчас отступиться, бросить экспедицию, Харта с пиратами и раствориться в ночи, а потом вернуться на Тортугу и снова начать вольную жизнь, в которой никто не ставит никаких условий и никто не знает, что станет с ним завтра. Про Черного Билли ходят странные слухи, а значит, мешать ему на первых порах никто не будет… Кроуфорд встал, расправил парик, чуть-чуть сдвинул вбок висящую на богатой перевязи шпагу. Ничего этого он, конечно, не сделает. Потому что он игрок. А ставка в сегодняшней игре настолько высока, что настоящий игрок не может ее игнорировать, даже если игра ничего, кроме неприятностей, ему не принесет: это не в природе игрока. Если после всего, что произошло, он не прикоснется к этим чертовым сокровищам, он просто перестанет себя уважать. А было бы хорошо утереть нос мерзавцу-иезуиту и павлину-французу! С удовольствием бы посмотрел на их кислые физиономии, когда они обнаружат,что один клад уже найден, а второй ушел из-под самого их носа! Подумав об этом, Кроуфорд невольно улыбнулся. Очень уж соблазнительной была такая картина.* * *
Засвистела боцманская дудка. Вместе с первыми лучами солнца на «Морской деве» подняли паруса, и бриг заскользил по лазурной океанской глади. Кроуфорд поднялся на верхнюю палубу и, опершись на планшир, любовался разворачивающейся перед ним панорамой острова и небольшого городка прямо по курсу корабля. По палубе стучали босые ноги матросов, они разворачивали и готовили к спуску на воду шлюпки, чтобы погрузить в них сундуки, паланкин, подарки губернатору… Кроуфорд не обращал ни малейшего внимания на то, что происходило за его спиной. Залитый солнцем, он набрался решимости и обернулся. Всего в семи милях за кормой таяла в дымке земля Новой Гвианы. Туда он отправится через несколько дней. Часа через три все люди, грузы и вызывающий сильнейшую аллергию у мистера Смита роскошный паланкин из позолоченного красного дерева были благополучно переправлены на берег. Возбужденные солдаты, переодетые в гражданское платье, с удовольствием прохаживались по твердой земле, глазея по сторонам. «Знали бы вы, любезные, что не всем из вас суждено вернуться домой, — подумал Кроуфорд. — Пожалуй, беспечности бы у вас поубавилось!» Сам Кроуфорд никак не мог выкинуть из головы мысли о тех опасностях, болезнях, хищных зверях и индейцах-людоедах, встреча с которыми неминуемо ждала на пути к кладу. Он на собственной шкуре убедился в справедливости старинного утверждения: большие деньги требуют большой крови. Посему даже яркое солнце, безмятежное море и райские виды острова ни на минуту не могли заставить его выбросить из головы дурные предчувствия. Кроуфорд боялся и, как умный и смелый человек, открыто признавался в этом себе. Он боялся того, чего он не мог предугадать и к чему, следовательно, не мог и подготовиться.Сходя со шлюпки, чтобы погрузиться в роскошный паланкин, Кроуфорд заметил в толпе любопытсвующих бесстрастно сидящего прямо на земле мальчика-индейца. Его спокойное лицо резко контрастировало со смышлеными черными глазами, которыми он цепко ощупывал всех и каждого. Волосы его явственно отливали рыжиной, что допускало мысль о некой примеси чужой крови. Он был одет в одну грязную набедренную повязку. На груди его красовалась искусная татуировка пернатого змея, в длинных, словно оттянутых мочках ушей висели серьги из разноцветных перышек. На руках мальчик держал… Вот почему Кроуфорд остановился, вот почему замерли негры рядом с паланкином, вот почему не плескалась больше вода, шлепая зеленой волной в деревянную пристань. На руках индеец держал крошечного толстого красновато-рыжего щенка, который щурил маленькие подслеповатые глазки и с тупой мордашки которого текли слюни. Кроуфорд подошел к индейцу. — Сколько хочешь за собаку, сеньор? — спросил он по-испански. — А сколько даст белый господин за свою душу? — спросил мальчик на ломаном испанском и рассмеялся, сверкнув острыми белоснежными зубами. Кроуфорд смотрел на мальчика, и в душе его шевелилось странное чувство. — Пойдешь ко мне на службу? — вдруг спросил он парня. — Отчего ж не пойти, коли заплатишь. — А сколько ты хочешь? — А сколько дашь? — Я вижу, мы можем так торговаться до заката. Еда, одежда и пять золотых в месяц. — Идет! — Но собака моя! — А ты у нее спроси. Кроуфорд присел на корточки перед мальчишкой и аккуратно двумя руками взял теплого щенка к себе на руки. — Харончик, — прошептал он, — Харончик, ты простил меня и вернулся, да? Глупая, непрошеная слеза вдруг выскользнула у него из глаза и скатилась по носу. Щенок ловко слизнул ее розовым языком. Наверное, в этой слезе, как в экстракте, была сконцентрирована вся невыплаканная боль его сердца. — Что ж, он тебя признал. Таких собак не продают, ты знаешь. Я дарю ее тебе. И я послужу тебе. Но с одним условием. — С каким? — спросил Кроуфорд, прижимая щенка течичи к груди. — Я уйду, когда захочу. — По рукам, малыш. А звать-то тебя как? — Зови меня Чилан*["277], — мальчик улыбнулся, сверкнув зубами. — Странное имя для ребенка, — пробормотал Кроуфорд себе под нос. — Да, забыл спросить, а что ты умеешь делать? — Я… вор. — Что ж, даже король не мог бы короче охарактеризовать свою деятельность. По рукам! Кроуфорд протянул индейцу руку, украшенную золотым перстнем с крупным изумрудом. Индеец хлопнул по ней своей цепкой, как кошачья лапа, ладонью. — Что вы делаете, месье Рауль? — услышал он за спиной изумленный вскрик. Обернувшись, он обнаружил у себя за спиной красного и возмущенного Джона Смита. — В каком смысле, сэр? — В этом, сэр. Вы зачем жмете руку этому грязному индейцу? Это ваш шпион, да? И зачем вам эта поганая собачонка, а? — Буду заражать вас глистами, милый Джон. Сейчас вот только организую заговор и сразу займусь вами.
* * *
Прием у губернатора прошел как нельзя более гладко. Новоиспеченый месье Рауль так грациозно кланялся, едва не касаясь локонами парика кончиков своих атласных башмаков, так сверкал перстнями в лучах солнца за обедом, так изящно всучил губернатору «скромные дары милой родины» в виде двух сундуков, полных роскошных тканей и приятных безделушек, что дон Фидель был совершенно очарован таким приятным сюрпризом в виде свалившегося ему как снег на голову мерканта дворянского происхождения и, словно в полусне, выдал ему необходимые бумаги, разрешающие беспрепятственно следовать к месту назначения через владения Его Величества короля Испании для осмотра земель с целью их приобретения. Умилили его и богатые дары в местную церковь, посему он счел нужным рассказать столь ревностному католику, как месье Рауль, что, судя по его рассказам, путь его непременно пройдет через знаменитейшую своими успехами в обращении дикарей в истинную веру иезуитскую редукцию, где он, месье Рауль, сможет помолиться и отдохнуть. Месье Рауль страшно обрадовался тому, что и на краю света он не останется без попечения матери-Церкви, и попросил его сиятельство губернатора снабдить его и верительным письмом к главе этой миссии, если такой имеется и небезызвестен уважаемому сеньору, так как месье Рауль желал бы сделать пожертвование на столь достославное деяние. Восхищенный преданностью святой католической вере, губернатор в свою очередь немедленно пообещал подобную бумагу, и даже рассказал милейшему французу, что он знавал родного брата нынешнего главы миссии адмирала Мигеля Диаса и что отец Франциск, профос, — благороднейший человек и, несомненно, примет столь редкого и дорогого гостя с распростертыми объятиями. Месье Рауль страшно обрадовался и пламенно возжелал свести знакомство со столь известным человеком. Губернатор тут же увидел в этом отличную оказию, с которой можно передать письма в далекую редукцию. Месье тут же заверил его, что совершит для этого все возможное. За десертом они обсудили отвратительнейшее поведение, кухню и манеры ненавистных англичан, позлорадствовали над неудачами, преследующими Ост-Индийскую компанию на берегах Мэйна, и подняли бокалы за процветание истинных католиков и порядочных людей. В паланкин месье Рауль погрузился, прижимая к груди бювар с драгоценными бумагами и негромко напевая народную испанскую серенаду. Пополнив запасы пресной воды, солонины, сушеных фруктов и маиса, ранним утром следующего дня бриг отчалил от Сан-Хосе и взял курс к берегам Новой Гвианы, от которых его отделяли лишь несколько морских миль.Глава 10 Удары в барабан, лежащий на земле
Карибское море — Новая Гвиана
Несмотря ни на что, молодость — благодатная пора человеческой жизни хотя бы потому, что в молодости легче переносятся бедствия и быстрее затягиваются даже самые глубокие ссадины на душе и теле. Так мог бы сказать какой-нибудь философ, наблюдая за Уильямом Хартом, уверенно продвигающимся с небольшим отрядом пиратов по густой сельве южноамериканского континента. Как ни сыпались в истекшие три года на голову англичанину всевозможные трудности, потери и неудачи, как ни тяжек оказывался нынешний путь к сокровищам через джунгли, Харт продолжал смотреть на мир с известной долей оптимизма, его покинули уныние и глухая мрачность, свойственные ему с тех пор, как пираты отплыли с Эспаньолы. За последние недели экипажу «Головы Медузы» пришлось проделать замысловатый маршрут. Перспектива оказаться в руках чинов английского королевского флота, не столько реальная, сколько ставшая навязчивой идеей капитана Джона Ивлина, заставила пиратов изрядно попетлять по Карибскому морю, прежде чем высадиться на берег там, откуда можно было начать поиски сокровищ. Покинув негостеприимную Тортугу, флейт взял курс сперва на остров Маргарита, где пираты закупили побольше пороху и соли, так как другие припасы решили добывать собственными силами, а потом, двигаясь вдоль побережья Новой Гвианы, обогнул полуостров Парья — узкий клочок земли, часть южноамериканского континента, далеко выдающийся в море. Он торчал, как длинный нос какого-то любопытного великана, и у своей оконечности был совершенно узким, как обычный мыс. За мысом находился своего рода «карман», образованный этой полоской суши и береговой линией материка, — морской залив, тоже носящий название Парья и отделяющий Новую Гвиану от острова Тринидад. Обогнув «нос» полуострова Парья, «Голова Медузы» оказалась в заливе. Весь этот путь отнял довольно много времени, но зато был достаточно безопасен: даже идя вдоль внешнего, карибского, побережья полуострова, пираты не встретили ни одного корабля. Зато теперь в заливе можно было, пристав к какому-нибудь маленькому, Богом забытому островку, настрелять дичи, чтобы приготовить из нее солонину, запастись другим продовольствием и пресной водой и просто отдохнуть перед тяжелой экспедицией. На одном из таких островков, находящихся непосредственно у венесуэльского берега — при желании можно было преодолеть проливчик даже плавь, — после долгих раздумий и совещаний был выработан следующий план. Основная часть команды во главе с Джоном Ивлином оставалась стеречь флейт, приводя его по возможности в порядок, ибо после памятной схватки с испанцами произведены были только неотложные ремонтные работы. Второй отряд в составе Уильяма Харта, Потрошителя и нескольких добровольцев на двух шлюпках должен был преодолеть незначительное расстояние до дельты Ориноко и по ближайшему ее рукаву начать двигаться вверх по течению. Укромный островок имел все преимущества, необходимые для организации на нем сколько-нибудь долговременной базы. Между ним и побережьем Венесуэлы, которое, кстати, прекрасно просматривалось с песчаного пляжа, имелась маленькая, но довольно удобная бухта, со всех сторон окруженная высокими пальмами. Таким образом, «Голова Медузы» получала идеально укрытую стоянку: от залива ее отгораживал сам остров, а венесуэльский берег в этом районе, предположительно, был почти необитаем. Большую часть острова покрывал густой лес, в котором в изобилии водилась дичь и росли различные деревья со съедобными плодами. К тому же лес служил источником отличной древесины, необходимой для ремонта судна. По белому песочку пляжа протекал полноводный пресный ручей. Благодаря всему этому основная команда могла ожидать экспедицию с сокровищами сколь угодно долго. — Ну просто как по заказу! — радостно воскликнул Уильям при виде этого великолепия. — Давно я не чувствовал себя так хорошо! Капитан Ивлин изобразил у себя на лице что-то вроде мученической улыбки. — Как-то подозрительно хорошо, — пробормотал он и полез в карман за трубкой. — Не нравится мне все это. Не к добру такая удача. Потрошитель отвлекся от созерцания дна в своей кружке и оглянулся. — Чтоб мне сдохнуть, кэп, — обратился он к Ивлину, — не каркали бы вы, а? Вот так и вышло, что, оснастив шлюпки всем необходимым, в один прекрасный день на закате Харт с Потрошителем и небольшим числом пиратов пересекли узкий проливчик, отделяющий райский остров от Венесуэлы, а на следующее утро, двигаясь вдоль берега на юго-восток, достигли дельты Ориноко и начали подниматься по течению одного из рукавов этой великой реки. Место было выбрано достаточно укромное — чтобы, не дай Бог, не напороться на испанцев, как при злополучной высадке пару месяцев назад. Плывя по широкой протоке, маленький отряд быстро углубился в джунгли. Уильям Харт не думал ни о чем, радость жизни переполняла его сердце. Не то чтобы у него было множество причин для веселья или бог весть какие радужные надежды. Скорее некоторые его мысли следовало бы назвать навязчиво-тревожными, а перспективы — туманными. Но юноша старался выбросить все это из головы и думать только о том, что берега реки Ориноко — одни из самых живописных мест на белом свете и именно ему, Уильяму Харту, удалось их повидать и насладиться всем этим великолепием. Посмотреть здесь и впрямь было на что. Первые дни продвижения по сельве Уильям как завороженный только успевал вертеть головой по сторонам: грохочущие водопады там и тут, бурлящая вода цвета виски, благодатный водный простор, роскошная флора, внезапно вырастающие прямо на середине реки одинокие пальмы с царственными кронами, красочные попугаи, туканы и колибри. Что уж говорить о «столовых горах» — высоких колоннобразных скалах с плоскими вершинами, которые индейцы называют «тепуи»! Практически отвесные склоны и ровные ступенчатые уступы делали эти диковинные горы похожими на рукотворные, а обильно покрывавший их ковер тропической растительности в сочетании с участками голой красноватой почвы придавал ни с чем не сравнимое впечатление. Шумные водопады, высотой подчас в несколько сот ярдов, низвергались с вертикальных стен тепуи, завораживали своей величественностью. Ни на одном из диковинных островов, расположенных, казалось бы, тут же, недалеко от южноамериканского побережья, Харту не встречалось так много необычных видов растительности — райски пышной, услаждающей обоняние тонкими цветочными и фруктовыми ароматами. Истинный пир для глаз! Невероятные сочетания переливающихся и сияющих ярких красок рождали ощущение праздника. Молодой человек совершенно не слушал ворчания пиратов и предупреждений Потрошителя, которые отнюдь не разделяли восторги Харта. «Не к добру вся эта благодать!», «Кто знает, что таится под покровом этой густой зелени? А может, там крокодил, или змея какая, или иной зверь зубастый притаился?» Но Уильям радовался как ребенок каждый раз, когда взгляд его наталкивался на вспугнутую шлюпкой стайку алых ибисов, на древесного аиста или бразильского ябиру либо когда глазам открывалась панорама сразу нескольких водопадов, белопенными каскадами устремляющихся в полноводную после недавнего сезона дождей реку. Но энтузиазм молодого англичанина поугас спустя несколько дней, когда выяснилось, что изящные цепи стройных пальм, которыми он так восторгался, служат обрамлением непересыхающим пресным болотам, топким и источающим зловредные испарения, а мангровые заросли залиты дождевой водой, которая еще не отступила. Да и продвигаться по сельве с каждой милей становилось все труднее. Если в первые дни, достигнув дельты Ориноко у берегов Венесуэлы, пираты без труда вошли в широкое русло реки на двух шлюпках, то вскоре протоки начали сужаться, а еще через пару дней нормальное плавание сделалось невозможным. Вся местность вокруг них теперь представляла собой причудливую мозаику петляющих речек и ручьев, стариц, пойменных болот, болотистых лесов, озер и затопленного саваннового леса. Предположения насчет крокодилов и змей тоже были не голословными. Пару раз, проплывая мимо густых зарослей, пиратам пришлось наблюдать лениво висящих на высоких деревьях пятнистых анаконд, а однажды они стали свидетелями атаки этого чудовищного питона на его жертву — шумную вертлявую обезьяну, вероятно молодую. Дурочке все-таки удалось раздразнить дремлющую на ветках змею. Та, мгновенно перейдя из сонного состояния в активное, сделала молниеносный выпад и скрутила добычу в свои смертельные кольца. Прощальный крик обезьяны прозвучал прямо-таки душераздирающе. В другой раз Стив Брэнкли, пытаясь провести застрявшую в корнях и лианах на заболоченном участке шлюпку к более-менее чистой воде с помощью шеста, нечаянно ткнул им в здоровенного крокодила, приняв хищника за гниющий ствол пальмы. От неожиданности Стив заорал, выронил шест, потерял равновесие и полетел в воду. Каким-то чудом удалось удержать шлюпку от того, чтобы она не перевернулась и не превратила бы в крокодилий корм всех находившихся в ней. Пираты, сидевшие в злополучной посудине, с удвоенной силой заработали веслами, пытаясь отплыть на безопасное расстояние. А барахтающегося Стива настигла-таки зубастая пасть. Пренебрегая опасностью, Харт, сидевший в другой шлюпке, изловчился подойти на ней ближе, подать парню руку и втащить его к себе, в то время как Потрошитель ловким броском ножа угодил крокодилу прямо в глаз, однако несчастный Брэнкли лишился правой ноги: узкомордый чешуйчатый гад откусил ее чуть ниже колена. Кровь из раны хлестала так, что ее впору было вычерпывать со дна шлюпки ковшом. Стива заботливо перевязали, туго стянув ему ногу над коленной чашечкой, но через несколько часов он все равно скончался от потери крови. — Так и так умер бы он, мистер Харт, — неловко попытался утешить горюющего Уильяма сивоусый пират Сэм. — Даже если б кровь ему остановили. Гангрена б началась, верьте слову, у крокодила в зубах навязает столько всякой пакости, что враз заражение случается… да… Бедняга Стив! Слава Богу, что хоть мы от того крокодила ноги унесли: на запах крови, знаете, сколько этих тварей является?! Они за две мили чуют! Тело Стива зашили в мешок — так, как если бы он скончался в море, — и опустили за борт шлюпки, в бурные воды Ориноко… Пожалуй, с момента гибели Бэнкли от экспедиции отвернулась удача. Потрошитель и другие пираты становились день ото дня все мрачнее, Уильяму тоже стало не до орхидей и бромелий. Во-первых, свободная вода почти исчезла. Часто приходилось вылезать на более-менее твердый участок, условно называемый берегом, и перетаскивать лодки по суше в поисках судоходной протоки, при этом буквально прорубая себе дорогу сквозь густые заросли. Во-вторых, болотные испарения давали о себе знать. Двое пиратов, ранее болевших малярией, почувствовали возвращение болезни и очень мучились, хотя мужественно продолжали путь. В-третьих, кроме водных хищников — крокодилов и анаконд, — в джунглях обнаружилось немалое число ягуаров, пум и оцелотов. Эти дикие кошки здесь таились, как и гигантские змеи, на высоких деревьях в полной боевой готовности и в любой момент могли сигануть вам на плечи. Необходимость соблюдать осторожность, обороняясь от возбужденных легкой добычей кошек, не добавляла душевного равновесия. В-четвертых, проводник-метис, сын индианки варао и белого плантатора, которого экспедиция подобрала на второй день пути на пустынном берегу Ориноко, внушал все меньше доверия. В-пятых, встречаемые временами туземцы не проявляли к чужакам ни малейшей симпатии. В-шестых, ночью сельва наполнялась тревожными, жутковатыми звуками: рыками, стонами, вздохами, лаем, воем и ревом, неестественным хохотом и дикими воплями, такими, что кровь стыла в жилах. Это мало-помалу лишало пиратов отдыха и сна. В-седьмых, Бобу, постоянно сотрясаемому теперь приступами малярии, начала мерещиться разная чертовщина, о чем он подробно и не без удовольствия сообщал приятелям; тонкости бредовых видений тоже не способствовали укреплению нервов. В результате все члены отряда через десять дней пути были издерганы донельзя. Наконец, в-восьмых, к нравственным лишениям прибавились и физические: отсыревшие сухари, взятые с острова, заплесневели и их пришлось бросить. Разводить костры, чтобы обсушиться и приготовить горячую пищу, получалось далеко не каждую ночь, потому что кругом царила раздражающая сырость и отыскать хоть одно пригодное для растопки бревно или клочок сухого берега казалось не менее легким занятием, чем превратить свинец в золото. Дорога становилась все тяжелее, измученные члены экспедиции за день проходили столь незначительное расстояние, что по временам всем казалось, будто они стоят на месте или ходят кругами в пределах одного и того же участка сельвы. Теперь Уильям чувствовал страшную моральную усталость и уже не мог поверить, что несколькими днями ранее беззаботно созерцал красоты дельты Ориноко, шумно восторгаясь цаплями, водопадами и цветущими кустарниками. Из-за недостатка съестного юноша испытывал непрерывный голод, и хорошо еще, что не подхватил болотную лихорадку, которая собирала все более щедрый урожай в рядах маленькой экспедиции: первый заболевший ею пират уже отправился вслед за Стивом Бэнкли. Но самым чудовищным испытанием стали призраки, будоражащие чуткий сон усталых пиратов каждую ночь. Собственно, никто не знал толком, действительно это привидения, или злые духи сельвы, или просто массовая галлюцинация измученных людей. Сперва Харт даже считал, что явление призраков — его собственное, личное, интимное, никому другому не известное сновидение. В одну из ночей, когда им повезло отыскать сухой участок среди бесконечных болот и развести там костер для варки мяса, юношу сморил крепкий сон. Накануне он не сомкнул глаз от голода, сырости и постоянных вскриков бредящего в приступе болотной лихорадки Боба, а дневной переход выдался каким-то чересчур тяжелым: пришлось волочить на себе шлюпку по суше почти в одиночку, другие пираты совсем ослабели. Уильяму снилось, что из джунглей на него вышла толпа странных людей. Они были одеты или, лучше сказать, раздеты, как индейцы, но белокожи, бородаты, голубоглазы и белокуры, а некоторые с рыжими, как у викингов в исторических книжках с картинками, волосами. «Белые индейцы» все как на подбор были очень высокого роста, в руках держали тяжелые копья, а на лбу у каждого красовалась тиара в виде змеи. Они молча шли сомкнутым строем прямо на Харта, каждый шаг этой колонны отдавался со всех сторон, рождая жуткие звуки, похожие на мерные удары в гигантский барабан, гул от которого словно повторяла земля под ним. А за спинами странных людей сельва расступалась, открывая широкую панораму Ориноко, где на водной глади маячили огромные странные суда с лебедиными крыльями и светящимися корпусами. Эта картина навела на Уильяма невыразимый ужас, от которого он проснулся в холодном поту и до рассвета боялся даже задремать. Все бы ничего, но этот сон стал повторяться еженощно, и бедный Уильям, и так измученный донельзя, теперь прилагал массу усилий, чтобы не заснуть, но все было напрасно. Когда пугающее видение повторилось в четвертый раз, причем юноша, падающий с ног от переутомления, уже не мог с уверенностью сказать, во сне это произошло или наяву, он решил поделиться им с Потрошителем: — Джек, как ты полагаешь, если человеку каждую ночь снится один и тот же сон, может ли это означать, что он скоро лишится рассудка? Бывалый пират усмехнулся и ответил: — Смотря что снится, сэр. Если кто-то из знакомых, ушедших в мир иной, так скорее это предвестник смерти, а не безумия. За собой зовет, значит… Хотя моя бабушка, упокой, Господи, ее душу, добрейшая была женщина и набожная, что твой капеллан, всегда говорила, что покойники снятся не к несчастью, а к тому, что просят живых замолвить за них словечко перед Господом. Не знаю… А что привиделось-то вам? — Белые индейцы, — брякнул Уильям и рассмеялся нервным смехом, вдруг поняв, как нелепо звучит его ответ. — Как вы сказали, сэр? Белые индейцы? — оживился сивоусый Сэм. — Вот так так! Да ведь я ж их третью ночь вижу, как вас сейчас! Выходят, проклятые, из лесу и такой страх наводят — хоть караул кричи! Что твои колдуны! — И я! — И я!.. Пираты загалдели, и выяснилось, что странных людей в последние ночи видит каждый. Убедившись в массовости видения — или действительного явления, хотя в последнее верилось с трудом, — Уильям и Потрошитель приняли решение усилить сторожевое охранение на ночь. Единственный, кто не принимал участия в обсуждении фантастического факта, был метис, нанятый в качестве проводника. Все время, пока шел галдеж, он сидел чуть поодаль, лениво прислонившись к стволу пальмы, и слушал, что говорят другие. Но когда совет закончился, подошел к Уильяму и вполголоса сказал: — Напрасно смеетесь, мистер. Белые индейцы существуют, и они действительно белые. Это потомки великих богов, пришедших в здешнюю землю из-за моря во времена Великого потопа. Они прячутся далеко в сельве и редко кому показываются, а если показываются — только ночами. И если вы их видели, сэр, то ничего хорошего дальше не будет! — Это что, поверье такое, что ли? — осторожно поинтересовался Уильям. — Хотите — верьте, хотите — нет, сэр, — пожал плечами метис. — Только скоро сами убедитесь… Их зовут «летучие мыши». И живут они в том краю, где золото лежит под ногами и откуда не возвращаются!.. «Эльдорадо! Неужели мы гораздо ближе к цели, чем я думаю?!» — мелькнуло в голове у Харта. — Да откуда же они здесь взялись, белые-то? — вдруг задал резонный вопрос Сэм. — Ведь белые-то люди сюда пришли лет сто назад, а, сэр Уильям? — Нет, Сэм, почти двести, — автоматически поправил его Харт. — Но они… они не похожи на белых людей!.. Они похожи на индейцев, только белых… то есть… я совсем запутался. — Белые люди — это не какие-то бледнолицые, — с презрением возразил метис. — Белые бородатые люди — потомки богов. Они пришли сюда и правили задолго до тех, кого вы зовете «майя». Вы, европейцы, воображаете, что только у вас есть науки, искусства, и считаете остальных дикарями, сродни животным. И даже не понимаете, что, как только у вас и прочих народов появляется письменность и то, что необходимо для роскошной, праздной и бессмысленной жизни, вы начинаете воевать с соседними землями — и ваши города, и храмы, и книги, и всевозможные драгоценные предметы, и лучшие хранители накопленной мудрости гибнут в огне этих войн, оставляя из всех вас лишь неграмотных и неученых. И вы снова начинаете все сначала, словно только что родились, ничего не зная о том, что совершалось в древние времена даже у вас самих, не говоря о прочих странах! Вы, бледнолицые, вечные дети, лишенные длинной памяти! Вы не подозреваете, какой прекрасный и благородный род людей жил некогда в этой земле. Белые бородатые люди и их надежно укрытые в сельве прекрасные города остались от тех немногих, кто уцелел из этого славного рода, но вы ничего о нем не ведаете, ибо их потомки на протяжении многих поколений умирали, не оставляя никаких записей и унося за собой нашу память. Когда-то они жили в великом царстве посреди моря, удивительном по величине и могуществу, чья власть простиралась на весь их остров, на многие другие острова и на часть большой суши. Они строили огромные каменные дома неземной красоты, светящиеся, как жар, палаты и храмы из крепкого зеленого нефрита. Создавали быстрокрылые ладьи, летающие по воздуху, как птицы, и сияющие корабли, не боящиеся самых сильных ветров. Их вожди ходили в золототканых одеждах, унизанных драгоценными камнями, которые в той земле можно было собирать без счета, как раковины на морском берегу. Светлые ткани, браслеты и кольца, серьги и ожерелья жен украшали, но лучше камней были лица открытые. В делах военной доблести эти островные люди были тоже первыми и по совершенству своих законов стояли превыше всего, что вы, бледнолицые, можете только вообразить себе в чванливом заблуждении, будто бы только у вас есть законы, а остальные — варвары и невежды. Безумцы! Тайные предания рассказывают о деяниях белых богов, которые прекраснее всего, что нам известно под небом. Но это благополучие длилось недолго. На всем острове неизвестно откуда вдруг то и дело стали раздаваться глухие звуки — как удары лежащего на земле барабана. Следом вожди заметили, что их земля медленно погружается в море — на малую толику с каждым таким ударом. Сначала удары звучали раз в месяц, потом в неделю, потом раз в несколько дней, раз в день — все чаще и чаще. Царство стало стремительно тонуть. Много сил приложили белые боги, чтобы найти средство остановить наступающее море и отстоять свою землю, но все было напрасно. Глухие удары все ускорялись и учащались, и в конце концов ни в домах, ни в рощах, ни на шумных улицах городов стало невозможно спрятаться от этой мерной и скорой барабанной дроби. Началось чудовищное наводнение. Тогда царь собрал своих слуг, мужчин, женщин, детей и стариков, посадил их на большие лодки и велел плыть к горизонту, а сам остался на тонущей земле. Лишь тогда прекратились страшные удары невидимого барабана, а вся земля вместе с вождем ушла под воду. Мрачный рассказ проводника был прерван криком бедняги Боба, метавшегося в приступе малярии на подстилке из пальмовых веток: — Что это?! Вы слышите?! Все повскакали со своих мест. Впереди, сзади, сверху, снизу, со всех сторон из густого девственного леса слышались глухие барабанные удары. Они были до того мерными и зловещими, что на всех нашла тяжелая оторопь и от ужаса мурашки побежали по телу. Ветви сельвы раздвинулись, и на горстку пиратов вышел сомкнутых строй белокожих голубоглазых людей с копьями в руках и змеиными тиарами на головах. Они окружали экипаж «Головы Медузы» со всех сторон и с каждым шагом становились выше ростом, под конец сравнявшись с огромными пальмами. Несколько пиратов, завопив от ужаса, заметались по лагерю, разбрасывая головешки костра, двое, обезумев, прыгнули в шлюпку и поспешили оттолкнуться от берега, но шлюпка перевернулась и мутная заболоченная река в мгновение ока поглотила несчастных. Барабанная дробь зазвучала чаще, переходя в глухой ровный гул. — Назад, сто тысяч чертей, назад! — завопил Потрошитель, опомнившийся ранее других. — Сэм, ты что стоишь как истукан?! Не видишь, что костер потух? А ну-ка!.. Призраки «белых богов» вдруг приблизились к пиратам вплотную и исчезли так же неожиданно, как и появились. Сэм, до тех пор стоявший с поднятой головой и раскрытым от изумления ртом, рухнул как подкошенный. Он был мертв. Грохот невидимых барабанов постепенно стихал. — Как вы думаете, сэр, что это за звуки? — язвительно, как показалось Уильяму, спросил проводник-метис. — Похоже на землетрясение, — с трудом выйдя из оцепенения, почти шепотом ответил тот. — Думаю, и тот остров погиб из-за землетрясения… — и, обращаясь к Потрошителю, вдруг сказал: — Послушай, Джек, я принял решение. Я должен покинуть вас… Видя гибель пиратов одного за другим, Харт испытывал страшные угрызения совести. Ему казалось, что к сокровищам они не приблизились за это время ни на йоту. К тому же помимо золота Рэли, в джунглях была еще одна цель, которая заставляла все сильнее отклоняться от маршрута, указанного в карте. А может быть, он все-таки напрасно поверил французскому докторишке?.. Они тогда случайно встретились с д’Амбуленом в одном трактире. Харт готовил флейт к экспедиции в сельву, намереваясь — как и было это впоследствии осуществлено — обогнуть мыс Парья, войти в залив, а потом на шлюпках подняться вверх по Ориноко. За ужином к нему подсел какой-то мужчина в плаще и низко надвинутой на лицо шляпе. Это был Робер д’Амбулен собственной персоной. Узнав его, Харт вскочил, схватившись за шпагу, но д’Амбулен остановил его: — Конечно, Харт, вы вправе меня ненавидеть. Но я поступал согласно приказу, а члены моего ордена не могут ослушаться приказа. Я служу Господу — ad majorem Dei gloriam. — К вящей, говорите, Божией славе? — усмехнулся Уильям. — Почему-то все приказы вашего Ордена попахивают подлостью, — зло ответил Харт. — Тише, тише, мой друг, вы привлекаете к нам внимание, а мне нельзя находиться здесь. Я нарушил устав и покинул келью после вечерней молитвы — а это у нас строго карается. Да и если меня заметят в вашей компании, мне не поздоровится. Харт со злостью посмотрел в искренние голубые глаза Робера и сел. — Зачем вы искали меня после того, что случилось? — Мне искренне жаль, что все так вышло. Видит Бог, я не желал смерти ни вам, ни Веселому Дику, ни тем паче мадам Аделаиде. Но так, видать, судил Господь… — Не поминайте всуе Имя Божие, д’Амбулен. Это вы, а не Господь, предали их. — В чем ныне глубоко раскаиваюсь, мой друг. — Вы пришли затем, чтобы рассказать мне об этом? — Нет, я пришел затем, чтобы хоть в какой-то мере исправить то зло, которое произошло по моей вине. — И как вы собираетесь это сделать? — Я хочу открыть вам одну тайну, за которую могу поплатиться жизнью. Но прежде чем я это сделаю, мне хотелось бы знать, зачем вы плывете в залив Парья. — A-а, вы и об этом знаете, жалкий вы шпион. Но я не отвечу вам. — Тогда я осмелюсь высказать свои предположения. Перед своим самоубийственным поступком Веселый Дик ведь отдал вам настоящую карту, не так ли? — Не ваше дело, д’Амбулен. Я вам ничего не скажу. — Ну так вот, Харт. Чтобы вы убедились в моей искренности, я хочу открыть вам тайну: мадам Аделаида жива. — Что??? Вы лжете! — Нет, мой друг. И пожалуйста, ради всех святых, говорите тише, на нас и так уже оглядываются. Она действительно жива! — Где она? — А вот это, мой друг, самая важная часть тайны. Но чтобы открыть ее, мне нужно знать, есть ли у вас карта. — Вы готовите новое предательство? — Ладно, не хотите, не говорите. Ваше право — не доверять мне. Но я все равно скажу вам: мадам Аделаида жива и ее держат в плену в иезуитской редукции, в сельве, неподалеку от Карони, притока Ориноко. Если вы чтите память своего мертвого друга, вы ни за что не оставите эту женщину в беде… Ее ведь могут пытать! — Не вам, д’Амбулен, говорить мне о чести и о памяти Кроуфорда. Я спасу ее! — Вот видите, я не просто так спрашивал вас, действительно ли вы отправляетесь в Новую Гвиану. Я просто надеялся, что вам будет по пути… — Хватит, д’Амбулен. Я не скажу вам больше ни слова. Но… — тут Харт осекся. Не слишком ли он жесток с оступившимся человеком? Ведь если Лукреция жива, Кроуфорд не зря рисковал жизнью. Уильям поклялся другу, что не оставит его сына, но вернуть сыну мать — еще лучше! — Но, д’Амбулен, — продолжил англичанин, — я искренне надеюсь, что вы не совсем пропащий человек и что наступит день, когда я смогу пожать вам руку. — Надеюсь, Харт. А теперь мне надо идти: если наши соглядатаи хватятся, мне несдобровать. Робер встал и, закутавшись в плащ, быстро вышел из трактира. Через пару часов Харт, поднявшись на флейт, уже обсуждал эту новость с капитаном Ивлином и Потрошителем. Разумеется, они пытались его отговорить, но что толку? Нет, если есть хоть один шанс, что Лукреция Бертрам жива и что ее можно спасти, Уильям просто обязан использовать этот шанс. Пусть самый фантастический, самый невероятный, но — шанс!.. Ведь нельзя же допустить, если она и правда жива, чтобы она застряла тут, в этой кошмарной сельве, кишащей призраками, ягуарами, анакондами, крокодилами и, по словам д’Амбулена, иезуитами, которые, если верить острословам, есть крокодилы двуногие. Только сейчас пришло время выбирать. С нехваткой продовольствия еще можно кое-как справиться, но силы иссякают, отряд тает на глазах, а у тех, кто еще жив и относительно здоров, нервы на пределе. Нельзя лишать пиратов надежды отыскать сокровища! А в создавшихся условиях гнаться за двумя зайцами сразу… Остается одно: ему, Уильяму Харту, проделать дальнейший путь к иезуитской миссии, о которой говорил д’Амбулен, в одиночку, взяв с собой только метиса. Да, он не внушает доверия, но, кажется, действительно хорошо знает местность… и не только местность. Правда, так без вожатого будут брошены Потрошитель и пираты, но Харт ведь оставит им карту сокровищ, согласно которой уже пройдена почти половина пути до вожделенного Эльдорадо! В конце концов, они могут найти себе и другого проводника вместо этого мрачного плута. Тем более что после длительного перехода по глухим джунглям, где не встречалось никого, кроме диких зверей, путешественникам стали наконец попадаться туземные селения. Все это Уильям торопливо изложил Потрошителю. — Есть еще один вариант, Джек, — добавил он. — Вы останетесь тут ждать меня. А когда я вернусь вместе с леди Бертрам, мы продолжим путь за сокровищами. Ведь ей тоже причитается часть как… матери сына сэра Фрэнсиса, то есть, можно сказать, как его жене перед Богом… — Как его вдове, — мрачно уточнил Потрошитель. — Гиблое вы дело задумали, сэр, себя потеряете и леди не выручите, но да что толковать!.. Все равно не послушаете меня. Берите проводника — мы справимся и без него — и топайте в эту самую миссию, если, конечно, она существует. А мы потихоньку двинем за сокровищами. Если уцелеете — приходите следом, там и встретимся. Ведь вы вызубрили туда дорогу наизусть, верно?Договориться с метисом не составило труда. Казалось, он догадался обо всем заранее, и местоположение поселения иезуитов якобы тоже знал отлично. Харт собирался отправиться вдвоем с проводником, захватив с собой ружья, порох и немного продовольствия, но двое пиратов добровольно напросились сопровождать его. Теперь уже Уильяму пришлось отговаривать людей от рискованного предприятия, но он в этом не преуспел и на рассвете следующего дня четыре человека двинулись вперед — туда, где, по предположению метиса, находилось устье Карони. Этот мощный, полноводный приток Ориноко протекает в пределах Гвианского плоскогорья, образуя вплоть до устья пороги и водопады. Поэтому двигаться на шлюпке не имело ни малейшего смысла. Где-то между порогами, на берегу этой реки, таилась иезуитская миссия… если, конечно, д’Амбулен не соврал. Воды Карони при впадении в Ориноко не смешиваются с ее водами, и отличить проток не составило особого труда. Обнаружив устье реки, они повернули на запад и двинулись вдоль притока. Путь продолжался несколько дней. По дороге Уильям поймал себя на мысли, что предание о белых бородатых богах, пришедших в Южную Америку с затопленного острова, поразительно напоминает ему слышанную еще в школе историю. После некоторых раздумий он понял: рассказ метиса почти в деталях повторяет миф Платона об Атлантиде. Выходит… Фрэнсис когда-то намекал ему, что сокровища майя, награбленные и зарытые Кортесом, а потом найденные Уолтером Рэли, отнюдь не принадлежали самим майя. Дескать, он узнал от своей подруги-индианки, что когда-то на землях майя жили иные, диковинные, племена, которые он, Кроуфорд, склонен отождествить с потомками атлантов. Неужели и впрямь существовала легендарная Атлантида и некоторым из населявшего ее племени удалось спастись при катастрофе? Но ведь он, Уильям, собственными глазами видел… Стоп! Что он видел? Повторяющийся сон? Призрак? Массовую галлюцинацию?! Черт знает что… Додумать мелькнувшую у него мысль до конца Харт не успел. На него вдруг откуда-то сверху обрушился человек. Вернее, даже два человека: один прыгнул на голову, а другой сел на плечи, опрокинул Уильяма ничком и с силой прижал к земле. Краем глаза юноша успел увидеть, что то же самое случилось с его спутниками. Пираты попытались было сопротивляться, но были убиты на месте. Метису же удалось вывернуться и бежать. Нападавшие пустили ему вслед несколько отравленных стрел, но Харт не знал, достигли ли стрелы цели. Его оружие, как и оружие убитых пиратов, очутилось в руках кинувшихся на них индейцев. Впрочем, то были странные индейцы: вместо привычных набедренных повязок, перьев и прочего они оказались одетыми в одинаковые полотняные рубахи и короткие штаны. Всего нападавших оказалось человек пятнадцать. Уильяма крепко связали, пинками подняли на ноги и, подгоняя ударами в спину, повели вглубь леса.
Глава 11 Коадьютор не сдается
Тортуга — Карибское море
— Послушайте, дорогой Давид, — в который раз уже начал Йозеф Ван Дер Фельд неприятный разговор, намазывая маслом свежую булочку, — вы меня прямо удивляете. Не так уж давно, когда мы были на Барбадосе, вы упрекали меня в том, что я напрасно истратил два года и колоссальные средства на бесполезную экспедицию вглубь Гвианы. А теперь сами рветесь туда же, где я потерпел неудачу… Да что я! Ведь даже сам Рэли не нашел сокровища на берегах Ориноко и Карони! — Рэли сказал, что не нашел, милейший Йозеф! — возразил Абрабанель, прихлебывая из чашки горячий шоколад, сваренный по французскому рецепту — с яичными желтками. — Причем утверждаешь ты это лишь исходя из сведений того матроса, который, по твоим же словам, был дряхлее Агасфера, такой же недальновидный болван, как и он, да к тому же скончался у тебя на руках от старческого маразма! — Если кому и верить, — обиделся Ван Дер Фельд, — то лучше пороховой обезьяне самого сэра Уолтера, чем вашему безумному Пастору и весьма сомнительной индианке, которой, быть может, не существует вовсе! — Да уж, Йозеф, наши источники сведений стоят друг друга! — вздохнул коадьютор и осторожно опустил фарфоровую чашечку, расписанную пасторальными пастушками, на блюдце. — Да откуда вы знаете, что эту индианку Черный Билл не выдумал… что она не привиделась ему? Ведь этот разбойник склонен злоупотреблять горячительными напитками! — гнул свою линию Ван Дер Фельд, прочищая трубку и поглядывая на своего будущего тестя. — А ты почем знаешь, что тот старик не ошибался?! — парировал коадьютор, подпрыгнув от возмущения на стуле. — Ведь он даже не ведал, что Рэли вернулся в Англию и умер на плахе! А еще, — в голосе Абрабанеля послышались саркастически-угрожающие нотки, — он утверждал, что сокровища конкистадоров перепрятаны на Эспаньоле!!! Может быть, с твоей точки зрения, надо вернуться туда, несмотря на то что мы уже убедились: там сокровищ нет? — Если рассуждать подобным образом, дорогой Давид, нам лучше вообще вернуться домой и считать, что никаких сокровищ не существует, раз уж я не нашел их на Ориноко, а вы… то есть мы вместе — на Эспаньоле, — вздохнул моряк и с сочувствием посмотрел на купца. — Прошу вас, господин Ван Дер Фельд, не огорчайте так сильно моего батюшку, ему вредно волноваться! — вдруг прервал их спор мелодичный девичий голосок. Оба сотрапезника, как по команде, повернули головы в сторону двери. На пороге столовой стояла Элейна в утреннем платье длявизитов. Судя по всему, прогулка на свежем воздухе стерла с ее щек болезненную бледность, а встреча с Кроуфордом заставила черные бархатистые глаза сиять радостным блеском. От недавней печальной задумчивости не осталось и следа, девушка была полна решимости действовать. — Б-же мой, дорогая Элейна, с чего вы взяли, что я его огорчаю?! Но даже если это и так, я готов немедленно исправиться и поспешу испросить у многоуважаемого Давида прощения. Ради вас можно совершить и большие подвиги. — В самом деле? — кокетливо удивилась Элейна, подсаживаясь к столу и наливая себе из кофейника шоколаду. — А если я попрошу вас осуществить мою давнюю мечту? — она бросила в сторону своего жениха лукавый взгляд. Судя по тому, как купец встрепенулся, невольно подавшись в ее сторону, он обрадовался подобной возможности совсем непритворно: — Все, что в моих силах… — Разумеется, в ваших! — рассмеялась Элейна. — Вы так увлекательно рассказывали нам о своем путешествии в джунгли Ориноко, что я сгораю от нетерпения увидеть этот заповедный край. До сих пор батюшка был против моего намерения, но, может быть, теперь он согласится? Помогите мне его уговорить. — Ты видишь, Йозеф, даже этот невинный младенец, моя дочь, этот хрупкий цветок, для которого вдвойне опасны бурные реки, непроходимая сельва и тамошний климат, — даже она высказывается за единственный верный вариант, сулящий успех! — вскричал Абрабанель, обрадованный неожиданной поддержкой его позиции. — Подойди сюда, моя крошка, мое сокровище, моя мудрая сивилла, я обниму тебя! Элейна охотно поднялась со своего места, чтобы принять отцовскую ласку. В глазах ее вспыхнуло торжество. — Ты появилась как нельзя кстати, дитя мое! — продолжал Абрабанель, довольный тем, как легко разрешился давний спор. — Мы с Йозефом как раз обсуждали маршрут путешествия в Гвиану. Он полагает, что лучше высадиться в Каракасе, — при этой маленькой лжи коадьютор на всякий случай пнул будущего зятя ногой под столом, — и затем двинуться пешком вглубь страны. А мне вот представляется, что этот путь слишком продолжителен и тяжел. Ведь на юг от Каракаса простирается безбрежная саванна… — Испанцы и индейцы, если не ошибаюсь, называют ее льянос, — вставил Ван Дер Фельд. — Совершенно верно, дорогой Йозеф, но не прерывай меня, пожалуйста, — попросил Абрабанель. — В сухое время года льянос — это почти безжизненная степь. Быстро отцветающие травы покрывают землю сплошным ковром, а потом почва в мгновение ока высыхает, а вся жизнь теплится вокруг водоемов и ручьев. Но сейчас, когда только завершается сезон дождей, эти равнины практически затоплены водой, перемешанной с илом. Они станут проходимы через месяц или два, но тогда мы рискуем оказаться на бескрайних просторах льянос почти без воды: там есть простирающиеся на много десятков миль участки, по которым не протекает ни одного ручейка! — Но послушайте, Абрабанель… — начал было Ван Дер Фельд, вконец сбитый с толку многоумной географической тирадой своего старого товарища. — Поэтому, — невозмутимо продолжал коадьютор, — я склоняюсь к тому, чтобы морским путем достигнуть берегов Гвианы где-нибудь у устья Ориноко, а затем подняться вверх по течению. Конечно, нашему другу Йозефу совсем неинтересно во второй раз проделать подобный путь, ведь он уже имел возможность налюбоваться красотами дельты этой реки… — Но в таком случае, батюшка, господин Ван Дер Фельд может быть прекрасным проводником и гидом по тем живописным краям! — воскликнула Элейна. — Правда же, уважаемый Йозеф? Я так мечтаю, что вы мне покажете все те красоты, о которых рассказывали: водопады, девственные леса, необыкновенных птиц!.. — Я буду счастлив, дорогая Элейна, оказать вам эту услугу, — учтиво пробормотал Ван Дер Фельд. — Хотя в конце дождливого сезона в дельте Ориноко небезопасно, но именно в этот период судоходство на реке не представляет больших трудностей. Что же касается возможных бедствий, которые могут подстерегать нас, я спокоен. Вероятно, будь на вашем месте другая девушка, я бы всполошился, отказался, по крайней мере стал бы отговаривать и вас, и господина Абрабанеля. Но вы, милая Элейна, истинная дочь своего отца: такая же смелая, решительная, предприимчивая. Вы послужите не обузой, но украшением нашей экспедиции. Как я буду счастлив в тот миг, когда смогу наконец назвать вас своей женой! В ответ на это девушка скромно потупилась, чем удачно скрыла свои истинные чувства. Остаток завтрака прошел весьма оживленно. Элейна тихо торжествовала: она и сама не надеялась, что вопрос удастся уладить так легко. Но еще меньше прекрасная голландка предполагала, что с этого момента события начнут развиваться в нужном ей направлении прямо-таки с головокружительной скоростью. Не успели сотрапезники подняться из-за стола, как в комнату, где они завтракали, отпихивая слуг и охранника, пытавшегося его остановить, влетел Черный Билл. Пират так торопился, что едва смог затормозить на скользком паркете и чуть не брякнулся на пол с высоты своего роста. — Эй, господа купцы! Что вы тут сидите, как… как куры на насесте! — по обыкновению не заговорил, а зарычал он, в последний момент заметив присутствие Элейны и проглотив готовое сорваться у него с языка грубое выражение. — Мое почтение, сударыня!.. — неловко поклонился пират и продолжил: — Говорю вам, не время сидеть сиднем, а не то проклятые иезуиты обойдут нас по фарватеру, как глупого купчонку… то бишь того… извините, сударыня… С носом, говорю, оставят нас эти гнусные церковники, коли мы не поторопимся. Абрабанель и Ван Дер Фельд переполошились: — Что?! — Что?! — Уважаемый… э-э… Билли, расскажите толком. Из дальнейшего сбивчивого рассказа Пастора выяснилось, что не далее как час назад снялась с якоря небольшая, но крепкая шхуна «Святой Михаил», зафрахтованная каким-то испанским дворянином, а следом за ним вышел в море французский фрегат под командой капитана Франсуа де Ришери. Причем создавалось впечатление, что подданные «короля-солнца» чрезвычайно спешили, подняли паруса как-то впопыхах и вообще намерены устроить за «Святым Михаилом» форменную погоню. — Попомните мое слово, сударыня, — рычал Билли, обращаясь почему-то к Элейне, — чует мое сердце, что никакой этот испанец не дворянин, а самый что ни на есть распроклятый церковник!.. И неспроста иезуитские рожи так шустро отдали якоря, не иначе замыслили какую ни на есть мерзопакость или запах жареного почуяли! Пронюхали, знать, что индейская ведьма знает дорогу к сокровищам лучше любой карты! Элейна согласно покивала, но ее отец не спешил согласиться с выводами Черного Пастора: — Допустим, но с какой стати за ними вслед бросились французы? — Конкуренция, дорогой Давид, конкуренция! — вздохнул Ван Дер Фельд. — И боюсь, не только между испанцами и французами, но и… — Да что там гадать! — замахал руками Пастор. — Немедля нужно отдавать якорь, а не то плакали наши денежки. С ним никто не стал спорить. В тот же вечер «Месть» на всех парусах вышла в море курсом на Тринидад. Первые дни плавания были спокойными, светило солнце, бирюзово-синие волны, посверкивая в его лучах, податливо расступались под носом гордого фрегата, оставляя после себя ровные гряды густой белоснежной пены, а попутный ветер радовал и команду, и пассажиров. Однако путешественников беспокоило, что ни иезуитов, ни французов они пока не встретили. Неужто фора в несколько часов окажется роковой? Абрабанель очень злился, что второпях не озаботился отыскать какого-нибудь шпиона, чтобы узнать маршрут следования «Святого Михаила» или «Черной стрелы». Однако после того как судно под командой Черного Билла миновало остров Маргарита, голландцам с их пиратской компанией наконец улыбнулась удача. — Корабль по левому борту! — заорал впередсмотрящий наутро четвертого дня. Вскоре выяснилось, что показавшееся судно — фрегат «Черная стрела». Узнав об этом, Черный Билли воодушевился. «Месть» зашевелилась, как растревоженный муравейник, и буквально заходила ходуном. Пираты готовились к морскому бою. Абрабанель пришел в ужас и попытался остановить Пастора сначала через посредничество Ван Дер Фельда, а после неудачи — самостоятельно. Но нетрудно догадаться, что его усилия возымели обратный эффект. Уж слишком радовала пирата возможность взять реванш за обманные маневры коадьютора в отношении его, Билла! Он распорядился приблизиться к французскому кораблю на расстояние выстрела, так чтобы в любой момент быть готовыми открыть огонь из всех орудий левого борта одновременно. Однако Франсуа де Ришери тоже заметил «Месть». Безошибочно определив в нем пиратское судно, хотя еще не догадываясь о его экипаже, французский капитан не только приказал готовиться к бою, но и сам, не теряя времени, повернул на сближение с противником. Черный Билл засек этот маневр и решил сбавить ход, готовый в любой момент перейти в атаку. То же самое, поразмыслив, сделал и Ришери. Наконец суда сблизились на такое расстояние, при котором мог начинаться бой, и пушкари приступили к «обмену любезностями», при этом «Черная стрела» совсем остановилась и приняла обороняющуюся позицию. Несмотря на сильный заградительный огонь французов, «Месть» продолжила движение. Оба корабля окутались плотными клубами порохового дыма. Пассажиры пиратского фрегата, проклиная все на свете, заперлись в каютах. Ядра летали через палубу, а усиливающийся ветер заставлял обе сражающиеся стороны постепенно убирать паруса. Люди Ришери принимали все меры, чтобы не дать пиратам пойти на абордаж, но, на их несчастье, боеприпасы на корабле оказались довольно ограниченны. Через пару часов необходимость вести мощный заградительный огонь, чтобы не дать «Мести» подойти вплотную, почти истощила запас ядер и пороха, французские пушки начали понемногу стихать. К тому же на «Черной стреле» оказалась значительно повреждена оснастка: верхушки фок- и грот-мачты снесло ядрами, бизань треснула почти у основания и с трудом удерживала реи и паруса. Почти у самой ватерлинии корабля зияли пробоины, которые в спешке пытались залатать матросы. Единственным положительным моментом являлись незначительные потери в личном составе: убито трое канониров, еще несколько, во главе с младшим офицером, ранено. На «Мести» же, где огнеприпасов с лихвой хватило бы еще на два таких же боя, убыль в людях оказалась намного серьезнее. А вот вреда судну пиратов французские орудия нанесли гораздо меньше, несмотря на искусство артиллеристов и мощность залпов. Бой продолжался почти до заката, когда жерла пушек «Черной стрелы» полностью перестали изрыгать огонь и смолкли. «Месть» получила возможность подойти вплотную к противнику и взять его на абордаж. Наблюдать за этим поднялся на палубу Ван Дер Фельд, а за ним последовала Элейна. Никакие уговоры и угрозы отца на нее не подействовали, а Йозеф только подлил масла в огонь, убеждая будущего тестя, что мечтает о столь отважной жене и считает нужным пойти ей навстречу. Впрочем, девушка довольно быстро пожалела о своем безрассудстве. Безрадостная картина разрушений (хотя серьезных повреждений и не было, на палубе царил хаос), лужи крови, не потушенные там и тут островки огня, проклятия и стоны многочисленных раненых — все вызывало в ней внутреннее содрогание. Элейна, стараясь не обращать внимания на вопли, грохот и пороховую вонь, поддерживаемая Ван Дер Фельдом, поспешила возвратиться в каюту. Решение взять на абордаж «Черную стрелу», вообще говоря, было весьма рискованным для команды Пастора предприятием, учитывая колоссальные потери убитыми и ранеными. Но предводитель не догадывался, что у Ришери целы практически все люди, а боевой задор, охвативший его в начале боя, только возрос от предвкушения рукопашной свалки. Теперь-то он покажет этому жалкому безбожнику-еврею, что такое Черный Билл! Он вновь заставит себя бояться и вернет себе былую славу, которую порядком подрастерял в результате роковой сделки!.. Поэтому численный перевес французов с лихвой компенсировался азартом и наглостью пиратов, которые ринулись на палубу захватываемого фрегата с большим даже пылом, чем изголодавшийся любовник кидается в постель к своей любезной после разлуки. Франсуа де Ришери уже в начале боя сообразил, с кем именно схватился. Понял он и то, что на борту пиратского фрегата находятся голландцы: весть о том, что Черный Билл нанялся на службу к Абрабанелю, неизменно в течение нескольких недель занимала первые строки в списке сплетен на Тортуге. В первые минуты абордажного побоища француз еще был полон решимости сопротивляться, но плачевное состояние судна и ряд внутренних соображений заставили его сдаться довольно быстро, тем более что тоже не имел ни малейшего представления о потерях в рядах противника. Лишь впоследствии он пожалел о столь скорой капитуляции — когда увидел, что большая часть «Мести» превратилась в лазарет для раненых и увечных. Когда Ришери связанным доставили на борт победителя, встречать его на палубу вышли Абрабанель и даже успевшая оправиться от неприятного созерцания морского боя Элейна. Несколько минут коадьютор и французский капитан молча метали друг в друга взгляды, полные ненависти. Первым прервал молчание банкир: — Месье, возможно, вас удивят мои слова, но я чрезвычайно рад нашей встрече и, более того, не испытываю к вам неприязни и желаю видеть в вашем лице не противника, не врага и не пленника, но союзника, а быть может, даже партнера. — Для такого грязного купчишки, как вы, Абрабанель, — со смесью презрения и сарказма в голосе ответствовал Ришери, — сама возможность беседовать с дворянином, то есть со мной, должна служить немыслимой честью. Привыкший к оскорблениям подобного рода, коадьютор даже ухом не повел. — Но лично вы, — продолжал француз, — гнуснее любого другого еврея. Вы якшаетесь с пиратами и проклятыми иезуитами… — Что? — Да-да. Ведь это именно вы отдали в руки дона Фернандо Диаса вашу соотечественницу Аделаиду Ванбъерскен… — Идите к черту, вы прекрасно знаете, что она такая же моя соотечественница, как я шах персидский!.. — Да, знаю, но это не имеет значения. Вы всегда ненавидели Аделаиду и воспользовались случаем избавиться от нее, продав иезуитам. — Если бы ее не продал я, это сделал бы кто-нибудь другой, хотя бы она сама, — ведь она продажная женщина, — захихикал Абрабанель, совершенно забыв о присутствии Элейны. Ришери побагровел: — Она погибла из-за вас! — По-моему, любезный, вас более огорчает не самая смерть этой особы, а то, что для компании она выбрала другого, гораздо более привлекательного, мужчину. — Как вы смеете! Она погибла!.. Она… Жалкий вы купчишка! — Месье, прекратите оскорблять моего отца! — вдруг потребовала Элейна, делая шаг в сторону спорящих мужчин. До этого момента она стояла поодаль. — А вас, батюшка, совсем не красит такое обращение с беззащитным человеком. Если вы хотите считать господина де Ришери нашим гостем, а не пленником, то почему вы с ним не разговариваете, как с гостем? И не надо ворошить прошлое. Мне, например, тоже очень жаль мадам Аделаиду… — молодая девушка тяжело вздохнула. — Благодарю вас, мадемуазель! — галантно, насколько это было возможно в его положении, поклонился Франсуа. В следующий момент он покачнулся и едва не упал, но конвоирующие его пираты подхватили мужчину под руки. — Вы ранены, сударь? — участливо воскликнула Элейна. — Пустяки, царапина. — Я распоряжусь, чтобы вас осмотрели и перевязали в первую очередь, месье Франсуа. Мне — как и моему батюшке, вы, пожалуйста, не держите на него зла! — очень бы хотелось, чтобы вы действительно стали гостем на этом судне. Прошу вас, забудьте прежние разногласия. Хотя бы ради светлой памяти мадам Аделаиды. И объясните, зачем вы напали на наш… на вот этот корабль? — Я не стою ваших забот, мадемуазель, не желаю занимать почетной должности гостя, но на последний вопрос все-таки отвечу. Нападавшим в данной ситуации скорее следует считать Черного Билли, который командует «Местью», а не меня. — Ну да, может быть. Билл почему-то очень сердит на вас, месье Франсуа, но на самом деле он не хотел вас преследовать. Точнее, главным объектом для погони он избрал другой корабль, тот, на котором отплыли иезуиты. — Как странно! — насмешливо фыркнул Ришери, потирая раненое плечо. — Я гонюсь за иезуитами, Черный Билл, оказывается, тоже, но при этом бой разыгрывается между нами, а дети Лойолы благополучно успевают улизнуть у меня из-под носа! — А вы разве их догнали? — наивно спросила Элейна, искренне удивившись. — Мы их даже на горизонте за несколько дней плавания так и не увидели… — Представьте себе, почти догнал, — с нескрываемым глухим раздражением ответил француз. — И всего-то оставалось выбросить флаг и заставить их остановиться, чтобы снять со «Святого Михаила» подлеца Робера д’Амбулена. Из Франции мне было доставлено распоряжение поймать этого мерзавца. Оказалось, что он не тот, за кого выдает себя. Он преступник, которого в Европе ожидает пожизненная каторга или даже казнь — за грабеж и убийство одного почтенного нантского семейства. Представьте себе, этот юный злоумышленник каким-то образом пристал к иезуитам и выхлопотал себе у них возможность отбыть в колонии, чтобы скрыться от правосудия. Никакой он не врач и не член Ордена. И надо же было такому случиться, что именно в тот день, когда я получил предписание из Парижа, переданное мне через губернатора Тортуги, этот молодчик опять сумел улизнуть вместе со своими покровителями в Гвиану. А едва я начал нагонять их шхуну… — Понятно, понятно и очень печально, — с неподдельной грустью в голосе перебила его девушка. — Но это значит, что «Месть» и в самом деле совершенно несправедливо напала на вас, месье Франсуа. Мне очень жаль — поверьте, я говорю искренне, это не просто слова. Уверена, к моим извинениям теперь присоединятся все — и папа, и Йозеф, и даже Черный Билл. И поскольку мы перед вами виноваты, а ваш корабль сильно поврежден, я прошу вас все-таки принять батюшкино приглашение и быть нашим гостем. Судно, на котором мы все находимся, тоже преследует шхуну иезуитов, так что нам по пути. Ваша благородная цель поймать преступника непременно должна осуществиться, тем более что вы человек военный! Вам нельзя нарушать приказ, правда? Вы же не виноваты, что ваш корабль пострадал, и должны выполнить предписание, полученное из Парижа. А уж мы и команда «Мести» поможем вам в этом. Верно? В этот момент с удивлением взиравший на Элейну Ришери все-таки лишился сознания от потери крови.* * *
Рана Ришери оказалась легкой. Когда на третий день после морского сражения «Месть» стала на якоре в виду острова Тринидад, француз уже расхаживал по палубе с рукой на перевязи — бодрый и злой до чертиков. Находиться на положении «гостя» у Абрабанеля и тем более у Пастора ему решительно претило, однако выбора не оставалось. Не преследовать же иезуитов на «Черной стреле», требовавшей значительного ремонта и фактически взятой «Местью» на буксир! Справедливости ради стоит прибавить, что положение капитана на борту победителя все-таки больше напоминало домашний арест. Появление на рейде Сан-Хосе знаменитого пиратского судна вызвало большой переполох в резиденции губернатора. Однако посланный доном Фиделем человек вскоре вернулся вместе с Ван Дер Фельдом, сообщившим следующее. «Месть» зафрахтована солидным человеком для длительного путешествия, слегка потрепана в недавнем бою, вспыхнувшем по недоразумению. Из-за чудовищного стечения обстоятельств, рассказал голландец, французский фрегат, принявший «Месть» за пирата, атаковал, но сам был выведен из строя. Данные объяснения удовлетворили губернатора, но окончательно растопило лед в его душе известие о том, что на борту «Мести» находится раненый французский капитан — жертва собственной роковой ошибки. После недавнего визита месье Феро де Кастиньяка, очаровательного человека, милейшего собеседника и предприимчивого колонизатора, дон Фидель возлюбил Францию и ее народ со всей пылкостью и жаром, на которые был способен. Он немедленно распорядился приготовить в своем доме комнаты для Ришери и других пассажиров «Мести». Кроме того, услышав, что французский фрегат, пострадавший в бою, нуждается в починке, губернатор Сан-Хосе приказал выделить для этой цели лучший док и необходимое количество толковых корабелов. Необходимость съехать на берег и воспользоваться восторженным гостеприимством дона Фиделя не слишком обрадовала ни Абрабанеля, ни Ришери, ни Ван Дер Фельда, ни Элейну: все они, хотя и по разным причинам, стремились как можно скорее достигнуть берегов Гвианы. Однако они были вскоре вознаграждены с лихвой за свою покорность губернатору. Тот не только по собственной инициативе сообщил им об иезуитах, проследовавших накануне в миссию на берегах Карони, но и снабдил их всеми необходимыми бумагами, сведениями и советами о продвижении по оринокской сельве. — Кстати, — прибавил дон Фидель, — по дороге вы наверняка встретите месье Рауля де Кастиньяка. Это самый очаровательный человек из всех, кого я встречал за свою долгую жизнь, и ваш соотечественник, капитан! Не откажите в любезности передать ему мой поклон и вот этот изящный ларец с дорожными принадлежностями, который он забыл, отправляясь в Гвиану. — А если мы не встретим этого господина? — Такого просто не может быть, месье Франсуа! Я потому и передаю ларец именно вам. Вы направляетесь в иезуитскую миссию, чтобы схватить того преступника, верно? А месье Рауль рассчитывал непременно навестить редукцию, отдохнуть там несколько дней и сделать богатое пожертвование. Я сам снабдил его таким же рекомендательным письмом к главе миссии отцу Франциску Диасу, какое написал сейчас и для вас. О, месье Рауль так щедр и набожен! Видели бы вы, какие богатые подарки положил он к ногам статуи Пресвятой Девы в нашем соборе. Какие драгоценности, какая тонкая работа!.. Не желаете полюбоваться на жемчужину Сан-Хосе — собор Пресвятой Марии и праведного Иосифа? Я сам буду вашим гидом. Хотя осмотр достопримечательностей города отнюдь не входил в планы путешественников, перечить воодушевленному губернатору они не решились. Отплытие в Гвиану было назначено на следующее утро, поэтому вся компания, включая семейство губернатора, распределилась по экипажам и направилась к собору. Даже Ван Дер Фельд решил участвовать в этом, отказался лишь Абрабанель, сославшийся на нездоровье. Его попытка оставить дома также Элейну разбилась о безупречный довод самой девушки: — Батюшка, ведь я же направляюсь в собор не молиться, а осматривать редкие драгоценности! На такой аргумент старый ювелир не смог ничего возразить и даже обрадовался настроению дочери. Элейна оказалась в одной карете вместе с губернаторской дочкой — девицей одних с нею лет, на которую месье Рауль Феро де Кастиньяк, похоже, произвел не меньшее впечатление, чем на ее отца. Дорогой Мануэлита взахлеб рассказывала новой знакомой об изысканных манерах французского дворянина, его богатстве, пышной свите и всей той роскоши, которой он был окружен. — Необыкновенный человек! — восклицала Мануэла. — И очень загадочный!.. Все шутит — а глаза печальные. Такие, знаете, Элейна, пронзительные глаза. Как вы думаете, почему у веселого человека бывают грусные глаза? От несчастной любви, да? — Наверное, — рассеянно ответила прекрасная голландка. — Вот и я так думаю. Он вел себя как ленивый франт, но на самом деле он герой, побывавший в сражениях. Это видно по свежему шраму у виска, как будто он недавно схватился с пиратом или диким зверем и победил! Сообщение о шраме у путешественника заставило Элейну насторожиться. — А он, этот француз, седой?.. То есть, я хотела спросить, старый? — Конечно, старый! — махнула рукой Мануэлита. — Ужасно старый, я думаю, ему лет сорок или около того, но разве это портит мужчину? А насчет волос — понятия не имею, у него целый сундук великолепных париков… В соборе девушки, игнорируя речи заливавшегося соловьем губернатора, сразу прошли в придел с прекрасной статуей Девы Марии, для украшения которой Кроуфорд пожертвовал целую шкатулку драгоценных камней и золотых безделушек. Пока ювелиры не успели обработать дары, церковные служки просто развесили на шее и руках статуи подаренные цепочки, кольца и браслеты, а на голову ей водрузили небольшую диадему. Стоя перед изваянием Пречистой, Элейна молилась про себя о том, чтобы Дева помогла ей поскорее встретиться с Уильямом и Кроуфордом. Мануэла отошла на пару шагов, чтобы не мешать, и молча разглядывала украшенную статую. Вдруг внимание Элейны привлек золотой медальон на мраморной шее. — Как вы думаете, Мануэла, можно ли попросить, чтобы нам на минутку сняли с Пресвятой Девы одну вещицу? Только посмотреть? — А вам зачем? — Просто интересно. Когда-то в Европе я видела похожий медальон и не могла бы подумать, что существует второй такой же. — А вы так хорошо разбираетесь в медальонах? — И не только в них. Ведь я дочь ювелира и оба деда и прадеды мои были ювелирами… — Ну хорошо, хорошо, сейчас я сама попрошу служку, мне-то он не откажет. Эй, мальчик! Через минуту заветный медальон оказался в руках Элейны. Немного повозившись, она наконец нащупала замочек, раскрыла его и чуть не вскрикнула торжествующе: прямо на нее из медальона смотрели зеленые глаза Лукреции Бертрам. Прекрасная голландка мгновенно взяла себя в руки, захлопнула медальон и со скучающим лицом протянула его обратно служке. — Увы, я ошиблась, — сказала она Мануэлите. — Это рука другого мастера.Глава 12 Кроуфорд ловит дикаря
Новая Гвиана
Наконец весь необходимый груз был доставлен на сушу. Две шлюпки, зарывшись носами в белый песок, ждали, когда люди вернут их обратно на корабль. Участники экспедиции, то и дело бросая прощальные взгляды на застывший в полутора кабельтовых от берега бриг, огрызаясь друг на друга, увязывали тюки, распределяли между собой ручную кладь и оружие. Те, кто был готов, сбивались в кучу чуть поодаль от одиноко стоявшего у самой кромки прибоя Кроуфорда. Около его ног прыгал толстый кривоногий щенок ростом около пяти дюймов, а подле на теплом песке сидел, поджав под себя ноги, индеец, сменивший набедренную повязку на красные шелковые шаровары и куртку без рукавов, купленные на щедрую подачку нового хозяина. И такая от Кроуфорда исходила странная энергия, что даже глуховатый к проявлениям чужих чувств, как и подобает истинному пуританину, мистер Джон Смит не осмеливался подойти к нему ближе и замер в ярдах десяти от него. Наконец, устав ждать, он громко прокашлялся. Щенок повернулся к нему и сердито тявкнул. Кроуфорд оглянулся. В глазах его отражалось небо. — Ну что вам еще, Смит? — Пора выступать, сэр. — Ну так выступайте, кто вам мешает. Или вы еще кого-то ждете? — Но сэр… — Вас что-то тревожит? — Мы не можем без вас… — А раз не можете, то заткнитесь и ждите. Если вам совсем нечего делать, можете заняться построением личного состава в надлежащий порядок, — Кроуфорд достал из нагрудного кармана часы-луковицу и щелкнул крышкой. — Выступаем через пятнадцать минут. Кстати, объявите всем, что я назначаю своим первым помощником мистера Сэмюэла Мортона, старшего офицера. А у вас, мистер Смит, должность и без того имеется. Ой, вы расстроились? Ну так и быть, я пощажу ваше самолюбие. Вы будете моим вторым помощником. Хотя я боюсь, что вы и так постоянно пребываете в столь неразлучной близости со мной, что досужие языки скоро заклеймят нас попугаями-неразлучниками. В ответ на эту тираду Джон Смит слегка порозовел, развернулся на каблуках и двинулся, то и дело увязая в песке, к ожидающим приказаний людям.* * *
Сэр Фрэнсис Кроуфорд шел впереди растянувшихся цепочкой людей, словно и не интересуясь, шагает ли за ним кто-нибудь следом. Можно было подумать, что и сейчас он не оставил своей отвратительной манеры надмеваться и насмешничать над окружающими людьми и что он, по своему обыкновению, презирает столь простое общество. Но на самом деле Кроуфорд вел себя так по другой причине. Впереди их ждали большие испытания и потери и как неизбежность гибель множества людей. И наверняка, это будет сопровождаться муками, болью и страданием. Зачем привязываться к тем, кто все равно умрет? В сложившихся обстоятельствах человеку, стоящему во главе экспедиции, нужна холодная голова и железное сердце, лишенное сентиментальности и иллюзий. Маска равнодушного негодяя куда более затребована в этих краях, чем амплуа инженю. Только она дает необходимое пространство для маневра. Кроуфорд усмехнулся своим мыслям: «Хрустальное сердце, обросшее сталью, много удобней. Оно уже больше не разобьется». Впрочем, пока все до одного человека из отряда держались с воодушевлением. Многие впервые оказались в этих краях и теперь оглядывались по сторонам с большим любопытством. Необхватные стволы неведомых деревьев церковными колоннами уходили ввысь, создавая над головами непроницаемый для солнца шатер, — все вызывало восторг у необразованных и простодушных людей. Другие, которым уже приходилось бывать в далеких краях, наоборот, держались настороженно, оглядываясь не с целью доставить наслаждение чувствам, а чтобы вовремя обнаружить возможную опасность. Однако для тех и других Новая Гвиана была загадкой, книгой за семью печатями, горячечным сном, вызванным излишками выпитого накануне дешевого рома. Кроуфорд заранее выбрал четырех добровольцев и назначил их разведчиками. Они должны были сменять друг друга каждые шесть часов днем и три — после захода солнца. Как не хватало ему сейчас верного Потрошителя, без которого он в подобных предприятиях ощущал себя как без рук! Одно утешало его: глупышка Харт будет под надежным присмотром опытного товарища. Главное, чтобы эта пылкая юная натура не выкинула какой-нибудь кунштюк в поисках очередного подвига. Кроуфорд тяжело вздохнул и отмахнулся срезанной веткой от какого-то тяжелого насекомого, упорно норовившего приземлиться ему на шляпу. Он решил пройти через болота, отделяющие их от крупного притока Ориноко, спуститься по нему практически до редукции и, высадившись неподалеку, разбить лагерь возле земель, ей принадлежащих, благо губернатор снабдил его целой кипой бумаг, благодаря которым он спокойно может пребывать в землях миссии. Зачем ему это было надо, он и сам не знал. Может быть, бессмысленное, но непреодолимое желание приблизиться к тому, кто растерзал ему сердце, а возможно, и неосознаваемое желание отомстить… Бог знает, почему его так непреодолимо тянуло туда, с тех пор как он узнал, что отец Франциск там. Он изменил маршрут еще и потому, что в это время года, вскоре после окончания сезона дождей, окрестности были просто непроходимы, превратившись в болота. И возможно, проще было добраться по протоку, пригодному для плавания на плотах, до обжитых мест, там дождаться засухи и двинуться дальше либо по обмелевшей реке, либо вдоль нее. В конце концов, там, где прошел Рэли, пройдет и он. Он шагал и шагал без устали, словно пытался убежать от своих тяжелых мыслей, пока офицер Мортон не сдался и не напомнил ему о привале. Расположились лагерем под большими деревьями. Негры-носильщики вместе с солдатами мачете прорубили место для стоянки. Буквально через несколько десятков ярдов начинались болота. Об этом свидетельствовало утробное кваканье лягушек, и возросшее количество насекомых, и влажность почвы под ногами. Разложили костры. Чилан принес Кроуфорду большую убитую из лука птицу в ярком оперении. Кроуфорд погладил парня по голове и уселся на тюк, прижимая к себе щенка. От усталости тот крепко заснул прямо на руках у хозяина. От его тельца веяло какой-то уверенностью, домашним теплом и уютом. Кроуфорд пальцем поглаживал его шелковистую макушку и, казалось, не замечал ничего вокруг. Иногда он поднимал голову и мрачно всматривался в темную стену леса, невольно вспоминая индианку На-Чан-Чель, едва не заманившую его в пещеру, где поджидала смерть. Кроуфорд зло мотнул головой. Вряд ли стоило сейчас беспокоить воспоминания о призраках. Они только пугали и сбивали с толку. Наверное, сама атмосфера этой проклятой земли способствовала тому, что мысли текли в определенном направлении. — Дьявольщина! — пробормотал Кроуфорд. — Нужно было просить у отчима священника. Падре сейчас пригодился бы нам куда больше шпиона-пуританина. Одно его утешало: никто его в эту минуту не слышал. Кроуфорду самому не нравились мысли, которые лезли ему в голову. Он видал отъявленных головорезов, которые дрожали и бледнели как дети, когда речь заходила о вещах, неподвластных человеческому разумению. Неподалеку горел костер, предназначенный для офицеров, и вскоре на нем уже кипела похлебка из маиса и подстреленной дичи. — Нужно как-то подбодрить эту чертову команду! — решил он, потихоньку наблюдая за отрядом. — Что-то они там притихли. В тишине как раз в голову лезут самые пакостные мысли. Потрошителя на них нет… — при мыслях о своем боцмане Кроуфорд снова помрачнел и задумался, не заметив, как к нему подошел Мортон. — Позвольте обратиться, сэр, — предупредительно спросил он, — что вы предпочитаете перед ужином? Глоток «синего дьявола»*["278] или местный ром? — Все равно, офицер, — против своих намерений равнодушно бросил Кроуфорд, не имея сил изображать бодрость. — По правде говоря, здесь дело не в качестве, а в количестве. Добрая фляга любой влаги, лишь бы та могла гореть. Это позволяет забыться, и несколько часов ничто в мире не в силах потревожить вас в эти моменты истинного душевного благодушия. Но в наших с вами обстоятельствах это непозволительная роскошь. Сэмюэл Мортон посмотрел на него с удивлением. — Простите, сэр, но мне никогда не хотелось добровольно впадать в забытье, — твердо сказал он. — А стаканчик доброго джина всегда поднимет настроение. — Вы счастливый человек, Мортон, — заметил Кроуфорд. — Или нет. Счастливых людей не бывает. Вы пуританин, не так ли? — Да, сэр. — Тогда вам стаканчик не повредит. Офицеры ужинали вчетвером — кроме Кроуфорда и Мортона на коряге разместился Джон Смит, по своему обыкновению неразговорчивый, и лейтенант Фьюджин, молодой человек лет девятнадцати, слегка напомнивший Кроуфорду Уильяма Харта своим нездоровым азартом. Это воспоминание снова задело какую-то струну в душе Кроуфорда. Он не стремился к нему привязываться и не делал ничего, чтобы привязать Харта к себе. Близкие отношения чреваты сильной болью — так оголенный нерв реагирует на малейший раздражитель в сотни раз сильнее. Случайное знакомство… Пылкий юноша, воскресивший в памяти тщательно забытую молодость. В достаточной степени образованный, обладающий отзывчивой и живой душой, он в какой-то мере скрашивал однообразное общество моряков и разбойников. Эта тупая, кровожадная и в своей этой кровожадной тупости все равно серая масса порой очень утомляла Кроуфорда. Без Уильяма Харта он чувствовал себя одиноким. Странно, не правда ли? И где он сейчас? Этот вопрос периодически мучал Кроуфорда, как мозоль, наступив на которую ты невольно вздрагиваешь. Пробирается в джунглях? Тонет в болоте? Умирает от малярии? Торжествует на подступах к кладу? Так или иначе, но Кроуфорд твердо верил, что им суждено встретиться. Бедняга Харт: как бы карта не оказалась непосильной ношей для его юношеских плеч. Под таким грузом гибли и куда более опытные и отчаянные люди. Любой ценой надо найти его и спасти. Не хватало еще потерять последнего человека, к которому он питал добрые чувства. Кроуфорд думал о своем, рассеянно поглощая обжигающую похлебку, в гигиенических целях обильно приправленную красным перцем. Вряд ли он даже замечал, что именно ест. Но, глядя на него, постепенно замолчали и остальные сотрапезники. Со стороны могло показаться, что вокруг костра сошлись родственники или друзья недавно усопшего. Но буря клокотала не только в душе Кроуфорда. Бесстрастный с виду, Джон Смит медленно поджаривался на сковороде своего личного ада. Джон Смит очень гордился своей службой и близостью к аристократическим кругам. Благодаря карьере он бывал в высшем свете! Нет, конечно, не так чтобы его туда приглашали. Скорее его туда посылали. Но сама мысль о том, что он бывает в приемных пэров и лордов, герцогинь и куртизанок, преисполняла его гордостью. Он, сын простого человека третьего сословия, посещал самые именитые дома, выполнял самые деликатные поручения высоких, да что там, высочайших особ, он облечен их личным доверием!.. И вдруг какой-то жалкий морской разбойник, бродяга и авантюрист, порочащий дворянское сословие, смеет разговаривать с ним таким тоном, за который любого другого Смит уничтожил бы не раздумывая. Кроуфорд тоже не уйдет от него, но, увы, это случится позже. Министр и в самом деле повелел беречь этого мерзавца как зеницу ока. Мир перевернулся с ног на голову! Какое дело сэру Лайонелу до этого мерзавца и почему он терпел в разговоре с ним такие дерзости? Что это — государственные интересы или что-то другое? Может, за этим стоит шантаж? И у лордов рыльце бывает в пушку… М-да. Хорошо бы выяснить. Лишняя информация Смиту не повредит. Смит, можно сказать, существует благодаря лишней информации. Надо хорошенько понаблюдать, мало ли что. И у сэра Лайонела есть противники, которые не останутся неблагодарными… А Кроуфорд… Он еще сотрет его в порошок, дай только ступить на берега родной Англии! Примерно так был настроен Джон Смит. Но Мортон и Фьюджин ни о чем таком даже не думали. Лейтенант был слишком молод и неискушен в тонкостях человеческих отношений, чтобы успеть возненавидеть кого-то, а старший офицер слишком был занят мыслями о своем отряде, об исправности оружия и провианте, чтобы обращать внимание на всякие аристократические штучки. После ужина, выставив часовых, сержант просвистел в маленькую дудку отбой, и все улеглись спать. Лагерь постепенно затихал, лишь негромкие голоса переговаривающихся часовых напоминали о том, что в мире есть люди. С темнотой ожил лес. И от этих криков, шорохов, треска и визга становилось еще страшнее. Кроуфорд утомился не меньше, чем любой другой участник похода. В конце концов его охватили такое безразличие и усталость, что больше не было сил ни сожалеть, ни думать о чем бы то ни было. Покачиваясь в гамаке, растянутом между деревьями, и прижимая к себе сопящую собачонку, Кроуфорд заснул. Сон его был крепок, как смерть. Он не видел сновидений — только успокоительную черноту. Это было таким блаженством, что, наверное, Кроуфорд мог проспать так целую вечность.* * *
Но проспать вечность сэру Фрэнсису было не суждено. Он проснулся от глухого ворчания песика. Глаза щенка светились в слабом предутреннем свете двумя красными огоньками. — Тихо, малыш, тихо, — прошептал Кроуфорд, поглаживая собаку. — Умел бы ты, дружище говорить по-человечески… Вдруг он ощутил на своем плече слабое прикосновение. — Сэр, — прошептал новый слуга ему в самое ухо, — собака не зря волнуется. Я слышу, как кто-то идет по джунглям. — Кто? — спросил Кроуфорд, ловко выпрыгивая из гамака. Собака рычала и щерилась. — Я думаю, это человек. Он идет сюда, но он не знает, что мы здесь. Он от кого-то бежит, поэтому так неосторожен. — Интересно, — прошептал Кроуфорд, — а что слышат наши часовые? Но часовых сморил сон. Только в предутренние часы, да еще в самый полдень в лесу бывает тихо. Ночные звери ложатся спать, а дневные еще не проснулись. Это самое спокойное время, и немудрено, что измученные люди, обретя хоть минуту покоя, поддались сну. — Что делать? — спросил Кроуфорд у своего слуги. — Я думаю, сэр, мы должны его поймать. — А как? — Надо пойти навстречу ему и убить его. Собака покажет дорогу. — Это же щенок. — Это щенок течичи. Получив столь исчерпывающие, а, главное, уверенные ответы на свои вопросы, Кроуфорд не придумал ничего лучше, как согласиться с индейцем. Стараясь ступать бесшумно, что у него, в отличие от мальчика, получалось не очень хорошо, Кроуфорд двинулся за ним вглубь леса. Не пройдя и полсотни ярдов, индеец, идущий впереди, замер и жестом велел своему хозяину остановиться. Тот застыл. Через несколько секунд прямо на него из-за широколистного куста выскочил человек. Чилан поднес к губам тростниковую трубку и дунул. — Стой, не надо! — крикнул Кроуфорд, заметив это движение. Но было слишком поздно. Тонкая костяная игла вылетела из трубки и вонзилась человеку в обнаженную грудь. Тот с криком ужаса попытался выдернуть ее, но подпиленный кончик обломился, и в руке несчастного остался бесполезный кусок кости. — Что ты наделал?! — закричал Фрэнсис индейцу и бросился к незнакомцу. Тяжело дыша и глядя перед собой широко открытыми глазами, несчастный застыл без движения. Его смуглое тело сотрясала крупная дрожь, тело было мокрым от пота. — Я остановил врага. Но вы еще можете его допросить, — спокойно ответил индеец и отошел в сторону. — Он не умрет пока. Это слабый яд, он убивает очень медленно. Но если спустя немного времени дать ему выпить одного снадобья, — мальчик показал на маленькую тыкву-горлянку, висевшую у него на поясе на манер фляги, — то злые духи уйдут и он будет здоров. — У-уф, — Кроуфорд утер лоб, вспотевший под повязанным на морской манер платком, и вздохнул. — А что мне от него надо-то? — он устало прислонился к стволу дерева и уставился на своего маленького слугу. — Им сейчас владеют духи, он ничего не может сам. Спрашивайте, что хотите. Духи ответят за него, духи знают все. — Боюсь, духи ничего не скажут мне про сокровища, как и про Харта, — пробормотал Кроуфорд с легкой досадой. — А потом на каком это языке, интересно, я должен разговаривать с духами? — Сэр, духам все равно. Но он ответит вам на своем наречии. — Вот здорово! Я все сразу пойму! От вашего индейского щебета уши вянут. Ладно, что я ломаюсь как портовая девка. За спрос денег не берут. Попробуй узнать у него, где Уильям Харт. Мальчик подошел к пленнику и заговорил на непонятном языке. Тем временем Фрэнсису наконец удалось разглядеть пленника. Это был метис лет двадцати, со смуглой кожей и приятными чертами лица. Вливание европейской крови сгладило резкость туземных черт, и в целом еговнешность производила приятное впечатление, если бы не мертвенная пепельная бледность, ужас застывший на лице, и струйки пота, выделявшегося с такой интенсивностью, будто пленника только что вытащили из воды. Вдруг по телу его прокатилась волна крупной дрожи. Как механическая кукла на ярмарке оживает после поворота ключа, так рот несчастной жертвы неведомого яда вдруг открылся сам собой и из него начали выскакивать отдельные слова. От резкого контраста между мертвым, лишенным эмоций голосом и маской ужаса на лице, Кроуфорду стало не по себе. Индеец медленно переводил на испанский услышанные слова: «Я вел белых людей, потом один решил пойти в миссию его отговаривать, а он не соглашаться. На нас напали порченные индейцы, те которые из миссии. Всех убивать, я бежать, бледнолицый господин брать в плен» — Так что, — вскричал Кроуфорд, — он знает где Харт? Он говорит о Харте?! — Да, — ответил вместо пленника индеец. — Узнай скорей, эти нападавшие, кто они? Они точно забрали его с собой? Индеец тем же манером снова получил ответы от пленника и перевел их англичанину: — Да, в свое поселение. В редукцию. Наверное, будут пытать и отрезать ему голову. — А где это? — Да полдня пути отсюда. — Так что мы здесь стоим! Надо же что-то делать! Надо спасать Харта! Тысяча чертей, а давно это было? — Да около… — Чилан пошевелил рукой, по-видимому что-то считая по-своему, — три, пять, еще пять дней назад. — Проклятие, надо спешить! Он покажет дорогу? — Когда духи отпустят его, не знаю. А если не освободить его от духов, он умрет еще до заката. — Освобождай, освобождай, там придумаем! — Хорошо, господин. Мальчик достал флягу, что-то пробормотал над ней и, поднеся ее ко рту пленника, стал вливать в него жидкость, как вливают в больных. Кроуфорд быстро пошел в сторону лагеря. Не дойдя до него несколько ярдов, он заорал во всю мощь своей глотки: — Аврал! Полундра! Караул!!! Мортон, Фьюжел, мистер Смит! Наши планы поменялись! Я нападаю на редукцию! «Кстати, — подумал он про себя, — а что делал в джунглях этот метис две недели?»Глава 13 В плену. Редукция
Новая Гвиана
Времени поразмышлять у Харта теперь было предостаточно. Иногда, ворочаясь на грязной тростниковой циновке, он думал: не от того ли его беды, что в жизни своей он слишком мало размышлял?.. Однако сказать, что Уильям Харт проводил теперь время только в размышлениях, было бы большим преувеличением. На самом деле все последние недели он трудился как вол. Или как раб, что, пожалуй, было куда ближе к истине. Потому что он, Уильям Харт, эсквайр, настоящий джентльмен из хорошей английской семьи, получивший приличное образование и соответствующее происхождению воспитание, уже некоторое время пребывал в качестве пленника в так называемой редукции — поселении рядом с плантацией какао. Городок этот принадлежал иезуитской миссии, руководимой неким духовным лицом, лично до сих пор на плантации не появлявшимся. Уильям даже имени его не знал, потому что среди окружающих его людей преобладали индейцы и испанские монахи — ни одного англичанина! Да и индейцы-то обитали отдельно, в специально построенной для них деревне, а Харта держали в местной кутузке, построенной из какого-то неизвестного сорта дерева, неподалеку от дома причта. Сейчас Харт жалел, что плохо владел испанским языком, поэтому с новыми товарищами ему приходилось объясняться, в основном, знаками. Такое общение никогда не бывало продолжительным, зато наедине со своими невеселыми мыслями Уильям пребывал сутки напролет. Надо сказать, что подобного селения Харт никогда не видел и даже вообразить не мог, что в глухих дебрях среди непроходимых лесов может возникнуть такое. Каждое утро молодого человека водили на работу через весь городок, и за две недели он успел изучить место, где томился в плену. В центре городка располагалась квадратная площадь. Посередине одной из сторон этого квадрата из огромных камней, выломанных из скал и обтесанных, была сложена большая, по меркам захолустной Англии, церковь, высотой в четырехэтажный дом. К церкви примыкали просторный дом священника, различные мастерские, школа и складские помещения. За храмом, на опушке леса, обнесенное невысоким частоколом, раскинулось достаточно обширное для таких глухих мест кладбище. Уильям подумал, что, видать, не так уж сладко живется под крылышком «Ордена Иисуса», раз местные мрут, как мухи. Там же располагался и дом для вдов, как поведала о том витиеватая готическая надпись, вырезанная на деревянном щите над входом в одно из зданий. По другим трем сторонам площади размещались дома, предназначенные для жилья несчастных просвещаемых индейцев, — одноэтажные, построенные по единому образцу из обожженного кирпича или камня, четырехугольные в плане, обведенные крытой галереей. Эти дома располагались на параллельных линиях-улицах шириной ровнехонько в пять шагов. Харта крайне раздражали эти широкие, будто вымершие улицы, которые поливало жаром раскаленное солнце. Еще больше угнетало полное отсутствие растительности на них. После уютных садиков Девоншира, где каждое окошко украшали горшки с геранью, а под каждым окном разбит палисадник; где улочки петляли как следы кролика, а тенистые деревья, прикрывая дворики от любопытных взглядов, создавали благодатную тень в жаркие летние дни; подобные перспективы нагоняли на Харта дикую тоску, сродни зубной боли. А каково же бедным аборигенам, веками обитавшим под пологом цветущего леса до прихода людей в черном? Харту было искренне жаль этих несчастных дикарей, которые хоть и были варварами, но все же не заслуживали таких пыток. Как успел понять Уильям, весь уклад жизни несчастных «просвещаемых светом истины», оказавшихся на положении пленников в этих иезуитских редукциях, был скрупулезно, до мелочей продуман их «духовными отцами» таким образом, чтобы выжать из индейцев максимум прибыли, удерживая их в беспрекословном повиновении. Эта система эксплуатации рабского по существу труда начиналась с особой планировки жилищ и поселения в целом. Все редукции строились по единой схеме. Строжайше регламентировался распорядок дня, сочетавший напряженный и неблагодарный труд с богослужениями. День начинался с половины шестого утра, когда священник служил мессу. В 7 часов происходила церемония целования его руки, одновременно шла раздача йерба-мате*["279] — по унции на семью. После мессы священник не спеша завтракал, читал молитвенник, посещал школу, мастерские, иногда поля, куда выезжал с помпой, верхом, в сопровождении большой свиты индейских чиновников. В 11 часов он обедал с викарием, беседуя с ним до полудня о делах редукции, затем отдыхал. Священник оставался в своих покоях до вечерней молитвы, после чего до 7 часов пополудни вел нужные беседы, затем ужинал. На работу, вернее на каторжный труд под раскаленным солнцем, Харта и индейцев выгоняли в восемь утра, о чем сообщал тягостный звон железного била, который заменял здесь церковный колокол. Мужчин покрепче заставляли работать в поле. Впереди, («Издеваются они, что ли?» — каждый раз думал Харт) на бамбуковых шестах выносили огромную расписную статую Пресвятой Девы, задрапированную в синюю парчу и богато украшенную золотом и драгоценностями. Женщины работали отдельно от мужчин, и Харт видел их только вечерами, когда они брели в церковь на вечернюю службу. В окошко Харт наблюдал, как по окончании богослужения индейцы выстраивались в очередь для целования руки священнику — вначале мужчины, затем женщины и дети. Потом служки в кружевных белых пелеринах раздавали индейцам из заранее принесенных к храму со склада корзин вечернюю еду: чай-мате, который сыпали в мешочки, мясо, завернутое в листья и маис — порции на восемь человек каждая. В первое воскресенье плена изнывающий от духоты Харт припал к окошку, чтобы понаблюдать местные нравы. У него дома по воскресеньям после обедни устраивали небольшие ярмарки, где продавали сливочное пиво и имбирные пряники, в приезжих балаганчиках разыгрывали сценки, простой люд танцевал. Помещики часто раздавали бедным еду и одежду, а молодежь, получив долгожданную свободу, резвилась как могла. Но здесь даже воскресенья напоминали Пепельную среду — индейцы были столь же унылы, как и вся их жизнь. Убедившись в этом, Харт понял, что у него не будет здесь никакого иного развлечения, кроме как размышлять. Часто раздумья плавно перетекали в воспоминания. И на ум приходило в этом случае почему-то все больше детство, родители, братья и сестры. Иногда в воспоминаниях мелькала Элейна, но ее лицо с каждым днем тускнело, будто выгорая под палящими лучами солнца. С каждым днем Уильям слабел. Невыносимая влажная духота отнимала силы гораздо вернее, чем тяжелый монотонный физический труд и скверная пища. Чтобы не сойти с ума, он предавался воспоминаниям в долгие часы работы на плантации, под палящим солнцем, под равномерные взмахи мотыги или мачете, под шуршание толстых сочных стеблей тростника, под злыми взглядами надсмотрщиков. Надзиратели были из метисов — детей белых и негров, или белых и индейцев. Чужаки для всех, они могли с чистой совестью ненавидеть окружающих. Надсмотрщики менялись, но Харту казались все на одно лицо, как стервятники — злые, потные, издающие вместо речи злобный клекот и воняющие мертвечиной. Харта эти твари ненавидели особенной ненавистью и при каждом удобном случае придирались к нему, стараясь вывести юношу из себя, чтобы затем с полным основанием пустить в ход плеть или бамбуковую палку — в зависимости от склонностей и предпочтений. В первые дни Уильям заработал такое множество ссадин и кровоподтеков, что сам себе напоминал бычью тушу, на которой солдаты тренируют силу удара. Но вскоре англичанин научился делаться в нужный момент незаметным и, смирив гордыню, заставлял себя выглядеть покорно. Это помогло. Бить его стали реже, но изнуряющая, невероятно тяжелая работа никуда не делась, как никуда не делось и обжигающее солнце, которое светило здесь как будто бы и днем и ночью. Нет, конечно, светило оно, как ему и положено, с рассвета до заката — просто Уильям настолько выматывался за день, что, свалившись с ног после скудного ужина, засыпал мертвым сном и наутро не мог сказать, была ночь или нет. И ни разу за все время его плена Уильяму не приснилась Англия, его родной далекий дом, хотя он постоянно мечтал об этом и такой сон был бы для него величайшим наслаждением и поддержкой. С тех пор, как Уильям покинул свое гнездо — тайком, без родительского благословения, он еще ни разу не чувствовал себя таким одиноким. Поэтому воспоминания были его единственным спасением. Раз за разом вызывал он в памяти крутые холмы своей милой родины, вересковые пустоши, цветущий шиповник, несущиеся по каменистым руслам ручьи, аккуратные прямоугольники засеянных полей, горбатый мост через тихую реку, старинный родовой дом, мрачноватый на вид, но такой надежный. Уильям почти в деталях видел каждый камень стенной кладки. Стены были из темных обтесанных камней, выщербленных ветром и изрытых дождями, крепкие, прочные стены, заросшие плющом до крыши и мхом до фундамента… Уильяма неудержимо тянуло домой. А ведь не так давно размеренный уклад жизни и скромная карьера сельского пастора в глуши вызывали в его душе жгучий протест! Наперекор семейным правилам и традициям, он покинул родовое гнездо Хартов и отправился на поиски приключений. Что же, этого он хлебнул изрядно. Вот только сейчас не мог сказать с уверенностью: стоили ли те приключения затраченных сил, времени и погибшей репутации? Пожалуй, молодой англичанин признал бы, что не стоили, если бы не одно обстоятельство, если бы не любовь его к прекрасной Элейне Абрабанель, дочери еврейского купца. Боже мой, что сказала бы матушка на это? Но, не пустись Уильям в странствия, встреча с Элейной никогда бы не состоялась. И еще он раз за разом проклинал себя за свою глупую неосмотрительность. Ведь предупреждал его Потрошитель, что нельзя верить лживым слухам, которые распространял д’Амбулен о мадам Аделаиде и о ее пребывании в плену. Конечно, ни капитан, ни боцман не поверили этим слухам ни на секунду. И они отплыли за сокровищами, держа курс на залив Парья. А Уильям, несмотря на уговоры, прихватил с собой только проводника, отделился от отряда и решил искать редукцию. Теперь на его совести и гибель несчастного метиса от отравленных стрел индейцев, и собственный плен. И зачем он, как безумец, пустился в это предприятие? Хорошо хоть, внял уговорам Джека и, вместо того чтобы тащить с собой оригинал карты, просто вызубрил ее наизусть так, что, кажется, даже в темноте теперь мог начертить. Только бы Потрошитель не стал его искать. Силы не равны — дюжине парней не справиться с тысячей индейцев, вооруженных луками и копьями. Хорошо хоть отцы-иезуиты не доверяли аборигенам мушкетов. Странно, однако, что иезуиты даже не допросили его толком. Просто спросили о национальности, имени, откуда он. Ну, имени Харт не назвал, а вот национальность с его английским скрыть невозможно. Черт с ними. Только неизвестность мучает больше всего. И зачем он им сдался? А может быть, они в лучших традициях своего Ордена решили держать его здесь до самой смерти? Слухи об этих редукциях в Европе ходили самые противоречивые. Говорили и о несметных богатствах, накопленных Орденом за счет порабощения индейцев, и о громадных территориях, захваченных святыми отцами, и о неписанном законе, исходя из которого ни одна живая душа, навестившая редукции без приглашения, не должна была уйти оттуда живой. Вот этот пункт больше всего и тревожил Харта. Конечно же, с первой же минуты неволи он стал мечтать о побеге, но с каждым днем эта мечта делалась все более зыбкой, таяла как дым, а на смену надеждам приходили тоска и отупение. Измученный непосильной работой, постоянно недоедающий и недосыпающий, Уильям не мог придумать ничего стоящего и только с завистью вздыхал, поглядывая на залитые солнцем вершины гигантских неведомых деревьев. Он совершенно не знал местности, плохо владел испанским языком и был слишком приметен среди индейцев. Кроме того, все жители редукции, не исключая и самих святых отцов, находились под постоянным и бдительным надзором друг друга. Подготовить побег в таких условиях было делом невероятным, особенно в одиночку, а Уильям был не просто одинок, а еще и изолирован от остальных. Даже еду ему просто просовывали в специально прорубленное в двери крошечное окошко, которое затем немедленно захлопывалось. Одним словом, положение Уильяма становилось все более отчаянным, и выхода из него он не видел. В худшие минуты Харт с мрачным отчаянием размышлял о том, что окончит жизнь здесь, в далекой чужой стране, в страшной редукции, принадлежащей таким же европейцам, как и он. Особенно обидным было то, что, кажется, они считали его за человека еще менее, чем своих рабов-индейцев, которых просвещали здесь на весьма странный манер. Но все течет, все меняется, сказал великий мудрец Соломон. В один прекрасный день на плантациях с самого утра поднялась невиданная суета. Святые отцы после утренней службы носились как угорелые, подобно дамам, придерживая подолы ряс, чтобы не споткнуться. Местный касик, которого иезуиты прикармливали для придания пущей убедительности своим притязаниям здесь, с самого утра напялил на себя свои перья и расшитый плащ и теперь в окружении жен, которых ему, в отличие от остальных, дозволялось иметь несколько, расхаживал по площади, как павлин по птичнику, не обращая внимания на солнце, жарившее ему прямо в темечко. Индейцы вернулись с поля раньше положенного и кое-как приводили себя в порядок, собираясь на площади нестройными рядами. В коротких полотняных штанах и серых рубахах они выглядели как несчастные арестанты. Нелепость нарядов краснокожих еще более подчеркивалась своеобразной дикой красотой их лиц, которая отчаянно дисгармонировала с убогими обносками. Подобного Уильям не наблюдал здесь еще ни разу. Он валялся на тростниковом ложе, когда звук медного била заставил его припасть к махонькому, забранному решеткой оконцу. Он увидел, как под звуки барабанов и флейт около двух десятков всадников на крепких лошадях прогарцевали сквозь ряды индейцев. Во главе отряда ехал… О, Господи, ехал отец Франциск собственной персоной! Прямо за ним носильщики-индейцы несли закрытый паланкин, чьи опущенные занавеси колыхались в такт шагам. Харт припал к прутьям решетки, и его рвение не осталось невознагражденным. Когда паланкин, направляющийся к дому причта, пронесли мимо его темницы, на пару секунд занавески распахнулись, и его глаза встретились с глазами мадам Аделаиды. Да! Это была она, живая и, насколько Харт мог судить, вполне здоровая! С уст изумленного юноши едва не сорвался крик, но женщина быстро задвинула занавесь. Мужчины спешивались, индейцев сгоняли на праздничное богослужение, а Харт, не помня себя от потрясения, повалился на свою циновку. Все говорило о том, что в редукцию наконец прибыл настоящий хозяин: дон Фернандо Диас, отец Франциск или как его еще там. Остальные сопровождавшие его люди были либо слугами, либо солдатами, либо духовными лицами — Уильям не вполне их рассмотрел. С великолепием церковного убранства, облачений священников и блестящей одежды индейской знати резко и, надо полагать, продуманно контрастировала единообразная одежда массы индейцев. Каждому мужчине выдавались изготовленные по определенному образцу шапка, рубаха, штаны и пончо, все это — из грубого бумажного полотна. Всем предписывалось ходить босиком и одинаково стричь волосы. Женщины также ходили босиком, а их единственной одеждой был «типос» — рубаха без рукавов из того же полотна, подпоясанная на талии. Это нарочитое единообразие производило удручающее впечатление на чужаков, которым довелось побывать в иезуитских миссиях. Некий испанец, капитан Майоркского гренадерского полка в письме из миссии Япей, на реке Уругвай, сообщал: «Дома здесь настолько похожи друг на друга, что, увидев один, вы уже как бы видели все остальные; также как, увидев мужчину или женщину, вы уже знаете всех жителей, так как в их одежде нет никакой разницы». Такого рода преднамеренное стирание всякой индивидуальности всех сразу и каждого индейца в отдельности было чисто иезуитским приемом психологического воздействия на зависимых от них людей. Так легче было полностью подчинить их, заставить выполнить любую работу, послать на преступление, на смерть, если это требовали «высшие интересы» Ордена.На закате, когда веселье по случаю прибытия высокопоставленного лица на площади поутихло, а звуки барабанов и флейт наконец умолкли, произошло еще одно необыкновенное событие, которое почти затмило в глазах Уильяма явление отца Франциска. Харт, как обычно, получил у надсмотрщика, раздававшего пищу, миску мутного варева — на сей раз им оказалась кукурузная каша — и, крайне взволнованный увиденным, уселся на землю ужинать. В этот момент двери в его темницу вдруг распахнулись, и двое надсмотрщиков швырнули прямо на землю человека, который со стоном попытался отползти прочь от них, но один надзиратель, прежде чем закрыть дверь, наградил несчастного пинком. Уильям тут же отставил ужин и бросился на помощь бедняге. Мужчина лежал лицом вниз, но платье его, рваное и покрытое пылью, неопровержимо свидетельствовало о его принадлежности к дворянскому сословию. Харт попытался приподнять сокамерника и помочь ему сесть. Мужчина со стоном откинулся на стену. Сумерки быстро сгущались, и вскоре хижина погрузилась во мрак. В темноте трудно было рассмотреть лицо бедняги, но для Уильяма это сейчас не имело никакого значения. Он понял главное: в редукции появился еще один европеец, товарищ по несчастью. Уильям без колебаний приблизился к нему и, сев рядом на утоптанную землю, протянул избитому тарелку с кукурузной похлебкой. — Позвольте, сэр, предложить вам единственное, что возможно предложить в наших условиях, — сказал англичанин. — Я вижу, вы человек благородный, а обращались с вами как с преступником. Увы, помочь вам я ничем не могу. Разве что утолить голод, коли у вас еще сохранился аппетит… Человек медленно поднял голову и, с трудом шевеля разбитыми губами, пробормотал, не скрывая удивления: — Разрази меня гром! Я слышу голос Уильяма Харта! Чудится ли это мне, или я должен возблагодарить небо за такой щедрый подарок? Неужели это вы, Харт?! Уильям дернулся, будто его ошпарили. Он схватил незнакомца за плечи и заглянул тому в лицо. Покрытое засохшей кровью и синяками, оно показалось совсем чужим, но, присмотревшись, Харт вдруг с изумлением понял, что перед ним Робер д’Амбулен. — Черт побери! — сорвалось с его уст. — Это вы, д’Амбулен! Вот уж кого не ожидал здесь встретить! Что с вами случилось? Неужели вы теперь у своих на положении пленника? — Похоже, я впал в немилость! — криво усмехнулся француз. — Но со мной-то все понятно. Меня наказали за мое доброе сердце и длинный язык — кто-то донес о нашей с вами беседе. А вы-то здесь как? Бросились ее выручать? Ах, Харт, как жаль, что вы мне не поверили и не сказали всей правды. Я бы еще тогда смог помочь вам… Харт вздохнул. Больше у него не было причин не доверять д’Амбулену. Даже то, что леди Бертрам доставили в миссию только сейчас, не вызвало в нем подозрений. Доставили же! А может, она всегда была здесь, просто сегодня у него выпал шанс в этом убедиться! Харт выбросил эти мысли из головы. Он горел желанием узнать, что случилось с д’Амбуленом и как леди оказалась в живых, когда все считали ее мертвой. — Дайте я пожму вашу руку, Робер! Я был несправедлив к вам. Вы не негодяй, вы просто совершили ошибку! — воскликнул Харт и схватил француза за руку. — Вы поразительно честны, Харт, — вдруг прошептал д’Амбулен с неожиданной горечью. — Вы до сих пор пытаетесь соразмерить поступки окружающих вас людей с заповедями христианской морали. Даже после плавания с Веселым Диком. Даже после стольких смертей и предательств. Даже после того, как вы оказались пленником в редукции. Честное слово, ваша духовная твердость заслуживает уважения! Однако хочу вас по-дружески предупредить: если вы и дальше будете во всем следовать подобным правилам, то вряд ли чего-то добьетесь. Пожалуй, так и сгниете в дебрях Ориноко, — произнеся эту неожиданную тираду, д’Амбулен прикрыл глаза и вздохнул. — На все воля Божья, — ответил Уильям. — Я, правда, не очень понимаю, о чем вы. Ну да вам, видно, худо и без моих вопросов. С вашего позволения, я съем половину ужина, а половину оставлю вам. Простите, что не делюсь всем — завтра меня погонят в поле, и без еды я просто загнусь. После этих слов Харт придвинул к себе миску и, аккуратно разделив ложкой застывшую наподобие пудинга кашу, принялся за еду. Доев, он передал вторую половину ужина д’Амбулену. Тот взял миску и заглянул в нее. — Увы, месье Робер. Здесь нет французских поваров, и, я боюсь, за кока старается индеец. Так что не морщитесь и жуйте. Но д’Амбулен, казалось, застыл над едой в глубокой задумчивости. Харт истолковал его по-своему. — Не обольщайтесь пустыми надеждами, Робер. Бежать отсюда практически невозможно, так что лучше поешьте. Д’Амбулен некоторое время смотрел на него со странным выражением на лице, а потом вдруг негромко сказал: — Вы ошибаетесь, Уильям! И убедитесь в этом очень скоро. Уильям смерил сокамерника взглядом, полным сочувствия (чего тот, впрочем, в темноте не мог заметить). — Это в вас говорит гордость, Робер. Нелегко потерять свободу. Но поверьте мне, не стоит совершать безрассудных попыток, ничего, кроме новых страданий, они вам не принесут. Лучше положиться на милость Господа, или на случай, уж как вам больше нравится. Не успел д’Амбулен ответить, как послышался лязг засовов и дверь распахнулась. — На допрос, англичанин, — рявкнул надсмотрщик на ломаном испанском. Даже если бы Харт не понял слов, красноречивые пинки все ему разъяснили.
* * *
Снаружи было темно, хоть глаз выколи, и если бы не чадящий факел, Харт даже своих ног не разглядел бы. Вместе с вонью горящей смолы в нос ему сразу же ударили одуряющие запахи ночного леса, со стороны которого неслись крики ночных птиц и раздавался вой и рычание хищников. Его провели через площадь в ту часть редукции, где он еще ни разу не был. За черной громадой церкви, насколько могли разглядеть немного привыкшие к темноте глаза Харта, можно было различить еще несколько длинных приземистых построек, похожих не то на огромные амбары, не то на портовые склады. Но конвоиры увлекали Уильяма дальше. Пройдя еще около нескольких сот ярдов, они оказались перед кованной решеткой, за которой можно было различить деревья. Неприметная калитка бесшумно распахнулась, и под ногами захрустел гравий, как будто они шли по садовой дорожке. Увешанные округлыми плодами ветви едва не задевали щек, со всех сторон веяло сладкими запахами невидимых в темноте цветов. Пройдя шагов пятьдесят, Уильям и его церберы оказались перед изящной каменной лестницей. Трепещущее в ночном ветерке пламя факела выхватило из темноты дверь. Харта провели по лестнице и втолкнули внутрь каменного здания. Сами надсмотрщики остались снаружи. Прямо у дверей со свечей в руке его ждал отец Дамиан, на этот раз облаченный в рясу, а не в щегольский костюм испанского дворянина. — Что, святой отец, порастеряли перышки? — спросил у него Харт и усмехнулся. Ему было страшно, но, как говаривал Веселый Дик, смех побеждает страх. Молодой человек решил последовать этой мудрости. — Сэр Уильям, — смущенно пробормотал юный падре и отчего-то покраснел. — Я за него, — саркастически буркнул Харт. — Но лучше бы это был не я. — Пойдемте, я провожу вас. — Прелат засеменил впереди, вызывая у Харта желание со всей силы врезать ему по затылку. Но, понимая бессмысленность этого жеста, Харт воздержался от подобного удовольствия. Они миновали небольшую галерею и оказались в просторной комнате, где за столом, заваленном книгами и бумагами, закинув ногу на ногу, восседал дон Фернандо Диас, он же профос Ордена иезуитов отец Франциск. Харт с порога отвесил ему шутовской поклон. — Я мог бы и изящнее, — добавил он, — но ваши коллеги отобрали у меня шляпу. — Не паясничайте, Харт. Или вы набрались этих отвратительных манер у своего покойного друга? — на смуглом лице профоса мелькнула жестокая усмешка. Харт выпрямился и стиснул кулаки. — Лучше быть мертвым львом, чем живой собакой, дон Фернандо. — А вот это мы сейчас и проверим, мой юный друг. Профос Ордена иезуитов поднялся со стула и подошел к молодому человеку. Так близко Харт видел его впервые. Испанец оказался почти на полголовы выше англичанина. — Вы, я погляжу, прочно встали на дурную дорожку разбоя. — Этот путь теснее вашего*["280]. Вы-то уж широкой дорогой шагаете в преисподнюю, святой отец. — Заткнись, щенок! — испанец замахнулся и влепил Харту пощечину. Голова юноши мотнулась к плечу, и из разбитой губы потекла кровь. За спиной Харт услышал судорожный вздох, полный ужаса. — Это вы там стонете, отец Дамиан? — профос обошел вокруг Харта и оказался у того за спиной. — А что вы здесь вообще делаете? Разве вы не должны ждать моих приказаний у себя в комнате? — Да, конечно, ваше высокопреподобие, но я полагал, что мои обязанности секретаря… — Хватит лепетать, Дамиан. Ступайте. Если вы мне понадобитесь, я позвоню. — Да, конечно, но… — Ступайте! — рявкнул профос, выходя из себя, и бедного монаха как ветром сдуло. — Ну что, Харт, — произнес профос, возвращаясь на свое место, — вы, надеюсь, поняли, что вы полностью у меня в руках? Здесь на много сотен миль вокруг нет ни одного европейца, вокруг только верные мне братья Ордена и индейцы, готовые умереть за меня по первому моему сигналу. Так что советую говорить честно. Харт утер тыльной стороной ладони рот. Губа распухла и болела. — Итак, юноша, продолжим. Правильно ли я понял, что после смерти этого мерзавца Кроуфорда у вас на руках оказалась настоящая карта Уолтера Рэли, и на ней указано место, где он спрятал сокровища? Уильям ненавидяще смотрел на испанца и молчал. — Не советую запираться, юноша. Ваше положение безнадежно, и на вашем месте я бы откровенно исповедовался в грехах священнику и получил бы их отпущение и благословение от матери-Церкви. — Я сам решу, когда и кому мне исповедоваться, дон Фернандо, — холодно ответил Уильям. — А вот про карту я вам ничего не скажу. — Ну и дурак! — профос поднялся со стула и сделал несколько шагов. — Как ты думаешь, если бы я не знал, что сокровища здесь, где-то поблизости, в джунглях, зачем бы я здесь оказался? За тобой следили, Харт, и то, что ты появился в землях, принадлежащих испанской короне, рискуя головой, лишний раз доказывает мою правоту. Я и без тебя знаю, где сокровища, ведь теперь у меня есть кое-что получше старого куска бумаги. — Уж не обладаете ли вы даром ясновидения? Или, может быть, научились отыскивать клады при помощи орехового прутика? — съязвил Харт. — Не зли меня, глупец. Здесь я царь и бог, и одного моего слова достаточно, чтобы тебя поджарили на железной решетке или посадили на бамбуковый кол. А еще могу отдать тебя соседним племенам, и они с аппетитом распробуют тебя на ужин. Так что советую быть повежливее. — А если вы и так все знаете, зачем вам карта? — Чтобы лишний раз удостовериться. Лишний раз никогда не помешает. — Я ничем вам не могу помочь, дон Фернандо. Ваши люди тщательно обыскали меня, как только взяли в плен, и при мне не было карты. — Тогда у кого она? — У тех, до кого вам все равно не добраться. — А может, ты вообще уничтожил карту? Это было бы самым разумным на твоем месте, юноша. Запомнил хорошенько — и твоя жизнь становится дороже золота. — Может, и так, — сказал Харт и улыбнулся как можно загадочнее. В голове его забрезжил план. Что ж, если профос хочет, Харт заведет его в эту ловушку. — Значит, карта была? — отец Франциск подскочил к Уильяму и с силой схватил его за плечи. — Не сверлите меня взглядом, на моем лбу точно ничего не написано. — Дрянь, если бы я не был уверен, что ты в одиночку решил добраться до золота, я бы прикончил тебя на месте! «Каждый по своей мерке меряет», — подумал Харт про себя, а вслух сказал: — Вы сами обо всем догадались, дон Фернандо, или как вас там. Я действительно сделал так, как вы сказали. И я покажу вам, где сокровища, в обмен на кое-что. — А, гаденыш, ты торгуешься! Значит, я тысячу раз был прав! Но разве тебе мало жизни, которую я подарю тебе? — Просто жить не так уж и весело, падре, вам ли не знать. К просто жизни мне бы хотелось добавить еще немножко денег и… — И? — профос внезапно с интересом посмотрел на юношу. Кажется, этот английский щенок не так прост, как ему вначале показалось. Надо же, и карту уничтожил, и за сокровищами отправился. Хм, возможно, стоит с ним договориться… Неизвестно, в разуме ли индианка, не внушающая ничего, кроме отвращения и ненависти. А тут все-таки какие-то гарантии… Нет, лишний шанс не повредит. — И? — вслух снова повторил профос. — Мне нужна леди Бертрам. — Что?! Да ты в своем уме, щенок?! — Это уж вам решать. Но если вы меня убьете, то не узнаете, где сокровища. А вам, лицу духовному, да еще и при сокровищах, эта женщина ни к чему. Вы себе найдете попокладистей и помоложе. — Уильям шел напролом, решив рискнуть. В конце концов, это даже весело! — М-да. Профос повернулся к юноше спиной, чтобы тот не видел его лица, на котором попеременно отражалась целая буря противоречивых чувств. Ярость, ненависть, неутоленная страсть, алчность и гордость попеременно сменяли друг друга. Так во время бури бешеный ветер несет по небу облака и рвет их в клочья. Повисло тягостное молчание. Харт гадал, уж не переборщил ли он. Наконец испанец протянул руку к шелковому шнуру и дернул за него. Через минуту на пороге возник запыхавшийся отец Дамиан. — Пусть его отведут обратно. И потом зайдите ко мне. Отец Дамиан, пряча лицо от пленника, подхватил свечу и засеменил по уже знакомой Харту галерее. Тем же путем и с теми же предосторожностями Уильяма доставили обратно в темницу, не забыв наградить напоследок прощальным пинком в зад.* * *
Отосланный в келью своим патроном, отец Дамиан изменил приказу и повернул по коридору не направо, а налево. Пройдя сквозь анфиладу погруженных в темноту комнат, он оказался в левом крыле дома, освещенном гораздо лучше, чем правое, поскольку именно там разместились прибывшие накануне гости: француз со своей свитой, привезший от губернатора Тринидада дона Фиделя рекомендательные письма. Рауль-Эдмон-Огюст Феро де Кастиньяк, французский дворянин, прибыл в редукцию с богатыми пожертвованиями на богоугодное дело, опередив дона Фернандо де Сабанеда, профоса и главу миссии, всего на сутки. Щедрость де Кастиньяка не пропала втуне — отцы-иезуиты немедленно исполнились к нему доверия и высказывали всяческое уважение, а отец Марк, архивариус, даже показал ему карты протоков, составленные монахами для собственного пользования. Месье Рауль рассеянно проглядел карты, поинтересовался, можно ли приобрести неподалеку от миссии плодородные земли и распространился на тему постройки кафедрального собора в честь своего небесного покровителя святого Христофора, изображаемого по обыкновению с песьей головой. Отец-наместник, управляющий всеми многотрудными делами огромной редукции, возрадовался, ибо всем известно, что этот великий святой был также покровителем Христофора Колумба, благодаря которому Испанская корона распространила свое влияние на весь мир, и к тому же весьма почитаем им, настоятелем, лично. Взволнованный столь приятной беседой отец-настоятель немедленно призвал к себе брата-келаря и велел разместить дорогого гостя со всеми удобствами, что и было незамедлительно исполнено. Отец Дамиан прослышал о визите французского дворянина от этого самого келаря, которому добрый месье презентовал бутылочку отличнейшего церковного вина, привезенного им аж из самой Франции. Чрезвычайно довольный келарь зазвал брата Домиана к себе и, потчуя его благородным напитком, битых два часа распространялся о всех новостях, почерпнутых им от любезного гостя. Отец Дамиан, как нельзя заинтригованный, пренебрегая своим обязанностями секретаря, решил хоть одним глазком взглянуть на европейца, произведшего своим появлением в глухом углу Новой Гвианы столь оглушительный фурор. Все благочестивые да и не очень христиане помнят, что любопытство принадлежит к семи смертным грехам, и диавол, не поборов подвижника чревоугодием или блудом, бежав от его смирения и целомудрия, прибегает к простому и испытанному средству — страсти к новостям. Вот и отец Дамиан, не сумев вовремя разоблачить в себе этот пагубнейший порок, пал его жертвой. Он осторожно постучался в покои месье Рауля и, услышав: «Войдите», застенчиво скользнул в дверь. Зачем он это сделал, и какая неведомая сила толкнула его на этот вопиющий поступок, противный уставу Ордена, он так и не смог себе объяснить. Дворянин полулежал в кресле, закинув ноги в чулках со стрелками на стол, и курил трубку. Солнце светило ему в спину и, соответственно, прямо в глаза отцу Дамиану, и именно этот факт сыграл роковую роль в судьбе юного падре. Подслеповато щурясь, отец Дамиан подошел ближе и, краснея, произнес: — Брат Джованни, келарь, отзывался о вас столь почтительно, что я, смиреннейший отец Дамиан как секретарь профоса Ордена, его высокопреподобия отца Франциска, не мог не засвидетельствовать вам свое почтение. Едва он закончил, как француз опустил ноги со стола, нащупал туфли и быстренько нахлобучил парик. — Весьма рад, падре — сказал он по-испански, коверкая слова на французский манер. — Весьма рад. Благословите меня. И мужчина почтительно склонил голову перед священником. Оробевший отец Дамиан не ожидал такого благочестия прямо с порога и механически осенил крестом надушенный парик. Мужчина поднял голову, и глаза их встретились. — Ой! — тихо сказал отец Дамиан. — Тс-сс! — ответил ему месье и приложил украшенный огромным изумрудом палец к губам. В ту же секунду монах ощутил в левом боку болезненный укол. — Тихо, падре, или мне придется вас убить! — Не надо меня убивать, — горячо зашептал отец Дамиан, — я никому не скажу! Я очень рад, что вы живы! А еще у нас в плену ваш друг Уильям Харт! — А вот с этого момента поподробнее, — произнес мужчина, убирая кинжал и беря священника под руку. Именно об этом разговоре вспоминал отец Дамиан, семеня по галерее к покоям месье Рауля, чтобы передать ему самые последние новости о допросе пленного англичанина.Глава 14 Засада. Побег
Новая Гвиана
Едва за тюремщиками захлопнулись двери, как д’Амбулен быстро подсел к Харту, потирающему ушибленное место. — Ну как? — спросил он, заглядывая Харту в лицо снизу вверх. — А никак, — ответил Харт. — Кроме пинка в зад и разбитой физиономии — в целом ничего интересного. — Тебя допрашивали? — незаметно француз сменил обычное свое обращение «вы» на простое «ты», как бы претендующее на некоторую близость в столь стесненных обстоятельствах, которые, как полагают философы, уравнивают королей с бродягами. — Представляешь, да! — Харт тоже механически перешел на «ты». Отчего-то с каждой минутой Уильям чувствовал, как его переполняет не то глухое раздражение по отношению к назойливому сокамернику, то ли не раз подмеченное им у Кроуфорда издевательско-отстраненное отношение как к происходящему, так и к своим уязвленным чувствам. Кровь в его жилах кипела, и ему хотелось если не сорвать зло на первом попавшемся, то уж точно что-то делать, а не сидеть как рождественский гусь в садке. — И что ты им сказал? Кто, кстати, тебя допрашивал? — Твой приятель, Робер. Падре Франциск, правда разнаряженный, как испанский петух. Видать, светское платье пришлось ему на Эспаньоле по вкусу. — Он мне не приятель, — резко ответил д’Амбулен, но в следующий момент сменил тон, — так что ты ему ответил? — Ответил, что мне нужна леди Бертрам, живая и невредимая. И только тогда я буду с ним разговаривать. Ответил, что карта уничтожена, и дорогу к сокровищам теперь знаю только я. — Уильям сам не знал, зачем он все это говорит д’Амбулену, которому все равно не доверял в глубине сердца, но остановиться уже не мог, пытаясь хотя бы сдерживать ненависть, кипевшую у него в сердце. — Так что падре придется меня поберечь. — А что дон… то есть отец Франциск? — А он вдруг начал плести, что у него тоже есть свои источники и что вроде как ему не так уж нужна карта, и что он хочет просто подстраховаться. — А потом? — Что потом? Я послал его к чертям собачьим, а он дал мне в зубы. Вот и конец аудиенции. — Харт, но это ведь наш шанс! — Шанс на что? И почему это уже «наш»? — Ну, в смысле ваш, то есть твой и леди Бертрам. Тебе нужно согласиться показать ему дорогу к кладу, и он не только отпустит тебя и эту, по сути, ничтожную особу, но и, ручаюсь, щедро наградит тебя! — Ой, что-то сомневаюсь я в его добродетелях, — пробормотал Харт и ойкнул, неосторожно облокотившись на бедро, на котором расплывался огромный синяк. Губы его распухли, и он по дурацкой манере, свойственной всем, кто когда-либо что-то разбивал, то и дело трогал ее то языком, то пальцами. — Тогда тебе надо бежать, Харт! Он не оставит тебя в покое, пока не узнает все, что ему надо. Нельзя медлить ни минуты! Если ты не поможешь ему, он тебя просто уничтожит! — Я, конечно, не против бежать, — задумчиво проговорил Уильям, стараясь устроиться на жесткой циновке так, чтобы больной бок не беспокоил его, — но, увы, Робер, не вижу к этому ни единой возможности. К тому же с чего-то ты так воодушевился? Это ведь всегда было моим амплуа, разве не так? — при этих словах Харт испытующе глянул в глаза д’Амбулену. Тот смутился, но взгляда не отвел. — Просто я очень хочу помочь тебе, Харт. Да и своя шкура мне тоже дорога. После тебя ведь примутся за меня, не так ли? — Это уже ближе к истине, — усмехнулся Харт. — И как, позволь полюбопытствовать, ты собираешься отсюда бежать? — Мы, Уильям, мы собираемся бежать. У меня, Харт, есть план! — Попахивает прожектерством. Нет, Робер, мы с тобой как-то стремительно меняемся ролями: ты безумствуешь как молокосос, а я как муж в летах увещеваю тебя быть осмотрительней. Все это пустые мечты, Робер, и глупое прожектерство. Я здесь уже третью неделю и не увидел ни малейшего шанса. Как ты за день умудрился разглядеть его? — Если ты заметил, Харт, я-то не склонен к пустым мечтаниям. Когда я говорю, что мы убежим, значит, мы убежим. Но если, конечно, ты предпочитаешь и дальше гнить в этой норе и питаться кукурузной похлебкой… — Мне нравится это не больше, чем тебе! — оборвал его Харт. Он был уязвлен, хотя старался не показывать этого. — Но бежать без плана, без подготовки, без знания местности, без оружия наконец… — У нас есть оружие, — спокойно сказал д’Амбулен. Уильям вскинул голову: он уже и забыл, как это здорово, держать в руках прохладную сталь. Мачете не в счет, этот грубый широкий нож с деревянной рукоятью у них отбирали сразу же, как только заканчивались работы на плантации. Но откуда у избитого и беспомощного пленника может взяться оружие? Этот вопрос Уильям и задал д’Амбулену. — Не беспокойся, я об этом позаботился, — ответил тот. — При мне всегда стилет, спрятанный в специальном кармане голенища. Когда меня схватили, ни у кого не возникло мысли отобрать у меня сапоги. Отобрали шпагу, пистолеты и успокоились. Но стилет в умелой руке — не менее грозное оружие. Я дам тебе его. Он остер, как бритва. — Но… — растерялся Уильям. — Ты хочешь сказать, что у ворот слишком много стражников? — оживился д’Амбулен. — Уверен, что к полуночи все они будут пьяны. Ты же видел, сколько гостей пожаловало. В честь праздника им наверняка выдали вино. Неожиданность и темнота будут работать на нас. — Предположим, — задумавшись, мрачно ответил Уильям. — Но что потом? Я, например, даже не знаю, в какую сторону бежать. Мы очутимся ночью в непроходимом лесу без воды и пропитания. А главное, одним стилетом с индейцами, которых отправят за нами в погоню, мы не справимся. — Уильям, я тебя не узнаю! — с разочарованием воскликнул доктор-иезуит. — Ты мне всегда казался таким бесстрашным и решительным… Неужели неудача и плен сломили твой дух?! — Не надо путать решимость с безрассудством, а силу духа — с бахвальством! О, вдруг Харт сообразил, что повторяет д’Амбулену то, что однажды пытался донести до него сэр Фрэнсис на борту «Головы Медузы» и что никак не хотело укладываться в его голове до тех пор, пока могучий кулак Кроуфорда не впечатал эту простую истину ему в затылок. Молодой человек грустно улыбнулся. Мудрость приходит только с опытом. — Перестать быть дураком никогда не поздно, — продолжил он вслух. — Но чтобы ты не думал, будто я струсил, то вот мое последнее слово: я согласен на побег. Но только после того, как мы придумаем, как его осуществить. — Нет, Уильям, нет, никаких отсрочек! Бежать надо прямо сейчас — второго такого шанса не будет. Все редукция взбудоражена приездом отца Франциска, никому нет до нас дела. Если мы сумеем убить часового и выбраться, нас не схватят, ручаюсь за это! — д’Амбулен стукнул кулаком по колену. — Пока у нас есть время, я расскажу немного о своих злоключениях, и ты поймешь, откуда у меня такая уверенность… Не успел д’Амбулен закончить фразу, как за стеной их темницы послышался приглушенный шум, стон и звук падения тела. Пленники замолчали и не дыша уставились на дверь. Через секунду она распахнулась, и на пороге возник мужчина, лицо которого было до самых глаз повязано платком. — Харт, вы здесь? — громким шепотом спросил незнакомец. — Да, а что? — не успевший опомниться от потрясения Уильям не мог придумать ничего лучше подобного ответа. — Давай быстрей! Бежим отсюда! — Но со мной мой друг! — Господи, когда успел… — пробормотал незнакомец, хватая его сильной рукой за предплечье и помогая подняться, — …у некоторых приятели заводятся как вши. А ты чего сидишь? — обратился он к растерянному д’Амбулену, замершему у стены. — А ну-ка вставай и бежим! Второй рукой он дернул француза и, подталкивая Харта к выходу, почти выволок Робера наружу. В полной темноте к ним подскочило еще несколько человек, и они едва не на руках потащили их за хижину, в сторону резиденции профоса. — Стойте, туда нельзя! — горячо зашептал Уильям. — Там дом профоса! — Туда-то нам и надо! — тоже шепотом ответил незнакомец. — Там-то нас не будут искать! — А как же Робер? — взволновался Харт. — A-а, не тот ли это лекаришка? — в голосе незнакомца прозвучала такая ненависть, что Харт испугался. — Тогда я, пожалуй, приму меры предосторожности! Нечаянный спаситель отпустил Харта и, обернувшись к Амбулену, которого волокли под руки два дюжих мужчины, вытащил из своего кармана грязный носовой платок, скомкал его и, не обращая внимания на возражения француза, затолкал прямо ему в рот. — Так-то лучше, — пробормотал невежливый герой и махнул рукой своим спутникам, — тихо, ребята, давайте за мной! За пару минут они бесшумно пересекли площадь, отделяющую темницу от сада главы иезуитской миссии и, открыв оказавшуюся к удивлению Харта незапертой калитку, вбежали внутрь. Пробежав по усыпанной гравием дорожке, они обогнули дом, некоторые окна которого были освещены, и двинулись дальше по узкой утоптанной тропинке, ведущей прямо к лесу. Когда от желанной свободы их отделяло всего несколько ярдов, они услышали за спинами топот шагов. У Харта мороз прошел по коже. Сердце в груди бешено застучало, во рту пересохло. Неужели их побег замечен, и сейчас… — Постойте, подождите меня, — запыхавшись, еле слышно кричал бегущий к ним человек в рясе. В руке он держал небольшой узелок. — Ждем, ждем, — тихо ответил мужчина, руководивший сим опасным предприятием. Уильям выдохнул. Кровь прихлынула к его лицу, и он судорожно вдохнул в себя теплый влажный воздух. Через мгновение они уже были в лесу. Присоединившийся к ним человек покопался в бездонных карманах, и до ушей Харта донесся слабый скрежет металла: калитка в стене, отделявшей редукцию от леса, была заперта. Теперь их преследователям, чтобы догнать их, пришлось бы обогнуть все поселение или сломать обитую железом дверь. Как только они оказались на свободе, незнакомец зажег фонарь, который был в руках у одного из мужчин. При скудном свете мятущегося пламени, щуря глаза, отвыкшие от света, Харт попытался рассмотреть лица спасителей. Все они были ему неизвестны. — Кому я могу выразить благодарность за наше нечаянное спасение? — спросил Уильям, вытирая слезящиеся глаза. Тогда предводитель устало стянул с лица платок, и Харт увидел Кроуфорда. Издав короткий стон, Харт схватился за грудь и без сил рухнул на руки спутников. В то же мгновение д’Амбулен издал глухой, полный отчаяния вскрик.Глава 15 На полпути к богатству
Новая Гвиана. Дельта Ориноко — устье Карони
Водный путь по протокам, составляющим дельту Ориноко, был бы для путешественников совершенно несносен, если бы не Ван Дер Фельд. Он оказался незаменимым гидом, способным предусмотреть все возможные трудности и неприятности. Ну, или почти все. Его предупредительность, такт и стремление уладить все только еще готовые назреть конфликты превратили нелегкую дорогу по порожистым речным рукавам и заболоченной сельве в увеселительную прогулку. Элейна из уютной лодки с балдахином в наслаждении созерцала диковинные цветы и невиданных птиц. Абрабанель в предвкушении скорого достижения заветной цели пребывал в самом веселом расположении духа. Ришери, дабы не портить себе кровь понапрасну, почти все время молчал, удовлетворяясь тем, что его, по крайней мере, никто не трогает, и терпеливо ожидал, когда они, наконец, доберутся до иезуитской миссии. Ван Дер Фельду просто нравилась роль заботливого начальника экспедиции. Словом, путешествием были довольны все, кроме Черного Пастора, чьи попытки возглавить экспедицию натолкнулись на вежливое, но твердое сопротивление голландцев. В Сан-Хосе «Месть» загнали в док, как и «Черную стрелу». В русло Ориноко все равно нельзя было бы войти на фрегате, да и повреждения судна в результате морского боя оказались более значительными, чем казалось вначале. Из команды пиратов было выбрано лишь несколько человек для того, чтобы нести на обратном пути сокровища. Остальных по приказу Ван Дер Фельда оставили на суше: кого присматривать за ремонтом, а кого болтаться по тавернам. Пираты остались крайне недовольны этим, справедливо полагая, что могут так лишиться своей доли. А уж по сравнению с их капитаном самая черная грозовая туча показалась бы светлым облачком! Подумать только, все попытки его, Черного Пастора, навести порядок и взять управление ситуацией в свои руки оканчивались неудачей! Абрабанель и Ван Дер Фельд жестко контролировали каждый шаг Билла и старательно ограждали от его влияния оставшихся пиратов, но в своих попытках подчинить Билла они перегнули палку. Все время с момента прибытия на Тринидад Пастора поддерживала лишь мысль, что он один знает о местонахождении сокровищ и является для остальных даже не проводником, а истинной «живой картой». И это все сильнее подогревало в пирате желание, покинув спутников, отправиться разыскивать клад в одиночку. Вот именно! С какой стати он должен делиться золотом с кем бы то ни было?! Эти чертовы купцы не раз обводили его вокруг пальца, как щенка, они наверняка попытаются и на этот раз: обманут и улизнут с сокровищами, а не ровен час, еще и самого Билла прикончат. Перерезать бы их всех к чертовой матери — и стариков, и девчонку, и французишку-лягушатника заодно — кто в джунглях станет доискиваться? Только вот бесшумно не удастся. Надо бежать. Темно, конечно, хоть глаз выколи, но… Все доводы рассудка отступили перед желанием досадить проклятым жидам и получить сокровища. Пастор уже словно наяву видел сундуки с золотом. Ночью, когда члены маленькой экспедиции крепко заснули под тревожные звуки тропического леса, Черный Билли, захватив оружие и мешок с провиантом, стараясь ступать неслышно, покинул лагерь. Но что-то странное творилось в душе пирата. Его охватывал панический, беспричинный, какой-то запредельный страх. Пастор с трудом удерживался от необъяснимого желания побежать сломя голову и помимо воли озирался по сторонам, как затравленный заяц, хотя ночь в сельве выдалась такая непроницаемо темная, что он едва различал собственную руку, поднесенную к лицу. Пройдя несколько десятков шагов в кромешной тьме и чудом не угодив в болото, Черный Билли подумал, что устраивать побег ночью было не самой лучшей идеей. Трезвость рассудка начала понемногу возвращаться к нему, но жажда добыть сокровища и уверенность в том, что найти место лагеря теперь столь же трудно, как и продолжать путь, гнали дальше. Внезапно Пастору почудилось, что откуда-то из-за деревьев, потихоньку разгораясь, льется необычный свет: мягкий и словно прозрачный. Пират, осторожно ступая, ощупью, двинулся в ту сторону. Свечение понемногу усиливалось, его отблески проникали сквозь густые темно-зеленые кроны к небу, а граница между этим светом и тьмой тропической ночи казалась очень четкой. Билл достиг этого странного рубежа в несколько минут и осторожно раздвинул ветви, скрывавшие источник непонятного сияния. На раскинувшейся перед ним поляне повсюду высились невысокие круглые постаменты из резного камня. На каждом из них лежала небольшая груда драгоценных камней, испускающих разноцветные лучи. Эти лучи образовывали в воздухе сложный узор, напоминающий карту Рэли, который, как картинка из волшебного фонаря, отражался на сплошной стене из переплетенных лианами пальм. У Черного Билла перехватило дыхание, он даже не сразу осознал, что перед его глазами — сокровища. На земле между постаментами раскинулась прихотливая сеть, тоже образованная световыми лучами. Внезапно рядом послышался странный смешок. Билли обернулся в темноту. В двух шагах от него что-то хрустнуло, метнулся в сторону кто-то невидимый. Объятый страхом и бешенством пират выхватил из-за пояса пистолет и, держа его взведенным перед собой, выскочил на поляну. Смешок повторился. Билл замотал головой, пытаясь определить, откуда идет звук, который, казалось, раздавался со всех сторон одновременно. Внезапно лучи, исходящие от камней на вершинах постаментов, пришли в движение, замысловатый узор, образованный ими, изменился. У пирата зарябило в глазах. Картинка, сотканная из света на непроницаемой зеленой стене приняла очертания человека, индианки На-Чан-Чель. — Проклятая ведьма! — выругался Билли. — Твои, что ли, штучки?! — Выбирай выражения, ты, презренный белый, продающий свою душу за горсть золота и разноцветных камней! — послышался сверху повелительный голос. Световые лучи снова закрутились, задвигались, замелькали, и их сочетание приняло обличье онзы. Снизу, из земли, начал подниматься золотистый туман, окутывая каменные основания и растворяя в себе золото. Пират метнулся к ближайшему постаменту, чтобы забрать сияющие самоцветы, но его пальцы прошли сквозь воздух. На-Чан-Чель снова захохотала. Черный Пастор выругался, сделал еще пару шагов, оступился, почувствовал, что проваливается в зловонную жижу, попробовал схватиться за каменный постамент, но он, как и лежащие на нем драгоценные камни, оказался миражом. В отчаянии пират звал на помощь, тщетно пытаясь выбраться, но опоры под ногами не было, и вскоре знаменитый пират бесследно сгинул в трясине.* * *
Душераздирающие предсмертные вопли Черного Билла разбудили многочисленных зверей и птиц предутреннего леса. Зашелестели деревья, закричали полусонные попугаи, испуганные обезьяны завизжали где-то высоко в ветвях. От шума проснулись и путешественники. Первой стряхнула с себя ночное оцепенение Элейна. Эхом перекатывающийся по сельве крик Черного Пастора испугал ее так, что девушка метнулась под защиту отца: — Боже мой, кто так ужасно кричит?.. — Какие-нибудь ночные звери или птицы, — невнятно пробормотал дремавший у костра Ришери. — Нет, нет, месье, разве вы не слышите, что это человеческий голос! И он звал на помощь! — Это маловероятно, сударыня, здесь слишком глухие места. Крик повторился, затихая. — Вот, вот! — оживилась Элейна. — Слышите? — Да, похоже на человеческий крик. Но это еще ничего не значит. В джунглях столько птиц и зверей, и они издают такие причудливые звуки, мадемуазель Абрабанель. Здешние джунгли — настоящий край мира. В дебрях леса может многое померещиться, особенно если устал и у тебя натянуты нервы. Таинственные места еще есть на этом свете — подобно тому, как есть они в биографии любого человека, если угодно. Жить без проклятых мест довольно скучно, мадемуазель, и мы сами ищем развлечений, способных пощекотать нам нервы. — Какой вы ужасный циник, капитан! — укоризненно покачала головой Элейна. — Вместо того, чтобы пойти и постараться помочь… — Увольте, мадемуазель. В этой проклятой сельве, ночью, в темноте, рискуя на каждом шагу оступиться и утонуть в болоте?! Нет. Не раньше, чем рассветет. — Но он же погибнет! — Он погибнет один, а вот если погибнут и те, кто попытается прийти к нему на помощь… — Вы неблагородны, капитан. — Я благоразумен, сударыня. Если я или кто-либо другой послушает вас, будет просто больше жертв. Вопль прозвучал еще раз, перекатился волной по лесу, пугая спящих птиц и окончательно затих, чтобы никогда уже не повториться. — А ведь это был голос нашего капитана, лопни моя селезенка! — вдруг произнес один из пиратов с «Мести». — Не может быть! — Давайте проверим! — Капитан, капитан! — Капитан Билл! — загалдели наперебой пираты, окончательно перебудив весь лагерь. Но Черный Пастор не отзывался. Вскоре стало очевидно, что он действительно исчез. Отправляться на поиски до рассвета никто не решился, но сон уже не возвращался к людям, и путешественники остаток ночи провели не сомкнув глаз у костра, гадая, куда мог подеваться Билли. После восхода солнца, тщательно обыскав лагерь и его окрестности, члены маленькой экспедиции обнаружили несомненные следы побега. Пираты с «Мести» до вечера прочесывали лес вокруг, справедливо полагая, что в непроглядной тьме Пастор не мог уйти далеко, но все было тщетно. — А ведь мы могли ему помочь, если бы сразу… — вздохнула Элейна. Она даже всхлипнула тихонько: обладая добрым сердцем, девушка жалела Билли несмотря ни на что. — Вряд ли, дорогая, — возразил ей Ван Дер Фельд. — Капитан де Ришери справедливо отметил, что в такой темноте это привело бы к напрасным лишним жертвам. — Но что же теперь делать? Куда идти? Карты-то у нас нет, — вдруг встрепенулась Элейна, впервые осознав, какие последствия для всех несет исчезновение Черного Билла. Со всех сторон послышались досадующие или разъяренные восклицания. Больше других разочарован был, конечно, Абрабанель. Он рвал на себе волосы и выкрикивал такие страшные еврейские ругательства, что даже не понимавшие этого языка без труда догадывались о содержании слов по их экспрессии. — Что же нам делать? Неужели возвращаться к побережью? — Это столь же рискованно, как и продвижение дальше вглубь джунглей, дитя мое, — охладил пыл девушки старый коадьютор. — Даже для того, чтобы вернуться к началу нашего маршрута, необходимо иметь проводника. Пока с нами был… э-э… Черный Билл, можно было не нанимать никого из местных, но теперь… — Что же вы предлагаете, дорогой Давид? Двинуться по сельве куда глаза глядят, пока не отыщем какого-нибудь индейца, способного стать проводником? — Очевидно, Йозеф, что другого пути просто нет. А пока гидом послужишь ты — ведь ты уже бывал в этих местах. — М-м-м… — пробормотал Ван Дер Фельд. — Боюсь, что моей памяти недостаточно, чтобы… — Прошу прощения, господа, — перебил его доселе молчавший Ришери, — но осмелюсь заметить, что одна карта у нас все-таки есть. Точнее, у меня лично. Это карта, обозначающая путь в иезуитскую миссию: ее вручил мне губернатор Тринидада вместе с рекомендательными письмами к главе миссии. Благодаря этим бумагам я рассчитываю исполнить данный мне приказ арестовать преступника, скрывающегося под именем Робера д’Амбулена. Судя по всему, редукция находится не более чем в сутках пути отсюда. Думаю, что, добравшись до миссии, вы сможете найти, по крайней мере, хороших проводников, которые выведут вас обратно к устью Ориноко. Стон бессильной досады вырвался из груди Абрабанеля. В который раз лишиться надежды найти сокровища!.. — Поскольку ничего другого нам не остается, — с обворожительной улыбкой ответила за всех Элейна, мгновенно оценившая обстановку и взявшая себя в руки, — то мы с благодарностью принимаем приглашение господина де Ришери. Она боялась, что француз может начать торговаться, чтобы отомстить за то унизительное положение, в котором он пребывал с момента морского сражения. Однако де Ришери лишь кивнул, не заявляя ни о каких условиях. К Абрабанелю постепенно вернулась способность мыслить здраво. Он вспомнил, с какой поспешностью покидала Тортугу иезуитская шхуна, и решил, что в случае проникновения в редукцию он сможет разузнать, почему святые отцы двинулись в эти глухие дебри так внезапно. Если члены Ордена знают дорогу к сокровищам, а кто сказал, что этого не может быть, то наверняка удастся незаметно отправиться за ними следом. Он рассыпался в благодарностях в адрес Ришери. Так как день клонился к вечеру, выступление в редукцию было отложено до следующего дня. Но утро принесло им новый, неожиданный поворот. Проплыв пару миль по давешней протоке, путешественники заметили вдалеке поднимающийся вверх дымок. — На селение не похоже. В этой части сельвы их просто не может быть! — категорически заявил Ван Дер Фельд. Однако близкое присутствие человека было несомненным. Подойдя на максимально близкое расстояние к источнику дымка, экспедиция бросила якорь у берега и решительно направилась к странным людям, расположившимся биваком прямо посреди непроходимого, местами заболоченного леса. Давид Малатеста Абрабанель сам первым полез на берег…* * *
Лагерь англичан был разбит в строгом соответствии воинской дисциплине, которой так славились войска Его Величества короля Великобритании. Окруженный парусиновыми палатками, в центре возвышался шатер главнокомандующего, роль которого в этом случае исполнял сэр Фрэнсис. То, что он вернулся в него под утро, ведя за собой испанского монаха и двух оборванцев в придачу, вовсе не вдохновило Джона Смита, который немедленно решил выразить Кроуфорду возмущение его немыслимым в условиях экспедиции безрассудством. Тот еле успел распорядиться, как поступить с новоприбывшими, как был схвачен за рукав мистером Смитом, не находившим себе места во время отсутствия своего подопечного и десятка солдат. Отведя своего предводителя в сторонку, он разразился гневной тирадой. — Надеюсь, сэр Фрэнсис, вы помните, что вам были даны инструкции обнажить оружие лишь на той территории, которая не принадлежит Испании, и только против дикарей, не признавших власть Короля? — А я надеюсь, что вы, сэр, понимаете, что столкновение с испанцами было неизбежно. — Вы надеетесь, что вам все сойдет с рук, если ваш поход окажется успешным? — Я знаю, сэр, — Кроуофорд с издевательским нажимом произнес это слово, — что если экспедиция будет неудачной, министр воспользуется любым предлогом, чтобы погубить меня. Мне кажется, что история повторяется… — Тут вы правы, — ядовито отозвался мистер Смит. — Адмирал Рэли тоже сложил свою голову на плахе за вмешательства в дела испанцев. — Так или иначе, но я свой выбор сделал. — О, это-то я понимаю лучше, чем ваши туманные рассуждения о неизбежности. Обменявшись полными презрения взглядами, они раскланялись, взаимно недовольные друг другом. Мистер Смит двинулся в сторону шатра, который делил с Кроуфордом, а последний задумчиво побрел в сторону реки. Надо было срочно уходить — слишком близко они расположились к миссии. Не успел он пройти и десятка ярдов, как услышал шум в зарослях юки. Не раздумывая, Кроуфорд обнажил короткую абордажную саблю и шагнул в сторону подозрительного треска. Едва пройдя два шага, он, к своему удивлению, увидел человека, на карачках ползущего по раскисшей от близкой воды земле. Кроуфорд одним прыжком оказался возле него и ударом ноги повалил на землю. С жалобным криком человек упал набок, закрывая голову руками, застонал и тут же попытался сесть. Кроуфорд быстро приставил к его кадыку острие сабли. — Пощадите! — пискнул человек. — Я готов заплатить любые деньги! — Дьявол! Это вы! — вскричал Кроуфорд. — Мое почтение, господин Абрабанель! — в следующую минуту саркастически пропел Кроуфорд, приподнимая шляпу. — Какая встреча! На ловца, как говорится, и зверь бежит! Согласитесь, это настоящее испытание — вот так внезапно оказаться нос к носу с человеком, гибель которого немного вас обрадовала. К чести коадьютора надо сказать, что душевного равновесия он не утратил или, по крайней мере, не подал виду. — Уж не вы ли считаете себя ловцом, мистер как вас там? — сварливо ответил банкир, потирая ушибленный бок и не отвечая на приветствие, так как, по-видимому, не вполне узнал стоящего перед ним человека. — А вы неугомонны, папаша! В вашем возрасте пора сидеть дома у камина, а не лазить по зарослям в сельве, как дикий кабан, — с энтузиазмом высказал сэр Фрэнсис немудреную истину. — Великий Б-же! — с облегчением проговорил банкир, складывая молитвенно перепачканные ручки, унизанные кольцами. — Это вы, благородный молодой человек?! Я так счастлив видеть вас здесь! Но не могли бы вы убрать вот эту острую штуковину и помочь мне встать? От этой экспедиции у меня, кажется, разыгрался ревматизм и болят все кости… Кроуфорд захохотал и, вложив саблю в ножны, поднял старика на ноги. — Ладно, ладно, приношу извинения за неласковую встречу. В некотором роде мы теперь квиты. Только бросьте врать, что счастливы меня видеть! — проговорил, смеясь, Кроуфорд. — Вы же всегда мечтали, чтобы я провалился в преисподнюю! И я даже провалился вам на потеху. Только как вы собирались отыскать сокровища без меня, хотел бы я знать? — Вот именно поэтому я и счастлив вас видеть, — нисколько не смутившись, подхватил Абрабанель. — Признаюсь вам, новую экспедицию мы с Ван Дер Фельдом организовали, можно сказать, наугад. Разумеется, ни карты, ни проводника у нас в некотором роде и нет. Но я предполагал, что вы или еще кто-нибудь обязательно повстречаетесь нам на пути и подскажете верную дорогу. — Я понял, вы рехнулись! — воскликнул Кроуфорд. — Или по какой еще причине вы можете предполагать, что я помогу вам? Я ищу сокровища, но мне проще отдать вас на ужин местным людоедам, чем делиться с такой лисой, как вы! — Да-да, конечно, как я вас понимаю, — прокряхтел Абрабанель. — На вашем месте каждый благородный джентльмен поступил бы точно также! Но, мой любезный друг, посмотрите, что получилось: вы, судя по всему, страдаете, как и я, от этого скверного климата, мучаетесь со своими людьми от плохого пищеварения и лихорадки, так почему бы нам не мучаться с этого момента вместе? — Хотелось бы знать, кто виноват во всех этих муках? — поинтересовался Кроуфорд, почесывая заросший щетиной подбородок и нехорошо глядя на коадьютора. — О, это глубокий вопрос, и на него можно ответить по-разному. Знаете, когда я был младенцем, моя покойная матушка говорила мне, что… — Хватит, Абрабанель. Пощадите меня хоть в этом болоте, избавив от ваших разглагольствований! — вскричал Кроуфорд, перебивая банкира. — Нет, нет, сэр Фрэнсис, все винят бедных евреев… Мы и младенцев убиваем, и кровь пьем у бедных христиан, конечно, мы гонимы, и все кому не лень… Но мы и тут, можно сказать, не виноваты. Мы даже не знали, что вы живы. Мы заблудились. А тут вдруг… вы не поверите… такой страх, такой страх! Наш бедный Билли утонул в болоте, моя дочурка вот-вот заболеет, а у бедного Йозефа совсем расстроены нервы… Сэр Фрэнсис, вы благородный человек и не бросите бедных людей на произвол судьбы! — А-а!!! — вскричал Кроуфорд, сверкнув глазами. — Вы еще и Пастора за собой приволокли! И на что вы теперь рассчитываете, позвольте узнать? — На ваше благоразумие, сэр! — смиренно сказал Абрабанель. — На ваше благоразумие и снисходительность. Видите ли, Билли больше нет, он ушел в мир иной и, надеюсь, лучший, чем наш… А неподалеку от устья Ориноко наш ждет «Месть», которую я… приобрел у вашего друга, — не моргнув глазом соврал коадьютор. — И, между прочим, за кругленькую сумму… У меня есть деньги. У меня есть все для поиска сокровищ. Так давайте же объединим наши усилия во имя совместной выгоды. Кроуфорд хмыкнул и устало опустился на поваленное дерево. — Посмотрим, — туманно ответил он и тут же спросил: — А где же ваши люди, Абрабанель? — Они в лодке, готовятся к высадке, — таким печальным тоном заявил ювелир, будто плыли они по Стиксу и собирались высадиться на Асфодельские поля. — За каким дьяволом, в таком случае, вы полезли на сушу? — Не знаю, — честно признался Абрабанель. — Мы увидели дымок и решили… Мы были так напуганы, мы искали поддержки… Мы полагали, что это французы, о которых говорил сеньор Фидель… А тут вы из-за кустов, я принял вас за посланца Шеола, явившегося за мной прямо из преисподней… Кроуфорд невесело усмехнулся. — А вы не сильно ошиблись, — сказал он. — Ну что ж, дабы окончательно успокоить ваши нервы, могу только сказать, что французов не существует, у губернатора был я, и у меня пять дюжин солдат с собой. Так что, Абрабанель, мне кажется, вы поступили бы умнее, если бы незаметно проплыли мимо меня. Не успел Кроуфорд умолкнуть, как, спотыкаясь и пачкаясь в грязи, из зарослей показались спутники беспокойного коадьютора. Первым воскресшего англичанина увидел Ван Дер Фельд, сразу его узнавший. Остановившись, он в изумлении воскликнул: — Сэр, но вы же мертвы! Я видел вашу смерть своими глазами! Вы труп! — Мы знаем, что мы такое, но не знаем, чем можем стать. Ах, простите, забыл представиться по текущему регламенту: Рауль-Эдмон-Огюст Феро де Кастиньяк, французский дворянин и будущий плантатор! — изогнулся в издевательском поклоне Кроуфорд, по придворному расшаркиваясь и подметая перьями шляпы траву у своих ног. Абрабанель с досады незаметно и с чувством плюнул. Ван Дер Фельд и Ришери как два геркулесовых столба замерли с глупейшими выражениями на лицах: один справа от коадьютора, а второй — слева. Элейна радостно прижала руки к груди, улыбаясь сэру Фрэнсису. Пираты с «Мести», слыша знакомый голос, в недоумении переглядывались. — Но я вижу, что наша удивительная встреча так потрясла умы синьоров этих, что собственным глазам они не верят. Господа, что же вы так церемонны? — продолжал Кроуфорд, не убирая с лица ядовитой усмешки. — Добро пожаловать в мою пещеру! Отобедайте, чем бог послал… жаль, слуг мало здесь, а подданных нет вовсе. Ришери, наконец стряхнувший с себя оцепенение, шагнул было к мнимому соотечественнику, положив руку на эфес шпаги, но за спиной у Кроуфорда как из-под земли выросли трое солдат, возглавляемые бдительным Джоном Смитом. — Капитан, не горячитесь, — добавляя своему насмешливому тону миролюбия, предостерег Фрэнсис. — Кое для кого я сейчас столь важная птица, что сбить меня в полете вам помешают раньше, чем вы вскинете ружье… — Трус! Вас всегда кто-нибудь защищает: то женщины, то наемные головорезы. — Зато уж вы в защите не нуждаетесь, Ришери, потому что всегда нападаете первым. Если, конечно, не рассчитываете на оборону со стороны вашей жертвы. — А вам, Рэли, чем вращаться в обществе порядочных людей, следовало бы разыгрывать пьески в духе вашего любимого Шекспира. Вы поразительный лицедей. Французский аристократ и будущий плантатор Рауль де Кастиньяк, подумать только! А губернатор Тринидада так вам поверил! Бедняга! Кланяться просил и вернуть вам ваше имущество. Ну, ей-богу, напрасно вы занялись пиратским ремеслом: на сцене получили бы не только успех, но и постоянные доходы, не меньше золотого в неделю. Глядишь, к концу жизни обогатились бы не хуже, чем ваш дед. Тем более что он сокровищами так и не воспользовался, а? — Оставим это, капитан. Отягощать не будем нашу память несчастьями, которые прошли, — неожиданно миролюбиво произнес Кроуфорд, вздохнув. — Ваш общий папенька-банкир недавно высказал предложение объединить наши усилия, тем более что цели путешествия у всех, как я полагаю, совпадают. Что ж, пожалуй, я соглашусь. А на случай, если кто-нибудь захочет проявить неблагоразумие, еще раз предупреждаю тех, кто не слышал: у меня шестьдесят человек команды, и все вооружены до зубов. Кстати, месье де Ришери. За ларец премного вам благодарен: без бритвенного прибора я чувствую себя каким-то дикарем, — добавил он, возвращаясь к своему привычному шутливо-издевательскому тону. — Не стоит благодарности, — буркнул француз и, внезапно оживившись, вновь обратился к Кроуфорду: — Послушайте, вы, многоликий Янус, что это вы там болтали по поводу ловца и зверя? — А? — Я вас спрашиваю: кто тот человек возле шатра? — Там?.. А, так это ж ваш соотечественник, капитан. Иезуитский докторишка по фамилии д’Амбулен. Вы с ним, по-моему, приятели? — Не может быть! Он мне, кстати, не приятель. В отличие от вас, среди моих друзей нет мерзавцев. Но я был уверен, что он скрылся у своих покровителей. Дело в том, что я имею предписание короля арестовать его и отправить в Европу. — Послушайте, Робер, ваша шкурка, похоже, растет в цене, — крикнул Кроуфорд, оборачиваясь в сторону бледного как смерть д’Амбулена. — Кто бы мог подумать! А что он совершил, Ришери? — Выкрал завещание одного принца крови, дабы подделать его в пользу Ордена. Кроуфорд снова обернулся к доктору и воскликнул: — Ба, а я-то все ломал голову, почему ваша карьера, д’Амбулен, развивается столь извивистым путем, и пытался предугадать, чем она закончится. Но ее начало, оказывается, было таким многообещающим, что не приходится и удивляться… — Это клевета! — выкрикнул д’Амбулен в ответ и, вскочив, метнулся в сторону реки, ломая кусты и разрывая лианы, опутывающие деревья. Кроуфорд бросился было за ним, но внезапно рыжая собачка, заливаясь лаем, метнулась ему под ноги, и он едва не упал. — Проклятие, Харон! Фу! Но песик не отступал, хватая своего хозяина за ноги. Драгоценные мгновения были упущены. Дальнейшее преследование возможно и принесло бы результат, но потребовало бы сил, которые следовало поберечь. — Черт его побери! Надеюсь, он пойдет на корм крокодилам, — выругался сэр Франсис и поднял Харона на руки. — Ты, что, дурачок? — полусердито спросил он собаку, теребя ее за уши. — Зачем мешаешь? Глядя на то, как взрослый мужчина сюсюкает с рыжим четвероногим уродцем, Ришери покрутил пальцем у виска, а пираты из шайки Билли закивали головами, перешептываясь: — Глянь, ну точь-в-точь, наш Веселый Дик! — Ребята, да это точно он, только с двумя глазами! — Не, на Тортуге болтали, что Дика вздернули, а это небось его брат-близнец! — Врешь, не было отродясь у Дика братьев! Такие сволочи по одному рождаются, иначе кто бы их вытерпел, двоих-то сразу! Выслушав краем уха перебранку своих бывших товарищей, Кроуфорд поднял на них глаза. — Ну что, пагни, — сказал он картавя в манере Веселого Дика, — я вегнулся с того света, чтобы покагать вас за ваше предательство! Там мне и глаз вегнули, чтобы я газглядел вас как следует! В глазах пиратов удивление сменилось диким ужасом. — Веселый Дик! Живой! Воскрес! — вскричали они наперебой, и как один рухнули на колени, осеняя себя крестным знамением. Ничего не понимающие солдаты переглянулись, а по лицу Джона Смита скользнула бледная улыбка: — Уж не этого ли мерзавца Кроуфорда назвали именем Рэли, или мне послышалось? — пробормотал он себе под нос. Неужели… Но додумать мысль ему помешал страшный вопль, от которого заложило уши у всех присутствующих. Мужчины мгновенно схватились за шпаги, пираты вскочили с колен и выхватили абордажные сабли и мушкеты, Элейна побледнела, а собачка, вырвавшись из рук Кроуфорда, неловко шлепнулась на землю. — Полундра, свистать всех наверх! — заорал Кроуфорд, оборачиваясь к солдатам. — Господин, нам надо идти за собакой, — вдруг услышал Фрэнсис тихий голос своего нового слуги. — А, что??? — он так резко обернулся к Чилану, что едва не сбил его с ног. — Нам надо быстро бежать за собакой. Она чувствует врага. Нам надо много воинов с собой! — Что это значит? — Близко от нас индейцы, плохие индейцы. Нам надо победить их. — Лопни твоя селезенка, болван! Какие индейцы? — Вели идти за собакой, господин, так надо! — мальчишка говорил с такой уверенностью, что Кроуфорд, невольно поддаваясь ей, снова повернулся к отряду. — Ришери, Харт, пираты за мной! Мортон берите дюжину человек! Вперед! Ван Дер Фельд, вы остаетесь за старшего, как единственный вменяемый! — Вы не можете этого сделать, — вдруг раздался за его спиной бесцветный голос Джона Смита. — Вы нужны здесь живым и невредимым. — Вот и молись о моем здравии, сукин сын! — оборвал его Кроуфорд и улыбнулся. — Все. Считаю до десяти и пошли.Солдаты мгновенно разобрали оружие, пираты присоединились к ним, и вооруженный до зубов отряд бросился бежать следом за мальчишкой и скулящим от нетерпения псом.
Минут через десять беготни по лесу, перепрыгивая на ходу поваленные деревья, продираясь сквозь заросли и разрубая на бегу лианы, они вдруг услышали ритмичный грохот. Кроуфорд остановился и поднял руку. Тяжело дыша люди вслушивались в доносившееся до них нестройное пение человеческих голосов под неровные удары в барабаны. Вскоре до их ноздрей донесся запах дыма. — Они там, — Чилан кивнул головой в сторону шума. — Что будем делать? — шепотом спросил у него Кроуфорд. — Убивать, — ответил мальчик. Кроуфорд жестом подозвал к себе раскрасневшегося от быстрого бега Мортона. — Пусть твои люди рассосредоточатся и попробуют окружить этих дикарей. Судя по всему, мы наткнулись на индейскую деревню. Зарядите мушкеты, обнажите сабли, в общем, будьте готовы к абордажу. Без моей команды «к бою» не нападать. Вы будете в засаде. Я же с голландцами и моими братцами-пиратами пойду вперед.
* * *
Едва англичанин со своими людьми подкрался поближе, как ему все стало ясно. Они наткнулись на отряд охотников-индейцев, возвращающихся в свою деревню с богатой добычей. Только ловили они не зверей, а людей. В центре утоптанной площадки, очищенной от растительности, горел костер. На углях, распространяя резкий запах вареного мяса, стояло несколько обмазанных глиной корзин, по-видимому служивших дикарям кастрюлями. Неподалеку от того места, где притаились европейцы, лежали останки только что освежеванного человеческого трупа, у которого была отрубленна голова, руки и ноги по колена. Полуголый индеец старательно извлекал из брюшной полости четвертованного человека кишки и аккуратно перекладывал их на зеленые листья. Остальные дикари с копьями в руках окружили костер и размеренно притоптывали под звуки маленького барабана из выдолбленной тыквы, в который бил ладонями пожилой туземец. Кроуфорд оцепенел от ужаса и омерзения. Он чувствовал, как замерли и стоявшие подле него пираты. И дело было не в том, что кого-то убили. Бывало, угодившее в человека пушечное ядро творило дела и пострашнее, и кишки приходилось снимать аж с грот-реи, вытирая при этом с собственной физиономии разлетевшиеся мозги своего приятеля. Но то была война. А здесь как поросенка потрошили человека. — Людоеды, — прошептал Сэм. — Каннибалы, — произнес Кроуфорд одними губами. — Вот дерьмо, — беззвучно выругался Ришери. А Чилан ничего не сказал, только лениво почесал подбородок. Они застыли, не в силах пошевелиться или хотя бы отвести глаза от жуткого зрелища. Все их существо протестовало против чудовищного в своем будничном нечеловеческом спокойствии дикаря, аккуратно раскладывающего человеческие органы по листьям, как по тарелкам. Постепенно барабанный ритм все учащался, индейцы мерно поднимали правые ноги и в такт ударам притоптывали ими об землю, одновременно с этим вздымая вверх копья и воинственно потрясая ими. Они исполняли ритуальный танец охотников, благодаря своих идолов за богатую добычу. Из глоток их вырывалось пение, которое сменялось то лаем, то рычанием, то птичьими криками. Кроуфорд повернулся к компании и махнул рукой, привлекая к себе внимание. — На счет три заряжаем мушкеты, на счет двадцать выбегаем, — скомандовал он и принялся считать. — Двадцать! — шепотом крикнул он и, подняв тяжелую абордажную саблю, первым с громким кличем кинулся на поляну. Обнаженные, в одних только набедренных повязках, размалеванные черной и голубой глиной, краснокожие дьяволы оставили свои пляски и, дружно подняв копья, ринулись навстречу маленькому арьергарду. Уильям вдруг увидел прямо перед собой две квадратные физиономии, украшенные черными полосами. Две пары горящих ненавистью глаз уставились на Харта. Один из них поднес к губам маленькую трубку, но подоспевший Ришери опередил его, выстрелив из мушкета, а через мгновение Харт, сжимая в левой руке саблю, ткнул другого в живот. Пороховой дым повис в горячем воздухе, и сквозь это облако Уильям заметил, как дикарь, которому пуля попала в лицо, превратив его в кровавое месиво, упал на спину. Второй молча оседал на землю, держа руками вываливающиеся кишки. Он выкатил обезумевшие от боли глаза на Уильяма, и тот подумал, что до самой смерти не забудет выражения его лица. Ришери еще сжимал в руках разряженные пистолеты, когда еще один индеец с воинственным криком поднял над головой топорик, намереваясь разрубить противника на две половины. Это была не пустая угроза, потому что судя по лоснящимся мускулистым плечам, силищей этот дикарь обладал бычьей. Уильям даже не успел сообразить, что ему делать. Тело его само выбрало тактику боя. Прежде чем людоед успел обрушить топор на череп француза, Харт, оттолкнув капитана, вонзил дикарю саблю в грудь, и тот всей массой тела, рванувшегося вперед для нападения, рухнул на саблю, едва не сломав под своей тяжестью англичанину руку. Уильям еле успел рвануть клинок на себя. Сталь с мягким чавканьем покинула горячую плоть, и индеец рухнул на землю. Ришери отшвырнул бесполезный мушкет, который у него просто не было времени перезарядить, и выхватил из-за пояса нож. Схватка перешла в рукопашную. Ни Уильям, ни Ришери, ни Кроуфорд, отбиваясь от дикарей, уже не видели, как в схватку бросились остальные англичане и голландцы. На утоптанной поляне началась резня, в которой никто не ведал пощады. Солнце скрылось за верхушками деревьев, и люди бились в темноте. Опрокидывая обмазанные глиной корзины, расшвыривая пылающие головни, они резали друг другу глотки и падали на жирную влажную землю, щедро поливая ее своей кровью. В живых не осталось ни одного индейца. Так велики были ужас и омерзение белых при виде отвратительного пиршества, к которому так старательно готовились людоеды, что они не могли остановиться, пока хоть один дикарь стоял на ногах. Когда люди Кроуфорда остановились и опустили оружие, на усеянную мертвыми и ранеными телами поляну, стремительно опускалась ночь. Рассыпая искры, дотлевали разбросанные головни костра, пронзительно стенали раненые, где-то неподалеку заревел вышедший на охоту ягуар. Лес дружно ответил на его рык воплями, криками и завываниями. — Разожгите костер, — приказал Кроуфорд, вытирая саблю широким листом юки. — Судя по всему, нам придется здесь заночевать. — А как же Элейна и остальные? — встревоженный Харт шагнул к сэру Фрэнсису. — Там есть еще мужчины. Идти ночью по лесу с ранеными, оставляя кровавые следы — чистое безумие. На запах крови к нам сбегутся все хищники в радиусе десяти миль. А здесь, по крайней мере, есть все, что нам надо. Запас дров, воды, кассавы. Индейцы готовились к сытному ужину, так не пропадать же его вегетарианской части зря. Кстати, Уильям, вы бы глянули, а что там с деликатесами? Они там еще живы, или со страху отдали Богу души? Уильям с отвращением оглядел залитую кровью поляну и направился к сплетенному из прутьев импровизированному загону, где связанные пальмовыми волокнами томились те, кто должен был стать на этом празднике ужином. Проходя мимо растоптанного костра, усыпанного осколками разбитых горшков, Уильям содрогнулся, едва сдержав невольный приступ тошноты. В неровном сумеречном свете ему показалось, что он видит среди тлеющих угольев обрубленную человеческую руку. По-видимому, это были остатки того несчастного, чей крик они слышали в лесу. Подхватив тлеющую головню и используя ее как факел, Уильям подошел к частоколу и перерубил веревку. Внутри клетки на земле лежало несколько человек. При виде его один из них глухо застонал. Юноша склонился над пленниками. — Святые мощи! — услышал он знакомый голос, — это же Харт! Перед ним собственной персоной лежал на земле Потрошитель в компании Боба и Питера. — Боже, Джек! Какое счастье! А где же остальные! — вскричал Харт, выхватывая нож и торопливо перерезая стягивающие их веревки. — Здесь все, кто остался, мой мальчик, — ответил Потрошитель и шмыгнул носом. — Вам помочь, Харт? — услышал он голос Ришери и оглянулся. Пленники с трудом поднимались на ноги, разминая затекшие члены. Когда француз увидел, ради кого они рисковали жизнью и всем дальнейшим ходом экспедиции, он в сердцах плюнул. — Вот дерьмо! — выругался он. — Сукины дети не стоили таких жертв! Поддерживая изможденного и исхудавшего Потрошителя за плечи, Уильям посмотрел в глаза французу. — Мы уже давно ничем не лучше их, — сказал он ему и потащил Потрошителя из клетки. Ришери задумчиво хмыкнул и, подумав, протянул руку, помогая подняться остальным пиратам.* * *
Уцелевшие солдаты тем временем перевязывали друг другу раны, оттаскивали подальше в лес трупы индейцев, затаптывали лужи крови и собирали топливо для нового костра. — Поживее! — орал на на них Кроуфорд. — Скоро половина леса пожалует сюда на ночную трапезу, и нам крупно повезет, если эта половина ограничится теми, кого вы швыряете сейчас в кусты! Всю ночь никто из отряда Кроуфорда не сомкнул глаз, изредка впадая в легкую дрему, но вздрагивая от несшихся из леса звуков. Из-за деревьев, плотной стеной окружавших поляну, досносились рычание, вой, жадное чавканье и хруст разгрызаемых человеческих костей. Звери пировали, а люди жались к огню и молили Бога, чтобы тварям, скрывающимся под пологом леса, хватило еды до утра. Только с первыми лучами солнца все вздохнули с облегчением. Наконец они могли как следует заняться своими ранами, похоронить товарищей, тела которых они охраняли всю ночь. Опомнившийся Потрошитель, глотнув из фляги Кроуфорда, уже бродил вокруг солдат и травил им байки. — А еще, — донеслось до ушей сэра Фрэнсиса, — мы видели, как… Англичанин усмехнулся и огляделся. Увидев Харта, с любопытством прислушивающегося к разглагольствованиям своего боцмана, в его глазах мелькнуло нечто, похожее на нежность. Но он уже перевел взгляд на индейца, меланхолично сидящего неподалеку, и взгляд его затуманился. — …Мы видели, как огромная змея подобно стреле из лука метнулась к нам и, схватив беднягу Боба, обвила его своим телом. А толщиной, вот те крест, змеюка была с ляжку той самой бабенки, которую бедняга Боб охаживал на Тортуге. Вон, Джим не даст соврать. — Потрошитель оглянулся на Джима, и тот судорожно затряс головой, подтверждая слова своего боцмана. Постепенно вдохновенного пирата окружали солдаты, вытягивая шеи, чтобы лучше его слышать. — Так вот, Боб, конечно, заорал истошно так, как будто поросенка режут, и попытался вырваться. Тогда… — для большей достоверности Потрошитель помогал себе жестами, размахивая перед носом слушателей своей обезображенной клешней, — тогда Джим, ведь так было, Джим, да? — снова отвлекся рассказчик, и Джим снова затряс головой. — Джим у нас молчун, — пояснил боцман окружающим. — Тогда Джим зарядил свой мушкет, а он пока еще не утопил его в болоте, и выстрелил прямо в жирное брюхо этой гадины. И что бы вы думали?.. Кроуфорд поймал себя на мысли, что сам невольно начинает прислушиваться к этой брехне и что еще, пожалуй, счастлив от того, что он снова видит этих людей. Он поднял голову и посмотрел на чистое голубое небо, видневшееся сквозь ветви огромных деревьев. Впервые за много лет он вдруг подумал, что все, что с ним происходит, это и есть сама жизнь, и другой у него уже не будет. Что эти люди, эти смерти, этот смех, эти крики попугаев и улюлюканье обезьян — это его жизнь. Что именно здесь и сейчас он живет, и, чтобы быть счастливым, достаточно просто принять и полюбить то, что приносит ему каждое новое мгновение. И — тут Роджер Рэли перевел взгляд на своего индейца — вовсе не нужно всю жизнь ждать какого-то случая, в результате которого он должен быть счастлив и начать какую-то новую жизнь. Каждая минута и есть этот случай. И чтобы ощутить себя живым, вовсе не обязательно кого-то убивать… Дружный солдатский гогот отвлек его мысли, и он снова повернулся к Потрошителю. Тянуло свежим дымком и печеной касавой. Люди готовились к завтраку, кипятили в глиняных плошках чай, размачивали сухари, звенели оружием, переговаривались, перевязывали раны и бродили с места на место, собирая оружие. И было в этой минутной утренней безмятежности что-то, что заставляло каждого из них любить жизнь. И тогда Роджер Рэли подумал, что, если бы он понял это раньше, призрачная в своей неуловимости, хрупкая хрустальная удача возможно давно была бы с ним. Рэли наклонился и потрепал Чилана по голове. — Ну что, приятель, хотелось бы мне узнать, знал ли ты все заранее? Чилан улыбнулся и прищурился, враз сделавшись похожим на статуэтку индейского божка. — Вот так, мой друг, никто не хочет говорить правды уже с пеленок, — произнес Кроуфорд и ласково дернул мальчишку за длинное ухо. — Все лгут!* * *
Они вернулись в лагерь задолго до полудня. Первым, как водится, к палаткам выскочил Харон и, заливисто лая, принялся носиться вокруг кострищ, прыгая то на выбравшуюся из палатки Элейну, то на Абрабанеля, который брезгливо уворачивался от грязного шумного щенка. Следом из зарослей на поляну ступили Кроуфорд, Ришери и Харт. Они весело переговаривались, и при виде этаких праздношатающихся гуляк желчь вскипела как у коадьютора, так и у мистера Смита. — Где вы шатаетесь?! Где вас черти носят?! — вскричали они едва ли не хором и бросились им навстречу. Элейна осталась стоять поодаль, только счастливый румянец окрасил ее бледное личико, да в глазах вспыхнула радость. Вскоре отряд уже разбредался по палаткам, делясь впечатлениями с теми, кто оставался в лагере и не принимал участия в недолгом походе. Потрошитель естественно тут же завладел всеобщим вниманием и немедленно принялся излагать свою версию произошедшего. То, что он не видел ничего до тех пор, пока Уильям не освободил его, ничуть не мешало ему описывать схватку. И такова была сила его вдохновения, что вскоре даже непосредственные участники, подобно безропотному Джиму, одобрительно кивали головами, заново переживая недавние события. Но не так-то легко было успокоить потомственного ювелира и министерского клерка. Их совершенно не интересовали подвиги и людоеды, так как все это время они были одержимы только размышлениями об успехе экспедиции. Они подступили к Кроуфорду, и неугомонный ювелир даже слегка прихватил сэра Фрэнсиса за лацканы потрепанного кафтана. — Сэр, — взвизгунул банкир, наступая ему на ногу, — вы… вы… вы просто авантюрист какой-то! — Сэр Фрэнсис, — вторил ему занудный Смит, — вы должны немедленно изложить мне план дальнейших действий… Благоразумные морские разбойники быстренько затесались в толпу голландцев и солдат, не желая обращать на себя внимание столь сердитых господ. Их примеру немедленно последовал и Уильям, бочком направившись к предмету своих воздыханий, который бросал на него пламенные, но скромные взоры. Ришери, после секундной паузы, тоже предпочел испариться, выбрав для этого шатер главнокомандующего, где, сбросив с себя верхнюю одежду и сапоги, с наслаждением растянулся на кроуфордовской постели. Таким образом англичанин остался было один на один с яростно наскакивающими на него господами и приготовился дать им достойный отпор в виде длинной тирады, состоящей из витиеватых ругательств. Он даже открыл рот и произнес ставшее впоследствии классическим выражение «А не пошли бы вы на…», как его прервали, бесцеремонно дернув сзади за фалду. — Сеньор Фрэнсис… — Какого черта… — обернулся англичанин, намереваясь влепить оплеуху надоеде, но осекся, увидев отца Дамиана, смиренно держащего в свободной от его фалды руке длинные деревянные четки. — Сэр Фрэнсис, я должен вам сообщить, правда, не знаю, насколько это будет вам интересно, но мне кажется, вы должны знать, что… — мялся монах, розовея от направленных на него свирепых взглядов раздраженных мужчин. — Ну, — не выдержал Кроуфорд, — не мямлите, святой отец. Что там у вас еще? — Не знаю как сказать, но дело в том, что леди Лукреция Бертрам жива, — выпалил наконец монах, преодолев смущение. Трое человек застыли как громом пораженные. Кроуфорд медленно поднес руку к горлу и механически ослабил шейный платок. Кровь отлила от его покрытого загаром лица. — Что вы сказали? Повторите… — тихо переспросил он, и глаза его сделались вдруг страшными. — Леди Бертрам жива и находится в плену у отца Франциска! — повторил отец Дамиан, не ожидавший такой реакции. Первым опомнился мистер Смит. Он схватил Кроуфорда за предплечье и с силой сжал его. — Вы дали слово, Фрэнсис, — прошептал он. — Я не позволю вам еще раз поставить экспедицию на край гибели. — Подождите, подождите все, — также тихо ответил Кроуфорд и, высвободив руку, ничего не видя вокруг себя, пошел обратно в лес. Дремавшая неподалеку собака вскочила и засеменила за ним. — Вы дурак, отец Дамиан! — хором воскликнули банкир и шпион и одновременно постучали себя кулаками по голове. — И это когда мы почти у цели! — со слезами обиды в голосе вскричал господин Абрабанель и в отчаянии пнул ногой кочку. — Нашли время для откровений, падре, — устало вздохнул Смит и опустился на срубленное для костра дерево. — Все погибло! — горестно прошептал банкир и, схватившись за голову, побрел к своей палатке.* * *
До самого ужина никто не смел приблизиться к Кроуфорду. Уильям несколько раз порывался подойти к нему, но, натыкаясь на почерневшие глаза Роджера Рэли, отступал. Когда от костров потянуло кукурузной кашей и солдаты забряцали своими оловянными флягами, Кроуфорд вышел на освещенную пламенем поляну и остановился, сложив на груди руки. Воцарилась мертвая тишина. — Я принял решение, джентльмены, — сказал сэр Фрэнсис и медленно обвел взглядом окружавших его людей. На их лицах смятение мешалось с тревогой, они ждали решения своей участи, ибо каждый из них понимал, что нападение на укрепленную редукцию было безнадежным предприятием. Но перед ними стоял их командир, и ослушаться его они не могли. На мгновение Роджеру захотелось, чтобы каждый из них испытал то отчаяние, ту боль, что терзали сейчас его сердце. Но это было невыгодно. Это было преступно. Наконец, это было просто глупо. Никто не обязан чувствовать то, что чувствует ближний. — Завтра мы выступаем… Вздох пронесся по толпе. — Завтра мы выступаем за сокровищами, — произнес Кроуфорд. — Я надеюсь, что те, кто уцелеет, вернутся домой богатыми и счастливыми. Удачи нам всем, джентльмены. Прежде чем тишина взорвалась радостными криками, до ушей Рэли донесся тихий женский плач. И он был благодарен за него. — Все подробности вы узнаете от Мортона и своих офицеров! — перекрикивая радостно галдящих людей, продолжил Роджер. — А пока вам выдадут по полпинте рома! — Ура! Слава нашему капитану! — заорали десятки глоток. Кроуфорд вышел из освещенного пламенем костра круга и молча зашагал в свою палатку. Он не видел, как побледнел Ришери, как выражение острого сочувствия мелькнуло на лице Харта и как торжествующая улыбка исказила тонкие губы мистера Смита, пока Абрабанель, воздев глаза, что-то бормотал себе под нос. — Что ж, — шептал он, глядя в беззвездное небо, — я тоже оставил здесь самое дорогое. Не так ли, адмирал? Значит, мы идем в ногу, — и ему чудилось, что он чувствует рядом с собой незримое присутствие своего деда.Глава 16 Жертвоприношение
Новая Гвиана. Сельва у берегов Карони
От зрелища, развернувшегося перед отрядом Кроуфорда, едва он выбрался из тесного ущелья, дух захватывало. Внизу зеленым ковром расстилалась небольшая долина удивительной красоты. Со всех сторон ее окружали тепуи — схожие с римскими колоннами горы с плоскими, как будто срезанными ножом, вершинами. Их склоны были испещрены глубокими трещинами, узкими расселинами и нерукотоворными пещерами. Покрытые пышной тропической растительностью, они производили неизгладимое впечатление. Сочетание желтых и бурых пород, образовавших тепуи, с пестревшей красными и желтыми цветами зеленью, буквально ослепляло яркостью красок. На противоположенной стороне долины, как раз напротив уступа, на котором оказался Кроуфорд со своими спутниками, с горы низвергались сразу три водопада. Их тугие пенистые струи с доносившимся до людей грохотом низвергались вниз, к подножию скал, прямо туда, где теснились невысокие, обветшавшие от времени, оплетенные лианами и заросшие кустарником каменные строения. Глубокая и быстрая река, образованная водопадами, петляя пересекала долину и терялась в широком погруженном в тень ущелье между двумя колоннообразными скалами. Прямо в лица людям летела водяная пыль, туманным облаком поднимающаяся от водопадов и клубящаяся у подножия скал. Долина была невелика, и всю ее когда-то очень давно, по всей видимости, занимало одно селение с домами, дворцами, рынком, главной площадью и великолепными храмами-капищами. Все это прекрасно сохранилось и выглядело поистине величественно в обрамлении колоннообразных скал и низвергающихся с них потоков воды. Лишь растущие кое-где на каменных стенах деревца да провалившиеся крыши говорили о том, что жители давно покинули это место. Мерный, низкий гул, исходящий от водопадов, напомнил отцу Дамиану звучание органа в кафедральном соборе, и его рокот превращал созерцание раскинувшегося у их ног мертвого города в почти религиозное действо. В центре долины высилась ступенчатая пирамида из резного камня. Время, дожди и ветра покрыли ступени многочисленными трещинами, корни ползучих растений разрушили их, выщербив то тут, то там куски известняка. На ее вершине лежала огромная плита. Издалека Кроуфорду и его спутникам не было видно, вырезаны ли на ней какие-то письмена или рисунки, или же она просто пострадала от стихий за долгие века. Но, когда солнце немного сместилось к западу и его лучи упали на плиту под определенным углом, стало ясно, что серый камень почти полностью покрывают какие-то изображения или магические символы. — Как вы думаете, что на ней изображено? — спросил отец Дамиан, обращаясь ко всем одновременно и ни к кому конкретно. — Может быть, календарь майя? — предположил Харт. — Я слышал, что он поразительно точен и при этом довольно замысловат… — А мне кажется, там высечены картины страшных обрядов с жертвоприношениями, — слегка дрожа, проговорила Элейна, непроизвольно понизив голос. — И лица идолов, — подхватил Ван Дер Фельд. — Наверное, такая плита должна обладать колоссальной магнетической силой… — пробормотал Ришери и передернул плечами. — Без сомнения, — заключил Кроуфорд. — Ведь в любом случае она служила индейцам майя жертвенником, алтарем, на котором проливалась невинная кровь людей и животных. Не правда ли, мой друг? — он подмигнул мальчишке, но тот сделал вид, что не замечает знаков хозяина. — Смотрите! — вдруг воскликнула Элейна, указывая вниз. В лучах вечернего солнца было видно, как к подножию пирамиды приближается большая процессия. Впереди, на открытых носилках, поддерживаемых четырьмя индейцами, восседала на резном кресле На-Чан-Чель. Голова ее была убрана роскошными цветными перьями, из которых выглядывала золотая змея тонкой работы. Даже с такого расстояния было заметно, как играет драгоценный металл в лучах предзакатного солнца. Индианка была облачена в роскошное, переливающееся всеми цветами радуги одеяние, а на руках и ногах посверкивали золотые браслеты. Но удивительнее всего было ее ожерелье, точнее то, что заменяло его — огромный питон, обвивая шею женщины, покоился на плечах, замысловато сплетая конец своего хвоста возле головы. Змей был вызолочен, и его пятнистая шкура сверкала на солнце, так что путешественники не сразу сообразили, что он живой. За носилками На-Чан-Чель два индейца вели, с трудом удерживая на цепях, ягуара, скалящего зубастую пасть и рычащего на своих поводырей. За зверем следовал роскошный портшез с поднятыми занавесками. В нем располагался отец Франциск собственной персоной, рядом с которым на мягких подушках полулежала женщина. Кроуфорд и Ришери одновременно издали негромкий вопль. Лукреция, живая и прекрасная, улыбалась иезуиту, и мужчинам показалось, что даже до них долетает та волна соблазнения, которая исходила от нее, изливаясь из изумрудных глаз. Далее процессия растягивалась чуть ли не на полмили, и ее конец терялся в покрытой лесом расщелине. Здесь были священники, рядовые иезуиты, индейцы обоих полов. У самой пирамиды На-Чан-Чель сделала знак остановиться и при помощи индейцев сошла на землю. Отец Франциск тоже покинул портшез. Носильщики Лукреции поставили ее паланкин на землю. Встав перед невидимой путешественникам дверью в каменной стене, индианка что-то очень громко и повелительно произнесла на неизвестном языке, и эхо многократно повторило ее слова, прокатившись волной по долине. Послышался странный гул, по-видимому, растворилась какая-то дверь, и На-Чан-Чель, а за ней и остальные начали постепенно втягиваться внутрь пирамиды. Кроуфорд, Харт, Элейна с отцом, Ван Дер Фельд, Ришери и остальные как завороженные смотрели на странную процессию.Кроуфорд вслушивался в неумолкавшую сельву. Его все сильнее охватывало беспокойство — шум, совсем не похожий на гул водопада, поднимался от земли, как будто расплывался, растекался по долине, превращался в таинственные отзвуки леса, в некий мираж. Угадать, что было его причиной, и чего ждать дальше, не было никакой возможности. Кроуфорд даже не пытался этого сделать.
— «Заклав Бога, испив божьей крови и облекшись в одежды цвета воды, десять царей Атлантиды воссели на пепле сожженной жертвы. Решали они судьбу Атлантиды. Отведав запретного плода горьких познаний, уже не могли они решать по согласию, древняя магия больше не слушалась их. Теперь они обладали силой взамен мудрости, и хрустальными черепами взамен плодов жизни. И решили они покорить весь мир и утвердить свою власть повсюду, где дуют четыре ветра, чтобы всякая плоть поклонилась им, и всякая душа открылась пред ними. Но один мудрый был среди них, и, сидя на стынущем пепле жертвы, он знал, что Атлантида станет пеплом и падет жертвою», — вдруг отчетливо произнес Чилан по-испански. Только Кроуфорд и стоявший поблизости от него отец Дамиан поняли, что сказал индеец. Они недоуменно переглянулись. Никто не решался заговорить первым. Все будто ждали объяснений от одного человека — от Кроуфорда. Их у него не было, но он все-таки счел нужным высказаться. — Будем надеяться на лучшее, — сказал он. — Нужно подождать, пока они вернутся из пирамиды. — А если они не вернутся? — с большим интересом спросил Ван Дер Фельд. — А если они не вернутся, тогда мы будем знать, что все так плохо, что хуже и быть не может, — спокойно ответил Кроуфорд. — Надеюсь, вы меня поняли, господа? Некоторое время все потрясено молчали. Первым забеспокоился Абрабанель. — Позвольте-позвольте! — забормотал он. — Причем тут испанцы, я не понимаю! Моя задача — вернуть сокровища Эльдорадо в надежные руки деловых людей. Они приумножат богатства и найдут им достойное применение. — Применение богатствам найти не трудно, — усмехнулся Кроуфорд. — Совсем не трудно. Так что не беспокойтесь понапрасну. Среди испанцев тоже встречаются деловые люди. — Нет, это невозможно! — вспыхнул Абрабанель. — Неужели вы допустите, чтобы испанцы на ваших глазах растащили сокровища, на поиски которых мы потратили столько усилий? Мы столько раз смотрели в глаза смерти, мы потеряли столько денег! Мой друг Ван Дер Фельд никак не может попасть домой после своих продолжительных странствий! Я уже не говорю о свадьбе моей дочери, которую мы давно должны были сыграть! Нет-нет, испанцев необходимо остановить! — Вы предлагаете сделать это нам четверым? — с легкой издевкой поинтересовался Кроуфорд. — Или справитесь сами? — Ну-у, я не знаю, — смутился Абрабанель. — В моем возрасте уже поздно хвататься за шпагу… Наверное, мы должны приказать солдатам наступать. — Пока мы будем раздумывать здесь, — въедливо заметил Хансен, выныривая из-за спины Ван Дер Фельда, — испанцы найдут сокровища и захватят их. Что-то подсказывает мне: им все известно. — Как, вы до сих пор не сдохли? — с удивлением воскликнул Кроуфорд, рассматривая выскочившего как черт из табакерки торгового агента. — Я смотрю, Хансен, ваша голова так вполне и не исцелилась от удара. А сами-то вы где так удачно прятались от моих глаз? — Скромность всегда незаметна — ответил помощник коадьютора и снова нырнул за спины голландцев. — Что же делать? Что же делать? — засуетился Абрабанель. — Господа, мы не имеем права упускать добычу! Придумайте же что-нибудь! Вы люди военные и должны знать, что такое военная хитрость! Кроуфорд про себя усмехнулся. Словечко «добыча» вылезло из голландского банкира, как шило из мешка. Любил он добычу ничуть не меньше, чем проклятый Богом и людьми головорез с пиратского корабля. Правда, загребать ее Абрабанель предпочитал чужими руками. — В самом деле, испанцев без надзора оставлять не следует, — подал голос мистер Смит. — Предлагаю отправить разведчика в долину. Прочие же останутся здесь наблюдать за действиями испанцев. А я пока могу… — Ничего вы не можете, мистер Смит! — жестко оборвал его Кроуфорд. — Ваше предложение попахивает идиотизмом. Если, конечно, вы не собрались смыться… Джон Смит побагровел. — Успокойтесь, господа! — рассудительно заметил Ван Дер Фельд. — Ну время ли сейчас ссориться? Нет-нет, совсем не время сейчас. Мы должны держаться вместе. А посылать разведчика и в самом деле бессмысленно. То же самое, если мы отправимся туда все разом. Предлагаю понаблюдать за испанцами, выяснить их намерения и действовать дальше уже в соответствии с этими намерениями. Как вы полагаете, господа, мы сумеем устроить им засаду? — Только ночью, — ответил Кроуфорд. — Сотня индейцев и монахи, вооруженные до зубов — это совсем не шутка. К тому же, не забывайте — это испанцы. Кто там ратовал за права испанской короны, а?! — Не пугайте нас, Кроуфорд! — сказал Ришери. — Все здесь понимают меру опасности. Но и отказываться от своей доли сокровищ никто не собирается. Мы заключили договор, и он будет выполнен до последнего пункта. Неважно, что этот договор устный. Он заключен между джентльменами, не так ли? — Возможно, — ядовито улыбаясь, сказал Кроуфорд. — Даже наверняка. Иногда, правда, я затрудняюсь, к какой категории следует относить меня самого… Но в целом вы очень четко обрисовали ситуацию, в которой мы все оказались. Добыча рядом, но дотянуться до нее мы не в состоянии. Так хотя бы посмотреть, как ее делят другие, не правда ли? — Если это шутка, то весьма дурного тона, Кроуфорд! — вспылил Смит. — То, над чем вы сейчас смеетесь, слишком серьезная тема. Речь идет о том, в чьи руки попадет легендарное наследство. Это вопрос во многом политический, касающийся мощи и славы Англии! А вы, мало того что со спокойной душой отписали половину сокровищ голландцам с французами, так еще и смеете шутить по этому поводу! Над узким каменным пятачком, где они прятались, повисла напряженная пауза. Резкие слова Смита задели всех. Ван Дер Фельд огорчился. Абрабанеля взяла досада. Ришери был взбешен и едва удерживался, чтобы не броситься на англичанина. Один Кроуфорд продолжал улыбаться, снисходительно разглядывая негодующих спутников. — Бросьте, Смит! — сказал он небрежно. — Какие, к черту, шутки? Я и не думал шутить. Я немного сгустил краски, только и всего. Что же касается дележа сокровищ, то эта тема затронута преждевременно. Давайте лучше поговорим о шкуре неубитого медведя. Попробуем поделить ее. Глядишь, у нас и появится навык… — Обо всем, что здесь происходит, я представлю подробный доклад, — пригрозил мистер Смит. — Министр будет очень вами недоволен. — Вернитесь сначала в министерство, — посоветовал Кроуфорд. — Сделайте такое одолжение. В вашем положении это не просто. И вообще, давайте, господа, отдыхать. Ведь что делать дальше, не знает никто!
* * *
Когда в долину спустились последние носильщики, солнце уже давно перевалило через зенит и теперь немилосердно палило красно-желтые скалы, пышную зелень и спины людей. Отец Франциск, выглядевший мрачнее обычного, в простом дорожном кафтане, в шляпе, надвинутой на лоб, с длинной шпагой на перевязи, молча обозревал из носилок свое воинство, растянувшееся по долине. Оно состояло из двух десятков монахов, вооруженных как настоящие солдаты, и более сотни индейцев. Отец Франциск решил обойтись без лошадей, которых и без того в редукции можно было пересчитать по пальцам. Индейцы могли нести груз ничуть не хуже, а были куда более неприхотливы и выносливее. Сейчас их поклажей были запасы продовольствия, кирки, лопаты и веревки. Но обратно они должны были нести золото и драгоценные камни — во всяком случае, отцу Франциску очень этого хотелось. Рассматривая колонну, отец Франциск хмурился и напряженно размышлял. Следовавший за ним как тень новый секретарь брат Хосе, сменивший на своем посту пропавшего отца Дамиана, то и дело утирал пот с лица и щурился на солнце. Он предчувствовал, что скоро в долине станет еще жарче, и очень из-за этого расстраивался. А еще он вспоминал, как неожиданно исчез отец Дамиан и как бежали пленники, и думал, что странные дела начали твориться в редукции вместе с приездом в нее отца Франциска. Он уже составил и даже успел отослать специальное донесение Генералу Антильских островов, в котором подробно изложил свои соображения по поводу дерзкого побега своего предшественника отца Дамиана и внушающего подозрения поведения отца Франциска, который, противно своему сану, не только держит при себе эту язычницу-индианку, но и, что уж совсем возмутительно, возит за собой неизвестную женщину, подозрительно смахивающую, Господи помилуй, на наложницу. Собственно говоря, индианку еще можно было стерпеть, объясняя ее присутствие соображениями политического характера, но как понять наличие в покоях профоса европейской женщины, пребывание которой хранилось в строгом секрете от братии? И ведь эта женщина была необычайно хороша собой, и отец Франциск был явно к ней неравнодушен, как ни пытался он сохранять самообладание. Всего этого было вполне достаточно для срочной депеши. Отец Хосе вздохнул и метнул взгляд на патрона. Ну вот, опять! Мало того, что он приказал разместить эту особу в своих носилках, так он еще и глаз с нее не сводит, а уж та-то не оставалась к этому равнодушной! Она была одета в небогатое платье, но декольте на нем было так глубоко, а улыбки ее столь однозначны, что другого мнения быть не могло. Иезуит осенил себя крестом. Кровь бросилась ему в лицо. Он свято исполнял обеты и верил в высокую миссию Ордена, и такое грубое попрание самих основ веры и его, и братии, возбуждало в нем пылкое негодование. Он с ненавистью взглянул на женщину, в этот момент кокетливо поправлявшую кружева на платье и смеявшуюся низким грудным смехом. Если бы он мог, он бы убил ее, потому что сказано в Евангелии, что надо вырвать соблазняющий глаз, ибо лучше погибнуть одному глазу, чем всему человеку. А тут речь шла о судьбе целой редукции! Брат Хосе стиснул зубы и нащупал на груди большое серебряное распятие. Его пальцы обвили прохладный металл, и он прошептал по-латыни: Omnis arbor, quae non facit fructum bonum, exciditur et in ignem mittitur*["281]. Но отцу Франциску было совершенно не до душевных терзаний его помощника. Он смотрел на утопавшую в подушках поблизости от него женщину. Женщина улыбалась ему, и ее глаза обещали все то, о чем только может мечать настоящий мужчина. Даже она поверила в то, что его ждет триумф, и захотела разделить его с ним. Только настоящий победитель мог владеть ею, и во взгляде ее светилось желание покориться сильнейшему — ему, отцу Франциску. Как будто невзначай ее пальцы коснулись его руки, и по телу отца Франциска пробежала дрожь. — Смотрите, дон Фернандо, — проговорила она, наклоняясь к нему, — вы близки к цели! Запах ее духов ударил ему в голову, но усилием воли он перевел взгляд туда, где за толщей камня скрывались вожделенные золото и власть. Только они были способны утолить жажду его сердца, терзаемую мечтами о безграничном могуществе, питаемом золотом и потустронними силами, и от торжества всей его жизни отделяла какая-нибудь сотня ярдов. Нет, профос вовсе не собирался присваивать клад себе, за исключением одной вещи — хрустального черепа. Сокровища должны были поступить в казну Ордена, и славу должен был стяжать он, отец Франциск, и никто иной. Жаль, что многие забывают одну простую мысль — прежде всего мы служим Небесному Отцу, и этому служению должны отдавать все наши силы и помыслы. Горе тому, кто забудет эту истину, и да покарает его меч разящий. О мече разящем отец Франциск позаботился особенно. Он велел выдать индейцам оружие, где-то в глубине души надеясь, что дело обойдется без кровопролития: скорее всего у Харта и тех, кто помог ему бежать, слишком мало сил для прямой стычки. Процессия двигалась вдоль русла реки прямо сквозь заросли колоказии, в изобилии произраставшей здесь к удивлению индейцев, которые употребляли клубни этого многолетнего растения в пищу, выращивая его на своих небольших огородах в редукции. Вскоре профос сообразил, что принятые им в начале за скалы покрытые растительностью груды камней в действительности являются рукотворными строениями, а на самом деле они двигаются по улице давно брошенного неведомыми людьми города, выстроенного кем-то прямо в сердце неприступной сельвы. Отец Франциск перевел взгляд на индианку, восседавшую по правую руку от него на носилках. — Что это? — спросил он ее, показывая рукой на возвышавшийся впереди них геометрически правильный холм. На-Чан-Чель обернулась к нему улыбаясь, и он увидел как хищно сверкнули ее белоснежные зубы. — Это цель нашего путешествия. Ты искал сокровища — ты нашел их. Мы пришли. Услышав это, Лукреция метнула на индианку испытующий взгляд. Она ни на йоту не доверяла этой дикарке и интуитивно чувствовала какой-то подвох, теряясь в догадках, в какой момент На-Чан-Чель прекратит ломать комедию и зачем ей все это нужно. Потом она презрительно посмотрела на профоса. «Да уж, — подумала леди Бертрам, — взвился жеребчик!» А отец Франциск от нетерпения привстал в портшезе и оглянулся. Насколько хватало глаз, вокруг расстилался заброшенный город. То, что он вначале принял за заросли и камни, оказалось брошенными жилищами. Сама долина словно гигантскими столбами была окружена высокими скалами с плоскими вершинами. С одной из них, поднимая тучу брызг, низвергались водопады, окруженные радугой — это солнечный свет преломлялся в водяной пыли. Стаи попугаев и других, незнакомых профосу, птиц, испуганные людьми, поднимались из кустарника и с воплями носились над людскими головами. С каждым их шагом гул водопадов становился громче и громче, и вскоре для того, чтобы расслышать друг друга, людям приходилось кричать. — Что, сокровища спрятаны здесь? — крикнул монах индианке. Та снова повернулась к нему. — Да. Но чтобы обрести их, тебе придется подняться на пирамиду! — ответила она. — Какую еще пирамиду? — проорал отец Франциск, стараясь перекричать водопад и птиц. — Ту, что впереди тебя, слепец! — ответила индианка, и, хотя она не повышала голоса, монах ее услышал. Он приложил руку ко лбу, защищая глаза от нестерпимо яркого солнца, и увидел, что процессия медленно движется к холму, который на самом деле был вовсе не холмом, а огромной ступенчатой пирамидой, сложенной из грубо отесанных валунов, сложенных один на другой. Ветер нанес на камни землю и семена, и сооружение от земли до верхушки заросло тощим кустарником и деревцами. Кое-где лианы зелеными канатами перекинулись от одного края к другому, ярд за ярдом подползая к вершине. — Что, сокровища в этой пирамиде? — спросил он у На-Чан-Чель. — Да! — ответила она. — Мы уже близки к цели. Леди Бертрам посмотрела на индианку, и их взгляды встретились. В черных глазах краснокожей принцессы светилось гордое торжество, смешанное с презрением. О, это чувство Лукреция узнала бы под любой маской. Она не подозревала, что видит перед собой соперницу, но бессознательно ненавидела ее от всей души. Возможно, индианка питала к Лукреции похожие чувства, но, судя по всему, сейчас ей было просто не до этого. На-Чан-Чель отвернулась, переведя взгляд на профоса. «Я выиграю, — решила англичанка и стиснула кулачки: — Как только, красавица, он увидит золото, твои туземные чары потеряют силу, и отдадут тебя, бедняжку, на перевоспитание в какой-нибудь дальний монастырь. Никогда гордый испанец не снизойдет до жалкой индейской дикарки». Лукреция отвлеклась от своих мыслей только в тот момент, когда процессия остановилась у самого подножия громадной пирамиды. Индианка спешилась и подошла к стене, сложенной из огромных камней. — И как мы попадем внутрь? — тщетно скрывая волнение, спросил отец Франциск. — Вели всем оставаться снаружи и отойти от нас на десять шагов, — приказала индианка. — Простым людям нельзя внутрь, они должны подниматься по ступеням. Таков закон. — А зачем нам внутрь? — допытывался монах. — Ты хочешь найти сокровища? — вопросом на вопрос ответила женщина, устремляя на отца Франциска пронзительный взгляд. — Хорошо. Отец Франциск отступил на несколько шагов назад и жестом подозвал к себе брата Хосе. — Вели индейцам подниматься наверх. Пусть братия хорошенько присмотрит за ними. А сам не спускай глаз с сеньоры, она слишком ценна для нас. Брат Хосе почтительно склонил голову, и профос, слишком увлеченный моментом, не заметил, как ярость молнией полыхнула в его глазах. — Зачем Ордену эта женщина? — вдруг тихо спросил секретарь. Профос в изумлении обернулся к нему. — Да ты в своем уме, брат Хосе, что задаешь мне такие вопросы? Ты забыл устав Ордена? — Я-то не забыл! — ответил Хосе, еще ниже опуская голову. Он окончательно убедился в том, что отец Франциск одержим пагубной страстью и губит не только себя, но и миссию. — Тогда иди и исполняй что велено, — резко сказал профос. Брат Хосе склонился в поклоне и пошел к братьям, ожидавшим распоряжений его высокопреподобия. Тем временем индианка встала перед пирамидой таким образом, что оказалась точно в центре между двух каменных рельефов, изображающих головы ягуара. Она воздела руки к небу и принялась нараспев произносить слова на давно забытом языке. Ее чистый голос, увеличенный удивительной акустикой этого места, усилился, так что, казалось, ее слышно по всей округе. От этих произносимых речетативом заклинаний всем стало не по себе. Порыв ветра пронесся по долине, срывая листья и пригибая траву, замолчали птицы, а солнце скрылось в дымке, отчего все погрузилось в тень. Лукреция высунулась из портшеза и посмотрела на небо. — Как бы дождик не пошел, — пробормотала она и велела носильщикам опустить ее на землю. Она выскользнула наружу и сделала несколько шагов к отцу Франциску. — Стойте, — услышала она, и в ту же секунду ее грубо схватили за руку. Она обернулась и оказалась лицом к лицу с секретарем профоса. — Что вам нужно? — с досадой воскликнула она, пытаясь освободить руку. — Мне велено сторожить вас, — ответил молодой монах. — И я выполню приказ. Лукреция топнула ногой. Как ей надоели эти упрямые ослы, искренне считающие себя христианами. За препирательствами она упустила главное. Почва под ногами людей вздрогнула, и, повернувшись, Лукреция увидела, как огромные валуны опускаются на землю, превращаясь в некое подобие подъемного моста. Теперь вместо стены в пирамиде зиял черный провал. Индианка шагнула вперед. За ней двинулся отец Франциск. Никто ничего не успел сообразить, как мост снова поднялся, отрезав вошедших в пирамиду от всех остальных. Отец Хосе, не выпуская Лукрецию, повернулся и указал на лестницу, расположенную прямо в склоне пирамиды. Подчиняясь приказу, люди стали подниматься наверх, рискуя сломать себе шею на заросших сорной травой, лианами и кустарником ступенях. — Тупые фанатики! — выругалась Лукреция, споткнувшись на первой же ступеньке и едва не вывихнув ногу.* * *
Испанец и индианка прошли тесным коридором и оказались перед глухой стеной. На-Чан-Чель подняла руку и дотронулась до морды крылатого змея, высеченного прямо в стене. В глухой тишине звякнули золотые браслеты. Отец Франциск вздрогнул. Она произнесла несколько слов на языке майя, стена с рокотом вдруг поползла в сторону и перед ними открылся другой проход, прямой и темный. Из него пахнуло затхлостью, горелой каучуковой смолой и пряными травами. Пройдя несколько ярдов, женщина и ее спутник очутились перед массивной золоченой дверью. Индианка толкнула ее, и она с трудом подчинилась, издав скрип, эхо от которого долго блуждало по бесконечным коридорам. На-Чан-Чель обернулась к отцу Франциску. — Прежде чем подняться, мы должны спуститься — таков Закон. Надо зажечь светильники. Но горе нам, если хоть одна искра от них попадет в кровь земли. Никто не уйдет живым. — Она обернулась и указала монаху на лежащие в глубокой нише глиняные плошки, покрытые разноцветной эмалью. Они наполнили светильники принесенным с собой маслом и зажгли. В глубоком молчании они ступили в проход, выдолбленный много веков назад в скале. После удушающей жары снаружи пирамиды холод, царящий здесь, заставил отца Франциска покрыться гусиной кожей. Стуча зубами от резкой перемены температуры и от нервного возбуждения, охватившего его, он пытался совладать с собой. Но этот странный, неземной холод сковывал его члены, и даже пальцы, инстинктивно сжимающие эфес шпаги, закоченели. Стояла глубокая тишина, и лишь редкие звуки откуда-то издали доносились до их слуха, делая тишину еще более звонкой. Индианка ступала бесшумно, как тень скользя по каменному полу. Профос только слышал, как тихо шелестит шелк ее платья, да позвякивают многочисленные браслеты на руках и ногах. Вдруг, к великому своему ужасу, профос почувствовал как его пронизывают невидимые магнетические токи, отчего он ощутил покалывание в теле, а волосы его поднялись дыбом. Он оглядел свои руки и увидел, что его окружает легкое голубоватое свечение. Индианка оглянулась: — Не медлите, дон Фернандо, нам надо успеть добраться до места до захода солнца. Они спускались все ниже по подземелью, слабый свет масляных светильников едва рассеивал непроницаемый мрак, который вновь смыкался за ними. Вдруг в их мерцающем свете из темноты выступила гигантская золотая статуя, изображавшая отвратительного идола. Она была так велика, что скудное мерцание ламп не могло осветить ее целиком. Индианка остановилась прямо перед ней. — Почему мы не идем дальше? — взволнованно спросил испанец, жадно лаская глазами жирно посверкивающее драгоценное тело идола. Увидев его ноги, испанец оторопел — вместо одной ступни у божка красовалась обглоданная кость. — Дальше нам не пройти, — индианка так резко повернулась к монаху, что ее черные волосы хлестнули его по лицу. — Как?! — вскричал профос. — Что это значит? — Это значит, что Тецкатлипока открывает дверь только тем, у кого есть его вещь. Ведь имя «Тецкатлипока» означает «Дымящееся Зеркало» — Что это значит? Ты ничего не говорила об этом! Ты обманула меня! — Нет. И если вы отдадите ему то, что ему принадлежит, он откроет нам путь! — Что за чепуху ты мелешь?! В глазах женщины вспыхнули огоньки, и на мгновение отцу Франциску стало не по себе. — Так что ему надо? — спросил он примирительно. — Отдайте ваше черное зеркало. — Нет, ни за что! — вскричал отец Франциск, хватаясь за карман. — Что ж, воля ваша. Тогда мы можем возвращаться. И пеняйте на себя. Отец Франциск порылся в карманах. Зеркало против обыкновения показалось теплым наощупь. Вынув, профос хотел было заглянуть в него напоследок, но индианка молниеносным движением выхватила зеркало из рук мужчины и вставила в отверстие на поясе идола. Морионовая гладь затуманилась, и отцу Франциску даже почудилось, что идол улыбается. Индианка рассмеялась и топнула ногой. Подчиняясь неведомой силе, Тецкатлипока обернулся вокруг себя, и перед изумленным монахом оказалась замаскированная дверь. Она открывалась в бесконечный покатый проход, узкий и извилистый; здесь слабый свет ламп только подчеркивал темноту. Они осторожно спускались вниз по своеобразной, казавшейся бесконечной скользкой лестнице. Над ними нависали глыбы горных пород. Казалось, тоннель был делом рук неких великанов. Повсюду на стенах виднелись фигуры странной геометрической формы и рисунки, сюжеты которых были непонятны испанцу. — Смотри и запоминай, ибо ни один бледнолицый не видел этого и никогда больше не увидит! — воскликнула индианка, поднимая над головой светильник. Наконец они добрались до самого низа тоннеля, постепенно расширяющегося к выходу, который вдруг навис над нами своими скалами, почти касаясь их голов. Через какие-то сто метров они оказались у кромки воды, какой отец Франциск еще не видывал. Вода казалась тяжелой и отливала непроницаемой чернотой — складывалось впечатление, что смотришь не в озеро, а на поверхность каменного зеркала. Никакой ряби, ни единого звука в мертвой тишине. Блики от ламп тускло отражались от скал. — Мы пройдем через озеро, и берегись, не урони лампу! — сказала она монаху. И они пошли. Одному дьяволу известно, как находила она скользкую тропу под самой поверхностью мертвой черной воды. Атмосфера делалась все удушливее, все тяжелее. Они шли вперед, спотыкаясь и скользя. Воздух давил и угнетал, как будто вся тяжесть скалы ложилась им на плечи. У отца Франциска невольно возникло такое чувство, что он на пути в преисподнюю. Наконец они ступили на твердую землю и внезапно очутились в огромной пещере. Каменная пещера сияла: пласты скальной породы перемежались слоями золота и золотыми прожилками. Высоко, очень высоко над головой, отражая слабый свет ламп, мерцали, будто звезды в небе темной ночью, вкрапленные в камень самородки. В центре пещеры находился черный куб. Неведомый материал его стен тускло мерцал во мраке, и испанцу показалось, будто он выстроен из хрусталя или обсидиана. Стены куба были испещрены странными символами и иероглифами, подобными тем, которые иезуит встречал в землях Юкатана. Они подошли ближе и ступили внутрь. Там отец Франциск увидел два открытых саркофага из черного камня, украшенных рисунками и загадочными надписями. При первом же взгляде на содержимое гробов у него перехватило дыхание, и он почувствовал сильную слабость. — Смотри, — сказала На-Чан-Чель, — это были боги, жившие в нашей стране, когда здесь еще не было тепуи. Они ходили по этой земле до того, когда великий океан поглотил мир, когда другие звезды горели в небесах. Смотри и запоминай, ибо только посвященные видели это! Отец Франциск трепетал от страха. Два обнаженных тела, покрытых листовым золотом, лежали перед ним: мужчина и женщина. Каждый мускул на их телах был искусно передан с помощью золотых пластин, подобно чешуе покрывающих фигуры. Рост женщины превышал десять футов, а мужчины — пятнадцать. С трудом оторвавшись от созерцания великанов, отец Франциск оглянулся. Вдоль стен стояли каменные урны, искусно украшенные резьбой.Золотые предметы и украшения наполняли их доверху, и даже при тусклом свете масляных ламп было видно, как играют и переливаются радужные искры на драгоценных камнях. Отец Франциск подошел ближе и посветил над содержимым одной из урн. Красота и величина собранных в нем каменьев поражали воображение. Ничего подобного отец Франциск до сих пор не видел. Эти уникальные богатства, эти диковинные и прекрасные дары природы собирались кем-то в течение столетий, обрабатывались лучшими мастерами и составляли славу царей, даже имена которых стерлись теперь из людской памяти. Отец Франциск видел в этом только справедливый ход вещей. Тот, кто владел этими несметными богатствами, был всего лишь заблудшим язычником, и совершенно естественно, что его время закончилось. Теперь все эти драгоценности послужат славному делу Ордена. «Наконец-то свершилось! — подумал отец Франциск. — До сих пор это были только мечты. Но теперь я нашел их, сокровища Эльдорадо! Мое имя будет прославлено в веках. А возможно…» Ход его восторженных мыслей прервал холодный голос индианки. Отец Франциск, в упоении разглядывая несметные сокровища, просто забыл о ней. А она стояла у него за спиной. — Нам пора подниматься! Отец Франциск понял ее по-своему. — Погодите, — воскликнул он, — еще успеем. Я хочу взглянуть, что там. Отец Франциск перешел к следующей урне и поднес лампу поближе. Перед ним лежало золото. Но это не было просто золото. В сосуде были сложены настоящие произведения искусства, тонкая работа древних мастеров — украшения, ритуальные предметы, неведомое оружие. — Все это послужит прославлению имени Господа нашего Иисуса Христа! — пробормотал иезуит, пожирая сокровища глазами. Вдруг его внимание привлек богато инкрустированный венец в виде свернувшегося змея с разинутой пастью, лежавший поверх прочих сокровищ. Казалось, он был сделан вовсе не из золота, а из какого-то другого, более легкого и прочного, невиданного прежде испанцем металла. Профос протянул руки, поднял венец и, подержав некоторое время перед глазами, надел на свою голову. Вначале он ничего особенного не почувствовал. Разве что странное ощущение промчавшегося через подземелье ветерка, от которого похолодели губы и щеки. Но потом отец Франциск увидел свет. Нет, это не был свет лампы, которую держала на вытянутой руке индианка. Пространство внутри куба вдруг наполнилось золотистым сиянием. В следующую минуту отец Франциск уже видел источник этого света — неизвестно откуда вокруг него появились ряды высоких ступенчатых пирамид, которые озаряли все вокруг, превращая мрачное подземелье в невиданной красоты город с широкими, вымощенными белым камнем мостовыми, ровными, облицованными мрамором каналами, лучами расходившимися от самой высокой и прекрасной пирамиды. Высоко над городом парили странные серебристые элипсовидные тела, более всего напомнившие монаху кадильницы. Вдруг одно из них стало стремительно опускаться вниз, и отцу Франциску показалось, что через секунду оно раздавит его. Он вскрикнул и отшатнулся. Перед ним снова была погруженная в полумрак пещера, едва освещаемая тусклым светом, отражающимся от золота и самоцветов. Рука отца Франциска скользнула к наперстному кресту, но не обнаружила его на месте. Это было невероятно, но распятия на груди не было! Отец Франциск собирался произнести вслух слова молитвы, но вдруг понял, что его губы и гортань словно одеревенели, и он не в силах произнести ни звука. А венец вдруг начал сжимать голову, не давая возможности пошевелиться. Он хотел сдернуть этот дьявольский головной убор, но уже не мог поднять рук. Между тем воздух вокруг начал светиться, и свет становился все ярче, все невыносимее — от него даже начали слезиться глаза. Индианка, стоявшая напротив отца Франциска, охваченная со всех сторон этим сиянием, вдруг потеряла реальные очертания, а ее голос, зазвучавший под каменными сводами, наполнился нечеловеческой силой. Так могли бы заговорить камни, у подножия которых приносились кровавые жертвы. — Ты надел венец Тецкатлипоки, ты избран! Час настал! Твоя кровь прольется, а сердце накормит усталого бога! Пусть она льется, как река, напитавшаяся небесным дождем! Пусть льется кровь! Голос женщины достиг неслыханных высот. Он звенел и гремел над оцепеневшим отцом Франциском, грозя разнести на части его мозг. Сияние окончательно ослепило иезуита. Оглохший и ослепший, он пошатнулся и упал на камни, потеряв сознание.* * *
Множество обнаженных по пояс индейцев окружили каменную плиту, испещренную древними письменами, обрамлявшими горельеф уродливой головы со змеями вместо волос. На-Чан-Чель выкрикнула несколько слов на наречии индейцев, и ее голос раздробился, рассыпался по ступеням пирамиды серебряными бубенчиками. Плита дрогнула, и в ней показалась тонкая трещина. Медленно-медленно расколотые части плиты поползли в разные стороны, на деле оказавшиеся крышкой огромного саркофага, на дне которого находилась золотая статуя — уродливое тело без головы, с руками, покрытыми прихотливым орнаментом, с оскалившимися змеями вместо ног и с отверстием в груди там, где у человека расположено сердце. Индейцы, услышав слова индианки и увидев статую, упали на колени, лицом вниз. Только несколько человек с высушенными тыквами в руках остались стоять. Они мерно ударяли в них, производя сухой, действующий на нервы стук. Ветер задул сильнее, со всех четырех сторон, словно маленькие барабаны призывали его со всех сторон света к ожившей пирамиде. — Чтобы Тецкатлипока восстал, ему нужно сердце! — воскликнула индианка, и индейцы ответили ей дружным криком, воздев руки к небу, а потом снова упав лицом вниз. При помощи рычага индианка привела статую в действие и она медленно поднялась из своего гроба, маслянисто поблескивая золотом, эмалью и нефритовыми украшениями. Теперь Тецкатлипока возвышался на самой вершине пирамиды, и, чтобы он жил, кто-то должен был лечь в его гроб, сменив его в царстве мертвых. И тогда отец Франциск понял, что сменить бога должен он. Мечта его сбылась — на мгновение он станет живым богом, заместив бога-творца Тецкатлипоку и навеки умрет, заместив разрушителя Тецкатлипоку мертвым. Индианка не обманула его. Он узрел сокровища, обрел могущество и стал владыкой всех четырех сторон света. Это ему как воплощению Дымящегося Зеркала сейчас поклонялись индейцы, ему принадлежало Эльдорадо — мертвый золотой город, раскинувшийся вокруг пирамиды, принадлежащей настоящему властителю этого края — Тецкатлипоке — Дымящемуся Зеркалу. Это он правил здесь судьбами, владел мертвыми, повелевал ветрами. Он был в этом затерянном мире, чуждом белому разуму, роком и судьбой, а его хрустальный череп — призрачной удачей. Это на его скамьях отдыхали иезуиты, шагая по его дорогам, это его народ они обращали в свою веру, и это его золото не решился забрать с собой адмирал Ее Величества Елизаветы Английской сэр Уолтер Рэли. Он не хотел быть богом, а отец Франциск хотел. И он им стал. Пусть на час, пусть на мгновение, но на самом деле навеки — он, отец Франциск, владетель Эльдорадо, стоит сейчас перед своим народом. И тогда испанец рассмеялся. Тугой порыв ветра ударил ему в лицо. Запахло дождем. Отец Франциск вдохнул полной грудью. Впервые в жизни он был счастлив. На-Чан-Чель повернулась к нему и склонила украшенную перьями голову в поклоне.* * *
— Туземцы называют этот идол Тецкатлипока — божество разрушения, смерти и ночи, — промолвил отец Дамиан, передавая подзорную трубу Кроуфорду, чтобы тот мог хорошенько разглядеть происходящее. — Он олицетворяет солнце как губительную силу, повелевает удачей и выступает как главный враг светлого божества Кетцалькоатля. — Что они собираются делать? — прошептала Элейна, непроизвольно ловя руку Харта. Тот крепко сжал пальцы девушки, словно говоря: «Не бойся, я с тобой».* * *
На-Чан-Чель выпрямилась и вынула из-за пояса золотой, украшенный нефритовыми пластинами футляр. Стоящие на коленях индейцы, все как один, издали протяжный вздох. Индианка заговорила. Трудно было сказать, на каком языке звучал ее слова, но каждое из них попадало в сердце. — Я — На-Чан-Чель, дочь последнего касика майя, я — онза, принявшая месть на себя, ибо отец мой и брат умерли. Ты, бледнолицый, отнявший разум у моего брата и подчинивший его себе, погубивший весь наш род, ибо мой брат в четвертый Ахав восьмого Кумху должен был стать моим мужем, чтобы не пресекся род касиков — ты теперь станешь богом и умрешь за него! Ты удостаиваешься великой чести — я возьму твое сердце, чтобы оно билось в груди Тецкатлипоки. Отныне ты и Тецкатлипока — одно! Отцу Франциску не было страшно. Он принял из рук индианки и возложил на себя венец Тецкатлипоки, и теперь он был не просто испанским монахом, которого сейчас принесут в жертву, нет. Он был Тецкатлипокой. Он жил в двух мирах одновременно, и сквозь сиюминутное «сейчас», заполненное ветром и криками птиц, коленопреклоненными людьми и дрожащими от страха иезуитами, проглядывал вечный город из белого камня, чьи улицы и каналы лучами стекались к пирамиде, покорно ложась к ее подножию, пирамиде, на вершине которой стоял он, великий бог и повелитель. И серебристые элипсы плыли по воздуху, и невиданные корабли с лебедиными крыльями рассекали голубые воды океана, и невыразимо прекрасные белокожие люди с золотыми волосами окружали его. И это все, все принадлежало ему! Он был девятым царем Атлантиды, и он жил вечно. Разве можно променять на мгновение этого знания десятки лет убогой жизни, полной несбыточных желаний и невзгод? Испанец жадно всматривался в мир, открывшийся перед ним, и пил, пил наслаждение могуществом как вино. Теперь он понял, как безумен Аристотель, чью логику они штудировали, как безумны те, кто не услышали тихих слов великого жреца из Саиса, и он узнал, о чем плакал Рэли в своих сонетах… Был, был дивный город, и разбивался океан о его мощные стены, и рождались от богов гиганты, и собирались десять царей вершить судьбы мира… И он, дон Фернандо Диас де Сабанеда, он, заместитель Тецкатлипоки, теперь один из них! Четыре фигуры в масках приблизились к счастливо улыбающемуся отцу Франциску и обвязали ему лодыжки и запястья колючей веревкой, подняли на руки и осторожно уложили на изогнутый в форме дуги алтарь, так что голова его была повернута на восток, а ноги — на запад. Отец Франциск не чувствовал боли. Душа его жаждала соединиться с чудесным городом, сердце рвалось туда, где он увидел свою мечту. На-Чан-Чель наклонилась над ним и расстегнула ему на груди рубаху. Он посмотрел в ее бездонные, черные как зеркала Тецкатлипоки, глаза, и его кольнула в сердце острая зависть к Кроуфорду, владевшему этим дивным существом. Женщина улыбнулась ему и провела рукой по его обнаженной груди, на секунду коснувшись его кожи губами. Он не видел, как ее пальцы оставили на его груди четкий голубой след. На лицо отцу Франциску упала капля воды. Он поднял глаза к солнцу, но оно больше не слепило его, он мог смотреть на него не щурясь. Рядом с индианкой он видел тех, кто ждал его. Девять гигантов, тело одного из которых он наблюдал внизу, девять гигантов, закованных в сверкающие на солнце панцири, обступили его. Каждый из них держал в руке хрустальный череп, и они ждали его — чтобы исполнилось число и их вновь стало десять. — Я иду! — прошептал отец Франциск. На-Чан-Чель обошла жертвенник кругом и подняла правую руку. Толпа ахнула, барабаны застучали быстрее, громче полилась заунывная песня. Сверкнул на солнце обсидиановый нож, тонкий и острый. Сейчас он проснется и напьется крови, ибо никто никогда не будил его просто так, и никогда он не засыпал голодным. — Рука бога! — сказала она отцу Франциску и улыбнулась. Нож вошел в грудину, отделяя мясо от костей. Дымящаяся кровь брызнула в лицо На-Чан-Чель. Отец Франциск содрогнулся, по телу его прокатилась судорога. Острая боль на мгновение разорвала ему грудь, но уже через секунду он был среди тех, к кому стремилось его сердце. На-Чан-Чель подняла руку с пульсирующим в ней куском плоти и показала ее своему народу. Ветер трепал перья на ее голове, разворачивал шелковое покрывало, швырял листья и пыль. Она улыбнулась и вложила в грудь Тецкатлипоке новое сердце.* * *
— Понеслась душа… — пробормотал Кроуфорд, наблюдая за последними конвульсиями уже мертвого тела, бывшего некогда профосом иезутов, отцом Франциском по призванию и доном Фернандо Диасом де Сабанедой по рождению. Не в силах оторваться от жуткого зрелища, следили Кроуфорд и его спутники за жертвоприношением. Первой не выдержала Элейна. Она вытянула руку из ладони Харта, шагнула к Абрабанелю, прижалась к нему и, спрятав лицо в складках отцовского кафтана, глухо зарыдала. Коадьютор нежно погладил дочку по голове: — Не убивайся так, мое солнышко, не надо. — Был человек и нету, — констатировал Потрошитель, утерев тыльной стороной ладони пот со лба, и сплюнул жеваным табаком со скалы. — Видал я смерти, но чтобы вот так, безропотно дать себя зарезать какой-то бабенке… Уильям Харт очумело посмотрел на квартирмейстера. Вдруг слабая дрожь еле заметно сотрясла землю у них под ногами, послышался слабый отдаленный рокот. Потрошитель легонько тронул Уильяма за плечо: — Сэр… — Погоди! — Сэр, разве вы не слышите? Призраки… — Отстань, не время!.. Господи, Фрэнсис, что же это такое?! — потрясенный увиденным, Харт обратился к Кроуфорду, снова глядя на вершину пирамиды. — Это?! Это справедливость, мой мальчик. Мечты сбываются. — Как, ты называешь это справедливостью? Такой ужас? Какие мечты, что ты несешь? — Где будет сокровище ваше, Харт, там будет и сердце ваше… Это справедливо, Уильям, это чертовски справедливо! — Не кощунствуйте, сэр Фрэнсис, — это ведь Евангельская цитата! — обиделся отец Дамиан. Пока молодой прелат произносил эти слова, на вершине пирамиды вступал в последнюю стадию ритуал жертвоприношения. Кровь, бившую из разрезанной грудины отца Франциска, На-Чан-Чель собрала в нефритовую чашу и разбрызгала по четырем сторонам света, кропя ей людей и камни пирамиды. — Какая мерзость, не правда ли? — стараясь скрыть нервную дрожь, прошептал Харт. — Отчего же, Уильям? — возразил Кроуфорд. — В этой жизни нам всем приходится чем-то жертвовать ради своих целей. Честью, временем, здоровьем, любовью, мечтами, жизнью, наконец… Разве не пьют священники кровь Христа, и не едим мы, миряне, его плоть? Боюсь, у нашего Причастия длинные корни. А мы просто пользуемся Жертвой. — Как вы можете говорить такие гнусные вещи, сэр Фрэнсис! — не выдержала Элейна, все еще стоявшая спиной к пирамиде. — Жертвоприношения нельзя судить по нормам морали, мадемуазель Абрабанель, — вмешался в разговор Ришери. — Это явления иного порядка, чем наши представления о хорошем и плохом, и мы до конца не можем понять их высшего смысла. — Вот именно, — поддакнул Кроуфорд. — Нельзя же всерьез рассуждать о моральности или эстетизме Распятия, хотя наши церкви и дома заполнены изображениями Христа, прибитого гвоздями ко кресту! — Опять вы кощунствуюте, сэр Фрэнсис! — вдруг оборвал его отец Дамиан. — Между изображением распятого Христа и этими идолами разница гораздо глубже, чем просто между язычеством и христианством. Видите ли, Тецкатлипока, которому индейцы приносят сегодня эти жертвы кровью, имеет множество наименований. Я читал, что к нему обращаются под множеством имен, в том числе под такими, которые можно перевести как «Господин, которому мы служим», «Тот, рабами которого мы являемся» и даже «Всемогущий, который делает все». Вы слышали, как индианка обратилась к идолу? О нем говорили, что он знал «все мысли», «был во всяком месте», «знал сердца», то есть мысли, намерения людей. Таким образом, перед нами тот, кто святотатственно подменяет собой Спасителя нашего Иисуса Христа и присваивает, узурпирует не принадлежащие ему привилегии Бога-Троицы. Идол Тецкатлипоки — не просто идол, в котором живет бес, это одна из ипостасей самого дьявола! — Ой, падре, не знаю что там и как, но сейчас вы явно загнули, — Кроуфорд усмехнулся. — Еще немного, и вы возведете покойного профоса в антихристы! — Ой, Б-же, здесь все говорят о таких тонких материях, — вдруг встрял в разговор молчавший до этого Абрабанель, — но может быть кто-нибудь скажет бедному еврею, что значат эти удары из-под земли? — Пришествие атлантов, — машинально буркнул Харт. Потрошитель оглянулся на него и покрутил сохранившимся пальцем у виска.Глава 17 Гибель богов
Новая Гвиана. Сельва у берегов Карони
Первым пришел в себя отец Хосе. Выпустив Лукрецию, он развернулся к сгрудившимся у края площадке монахам и закричал им, перекрикивая пение, ветер и барабаны: — Братья, вы видели кровь мученика! Господь благословляет нашу миссию, мы клялись крестом нести Его слово язычникам! Так не дадим дьявольским силам вырвать у нас нашу паству! Индейцы зашумели, послышался ропот. Монахи с сомнением уставились на собрата. Пока брат Хосе ораторствовал, Лукреция медленно пятилась к краю пирамиды, надеясь незаметно соскользнуть с площадки и сбежать подальше от этой толпы сумасшедших. Жестокая смерть иезуита вызвала на ее губах злорадную усмешку и более всего она сожалела об забрызганном его кровью платье и о напрасно потерянных усилиях по его соблазнению. Воспоминания о его прикосновениях вызвали в ней дрожь отвращения, и она нервно рассмеялась. «Вот проклятая стерва, — подумала Лукреция, поглядывая на возвышающуюся над толпой индианку, и шаг за шагом отступая от фанатичного секретаря, — это ж надо так задурить мужику голову, что он сам лег под нож, да еще улыбался ей! Вот это мастерство, вот у кого надо поучиться!» И едва ей показалось, что ее маневр удался, как брат Хосе вдруг обратился в ее сторону, и заметив ее бегство, в два прыжка очутился рядом. Толпа расступилась, все еще находясь под действием случившегося. — Не уйдешь, проклятая ведьма! — вскричал монах и схватив ее за плечо, с силой рванул на себя. Тонкая ткань лопнула, рукав оторвался, обнажив плечо. Лукреция инстинктивно схватилась за едва державшийся на ней лиф, прикрывая грудь. — Отпусти меня, дрянь, — крикнула она монаху, но от продолжал тянуть упирающуюся женщину к себе. — Это ты во всем виновата, ты свела его с ума, ты!!! — кричал разъяренный брат Хосе. Индианка молча наблюдала за происходящим, молчала, застыв, и толпа.* * *
Когда толпа расступилась и Кроуфорд увидел Лукрецию, он все понял. Швырнув подзорную трубу Ван Дер Фельду, он бросился вниз, к пирамиде. Ришери кинулся следом. Абрабанель выдернул оптический прибор из рук предполагаемого зятя и приник к стеклу. — Это Лукреция! — вскричал он через мгновение. — Я так и знал, господа, я так и знал! — и, сунув трубу растерявшемуся голландцу, заломил руки. Харт немедленно забрал трубу себе и в свою очередь навел ее на пирамиду. — Что там? — воскликнула Элейна, дергая его за рукав. Харт ничего не ответил, уставившись в окуляр. Все остальные, не имея возможности воспользоваться прибором, просто вытянули шеи и уставились вниз, больше не боясь быть замеченными. Да и вправду, людям, находившимся сейчас на пирамиде, было не до них. Потрошитель вытянул клешню и ткнул ею в бегущих мужчин. — Смотрите, кто первым добежит! — осклабился он. Первым оказался Ришери, так как его путь между скалами был короче и удобнее. Забыв обо всем, он бросился к полуразрушенным ступеням и, цепляясь за растущие в расщелинах между камнями лианы, полез к вершине. Это было трудно, так как с ближайшей к нему стороны пирамиды ступени более всего было попорчены временем и непогодой. Кроуфорд выбрал другой путь. Неожиданно для себя он метнулся к порталу, через который вошли внутрь профос и индианка. Тяжелая каменная плита плотно прилегала к скале. После секундного раздумья, Кроуфорд оглянулся и достал из-за пазухи хрустальный череп. Стиснув его в ладонях, он уставился в пустые глазницы мертвой головы. Странное чувство нереальности происходящего охватило его. Стихли вопли индейцев, умолкли барабаны. Тонкие серебряные нити протянулись между ним и чудесным кристаллом, в глубине которого вдруг мелькнула призрачная женская тень… Со страшным грохотом на землю рухнула каменная плита, едва не похоронив англичанина под собой. Показался проход. Не раздумывая, Кроуфорд нырнул внутрь, не заботясь о том, что ловушка может захлопнуться и, держа череп в вытянутой руке, бросился вперед. Казалось, мрак затхлого подземелья отступал перед ним. Череп светился, и исходящего от него света было достаточно, чтобы следовать по длинной галерее в толще камня. Но он не знал, что пирамида устроена так, что тот, кто хочет пройти наверх, сначала должен спуститься вниз. Вначале он бежал, спотыкаясь, задевая камни на поворотах и моля Бога, чтобы Лукреция была жива. Потом он проклинал себя за то, что в каком-то затмении решил полезть внутрь. Затем дорогу ему преградил смеющийся Тецкатлипока, в руке которого дымилось черное зеркало Джона Ди, подаренное чернокнижнику сэром Уолтером Рэли. Кроуфорд миновал идола, выхватив из его руки зеркало, и помчался дальше, не обратив внимание, что статуя, развернувшись, запечатала проход. Когда Фрэнсис достиг мертвого озера, он впал в отчаяние. Он понял, что ему не успеть и что он потеряет Лукрецию раньше, чем выберется отсюда. В бешенстве он стал лупить кулаком по угольно-черной стене, разбив руку и обагрив камни кровью. Потом стиснул зубы и шагнул в черную муть. Он шел, как указывал череп, и в призрачном свете под маслянисто сверкающей антрацитовой водой светились камни, на которые ступал человек. Когда Фрэнсис дошел до куба, он уже даже не молился. Слезы бежали по щекам, и он больше не сдерживал их. У него просто не было сил. Он плакал, всхлипывая и размазывая соленую воду по лицу, как плачет ребенок. Он отдал самое дорогое, он выбрал. Он выбрал не сейчас, бросившись внутрь пирамиды, не тогда, у костра, решив двигаться прямо к долине, и даже не там, у водопада, рискнув прыгнуть со скалы. Он выбрал много лет назад, приняв от отчима деньги и отплыв на поиски Эльдорадо. Он выбрал золото, а не ее. И теперь он потерял ее навсегда. Он нашел то, что искало его сердце. Он плакал, зайдя внутрь черного куба, плакал, проходя мимо урн с золотом, плакал, разглядывая золоченые доспехи мертвых богов, и слезы его капали на желтый металл. Он шел вперед, как учили, как привык, как выбрал. И когда перед ним оказалась узкая лестница, ведущая наверх, он вытер слезы и шагнул на ступень. Он не видел, как скользнула за ним, печально улыбаясь, призрачная дама в черном платье и с зелеными глазами.Не обращая внимания на боль в ободранных ладонях и коленях, цепляясь за лианы и ветви кустарников, Ришери карабкался наверх по ступеням пирамиды. Иногда он поднимал голову и с тоской смотрел на вершину, в глубине души понимая, что ему ни за что не успеть. Но жившая в его сердце любовь гнала его вперед, и теперь, когда он увидел эту женщину живой, его уже ничто не могло остановить.
— Убей ее! Брат Хосе вздрогнул и обернулся. Прямо перед ним стояла На-Чан-Чель с забрызганным чужой кровью лицом, в залитом чужой кровью одеянии. В одной руке индианка держала нефритовую чашу, а в другой — обернутый белой хлопковой тканью обсидиановый нож. — Убей! — повторила индианка и протянула монаху нож. — Это ведь она во всем виновата. На-Чан-Чель перевела вгляд на Лукрецию. — Это ты во всем виновата, бледнолицая ведьма с сердцем койота. Ты околдовала Роджера и лишила его разума, ты вынудила его сделаться убийцей моего брата, обрекая меня на муки выбора между праведной местью за свой род и благодарной любовью за свое спасение. Ты привела этого испанца, ты… Ты служишь Тецкатлипоке, пробуждая в людях то, что должно спать, значит, ты должна разделить с ним ложе. Твое сердце ляжет ему в грудь, ты умрешь, и пойманные тобой души окажутся на свободе. Я выпущу их, и больше никто не станет порченным из-за тебя. Как громом пораженная, застыла Лукреция перед индианкой. Ужас, сдерживаемый ее железной волей, вырвался на свободу, и перед глазами пронеслась вся ее жизнь. Отшатнувшись от На-Чан-Чель, она дико закричала и закрыла лицо руками. Индианка взяла руку брата Хосе и, разжав пальцы, вложила в нее нож. — Убей ее, — повторила она в третий раз. Брат Хосе смотрел в черные, как колодцы, глаза женщины и понимал, что он сам этого хочет. Да, он хочет, чтобы эта низкая тварь получила по заслугам. Горячая волна ненависти затопила его сердце, хлынула в гортань и осела на губах коричневой пылью горьких плодов какао. Он всегда хотел, чтобы эта женщина сдохла, и от того, что ему позволено совершить это, грудь его расширилась, наполняясь яростным торжеством. Наконец-то в его жизни совпали, сошлись воедино то, что он хочет сделать и то, что он должен. И в этом совпадении он познал восторг, овладевший им и пронзивший его как молния. Он стиснул нож и, схватив Лукрецию за волосы, подтащил к себе. И никто на пирамиде не видел, как с другой стороны на вершину поднялся Ришери и, расталкивая оцепеневших людей, бросился к леди Бертрам. В этот момент вскрикнув, упала в обморок Элейна — Уильям едва успел подхватить ее. Абрабанель вцепился в кисти цицит, болтавшиеся по углам его жилета. Отец Дамиан торопливо перекрестился. Ван Дер Фельд прикрыл глаза. Вдруг Потрошитель впился глазами в Лукрецию. — Ведьма, — заорал он, — морская ведьма! В ту же секунду Ришери с силой рванул женщину от монаха, заслонив ее собой. Нож вошел ему в грудь, и алое пятно расплылось на белой рубахе точно напротив сердца. Увлекая за собой женщину, он рухнул на землю. Брат Хосе, в ужасе выронив нож, попятился. — Я не хотел, — бормотал он, — я не виноват. Это все ведьма, это она… В этот момент на платформе оказался Кроуфорд. Ударом кулака отшвырнув индейца, загоражевшего ему путь, он кинулся к Лукреции, но замер, наткнувшись на индианку. И тогда На-Чан-Чель закричала, раздирая себе лицо ногтями. Обогнув ее, Кроуфорд опустился на колени перед Лукрецией, прижимающей к себе умирающего Ришери. Леди Бертрам не видела ничего вокруг. Она, покачиваясь, гладила мужчину по щеке. — Франсуа, — шептала она, целуя его в губы, — Франсуа, я знала, что ты спасешь меня, я ждала, я верила… Каждое слово Лукреции раскаленными иглами вонзалось в сердце Кроуфорда, измученное ревностью. Ришери слабо улыбнулся, на губах его выступила кровавая пена. — Я люблю вас, Аделаида, — прошептал он, — не плачьте, я пришел. — Прости меня, прости за ту проклятую порку на корабле, и за мою жестокость, и за клятву, что я вырвала у тебя в ночь на Эспаньоле… Прости меня. — Слезы катились из глаз женщины и падали на лицо умирающему. — Я завидовал Рэли, потому что он… Я счастлив, что умираю вместо тебя. Я люблю… Глаза Франсуа де Ришери остались открытыми. Кроуфорд поднял голову и увидел, как из-за спины ослепшей от горя леди Бертрам поднялась призрачная женщина в черном и, покачав головой, медленно растаяла в воздухе. Лукреция протянула руку и ладонью закрыла французу глаза. Кроуфорд поднялся и, глядя на женщину взглядом, полным боли и отчаяния, отступил назад. Мертвый победил живого. — Ничего уже не исправишь, — прошептал он. — Слишком поздно. Это я должен был прийти — и не пришел, спасти — и не спас. — Уж не хочешь ли ты убить ее? — услышал он, обернулся и встретился взглядом с индианкой. По ее расцарапанному лицу струилась кровь, в крови были ее платье и руки. — Нет, не хочу. Кроуфорд подошел к На-Чан-Чель и обхватил ее за плечи. — Что ты наделала, дурочка, что ты наделала? — спросил он, заглядывая ей в глаза. В ту же секунду сильный толчок потряс пирамиду до самого основания. Индианка вырвалась из его рук, и как кошка отпрыгнула в сторону. Глаза ее полыхнули зеленым огнем. — Я исполнила долг! — крикнула она, сжимая жертвенный нож в руке.
Пришедшая в себя Элейна, услышав зловещий бой «лежащих на земле барабанов», шепотом спросила спросила у Харта: — Что это, Уильям? — Землетрясение… — мрачно ответил тот, устремляя взгляд в сторону пирамиды и понимая, что он не в силах ничем помочь гибнущим там людям. — Надо уходить отсюда, — сказал Ван Дер Фельд. — Вы как раз вовремя пришли в себя, мисс, чтобы спускаться.
И как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как в ужасе мечутся по платформе, толкаясь перед рушащейся лестницей, обезумевшие от страха люди. Рядом с саркофагом остались только Кроуфорд и яростно хлещущая себя по бокам огромная бурая онза. Как она там оказалась и куда исчезла индианка, никто не видел. Кроуфорд отбросил бесполезную в таких условиях саблю и схватился за кинжал. Кошка прыгнула, Кроуфорд присел и, когда животное было над ним, резко ударил его в пах и рванул клинок на себя. Раздирающий вопль, в котором боль и страх небытия слились воедино, вырвался из груди смертельно раненого животного, и оно рухнуло на камни. В ту же секунду еще несколько мощных подземных толчков подряд сотрясли землю, и пирамида зашаталась. Кроуфорд, с трудом удерживая равновесие, бросился к застывшей с мертвым французом на коленях Лукреции. Но внезапно со страшным треском лопнул каменный саркофаг, и из него вырвалась тугая струя черной жидкости. В воздухе запахло серой. Кроуфорд отпрянул. Еще один толчок — и черные фонтаны ударили из нескольких трещин сразу. Спасаясь от землетрясения, индейцы и монахи бросились вниз по лестнице, падая и давя друг друга. Сверху им на головы сыпались камни. Пирамида ходила ходуном, падали, ломаясь, вырванные с корнем деревья, с окружающих скал-тепуи срывались гигантские обломки и с грохотом, круша все на своем пути, валились в долину. То тут, то там из-под земли вырывались черные фонтаны. Кроуфорд упорно пробирался к застывшей в оцепенении женщине. Схватив за плечи, он с силой поднял ее. — Бежим, Лу! — Я не могу бросить здесь Франсуа, — ответила леди Бертрам, упираясь. — Мне надо его похоронить! Тогда Кроуфорд размахнулся и влепил ей пощечину, потом еще одну. Из носа миледи хлынула кровь, и, закричав от боли, она прижала руку к лицу. — Идем же! — заорал Кроуфорд и рванул женщину на себя. Пирамида вздрогнула, камни ушли у них из под ног, и оба кубарем покатились вниз по заросшему ступенчатому склону. В эту минуту один из масляных светильников, оставленных у саркофага, опрокинулся прямо в черную жидкось, разлитую на камнях. Громадный столб огня взметнулся к самому небу, и объятая пламенем пирамида вдруг начала медленно складываться внутрь, как карточный домик.
Лукреция, которую очередной подземный толчок отшвырнул в сторону от Кроуфорда, скатилась к подножию пирамиды и упала, потеряв сознание. К ней сразу же бросились спустившийся со скалы Харт, Потрошитель и голландцы. Первым до женщины добежал Уильям. Подняв ее на руки, он понес ее на открытое место, подальше от пирамиды, где в компании скулящей собаки их ожидали остальные. — Где Кроуфорд? — крикнул Харт, осторожно опуская Лукрецию на расстеленный кем-то из солдат плащ. — Он шлепнулся вон туда! — показал, один из пиратов. — Я должен найти его! — вскричал Харт и бросился в указанную сторону. — Уильям! — вскричала Элейна. — Не уходи! Абрабанель поднял глаза и с укоризной взглянул на девушку. — Дочь моя, будь скромнее, тем более твой жених рядом! — Я вернусь! — крикнул Харт. — Позаботься о Лукреции! Вслед за ним, лая и скуля, бросился Харон. — Хорошая собака! — обрадовался Уильям. — Ну-ка, ищи. Ищи хозяина! Собачонка взвизгнула и кинулась в сторону зарослей. Задыхаясь от дыма и быстрой ходьбы — ибо щенок развивал фантастическую для его кривых маленьких лапок скорость, а земля продолжала качаться под ногами как корабль на волнах, — Уильям перелез через несколько поваленных деревьев и, едва не угодив в трещину, оказался с другой стороны пирамиды, оседающей все ниже и ниже. Пахло сероводородом, окрестные деревья горели. Ярдах в пяти от Уильяма дрались два человека. Первый, одетый в рясу, повалив второго, придавил его коленом к земле, собираясь вонзить ему в грудь кинжал. Собака с лаем бросилась на людей. Подбежав, Харт схватил нападавшего за плечо и рванул на себя, но, увидев лицо мужчины, от неожиданности ослабил хватку. Робер д’Амбулен — а это был он — воспользовался оплошностью и, вырвавшись, отпрянул в сторону. Быстро оглядевшись, он торопливо нагнулся, ища что-то в траве. — Харт, останови его! Забери у него!.. — прохрипел Фрэнсис, пытаясь подняться. — Найти что?! — крикнул Уильям и, не дожидаясь ответа, прыгнул на спину Робера, сшибив того с ног. В траве что-то сверкнуло. Д’Амбулен, брыкаясь, попытался дотянуться до светящегося предмета, но Харт навалился всем телом, пытаясь скрутить ему руки. Это почти удалось англичанину, но следующий подземный толчок помешал. Доктор извернулся и, сбросив с себя бывшего приятеля, вскочил, схватил сверкающий предмет и побежал. Харт бросился вслед, но его и тут опередил пес, который с лаем ринулся на француза, и, подпрыгнув изо всех сил, вцепился тому зубами во внутреннюю сторону бедра. Робер заорал от боли и попытался оторвать от себя мерзкую собачонку. Сверкающий предмет выскочил из его рук и покатился по траве прямо к трещине в земле. Забыв про француза, Харт бросился за ним и успел поймать у самого края впадины. Только тут он разглядел, что в руках у него хрустальный череп. В ту же секунду сильный удар свалил его с ног. — Харт, сзади! — крикнул Кроуфорд, и Уильям со всего размаху ударил черепом д’Амбулена в висок. Оглушенный д’Амбулен рухнул на землю. — Чтоб ты сдох… Нет, это не по-христиански, — оборвал себя юноша. — Чтоб тебе шляться по земле как Вечному Жиду! — в сердцах выкрикнул Уильям, все еще крепко сжимая череп. Удивительно, но горный хрусталь не только не раскололся от сильного удара, но даже нижняя челюсть черепа, закрепленная на шарнире, не пострадала. — Смотрю, будущий тесть не выходит у тебя из головы! — хохотнул Кроуфорд, пытаясь подняться. Но смех его перешел в кашель и, прижимая руки к груди, он снова упал на колени. Уильям подбежал к нему и помог встать. Сплюнув сгустки крови, Кроуфорд протянул руку Уильяму: — Давай сюда игрушку, — приказал он и, забрав у Харта череп, спрятал за пазуху. — Хочешь жить долго и счастливо — забудь, что видел, — добавил он. — Понял, — с готовностью отозвался Харт. — Что делать с этим… доктором? — Ничего, пусть… О! Проклятье! — стихнувшее было землетрясение вдруг дало о себе знать новым толчком, от которого Кроуфорд припал на правую ногу и судорожно схватился за плечо друга. — Ты ранен, Фрэнсис? — Похоже на то… Тысяча чертей, Уильям, скорее! — вдруг рявкнул он. Страшный взрыв сотряс долину, в воздух взметнулись камни, и на глазах потрясенных и напуганных людей в клубах черного дыма и столбах пламени пирамида, наконец, исчезла в провале — таком глубоком, как будто сама преисподняя поглотила ее. А на этом месте, пенясь и бурля, появилось черное маслянистое озеро, по поверхности которого носились обломки деревьев и трупы людей, вспухали и лопались большие черные пузыри. Землетрясение продолжалось. Стучали подземные барабаны, прекрасная долина исчезала на глазах. Пылали деревья, рушились скалы, кипела река, остатки зданий превращались в груду щебня. — Небольшой Армагеддон в качестве десерта, — пробормотал Кроуфорд. — Должно понравиться твоему будущему папеньке. Пойдем, Харт, надо уводить людей.
Нефтяное озеро заволновалось, грозя выйти из берегов и затопить окрестности, а небольшая трещина в земле у их ног начала стремительно расширяться. — Прыгай, Харт, что же ты? — выпустив плечо Уильяма и стискивая рукой поврежденное колено, скомандовал Кроуфорд. Харон огласил горящий лес злобным заливистым лаем. — Только вместе с тобой! — Я не могу… нога… — Обхвати меня за шею! — Ты с ума сошел! — Сошел! Хватай, черт тебя побери!.. Да не так, ты задушишь меня! Кроуфорд обхватил сцепленными в замок руками шею Харта сзади. Прижав его ноги к своим бокам, Уильям с разбега прыгнул на другую сторону расселины и упал на живот, тяжело дыша. Кроуфорд навалился на него сверху. Несколько минут оба лежали на вздрагивающей земле, преводя дух. Толчки стихали, но кто поручится, что через несколько минут землетрясение не начнется вновь? — Идти сможешь, Фрэнсис? — Скорей ползти. Пожалуй, ты зря прыгал через расщелину. Брось меня! — Уволь! Однажды я уже тебя послушался, и что хорошего из этого вышло? Да, и еще, если я это сделаю… леди Бертрам не простит меня. — Она жива? — в глазах Кроуфорда вспыхнула было надежда, но вскоре потухла, и он отвел взгляд. — Жива. Я оставил ее на попечение Элейны. Миледи ждет тебя! — Брось, Уильям. Ты ничего не понимаешь! — Иногда, сэр Фрэнсис, вы бываете просто невыносимы, — произнес Уильям и ткнул своего друга в бок. — Потом разберемся. Вставай и пошли потихоньку, а если будешь ныть, я нажалуюсь на тебя Джону Смиту.
* * *
Идти Кроуфорду было трудно. Уильям поддерживал его, то и дело пытаясь тащить на себе. Но Кроуфорд был выше его на голову и тяжелее, посему вскоре Уильям бросил свои прекраснодушные порывы и просто подставил плечо. Харон бежал рядом с ними, чихая и хрюкая. К счастью для людей, земля под ногами почти не качалась. — Как ты думаешь, Фрэнсис, землетрясение закончилось? — Вроде да. Только по закону подлости обычно то, чего хочешь больше всего на свете, исполняется с точностью до наоборот. — Ну, не всегда же, — улыбнулся Харт и прибавил: — Проклятье! Мы, кажется, заблудились в этих зарослях. — Мы — возможно, но ты забываешь, что у нас есть Харон. Харон, домой, назад! Пес, с сомнением оглянувшись на хозяина, громко залаял и потрусил вперед. Ковыляя за ним, два друга вскоре вышли к своим. Их появление был встречено радостными криками. — Леди Бертрам была без сознания, а теперь спит, — поспешил доложить отец Дамиан, все еще чувствуя себя виноватым перед Кроуфордом за свою оплошность с миледи. — Но горячки нет, это нервное потрясение. Скорее всего, она скоро придет в себя. Кроуфорд мотнул головой, словно отгоняя какие-то мысли. — Коль вы так благополучны, уважьте мои страдания, то бишь раны, да дайте чего-нибудь пожрать. — А еще лучше выпить, — воскликнул Джек и протянул Кроуфорду флягу. Тот с жадностью припал к горлышку и пил, пока фляга не опустела. Утерев губы, он вернул ее Потрошителю, а тот помог своему капитану опуститься на землю. — Проваливай, Джек, без тебя тошно! — рявкнул Кроуфорд, осторожно укладывая больную ногу. Но Потрошитель не двинулся с места. — Послушайте, кэп, — сказал он хриплым шепотом и полез за пазуху. — У меня тут случайно завалялась карта сэра Уолтера… Кроуфорд устало поднял глаза на квартирмейстера. — Засунь ее себе в задницу! — Да, кэп, то есть, нет. Смотрите сами, — Потрошитель наклонился и, торопливо развернув обгорелый грязный кусок бумаги, ткнул пальцем в нарисованный красными чернилами крест. — Ну и что? — Гляньте, кэп. Вот пирамида, — грязный обкусанный ноготь пирата уткнулся в маленький черный треугольник, — а вот крестик. Видите, он чуть в стороне, в скалах, возле перевала, через который мы спустились сюда. Я тоже думал про долину, уж больно покойный адмирал поистыкал ее всякими закорюками. А потом, ну, когда все бабахнуло, я вдруг вспомнил про крестик этот красный. Адмирал его поверх лимонного соку красными чернилами поставил, нарочно! Как будто бы на обманной карте… а когда настоящая открыта, то и получается, что… там-то мы еще не искали, а? Кроуфорд уставился на Джека. В глазах его вспыхнул огонь. Обхватив за шею пирата, он притянул его к себе и быстро поцеловал в потный лоб. Джек побагровел. — Ты, сукин сын, Джек! Ты настоящий сукин сын! Теперь мы нашли сокровища! Только молчи и спрячь это! Все еще красный, Потрошитель дрожащей рукой утер лоб и запихал карту под куртку. Тем временем, оставшиеся без присмотра солдаты торопливо разводили костер, чтобы согреть воды. Джон Смит встал за спиной Кроуфорда, олицетворяя собой верную тень. Уильям, ловя взгляды Элейны, оторвал рукав своей рубахи, который и так держался на честном слове, и сосредоточенно стал промывать ромом из фляжки глубокую ссадину, оставленную на его плече д’Амбуленом. Потрошитель с помощью одного из солдат, немного смыслящего в медицине, принялся осматривать больную ногу Кроуфорда и его многочисленные ожоги. — Хозяин! — вдруг услышал Фрэнсис голос неизвестно откуда взявшегося Чилана. — Хозяин, нельзя костер. Огненная река! Нужно уходить, хозяин, сейчас здесь все сгорит! — Проклятье!!! — заорал Кроуфорд, внезапно осознав до конца, что произошло на пирамиде и что имел в виду его дед, оставляя значки на карте. — Какой идиот выдумал разводить огонь на месторождении горного масла?! Но было поздно. Пропитанная нефтью земля, облитые ею же камни и поваленные стволы деревьев, наконец сами продолжающие бить черные фонтаны — все вокруг стремительно занималось пламенем. Ручейки огня растекались в разные стороны. Солдаты и пираты в спешке хватали самое необходимое — оружие и провиант, и в поисках спасения бежали туда, где стена огня и дыма еще не превратилась в сплошную. Кроуфорд, опираясь на Потрошителя, стремительно заковылял к палатке, в которой спала Лукреция. Уильям, не обращая ни на что внимания, подхватил на руки Элейну и, не слушая причитаний ее отца, семенящего следом, ринулся в проход между двумя полыхающими деревьями. Они выскочили из горящего пролеска ко входу в ущелье, но оно оказалось завалено рухнувшей скалой. Но самым страшным было другое: горели не только лес, тепуи и земля под ногами — горела река. В результате землетрясения часть нефти вылилась в поток, берущий свое начало у подножия гор, и теперь подступиться к проходу между скалами не представлялось возможным. Даже один из водопадов превратился в огнепад, и, если бы не опасность и не нестерпимый жар, надвигавшийся на путешественников со всех сторон, стоило бы признать, что это — самое величественное и фантастическое зрелище, какое только можносебе вообразить. — Чилан, ты знаешь дорогу? — спросил Кроуфорд, которого поддерживал Джон Смит. Рядом стоял верный Потрошитель с крепко спящей Лукрецией на руках. За их спинами толпились остальные. — Харон знает! — со странным смешком ответствовал рыжий индеец. Затем он достал из кармана какую-то маленькую штучку, похожую на обломок губной гармоники, и путешественники услышали крик птицы кетцаля. При этих звуках рыжий щенок высоко подпрыгнул и тоненько заскулил. — Через водопад, хозяин, — коротко бросил Чилан. — Там есть дорога. Видите, и пес туда же рвется. — Допустим, — пробормотал Джон Смит. — Только как мы перейдем огненную реку? — Кидая в нее камни, — просто ответил Чилан. — Вот ты первый и кинешь. Все должны кинуть по камню. — Это что, обряд такой? — недоверчиво спросил Смит. — Какая разница, Джон, если огненное кольцо сжимается? Смит покорно схватил первый подвернувшийся под руку камень, подошел ближе к потоку и швырнул валун туда. — Неправильно, — сказал Чилан. — Нужно сбить во-он тот кусок скалы. На противоположном берегу реки над самой водой навис огромный осколок скалы, держащийся над водой на честном слове. Было странно смотреть, как гигантский камень балансирует на краю вопреки законам земного притяжения. Мальчишка, поискав за земле рядом с собой подходящий камушек, вложил его в пращу, сделанную из кушака и запустил в скалу. Импровизированный снаряд ударил в обломок скалы, тот покачнулся и с размаху рухнул в пылающую реку, подняв целый фонтан огненных брызг. — Несите дерево! — скомандовал Кроуфорд. Через дымящуюся воду перекинули ствол, и люди по одному начали перебираться на камень. Первыми на валун взобрались Харт с Элейной и Абрабанель, за ними пропущенный вперед Потрошитель с Лукрецией, Кроуфорд со Смитом, Ван Дер Фельд, пираты и солдаты. Замыкал шествие отец Дамиан. — Идите насквозь, через водопад, за Хароном! — крикнул Чилан. — Там есть проход! Путешественники один за другим проходили под струями водопада. За пенистой стеной оказалась довольная большая, почти сухая площадка, а в каменной стене зияла узкая расселина, из которой струился свет. Уильям хотел было двинуться первым. — Стой, Харт! — вдруг заорал ему Кроуфорд. Харт замер. — Смотри! Кроуфорд указал на собаку. Та явно нервничала. Она крутилась на одном месте, жалобно скуля и не выказывая ни малейшего желания лезть в расселину. Несколько солдат, поддавшись панике, все же устремились в проход, но в этот момент — в который уже раз за столь долгий и богатый событиями день! — что-то гулко ухнуло, земля дрогнула, и со скал посыпались камни. Узкую расселину вместе с людьми Мортона завалило обломками скалы, из-под которых теперь неслись стоны умирающих. Элейна закричала. Словно отвечая на ее рыдания, еще одна скала рухнула в реку, окончательно запрудив ее, но, вместе с тем, образовав новый проход. Вода стала стремительно прибывать. — Надо уходить! — Кроуфорд дернул за руку Харта, с каким-то сладким ужасом в груди глазевшего на чудовищную смерть только что стоявших рядом с ним людей. — Нечего пялиться, мы им ничем уже не поможем. Это был их выбор, так что каждый из нас пусть пеняет здесь только на себя. Отруби-ка мне вон ту ветку заместо костыля, потом бери свою девку и топай вперед. Я уж сам дохромаю до сокровищ. — Он закашлялся. Харт за время приключений все-таки усвоил, что есть моменты, когда надо подчиняться своему капитану. Он молча вырубил раздвоенный на манер рогатины сук, обломал лишние ветки и подал Кроуфорду. Скуля и подпрыгивая, Харон полез на осыпавшиеся камни первым, за ним последовали Абрабанель, поддерживаемый под руку Ван Дер Фельдом, Потрошитель с Лукрецией на руках, отец Дамиан, уцелевшие солдаты и пираты. Последними вскарабкались на скалы Харт и Элейна, а в арьергарде полз вверх Кроуфорд, обливаясь потом, помогая себе рогатиной и цепляясь руками за камни. Он закусывал губы от боли, стараясь не думать о стремительно подступавшей воде.Глава 18 Сокровища атлантов
Новая Гвиана — Карибское море — Тринидад
Картина, представшая перед глазами добравшихся до перевала людей, ошеломила их. Бросая прощальные взгляды в долину, они ужасались произошедшим в ней разительным переменам. Когда они пришлю сюда — то был райский уголок. Уходя, они оставляли за собой царство мертвых. — Вот она, истинная харизма людей: уходя, оставлять за собой пепелище! — опираясь на сук, Кроуфорд оглядел простирающуюся у его ног долину. Далеко внизу, у подножия гор, все, насколько хватало глаз, было сожжено, залито мертвой маслянистой жидкостью, изуродовано и завалено трупами людей. Кое-где догорали пожары, повсюду курился дымок. Измазанные нефтью мертвые птицы и животные лежали на камнях, остовы почерневших домов сиротливо виднелись сквозь завалы. Более гнетущей картины Уильяму не приходилось видеть. Это был пейзаж, достойный Данте, воспевшего Ад. Харт видел, как помрачнели привычные к виду смерти Кроуфорд и Ван Дер Фельд, как растерялся Хансен и затрепетал Абрабанель. Отец Дамиан зашептал по латыни молитвы, а Элейна незаметно утерла глаза. Лукреция промолчала. На ее оледеневшем, прекрасном как у мраморного изваяния лице ничего не отражалось. С той самой минуты, когда На-Чан-Чель бросила ей в лицо свои обвинения, а Ришери умер у нее на руках, она ни с кем не говорила и ни на что не обращала внимания, и если ее оставляли в покое, она опускалась на землю и тупо смотрела перед собой. — Мне кажется, — сказала Элейна на ухо Харту незаметно для всех, — что она даже не заметила, что сэр Фрэнсис жив. Да и он по-моему не вполне в себе с тех пор, как вернулся из этой злосчастной пирамиды. Кроуфорд стоял чуть поодаль от всех, держа на руках собаку, и смотрел на разоренную землю. Когда ему казалось, что его никто не видит, он переводил полный боли взгляд на миледи, тщетно надеясь, что она его узнает. Но ее прекрасные зеленые глаза смотрели сквозь него, и в них не было ничего, что свидетельствовало бы о том, что она хоть что-то понимает. Уильям кивнул и с горечью посмотрел на своего друга. — Даже не знаю, что делать, — прошептал он в ответ. — Может быть, когда мы выберемся из этого ада, она отойдет от потрясения, — и молодые люди одновременно вздохнули. Потрошитель незаметно подобрался к Харту и кивнув головой в сторону Лукреции, тихо сказал: — Это морская ведьма украла ее душу. Вот те крест, Уильям, я сам видел. Когда сумасшедший монашек зарезал француза вместо леди, а та убивалась над ним, то откуда ни возьмись у нее за плечами встал проклятый призрак. А потом он исчез и унес с собой душу миледи. Вот так. — Потрошитель вздохнул и полез в кисет за очередной порцией табака. Уильям и Элейна переглянулись. — Я тоже видела призрак. Это была красивая дама в черном, как две капли воды похожая на Лукрецию. Но подумала, что мне померещилось, — проговорила Элейна и оглянулась на леди Бертрам. Та по-прежнему сидела на земле не шевелясь. Ветер лениво трепал ее прекрасные черные волосы, но она ничего не замечала вокруг. — А я что говорю! — воскликнул Джек. — Здесь надо того, кто понимает толк в ведьмах.— Жизнь человеческая — это ткань из хороших и дурных ниток, — пробормотал вдруг Кроуфорд. И, не давая друзьям времени заподозрить и его в помрачении рассудком, добавил: — Харт, Потрошитель и Ван Дер Фельд, вы пойдете со мною последними. — Послушайте, Кроуфорд… — начал было Джон Смит. — Послушайте, Смит, — передразнил его Фрэнсис, — я прошу вас: пойдите, пожалуйста, куда-нибудь к черту! Здесь вы не останетесь, в противном случае на вашу безупречную репутацию ляжет несмываемое пятно. Я лично позабочусь о том, чтобы сэр Леолайн втер это пятно в ваше реноме как можно глубже и размазал как можно заметнее для окружающих. Только четыре человека: я, Джек, Харт и Ван Дер Фельд. — Прекратите, Кроуфорд! — злобно отрезал Смит. — Я иду тоже. — Черт с вами, моя персональная тень. Только вот на папашу Гамлета вы не тяните. Пойдете замыкающим и проследите, чтобы за нами не увязался наш еврейский друг, — с этими словами Кроуфорд свернул на неприметную тропинку, петляющую вправо от перевала. Ущелье, по которому они еще так недавно — или так давно? — пришли в долину, было почти полностью завалено обломками скал, однако в одном месте оказалось возможным спуститься сверху почти до его дна. — Фрэнсис, мне кажется, вон той пещеры здесь не было, когда мы шли к пирамиде, — сказал Харт. — Дело говорите, сэр, — поддержал его Потрошитель. — Не было там пещеры, даже расселины никакой не было, только груда валунов и щебня. Боб на ней, на щебенке, еще оступился и локоть ободрал. — Так чего же ты стоишь, сукин сын? Пятеро путешественников тихо, будто боясь спугнуть удачу, подошли к пролому в скальной стене, открывшемуся благодаря землетрясению. Вблизи входа в пещеру стало очевидно, что она существует тысячи лет, но ее кто-то преднамеренно завалил камнями так, что догадаться о ее существовании, стоя рядом посредине ущелья, было решительно невозможно. Теперь подземные толчки обрушили часть камней, служивших маскировкой, и через образовавшееся отверстие в пещеру мог пролезть человек. Но стоило им попытаться проникнуть в пещеру, как они вначале услышали вопли и причитания, а потом и увидели кубарем скатившегося к ним по склону Абрабанеля. Кроуфорд застонал. — Джентльмены, — захныкал коадьютор, теребя малость пооблезлые кисти цицит, — неужели вы бросите бедного беззащитного еврея одного, без охраны, среди головорезов-пиратов и грубых нравом солдат?! — Произнося это тираду, он, невзирая на полноту и возраст, опустился на колени и кинулся в пещеру первым. — Смит, черт вас дери, я же просил!.. — Мне может приказывать только сэр Леолайн, — процедил Смит сквозь зубы и смерил Кроуфорда ненавидящем взглядом. — Тогда останетесь снаружи и будете охранять Его-милость-денежный-мешок! — Кроуфорд попытался оттащить коадьютора от лаза, но, случайно опершись на больную ногу, выругался и бросил это занятие. — Ой, ой, ой, — снова заголосил коадьютор, — как неблагородно бросать старого человека на произвол судьбы… — Но Кроуфорд оттолкнул мерканта и исчез во тьме пещеры. Вслед за ним двинулись Харт, Ван Дер Фельд и Потрошитель. Пещера, в которой они оказались, была не очень велика и почти полностью заполнена кучей щебня, густо покрытого пылью. Потрошитель бросился к ней и прянялся разгребать камни руками. Через минуту он нащупал что-то и удвоил усилия. — Святая Мадонна, — вдруг воскликнул отступая. Прямо из под щебня на землю, из ветхого кожаного мешка, посыпались золотые украшения и слитки. — Ура! — завопил Харт. Ван Дер Фельд остолбенел, а все-таки прорвавшийся внутрь Абрабанель упал на кучу и обхватил ее руками. Через мгновение, поднимая тучи пыли, ругаясь, чихая и кашляя, уже все жадно рылись в куче, оказавшейся сваленными кое-как, наполовину истлевшими кожаными мешками, набитыми золотом. Переведя дух, люди отступили от груды сокровищ. В их головах с трудом укладывалось, что перед ними те самые легендарные сокровища и что они так буднично их обнаружили. — Да уж, — отплевываясь от скрипевшего на зубах песка, фыркнул Кроуфорд, с трудом сдерживая переполнявшее его ликование, — землетрясение пришлось как нельзя кстати. — Смотри, кэп! — крикнул Потрошитель, пнув в бок сэра Фрэнсиса. Тот задрал голову. Прямо над ними, высоко на стене, свечной копотью было начерчено «У. Р». — Во всяком случае, для нас оно оказалось небесполезно, — осторожно сказал Ван Дер Фельд, запоздало отвечая на тираду Кроуфорда. Харт ничего не сказал — он словно онемел, восторженно любуясь сокровищами. — Неужели они действительно существуют?! — произнес он, наконец обретя дар речи и стряхивая с себя оцепенение. — И ты сейчас будешь пересыпать их в мешки, которые на этот случай можно одолжить у Джона Смита. Ведь у него они всегда все при себе, — саркастически добавил он. Смит, который, конечно, уже тоже был в пещере, одарил Кроуфорда злобным взглядом. Торжество от обретения сокровищ и исполненной миссии мешалось в его душе с черной завистью к авантюристу. Через несколько часов, сгибаясь под тяжестью золота, солдаты, пираты и голландцы покинули ущелье. Абрабанель, безуспешно сдерживаемый Джоном Смитом, кинулся к Кроуфорду: — Как вы могли так поступить со мной, вашим лучшим другом, сэр Фрэнсис? Почему вы не предупредили меня? Почему не захотели принять мою помощь в погрузке? — в который уже раз запричитал он, хотя его карманы приятно отвисали под тяжестью прикарманеных, в полном смысле этого слова, слитков. — Простите, господин Абрабанель, но я не дружу с банкирами, я ими пользуюсь, — сэр Фрэнсис обольстительно улыбнулся и двинулся вверх по склону, тяжело опираясь на рогатину. Когда все золото было поднято из ущелья и распределено между людьми, которые должны были тащить его на себе сквозь джунгли, Кроуфорд приказал собираться. — Господин Ван Дер Фельд, прошу вас разделить со мной бремя руководства экспедицией, — обратился он к голландцу. — Я готов, — Ван Дер Фельд шагнул к англичанину. — Тогда командуйте выступление. Через несколько часов они оказались в сельве. С каждым шагом, горы, отделявшие их от Эльдорадо, становились все дальше. Пройдет немного времени, и каждый из них, вспоминая о событиях, произошедших с ним в этой долине, уже с трудом сможет отличить явь от выдумки.
* * *
Ночи, которые могли бы быть для Кроуфорда рядом с Лукрецией полными счастья, оказались полными душевных мук. Так было и в этот раз. Как он казнил себя в эти минуты! Если бы он бросился к ступеням, а не внутрь пирамиды, может быть, все было бы по-другому! Ришери был бы жив, а его любимая не… Кроуфорд оборвал себя. Он не мог произнести этих слов «сошла с ума». Это было еще хуже, чем если бы он считал ее мертвой. Тогда бы не было этой еженощной пытки — разговаривать со статуей. Все было напрасно — мольбы, слезы, разговоры… Ее тело было здесь, но где была она сама, не знал никто. Год за годом вспоминая те недолгие дни, когда они были вместе, он убеждал себя, что чувство к Лукреции — всего лишь пагубная страсть, что он просто опьянен ее красотой, ее телом. Но вот — она перед ним, но ему не нужно ее тела. Ему нужна она сама, ему нужна ее любовь к нему, к Роджеру Рэли. — Лукреция, — шептал он, стоя перед женщиной на коленях и прижимая ее ледяные руки к своим щекам. — Лукреция, это я, Роджер, я жив, ты узнаешь меня? — Ты тоже мертвый, — вдруг произнесла она и впервые за эти дни посмотрела ему в глаза. — Ты умер. Ришери умер. Я видела, все умерли. Это я всех погубила, так сказала эта женщина с кошачьей головой. Кроуфорд схватил ее за руки. — Лукреция, я жив! Мы с тобой живы, мы вместе. Но женщина посмотрела на него глазами полными тоски и, высвободившись, пошла прочь из палатки. Кроуфорд вскочил и бросился за ней. Но не успел он сделать и пару шагов, как его схватил за рукав Джон Смит. — Нам надо серьезно поговорить, сэр Фрэнсис! — проговорил он, становясь перед Кроуфордом и загораживая ему дорогу. — Не сейчас, Смит, позже! — Кроуфорд с тревогой всматривался вслед уходившей женщине. — Мне не до тебя сейчас! — Вам всегда не до меня, сэр. Но мы нашли сокровища, и мы должны решить, как мы доставим их в Англию! — Да отстаньте же! — Кроуфорд рванулся из рук Смита и бросился вслед за Лукрецией. — Негодяй, я выведу тебя на чистую воду, — с ненавистью прошептал Смит и стиснул кулаки. Лукреция уже успела уйти достаточно далеко. Роджер едва нашел ее в полной темноте. Она стояла, прислонившись к дереву. — Лу, пойдем, уже поздно, — Рэли взял женщину за руку и повел обратно. Она послушно последовала за ним.Ночью Джону Смиту не спалось. Он ворочался с боку на бок в палатке в полном одиночестве. Ришери погиб, погиб и Мортон, а Кроуфорд теперь ночевал с этой леди Бертрам, которая как снег свалилась им на голову. То-то огорчатся родственники покойного лорда Бертрама! И совершенно непонятно, как теперь быть с сокровищами. Силой забрать их у Кроуфорда невозможно, солдат мало, а пиратов и голландцев много. Как быть, что доложить министру?.. Ворочаясь с боку на бок на тонком одеяле, брошенном прямо на землю, Смит проклинал все и вся. Вдруг он увидел, как к нему в палатку скользнула тень. Он приподнялся на локте и заморгал, пытаясь разглядеть, кто бы это мог быть. Другой рукой он нащупал саблю, лежавшую рядом с ним. В следующую секунду он понял, что над ним склоняется женщина. — Леди Лукреция! — вскричал он, пораженный. — Что вам угодно? — Тс-с, тихо! — прошептала женщина. Тут только мистер Смит заметил, что на женщине одето странного фасона, затканное серебром черное платье, а волосы убраны на старинный манер. — Я помогу вам, если вы поможете мне, — произнесла она, приблизив к нему свое прекрасное бледное лицо и заглядывая мистеру Смиту в глаза. — Леди Лукреция, что это значит? — Если ты вернешь мне мое зеркало, я помогу тебе найти хрустальный череп! — Откуда ты знаешь про череп? На бескровных губах женщины мелькнула улыбка. — Череп у Кроуфорда. Убей его. Возьми череп и зеркало. Череп оставь себе, а зеркало брось в лес. Оно мое. Джон Смит схватил женщину за руку, но рука прошла сквозь воздух. В палатке было пусто, только луна сквозь парусину ярко светила прямо ему в лицо. В страхе он вскочил. Что-то звякнуло, упав на землю. Наклонившись, он увидел на земле странной формы нож, выточенный из камня. Рукоять его изображала Пернатого змея. Он поднял его и сунул в карман. По лицу его струился пот, во рту пересохло. Трясущимися руками он схватил флягу и жадно припал к горлышку. Напившись, он нащупал нож и осторожно вылез из палатки. Что ж, если он привезет министру череп, он выиграет эту схватку. Каков однако мерзавец этот Кроуфорд! Хотел заграбастать себе череп! Губа не дура! Джон Смит, озираясь и стараясь ступать неслышно, крался к палатке. А нет Кроуфорда — нет проблем! Его доля достанется Англии, и никто больше не будет сеять смуту. Джон подкрался к палатке Кроуфорда и огляделся. Все спали, кроме часовых, несших караул чуть поодаль, возле тлеющего костра. Из-за палатки им не было видно Смита. Джон прислушался. Из-за парусины доносилось мерное дыхание спящих людей. Он медленно откинул полог и ступил внутрь. Кроуфорд лежал ближе, ногами ко входу. Он спал на спине, и в лунном свете Смит видел светлую полоску обнаженного тела в вырезе рубахи. Смит шагнул вперед и занес нож. В ту же секунду откуда ни возьмись перед ним оказалась женщина. Смит хотел было оттолкнуть ее, но, закричав, она вцепилась ему в руку. Нож вошел в человеческую плоть, теплые капли брызнули на Смита, но в то же мгновение удар в лицо сбил его с ног. — Роджер! — закричала женщина и рухнула на землю. И это было последнее, что услышал Смит, прежде чем кинжал Рэли перерезал ему горло. Крик женщины разбудил половину лагеря. Через несколько минут вокруг палатки Кроуфорда уже толпились люди. Заспанная Элейна куталась в дорожный плащ, Харт обнаружил себя одетым только по пояс, а Абрабанель, прижимаясь к Ван Дер Фельду, напялил на себя кафтан наизнанку. — Что случилось? — спрашивали те, кто оказался позади и не видел Кроуфорда, сидевшего на земле с Лукрецией на руках. Потрошитель, который первым оказался возле своего капитана, уже рвал свою рубаху на бинты, щедро поливая их ромом из фляги. — Факел, дайте факел! — скомандовал Ван Дер Фельд, снимая с руки прилипшего коадьютора. — И кипятите воду — надо промыть рану. — Смит хотел убить меня, — сказал Кроуфрод, не сводя глаз с Лукреции. — Она меня спасла. Кроуфорд осторожно переложил женщину на подстеленное кем-то оделяло и ножом разрезал ей платье вокруг раны. — Посветите мне, — приказал он и пальцами ощупал порез, который все еще кровоточил. Все затаили дыхание. — Рана неглубока, — наконец сказал он. — Слава Богу, нож наткнулся на ребро и скользнул вниз, просто разрезав кожу. — У кого есть игла с ниткой? — крикнул Потрошитель. Элейна бросилась к своей палатке и через минуту уже протягивала дрожащими руками маленький костяной футляр. Потрошитель смочил иглу с ниткой ромом, полил им рану и принялся сшивать кожу, как бывало сшивал парусину на корабле. Кроуфорд держал женщину. От боли та очнулась и застонала. Кроуфорд прижал ее голову к себе и насильно влил ей остатки рома в рот. Лукреция закашлялась, но Кроуфорд заставил ее проглотить жидкость. — Сейчас будет больно Лу, но надо терпеть, — прошептал он. Брошенный Ван Дер Фельдом, Абрабанель в расстроенных чувствах растерянно бродил вокруг. Неожиданно он заметил в траве какой-то предмет. Он кряхтя наклонился и поднял с земли черное каменное зеркальце. Поверхность его была покрыта странной дымкой. Абрабанель потер ее рукавом, но дымка не исчезла. Довольно сопя, он оглянулся и быстро сунул вещицу в карман. — А мне интересно, — вдруг спросил Харт, оглядываясь, — а где эта собачонка и почему она не предупредила хозяина? Но поиски собаки были тщетны, она бесследно исчезла вместе с Чиланом, непонятно откуда взявшимся и неизвестно куда сгинувшем. Тело Джона Смита зарыли в лесу. Прежде чем засыпать его землей, Кроуфорд швырнул на дно ямы обсидиановый нож майя, который никогда не засыпал голодным. Отец Дамиан прочел над усопшим положенные молитвы, и отряд медленно тронулся в путь, таща за собой кожаные мешки, набитые золотом. Из-за страшной тяжести груза и полного отсутствия дороги, люди проделывали в день не больше трех-четырех миль, а в какой стороне от них теперь находится Ориноко, путешественники даже представить себе не могли. В нескольких направлениях были посланы разведчики: во-первых, чтобы попытаться определить местоположение самих путешественников и их удаленность от водных артерий, а во-вторых, с целью добыть проводников.
* * *
Как ни странно, но почему-то Ван Дер Фельд все больше времени проводил вместе с отцом Дамианом. Вот и в этот раз на привале он подсел к нему и, закурив трубку, принялся за расспросы. — Скажите, падре, — начал Ван Дер Фельд издалека, — а что вас, собственно, заставило избрать духовную стезю? Отец Дамиан с любопытством повернулся к собеседнику: — Не знаю, конечно, как вы отнесетесь к моему ответу, но любовь к Богу. — Ко Христу? — торопливо уточнил Ван Дер Фельд. — Да. Еще верующие часто называют такое чувством голосом Божиим в душе, Его призывом. — И все? И как же самоотречение, умерщвление плоти и все такое прочее? — Если говорить кратко, то человек, услышавший в себе Божий глас, просто понимает, насколько Бог для него больше и дороже, чем что бы то ни было другое: семья, богатство, мирская слава… Тогда и самоотречение, в сущности, не в тягость. Вот если бы вам предложили выбрать между золотом и серебром?.. — Я выбрал бы золото. — Разумеется. Но вы сожалели бы, что, получив золото, лишились серебра? — Гм. Понимаю… А может ли такой призыв ощутить в себе не христианин? — Конечно. Душа человека — христианка по природе, какую бы веру ни исповедовал он сам. — А возможно ли служение Христу не… не так безраздельно, что ли? Так сказать, получить золото, не забыв и серебра?.. — Вы деловой человек, сударь! — засмеялся отец Дамиан. — Я мог бы ответить вам, что с Богом не торгуются, но не скажу. Все дело в том, что для вас «серебро» и какое место в вашей жизни уже заняло «золото», то есть Христос. Возможно, просто еще не пришло время сделать окончательный выбор… — Но мне уже немало лет, падре… — Это не имеет значения. Опять же скажу банальность: перед Господом мы все младенцы. Кроме того, для вас, как я подозреваю, первым шагом должно стать само Святое Крещение, рождение как члена святой матери-Церкви. Может быть, для вас достаточно будет стать просто христианином, добрым католиком, а не священником? Вы определитесь, когда покреститесь, или немного позднее… — Нет уж, — отрезал Ван Дер Фельд. — Вы молоды, святой отец, хотя и знаете кое-что гораздо лучше меня. Но я объехал полмира и повидал жизнь. Я совершенно определенно знаю, чего хочу. В моих странствиях мне с чем только ни приходилось сталкиваться. Я видел лицемеров и славолюбцев, которых считали за святых, и не только они сами; и грешников, которые были святее Римского Папы. Еще чаще я встречал настоящих грешников, которые были ни чем иным, как грешниками. Наконец, мне попадались даже откровенные праведники, праведно и тихо жившие и так же умиравшие. Лишь одного я не мог понять никогда: что движет каждым из этих людей в их жизни? — Эту загадку разгадать не под силу не только вам, Ван Дер Фельд. Но вы сказали, что определились со своей дальнейшей жизнью. — Совершенно верно. Я смутно чувствовал это уже давно. Отчетливее осознать помогли, как это ни странно, сентенции того пирата, который назвал себя Черным Пастором. Может быть, с точки зрения священника это и кощунство, но Билл обладал оригинальным складом ума и многое, сам того не замечая, помог мне узнать и понять. Я решил, что действительно хочу и должен стать христианином — а резкая антиклерикальная направленность этого, с позволения сказать, пиратского проповедника невольно возбудила во мне внутренний протест. Я — только прошу, падре, не смейтесь, — захотел стать похожим на Черного Билла в том, что было лучшего в его оригинальных «проповедях», но без его, Билла, недостатков. И еще я подумал тогда: если уж быть проповедником, лучше — посвященным. Не знаю, откуда у меня такая мысль, но я чувствую, что именно так. В конце концов, как бы недостойно ни вели себя некоторые священники, это вовсе не значит, что представители данного сословия — поголовно лицемеры и обманщики. Таким образом, во мне окрепло желание стать именно католиком, и более того, католическим священнослужителем. Протестантизм разного толка, который нередко принимают мои соплеменники — не по мне. Не подумайте, что дело в формальном обращении: некоторые и молятся, и веруют в Иисуса Христа… покойная жена моего друга Давида была на редкость искренней и набожной женщиной, такой она воспитала и дочь. Вот в дочери Давида-то все и заключается. Уж не знаю, насколько мои слова убедили вас, падре, но я в самом деле выбрал, как вы изволили выразиться, золото. Серебро же — то есть прекрасная Элейна — осталось мне от прошлого, и отказаться от него так просто я не могу… ни сам по себе, ни из-за ее отца, ни из-за нее самой, наконец. — Если бы речь шла о чем-то или ком-то другом, — ответил отец Дамиан, — то я бы действительно счел, что вы просто пока не готовы сделать решительный шаг. Наше прошлое и привязанность к нему — это, как принято выражаться, ветхий человек в нас, тот, который умирает в нас в Таинстве святого крещения, а выходит из купели человек, обновленный жертвой Спасителя, новозаветный. Но то, что касается Элейны — Бог управит. Она не для вас. — Потому что она протестантской веры? — Нет. Потому что человек, которого она любит, теперь богат. — О чем вы?! — Я сам бы с удовольствием обвенчал ее с небезызвестным вам молодым англичанином по имени Уильям Харт. Разве вы не замечали, какие взгляды они кидают друг на друга? Год приключений — достаточный срок для проверки чувств. На их пути стоит только ее отец, сеньор Абрабанель, но найденные сокровища, несомненно, примирят его с действительностью. И я очень прошу вас, Ван Дер Фельд, не мешайте счастью этих молодых людей! — Б-же мой! — воскликнул голландец. — Ну, что ж, если так… Значит, действительно, Б-жественный Промысел указывает мне тот путь, к которому я шел все пятьдесят лет моей жизни. Наверное, это разумно: я уже не так молод, чтобы утехи в виде молодой жены радовали меня так, как они будут радовать этого молодчика. Всему свое время, сказали вы? Мое время, точнее, моя молодость, прошли в погоне за призрачным счастьем, которое так ценится людьми: славой, приключениями, богатством, наконец. Я был солдатом, купцом, путешественником… да кем я только не был! Но всегда чувствовал странное томление даже среди успехов и радостей. Наверное, это тосковала моя душа. Пятьдесят лет — самое подходящее время для того, чтобы остановиться и подумать о ней и о том, что будет дальше. Ведь предположить, что мы конечны и после смерти для нас пребудет вечное ничто, по меньшей мере, наивно. Лишь об одном я хочу вас попросить, падре. Не откажетесь ли вы взять меня себе в помощники? В моем возрасте становиться чьим-то учеником непросто, но… — С огромной радостью, Ван Дер Фельд! Дело в том, что я возлагаю надежды на миссионерскую работу в весьма отдаленной и глухой части Новой Гвианы, и сподвижник с таким богатым жизненным опытом, как у вас, знанием языков и умением разбираться в людях — поистине бесценный Божий дар!* * *
Один из разведчиков неподалеку от лагеря наткнулся на просеку, прорубленную в сельве. Причем сделано это было достаточно недавно. Он поспешил явиться с докладом к Кроуфорду, который распорядился определить, где заканчивается эта просека. Солдаты, вызвавшиеся выполнить эту миссию, возвратились лишь через два дня, когда у всех остальных членов экспедиции уже сводило скулы от тревоги и нетерпения. Вернувшиеся из разведки сообщили, что просеку прорубили действительно совсем недавно для отца Франциска, что ведет она к реке Карони, где профосом были оставлены лодки с охраняющими их индейцами для обратного пути в редукцию. Это известие было встречено ликованием. На следующее утро отряд двинулся по просеке. Кроуфорд уговорил отца Дамиана проводить их до Карони, чтобы в случае необходимости помочь договориться с индейцами. Эта мера оказалась весьма нелишней, ибо, достигнув реки, путешественники далеко не сразу смогли убедить сторожей, что их хозяин больше не нуждается ни в лодках, ни в их услугах, ни в чем-либо другом, и совсем не по вине Кроуфорда и его спутников. Лишь слова бывшего секретаря отца Франциска о том, что профос погиб в результате природной катастрофы, смогли воздействовать на умы без лести преданных туземцев. С помощью угроз, увещеваний, посулов и подкупа отряду удалось кое-как погрузиться на иезуитские лодки. Путь до места впадения Карони в Ориноко занял несколько дней. Ночевать, ввиду опасности подвергнуться нападению хищников, приходилось на воде. По мере приближения к редукции многие индейцы потихоньку сбегали, но им никто не препятствовал. С трудом удалось Кроуфорду убедить оставшихся индейцев в том, чтобы они направили лодки не в редукцию, а прямо в дельту, к морскому побережью. Спуск по Ориноко показался путешественникам несколько легче, чем путь вглубь Гвианы несколькими неделями ранее, но зато время тянулось медленно и тоскливо. Жара все усиливалась, болота, подсыхая, отдавали свои ядовитые испарения, казалось, с удвоенной силой, да и диких зверей в сельве не убавилось. Единственным развлечением становились речные дельфины, порой выныривавшие прямо у борта какой-нибудь лодки и стайками сопровождавшие путешественников. Но и они не слишком развеивали уныние всей компании, из которой по-настоящему скучали, пожалуй, только Харт и Элейна: молодоженов по-детски забавлял их общий секрет. К счастью, индейцы повели лодки по широкому, достаточно свободному от заболоченных островков и порогов рукаву Ориноко, который по мере приближения к морю становился только шире, а берега его — живописнее. И вот, наконец, долгожданный момент настал: лодки подошли к устью, за которым расстилался открытый океан. Это случилось рано утром, когда солнце только поднималось из яркой сине-зеленой воды, а просыпающиеся в прибрежной сельве птицы, радуясь, начинали петь ему хвалебные гимны. Однако вскоре выяснилось, что путешественники спустились по одному из самых восточных рукавов Ориноко, который дальше всех отстоит от острова Тринидад.* * *
Усталые люди расположились прямо на песке возле прибоя, благо тени от росших на самом берегу пальм было предостаточно. Кроуфорд с Лукрецией, едва оправившейся от раны, отделились от компании и о чем-то тихо разговаривали. Элейна делала вид, что прогуливается, причем компанию ей снова составлял Харт. Пираты и солдаты благодаря долгому пути сделались совершенно неотличимы друг от друга и радостно обсуждали перспективы скорого возвращения — кто в Англию, а кто на Тортугу. Только бедный коадьютор не находил себе места и метался вдоль берега, едва поспевая за мерявшим песок крупными шагами голландским капитаном. — Я ничего не понимаю, Йозеф, что значит — ты остаешься? — причитал Абрабанель. — Я не понимаю, что значит «принял решения остаться в Новой Гвиане и принять христианскую веру»? Ты хочешь стать отступником на старости лет, что ты опять молчишь, Йозеф? Ван Дер Фельд посмотрел на низенького толстого банкира и громко вздохнул. — А как же я, Элейна, твои собственные дела, наконец? — едва не подпрыгивая от расстройства, продолжал купец. — Ты что, отказываешься от моей дочурки? И кто доставит нас домой? Ты что, хочешь, чтобы мы потонули вместе с сокровищами? Ты хочешь сделать из своего старого друга Великую Армаду? Из вредности толкаешь нас на это?! Но, дорогой Йозеф, никто же не отнимает у тебя твоей доли! Ты вполне можешь рассчитывать на часть сокровищ, когда мы вернемся! Нет, это невероятно!.. Ты бросаешь меня, своего почти родственника, которому ты обязан стольким… стольким… практически всем обязан, Йозеф, обрати внимание! — Вы могли уже вспомнить, Давид, что капитанов здесь достаточно, а судно у вас есть, — возразил Ван Дер Фельд, но Абрабанель пропустил это замечание мимо ушей. — Неужели тебе не совестно?! — поднажал он, добавив в голос слезу. — Ты, можно сказать, опозорил мою дочь!.. Она же твоя невеста! И кто теперь что может подумать о ней, если ты от нее отказался?!.. — Не беспокойтесь, дорогой Давид, честь и судьба вашей дочери в надежных руках. — Что ты хочешь сказать?! — Что с таким образцовым отцом, как вы, Давид, никакая тень не может лечь на репутацию Элейны. Ну, довольно голосить. Желаю всем вам счастливого пути! Ван Дер Фельду нелегко было сохранять самообладание, но мысль о скором освобождении от той жизни, в которой, как в замкнутом круге, он бродил много лет, поддерживала его. Наибольшее впечатление на него произвел рассказ отца Дамиана о беседе с каким-то индейцем, обращенным в христианство. «Желая проэкзаменовать его, я спросил, что он может поведать об Иисусе Христе? Этот человек не стал прибегать к словам. Он опустился на колени и выложил из сухих листьев большой круг, а в центре поместил червяка и поджег листья. Тщетно червячок пытался найти выход из горящего круга, грозившего ему гибелью. Наконец, обессилев, он прекратил свои попытки спастись и, вероятно, приготовился к худшему. Тогда индеец протянул руку и, осторожно взяв червячка, перенес его на прохладную травку вне пылающего круга из листьев и торжествующе произнес: «Вот это как раз то, что сделал для меня Иисус Христос!». — Вот так всю жизнь! Ни на кого невозможно положиться! — вздохнул банкир. Ван Дер Фельду было жаль своего старого друга, но он видел, что ничем уже не в состоянии ему помочь: Абрабанелю нравилось ломать эту комедию, нравилось быть обиженным и считать всех вокруг именно тем, чем он считал — ну что ж… Даже сокровища не радовали старого коадьютора так, как, казалось, должны были. Он все время суетился и высказывал опасения, что золото может быть потеряно, если выйти в море на утлых индейских лодочках, но его никто не слушал, потому что остальные участники экспедиции были чрезвычайно довольны ее результатами, хотя и по разным причинам. Уильям, посовещавшись с Кроуфордом, в сопровождении Потрошителя и нескольких пиратов, сгрузив с одной из лодок сокровища, отплыл на запад. Через двое суток он вернулся на «Голове Медузы», которая после ремонта была готова к любому, даже самому серьезному морскому переходу. Перегрузив сокровища и припасы с лодок на флейт и отпустив индейцев восвояси, экспедиция в тот же вечер прибыла на Тринидад.Глава 19 Хрустальная удача
Тринидад — Карибское море — Бристоль
Прибытие путешественников в Сан-Хосе вызвало бурю восторга в губернаторском доме. К величайшему сожалению гостеприимного губернатора, ему не удалось надолго задержать у себя месье Рауля и чудом спасенную из рук кровожадных индейцев прекрасную Аделаиду Ванбъерскен, соотечественницу господина коадьютора. Они перешли на «Месть», которую, к удивлению губернатора, коадьютор предоставил в полное их распоряжение, и буквально через сутки снялись с якоря, объяснив свою спешку тем, что мадам необходимо как можно скорее вернуть на родину, из-за ее тяжелого самочувствия. Лишившись приятного общества, дон Фидель принялся обхаживать Абрабанеля, а Мануэлита, изнывавшая от скуки с тех пор, как путешественники отправились в Новую Гвиану, утащила в свои комнаты Элейну и засыпала ее вопросами. Причем первый из них, вопреки ожиданиям прекрасной голландки, касался совсем не приключений, а Харта. — Это ваш жених, Элейна? Какой он пригожий и ладный!.. — не уставала ворковать губернаторская дочка. — Но мне кажется, он сильно помолодел с тех пор, как вы были здесь в прошлый раз, — добавила она со смехом. — Вы правы, дорогая Мануэла, — в тон ей отозвалась Элейна. — Старый жених исчез, а этот — жених уже настоящий. — Вы что, нашли его в сельве? — Нет, мы познакомились еще в Европе и вместе пережили множество опасных приключений. Судьба и люди разлучили нас на время, но Пресвятая Дева Мария помогла соединиться вновь! Это настоящее чудо, и я прямо не знаю, как отблагодарить Пречистую Деву за ее милость. — Так это о нем вы молились тогда в соборе? — Конечно! — И Она вас услышала? Это восхитительно! Ведь это настоящее чудо, правда? Я помню, тогда еще удивилась, как истово вы молитесь, и подумала, что вы очень хорошая католичка, Элейна, набожная и искренняя, не то что я. — Ах, Мануэла, в том-то и беда, что я не католичка. Моя мать была протестанткой, так же крестили и меня. Это, можно сказать, трагедия всей моей жизни, тем более что и суженый мой католик. Я даже не знаю, что нужно делать, чтобы принять католичество, однажды я попыталась, но… — Зато я знаю! Обратиться к моему дяде. — Ваш дядя священник? — радостно воскликнула Элейна. — Берите выше — архиепископ. Он служит там, в Соборе Святого семейства, где мы с вами были. А почему, вы думаете, там все служки мне в рот смотрят? — захохотала Мануэла. — Я же не просто племянница Его Высокопреосвященства, а любимая! Ну что, пошли к нему? У Элейны закружилась голова от неожиданного подарка судьбы. Конечно, сразу к дяде-архиепископу девушки не побежали, потому что Мануэлита жаждала рассказа о приключениях в Гвиане, но вечером привезла ее в собор и по окончании богослужения подвела подругу к высокому смуглому человеку в тончайшей шелковой сутане и темно-фиолетовой шапочке. — Дорогой дядя Алонсо, то есть Ваше Высокопреосвященство, — затараторила Мануэла. — Я знаю, что ловцами душ человеческих обычно должны быть мужчины, потому что так им завещал Сам Спаситель, но у меня в гостях оказалась как раз готовая уловиться душа, и ее надо как можно скорее уловить… ой, то есть присоединить к католичеству, потому что она давно этого хочет, а у нее ну совершенно не было возможности до сегодняшнего дня! Представляешь — она много-много путешествовала и не встретила по дороге ни одного мало-мальски подходящего архиепископа или хотя бы епископа, который мог бы ее миропомазать! Вот ужас-то, правда? — Да уж… — протянул несколько сбитый с толку архиепископ Алонсо. — Ну, насчет ловца человеков, дорогая моя Мануэлита, тебе вполне уместно сослаться на авторитет Марии Магдалины, как равной апостолам, а что касается твоей подруги, то с ней я бы хотел побеседовать подробнее. — Ах, дядя, ну что там беседовать! Совершенно ясно: нужно как можно скорее обратить… то есть присоединить Элейну к католичеству! Я тебя очень прошу! — Хорошо, дорогая, но только сначала я хотел бы все-таки услышать голос самой Элейны. — Мне что, отойти? — слегка надулась Мануэлита. — Прошу Вас, дорогая Мануэла, не уходите! — остановила ее прекрасная голландка. — Я не скажу Его Высокопреосвященству ничего, что постеснялась бы сказать вам! И ваше присутствие прибавит мне уверенности. Я действительно давно мечтаю принять католическую веру, Ваше Высокопреосвященство. Мои друзья-католики, их взгляды на мир, наконец, даже вся моя жизнь и особенно недавно произошедшее со мной чудо по молитвам Пресвятой Девы — все это давно убедило меня в истинности католицизма. Сама я рождена и воспитана в протестантизме, но всегда чувствовала, что душе этого решительно недостаточно. Став старше, поняла, для чего недостаточно — для спасения. Однажды я советовалась с одним… священником, — тут Элейна слегка запнулась, но затем решительно продолжила, — но он сказал, что необходим весьма длительный срок для того, чтобы приготовить протестанта к переходу… От нескольких месяцев до года. — В принципе, да, — кивнул архиепископ. — Однако в некоторых случаях этот период может быть сокращен. Например, если желающий принять католичество тяжело болен, или находится в опасности, или если в его жизни предстоят еще какие-либо серьезные перемены… — Ну, дя-адя Алонсо! — продолжала наступать на архиепископа его любимая племянница. — Ну неужели ты не можешь изобрести подходящей причины! Элейна так долго ждала этого! А перемены ей, кстати сказать, очень даже предстоят. Она же собирается замуж за католика! Правда, Элейна? — Да, человек, которого я горячо люблю и с которым надеюсь связать свою судьбу, действительно католик, Ваше Высокопреосвященство. — Я подумаю. Через три недели в соборе будет проходить конфирмация мальчиков и девочек из состоятельных семей острова, полагаю, что сеньорита Элейна может… — Ну, дя-а-адя, она же в душе настоящая католичка! — Мануэла не отступала. — Видел бы ты, как она молилась тут в соборе за своего жениха, который тогда сражался в сельве Новой Гвианы с дикарями, ягуарами и крокодилами! Не выдержавший напора владыка Алонсо на несколько мгновений задумался, мысленно обратившись с краткой молитвой к Богу, а затем произнес: — Ладно. Видя в ваших глазах действительно серьезное желание стать католичкой и принимая во внимание столь настойчивое ходатайствоМануэлы, я готов в порядке исключения совершить Таинство миропомазания над нашей гостьей завтра утром. А на утренней мессе преподам ей Святое Причастие. — Дядечка, ты просто сокровище! Как жалко, что ты монах, а я уже взрослая барышня и не могу тебя сейчас расцеловать!.. Но зато я расцелую Элейну, а ты будешь знать, что это относится и к тебе тоже, хорошо?! Элейна, в свою очередь, низко склонилась в благодарном реверансе. — Я не знаю, какими словами могу выразить свою благодарность вам, Ваше Высокопреосвященство. Но позвольте задать вам еще один вопрос. Возможно ли, чтобы за завтрашней мессой причащался также и мой жених? — Разумеется. Когда архиепископ Алонсо помазывал Элейну святым миром, в воздухе разлилось такое тонкое и приятное благоухание, что, казалось, отверзлись райские кущи. А к моменту совершения Святого Причастия для Харта и его невесты, казалось, раскрылись Небеса, обнимая их любовью. — Что может быть прекраснее, чем совместное участие в Евхаристии? — промолвил Харт по окончании мессы. — Мне кажется, только одно, — решительно заявила Мануэлита. — Дядечка Алонсо, ты же такой добренький, ты уж и пожени Элейну с Уильямом, а? — Но только не сегодня! — решительно заявил архиепископ. — Конечно, не сегодня! — отозвалась Мануэла. — Послезавтра! Ведь мы же должны подобрать Элейне самый шикарный подвенечный наряд! Правда, дорогая? — добавила она и выжидательно посмотрела на влюбленных.Мануэла сама чрезвычайно увлеклась подготовкой к свадьбе. Она чувствовала себя героиней настоящего романа. «Главной героиней быть совсем не так интересно, как ее подругой, организовывающей заговоры и помогающей влюбленным», — думала губернаторская дочь, перебирая свои новые платья. «Вот это вполне подошло бы Элейне, но оно какое-то не слишком белое… нет, его я не отдам! Оно мне нравится самой!» Выбор происходил очень долго и придирчиво. Самой Элейне гораздо больше хотелось провести время с Хартом, но, чтобы не вызывать подозрений у отца, она все-таки переключилась на новую подругу. Девушки делали вид, что беседуют в комнатах Мануэлы о туалетах и драгоценностях, что, в сущности, соответствовало истине, и практически под носом у Абрабанеля подбирали Элейне подвенечный наряд. У смугловатой черноволосой испанки, правда, не нашлось ни одного чисто белого платья, но наряд в итоге получился невероятно пышным и богатым. Роба из атласа цвета топленых сливок, вся затканная золотыми букетами, с бледно-лососевой нижней юбкой, вышитой лентами, с тремя рядами золотых брабантских кружев на рукавах. Мануэлите было очень жаль одалживать Элейне это платье, но, когда она увидела в нем подругу, то буквально залюбовалась. Кружевные перчатки цвета топленых сливок, блистающая золотыми нитями фата-мантилья и атласные башмачки тоже были позаимствованы из гардероба губернаторской дочки. А вот от ее драгоценностей прекрасная голландка отказалась — на этот счет у нее были свои соображения. Рано утром, когда в губернаторском доме все еще спали, обе девушки в сопровождении капитана Ивлина, приглашенного в посаженные отцы, отправились в собор. Великолепное платье Мануэлы буквально меркло в блеске сокровищ атлантов — ажурного кованого золота, изумрудов и других камней, отягощавших шею, уши, руки и голову прекрасной Элейны. Уильям, скромность наряда которого компенсировалась количеством драгоценностей, сиявших на камзоле, и великолепным оружием тонкой работы, и архиепископ Алонсо уже ждали их. Время было выбрано специально, и нарочно для молодоженов (с надеждой на богатые пожертвования) Его Высокопреосвященство начал раннюю мессу. Наконец, настала минута церемонии. Капитан Ивлин, нацепивший ради такого случая драгоценный пояс и богато украшенную шпагу, подвел Элейну к аналою. Это был поистине трогательный момент. Сэр Джон бережно вложил в руку Харта маленькую ручку его невесты. Уильям подвел возлюбленную к алтарю, залитому лучами утреннего солнца. Архиепископ Алонсо, украшенный бриллиантовой цепью с драгоценным кованым распятием, произнес кроткую вдохновенную проповедь, подчеркивая важность шага, совершаемого новобрачными. Затем молодые опустились перед священником на колени. Ивлин и Мануэла замерли на шаг позади, выполняя роль свидетелей. Его Высокопреосвященство, обратившись лицом на восток, к жертвеннику, начал читать молитвы, затем — положенные фрагменты из апостольских посланий и Евангелия. Окончив молиться, он обернулся к молодоженам и начала задавать вопросы: — Уильям, свободно ли и добровольно ли пришел ты сюда с намерением заключить брак с Элейной? — Да, отче, — с готовностью ответил Харт, чувствуя, что его охватывает благоговейный трепет. — Элейна, свободно ли, не по принуждению ли пришла ты с намерением заключить брак с Уильямом? — Да, отче. — Дети мои, Уильям и Элейна, готовы ли вы любить и уважать друг друга всю жизнь, в радости и горе, в болезни и здоровье — всегда? — Да, отче, — хором ответили молодые. — Готовы ли вы с любовью принять от Бога детей и воспитать их согласно учению Христа и Его Святой церкви? — Да, отче!! — снова ответили они хором, посмотрели друг на друга и чуть не прыснули: такой радостно-глуповатый вид был у обоих. Архиепископ Алонсо снова повернулся лицом к престолу и начал молиться о сошествии на новобрачных Святого Духа. Молодые встали с колен и подали друг другу руки. Владыка связал их специально принесенной лентой, расшитой жемчугом. После этого молодожены, стоя лицом друг к другу, стали повторять слова супружеской клятвы, подсказываемые архиепископом. Наконец, Его Высокопреосвященство благословил Уильяма и Элейну, освятил, положив на престол, два роскошных кольца — опять-таки из сокровищницы атлантов — и прочитал «Отче наш». Молодые люди надели кольца друг другу, архиерей произнес на ними заступническую молитву и еще раз благословил: — Всегда помните, дорогие мои, что главное — это взаимная клятва, которую вы принесли сегодня, слова получения Божьей благодати. Обручальные кольца же являются лишь знаком того, что вы получили эту благодать, — закончил архиепископ Алонсо. — Теперь вы муж и и жена! Первую брачную ночь было решено отложить до возвращения в Старый Свет, ибо молодые супруги жаждали получить хоть запоздалое, но необходимое им для душевного спокойствия родительское благословение. Через неделю флейт «Голова Медузы», капитаном которого вновь стал Джон Ивлин, был готов к отплытию. В трюмах, надежно привязанные, стояли сундуки с золотом, бочки с солониной и ромом, запасы пресной воды и груз какао с табаком и пряностями, — Абрабанель не хотел покидать эти края, как он выразился, с пустыми руками. Нагруженный по ватерлинию корабль тяжело покачивался на волнах. Последним на борт поднялся Уильям Харт. Паруса хлопали над его головой, ветер срывал с головы шляпу, и матросы тянули якорь. Они возвращались домой.
* * *
Дорога от Барбадоса до Бристоля могла показаться Уильяму бесконечной, если бы не амплуа не то зятя, не то сиделки при Абрабанеле и мужа при его дочери, которые ему выпало исполнять с той минуты, когда они с коадьютором и Элейной взошли на палубу пресловутой «Головы Медузы», на которой год назад началось его долгое приключение. «Месть», сыгравшая столь страшную роль в жизни Роджера Рэли и леди Лукреции Бертрам, приняла их на борт еще в Тринидаде, где Абрабанель без всяких пререканий безвозмездно уступил ее вместе с подписанной купчей бывшему квартирмейстеру Черного Билли, пирату Веселому Дику, английскому авантюристу Кроуфорду и агенту Великобритании с черезвычайными полномочиями, незаконорожденному внуку самого адмирала Уолтера Рэли. С того самого момента, как огромный фрегат поднял якоря, снимаясь с рейда, и по сегодняшний день Уильям не знал, что сталось с людьми, встреча с которыми не только перевернула его жизнь, но и, как он надеялся, сделала его немного мудрее, чуть-чуть осмотрительнее и куда как менее бескомпромисснее в своих взглядах на жизнь. Через два дня покинула порт Сан-Хосе и «Голова Медузы». Навстречу пересекавшему Карибское море флейту, по пути зашедшему на Барбадос по неотложным коадьюторским делам, на всех парусах, рассекая грудью бирюзовую воду, шел великолепный флагман королевского флота Его Величества Людовика XIV. Абрабанель, сидя на переносном стуле и прикрываясь зонтиком от палящего солнца, даже оценивающе причмокнул при виде такого богатства, на мгновение забыв про свои хвори. «Интересно, — подумал старый ювелир, — зачем это отрядили этакое сокровище в такую дыру? Ой, неспроста это, ой, неспроста…» Чутье не подвело старую лису. Фрегат вез в дальнюю колонию ордонанс Его Величества и нового губернатора, снабженного полномочиями остановить деятельность флибустьеров на Тортуге, уничтожить береговое братство и учредить водное перемирие между Францией и Испанией. Золотой век пиратства клонился к закату, но населяющие райские острова люди об этом еще ничего не знали.* * *
Господин Абрабанель на обратном пути в Англию был очень плох и едва мог самостоятельно передвигаться. Ему все-таки не удалось избежать болотной лихорадки, и теперь она трясла его за милую душу. Самостоятельно он едва мог пройти десяток шагов, после чего ему уже требовалась помощь, он задыхался и хватался за сердце. Кожа на его лице пожелтела, пухлые щеки опали, а морщины сделались еще глубже. Банкир постарел, но, когда приступ немного отпускал его, в глазах его по-прежнему светилась неуемная энергия. Трюмы, набитые золотом, приятно согревали его сердце, и даже безумное поведение дочери в сиянии индейских сокровищ меркло и казалось не таким уж безрассудным. После потери верного Хансена и необъяснимого поступка капитана Йозефа ван Дер Фельда, из близких людей у него остался только Уильям Харт. С ним он и вел бесконечные беседы, которые больше напоминали монолог. Старик плакался на судьбу, сетовал на людскую неблагодарность, на пошатнувшееся здоровье и на тысячу других неприятных вещей. Особенно горевал он о бесследно сгинувшем хрустальном черепе. Тут он едва не рвал остатки волос на своей голове. — Как вы думаете, мой мальчик, — приставал он к Уильяму, — если вернуться в то ущелье с горнорудными рабочими и попробовать пробурить шахту? А что? Если мне удастся убедить совет компании… Он принимался мечтать о грядущих дивидендах, потом лез в карман и доставал из него черное каменное зеркальце, искательно заглядывая в его мертвую тусклую поверхность, а Уильям хмурился и уходил на палубу. Там он тоже предавался мечтам. Глядя на зеленую воду, бурлящую под крутым бортом фрегата, Уильям думал о родине, о скорой встрече с матушкой и батюшкой. Как они переживут его позорное прошлое, простят ли побег? Как он расскажет им обо всем, что ему пришлось пережить? Они все были на волосок от страшной гибели. Рок древнего племени, замешанный на крови тысяч невинных жертв, едва не уничтожил и их. Тайные знания великих магов и мудрецов навеки запечатали проклятое сокровище и раздавили всех, кто посмел приблизиться к золоту проклятой Атлантиды. Абрабанелю остается заглядывать в черное зеркало, задавая один и тот же бессмысленный вопрос. Уильям уже твердо знал — до настоящих сокровищ проклятого народа никто не доберется до тех пор, пока не рухнут горы и не высохнут океаны. Но если бы даже Господь даровал ему вечность, он ни за что не вернулся бы на то место, где погибли почти все, кого он встретил в своей новой жизни. Живому нечего делать среди мертвецов. Теперь и навеки сокровища, погубившие некогда великое племя, принадлежат тем, кто создал их. Забыть о них — это лучшее, что можно сделать. Но Абрабанель не хотел забывать. Он с утра до вечера возился с зеркальцем, не взирая на уговоры Харта и мольбы Элейны. Он строил фантастические планы и все меньше обращал внимания на Уильяма. Он опять походил на помешанного. Уильям хотел решительно поговорить об этом со своей молодой женой, но никак не мог набраться смелости и все время откладывал объяснение на завтра. Так продолжалось до тех самых пор, пока судно не бросило якорь в порту Бристоля. Едва, подняв тучу брызг, якорь рухнул в мутные портовые воды, как капитан Ивлин, не глядя на него, но отчеканивая каждое слово, сообщил: — Уважаемый сэр Уильям! Позвольте поставить вас в известность, что свой христианский долг я исполнил, как ни тяжело мне это далось. Человек, которого вы сопровождаете, несомненно заслуживает всяческого уважения и заботы. Но с этой минуты я передаю его на ваше попечение. Я намерен отказаться от дальнейшей службы у него, чего и вам искренне советую. На мне лежит горькая обязанность сообщить родным погибших моряков эту скорбную весть. В сложившихся условиях я не в состоянии и дальше принимать у себя на борту господина Абрабанеля. Полагаю, что его влияние и состояние помогут вам без труда переправить его на родину и устроить дела, но уже не на моем судне. От всего сердца желаю вам, сэр, удачи и, если позволите, дам на прощание совет — выбросьте из головы свою страсть к приключениям и будьте в дальнейшем осторожнее в выборе тех, кому намереваетесь служить. Шлюпка для вас уже готова. Выслушав столь холодную отповедь от человека, с которым он делил радости и тяготы путешествия, Уильям Харт оторопел. — Что с вами, сэр Джон? — вскричал он в изумлении и схватил моряка за плечи. — Отчего вы так мгновенно переменились ко мне? Что тому причина? Капитан Джон Ивлин глубоко вздохнул, и желваки на его грубом обветренном лице дрогнули. Он снова испустил глубокий вздох и сжал кулаки. — Не в вас дело, юноша, а в тех, с кем вы решили связать свою судьбу. По британским законам я обязан немедленно доложить английским властям о тех нарушениях, которые совершались на судне в колониях Его Величества. Но, Харт, — и тут голос капитана дрогнул, — я слишком привязался к вам. Вы не оставили без благодарности мою преданность, и я не могу позволить, чтобы по моей вине вы пострадали. Поэтому я считаю, что в подобных обстоятельствах будет лучше, если вы покинете судно до приезда портовых чиновников, а я доложу о пассажирах уже после того, как они покинут борт в неизвестном мне направлении. Поверьте, мой друг, так будет лучше для всех нас. Я просто сошлюсь на недомогание одного из пассажиров, и объясню им, что вы очень спешили. Я заплачу штраф, что теперь для меня отнюдь не худшее из всех зол. Так что, прощайте, Уильям, и не держите зла на старого капитана, — в глазах Ивлина показались слезы. — О, сэр Ивлин, я никогда не сомневался в вашем благородстве и в вашей дружбе! — вскричал Харт, и мужчины обнялись. — Неужели мы никогда не увидимся, сэр? — спросил Уильям, стараясь унять непрошенные слезы. — Бог знает, Харт, все в Его воле. Но от всего сердца я желаю вам честной и счастливой жизни! — сказал капитан. — Вам пора, скоро прибудет кутер с берега, надо спешить! Уильям бросил на капитана прощальный взгляд и поспешил в каюту, чтобы поторопить коадьютора и Элейну со сборами. Они успели вовремя. Едва их тяжело груженая шлюпка отошла от корабля, смешавшись с десятком подобных, как к борту уже причаливал таможенный кутер. Тем временем на набережной собралась праздная толпа любопытсвующих, всегда готовых поглядеть на прибывшее из-за океана судно. Среди них были и перекупщики контрабандного товара, и портовые шлюхи, и воры, и прочий сброд, готовый поживиться за чужой счет. Уильям с волнением разглядывал бледные лица, темные платья дам, строгие деловые сюртуки клерков. С каждым ярдом мучительные чувства стесняли его грудь, мысли о близких, которых он так легкомысленно бросил, терзали его сердце, затмевая радость от возвращения. Как ни странно, но господин Абрабанель, наоборот, с каждым взмахом весел становился бодрее и уверенней. При нем были векселя барбадосского губернатора и два тяжелых сундука с золотом. Кроме того, в кармане жилета у него лежало каменное зеркало, которое будто подпитывало его энергией. Победоносно поглядывая на Уильяма, старательно работающего веслами и на свою притихшую дочь, не так представлявшую себе возвращение в Англию, Абрабанель заявил Уильяму: — Не расстраивайся, мой мальчик! Этот негодный капитан выставил нас с корабля, но он еще горько о том пожалеет. Моего влияния хватит, чтобы испортить ему карьеру. Додуматься обвинить меня в темных делах! Приписать мне, почтенному купцу, банкиру и потомственному ювелиру, какие-то махинации!!! До чего неблагодарны люди. И это с ним мы искали сокровища, его облагодетельствовали! Но ничего, главное, — тут господин Абрабанель любовно оглядел сундуки, — главное с нами! Думаю, это произведет должное впечатление. Нет, несомненно произведет! Пожалуй, я смогу убедить кое-кого вернуться за остальным! И знаете… — он наклонился к уху Харта, — я намерен взять вас с собой, как ближайшего помощника! И совсем не обязательно ставить совет компании в известность обо всех этих печальных событиях. Мы с вами оговорим все подробности нашего будущего контракта. Теперь у меня нет лучшего друга, чем вы, Уильям! Я хочу предложить вам место торгового агента. Это место занимал мой незабвенный Хансен, но теперь его нет, и кроме вас никто не сможет заполнить эту зияющую в моем сердце и деле брешь… Жалованье я вам положу прекрасное, не сомневайтесь! Все, чего я от вас потребую — это преданность, преданность и еще раз преданность. Широко открытыми глазами Элейна смотрела на отца, краснея от неудобства и не зная, как прервать этот монолог. — В последнее время около вас не было людей преданнее меня, — буркнул Уильям, сбившись с дыхания. — Ни одного человека. Странно, что вы этого не заметили. Но хочу сразу сказать — место торгового агента меня не слишком привлекает. — Вот как? А чего же вы хотите? — озабоченно посмотрел на него Абрабанель. — Просто быть вашим зятем, — ответил Уильям и улыбнулся, бросив влюбленный взгляд на Элейну. Банкир опешил. — Однако! — пробормотал он, приходя в себя. — Эка вы размахнулись! Но я должен и о репутации дочери подумать. Что скажут в компании, когда узнают, что я выдал дочь за англичанина, за человека, объявленного вне закона? — Придумайте что-нибудь, — ответил Уильям, — чтобы с меня сняли вздорные обвинения. Вы же знаете, что на «Голове Медузы» не было серебра, а значит, я ни в чем не виновен. Я пострадал из-за вашей подлости, и вы прекрасно это знаете. — Не все следует говорить вслух, молодой человек! — сердито отозвался банкир. — И выбросьте из головы все, что вы сейчас тут нафантазировали. Разумеется, я восстановлю ваше доброе имя, но про серебро ни слова! — Прибавляю сюда молчание насчет клада, — промолвил Уильям, — и по рукам! Уверяю вас, Элейна меня любит и будет со мной счастлива! Старик скептически покосился на Харта и, покачав головой, повернулся к едва сдерживающей смех дочери, на лице которой страх и веселье поминутно сменяли друг друга. — Эх, молодость-молодость, что вы понимаете в счастье? Даже я сам… А! — он махнул рукой. — Ладно, вы меня почти убедили, мой мальчик! Однако дайте мне сначала спросить мою девочку. Дайте прижать ее к своему изболевшемуся сердцу на твердой земле… Но тут не выдержала сама Элейна. — Папа, — вскричала она, — папа, мы с Уильямом уже женаты! — Что… Как… Дочь моя… — прошептал банкир и схватился за сердце. Элейна вскрикнула, Харт бросил весла и вскочил, они столкнулись лбами, и шлюпка едва не перевернулась. — Стойте, осторожнее!!! — заорал вдруг Абрабанель, отнимая руки от груди, и бросился на сундуки. — Вы утопите мои сокровища… Уильям и Элейна переглянулись и вздохнули.Эпилог Прощальный подарок
Англия. Полгода спустя
Сидя на террасе небольшого коттеджа в графстве Девоншир, сэр Уильям Харт, эсквайр, рассеянно проглядывал относительно свежую лондонскую газету, прибывшую вместе с утренней почтой. Он узнал о триумфальном выступлении в парламенте министра сэра Леолайна Дженкинса по поводу новой политики Великобритании в Атлантических колониях, завершившемся продолжительными овациями; об увеличении налогов на роскошь и о закладке в Сити нового здания Торговой палаты, и о торжественном праздновании именин принца Уэльского. На последней странице он прочел о казни знаменитого фальшивомонетчика, отвратительную физиономию которого с большим талантом изобразил художник. Допив кофе и зевая, он наконец добрался до середины, следуя неписанному закону всех джентльменов, исходя из которого в газете сначала читается передовица, затем последняя страница, и уж только потом — остальное. Взгляд его безучастно скользил по статье, в которой вслед за разглагольствованиями какого-то писаки о мужестве и стойкости британского характера следовал длинный список дворян, которым было присвоено очередное звание. Каково же было его изумление, когда он обнаружил свое имя в списке офицерских чинов за званием капитана, набранное к тому же еще жирным шрифтом и помещенное вслед за ему, Харту, вынесенной благодарностью! — Элейна, дорогая! — вскричал он, вскакивая и едва не роняя стул, — ты только посмотри! На его крик из гостиной выпорхнула очаровательная молодая женщина в отделанном кружевами шелковом пеньюаре. — Милый, что случилось? — встревоженно спросила она, ловя взгляд мужа. — Ты только посмотри, здесь, наверное, какая-то ошибка! Элейна взяла из рук Уильяма газету и быстро пробежала статью глазами. — Нет же, Уильям, все сходится! — Но за что??? Я ведь никогда не был на службе… В это время на залитую солнцем террасу вышла прислуга, держа на серебрянном подносе запечатанный сургучом плотный конверт. — Что это, Фанни? — спросила миссис Харт, принимая письмо, — почта ведь уже была. — Доставлено с нарочным, миссис Элейна, — бесстрастно ответила та. Дрожащими руками Харт вскрыл конверт серебряным ножичком для писем. — Королевский патент на чин капитана… — прошептал он. — Да еще с благодарностью за преданную службу Его Величеству лично от сэра Леолайна… — Что бы это могло значить? — Элейна переглянулась с мужем. — Кстати, миссис, — вдруг встряла служанка, убирающая со стола кофейный прибор, — вы слыхали новость? Мне рассказала ее наша пасторша. — О, Господи, Фанни, сколько раз я просила тебя не встревать в разговоры! — отчитала Элейна свою служанку. — Ну, коль начала, говори! — Ходят слухи, что на прошлой неделе из частной школы исчез единственный наследник лорда Бертрама, его сын Генри. Элейна и Харт переглянулись. Миссис Харт аккуратно взяла из рук мужа конверт и внимательно осмотрела его. Вместо адреса отправителя там красовалась всего одна фраза, выведенная размашистым почерком Роджера Рэли: «Мечты сбываются».Френсис ван Викк Мэсон Золотой адмирал
Из энциклопедии «Британика». Издательство Вильяма Бентона, т. 7, 1963 ДРЕЙК, сэр Френсис (1541? — 1596), адмирал английского флота, родился близ Тейвистока, крестьянской общины йоменов в Девоншире. Дата его рождения не уточнена, не известно также ничего и о ранних годах жизни, кроме того, что отец его стал священником на судостроительной верфи Чатема и что от него Дрейк унаследовал ревностную приверженность протестантской вере. Вскоре юного Дрейка отдали в учение каботажным торговцам. В 1565 году он отправляется вместе с Джоном Лоуэллом в опасное плавание в поисках рабов и проделывает путь от берегов Гвинеи до Южной Америки. В 1567 году он командует судном «Юдифь» (водоизмещением 50 тонн), участвуя уже в третьем рабовладельческом плавании, на этот раз предпринятом его родственником сэром Джоном Хоукинсом из Плимута. Во время этого путешествия происходит ожесточенная схватка с испанцами близ города Сан-Хуан де Улуа, из которой ускользают невредимыми только корабли Дрейка и Хоукинса. В последующие несколько лет он оказался наиболее удачливым из всех корсаров, бороздивших воды, находящиеся во владении Испанией. В 1572 году Дрейк возвращается к берегам Америки и совершает свой самый дерзкий подвиг, разграбив испанский город Номбре-де-Дьос. Во время этой экспедиции он впервые увидел Тихий океан и отважился «вывести английский корабль в его воды».*["282] Между 1577 и 1580 годами Дрейк первым из англичан осуществляет кругосветное плавание. Цели этой экспедиции не ясны, так как известны по крайней мере два плана: публично обнародованный проект открытия новых торговых путей, а также легендарных Молуккских островов и тогда еще никому не известной Австралии (Южного материка), поддерживаемый сэром Френсисом Уолсингемом и другими знатными лицами; существовал и другой секретный план, в поддержке которого принимала участие королева, суть которого состояла в том, чтобы совершить рейд к западному побережью Южной Америки, а также найти западный выход из Северо-Западного пролива. Несходство между этими двумя планами может быть объяснено ссорой Дрейка с Томасом Доути (которого позже Дрейк казнил в Сан-Хулиане, обвинив в колдовстве) и возвращением с одним из кораблей Уильяма Винтера. Тем не менее 13 декабря 1577 года Дрейк отплывает от берегов Англии, командуя кораблем «Пеликан» (позднее переименованным в «Золотую лань»), водоизмещением около ста тонн. Его сопровождают еще четыре небольших корабля примерно со ста шестьюдесятью матросами на борту. Неподалеку от островов Зеленого Мыса Дрейк захватывает в плен португальское судно, с которого он берет лоцмана, Нуньеса да Сильва, высадив его позднее в Гуатулько*["283]. Затем Дрейк направил корабль на юг вдоль восточного побережья Южной Америки к Сан-Хулиану и прошел Магелланов пролив, выйдя из него 6 сентября 1578 года. Разразившийся шторм отрезал его корабль от судна Винтера и отбросил Дрейка на 57-й градус южной широты. Возможно, в связи с этим он и открыл мыс Горн. Точно известно, что Дрейк подтвердил существование архипелага Огненная Земля, за которым простирается море, обнаружив пролив, который сейчас носит имя великого капитана. В одиночку Дрейк поплыл к берегам Чили и Перу, продолжая грабить города и топить корабли. Откровенной удачей явилось его нападение на испанское торговое судно «Касафуего», перевозившее огромные богатства. На данный момент нет точных сведений, как далеко к северу он продвинулся (по примерным подсчетам, до 48-го градуса северной широты), но плохая погода принудила его снова повернуть на юг и высадиться на берег в неизвестном месте, расположенном на тридцать восьмой северной широте, которое Дрейк назвал «Новый Альбион»; подлинность медной пластинки, найденной в 1937 году рядом с Сан-Франциско, штат Калифорния, остается недоказанной. Затем Дрейк пересек Тихий океан, достигнув Молуккских островов, где загрузил на корабль шесть тонн гвоздики, правда, большинство груза было выброшено за борт, когда во время одной из бурь корабль наскочил на риф. Именно тогда он «отлучил от церкви» корабельного капеллана, Френсиса Флетчера, который вел судовой журнал. 26 сентября 1580 года Дрейк возвращается в Плимут. Доходы этого путешествия составили 500 тысяч английских фунтов стерлингов. На свою долю он покупает аббатство Бакленд, в Южном Девоншире, в котором впоследствии жили его потомки. В настоящее время там находится музей Дрейка. Пребывая в Дептфорде, королева Елизавета посетила Дрейка на борту корабля и там же посвятила его в рыцари. В Оксфорде хранится стул, сделанный из обшивки корабля Дрейка, а в Миддлтемпл-холле находится стол из того же дерева. В 1583 году умирает его первая жена, и Дрейк вторично женится 1585 году Он также принимает участие в начавшейся воине с Испанией во время которой сэр Френсис, командуя флотилией из 29 судов атакует юго-западное побережье Карибского моря, находящееся во владении Испании. До своего возвращения в Англию в 1586 году Дрейк опустошает Санто-Доминго, Картахену и Сент-Августин во Флориде*["284] и спасает первых колонистов-англичан в Виргинии. В 1587 году он совершает налет на Кадис, уничтожив подготавливавшиеся для нападения на Англию корабли «Непобедимой армады» Этот блестящий подвиг широко известен как «опаленная борода испанского короля». Тогда же Дрейк захватил в плен каракку*["285] «Сан-Фелипе», груз которой был оценен более чем в 100 тысяч английских фунтов стерлингов. В 1588 году его назначают вице-адмиралом к Хоуарду Эффингемскому в Плимуте. Дрейк предложил напасть на «Непобедимую армаду» еще до того, как ее корабли покинут территорию Испании, но высшее командование не одобряло этот дерзкий план до тех пор, пока не стало поздно. В воскресенье, 19 июня 1588 года, до Плимута дошло известие о том, что корабли армады вторглись в воды Ла-Манша. Согласно историческим сведениям, зафиксированным впервые в 1624 году, капитаны английских кораблей продолжали на молу Плимута катать шары, и на сделанное им замечание по поводу их беспечности Дрейк ответил репликой, что «времени хватит и на игру, и на то, чтобы потом разбить испанцев». Однако свидетельства подобного высказывания мы находим только в летописях 1736 года. Таким образом эта фраза является поздней исторической вставкой. Ночь спустя британская флотилия пускается в погоню за армадой. На своем флагманском корабле «Месть» Дрейк захватывает в плен испанский галион «Розарио». Вероятно, тогда же он предложил атаковать брандерами испанскую флотилию на рейде Кале, и, безусловно, Дрейку принадлежит основная роль в нападении на испанцев 29 июля у города Гравелин, что привело к окончательному разгрому армады. В 1589 году во время атаки на Лиссабон Дрейк командует военно-морскими силами, а сухопутными — сэр Джон Норрейс. Отсрочки, плохое снабжение продовольствием и разногласия между командующими привели к провалу экспедиции, после которой Дрейка в течение пяти лет не брали на службу ее королевского величества. В 1595 году он вместе с Хоукинсом отправляется в экспедицию в надежде повторить успех 1585 года. На этот раз он командует флотилией из 27 кораблей. Но оборонительные сооружения испанцев оказываются слишком прочными. Хоукинс умирает недалеко от Пуэрто-Рико, а ночью 27 января 1596 года близ Порто-Бельо (ныне Портобело) умирает Дрейк. Он похоронен в море. Один испанец так описывал Дрейка: «Среднего роста, блондин, скорее худой, чем грузный, веселый, осторожный. В командовании проявляет властность. Резок, безжалостен, хороший оратор, склонен к либеральности и амбициозности, хитер, но очень жесток». Он обладал поистине гениальными тактическими способностями и умением руководить. Можно сказать, что Дрейк, как воплощение морских путешествий и предприятий времен королевы Елизаветы, положил начало Британской флотской традиции.Предисловие
Некоторые читатели, несомненно, зададутся вопросом, отчего я не придерживался языка елизаветинской эпохи в строгом смысле этого выражения на протяжении всего романа. Не делал я этого по двум причинам: во-первых, я понимал, что среднему читателю будет трудно привыкать к необычным словам и конструкциям речи, а во-вторых, потому, что разговорный английский язык XVII века, вероятно, сильно отличался от письменного. Между прочим, наши предки времен королевы Елизаветы I стали первыми, кто приблизил орфографию к произношению как в отношении имен собственных, так и в целом. Они, эти первые «новые англичане» — а большинство историков склонны считать правление Елизаветы I началом Нового времени, — создали грубое, жестокое и очень энергичное общество. В эту пору не очень-то пеклись о милосердии. В этой книге я попытался исправить некоторые глубоко укоренившиеся ошибочные представления относительно королевы Елизаветы и ее роли в истории Англии. Я также попытался рассеять многие иллюзии о походе испанцев, который иначе назывался «Английским предприятием», о сражении с «Непобедимой армадой»и победе английского флота. Водоизмещение и вооруженность упомянутых в книге кораблей, курсы их движения, имена их капитанов и главных офицеров настолько точны, насколько позволили это сделать продолжительные исследования архивов Британского музея и Библиотеки Уайденера в Гарвардском колледже. Это относится и к именам индейцев и названиям их племен в том разделе книги, где рассказывается о Виргинии. Костюмы туземцев, их обычаи и пища описаны полно и живо в дневнике некоего Томаса Хэриота, озаглавленном «Краткий и подлинный отчет о вновь обретенной земле Виргиния»и опубликованном в 1588 году. Я стремился скрупулезно придерживаться исторических фактов, не жертвуя при этом читательским интересом. Удалось ли мне это, пусть читатель решает сам. Не историческими являются только явно вымышленные персонажи. Однако семейство Коффин реально существовало и существует по сей день, и помещичий дом Портледж-мэнор все еще стоит на своем месте. Мой особый интерес к этой семье объясняется тем, что моя мать — прямой потомок Коффинов из Девоншира, что жили в Ньюберипорте и Нантакете. Все названные в книге корабли действительно существовали, если не считать тех, которыми командовали Генри Уайэтт и Хьюберт Коффин. Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность своим секретарям Дорис Помфри и Джейн Тидуэлл за их заботливую помощь при подготовке данной рукописи. Я также обязан мисс Маргарет Франклин, которая, роясь в архивах Британского музея, освободила меня от многих утомительных часов. И, как обычно, благодарю за огромную помощь мистера Роберта X. Хейнеса и его сотрудников Библиотеки Уайденера в Гарвардском колледже в Кембридже, штат Массачусетс. Ф. ван Викк Мэсон Декабрь, 1952 Ганнерз-Хилл Райдервуд, МэрилендКнига первая ГЛОРИАНА
Глава 1 ГАВАНЬ БИЛЬБАО
Утром 24 мая 1585 года залитая солнцем гавань Бильбао, находящаяся во владениях его католического величества Филиппа II, короля Испании и императора Священной Римской империи, выглядела так же, как и всегда во времена плаваний барка «Первоцвет». Генри Уайэтту, помощнику капитана, трудно было поверить, что в этих местах свирепствует страшный голод, страшнее которого не знали уже многие поколения: ведь по склонам многочисленных холмов, окружавших желто-коричневые стены Бильбао, все еще карабкались вверх обширные виноградники, а у кромки воды поля казались зелеными и фруктовые сады — полными плодов. Как и в старые времена, гирлянды коричневых и черных сетей и разноцветные паруса сушились на солнце, свисая с шестов, воздвигнутых над рядом узких, посыпанных галькой пляжей, на которые, одетые во все кожаное, рыбаки вытаскивали свои лодки. Выкрашенные в зеленый, красный или, чаще всего, в ярко-синий цвет эти миниатюрные одномачтовые суденышки лежали на днище наподобие крокодилов, греющихся под солнцем на песчаной отмели. Сосредоточенно глядя на ускользающий от взора бакен фарватера, Уайэтт услышал гортанную команду капитана Джона Фостера: «Два румба право на борт!» «Первоцвет», стопятидесятитонное судно, двадцать дней назад покинувшее Лондонский Пул*["286], защищенное теперь от морского бриза мысом, господствующим над входом в бухту, неторопливо, с хлопаньем опавших бледно-коричневых парусов вошло в гавань Бильбао — и в историю. И никто еще не ведал, что из-за того, чему предстояло скоро случиться, богатые и многонаселенные города в двенадцатимесячный срок превратятся в груды дымящихся опустошенных развалин. На Южно-Американском материке, на островах у побережья Африки, на Карибских островах, равно как и в самой Испании, гордость Филиппа подвергнется ряду ударов, которые разрушат легенду о непобедимости испанцев и нанесут Священной Римской империи смертельные раны, от которых впредь уже никогда не оправится этот порочный анахронизм. Все это неведомо было стоящему рядом с капитаном Фостером Генри Уайэтту, с интересом созерцающему разнообразные желто-серые зубчатые стены города, венчающие тянущиеся поперек гавани холмы. С них и со стен огромного замка, охранявшего вход в эту гавань, на сумятицу забивших ее судов грозно глядели подобные черному оку циклопа жерла множества мощных пушек. Фостер прикрыл от солнца свой единственный глаз и промолвил: — Думаю, Гарри, что раньше мы бы тут встретили пару судов с нашей родины. — Действительно странно, — согласился Уайэтт. — Что-то не вижу я здесь ни одной мачты с крестом Святого Георгия.*["287] Фостер задумчиво склонил свою круглую лысеющую голову в красной вязаной шапочке из камвольной пряжи. — Пожалуй, не наберется и половины судов из тех, что мы встретили здесь в прошлый раз. И все же это может означать, что торговля у нас будет поживей и цены получше. Как считаете, мастер Гудмен? Унылый круглолицый человек, ведавший в качестве суперкарго*["288] приемом и выдачей грузов на судне своих хозяев, достойных господ Мортона и Барлоу, торговцев из лондонского Сити, ощерившись, обнажил в улыбке свои редкие пожелтевшие зубы. — Цены получше — это точно! Голодающие не склонны будут долго препираться из-за цен, стоит им только увидеть яства, что я везу у себя под ногами. Да, господин Фостер, осмелюсь предположить, что мы получим с этого груза необычайно высокий доход. Хотя Генри Уайэтт посещал порт Бильбао уже второй раз грандиозная архитектура этого древнего города и экзотика его портовой части ничуть не потеряли для него своей первоначальной привлекательности. Он рассеянно заметил, как сетевидные тени, созданные солнцем среди вантов «Первоцвета», лениво скользнули взад и вперед по его не слишком-то чистым шканцам, затем присмотрелся к полету больших бело-серых портовых чаек, кружащих и кричащих над флагом их судна — выцветшим красным крестом Святого Георгия на белом, сильно запачканном поле. Гудмен отмахнулся толстой короткой рукой от налетающих птиц. — А где вы бросите якорь? — спросил он. Капитан барка окинул опытным глазом всю массу сгрудившихся в порту судов, не заметил ничего неблагоприятного и ответил: — На нашей обычной стоянке, недалеко от Генуэзского дома.*["289] Уайэтт тем временем заметил присутствие двух массивных португальских каракк — вооруженных купеческих кораблей. Их строили так, чтобы они напоминали собой плавучие замки; их позолоченные и кричаще раскрашенные корпуса величественно возвышались над дюжинами скромных круглоносых суденышек. Присутствие каракк говорило о том, что в порт недавно вошел конвой из Испанских Нидерландов*["290], возможно, с грузом продовольствия для борьбы с опустошительным голодом, как известно, свирепствующим в провинциях Бискайе и Астурии, да и во всей Испании. За ними на якоре стояли два галиота и низкая быстроходная на вид шебека, видимо захваченная у какого-то турецкого корсара в Средиземном море. Из маленьких местных каботажных и рыболовецких судов многие пришли сюда из полусотни крошечных портов, разбросанных вдоль побережья Бискайского залива. Однако самого серьезного внимания Уайэтта удостоился выкрашенный в желто-серебристый цвет королевский галеас*["291], прочно прикованный якорями у входа в гавань. С его бизани над треугольным латинским парусом безжизненно свисал знакомый красно-желтый флаг Кастилии и Арагона. Затихающий бриз даже с такого расстояния доносил неописуемо тошнотворный запах тех жалких галерных рабов, которые до самой смерти обречены были оставаться прикованными к скамьям для гребцов. Уайэтта передернуло. Во время первого своего плавания в Испанию он поднялся однажды на борт подобного судна и ему стало муторно и страшно от зверской бесчеловечности увиденной им картины — множества иссеченных хлыстом грязных и почти голых людей, которые умирали от голода. Рабы, как убедился он, справляли свои естественные потребности, просто соскользнув со скамьи назад. Экскременты падали на балласт, чтобы вонять, разводить мух и гнить до тех пор, пока их раз в неделю наскоро не смывали в клоаку. Вскоре вся эта масса стоявших на приколе судов придвинулась ближе, и Уайэтт, с беспокойством на широком медно-коричневом лице, повернулся к Фостеру: — Джон, не заприметил ли ты еще какой-нибудь английский флаг кроме нашего? — Пока нет. Прежде я никогда не заходил сюда, но ради компании я не прочь бы повстречаться с отечественной посудиной, одной или парочкой. — В таком случае, не благоразумней ли бросить якорь подальше, возле тех вон судов? Суперкарго тут же замахал коротенькой толстой рукой, протестуя. — Чем дальше от берега, тем меньше у меня будет покупателей. Поэтому, молю вас, поставьте судно на его обычное якорное место — у причала напротив Генуэзского дома. Джон Фостер поколебался, озадаченно расчесал свою всклокоченную бороду толстыми пальцами и позволил своему единственному налитому кровью серому глазу — другой он потерял во время жаркой схватки с фламандскими пиратами у берегов Флашинга — оглядеть ряд маячивших впереди снастей и стеньг. Хм-м. Стоит задуматься над этим, казалось, очень странным фактом, что на виду не было ни одного английского флага — особенно если учесть, что рядом с адуаной, или иначе — королевской таможней, стояло пришвартованное судно, по его убеждению, очень похожее на каравеллу «Дельфин» из Дувра. — Может, началась война? — рассуждал Генри Уайэтт вслух. — Нет, нас не просили показать опознавательные, и у пушек форта Кастелло не стоят орудийные расчеты. Капитан «Первоцвета» отдал неожиданный приказ развернуть судно по ветру. — Стану на якорь здесь. Предупреждая возражения суперкарго, он добавил: — Терпение, дружище Гудмен, и все выяснится, я свяжусь с этой иностранной пристанью, и как можно скорее. По-моему, осторожность нам не помешает и лучше убраться отсюда подобру-поздорову. Как только паруса «Первоцвета» захлопали и затрепетали, его команда вскарабкалась на мачты, словно стая косматых обезьян, чтобы взять на гитовы блинд, марсели*["292] и потрепанный непогодой главный нижний прямой парус еще до того, как грубый якорь барка пошел, пуская пузыри, на дно сквозь мутную желтую воду. Стоило только английскому судну стать на якорь, как отберега тут и там отчалили лодки, доставляющие провизию на суда; они напоминали гигантских водяных жуков. Ни одна из них не предложила ни рыбы, ни фруктов, ни прочих продуктов питания — только керамическую посуду, скобяной товар или изделия из кожи. Проследив до конца за тем, как убираются паруса, Уайэтт распорядился, чтобы подготовили судовую шлюпку: он хотел сплавать на ней в контору коменданта порта. Дожидаясь, пока исполнят его команду, он смотрел, как солнце вновь появилось из-за гряды свинцово-серых облаков и залило всю гавань сиянием, устремившись в погоню за ливневым шквалом по красным черепичным крышам Бильбао и вверх по ряду голых холмов, пока наконец не выткало яркую радугу над руинами сторожевой башни, поставленной еще древними римлянами. Лучи солнца ненадолго осветили большой золотой крест на зеленоватом куполе собора и придали искусственный блеск фасаду дворца коррехидора.*["293] Живое воображение Кэтрин Ибботт определенно оценило бы живописность богато украшенного дворца коррехидора, беспорядочную смесь лавок под красными крышами и эти огромные склады, видневшиеся за бесконечным разнообразием торговых судов. Да, милая Кэт, так чудно играющая на цимбалах и поклонявшаяся всем искусствам, несомненно, ахнула бы, увидев драгоценные камни сложной филигранной работы, прекрасную керамику и предметы одежды из кожи, чем славился этот порт. Что же до него самого, Уайэтт никогда не прекращал восхищаться изготовляемыми здесь прекрасными шишаками, саблями и кирасами. Во время нынешнего визита он намеревался купить прочную бильбо — очень красивую саблю с тяжелым клинком, названную так по имени того же самого города. Он от всей души надеялся, что мастер Гудмен окажется правым в своих предположениях, что эти засоленные и копченые свиные бока, дюжие бочки засоленной говядины, капуста и связки вяленой рыбы, наваленные в трюме «Первоцвета», принесут на его долю достаточно прибыли, чтобы позволить ему купить брошь — одно из чудесных украшений из золота, инкрустированного на стали, какие могли изготовлять только мавританские рабы. Как прекрасно подошло бы такое украшение к бледной красоте Кэт Ибботт. Мысли Уайэтта улетели в Англию. Чем могла бы быть занята в этот же самый весенний денек старшая дочка франклина*["294] Ибботта? Она никогда не брезговала работой на ткацких станках своего батюшки и не прочь была скоротать долгий день над своей самопрялкой, но поскольку ее отец стал франклином в округе Святого Неотса в Хантингдоншире, она задирала свой очаровательный носик, когда дело касалось доения коров или такой некрасивой работы, как чистка принадлежавших семье курятников. Какую позицию мог бы занять франклин Ибботт по возвращении его, Уайэтта, в Сент-Неотс? Стал бы он, со всей серьезностью, возражать против зятя, который в свои двадцать два года достаточно преуспел, чтобы иметь четверть доли в «Первоцвете»? Разумеется, если это плавание окажется успешным, он может стать равным партнером мастера Джона Фостера с половинной долей владения. Он поморщился над бортовыми поручнями. Если бы только мамаша Кэт, эта сварливая ведьма, не была преисполнена такой непоколебимой решимости выдать ее замуж за джентльмена, лучше обеспеченного всем, что нужно для этого мира. Ему придавало смелости знание того, что ежегодно накапливались небольшие состояния предприимчивыми молодыми флотоводцами, не отмеченными особо ни знатностью, ни богатством, такими, как легендарный сэр Френсис Дрейк. Великий мореплаватель всего лишь немного превосходил его по возрасту, когда разграбил город Номбре-де-Дьос на американской земле и впервые пощипал бакенбарды короля Испании. Хоукинсы, те, что помоложе, Джон и Ричард, оба выжали порядочно золота из испано-американских портов и коммерции. Уайэтт в который раз устремил свой мысленный взор к тем переделкам на борту «Первоцвета», которые он намеревался произвести, если бы стал его капитаном и наполовину хозяином — ведь Джон Фостер давно уже облюбовал для себя там, в Маргейте, некое очаровательное суденышко, кромстер. Пара орудий, установленных на носу «Первоцвета», и пять лишних футов, добавленных к каждой из двух его толстых коротких мачт, сделали бы судно более удобным в управлении и более пригодным для обороны, не уменьшив при этом сколько-нибудь заметно его грузоподъемности. Если придет тот счастливый день, когда он, Гарри Уайэтт, станет капитаном торгового судна, тогда уж он гораздо тщательнее подберет себе команду, нежели это сделал одноглазый Джон. Он полагал, что барк такого размера, как «Первоцвет», водоизмещением в 120 тонн не нуждался в команде из двадцати шести человек, исключая офицеров. Очень даже вероятно, что шестнадцати дюжих матросов и полдюжины юнг, обучающихся морскому делу, оказалось бы достаточно, чтобы, если будет возникать такая необходимость, подтаскивать орудия барка и управляться с ними. Задержавшись, чтобы присмотреть за тем, как матросы брасопят паруса к реям и убирают прочий бегучий такелаж*["295], Уайэтт словно видел «Первоцвет», как он выглядел бы, пришвартованный у Биллингсгейта на Темзе. Он был бы так сильно забит восточно-индийскими пряностями, испанской кожей, ножевыми товарами и золотом, что метка, говорящая о его загруженности, — предосторожность, недавно введенная мастером Плимсоллом из Навигаторской коллегии, — оказалась бы под водой. Кэт конечно же наблюдала бы за прибытием судна с порога их первого скромного дома, который он намеревался поставить для нее на южном берегу Темзы, где-нибудь около церкви Святого Олафа. Само собой разумелось, что существенная доля его доходов должна была пойти на поддержание отца, франклина Эдмунда Уайэтта, человека мягкого и довольно слабо преуспевающего в изучении химии и медицины. К сожалению, некоторые словоохотливые соседи в Сент-Неотсе предавались болтовне о том, что франклин Уайэтт, по всей вероятности, балуется и алхимией. Чистейший вздор! Эдмунд Уайэтт, возможно, и был недальновидным, нескладным и непрактичным человеком, но все же не таким уж большим простофилей, чтобы растратить свои жалкие, скудные средства на бесплодные попытки получить золото. Генри Уайэтт бросил взгляд вдаль над поверхностью воды и нахмурился, признав, что без всякой уважительной причины его семья оказалась не очень-то удачливой. Была ли в том чья-то вина, что мать его поразила падучая болезнь? Потом печальная судьба Маргарет, единственной его сестры — оспа унесла трех его братьев. Бедное создание: пролившийся ей на лицо обжигающе горячий суп из котелка не только превратил его в ужасную маску из шрамов, но и заставил ее повредиться в уме. Мэг шел тогда девятый год, и почему-то ее умственное развитие так и остановилось на дате этого несчастного происшествия. Было вполне очевидно, что этой бедняжке никогда уже не выйти замуж — с ее-то обезображенным лицом и слабым умом. Если это плавание пусть даже вполовину оправдает предсказания его прибыльности, сделанные как мастером Фостером, так и пузатым суперкарго, тогда собственный его доход должен, по крайней мере, обеспечить семью средствами для дальнейшего проживания в скромном, уединенно стоящем домике на окраине Сент-Неотса. «Конечно, — напомнил себе Уайэтт, закрепляя ручку штурвала, — возможно, папаша или все они трое уж померли — а что, ведь по свету гуляет так много чумы». Только подумать — почти два года он не видел единственную улицу Сент-Неотса и его крытые соломой, заросшие мхом крыши. Ох, как приятно, думал он, было бы снова половить форель или подремать в жару под темно-зелеными остролистами, цветущими, с блестящими листьями, среди развалин бенедиктинского монастыря. Кроме того, он, разумеется втайне, намеревался вырезать из некоторых высоких тисов, осеняющих кладбище, новые носовые доски для корабля. Деревья эти посажены были столетия назад среди могильных камней, чтобы, с одной стороны, ценные тисы могли уберечься от гибели, а с другой — отгоняли злых духов. От стайки лодчонок, подгребших под кормовой подзор «Первоцвета», раздались пронзительные крики. — Pan! Por el amor de Dios, un poco de pan! Хлеба! Христа ради, немножечко хлеба! — просил человек за рулем протекающей гребной лодки. Двое его похожих на огородные пугала товарищей бросили весла и умоляюще воздели вверх руки, похожие на когтистые лапы, при этом их лодка столкнулась со скифом, другой лодкой, в котором сидели белобородый старик и мальчик с большущими от голода глазами. — Еды, сеньоры, — плачущим голосом просил старик, — во имя Святой Девы, дайте нам какой-нибудь еды. Мы изголодались. То, что он говорил чистую правду, было очевидно: там, на дне его скифа в грязной воде, словно куча тряпья, безжизненно лежала изможденная девочка-подросток. Все эти с надеждой глядящие вверх испанцы выглядели истощенными, а их темнокожие руки и ноги просто напоминали высохшие ветви деревьев. Они вращали глазами и щебетали, как обезьяны, но столпившиеся у борта бородатые краснолицые англичане только поплевывали на воду. Им, выросшим среди голода и неопределенности существования в силу избранной профессии, — сегодня ты жив, а завтра утонул, — подобная нищета была не в диковинку и не задевала сердца. А лодчонки с причалов гавани все подходили и подходили. — Стойте, мерзавцы! Прочь от судна! — взревел Фостер. — Боцман! Взгрей канатом любого негодяя, кто попытается залезть на борт! — Но он запоздал со своим приказом. С полдюжины невероятно оборванных людей уже ухватились за носовые цепи и начали взбираться на рею блинда. Капитан повернулся. Единственный глаз его горел огнем. — Гарри, живо освободи мое судно от этого галдящего сброда. Кажется; я вижу там шлюпку коменданта порта, и будь я проклят, если он увидит «Первоцвет» воняющим этими висельниками. Боцман и его подручные, обыкновенные матросы, стали со всем усердием сбивать кофель-нагелями*["296] вцепившиеся в фальшборт костлявые руки. Оборванцы, изрыгая проклятия, вынуждены были снова попрыгать в свои обшарпанные дырявые лодки. Хоть и довольный тем, что «Первоцвет» так быстро очистили от непрошеных гостей, Уайэтт был поражен бесконечным отчаянием, написанным в глазах одного изможденного от голода человека — судя по его одежде, погонщика мулов. Он стоял на коленях в своем утлом челне и умоляюще сжимал руки. — Благороднейший из благородных, — крикнул он, задрав вверх лицо, — молю Бога, чтобы вам никогда не оказаться в такой нужде. Только вчера от голода умерла моя нинья*["297]. В доме у меня не осталось ни корки хлеба, ни капли оливкового масла. Если я не достану еды, пусть даже совсем немного, мой маленький сын не доживет до следующего рассвета. Рука Уайэтта потянулась к подсумку на поясе. В нем он обычно хранил сухарь и кусок сыра, которые облегчали ему слишком долгую вахту. Мастер Гудмен заметил это движение. И тут же его круглое красное лицо, которое нельзя было назвать недобрым, посуровело. — Не надо, мастер Уайэтт! Вы привлечете всю эту грязную шайку к нам на борт. — Что правда, то правда. — Тем не менее Уайэтт бросил свою сумку в страждущие руки погонщика мулов и был вознагражден взглядом такой невыразимой благодарности, что долго потом не мог его забыть.Глава 2 КОРРЕХИДОР БИСКАЙИ
К утру 26 мая 1585 года не только мастер Гудмен, но и Джон Фостер и его рыжеволосый помощник чувствовали сильное раздражение, смешанное с растущей тревогой. Что происходит? Не только они, но и вся команда «Первоцвета» стали понимать, что портовые власти в Бильбао ведут какую-то нечестную чиновничью игру. Они требовали больше, чем обычная взятка? Дело, похоже обстояло именно так. Дон Франциско де Эскобар, коррехидор Бискайи, и его начальник порта все еще не подписали разрешения на торговлю для «Первоцвета», хотя эти сановники все время обещали, и довольно любезно, что привезут сей исключительно важный документ. — Чтоб они сдохли, эти длинноносые папские лисы! — рычал Гудмен, смахивая пот с крутого, обожженного солнцем лба. — Вот уж истинно по-испански: хитро вытягивать незаконные деньги, в то время как их народ погибает от голода. За последние два дня погода стала жаркой не по сезону, и гавань Бильбао превратилась во влажный, лишенный воздуха душный котел, в котором английской команде оставалось только ругаться, потеть и изнемогать от жары среди отвратительного зловония, исходящего от подводной части их барка. Кроме того, хранящаяся в кормовом трюме капуста стала приходить в печальное состояние и вонью давать о себе знать, тогда как питьевая вода в бачке подернулась бледно-зеленым цветом и в ней появились новые формы жизни, внушающие брезгливость. — Эта дрянь никогда не была нектаром, — заявил перевозчик, отплевываясь, — но теперь она, ей-богу, на вкус такова, будто с неделю простояла в сапогах какого-нибудь солдата. — Хоть убей, не могу понять причину этой задержки, — промямлил мастер Гудмен ртом, набитым соленой рыбой и жареной капустой. — Мы прекрасно знаем, что проклятые доны действительно голодают, а им известно, что мы привезли кладовую на плаву, так почему же они не хотят торговать? Суперкарго выглядел глубоко обеспокоенным — и небеспричинно: дальнейшая порча его товаров была неминуема. В такую жарищу даже рыба и говядина, лежащая в рассоле, начали приобретать радужные оттенки приближающегося гниения. Однако первостепенной заботой Джона Фостера являлось то ненадежное состояние, в котором оказался «Первоцвет»в отношении запаса воды. Требовалось что-то предпринять — и незамедлительно. Нанизав кусочек соленой рыбы на кончик складного ножа, капитан отправил его в рот, и его заросшие черной бородой челюсти методически заработали. — Эй, мастер Гудмен, я не меньше вас виню дона Франциско в этой нерешительности, но при любом раскладе я завтра же должен пополнить запас воды в моих бочках или идти в Гипускоа*["298] или еще в какой-нибудь ближний порт, где паписты охотнее согласятся на торговлю с вами. Генри Уайэтт устремил взгляд своих синих глаз на множество пушечных батарей, хмуро глядящих со стен на гавань. — В таком случае, Джон, я полагаю, что нам было бы лучше сегодня же вечером попытаться уйти отсюда, каким бы сложным ни оказался фарватер. Фостер просмоленным пальцем выковырял кусочек застрявшей в остатках зубов рыбы. — Нет нужды мне об этом напоминать, Уолтер. А посему пусть портовые власти еще до захода солнца выбирают: ловить ли им рыбку или убираться из лодки, как говорят рыбаки. Суперкарго нахмурился, поджав толстые губы. — Вам бы лучше потерпеть еще немного. Предупреждаю вас, Джон, что почтенная Торговая компания этого не потерпит, ваша робость лишает их барыша. Капитан «Первоцвета» фыркнул, и его единственный глаз с возмущением уставился на Гудмена поверх ощетинившейся бороды. — А что мне до вашей Торговой компании, разрази меня гром?! Я отвечаю за судно, не говоря уж о тех двадцати шести мошенниках, которые режутся на нем в кости да почесывают свои немытые туши. Вахтенный на якоре поднял шум: — Гей! Корма! От таможни отчалила галера и идет прямо на нас. Генри Уайэтт отложил деревянную доску для нарезания хлеба, с которой он ел, перешел к левому борту и вскочил на бочку. Сощурив глаза, чтобы лучше видеть в полуденном сиянии солнца, он различил приближающуюся к ним по зеркальной воде небольшую, выкрашенную в красновато-желтый цвет галеру с восемью полуобнаженными гребцами. На корме ее вяло развевался флаг со стоящими на задних лапах геральдическими львами и зубчатыми башнями Арагона и Кастилии. Уайэтт спустился с бочки на палубу и принялся застегивать пуговицы камзола. — Какой-то хлыщ из таможни. Уж верно, везет нам лицензию на торговлю. Как только суденышко с поцарапанными и расщепленными скамейками для гребцов, что говорило о долгой его службе, подошло поближе, ошибка Уайэтта стала очевидной. На его кормовом сиденье, развалясь, сидели двое прекрасно одетых сановников в компании довольно большого числа сопровождающих, обряженных в черные и коричневые цвета торгового люда. Вскоре стало очевидным, что ехал к ним вовсе не какой-то мелкий чиновник из конторы начальника порта, а не кто иной, как его превосходительство Франциско де Эскобар, коррехидор всей Бискайской провинции, в сопровождении двух своих главных офицеров. Уайэтт узнал этого мрачного дворянина с прямой осанкой — год назад видел, как он возглавлял процессию на празднике тела Христова. — Поостерегитесь, сеньоры, — подслушал помощник капитана то, что сказал дон Франциско, — многое зависит от результатов ближайшего часа. Слава Богу за те утомительно-скучные часы, проведенные им в качестве ученика клерка в Каса-де-Обриен-и-Андрада и члена Торговой компании, продающей товары Испании и Португалии. Именно в этом торговом доме он впервые нашел работу после того, как оставил Сент-Неотс, и там в него вбили знаний гораздо больше, чем просто азы разговорного и письменного испанского языка. Он бросил Каса-де-Обриен-и-Андрада после того, как его непосредственный надзиратель, пьяный вероотступник из Барселоны, пытался ударить его ножом: ему показалось, что Уайэтт выказал неуважение к португальской проститутке, в которой не было никакой особой привлекательности. Защищаясь, он вынужден был проломить голову этому дураку, а затем завербоваться на первое же судно, уходящее из Лондона. По чистому благоволению судьбы, он оказался на борту «Первоцвета» Джона Фостера. Еще когда помощник капитана шел к трапу, в нем сильно всколыхнулось сомнение. Почему это такое высокопоставленное лицо, как коррехидор Бискайи, соблаговолило удостоить своим визитом скромное английское купеческое судно? Особенно после двухдневной проволочки? Пока сокращалось пространство обесцвеченной воды, отделяющее барк от галеры, Уайэтт приказал команде привести в порядок свою одежду и не без некоторой дальновидности отправил нескольких самых растрепанных вниз, с глаз долой. Его превосходительство дон Франциско де Эскобар, великолепный в своем наряде из зеленых и желтых, плотно обтягивающих ногу штанов и чулков, малинового дублета*["299] с брыжами из валенсийских кружев и короткого мавританского плаща из лазурного бархата, стоял, глядя вверх на эту покрытую отложениями корму купеческого судна. На темном, с крупными чертами, лице коррехиода, заостренная седая бородка с усами выглядела почти белой. Тяжелая блестящая цепь из золота, которой хватило бы одной, чтобы купить без труда весь груз «Первоцвета», оттягивала шею. Как только гребцы, истощенные, с выступающими ребрами парни, перестали грести и суденышко на своем ходу плавно подошло под кормовой подзор барка, офицер в выцветшем красно-синем мундире чопорно испросил разрешения подняться на борт. — Да, да! Поднимайтесь на борт и добро пожаловать! Давно уж пора, — отозвался Фостер, после чего отдал серию быстрых команд, заставил своих матросов спустить веревочную лестницу, по которой широко улыбающийся коррехидор, его адъютанты и мрачно одетые сопровождающие поднялись наконец на палубу «Первоцвета». Мастеру Гудмену, лучше всех на судне говорящему по-испански, пятеро строго одетых личностей представились купцами из города, прибывшими поторговаться насчет судового груза. Все как один они выглядели бледными, озабоченными и голодными, хотя вовсе не настолько изголодавшимися, как те несчастные создания, что первыми встретили «Первоцвет». Так или иначе, эти чопорные парни в темных костюмах показались Генри Уайэтту менее раболепными, менее дружелюбными, чем те купцы, что посетили их барк во время прошлого плавания. Коррехидор вел себя очень сдержанно и сосредоточил значительную долю своего внимания на шести заржавевших пушках барка. — Добро пожаловать к нам на судно, — прогудел Джон Фостер и отвесил низкий поклон, как и следовало поступать простолюдину в присутствии высоких сановников. Он даже отчистил от пятен соуса свой байковый сюртук и в честь высокопоставленных особ где-то раздобыл круглую шляпу из небесно-голубой кожи. В конце концов, дон Франциско де Эскобар был главным наместником короля, поставленным над провинцией Бискайи, богатой прибрежной областью, включавшей в себя свыше сотни городов, деревень и второстепенных портов. На ют поспешно вынесли*["300] снизу бочку крепкого английского пива, и золотистое его тепло казалось вполне приемлемым — при том, что угощение Фостера подавалось в уродливых кружках из вощеной кожи, вряд ли способствующей улучшению его вкуса. Официальное разрешение на торговлю, важно объяснил дон Франциско капитану Фостеру через Уолтера Гудмена, будет дано сегодня же после полудня. Собственно, он и сам уже решил закупить крупную партию трески, солонины и других съестных припасов для своих гарнизонов. Холодно улыбнувшись, он обнажил большие с янтарным оттенком зубы. — По правде говоря, сеньор капитан, я признаюсь, что здесь, в Бильбао, мы находимся в крайней нужде, и ваш груз для нас очень желателен. Ибо, что ни час, многие мои солдаты умирают от голода. Поэтому я надеюсь, сеньор, — он повернулся к Гудмену и действительно хлопнул этого дородного господина по плечу, — вы будете настолько добры, что определитесь со своими ценами сегодня и произведете доставку завтра. — Ваше превосходительство слишком добры, — Мастер Гудмен сделал такой глубокий вздох удовлетворения, что широкий его ремень с медной пряжкой натянулся на объемистом животе, который затем опал и висел над ремнем, пока он называл ряд цен, запрашивать которые часом раньше он бы просто не осмелился. Коррехидор и его спутники без малейших колебаний приняли поистине грабительские цены Гудмена. Уайэтт, стоя сбоку от этих тонконосых широкоплечих купцов, ощутил окрыленность успехом. Боже милостивый! Этот толстопузый Уолт Гудмен уже за половину своего груза ухитрился заработать сверх прибыли тысячу дукатов. Помощник капитана едва мог поверить своим ушам. Ведь если эта сделка состоится, он сам заработает семьдесят пять английских фунтов. Черт возьми! Это более чем удвоит ту сумму, на которую он рассчитывал в самых оптимистических своих предположениях. Теперь он уж наверняка купит прекрасную шпагу и ожерелье из филигранного золота, чтобы украсить изящную шейку Кэт Ибботт. В холодных серых глазах Джона Фостера затеплилась удовлетворенность, а его загорелое, изрезанное глубокими морщинами лицо смягчилось впервые с тех пор, как его барк стал на якорь в гавани Бильбао. — Спросите-ка у этих джентльменов, — попросил Гудмен, — не захотят ли они остаться и вкусить доброй английской солонины с капустой. Дон Франциско и его черноглазые спутники посовещались и потом заявили, что готовы воспользоваться гостеприимством «Первоцвета». — Они наверняка умирают от голода, — тихо сказал Гудмен в сторону Уайэтта. — Иначе ни один кабальеро такого ранга, как коррехидор, не соизволил бы явиться к нам на судно. По-моему, мы как поросята в клевере, так сказать. — Может, оно и так, но все же… — С самого начала, как только прибыл коррехидор, Уайэтт чувствовал все нарастающее беспокойство. И он так же тихо отвечал: — Да провалиться мне, если я понимаю, почему сам коррехидор вдруг решил заявиться сюда. Обычно, чтобы доставить лицензию на торговлю, подходил какой-нибудь жадный и немытый тененте*["301] из конторы начальника порта, а его превосходительство даже лицензии не привез. Принесли сочный кусок солонины, лишь недавно помещенной в рассол, нежную бело-зеленую капусту порезали кусочками и разложили по горшочкам вместе с молодым лучком и несколькими драгоценными морковками. В кружки снова налили пенистого янтарного пива, и гостившие купцы живо их опустошили. Тощие личности в черном свободно расхаживали по палубе, критически осматривали такелаж, заглядывали в трюм через люки, которые в эту жару оставались открытыми. Тем временем на крошечном юте «Первоцвета», на паре бочек из-под дегтя, соорудили стол. Рядом расставили малые бочонки и тюки, на которые можно было усадить посетителей. Для украшения стола достали свинцовую солонку, несколько видавших виды оловянных блюдечек и, в честь такого беспрецедентного события, мельницу для перечных зерен. Уайэтт, обливаясь потом, собственноручно соорудил из старого марселя импровизированный тент: весеннее солнце в этот час становилось поистине безжалостным. От натянутой парусины исходил мягкий золотистый свет, и в нем драгоценные камни в серьгах и медальонах коррехидора и его офицеров сверкали еще роскошней. Вскоре еда, исходящая паром и сочными ароматами, ожидала гостей, которые, забыв свою прежнюю надменность, не нуждались в повторном приглашении и приступили к делу с плохо скрываемой жадностью. Потому было довольно-таки удивительно, что, когда с едой покончили все лишь наполовину, коррехидор вдруг отставил тарелку и обратился к хозяину: — Тысячу извинений, сеньор капитан, но ваше великолепное гостеприимство подсказывает мне, что я должен съездить на берег за особыми винами, а также привезти вам вашу лицензию на торговлю. Взгляд блестящих темно-коричневых глаз испанца перепорхнул с одного его адъютанта на другого. — Дон Хосе и дон Альфредо поедут со мной. Вы, сеньор Гусман, дон Педро, дон Луис и остальные, останетесь, чтобы наслаждаться этим восхитительным столом. Названные им испанцы остались, сияя улыбками, тогда как те, кому было велено сопровождать коррехидора, вели себя «кисло, как шлюхи в церкви», как позже заметил боцман Браун. Несмотря на возражения, достаточно искренние со стороны капитана «Первоцвета»и суперкарго, дон Франциско де Эскобар спустился в свою небольшую галеру, и она под ударами весел поплыла, направляясь к берегу, по воде, которая под густеющими облаками становилась уже желто-серой. — Чтоб им сдохнуть, всем этим неблагодарным иностранным ублюдкам! — проворчал Фостер. — Никогда бы не поверил, что такие отощавшие дворяне способны расстаться с обильным столом. Стоя у поручней, Генри Уайэтт потянул за рыжеватый волосок, выбившийся среди легкого пушка на его квадратной челюсти. Наконец он бросил на Фостера насмешливый взгляд и сказал: — Будь я неладен, если во всем этом нет чего-то удивительно странного. Фостер расправил плечи под штопаной-перештопаной рубахой. — Верно, Генри, это очень странно. Чего это Эскобару вдруг понадобилось оставлять у нас своих людей? А может, он говорил правду насчет того, что ему нужно возвратиться за нашей лицензией? — Я в это поверю, когда у свиней вырастут крылья. — Уайэтт бросил проницательный взгляд на оставшихся посетителей, смеющихся и быстро уплетающих блюда, оставленные их товарищами. — Я вот что думаю, Джон. Пока ты будешь занимать этих донов, я потихоньку насторожу наших людей. А вдруг выяснится, что нам грозит опасность — хоть мы и знать не знаем, с какой это стати. Как только стало ясно, что дон Луис и его спутники готовы поглотить все, что бы им ни предлагалось, Джон Фостер приказал принести самого крепкого пива, что имелось у него на борту. — У вас, ей-богу, чудесное судно, сеньор капитан, — рыгнув, похвалил Луис де Гусман, окинув критическим взглядом оснастку. — Оно будет хорошим приобретением для флота Бискайи. Единственный глаз Фостера застыл в неподвижности. Он перевел дыхание, чтобы заговорить, но суперкарго опередил его вопросом: — Будьте любезны, скажите нам, благородный сеньор, не «Дельфин» ли из Дувра стоит вон там? — Pero si, amigo mio*["302], — дружелюбно кивнул ему дон Луис. — Оно поступило на службу его величества только на прошлой неделе. Позади него стоит «Лебедь» из вашего неспокойного порта, который зовется Плимут. Мастер Гудмен подавился кусочком говядины, отчего его обычно выпуклые глаза выпучились еще больше. — Но… но ваша честь, должно быть, ошибается, — заикаясь, проговорил Фостер, покраснев как индюк. — Я хорошо знаю их владельцев. Они никогда бы не продали так хорошо оснащенные суда, особенно в нынешние времена. — Осмеливаешься сомневаться в моих словах, ты, паршивый матросский пес? — Дон Гусман откинул назад свою узкую голову и грозно взглянул над импровизированным столом. — Наш король берет то, что ему нужно. — Но их команды, — Фостер тяжело дышал над своей большой кружкой, — что сталось с ними? — Они в полной безопасности, — сообщил дон Луис, небрежно махнув рукой в сторону берега. — Собственно, в данный момент они пользуются гостеприимством форта Кастелло. Когда его величеству будет угодно, их вернут на этот жалкий, вечно затянутый туманами островок — вашу обитель. Уголком своего глаза Джон Фостер следил за Генри Уайэттом, который, как казалось со стороны, бесцельно разгуливал по палубе. Время от времени он как бы невзначай обменивался словами с каким-нибудь густо заросшим волосами и грубо одетым матросом из команды «Первоцвета», в результате чего на палубе среди такелажа кто-нибудь тайно припрятывал пики, топоры и дротики. Под палубами тоже шла какая-то работа, и Фостер, напрягая слух, мог различить слабые звуки ударов, как будто там чем-то скребли. В конце концов капитан Фостер тяжело поднялся на ноги. — Прошу вашего прощения, джентльмены, но я должен отдать кое-какие распоряжения своему помощнику. Луис де Гусман тоже поднялся, его шафранного цвета щеки вдруг покрылись румянцем. — Сеньор капитан, мы сочтем это очень неуважительным, если вы покинете приглашенных вами гостей. Поэтому оставайтесь с нами, — он быстро глянул в сторону берега, — пока не вернется его превосходительство коррехидор. — Под коротким темно-синего цвета плащом испанца блеснул серебристый кортик. — Что? Неуважительным? — пролопотал Фостер, затем еле слышно прибавил: — Что ж, черт меня побери, чтоб мне совсем провалиться! Пусть будет по-твоему, сволочь остроусая. — И он с мрачным видом снова опустился на свой бочонок. Даже у самого тупого англичанина на судне не оставалось никаких сомнений, что дело пахло вероломством, вероятно, родственным тому предательству, от которого уже пострадали «Лебедь»и «Дельфин». Насколько широко, задавался вопросом Уайэтт, налагалось это эмбарго? И только ли против английских судов в обстановке предположительно мирных отношений между коронованными особами Испании и Англии? Гудмен тоже проявлял отчаянное беспокойство и по-своему, как человек, лишенный воображения, медленно приходил в рассерженное состояние. — Ха! — подал голос один из гостей. — Ну вот наконец-то и его превосходительство. Ярко-желтая галера коррехидора действительно отчалила от адуаны, но она уже больше не казалась такой заметной, потому что солнце снова затмили бегущие облака. С нарастающим беспокойством Генри Уайэтт задержался на шкафуте, затем с крепнущим недобрым предчувствием заметил, что за шлюпкой коррехидора следует большая пинасса*["303]. Оба судна, похоже, везли большое количество купцов в их мрачных одеяниях, но оружия нигде не замечалось — его бы выдал блеск стали. Седой боцман «Первоцвета» прохрипел: — Мистер Уайэтт, или я рехнулся, или эти доны проявляют слишком большой интерес к нашему грузу. Эти паписты, должно быть, проголодались сильней, чем мы думали. — Эй, на барке! Бросьте мне канат! — крикнул в сложенные у рта руки темнолицый старшина галеры коррехидора. Всем было видно, как седобородый дон Франциско де Эскобар поправляет свою шпагу, готовясь ступить на борт торгового судна. — Стойте там, на шкафуте! — внезапно проревел капитан «Первоцвета». — Пусть к борту подойдет только галера коррехидора! — Не дергайся, злая еретическая собака! — рявкнул дон Луис де Гусман. — Сколько его превосходительство пожелает, столько купцов и поднимется на борт. Коррехидор тем временем поклонился с кормы своего суденышка и крикнул довольно вежливо: — Сеньор капитан, у меня при себе ваша лицензия на торговлю. Вы в Бильбао провернете отличное дельце, такое, что не забудется. Уайэтт, нервно напрягшийся, как трос при непрерывно растущем натяжении, глянул на Джона Фостера, увидел его необычайно сердитое побагровевшее лицо и то, как он обильно потеет под тентом. Серый глаз капитана покраснел и зажегся гневом, когда тот прокричал, обращаясь к помощнику: — Уайэтт, скажите его превосходительству, что только он сам и с ним еще шестеро могут подняться на борт моего судна. Передайте ему, что мы не готовы заниматься делами с такой здоровенной толпой купцов. — И Гудмен, и помощник капитана перевели его требование, но, невзирая на это, торговцы роем стали перебираться на палубу через фальшборт. Улыбаясь и всем своим видом выражая добросердечность коррехидор снова взошел на маленькую и теперь уже переполненную народом корму «Первоцвета», а его лазурно-голубой плащ слегка развевался от ветра, начинающего задувать с грубых, лишенных деревьев коричневых гор, возвышающихся позади Бильбао. — Ваша честь и вправду привезли мою лицензию на торговлю? — спросил Джон Фостер твердым тоном. — Она у одного из моих людей на пинассе, — отвечал коррехидор. Обыкновенно компактная фигура капитана как бы увеличилась в размерах, и в голосе его появилась звенящая нота: — Тогда, ваша честь, прошу приказать ему, чтобы он передал ее через поручни. Такой огромной толпы на своем судне я не потерплю. Дон Франциско де Эскобар выглядел оскорбленным. — Толпы, сеньор? Вы ошибаетесь в их отношении. Это всего лишь порядочные городские купцы, приехавшие издалека, чтобы торговать с вами. Уайэтт, плотно сжав губы, видел, что люди на пинассе поднимаются на ноги и, вытянув шеи, посматривают на их барк. Явно, раздумывал помощник капитана, эти лица на пинассе совсем уж не похожи на купцов, виденных им прежде в испанском порту. Половина людей в этой суровой на вид компании имели шрамы, все они выглядели мускулистыми и нисколько не напоминали пухлых и хорошо упитанных торговцев, встречавшихся ему во время предыдущих экспедиций. Улыбка сошла с заросших бородой губ дона Франциско. — Сеньор капитан, я настаиваю на том, чтоб эти честные купцы были допущены на судно. Фостер, расставив ноги, твердо противостоял своему гостю. — Ваше превосходительство, я должен вам напомнить, что это английское судно и что я его капитан. Как таковой я позволяю всходить на него только тем, кто мне желателен. Вашей чести и прежним моим гостям я буду только рад… На этом речь его оборвалась. В ответ на какой-то незаметный сигнал «купцы», что находились на пинассе, и те, что оставались в галере, с криками полезли через низкий фальшборт его барка. — Viva el Rey! Abajo los hereticos Ingleses! Да здравствует король! Долой английских еретиков! — Из-под длинных темных плащей «честных купцов» дона Франциско де Эскобара вдруг появились стальные кортики, пики и рапиры. Одновременно испанцы, сидевшие за столом Джона Фостера, выхватили кинжалы и нацелились ими в грудь английского капитана. Он же схватил тяжелый медный половник для супа, отскочил назад и с успехом отбил угрожающие ему клинки. — Нас предали! — прогремел он и отступал до тех пор, пока в руке у него не оказался гандшпуг*["304]. Он тут же пустил его в ход, да с таким мастерством и с такой яростью, что отогнал назад своих непосредственных противников. Тем очень мешала теснота на юте, поэтому, бросаясь на дюжего капитана и нанося рубящие удары, они лишь причиняли беспокойство друг другу. С резкими криками и проклятиями на палубу ворвалась еще одна группа псевдокупцов и напала на англичан, сильно уступающих им в численности. При первом же сигнале тревоги Уайэтт выхватил из складок парусины неуклюжую тяжелую шпагу, врученную ему Джоном Фостером по случаю присвоения ему звания помощника капитана. Высокий молодой помощник инстинктивно пригнулся под режущим ударом, которым хотел его достать желтобородый испанец, и отчетливо услышал глухое «чанк» его клинка, врезавшегося в поручни. Еще одна группа орущих, размахивающих сталью басков взобралась по блекло-красным бортам и принялась очищать палубы, но их отшвырнула к фальшбортам горстка английских матросов, ударивших по противнику с полубака, где находились жилые помещения команды. Полетели дротики, и несколько бомбарделл — тяжелых ручниц-самопалов — грохнули так, что эхо прокатилось среди пакгаузов Бильбао. Повсюду вокруг «Первоцвета» пробудился торговый флот, так же как это было в гавани Сан-Хуан де Улуа в Мексике в тот пакостный день осени 1568 года, когда из-за подлости столь же наглой, как эта, старый Джон Хоукинс и Френсис Дрейк, тогда еще юный неопытный флотоводец, едва унесли ноги, без всякой добычи, во время своей до тех пор столь удачливой экспедиции за рабами. За то вероломное и безжалостное нападение, также произведенное в мирное время, Филипп II расплатился многими миллионами — таким дорогим оказалось мщение Дрейка и его капитанов. Ринувшись вперед, разъяренный помощник капитана заметил мужественно защищающегося суперкарго Уолтера Гудмена. Круглый его живот колыхался, когда он делал выпады пикой; этот крепкий маленький купчишка совместно с Джоном Фостером составили на юте довольно стойкую боевую команду. Они уже ранили или убили большинство тех, кто прибыл с коррехидором первыми. Что же до самого дона Франциско, то он размахивал рапирой рядом с грот-мачтой и понуждал своих сторонников к новым атакам. — Бейте их! Смерть этим псам еретикам! — то и дело призывал он, и голос его от напряжения звучал визгливо и резко. — Именем короля приказываю вам захватить это судно! Боль, словно укус какой-то гигантской осы, через кожаную куртку ужалила Уайэтта в плечо, и он, развернувшись, увидел высокого испанца, с лицом лимонного цвета, готового прыгнуть на него. Кончик его шпаги «бильбо» уже окрасился алой кровью. Уайэтт собрал всю свою силу и скорее благодаря ей, нежели ловкости и мастерству, парировал холодно блеснувший клинок, приближавшийся к нему со скоростью змеиного жала. Звякнули, заскрежетали и задрожали два встретившихся лезвия, и Уайэтт, чувствуя жгучую боль в раненом плече, сделал ответный выпад. Испанец отпрыгнул в сторону, но при этом открылся. Мгновенно тяжелый клинок Уайэтта глубоко погрузился в плечо нападавшего в том месте, где оно соединялось с шеей, пронзив его черную одежду. Тот хрипло вскрикнул, уронил шпагу и попытался обеими руками остановить ритмично бьющую из рассеченной артерии яркую кровь — но понапрасну. Колени его подогнулись, и он рухнул на палубу. Дублет поверженного противника быстро пропитывался хлещущим алым каскадом. Еще один испанец бросился на Уайэтта, увидев, что его сотоварищ сражен. Вибрирующий звон сшибающихся клинков, крики, где различались высокие голоса испанцев и низкие расположившихся в боевом порядке англичан, звучали все громче и громче, но огнестрельного оружия больше не было слышно. Перезарядка всех этих громыхающих аркебуз, бомбарделл, ручниц требовала уйму времени. Когда боцман с горящей на знойном солнце рыжевато-седой бородой всадил свой широкий топор в голову расфуфыренного офицера, началось медленное отступление испанцев к правому борту барка. — Ха! Тесни их! Тесни их! Самое время! — прокричал Уайэтг. Отступление противника все ускорялось, и вдруг линия обороны испанцев сломалась, и те из них, кто еще мог, взобрались на фальшборт и оттуда попрыгали на свои суда. Другие, тяжело раненные, метались, окровавленные, по засоренной палубе «Первоцвета»в поисках хоть какого-нибудь временного укрытия. Третьи поднимали руки и, крича, просили о снисхождении, но чаще всего безуспешно — так разъярились обманутые англичане. Суда коррехидора отчалили, забыв о нем самом и бросив горстку испанцев, все еще сражающихся вокруг грот-мачты, на произвол судьбы. Когда они осознали, что их покинули, то забегали по палубе с неистовой бесцельностью перепуганных крыс, брошенных в стойло, занятое фокстерьером. — Рог piedad! Смилуйтесь! — умоляли оставшиеся в живых; и либо бросали свое оружие на палубу, либо кидались в мутные воды гавани. На борту «Первоцвета» воцарилась относительная тишина, в которой победители отирали вспотевшие лбы и дико озирались, решая, каким будет их следующий шаг. Они не удивлялись тому, что на отчаянные крики испанцев, дерущихся и тонущих за бортом, привезшие их суденышки вовсе не реагировали. Острая боль в левом плече напомнила Уайэтту о полученной ране, и он, увидев разбухший от крови рукав, принялся отпарывать его ножом. Но в это время умоляющий зов за бортом привлек его внимание к отчаянному положению коррехидора. Дон Франциско, прыгнувший за борт, оказался никудышным пловцом, поэтому Уайэтт презрительно бросил ему конец веревки и приказал паре матросов поднять коррехидора на борт, чтобы дополнить им группу из шести — восьми плененных испанцев, стоявших с высоко поднятыми руками и от страха судорожно сглатывающих слюну. С потной лысой головой и багровым лицом, тяжело дыша и тяжко ступая, с кормы подошел Джон Фостер. Его глаз мрачно горел. — Дикон, Хардинг и вы, остальные парни, выкиньте эту падаль за борт. Он плюнул на одну из нескольких облаченных в темную одежду фигур, распростертых у его ног. Из-под них по смоленой дубовой палубе «Первоцвета», извиваясь, вытекали кровавые ручейки и, исчезая за фальшбортами, сбегали вниз по наружной стороне, окрашивая воду гавани. — Ну, ты, высокомерный кастильский сын паршивой сучонки, уж я воздам тебе должное и сломаю твою вероломную шею. Тяжело ступая, он подошел к коррехидору, стоящему с пепельно-серым лицом среди пленников, схватил испанца за горло и сдавил его так, что из промокшего клинышка его бороды выпало несколько капель. У дона Франциско уже подгибались колени, когда Уайэтт с рукой на импровизированной перевязи, сделанной из ремня убитого им испанца, поспешил к нему со словами: — Подожди, Джон! Не лучше ли тебе пощадить эту старую свинью? — Чего ради? Из-за его предательской хитрости мы едва не погибли. — Верно, но все-таки послушай.Слышишь, трубы в форте Кастелло играют сигнал тревоги? — Да, ты прав, Генри. Надо смотреть вперед. Однако перед тем, как ослабить хватку на горле дона Франциско де Эскобара, Джон Фостер выразил свое презрение невероятным оскорблением. Он вырвал целую горсть волос из бороды коррехидора, затем наградил это высокопоставленное лицо парой звучных, словно выстрелы из самопала, затрещин. — Хотел захватить мое судно и отправить на тот свет ни в чем не повинных матросов дружественного государства, а? — прорычал Фостер. — Что ж, Бог пошлет, и тебя повесят за это в Англии, как простого пирата, кто ты и есть на самом деле. Несколько ошарашенный силой фостеровских оплеух, коррехидор — великолепную золотую цепь свою он уже потерял — только жался к вантам и тяжело дышал. Он являл собой самое жалкое зрелище, да еще из намокшей одежды ручейками бежала вода, создавая лужицу вокруг ног, на которых не было туфель, а на левом чулке, на пальце, как заметил Уайэтт, появилась большая дыра.Глава 3 ПРИКАЗАНИЕ КОРОЛЯ ФИЛИППА
Единственным своим глазом Джон Фостер мрачно отметил марионы — испанские шлемы без забрала и шейного прикрытия — и доспехи в проемах меж зубцами стены форта, где располагались близлежащие батареи, с откатами пушек вспять для зарядки. — Гудмен! — распорядился он. — Передай-ка вон на ту барку, что я держу в плену их коррехидора и нескольких других таких же негодяев; и если форт проявит хоть малейшую враждебность, я вышвырну всю эту шайку за борт. Как только суперкарго прокричал на испанском предупреждение Фостера и барка направилась к адуане, Фостер взял свою синюю шляпу и улыбнулся. — Черт побери, Уолтер, я буду держать этих псов в заложниках, пока мы не выйдем в море, а там я растяну их грязные шеи. Браун, — окликнул он своего боцмана, — каковы наши потери? Помогая себе зубами и здоровой рукой, Браун затягивал узел на повязке, сквозь которую сочилась кровь из раны на его левом предплечье. — Совсем не велика, Джон, но я сосчитаю всех по носам. — Он побрел по палубе, очищаемой командой «Первоцвета» очень нехитрым способом: мертвых и умиравших испанцев просто выбрасывали за борт. Наконец он крикнул в сторону кормы: — Ранено пятеро, не считая Генри Уайэтта и меня самого. Раны не тяжелые, но жена Джона Тристрама теперь уже вдова, ибо он точно отправился к праотцам. — И все из-за подлости этого высокородного пирата. — Фостер плюнул коррехидору прямо в лицо. — Сеньор капитан, смилуйтесь! — Дон Франциско протянул связанные и дрожащие руки. — Не убивайте меня! Во имя Бога, я не пират, я только скромный управляющий, исполняющий чужие приказы. Черная всклокоченная борода Фостера ощетинилась и заходила ходуном, словно заяц на шее у злой собаки. — Приказы? Разрази меня гром! Чьи такие приказы? Не отрицай, это было только внушение твоей собственной жадности! Стирая с лица плевок англичанина, дон Франциско пытался восстановить свое достоинство. — Клянусь честью матери, сеньор капитан, я лишь подчинялся непосредственным приказам моего сеньора, его католического величества короля Испании. — Ты хочешь сказать, что испанский король собственноручно отдал приказ на такое позорное дело? Ба! Ты нагло лжешь, жадный убийца, Иуда. Команда «Первоцвета» обозревала длинный ряд желто-серых крепостных стен, на которых кипела работа. Все распознали отчетливо слышимый грохот и скрип оружейных лафетов, устанавливаемых над парапетами, а также лихорадочную дробь барабанов. Поэтому Уайэтт счел благоразумным повторно передать на ближайший испанский военный корабль, высокобортный галион, слова о намерении капитана Фостера повесить дона Франциско де Эскобара и других, захваченных в плен, если они разрядят хоть один кремневый мушкет. — Ты коррехидор в этой провинции, — настаивал Фостер, — поэтому взял ответственность на себя. Ну, папский пес, признавайся. — Нет, сеньор капитан, на Святом Кресте клянусь, что я говорю только правду. — Насколько позволяли ему связанные руки, коррехидор из внутреннего нагрудного кармана своего дублета выудил свиток промокшей бумаги и с готовностью протянул его Фостеру. — Вот, сеньор инглезе, сами прочтите и убедитесь, что мне только приходилось подчиняться распоряжениям его королевского величества. Фостер принял из его рук документ, неуверенно взглянул на него и покачал головой. Он не мог читать даже по-английски. — Уайэтт, — рявкнул он, — идите сюда. Я хочу, чтобы вы с Уолтером передали мне все то, что поймете в этой тарабарщине. С множеством колебаний и остановок Генри Уайэтт наконец записал перевод мастера Гудмена: суперкарго гораздо лучше владел испанским, чем он. То, что получилось в результате, оказалось одним из самых бессовестных и циничных документов, когда-либо подписанных правящим монархом христианского мира. «В Барселоне. Май, 1585 года. Лиценциат*["305] де Эскобар, коррехидор моей провинции Бискайя. Я отдал распоряжение большому количеству кораблей стоять наготове в гаванях Лиссабона и на реке Гвадалквивир в Севилье. Однако, на время прохождения службы, для вооружения солдат, пополнения запасов провианта и военного снаряжения требуется куда больше судов всех видов. С этой целью нужно отобрать лучшие корабли, руководствуясь вместимостью и другими полезными качествами. Посему я приказываю тебе, чтобы сразу по прибытии гонца, проявляя как можно больше притворства (дело сие до приведения его в исполнение не должно быть известно никому), ты задержал и арестовал (с превеликой осторожностью) все торговые суда, кои будут стоять у берега и в портах Бискайи, не делая никакого исключения для судов Голландии, Зеландии, Германии, Англии, иных восточных стран и прочих провинций, которые бунтуют против меня, за исключением торговых судов Франции, кои, будучи малотоннажными и маломощными, не подходят для службы. И, произведя сие задержание, ты должен особо позаботиться о том, чтобы привезенный оными судами товар, выгруженный весь или частично, можно было забрать, а защитное вооружение, военное снаряжение, такелаж, паруса и провиант можно было надежно хранить, а также о том, чтобы ни одно судно, ни один человек не могли бы улизнуть из твоих рук. Закончив оные дела, ты должен прислать ко мне нарочного с отчетом, в коем хочу зреть ясную и четкую декларацию о количестве задержанных тобой судов, откуда они, каждое по отдельности, которые из них принадлежат моим бунтовщикам, каковы их тоннаж и грузы, какова численность команды каждого из них и в каком количестве имеются у них защитное вооружение, пушки и военное снаряжение, такелаж и прочие необходимые вещи, дабы, обозрев их потом и выбрав то, что пригодно для службы, мы могли бы далее указать тебе, что ты должен делать. Пока же ты должен позаботиться о том, чтобы мой приказ был приведен в исполнение, а коли придут туда еще какие суда, ты должен также задерживать их и арестовывать, проявляя при этом такое усердие и прилежание, кои отвечают тому доверию, что я имею к тебе, в том, что ты сослужишь мне великую службу. Филипп, король». Когда Уайэтт перестал водить пером по бумаге, лежащей под раненой рукой, на полуют «Первоцвета» опустилась какая-то поразительно глубокая тишина. И в этой тишине с устрашающей очевидностью послышались звуки кипучей деятельности, развернувшейся на борту испанской военной галеры и других боевых кораблей. Глаз Фостера с беспокойством скользил по ближайшим портам. — И что же, по-вашему, друзья мои, имеет в виду этот коронованный иуда, когда пишет о снаряжении превеликой флотилии в Лиссабоне и на реке в Севилье? Против кого готовятся эти эскадры? Уолтер Гудмен утверждал, что предстоящий удар не мог быть нацелен на Францию, ведь так заявлялось в самом письме, и тем более на Шотландию, остающуюся столь неистово верной своей королеве-католичке, все еще заключенной в замке Чартли.*["306] — Вряд ли замышляется и экспедиция в западное Средиземноморье против Турции, — заметил Уайэтт. — Разве не ясно как день, что этот удар будет направлен против владений королевы? — Верно. Целью его должна быть Англия, — согласился Фостер. Затем, подстегнутый приказом: «Весла на воду», — донесшимся до его слуха с борта большой военной галеры, он живо добавил: — Теперь за работу. Генри, сооруди петлю на рее с латинским парусом и еще семь на рее грот-мачты. Когда исполнили его команду, Фостер заставил коррехидора, легко узнаваемого по его седым волосам и длинной бороде, встать на транцевую доску кормы, где на его шее проворно приладили петлю. Таким же образом поставили и других пленников, рискованно покачивающихся теперь на поручнях барка. Самому тупому офицеру на крепостных валах или на борту военных кораблей должно было стать совершенно ясно, что первые же враждебные действия с их стороны приведут всех восьмерых заложников к прощанию с жизнью. Последние в ужасе кричали, предупреждая своих соотечественников, чтобы они ничем не мешали «Первоцвету» уйти из гавани. — Вытравить якорный канат, — бросил Фостер боцману. — Генри! Прикажи развернуть все паруса. Скоро поднимется береговой ветер. Страдая от последствий пережитого во время схватки напряжения и острой боли, терзающей ему плечо, Уайэтт ощущал во всем теле мелкую дрожь. Однако, собравшись с силами, ответил: — Да-да, Джон. Слава Богу, сейчас полный отлив. Он может вынести нас быстрее, чем ходят вон те каракки. Уайэтт ни словом не обмолвился о той большой, выкрашенной в зеленую и золотую краску галере, направляющейся к выходу из гавани. Острый медный таран этого быстроходного судна взрезал воду, оставляя за кормой пенящийся след — настолько велика была его скорость. Скоро стало очевидным, что угроза Джона Фостера без всяких колебаний повесить дона Франциско оказала сдерживающее действие, по крайней мере, на командующего берегового укрепленного форта Кастелло. Фостер, взявшись сам за ручки штурвала, взглянул на своего пленника, качающегося с посеревшим от страха лицом на транцевой доске, и проревел: — Я допускаю, что, похоже, ты действовал по вероломному приказу своего короля, посему обещаю, что тебя не повесят, если, конечно, твои форты и корабли оставят нас в покое. Так что молись своим идолам, чтоб они не пальнули в меня даже из пистолета. «Первоцвет» выбрал якорь и пошел мимо больших каракк, но двигался он медленно, используя лишь силу отлива. Залатанный парус вяло хлопал, пытаясь поймать еще не набравший силу ветер. Из гавани ритмично зазвучали удары гонга, размеряя удары весел для гребцов королевского военного судна. Испанские канониры собрались вокруг двух носовых орудий, а облаченные в доспехи фигуры стали стекаться на просторный полубак и на полуют галеры противника. Она ровным ходом шла к выходу из гавани, летели брызги, закипала пена вокруг ее двадцатипятифутовых весел, на каждое из которых налегало по три раба. Чтобы забыть свою боль и разрядить напряженность момента, Уайэтт перебрался к куче захваченного оружия, наваленного на главный люк, и обнаружил ту самую испанскую шпагу с золотой рукояткой, которой нанесли ему рану и едва не отправили на тот свет. Вполне предназначенная для сражений, с эфесом, украшенным чистым красным золотом в форме грифона с большим изумрудом, зажатым в его челюстях, эта шпага отличалась необыкновенной красотой. Сухой скрип и легкое шуршание паруса заставило всех моряков взглянуть на снасти: серовато-коричневый марсель вздулся и опал, затем натянулся опять и наконец наполнился ветром. Грянуло негромкое «ура», при всем при том, что этот начинающийся бриз не был еще достаточно крепким, чтобы развернуть на барке флаг Святого Георгия, на котором на бело-синем поле красовался алый горизонтальный латинский крест. Не пострадавшие в схватке члены команды живо уравновесили выцветший марсель, затем развернули шпринтов — косой парус, тогда как раненые с нетерпением насвистывали, призывая ветер. Еще бы! Они не имели ни малейшего желания присоединиться к тем своим соплеменникам, что, возможно, томились теперь среди крыс и тараканов в подземных темницах форта Кастелло. Неровно, но со все нарастающей силой с берега подул ветер. Паруса натянулись, и барк покорно заскользил через гавань. Но теперь золотисто-зеленая галера уже наполовину развернулась и пошла, взбивая пену, прямо к глубоко сидящему в воде английскому барку, да на такой скорости, что из-под ее мощного бронзового тарана двойным веером далеко разлетались брызги. Словно собака на ферме, загоняющая телку, это длинное низкое судно мчалось вперед, и весла его, по три с каждого борта, то медлили в унисон над горизонтом воды, то вновь зарывались вглубь. — Да поможет нам Бог, ребята, теперь-то уж нам достанется, — простонал боцман и выругался. — Эти паписты отрежут нас обязательно. — Да, здорово влипли, — пробормотал суперкарго, рассеянно покусывая ноготь на пальце. — Они нас захватят и вздернут, это уж точно, если Фостер повесит коррехидора. Уайэтт тоже поддался приливу отчаяния. — А я-то надеялся, что этот вояж принесет мне небольшое состояние! Если их бросят в какое-нибудь испанское подземелье — а, видит Бог, он не выносил закрытого пространства, — останется ли возможность им снова увидеть Англию? Что еще хуже, имелась вероятность того, что их как еретиков будут пытать на дыбе, прижигать каленым железом и, наконец, сожгут на костре инквизиции. С каждым ударом галерных весел таяли его шансы когда-либо встретиться со скромной Кэт Ибботт на обочине лондонской дороги. Какая же тогда судьба постигнет его беспомощного старика отца, Эдмунда Уайэтта, мать и бедную, покрытую шрамами, полную горечи Мэг, когда у них появится еще больше просроченных платежей? Терпение имеет свои границы даже у такого достойного и сдержанного человека, как их домовладелец, сэр Джозеф Тэпкоут. Все громче и громче звучали зловещие удары, наносимые по воде малиновыми лопастями галерных весел. Стали различимы детали ее вооружения и штатного состава части, и на купеческом судне каждому были видны канониры в своих черно-красных мундирах, столпившиеся вокруг носовых орудий, — они походили на небольшие кулеврины, — и офицеры в роскошных костюмах, собравшиеся на высоком юте. Под все свежеющим ветром с материка «Первоцвет» стал накреняться так сильно, что заложникам его было уже чрезвычайно трудно сохранять хрупкое устойчивое положение на фальшбортах. Несмотря на то что барк развил хорошую скорость, направляясь к выходу из гавани Бильбао, никто не сомневался, что его путь к бегству неизбежно будет перерезан. Галера все приближалась, но только движение челюсти Фостера, скрытое черной бородой, выдавало его беспокойство. Наконец он крикнул дону Франциско: — Коль дорожишь своей тощей шеей стервятника, лучше тебе предупредить офицеров с того корабля, что, если они сейчас же не остановят гребцов и не останутся за кормой, ты запляшешь под дудку дьявола. Поскольку петля дона Франциско де Эскобара затянулась еще туже и Гудмен схватился за пояс коррехидора, готовый отправить его в вечный мир, испанец нашел в себе силы прокричать ряд приказов, стараясь при этом орать погромче, чтобы преодолеть оставшееся расстояние в сотню ярдов, разделяющее два судна. Если бы полковник, командующий галерой, тут же не подчинился, и ему, и всему его штабу грозила бы смертная кара за неподчинение прямому приказу, исходящему от наместника его пресвятейшего католического величества. — Ваше превосходительство, как всегда, ваше желание — закон для меня! — прокричал ему в ответ высокий темнолицый офицер, великолепно выглядящий в золотисто-черном нагруднике и морионе с белым пером. Он поднял руку, и в то же мгновение замолчал гонг, отбивающий такт для сидящих на веслах, а в следующую секунду весла убрали. Пользуясь большим рулевым веслом, галера стала на параллельный курс. Еще немного она прошла по инерции, затем отстала и переместилась за корму английского барка. Комок, образовавшийся у Генри Уайэтта где-то под ложечкой, в районе солнечного сплетения, внезапно рассосался. Он облегченно вздохнул, заглянул в глаза Гудмену и улыбнулся. — Вполне справедливо, — хмыкнул суперкарго. — Но полагаю, что почтенная компания купцов в Лондоне будет чертовски недовольна увидеть свой груз вернувшимся на Темзу, испорченным, не принесшим ни пенни дохода в их счетные книги.Глава 4 ЛОНДОНСКИЙ ПУЛ
В необычайно прекрасный июньский вечер барк «Первоцвет» вернулся к своему причалу на Темзе рядом со зданием королевской таможни, напротив ряда серых каменных пакгаузов, принадлежащих компании купцов, торгующих с Испанией и Португалией. На реке под Лондонским мостом, заметил Генри Уайэтт, стояло совсем не так много торговых судов, как двумя месяцами раньше. Не потому ли, что слишком много английских купцов откликнулись на просьбу короля Филиппа II об импорте пшеницы, трески, говядины и прочих съестных припасов, чтобы помочь его голодающему королевству? Заметны были, однако, три больших военных корабля королевы: шестисоттонный «Бонавентур», двухсотпятидесятитонный «Подспорье»и «Кристофер», который казался едва ли крупнее «Первоцвета» Ленивыми полукругами разворачивались эти стоящие на якоре морские вояки под воздействием потока воды, коричневато-серой в это время года. В теплом прозрачном свете начала июня сельская местность за пределами Лондона выглядела особенно ярко-зеленой и сочной после выжженных солнцем желто-коричневых берегов Северной Испании. За предместьем обители Святой Катерины и вдоль Хорсей-Даун на южном берегу реки ряд за рядом кустарниковые изгороди спускались прямо к блестящим и скверно пахнущим приливным отмелям Темзы и радовали душу красными и белыми цветами. Лондон, в эти годы густо населенный двумястами тысячами душ, вышел за пределы старых городских стен, тянущихся длинным эллипсом от Блекфрайэрс — мрачного монастыря, до Тауэра. Новые жилища всевозможных видов возникали вдоль ряда низких холмов, параллельно которым образовалась улица Темз-стрит — главная артерия столицы, — стоило лишь коммерческим структурам приобрести влияние над зловонными и многолюдными, но крепкими публичными домами, оканчивающимися у края воды среди оживленных причалов и доков. Тут и там удалось сохраниться нескольким зеленым деревьям, но их совсем не было видно до тех пор, пока, уже гораздо западнее, не начинались окрестности Лестер-хауса, Черинг-Кросс и Вестминстера. Тем не менее Генри Уайэтт решил, что Лондон очень мало изменился с того дня, как девятнадцатилетним юнцом он вместе с Питером Хоптоном, своим стриженым рыжим бездельником кузеном, вступил в него через Барбикан — проходную башню, приехав из Сент-Неотса, чтобы попытать удачу. Удалось ли Питеру Хоптону вовремя добраться до Плимута, чтобы успеть присоединиться к экспедиции сэра Ричарда Гренвилля в Новый Свет? Если хоть половина того, что рассказывалось о Северной Америке, было правдой, что ж, тогда кузен Питер, возможно, давно уже набил свой бумажник теми здоровенными жемчужинами, которые, как клялись и божились некоторые путешественники, выносит на берег с каждым приливом. Отдав порту салют пушками «Первоцвета», как было заведено, капитан Джон Фостер, плотно сжав губы и вполне сознавая всю тяжесть имеющихся у него новостей, распорядился, чтобы кулеврины на левом борту разряжались с минутным интервалом наподобие сигнальных пушек. Это, полагал капитан, спешно привлечет портовые власти на борт его барка. Стрельба из сигнальных пушек полностью была одобрена мастером Гудменом: прибытие таких тревожных новостей могло в значительной степени способствовать отвлечению внимания директоров Торговой компании от его невозможности предъявить им реалы, песо, муидоры и эскудо*["307] в обмен на товары «Первоцвета». Увы, к тому же возвращение барка из Бискайского залива было настолько медленным и погода в тех краях стояла такая жаркая, что все овощи пропали и стали одной зловонной массой, и, что еще хуже, даже мясо в рассоле протухло и годилось только на продажу королевскому поставщику продовольствия для моряков. Бум-м-м! Первый залп эхом прокатился по берегам реки, отразился от четырех башенок Тауэра и, затихая, прогромыхал вверх по течению Темзы до самого Вестминстерского аббатства. Только когда на третьей минуте выстрелила пушка «Первоцвета», только тогда стала заметной активность на таможне ее величества неподалеку от барка, расположенной на трех окрашенных в алую и золотистую краску кораблях Военно-Морского флота королевы. День был безветренный, и дым от тысяч лондонских труб вертикально поднимался в небо, задергивая синевой шпиль собора Святого Павла. Предатели и прочие преступники, изнывающие от королевского гнева в Тауэре, могли, если бы попытались, различить тяжело сидящий в воде барк, стоящий на якоре и готовый распространить свои зловещие новости. Не кто иной, как сам начальник порта, желчный краснолицый соломенноволосый господин, прибыл на шлюпке, чтобы узнать, что случилось. Он крепко выругался, услышав о вероломстве в Бильбао и многих других испанских портах. — Дьявол! — резким дребезжащим голосом выпалил его спутник, очень элегантный джентльмен в дублете и французских штанах — брэ, где красный цвет бургундского вина совмещался с серебристым. — Так вот почему пять судов до сих пор еще не вернулись. Яростная ругань и проклятия зазвучали на близлежащих торговых судах, как только почти невероятные новости об эмбарго испанского короля разнеслись с одного судна на другое зычными матросскими глотками. Вскоре эта весть достигла берега и со скоростью огня Святого Антония распространилась от Биллингсгейта — большого рыбного рынка, до отмелей Смартс-Ки, а оттуда через Лондонский мост вверх по Рыбной улице в те притоны порока, из которых состоял район Колд-Харбор — Холодной Гавани. Носильщики, таскающие кувшины питьевой воды из Доугейта, быстро донесли дурные вести до Квинхайта, Падлдока и пристани Павла. Наконец на борт прибыла строго одетая делегация Торговой компании, которая оставила свою шлюпку покачиваться рядом с лодкой начальника порта. Кислыми выглядели эти упитанные купцы, когда в свою очередь убедились в причине возвращения «Первоцвета» без ожидаемой прибыли. Начальник порта пристально вгляделся сначала в Джона Фостера, потом в его мускулистого рыжеволосого помощника. — Эй, полноте, добрые мои друзья. Что касается этого дела с приказом, полученным коррехидором, уж вы, часом, не приукрашиваете ли факты? Ведь вы обвиняете его королевское величество Испании в поступке таком непристойном, таком нерыцарском. На это Фостер хмыкнул, сплюнул через борт и сказал: — Неудивительно, почтенные господа, что такое эпическое предательство вызывает у вас сомнение. Однако у меня имеется доказательство. Генри, прошу тебя, принеси-ка его сюда. Когда начальник порта прочитал перевод полученного коррехидором приказа, уже изрядно помятого и с пятнами от воды, его худощавые плечи зловеще напряглись, и он прорычал: — Клянусь ранами нашего Спасителя! Такое невиданное мошенничество выходит за всякие рамки! Тонкие губы сэра Френсиса Ноллиса сложились в улыбку, выражающую жестокое удовлетворение. — Нет, друг мой, намерения испанцев здесь ясны как Божий день. Ноллис прочел до конца и с величайшей аккуратностью сложил письмо. — Капитан Фостер, прекрасное, доблестное дело то, как вы вырвались на свободу, но еще лучше то, что привезли Дрейку, Хоукинсу, Уолсингему и остальным твердое доказательство, которого они жаждали, — что «Английское предприятие», о котором ходят слухи, вовсе не бабушкины сказки, в чем хотели бы уверить ее величество мой лорд Уильям Беркли и посол самого католического короля сеньор Мендоса. — Так-то оно так, — резко подхватил сэр Питер Уолтам, самый старший из членов Торговой компании. — У вас теперь есть доказательство, но как быть с нашими пропавшими товарами и конечно же с теми английскими моряками, которые гниют в подземельях Святой инквизиции? Сэр Френсис Ноллис бросил взгляд на «Бонавентур»и коротко распорядился: — Капитан Фостер и вы, Уайэтт, немедленно готовьтесь сопровождать меня. — Он холодно ухмыльнулся и добавил: — Вас, мастер Гудмен, я оставлю, с тем чтобы вы сообщили своим нанимателям подробности этого вероломства, которое так жестоко опустошило их кошельки. Теперь шлюпка капитана порта, приводимая в движение восьмеркой дюжих, хотя и дурно пахнущих, гребцов, направилась к крупнейшему судну на реке — кораблю ее величества «Бонавентуру». За время их короткой поездки через Лондонский Пул контр-адмирал сэр Френсис Ноллис, сухощавый мужчина с лошадиным лицом и глазами холодными и серыми, как зимний лед, непрестанно донимал офицеров «Первоцвета» своими вопросами. С каждым ответом Генри Уайэтт чувствовал, как растет удовлетворение этого закаленного ветерана. — Теперь, клянусь всевидящими глазами Господними, — он хлопнул себя по колену, — они наконец-то, наконец-то в нашей власти! Рыжий помощник капитана Фостера многое дал бы, чтобы узнать, кого имеет в виду Ноллис, говоря «в нашей». Это неожиданное вторжение в круг великих дел и знаменитостей увлекло молодого человека, до этого объятого столь благоговейным страхом, что он боялся даже открыть свой рот перед контр-адмиралом, занимавшим такое же высокое место, что и грозный, хотя, может, скорее вспыльчивый, Мартин Фробишер. И все эти предприимчивые люди, Хоукинсы, Джон и Уильям, Феннер, сэр Уильям Винтер, сэр Ричард Гренвилль и остальные, в глазах общества стояли всего лишь на ступеньку ниже того несравненного, бесподобного, буйного и непокорного моряка сэра Френсиса Дрейка. Он был не только первым англичанином, совершившим кругосветное плавание, но и первым, кто вернулся на родину нагруженным по планшир добром, вывезенным из Перу, Ост-Индии и некоторых испанских колоний Тихого океана. Ранней осенью 1580 года из трюма «Золотой лани» выгрузили не менее пяти миллионов фунтов*["308] чистого золота. Неудивительно, что по всей Англии, Голландии и протестантской Франции, как в замках, так и в крестьянских лачугах, лились всевозможные вина и провозглашались тосты за здравие Золотого адмирала. Только подумать! Он, ничего не значащий Генри Уайэтт, выходец из Хантингдоншира, предстанет сейчас перед этим блистательным, почти легендарным флотоводцем. Несомненно, что стрельба из крошечных их орудий и поспешное прибытие шлюпки начальника порта — все это вызвало интерес у команды «Бонавентура». У поручней собралось довольно много загорелых, одетых в грубое платье матросов, которые с любопытством, но молча взирали на шлюпку начальника порта — молча, поскольку сэр Френсис Дрейк первым из флотоводцев установил хоть какую-то дисциплину на английских военных судах. Что касается этого вопроса, на купеческих судах и на борту большинства кораблей королевы формальные отношения между офицерами и рядовыми матросами были, как правило, неизвестны или игнорировались. Именно Дрейк ужаснул и вызвал враждебность к себе многих из членов старой аристократии, настаивая на том, что всякий джентльмен, служащий на его кораблях, должен «тянуть и тащить вместе с матросами» — революционное нововведение! До той поры ни один благородный офицер не снисходил до того, чтобы пачкать свои руки, выполняя на своем корабле какую-либо физическую работу. Собственно говоря, во многих случаях эти белоручки погибали из-за своего упрямого нежелания оказать матросам содействие в минуту угрозы всему кораблю. Шлюпка ловко проскользнула под высокий кормовой подзор «Бонавентура», и ее гребцы, как водится, вскинули весла. Уайэтт тем временем смотрел вверх и восхищался прекрасно расписанными маслом и позолоченными резными орнаментами на полуюте флагмана и кормовой галерее. Для английского судна это была тонкая работа, хотя вряд ли сравнимая с украшениями на аналогичном итальянском или испанском судне. На последних красовались бы захватывающие дух лепные украшения, работы резчиков и любое количество фигур религиозного характера. — Вон там, на полуюте, — вдруг проговорил Ноллис с какой-то благоговейной интонацией в голосе, — стоит тот самый доблестный джентльмен, которому вы должны будете повторить свой рассказ. На самой высокой надстройке полуюта ожидал плотный приземистый человек в смелом наряде, состоящем из голубого плаща и канареечно-желтого дублета, оттеняемых желто-красными широкими шароварами над шелковыми чулками схожего оттенка. Соломенного оттенка были и короткая заостренная борода этого знаменитого человека короткие усы и волосы, достигавшие воротника. Когда вахтенный «Бонавентура» бросил линь, змеей скользнувший в шлюпку, он в своем коротком голубом плаще склонился над выкрашенным в красный цвет поручнем, и так впервые Генри Уайэтт оказался в положении человека, глядящего в лицо тому, чье имя неизменно звучало в проклятиях каждого португальца и испанца. Прежде всего притягивали его большие, широко расставленные глаза, светившие чистой и очень яркой синевой на цветущем, довольно округлом лице с мелкими, но правильными чертами. Уайэтт также заметил, как густые светлые брови великого моряка резко взмывали к наружным своим концам, а затем так же резко изломом падали вниз. В теплом июньском свете можно было различить крупную жемчужину грушевидной формы, свисавшую с левого уха, тогда как на тяжелой золотой цепи, которую он носил под небольшими простыми брыжами, сверкал большой бриллиант. С некоторым любопытством заглянув вниз, сэр Френсис Дрейк вдруг заинтересовался высоким рыжеволосым парнем, глазеющим на него с таким напряженным вниманием. Волей-неволей он почувствовал, что его привлекает что-то «простое, английское»в этом молодом человеке, а также искренняя прямота его взгляда в сочетании с коротким носом, мощной челюстью и прямыми темно-рыжими бровями. Дрейк опытным взглядом с удовольствием отметил солидную ширину плеч этого торгового моряка. Давно уже славящийся своей непостижимой способностью умело оценивать людей и управлять ими, адмирал королевы оказался озадаченным: почему именно этот парень из нескольких человек, что прибыли в шлюпке, так возбудил его любопытство? До смертного своего часа не забудет Генри Уайэтт ни малейшей подробности этой сцены, разыгрывающейся теперь в просторной капитанской каюте «Бонавентура». Ряд тяжелых освинцованных окон, выходящих на галерею кормы, были распахнуты, чтобы впустить и солнце, и ветер, дующий из графства Кент, целиком окрашенного весной в сине-зеленые краски и пропитанного простым ароматом клевера многих сочных заливных лугов и цветущих фруктовых деревьев. Сразу же стало очевидно, что сэр Френсис Дрейк не имел желания ни стушеваться, ни удаляться. Он сидел совершенно прямо в своей увешанной гобеленами каюте в массивном дубовом кресле, покрытом изумительной резьбой и обитом штампованной алой кожей. Уайэтт решил, что когда-то оно находилось среди высокоценимых личных вещей какого-нибудь испанского или португальского вице-короля. По обе стороны компактной и невыразимо живой фигуры стояли блестяще одетый адъютант и светловолосый мальчик-слуга. Горстка офицеров высокого ранга, включая командира флагманского корабля Томаса Феннера и капитанов Джона Вогана и Джорджа Фортескью, оставались с непокрытыми головами и молча ожидали, когда заговорит адмирал королевы. Капитана Фостера, красного как свекла, это обстоятельство очень удивило. На любом другом английском военном корабле, где ему когда-либо приходилось бывать, благородные господа так старались перекричать друг друга, что ни слова нельзя было разобрать. Заключенные в чистый желто-красный итальянский шелк сильные, хоть и слегка кривоватые, ноги Френсиса Дрейка вытягивались вперед, и высокие алые каблуки его башмаков покоились на маленьком табурете. Толстые загорелые пальцы левой руки поигрывали медальоном с красивой финифтью, висевшим на тяжелой золотой цепи, украшенной бессчетным множеством крохотных жемчужин и маленьких рубинов. После того как все распределились по местам перед его троноподобным стулом, Дрейк резко подался вперед, воинственно выставив наружу свою короткую бородку клинышком. — Капитан Фостер, благоволите прямо и без прикрас, — последнее он подчеркнул особо, — рассказать мне о том, что с вами произошло в гавани Бильбао. Ничего не опускайте, ничего не прибавляйте. В наступившей тишине отчетливо был слышен скрип одной из рей «Бонавентура», лениво смещающихся поперек своих бейфутов*["309]. Хорошо понимая значение этого момента, стойкие капитаны Дрейка сгрудились вокруг, и лица их, носившие следы непогод, болезней и шрамы сражений, гротескно контрастировали с фатоватым богатством их одеяния — в коем отражались вкусы придворной моды. Как только Джон Фостер — неловко, без живого воображения — приступил к рассказу, Генри Уайэтт стал обводить своими синими глазами присутствующих, чтобы, разглядев их как следует, запомнить поподробнее этих великих людей. В любое время, думалось ему, он бы узнал капитана Генри Уайта с «Морского дракона», чья почти безволосая голова тускло поблескивала в свете кормовых оконных проемов. Он носил простые золотые кольца в ушах, в отличие от командира флагманского корабля Томаса Феннера, серьги которого украшались большими топазами. Подобно младшему брату адмирала, капитану Томасу Дрейку, его ноги были обтянуты чулками из венецианского шелка в желтую и зеленую полоску, пальцы на руках украшались множеством колец, а шея — крупными брыжами. Брыжи обрабатывались желтым крахмалом по моде, введенной госпожой Динген, голландкой, готовой за твердую цену в пять фунтов научить любого, как делать крахмал и как им пользоваться. Пышный наряд, в который в мирное время облачался капитан Джеймс Эрайзо, странным образом контрастировал с жестким выражением на его лице, особенно потому, что капитан «Белого льва» расстался с веком левого глаза во время сражения с турками близ Ливана. Эти разряженные джентльмены, пришел к заключению Уайэтт, походили друг на друга только в двух отношениях: распирающей энергией и острым вниманием к каждому слову рассказа Фостера. Когда контр-адмирал Ноллис представил королевскому адмиралу личные наставления короля Филиппа своему коррехидору, широкий рот Дрейка скривился в злорадную улыбку, обнажив неправильные, но необычайно крепкие и белые для этой эпохи зубы. Он вскочил со стула и, чтобы лучше изучить инкриминирующий документ, разложил его на тяжелом столе, украшавшем когда-то трапезную францисканского монастыря в Вентакрусе. — Подойдите сюда, джентльмены, — пригласил он, — подойдите и сами прочтите, что за королевское предательство готовит наш испанский друг. После чего те капитаны, что умели читать, столпились вокруг сине-серебристой фигуры Дрейка наподобие школьников, старающихся заглянуть в запрещенную книгу. Их великолепные дублеты, плащи и башмаки из желтой или малиновой испанской кожи создавали в каюте впечатление радуги, когда они перемещались вокруг стола, чтобы занять положение поудобнее, откуда бы им лучше был виден помятый и со следами воды королевский приказ Франциску де Эскобару. Сильные запахи духов, которыми были надушены джентльмены, издавали, думал Уайэтт, любопытную смесь. — Клянусь Божьей глоткой! — проскрежетал капитан Уильям Винтер. — На большую подлость еще никогда не шел христианский монарх! — Никогда! — горячо согласился командир порта. Капитан Эрайзо твердо взглянул на Дрейка. — Когда мы начнем карательные действия и где? Контр-адмирал Ноллис невесело рассмеялся. — Я так думаю, сэр Френсис, в этом году нас, кажется, ничто не удерживает от плавания в Карибское море, чтобы проучить папистов. — Лопни мои глаза, если мы не найдем богатую и легкую добычу у испанских берегов, Трафальгарского мыса и в Бискайском заливе. — Капитан Винтер так хищно облизнул свои губы, что Уайэтт легко вообразил себе этого чернобородого воина, перелезающего через высокий борт каракки. Резкий, неприятный смех вырвался у Френсиса Дрейка. — Постой-ка, Уилл! Прежде чем мы начнем заряжать пушки, кому-нибудь нужно разжечь огонек в этой холодной и осторожной рыбе — лорде Беркли или же отнять у него расположение королевы. — Чтоб ему сдохнуть, этому жалкому трусу! — выпалил Ноллис и стал задумчиво поглаживать темно-каштановую бороду, раздваивающуюся на конце. — Знает Бог, что Уильям Сесил то и дело в последнюю минуту хватал нас за руку, удерживая от столкновения с донами, но когда он прочтет это, — Ноллис постучал пальцем по приказу, полученному коррехидором, — неужто он снова осмелится отказать нам? — Открыто — нет. Но я боюсь, что он станет требовать полумер — Голос Дрейка взлетел, наполнив собой душную от избытка народа каюту «Бонавентура». — Я и раньше не раз разбивал этого клятвопреступного негодяя короля Эскуриала*["310], и всего лишь слабенькими кораблями и разболевшимися командами. Я заставлял высокомерных наместников того же самого Филиппа скулить о пощаде, я плавал по его доминионам куда мне вздумается, я грабил его города, пленял или топил его корабли с сокровищами и освобождал его рабов. Один и без всякой поддержки, я делал это, несмотря на Уильяма Беркли и других бесхребетных слюнтяев при дворе королевы. Золотой адмирал гневно огляделся вокруг. — Разве кто-нибудь из вас сомневается, что я лучший моряк Англии всех времен? Разве кто-нибудь еще разбирается так, как я, в мореплавании, судостроении, артиллерии? Никто ничего не сказал, но Уайэтт заметил несколько залившихся краской лиц и брошенных в сторону взглядов. — Да! Я навсегда подорву мощь Испании, если… — как искусный оратор, каким он и был, Дрейк сделал паузу, — если ее величество королева дарует мне разрешение извести этого монаршего иуду в его собственном отечестве, где я разобью Филиппа в пух и прах. С характерно резким движением Дрейк повернулся к своему адъютанту. — Распорядись, чтобы моя шлюпка через полчаса была наготове с командой крепких гребцов. До Хэмптон-Корта идти далеко вверх по течению. Капитан Феннер, приготовьтесь сопровождать меня. — Адмирал сделал такой резкий поворот, что его золотой воротник засверкал. — Капитаны Винтер, Мун и вы, мастер Ричард Хоукинс, отправляйтесь в контору коменданта порта с капитаном Фостером. Там тщательно установите, какое количество наших судов ушло из всех портов в Испанию и Португалию за последние два месяца. — Неожиданно он подмигнул своим ярко-синим глазом. — И того — смотрите, чтобы случайно не вышло так, что вы недооценили их количества. К огромному удивлению Генри Уайэтта, он вдруг прибавил со своей необычайно обаятельной улыбкой: — Молодой Уайэтт, вас я попрошу отправиться со мной в Хэмптон-Корт незамедлительно. Там при дворе я научился понимать, что сведения очевидца имеют большую убедительность. Капитаны начали покидать залитую солнцем каюту Дрейка, пригибаясь, чтобы не удариться головой об украшенные резьбой палубные балки и покрытые тонким листовым золотом рельефные украшения. На одной из дверей, сколоченной из тяжелого дуба, очень живыми красками и со вкусом был воспроизведен герб, дарованный Золотому адмиралу. Герольд описал бы его таким образом: «Щит черный, меж двух серебристых звезд колышется топь; гребень — земной шар, большой корабль под парусом, ведомый канатом, который держит рука, появившаяся из облака серебристого». Капитан Джон Фостер уже направился к сходному трапу, когда Дрейк ухватил его за грубую серо-коричневую байку рукава его куртки. — Скажи-ка мне, мил человек, это ты первым заподозрил, что истинное намерение коррехидора состоит в захвате вашего судна? — Бог с вами, нет, ваше превосходительство, это был мой помощник Гарри Уайэтт. Он молод, но шустр, и у него острый глаз на мошенничество — как я впервые убедился в прошлом году в Леванте.*["311] — Такой честный ответ, — прогудел Дрейк, — заслуживает такой же честной награды. Ричард! — Он властно кивнул мальчику-слуге, пареньку лет двенадцати. — В том сундуке ты найдешь серебряный кубок, гравированный собственными моими руками. Принеси-ка его сюда, чтобы я мог подарить сей скромный знак уважения честному, откровенному моряку.Глава 5 ДВОРЕЦ ХЭМПТОН-КОРТ
Хотя Генри Уайэтту доводилось присутствовать на кричаще пышных церемониях в честь дворцовых и религиозных праздников в Испании и Португалии, ему, как и большинству англичан, как-то никогда не приходило в голову, что в нынешнем, 1585 году невзрачная рыжеволосая дочка Генриха VIII и Анны Болейн живет среди блеска и великолепия приблизительно того же характера. Устремив глаза в сторону берега, пока выкрашенная в голубую и серебристую краски шлюпка сэра Френсиса Дрейка шла к массивным Водным воротам дворца Хэмптон-Корт, он видел там, на разнообразных бархатистых травянистых лужайках, подступающих к заросшим тростником берегам Темзы, словно бы слетевшихся на них великолепных гигантских бабочек, перемещающихся туда-сюда Множество белых ручных лебедей с любопытством поплыли к приближающейся шлюпке, но иные дикие, плававшие там же, выскочили из камыша, захлопали крыльями и стали удирать вверх по зеркально-гладкой поверхности речки, увлекая за собой всю стайку. На лужайках за водной галереей сидели или прогуливались десятки дам и джентльменов, наряды которых по яркости красок превосходили любое собрание тропических птиц. В регулярные интервалы дюжий дворцовый страж обходил свои посты с полированной алебардой на плече. Эти здоровые парни носили мундиры, состоящие из зеленого и белого цветов — цветов династии Тюдоров, а на широкой груди — розу Тюдоров, украшенную личной монограммой королевы Елизаветы, «Е R»*["312], вышитой чисто золотой нитью, которой никогда не суждено было потускнеть. Стражи, дежурящие у Водных ворот, изящно взяли алебарды на караул, когда сэр Френсис Дрейк, невысокого роста, крепкий и энергичный,ступил на берег в своем щегольском мундире из синего, желтого и красного цветов. За ним следовал капитан его флагмана, Томас Феннер, великолепный в темно-фиолетовом дублете и серебристых коротких штанах; на плече небрежно драпировался короткий плащ из ярко-желтой мавританской кожи. Генри Уайэтт в темно-коричневой рубахе из грубой шерстяной материи, в кожаной куртке, в серых широких шерстяных штанах и чулках из неотбеленного льна представлял собой унылый контраст, несмотря на всю свою мускулистую фигуру, медного цвета лицо и блестящие темно-рыжие волосы. Прошествовав под Водными воротами, трио снова оказалось под солнечными лучами и последовало за караульным сержантом по дорожке, огибающей с края знаменитую Фонарную беседку из зелени, расположенную на невысоком холме. По краям этой широкой и ровно устланной гравием дорожки, вьющейся между кустарниками аккуратно подстриженного тиса, на каменных пьедесталах стояли любопытные каменные изваяния, известные как «Звери короля»: антилопы, львы, борзые собаки, драконы, быки, лани, леопарды и представители многих других существ; и почему-то все они являлись опорой для флюгеров. Появился дворецкий ее величества, почетный старый джентльмен с огромными белыми брыжами. Он нес длинный жезл из черного дерева, увенчанный изображением кисти руки, искусно вырезанной из слоновой кости. Дворецкий поспешил вперед, и его костюм из черного бархата сильно контрастировал с ослепительным великолепием одеяний других придворных королевы. На просьбу Дрейка о незамедлительной аудиенции дворецкий сделал извиняющийся жест руками и объяснил, что ее величество в данный момент находится в личном кабинете, совещаясь с сэром Уильямом Сесилом, лордом Беркли и этим злейшим соперником советника сэром Френсисом Уолсингемом. Ее нельзя было беспокоить ни под каким предлогом. — Неужели я такой уж незначительный? — побагровел Дрейк и досадливо щелкнул пальцами, но все же взял себя в руки и изобразил терпение. — Тем не менее я прошу вас известить о моей скромной персоне ее милостивое величество и передать ей, что у меня неотложное дело. В самом деле, милорд, я и мой молодой спутник прибыли с вестями исключительной важности. — Мне пре… предстоит говорить с королевой! — заикаясь, воскликнул Уайэтт. — Верно. — Но, господа, я же ни м-манер не знаю, ни г-говорить не умею, ни на-наряжен как следует, чтобы предстать перед королевой. — Выше нос, паренек, — подбодрил его Феннер. — Это точно, одежонка твоя темная, как у галки, но ведь везде говорят, что Глориана может различить верное сердце под простым одеянием; кроме того, ее величество обожает то, что она называет «простыми англичанами». Уайэтт распрямился и, стараясь справиться с незнакомой ему доселе дрожью в голосе, спросил: — Но… но умоляю, скажите, к-как мне ве-вести себя? Дрейк расхохотался, хлопнул матроса торгового судна по плечу и отвечал: — Ну что ж, да благословит тебя Господь, все, что тебе нужно делать, когда предстанешь перед ней, это опуститься на одно колено и ждать, пока ее величество не прикажет тебе подняться. Тогда не трусь и говори прямо начистоту, и тебе от этого будет лучше. Теперь запомни, мистер Уайэтт, — Дрейк задержал на нем взгляд своих синих пронзительных глаз, — ты должен говорить о разорении, принесенном предательством испанского короля нашему торговому флоту, и какими убытками это обернется трону. Было бы хорошо, — Дрейк наклонился так близко к его лицу, что ощутимей, чем прежде, стал острый запах духов, которые он любил, — если бы ты невинно напомнил ее величеству, что эти продовольственные запасы и суда, похищенные у нее, пойдут на питание и оснащение флота короля Филиппа, который он собирает, чтобы угрожать ее личной персоне и безопасности ее державы. Прошли казавшиеся бесконечностью полчаса, в течение которых Дрейк расхаживал взад и вперед по отделанной дубовыми панелями приемной, украшенной теми несколькими цветными гобеленами из Голландии, что были угодны королевскому вкусу. Тщательно отполированные дубовые полы дворца Хэмптон-Корт смягчались не обычными пустяками, а большими красными, как перо индейки, коврами, хорошо приглушающими беспокойную поступь высоких красных каблуков Дрейка. По двое, по трое, а иногда дюжиной проходили через приемную различные придворные. Большинство из них кланялись адмиралу королевы с готовностью, почти подобострастно, затем бросали беззастенчиво-пытливые взгляды на странно подобранную компанию этого великого человека. Тревога Уайэтта убывала пропорционально росту его заинтересованности этими блестящими, пышно разодетыми персонами. Ему никогда и в голову не приходило, что существуют такие экстравагантные костюмы. Мужчины красовались в брыжах преувеличенного размера, и дюжины разных моделей, самые изощренные из которых, как вполголоса пояснил капитан Винтер, назывались перкардели и пикадилли — последнюю смоделировал некий Хиггинс, которого называли первым портным Лондона. Все носили подбитые ватой короткие штаны из сшитого полосами узорчатого шелка, мавританские накидки, перчатки из ароматизированной кожи, дублеты из генуэзского бархата цвета бирюзы и плащи, отделанные по краям мехом волка, куницы и горностая. Ошарашенный молодой помощник капитана вскоре был совсем поражен и ослеплен обилием представших его взору драгоценных украшений. Еще бы, там можно было увидеть щеголя, носящего на пальцах целый десяток колец, на шее — две или три цепочки, в ушах — здоровенные жемчужные серьги в дополнение к инкрустированному драгоценными камнями круглому футлярчику для ношения ароматического шарика и коробочке для зубочисток. Бриллианты, изумруды, сапфиры и прочие драгоценные камни сверкали на гвардейцах и на маленьких заостренных ножнах итальянских рапир и кинжалов, болтавшихся на поясе у каждого. Разнообразию гофрированных воротников почти не уступало разнообразие стрижек бород, осуществлявшихся брадобреями королевского двора. Некоторые из этих сильно надушенных и накрашенных придворных отдавали предпочтение голландской моде, другие предпочитали французский или испанский стили, тогда как третьи придавали своим крашеным рыжим или желтым бородам раздвоенный вид в стиле «аллея». Несколько джентльменов стригли бороды в стиле «лопата», «бравада»и «кинжал». Что касается дам, Уайэтт едва мог верить своим глазам. Почти поголовно они носили массу «заимствованных» волос — париков, завитых и окрашенных в красный цвет и украшенных мелким жемчугом, небольшими изумрудами или рубинами по примеру королевы. Их кружевные рюши, окаймляющие декольте, которые зачастую оставляли открытой верхнюю часть груди, представляли собой чудеса изящества и изысканности и удерживались на своем месте стяжками. Эти элегантные создания носили стоячие брыжи, которые трудолюбиво увязывались с накидкой в плойки и складки; другие из их числа предпочитали очень большие крылатые брыжи, а кое-кто красовался в двух или трех кружевных брыжах, навернутых одни поверх следующих. Все дамы носили перчатки — желтые, синие или красные, — на тыльную сторону которых были нашиты жемчужины и всевозможные драгоценные камни, а с их поясков свисали постоянно мигающие и поблескивающие маленькие зеркала в золотой оправе. Особенно помощника капитана с «Первоцвета» поразили своим необычным цветом их лица. Дамы старые, среднего возраста и даже совсем молодые так сильно покрывали косметикой свои щеки, что они сияли, как надгробия, белые и безжизненные. Далее они рисовали на щеках круглые красные пятна, делающие их лица похожими на кукольные; выщипав свои естественные брови — у королевы, похоже, их не было совсем, — они их тоже подрисовывали краской. Заметив, чем поглощено его внимание, Винтер объяснил: — Вы не находите, что эти великосветские дамы выглядят худенькими и бледными? Видите ли, ее величество — дама исхудалая и с болезненным цветом лица, поэтому эти глупые создания едят пепел, мел и свечное сало, чтобы добиться такой же бледности. Дрейк повернулся к командиру флагманского корабля Феннеру, рассеянно поигрывая свисающей с уха жемчужиной. — Теперь совершенно ясно, что король Испании намерен скоро напасть: это вопрос нескольких месяцев. Что скажете? — Верно, вне всякого сомнения. Его приказ — тому доказательство. — Что ж, Уильям, даст Бог, мне позволят помешать этому плутовскому нападению. — Да, но как? — Есть у меня способы и… — Он прервался, чтобы отвесить низкий поклон герцогу Глостеру и с нетерпением подождать ответного знака учтивости со стороны этого очень родовитого дворянина. Когда же герцог ответил поклоном, Уайэтт отметил, что сделал он это высокомерно и сдержанно — как, впрочем, кланялось большинство представителей старинных дворянских родов. — Но мы же так неподготовленны, — проворчал Феннер. — Если бы только ее величество и ее советники к вам прислушались — ведь сколько раз вы их предупреждали. — Да, в том-то и загвоздка. Не прислушались, а теперь поздно. Поздно! Если бы Глориана три года назад не запретила мне в последний час поднять паруса против самой Испании, мы сейчас не читали бы ничего об «Английском предприятии», как они это называют. Феннер поморгал, затем высказал предположение: — Возможно, после того как сэр Френсис Уолсингем услышит об этой истории в Бильбао, ему удастся взять верх. Снаружи под солнечным небом под пение серебряных труб и сухую дробь барабанов происходила смена дворцового караула. Вскоре королевский двор должен был разойтись на ужин, когда придворные принимали пищу во второй, и в последний, раз за свой день. Наконец снова появился дворецкий, над огромным стоячим воротником которого лысая голова выступала как розовая дыня. Казалось, он сутулится под тяжестью отличительного знака своей должности — тяжелой цепи, висящей поверх его черных одежд. — Ее величество соизволит сейчас принять ваше превосходительство. Дрейк улыбнулся, поправил свой короткий фламандский воротник и засунул на свое место выбившийся локон светлых волос, прежде чем проверить жемчужные пуговицы, на которые застегивался его дублет. Снова у моряка задрожали колени. Боже Всевышний! Он, простой человек Генри Уайэтт из Сент-Неотса, должен был предстать перед королевой! Королевой, этим далеким полубожеством, безраздельно царствующим над всей Англией и распоряжающимся судьбами чуть ли не пяти миллионов подданных. Черт побери! Что скажут жители Сент-Неотса, когда узнают, что сын старого Эдмунда Уайэтта не только видел ее величество королеву, но и был у нее на приеме? О, какой гордостью засверкают серые глазки милой Кэт Ибботт! — Ну, ну, мастер Уайэтт, нечего выглядеть таким перепуганным. — Дрейк похлопал его по руке. — Ее величество — очень человечная женщина и самая добрая из дам. Вставай и шагай без боязни — как на корме «Первоцвета». «Да. Сэру Френсису Дрейку куда как легко давать такие советы», — подумал про себя объятый ужасом помощник капитана, но затем нашел утешение, вспомнив, что Золотой адмирал тоже когда-то был столь же бедным и незаметным, не имеющим ни влиятельных друзей, ни заслуг, как и он. Ведь и правда, только подумать, что Френсис, самый старший из двенадцати детей Эдмунда Дрейка, по слухам, не имел даже обуви, когда впервые отправился в плавание на борту неуклюжего судна, совершавшего торговые рейсы между Зеландией и Мидвэем. Этот сын бедного приходского священника-протестанта достиг такого высокого положения отчасти благодаря влиянию своего родственника сэра Джона Хоукинса, но главным образом — благодаря своим собственным достоинствам. Возле красивой двери из древесины орехового дерева, ведущей в личный кабинет королевы, пара лейб-гвардейцев гигантского роста, прозванных «бифитерами», то есть «мясоедами», питающимися исключительно говядиной по приказу королевы, проявляющей заботу в отношении их пайков, замерли, взяв на караул свои алебарды, украшенные малиновыми кисточками. Отороченная мехом черная мантия лорда-дворецкого, важно развеваясь, поплыла по короткому коридору, в котором еще сильнее ощущался смешанный запах духов. — Его превосходительство адмирал сэр Френсис Дрейк и капитан Уильям Феннер! — возвестил управляющий двором королевы низким, но сильным голосом. — Сопровождает их лицо матросского звания по имени Уайэтт. Лучи предвечернего солнца вливались в высокие окна с такой щедрой силой, что оживляли ряд гобеленов, покрывающих стены просторной, отделанной дубом палаты, и вспыхивали на воротниках и кольцах двух седобородых джентльменов, стоявших у самого входа. Помимо этого, солнечные лучи заиграли медными оттенками в искусно взбитых и завитых волосах той, что, жестко выпрямившись, восседала в кресле с низкой спинкой. На Уайэтта самое живое впечатление произвели небольшие, но чрезвычайно внимательные черные глаза, сверкающие над слегка крючковатым носом. Лицо Елизаветы Тюдор настолько густо покрывали белила, что казалось, будто его высекли из карийского мрамора. На фоне этих белил резко выделялись большие пятна румян, нанесенных на обе щеки. Вслед за этим он вдруг заметил многочисленные следы глубоких морщин, перекрещивающихся на лице его королевы. Уайэтт вышел из своего одурелого состояния вовремя, чтобы заметить, что Дрейк и Феннер уже опустились на колено и так стояли с немного склоненными головами. Рапиры свои они ухитрились расположить таким образом, что те торчали диагонально из-под их кричаще-ярких плащей, словно напрягшиеся хвосты легавых, охотящихся на фазанов. Когда он последовал их примеру, его тяжелые морские сапоги скрипнули так громко, что всегда и без того румяное лицо молодого матроса еще гуще залилось малиновой краской, а смущение стало куда как мучительней, потому что опустился он на левое колено, а должен был, разумеется, на правое. Когда же он поспешно поменял колени, несколько придворных, выстроившихся вдоль дальней стены палаты для аудиенций, тихо заржали. — Встаньте, джентльмены. — Голос королевы звучал строго и вовсе не мелодично, однако и неприятным назвать его было никак нельзя. — И что же это за крайняя срочность, сэр Френсис, которая приводит вас в наше присутствие с большим, нежели обычно, нетерпением? Приземистая синяя фигура Дрейка выдвинулась на несколько шагов, оказавшись в солнечном свете, от которого светлые волосы и борода приобрели золотистый оттенок. — Вопрос величайшей важности для вашего величества; я предлагаю вашему вниманию дело настолько вероломное и представляющее такую непосредственную угрозу вашему государству и вашей персоне, что мне хотелось иметь крылья, которые бы еще скорее принесли меня сюда, С нарочитой неторопливостью королева взяла футлярчик с ароматическим шариком, сделанный из позолоченного серебра, и поднесла его к приплюснутым ноздрям, одновременно не слишком-то терпеливо взирая на стоящую перед ней крепкую фигуру адмирала. — Чтоб вам сгнить, сэр Френсис! Что это вы вечно летите к нам со всех ног? Что это вы постоянно приносите нам тревожные вести и рассказываете небылицы о заговорах и предательствах? Милорд Беркли, знаете ли вы кого-нибудь более одержимого ненавистью к испанцам? — …или более достойного в делах наказания, ваше величество, — быстро вмешался лорд Уолсингем. Елизавета опустила футлярчик и откинулась в кресле. — Выкладывайте свои сетования, мой дорогой адмирал. Что там могло напугать вас на этот раз? Снова хотите поднять паруса против моего кузена из Испании? — Речь королевы звучала с иронией, но вот заговорил Дрейк, и не прошло полминуты, как насмешливое выражение полностью исчезло с лица ее величества, покрытого мертвенно-бледным слоем косметики. Она далеко подалась вперед и заговорила с пронзительно резкими интонациями: — Сэр! Следите за тем, что вы говорите. Если то, что вы сказали, на самом деле не так, то бойтесь нашего гнева! Дрейк снова опустился на одно колено и, схватив руку королевы, смиренно поцеловал ее. — Пусть мне веки вечные гнить в Тауэре, если я хоть на йоту преувеличиваю, говоря о подлости короля Филиппа. Это ваше величество может услышать из первых уст, от того, кто явился свидетелем всего, что случилось на борту «Первоцвета». Я привел сюда помощника капитана корабля. — Синие глаза Дрейка горели огнем, когда он поднялся и прямо-таки вытолкнул Генри Уайэтта перед собой. — Подойдите поближе, молодой человек, — раздраженно приказала королева. — Нет, снова на колено становиться не надо, но ясно и в простых словах опишите нам, что же действительно произошло в гавани Бильбао. И, — прибавила она, бросив колючий взгляд на Дрейка и Феннера, — постарайтесь не искать никакой выгоды в своем рассказе. Уайэтт вдруг почувствовал какую-то незнакомую сухость в горле, заставившую этого высокого с медным цветом лица молодого человека несколько раз сглотнуть, прежде чем обрести хоть какую-то власть над своим голосом. Сперва от этой пугающей близости к своей королеве у него продолжалось головокружение, и он говорил запинаясь. Только когда Уайэтт приступил к описанию визита коррехидора и необъяснимого отбытия этого голодного джентльмена, так и не закончившего обед, голос его стал глубже и тверже. Королева сместилась на край своего кресла, и ее длинные костлявые пальцы, унизанные кольцами, постепенно напряглись и стали похожи на блестящие когти хищной птицы. — Сколько же вас было на борту «Первоцвета»? — прервала его Елизавета. — Двадцать восемь, ваше величество! — Уайэтт покраснел до корней своих темно-рыжих волос. — А испанцев? — По нашим подсчетам, человек девяносто семь или что-то около того. Королева глубоко вдохнула и задумчиво посмотрела на лорда Беркли, безмолвно стоящего на другом конце зала и, очевидно, сильно ошарашенного новостями. Что касается сэра Френсиса Уолсингема, тот, наоборот, нисколько не скрывал своего удовлетворения, граничащего с приподнятым настроением. — Очень милая ссора, — заметил Уолсингем. — Сколько же нападавших было убито, мой юный друг? — Свыше дюжины — и уж конечно еще больше пошло ко дну, ваша све… ваше превосходительство. — А сколько пало англичан? — Душа отлетела только от бедного Джона Тристрама, сэр. — Разве не видно, что в этом деле вашему величеству послужили на славу? — вмешался Дрейк. — Будь даже я сам на том месте, лучше бы быть не могло. А теперь, мастер Уайэтт, прошу рассказать, как удалось вам выудить из гавани этого пса с языком гадюки, дона Франциско де Эскобара. Стареющая дочь Генриха VIII слушала говорящего с полным вниманием, с напряженным взглядом маленьких черных глаз, с выдвинутыми вперед челюстью и ястребиным носом. В нужный момент очень торжественно Дрейк предъявил королеве позорный приказ короля Филиппа. — Вот, ваше величество, тот самый документ, который дон Франциско представил в объяснение своего предательства. Через увеличительное, для чтения, стекло в золотой оправе, которое она носила на поясе, королева Англии прочла весь документ с величайшей тщательностью. Нарисованные ее брови то и дело то поднимались, то опускались, пока наконец она не отшвырнула этот документ, принявшись клясть своего «дорогого кузена Филиппа»с той же горячностью, с какой бранилась бы любая проститутка в Холодной Гавани, не получив обещанного гонорара. Определенно, еще ни одна королевская особа того времени не ругалась так изощренно — и непристойно. Но вот наконец Елизавете пришлось-таки остановиться, чтобы перевести дыхание. — Но это же чудовищно! — восклицала она, тяжело дыша. — Как смеет эта длиннорылая габсбургская свинья, этот лживый злодей с синей челюстью захватывать наши суда и заключать в тюрьму наших подданных — именно те суда и тех людей, что мы послали ему на помощь в час его нужды? В приступе разгорающейся ярости Елизавета Английская схватила песочницу, предназначенную для высушивания чернил на официальных документах, и, ослепленная бешенством, швырнула ее изо всех сил. Песочница, едва не угодив в голову Уайэтту, разбилась о панельную стену и осыпала градом осколков стоявшего рядом джентльмена. — Клянусь всей славой Господа! Филипп мне дорого заплатит за это предательство. — Она задрожала всем своим костлявым телом. — Да, вам, оба Френсиса, можно теперь улыбаться. — Она глянула гневно сперва на Уолсингема, затем на Дрейка, тихо стоявшего в сторонке и резко контрастирующего своим ярким костюмом — синим дублетом и желто-красными чулками — с темными дубовыми панелями. — Возможно, нам было бы разумнее прислушаться к вам, а не к моему лорду Беркли. Кажется, вы оба лучше понимаете, чего стоит этот лицемерный негодяй в Эскуриале. Ну почему, почему мы морочим себя осторожными суждениями и идиотским оптимизмом? Стыдитесь, Уильям Сесил! Вечно вы звали нас отказаться от этой храбрости, которая одна лишь способна защитить нас от папистских держав. Сэру Френсису Дрейку едва удалось сдержать себя, чтобы не улыбнуться. Никто лучше его не знал, что сама Елизавета, а не Беркли в последний момент отозвала его флот в 1580-м и еще раз в 1581 году прямо накануне его выступления против Испании. Со времени правления Джона Плантагенета*["313] никогда еще трон Англии не занимал монарх столь непостоянный, одержимый своими капризами и опасно нерешительный, как эта сухая как жердь, сверх меры увешанная драгоценными украшениями старуха, что сидела напротив него в этой комнате. Совершенно типичной для нее чертой характера было то упрямство, с которым Елизавета, даже столь запоздало, все отказывалась подписывать смертный приговор Марии Шотландской, несмотря на то, что ее прелестная, трижды бывшая замужем кузина несомненно имела отношение к трем заговорам с целью покушения. Конечно, размышлял Дрейк, государственная женщина даже среднего ума давно бы уже, наверное, догадалась, что продление существования Марии Стюарт способствует существованию центра, объединяющего не только могущественных католических правителей на континенте, но также и тех знатных аристократов в Шотландии и на севере Англии, которые все еще остаются верными Римской церкви. С резким и высоким, как у павлина, голосом, королева бесилась до тех пор, пока с ее накрашенных губ не сорвалась слюна, и она наконец обратила свое внимание на сэра Френсиса Дрейка. — Черт побери, сэр Френсис, — вскричала она резким голосом, — завтра же созывайте матросов на корабли. Обеспечьте наш флот провиантом и всем необходимым, и мы развяжем множественную частную инициативу, причем так, что у вас будет достаточно людей и орудий, чтобы нанести этому габсбургскому обманщику удар в самое уязвимое место, и такой силы, чтобы он его никогда не забыл! — И такой удар, ваше величество, по моему разумению, надо будет нанести королю Филиппу в его собственных владениях? — мягко предположил Дрейк. Боже, сколько ему пришлось спорить и интриговать, чтобы добиться именно такого решения! — Да! — с присвистом вырвалось у королевы. — Опустошайте прибрежные города моего благородного кузена, топите или захватывайте его суда, разоряйте его порты, чтобы этот иуда, которым правит духовенство, молил о прощении, возместил все убытки и возвратил нечестно присвоенные им мои суда, их грузы и экипажи! Лорд Уолсингем сделал вид, что поправляет свой воротник, имеющий форму тележного колеса, а сам бросил быстрый взгляд на Дрейка. Ну наконец-то, размышлял советник, представляется реальная возможность снова оказаться в милости у королевы, а значит, и воевать против испанцев. Он уже давно убедился, что противники реформации вынашивают планы вторжения, безжалостного в способах проведения и гибельного для тех религиозных и личных свобод, которые так дороги сердцу всех чистокровных англичан. Да, теперь и впрямь было похоже, что благодаря происшествию с «Первоцветом» им с Дрейком вскоре можно будет взяться за осуществление давно вынашиваемых планов нападения на собственные порты Филиппа. Он знал, что сэр Френсис, чьи амбиции и способности безграничны, выберет стратегию смелую и неортодоксальную. Хоть он и выскочка, хоть и хвастун что надо, но все же этот буйный флотоводец из Девона, по общему признанию, был королем среди мореплавателей. Враги его, разумеется, тихонько поговаривали, что сэр Бернард Дрейк, дворянин из Уэст-Кантри, как-то раз ударил этого выскочку по лицу за то, что тот осмелился присвоить себе его герб. Так это было или не так, но королева даровала своему любимому адмиралу герб бесспорно его собственный, тем самым ловко щелкнув по носу напыщенного сэра Бернарда. Сообразительные придворные сразу же догадались, что в корабле, изображенном на собственном гербе сэра Френсиса, просматривается крылатый дракон или гриффон, запутавшийся вверх ногами в его оснастке. Как ни странно, крылатый дракон являлся главным элементом в фамильном гербе сэра Бернарда Дрейка. Усталое, с глубокими морщинами лицо Уолсингема расплылось в подобие улыбки, когда он припомнил сэра Бернарда, охваченного бессильной яростью. Став членом Тайного совета и нередко занимая пост лорда-канцлера, Уолсингем обладал долгой памятью. Последней должностью он на протяжении многих лет менялся с лордом Беркли, что зависело от курса политики королевы в отношении Испании и Франции. Уолсингем мог, например, отчетливо припомнить тот день, в который капитан Френсис Дрейк, самоуверенный, плохо одетый и все же страшно смущенный, впервые предстал перед троном. А теперь в придворных кругах, да и повсюду в Англии, его звали «Золотой адмирал». А почему бы и нет? Какой еще флотоводец принес королеве хотя бы немного денег в ее личную казну? Затем сэр Френсис Уолсингем перенес свое внимание на того довольно красивого и прекрасно сложенного молодого человека, что стоял сбоку от Дрейка. В голове его промелькнула мысль, что вот, наверное, стоит представитель новой породы англичан, которую в последнее время в щедрых количествах рождает их королевство. В молодом Уайэтте, бывшем, по крайней мере, на голову выше адмирала Дрейка, угадывалось почтительное отношение к авторитетному мореплавателю в сочетании с врожденным самоуважением и долей осторожности в поведении. Когда Елизавета наконец закончила свою тираду, она поглубже уселась в кресло, чтобы лучше рассмотреть этого грубо одетого парня, стоявшего перед ней без движения: и совершенно одуревшего. Елизавета обнажила в редко посещавшей ее улыбке черные обломки своих зубов и спросила: — Сколько же испанцев пало лично от вашей шпаги? — Возможно, да хранит вас Господь, мадам, помимо помощника коррехидора, который ранил меня в плечо и шпагу которого я сейчас ношу, я убил двоих и, может, еще одного. В этом переполохе определить невозможно. Королева разразилась кудахтающим смехом. — В сумятице? Вот он, добрый простой английский язык. Заметьте, джентльмены, что мистер Уайэтт не употребляет такое нечистокровное, французское слово, как «melee» — «свалка». — Засверкало массивное ожерелье из изумрудов и жемчугов, когда королева повернулась к конюшему. — Эдвард! Наши деньги! Даже Дрейк изумился — так редко Елизавета Тюдор прибегала к личной своей казне. По всем королевским дворам Европы о ее величестве королеве Английской поговаривали — и не без причины, — будто ей труднее расстаться со своими фунтами, шиллингами и пенсами, чем березе с ее корой. — Мы наградим этого достойного молодого моряка пятью золотыми фунтами — и не забудь, Эдвард, полновесными — в качестве поощрения доблестных подвигов подобного рода. Уайэтт покраснел как кирпич и, упав на одно колено, поднял глаза на сплетенное из морщин лицо старой женщины. — Благослови вас Бог, ваше величество! Я… я прямо и не знаю, как вас… — Ну, не знаете, так и не пытайтесь. — Елизавета даже похлопала Уайэтта по плечу. — Нас порадует, если вы захотите служить на одном из наших военных кораблей. Сэр Френсис, мы поручаем вам найти мистеру Уайэтту подходящее его способностям и званию место. Смущение с невиданной прежде силой связало язык молодому Уайэтту, когда он припомнил свою терпеливую сероглазую Кэт. — Прошу снисхождения вашего величества, н-но я давно уже хотел командовать своим собственным судном. Сэр Френсис и капитан Феннер вздрогнули, а сэр Уолсингем нахмурился: давно уже такого не бывало, чтобы подданный королевы осмеливался обсуждать выраженное ею желание. — Уж простите, ваше милосердное величество, эту кажущуюся дерзость, — вступился за юношу Дрейк, искоса бросив на него сердитый взгляд. — Этот парень всего лишь простой и честный моряк. Королева взяла свой футлярчик с ароматическим шариком, понюхала его и сказала: — Полно, сэр Френсис. А вы, молодой человек, можете взять и отложить наше золото на покупку собственного судна, так вы и должны поступить. Мы очень надеемся, что вы употребите его на доброе дело и нам принесете пользу. А теперь, джентльмены, — она окинула взглядом молчавших придворных, — давайте-ка в зал совещаний. Елизавета Английская подобрала свои широкие юбки из золотистой парчи и, тяжеловато ступая — еще бы, фижмы ее костюма вместе со всем остальным нарядом весили чуть ли не тридцать фунтов, — выплыла из личного кабинета, а за ней последовали Уолсингем, Беркли, Дрейк и Феннер. Генри Уайэтт остался позади, чувствуя себя ужасно косноязычным и неотесанным.Глава 6 ПОД ВЫВЕСКОЙ «КРАСНЫЙ РЫЦАРЬ»
Как гигантский рыбный садок, прилегающий к порту район Лондона от Куинхайта до Биллингсгейта закипел самыми невероятными слухами, к которым примешалось возрастающее чувство возмущения по поводу вероломного предательства в Бильбао и других испанских гаванях. Невероятная подлость испанского короля пагубно или в меньшей степени отразилась чуть ли не на каждом купце, судовладельце, лавочнике, свечном фабриканте, поставщике провианта или парусов. На улицах, в переулках и в таких прибрежных районах, как Падлдок и Холодная Гавань, оборванные женщины, бесстыжие проститутки и худые чумазые дети выли или хранили тупое молчание, убежденные, что возлюбленных, сыновей и отцов никогда уже они не увидят в районе Рыбной улицы, что мало кому из честных протестантов удастся когда-либо снова увидеть свет Божий, уж если их бросили в мрачные подземелья Святой инквизиции. Все громче раздавались голоса в пользу карательных мер. Страшные угрозы звучали на каждой пристани и на сотнях тех малых судов, что стояли на Темзе причаленные или на якоре на всем пути вниз от Лондонского моста до причала у обители Святой Катерины. Ничего определенного еще не сообщалось о дате отбытия карательной эскадры, но даже последний олух, толкающий свою тачку по Темз-стрит, чувствовал, что пройдет месяц, и грозный Золотой адмирал будет выводить свой флот из Плимута. Они могли поклясться ногтями на пальцах ноги Святого Петра, что этот-то парень понимал, как заставить испанцев визжать! Однако кое-кто из моряков постарше не разделял такой уверенности относительно шансов на успех экспедиции против самой Испании. — Одно дело, — ворчал беззубый старик, лишенный левой руки, — догонять и грабить почти беззащитные суда в Южном океане или незащищенные города на побережьях Карибского моря и северо-востока Южной Америки, но я-то уж знаю, что совсем другое дело вызывать на бой армады испанского короля в их собственных водах, под пушками мощных крепостей, что охраняют порты Филиппа. Хотя таверну «Красный рыцарь» постоянно посещали матросы и морские капитаны довольно высокого ранга, местечко это тем не менее оставалось темной и зловонной хижиной, в которой вас могли осыпать градом ругани и проклятий — так, пролагая себе путь к пивной, раздумывал Генри Уайэтт. И чего это только они с Питером Хоптоном вздумали встречаться здесь каждый раз, когда их заносило в этот порт? Вскоре он узнал, что в тот же день в местную гавань зашел корабль из Нидерландов с новостями о новых гонениях и казнях голландских протестантов и что это дело рук герцога Пармского, славящегося своей жестокостью наместника и главнокомандующего, поставленного королем Филиппом над этой упорно не желающей подчиняться ему колонией. Закопченные потолочные балки пивной так низко нависали над головой, что Генри Уайэтту пришлось пригнуться несколько раз, чтобы занять свое место за залитым пивом столом, опирающимся на козлы. Как только глаза его привыкли к дымному полумраку — привычка табакокурения прививалась очень быстро, — он заметил, что хотя завсегдатаи «Красного рыцаря»в основном такие же англичане, как он сам, среди них есть матросы — голландцы и немцы. Возможно, они притопали сюда из доков Стилъярд, где обычно швартовались суда городов, принадлежавших Ганзейской лиге*["314]. Краснолицые служанки, обильно потея под платьями из грубой шерсти, сновали, спотыкаясь, вокруг с подносами, на которых в больших деревянных кувшинах плескались эль, мед и доброе английское слабое пиво. Повсюду вокруг рослого рыжеволосого помощника капитана матросы, только что вернувшиеся из Леванта, из Мавритании, что на западном берегу Африки, или с замерзшего Белого моря России, травили обычные байки. Магическое слово «Америка» привлекло внимание Уайэтта, поэтому он, все время заботясь о том, чтобы не расплескалась его до краев налитая маленькая, на четверть пинты, кружка эля, стал пробираться к длинному столу, установленному прямо у окна, крошечные стекла которого так часто чинили свинцом, что в бар проникало совсем мало света. Он занял место, откуда мог видеть рассказчика, настоящего великана, в тот момент крепко целующего полногрудую девку, разносчицу пива. Сперва он почти не узнал в этом бронзовом от загара светлобородом малом своего кузена Питера Хоптона, но когда все же понял, что это он, то разразился таким шумным восторгом, что несколько посетителей опрокинули свои кружки, а другие покрепче вцепились в их ручки. — Неужели это и вправду ты, кузен Питер? — вскричал он, бросаясь вперед. — И много ли богатств ты привез с собой из Мексики? — Черт меня побери, да это же сам Генри! — Питер спихнул на пол свою возлюбленную, растрепанную и визжащую, и ринулся навстречу сквозь толпу, как бык сквозь ольховник. Двоюродные братья заключили друг друга в медвежьи объятия, характерные для англосаксов, затем крепко похлопали друг друга меж лопаток. Присутствующие при этой сцене заметили, что, хотя оба они почти одного роста, Питер казался гораздо крупнее и здоровее, чем Генри. — Стоп, друзья, — прогудел щербатый малый, выговаривая слова с корнуоллским акцентом, — мы слышали о последнем плавании сэра Ричарда Гренвилля. — Он ткнул грязным указательном пальцем в Питера Хоптона. — Ну-ка, скажи, это верно, что в Америке есть золотой песок, черпай сколько хочешь — только и всего-то? Питер встряхнул лохматыми соломенными космами. — Нет, друг, ты не так меня понял. Та земля, где мы были, лежит далеко на север от золотых и серебряных рудников Мексики и Перу. — Ну, тогда там, наверное, есть алмазы? — не отставал корнуоллец. — Нет, друг, ни алмазов там нет, ни рубинов. — Но жемчуг-то уж есть наверняка? — Да, конечно, немного жемчуга есть, — согласился кузен Уайэтта. — Но настоящее богатство в земле… — Какой такой земле? — Обычной земле, земле на острове Роанок — так его называют живущие там туземцы — и близлежащем побережье. — Слышал я, что на севере много прекрасных мехов? — вставил здоровенный детина, шкипер голландского торгового судна. — Шкуры везде хорошо продаются. — Да, в Виргинии можно добыть и шкуры, мой дорогой, — сколько угодно и без всякого труда, — заверил морской бродяга, — но слушай меня, братва, настоящее богатство этой великой далекой земли заключается ни в золоте, ни в драгоценных камнях, ни в пряностях, ни в мехах, а в удивительном плодородии почвы. Уайэтт отошел к стене, откуда мог видеть не только широкую красную физиономию своего кузена, но также тесно окружавшие его грубые бородатые лица; на одних было написано удивление и недоверие, на других алчность, на третьих надежда, но на всех без исключения — любопытство. — Этой земле, Виргинии, нет конца и края, она простирается к западу никто не знает как далеко, — объяснял Питер над черной кожаной кружкой эля. — Реки там, а они широченные, местами просто кишат самой мясистой рыбой, и ее можно таскать из них ведрами. В лесах изобилие красного зверя, лосей, бизонов и многих еще животных, подобных этим, а водоплавающей птицы столько, что в небе темнеет, когда их стаи поднимаются в воздух. Кроме того, требуется совсем мало усилий, чтобы выращивать там все виды зерновых. — Он усмехнулся, медленно обводя глазами своих разгоряченных, издающих зловонные запахи слушателей. — Думая, что мы боги или духи их предков, вернувшиеся на землю, туземцы Виргинии поклонялись нам, ишачили на нас и даже бесплатно снабдили всеми съестными припасами, которые показались нам съедобными. — А как у них насчет бабенок? — поинтересовался кто-то хриплым голосом. — Симпатичные, красивые? — По-своему что надо. Вожди почитали за честь предлагать своих дочерей самым простым из наших матросов — бери, сколько можешь. Уж я-то знаю, какие они! — добавил Питер, вызвав взрыв похотливого хохота. — Поклянешься, что в стране Виргиния нет никакого золота? — спросил щербатый. — Нам ничего не попадалось. — А серебро? — Только немного, и его мы выменивали у племен, живущих южнее. Служанка пивной, которую целовал Хоптон, осмелела, подошла к нему бочком и взяла его под руку. С надеждой подняв свое утомленное, когда-то смазливое личико, она спросила: — А в этой твоей Америке, голубчик, есть ли большие города, такие, как Лондон, где бедная девушка могла бы найти себе дом и мужа? Взрыв хохота засвидетельствовал исчезновение руки Хоптона под нижними юбками распутницы. — Индейцы, куколка, действительно строят деревни, некоторые из них даже окружены грубым частоколом, но, по всей вероятности, ты не встретишь ничего, подобного Картахене, Номбре-де-Дьос или тем большим городам, что испанцы построили в Санто-Доминго, Мексике и Перу. — Тьфу! Провались она пропадом, эта жалкая земля, — смачно сплюнув, проворчал щербатый и отвернулся. — Что бы там ни говорили, а я испытаю свою судьбу в открытом море. — Но ведь там же простор, разве не так? — настаивал плечистый парень в прожженном кожаном фартуке кузнеца. — Там же простор, там можно дышать, смотреть, как восходит солнце, как цветут деревья на твоей же собственной земле, ведь верно? Питер предложил кузнецу глотнуть из своей кружки. — Да хранит тебя Бог, дружище. Любой трудяга из этой вонючей клоаки, Лондона, мог бы, не горбатясь особо, стать владельцем целого городка в этой славной новой стране. Кузнец пробрался поближе к путешественнику. — Вы хотите сказать, сэр, что я, нищая безземельная шавка, мог бы там, в Америке, стать землевладельцем? — Ручаюсь, друг кузнец. Нет никаких причин, почему бы им не стать. Богатство этой новой земли выходит за границы воображения — а я ведь вырос на ферме. Хотя сэр Уолтер Ралей не дал еще ей имя, полагают, уж он наверняка окрестит эту колонию «Виргинией»*["315] в честь девственности нашей милостивой королевы. Замечательно, что никто не заржал, ибо самый тупой из присутствующих понимал, что это и впрямь почтенный титул, если таковой вообще когда-либо существовал. Разве не ходили сплетни об Эссексе, Лестере, Ралее, Сиднее и «маленьком лорде Бомонте», не считая других знаменитых дворян? Атмосфера сгущалась, кислый запах впитавшегося в шерсть застаревшего пота становился острее. — Ты ручаешься, что в Северной Америке нет ни капли золота? — Щербатый, похоже, не склонен был верить собственным ушам. — Мы ничего не обнаружили, хотя туземцы наперебой рассказывают об очень богатых приисках к западу от их поселений. Нечего сказать, никакого золота! За исключением кузнеца и той проститутки, льнущей с такой надеждой к Питеру Хоптону, компания за столом поостыла и отошла, чтобы вновь наполнить пивом свои кружки. Едва они убрались, Уайэтт, не без помощи красивой шпаги испанского офицера, обеспечил себе место рядом с кузеном. — Ты в самом деле только что вернулся из-за моря-океана? — Эх, это была лучшая часть года с тех пор, как мы в последний раз видели Плимут-Хоу, но теперь наконец-то я еду домой, чтобы жениться на дочери мастера Тома Фуллера — мне уж давно надлежало выполнить этот долг. — Может, она теперь замужем. — Что ж, есть еще близняшки у Маркандов — им сейчас около шестнадцати, — засмеялся Хоптон, — и на них больший спрос, чем на нетронутых девственниц. — И что же позволяет тебе воображать, что ты завлечешь таких юных скромниц на сеновал? — Их тщеславие. Эти глупые пичужки изо всех сил стараются подражать ярким придворным модам. Вот здесь, — быстро оглядевшись вокруг, Питер похлопал по объемистой кожаной котомке и заговорил приглушенным голосом, — я везу такие жемчужины, что у тебя глаза вылезут наружу, как у манящего краба*["316]. Того, что внутри, мне хватит на много ночных шалостей и, возможно, останется, чтобы добавить несколько акров к земле моего родителя. — Вдруг посерьезнев, он устремил озабоченный взгляд на своего кузена: — Давно не был в Сент-Неотсе? Лицо Уайэтта исказилось гримасой. — Ни разу с тех пор, как мы оба уехали два года назад. — Он подобрал под себя ноги и, не отрываясь, с любовью воззрился на Питера Хоптона. — С тех пор я плавал в Левант, к туркам и дважды в Испанию. — Он начал было рассказ о происшествии в Бильбао, но Питер прервал его и увел разговор в сторону. — Надеюсь, ты получил хорошие известия от сладкоголосой Кэт Ибботт? Тяжелые рыжие брови Уайэтта моментально нахмурились. — Увы, Питер, нет, в этом году не получал. И от отца не было ни строчки. — Он пожал плечами. — Хотя это и неудивительно, ведь он вряд ли знал, куда писать. — Генри, послушай. Уайэтт еще больше нагнулся над столом, но так, чтобы не угодить в лужицу пролитого эля. — Да? — Я собираюсь съездить домой, в Хантингдоншир. — И я тоже, перед тем как торговаться насчет собственного судна. Было бы здорово повидать стариков. Питер отвернулся икрикнул, чтобы ему принесли еще эля и порезанного окорока, затем хлопнул кузена по спине. — Это верно. Расслабься, Генри. Мы свои люди. Думаю, времени у нас хватит, чтобы съездить туда и вернуться до того, как сэр Уолтер Ралей начнет собирать еще одну экспедицию на этот остров Роанок и в Виргинию, о которых я только что говорил. Ты сам моряк и должен знать, что такие экспедиции никогда не выходят в море не то что в назначенный срок — даже в ближайшие к нему дни. — Что правда, то правда, — согласился Уайэтт, извлекая из тарелки кончиком ножа, вынутого из ножен, сочный кусочек окорока, приправленного нарезанным луком. — Не люблю ходить далеко пешком, поэтому завтра давай-ка поинтересуемся, какое судно может идти в Уош. А пока все же послушай меня, я тебе такое расскажу о том, что случилось в гавани Бильбао. Питер выпучил на него ярко-синие глаза. — Боже милостивый! Уж не был ли ты на «Первоцвете»? Уайэтт усмехнулся и кивнул головой. — Да, кузен, был — и в качестве помощника капитана Джона Фостера. И к тому же не далее чем вчера днем я побывал на личном приеме у ее величества всемилостивейшей королевы!Глава 7 В УСТЬЕ РЕКИ
От берега в глубь материка медленно уплывали призрачные клубы пахнущего солью и словно подкрашенного серебром тумана, все больше ограничивая путнику дальность видения. Солнце, хоть и стояло уже высоко, создавало лишь странное бледное сияние, превращавшее в темные нереальные силуэты те изогнутые ивы и камышовые заросли, что были видны со скверной проезжей дороги, убегавшей на юг от Саттон-Бридж в сторону деревни Уизбек. По дороге, потея под толстыми флотскими шерстяными плащами, в тяжелых матросских башмаках, не разбирая луж воды и грязи, шагали двое высоких мужчин. Между ними под тяжелой поклажей плелась тощая жалкая лошаденка с тонкой, как у овцы, шеей и низко опущенной головой с уныло свисающими ушами. Время от времени, по мере того как дорога, петляя, проходила по обширному болоту, простирающемуся в глубь материка от широкого устья реки Уз, края дороги лизали языки воды, пробивающейся сквозь тростниковую преграду. Из болота доносились слабые звуки: то кряканье кормящихся диких гусей, то довольное клохтанье дикого селезня, дремлющего поблизости с туго набитым зобом. В окружающем мраке и холоде тяжело вился гнилостный запах обнаженных отливом илистых берегов и бесчисленных стоячих заводей. Тот из спутников, что был покрупнее, шлепнул лошадь посохом по заду. — Дай Бог, чтобы эта проклятая дорога не раздвоилась, — проворчал Питер Хоптон и стряхнул капли влаги с короткой светлой бороды, подстриженной «под кинжал». Fro глубоко посаженные ярко-синие глаза глянули направо, потом налево. — Черт побери, Питер, — отвечал Уайэтт, вглядываясь в плывущий туман, — могу только сказать, что мы, наверное, последние смертные, кто остался на белом свете. — И увидел, как Хоптон довольно невесело кивнул ему по другую сторону от запачканного сажей брезента, наброшенного на поклажу, что везла на себе их лошадь. — Гиблое место это болото. Наверняка здесь леших и колдунов до черта. — Да, Питер, действительно кругом одна хмарь. Будет повеселее, когда зашагаем по более высокой местности. Лучше смотреть в оба: этот туман — лучший друг бездомных бродяг и разбойников. Пальцы Уайэтта сомкнулись на эфесе той самой испанской шпаги, что была им добыта в бою на борту «Первоцвета», и, ощутив ее рукоять, моряку стало гораздо спокойней. Пусть Питер красуется эффектной испанской рапирой, добытой бог знает где и как. Когда дело примет дурной оборот, он, Генри Уайэтт, просто обернет своим матросским плащом левую руку, чтобы ею защищаться, и отобьет любого нападающего, снабженного подобным оружием. Кузен его, заметил Уайэтт, в этом призрачном свете выглядел более широкоплечим и могучим. В них обоих проявлялись определенные характерные черты Хоптонов: например, у них были крупные головы, широкие брови и высокие мощные скулы. С тех пор как Питер в последний раз расстался со своим кузеном, чей-то клинок задел переносицу его короткого толстого носа и оставил на нем бледно-красный шрам, идущий по диагонали. В мочке правого уха у Питера ритмично, в такт его шагам, покачивалась изящная золотая серьга с вправленной в нее жемчужиной. Когда Уайэтт неожиданно поднял руку, усталая лошадь тут же остановилась и еще ниже опустила голову средь свивающихся в кольца полосок тумана. Питер, надежно защищенный от непогоды низкой короткополой кожаной шляпой, приложил ладонь к уху, чтобы послушать, о чем же хочет предупредить его Генри. — Э? — прошептал он. — Что-то не так? — Мне послышались голоса, — пояснил Уайэтт, в то же самое время пробуя в ножнах свою испанскую шпагу. Братья замерли и не двигались долгое время, напряженно прислушиваясь к тишине, а вокруг них завихрялись колечками холодные, кисло пахнущие миазмы болот. Наконец туман немного рассеялся, и проступил черный искривленный силуэт ивы. Ветки ее издавна обрубали и наверху образовалась раскидистая свежая крона. Уайэтт улыбнулся слегка глуповатой улыбкой, снова берясь за недоуздок. — Скорее всего, какие-нибудь гуси. Черт его побери, этот мерзкий и липкий туман! Проникает сквозь шерсть и кожу, как через траву. Оба в молчании возобновили свой путь, и снова зачавкали по грязи их тяжелые башмаки. — Как думаешь найти своего отца? — наконец поинтересовался Питер. В голос рыжеволосого путника прокралась горькая нотка самоупрека. — Бог милостив, если он не в богадельне. Вместе с бедной моей матерью. Мне бы следовало написать им хотя бы одно письмо несколько месяцев назад, но, черт побери, Питер, я всегда был скверным писакой, и им это хорошо известно. — А как насчет Мэг? — спросил Хоптон, таща лошадь через заболоченную ямину. — Она еще жива? — Да, насколько я знаю. Больше всего я беспокоюсь о бедной сестренке Мэг. С тех пор как кипяток испортил ей лицо, она стала несчастней лисицы, у которой отняли лисят. Только недавно я лишь начал догадываться, что это значит для миловидной девчонки — вдруг обнаружить, что лицо ее изуродовано. Питер кивнул и рывком натянул свой темно-зеленый плащ повыше на массивные плечи. — Бедняжка Мэг. Уайэтт похлопал по тяжелой кожаной сумке, надежно привязанной к его поясу. — Того, что у меня здесь благодаря щедрости ее милосердного величества, должно хватить на добротную новую юбку для нашей бедняжки Мэг, чтобы снова заставить ее улыбаться. Верно, братишка? Его спутник вдруг дернул за недоуздок и, остановив лошадь, обнажил длинную рапиру с эфесом корзинкой: в плывущем тумане с пугающей неожиданностью возникли две человеческие фигуры. Уайэтт тоже услышал тревожные звуки. Клинок его шпаги с мягким шуршанием вышел из ножен. При виде путников с лошадью один из двух призраков выхватил из-за пояса тяжелый топор, а другой угрожающе поднял увесистую дубину, головка которой поблескивала железными остриями. — Кто вы такие и куда путь держите? — спросил стоящий ближе высокий мужчина. — А по какому праву осмеливаетесь вы это спрашивать, — отпарировал Уайэтт. — Стойте, где стоите, и рассказывайте о себе. Оба незнакомца опустили свое оружие и попытались улыбнуться. — Мы всего лишь бедные странники, заблудившиеся в этом проклятом тумане. Люди добрые, дайте нам корочку хлеба и позвольте пойти вместе с вами, в компании безопасней. В то время как Уайэтт вглядывался в двух скверно одетых, исхудалых и вызывающих жалость встречных, неясно виднеющихся в медленно тающем тумане, Питер уже добродушно заметил: — В самом деле, братишка, этим ребятам, похоже, действительно туговато как с оружием, так и с провиантом. Может, дадим им перекусить и пусть идут вместе с нами? Уайэтт ответил не сразу. Может, там, за пеленой тумана, затаились еще такие же? Он посмотрел во все стороны, но за двумя жилистыми незнакомцами разглядел лишь верхушки рогоза и ряд тускло мерцающих луж. — Дадим им полбуханки хлеба да кусок сыра — и пусть идут своей дорогой. Путь этот опасен: помнишь, в Саттон-Бридже констебль нас предупреждал, что эти болота так и кишат всевозможным жульем и бродягами? — Клянусь, мил человек, что мы не из их числа. — Более рослый приблизился, засовывая топор с широким лезвием за широкий кожаный пояс. — Ради Бога, джентльмены, — канючил другой, — поверьте, что мы никакие не убийцы-разбойники, а всего лишь бедные фермеры, которых разорило огораживание общинных земель и которые идут теперь искать работу в город Хантингдон. Мы почти валимся с ног от голода — и Дик и я. Нотка искренности, ясно проскользнувшая в голосе говорящего, убедила Уайэтта. Он слишком хорошо сознавал, что многие мелкие фермеры по всей Англии вынуждены были стать бродягами из-за огораживания того, что раньше было общинными хозяйскими землями, с целью превращения их в частную собственность. — Ну, тогда вам позволяется присоединиться к нам, — решил Уайэтт. — И все же шагайте впереди нас и ради вашего же собственного блага не поднимайте ни малейшего шума и не делайте неожиданных резких движений. — Благослови вас Господь, добрые люди, — щербато заулыбались и одетый в лохмотья, и его босоногий спутник. — Давно уже с нами никто не разговаривал по-человечески. После того как были извлечены обещанные хлеб и сыр, четверо мужчин зашагали в молчании, нарушаемом лишь чавканьем ног и копыт по скверной, изрезанной глубокими колеями дороге. Наконец они ступили на чуть более высокую местность, заросшую ивами, березами и ольховником, часто подступающими прямо к дороге. Уайэтт почувствовал в кончиках пальцев покалывание и напряженность. Где-то там, в тумане, ему послышались тихие голоса. И еще один мягкий сосущий звук, словно кто-то вытаскивал ногу из грязи. Но, может быть, это всего лишь олень со своей оленихой — и больше ничего? — Эй вы, идите ровнее, — предупредил Уайэтт, рассчитывая, что громкий его голос приникнет в самую чащу окружающего леса. — Одно неверное движение — и двое бродяг лягут трупами в эту трясину. — Мы же поклялись всем святым, что мы бедные, но честные люди, — недовольно проворчал тот, что был пониже, с дубиной. — Нас вам бояться нечего. — Эту успокаивающую» фразу он прокричал так же громко, как и Уайэтт свое предостережение. А не подчеркнул ли он малость слово «нечего»? Так или иначе, но из подлеска не исходило больше ни звука. Их медленное продвижение продолжалось около часа, и вот наконец отвратительная дорога постепенно пошла на подъем. В то же время и туман поредел настолько, что стали видны небольшие пастбища, и группы деревьев, и даже домик из серого камня, заброшенный, с провалившейся крышей. Развалюха стояла, окруженная молодым сосняком, проросшим на месте, должно быть, когда-то колосившегося хлебного поля. Всем четверым путникам картина эта оказалась до боли знакома. По всей Англии можно было увидеть сотни подобных брошенных на волю судьбы крошечных наделов, владельцев которых довели до голодной смерти или выгнали прочь после огораживания их общинной земли каким-нибудь богатеем во время кровавого и несчастливого царствования Филиппа и Марии. Все эти беды произошли из-за того, что цена на шерстяную ткань, идущую на экспорт в Германию и Скандинавию, поднялась на такую неимоверную высоту, что владельцы щедрых зерновых полей перестали выращивать жито и начали разводить овец. В результате такого перехода от земледелия к овцеводству появились, с одной стороны, совершенно новый денежный класс, а с другой — огромная армия честных мужчин и женщин, лишенных своих наделов и доведенных до отчаяния безработицей. По мере того как солнечный свет прогонял этот серебристо-серый мрак, окутавший болота, настроение у Уайэтта поднималось. Как славно было сознавать, что с каждым шагом он все ближе к Сент-Неотсу, к родному дому и к милой Кэт Ибботт. Но в то же время сомнение не давало ему покоя: а вдруг сквайр Эдвард Ибботт*["317] осуществил свое намерение и помолвил свою старшую дочь с человеком более подходящим, более прочно стоящим на ногах, более близким к нему по общественному положению, чем безземельный моряк? Ведь у Генри Уайэтта нет за душой ни шиллинга лишних денег и за последние два года о нем не было ни слуху ни духу. Надо же быть таким круглым идиотом, чтоб не писать домой почаще! Нахмурившись, он поспешал за двумя бродягами в обносках, торчащих из-под козьих кафтанов, бредущих уныло повесив безобразно косматые головы. При полном свете дня они выглядели еще более покинутыми и одинокими, чем сквозь недавнюю дымку тумана. Когда дорога наконец стала посуше, Питер остановил вьючную лошадь. — Теперь, мужики, бояться вам нечего и дорогу свою вы найдете, так что ступайте своим путем — и да сопутствует вам более удачливая судьба. — Вы были так добры к нам, несчастным оборванцам, — ухмыльнулся вдруг тот, что был покрупнее. — Вот вам моя рука, буду всегда рад услужить вам. — И он протянул грязную пятерню с узловатыми пальцами. Уайэтт, улыбаясь, пожал ее и вдруг обнаружил, что кисть его стиснута, словно капканом. Питер, однако, отскочил в сторону и резко пригнулся под дубиной второго разбойника, внезапно описавшей круг над его головой. С хриплым торжествующим мычанием первый сильно рванул Уайэтта к себе, но левой рукой моряк успел схватиться за кинжал, что висел у него на поясе. Одна лишь лошадь, опустившая словно молью изъеденную голову, оставалась безучастной свидетельницей происшедшей затем молчаливой, но отчаянной схватки. Напавший на Уайэтта, похоже, еще не был знаком с новыми приемами борьбы, завезенными недавно из Италии, когда фехтование шпагой дополнялось применением кинжала. Захватив и обезвредив правую руку Уайэтта, предназначенную для шпаги, разбойник уже мнил себя победителем и только тогда распознал свою гибельную ошибку, когда кинжал моряка пронзил ему предплечье правой руки. Питер тем временем схватился с другим злодеем, меньшего роста, и, в основном благодаря своей силе вырвав у него дубинку, с глухим стуком опустил ее на засаленную шапчонку из грубой коричневой шерсти. Издав хриплый звук, похожий на кашель, тот рухнул без движения на утоптанную грязь дороги. Все происшедшее не заняло и полминуты.Глава 8 ПОДСУДНОЕ ДЕЛО
Таверна, что стояла на распутье в глубине Рамсейского леса, не могла претендовать на какую-то исключительность. Кажущиеся карликами по сравнению с разросшимися вокруг гигантами дубами четыре фронтона «Пестрого быка»с подернутой зеленью мха соломенной крышей говорили о том, что это скорее бедный постоялый двор, нежели гостиница. Однако из старой кирпичной трубы ободряюще густыми клубами поднимался грязновато-сиреневый дым. Вокруг в хаотичном беспорядке были разбросаны наружные постройки, такие, как амбары, овчарни и уборные. Один из сараев стоял, сильно накренившись вперед к широченной луже, разлившейся прямо перед главным входом в гостиницу. В ней, утопая по бабки в воде, застыла троица тощих белых с красными пятнами коров, с любопытством взирающих на пришельцев, а также несколько перепачканных грязью свиней и дюжина серых и белых гусей. От изучения с более близкого расстояния гостиница нисколько не выигрывала. На ее штукатурке и деревянных стенах налип не один слой грязи, разбрызгиваемой копытами копошащихся в жиже животных, а в маленьких окнах уцелевших стекол в свинцовой оправе уже оставалось меньше, чем было отсутствующих. — Нечего сказать, привлекательное местечко, — кисло сморщился Уайэтт. — И к тому же поблизости, похоже, нет ни одной деревни. Он отвесил своему связанному унылому пленнику хороший удар ногой по «корме». — Постыдись, Питер! Даст Бог, мы найдем констебля и подарим ему эту ходячую падаль. Из таверны во двор, все еще сжимая в руках кружки с пивом, высыпали, чтобы получше разглядеть новоприбывших, несколько человек: завсегдатаев, странствующих торговцев, гуртовщиков и тому подобного люда. Солнечный свет, слишком яркий для этого раннего июньского вечера, придавал теплоту этой сцене. Уайэтт, петляя средь ям с жидкой грязью, пробрался к железной двери. — Мы привели с собой парочку заслуживающих виселицы негодяев. Нет ли тут поблизости констебля? Вперед, шаркая ногами и опираясь на вырезанную из боярышника палку, вышел сутулый старик в запачканном пищей холщовом рабочем халате, бегло взглянул на двух загорелых юношей и костяшками пальцев поправил на лбу свой чуб. — К вашим услугам, юные господа. Итак, вы поймали этих разбойников — и уж конечно в болотах? — Он озорно хихикнул. — Боже! Ну и здоровенных же мерзавцев вы привели мне сюда. Долго и весело будут плясать они на виселице. — Но как насчет главного магистрата графства или констебля? — Увы, по эту сторону от Уорбойса вы не найдете ни одного констебля. — Типун тебе на язык, старый хрыч! — прорычал один из пленников по имени Дик, зло сощурив красноватые глаза. — Вот увидишь, лопнут твои старые гнилые ребра, когда ты будешь смотреть, как пара бедных олухов болтается на перекладине только потому, что их фермы огородили и им нигде не нашлось честной работы. С ожесточением смотрели двое бродяг на все возрастающее число неопрятных детей, гостиничных слуг и проезжих. Питер отвесил высокому хорошего тумака, и тот едва устоял на ногах. — Прибереги свои слюни. Лучше расскажи народу, как вы со своим гнусным дружком пытались обмануть и укокошить пару честных моряков, только что вернувшихся из-за морей на родину. — Моряки? — Интерес толпы моментально возрос. — Вы были на островах испанского короля в Южном море? Верно, что богатств там столько, что стоит только нагнуться и подбирать? — Вы видели морских коньков-людоедов… или… или циклопов? Уайэтт чуть устало начал соскабливать иссиня-черную грязь со своих башмаков и позволил лошадке обглодать травянистую кочку. — Все в свое время. Мастер Хоптон за несколько кружек эля расскажет вам о своих поистине чудесных приключениях в Америке. — Он ухмыльнулся. — Я ручаюсь, что они утолят ваше любопытство. — Верно. — Питер добродушно потащил за собой своих пленников. — И если вы хорошо меня накормите, я расскажу вам о жемчуге Виргинии, крупном, как яйца малиновки. Держа загрубелые красные руки сцепленными на своем нечистом кожаном фартуке, вышел трактирщик, сухопарый желтолицый человек. Он опытным проницательным глазом оглядел этих крепких молодых парней и совершенно точно отнес их не к низкому или благородному люду, а к представителям того нового класса моряков-торговцев, который за последние годы становился все более зажиточным и влиятельным. — Добро пожаловать, юные господа, — заверещал он. — Рады угостить вас всем самым лучшим, что имеется в «Пестром быке». Надеюсь, вы почтите меня своим посещением? Уайэтт сделал вид, что еще раздумывает. — Ладно, мы останемся у вас, если, конечно, вы подыщете местечко, куда можно надежно упрятать этих голубчиков до прибытия констебля. Хозяин повернулся, подозвал здоровенного детину и сказал: — Есть у меня помещение, откуда и горностаю не ускользнуть. Диккон, проводи-ка этих юных джентльменов в каменную кладовую для молока. Ручаюсь, что она прекрасно сохранит этих шаромыжников. Эй, Стивен, — окликнул он долговязого красноносого малого, — седлай мою караковую кобылу, скачи в Уорбойс и приведи сюда эсквайра Эндрю Тарстона. Уж мы позаботимся о том, чтобы шеи у этих негодяев вытянулись как следует. Неуклюже из-за туго связанных рук рослый разбойник бухнулся на колени перед Уайэттом, вращая глазами в безумном отчаянии. — Вы же не отдадите нас палачу? Богом молю вас! Два года назад я, Джим Тернер, был честным фермером и не покладая рук работал на собственной земле рядом с Олкмундбери. — И он потащился вперед по грязи и коровьему навозу. — Ради Бога, пошлите туда человека и убедитесь, что я говорю правду. Вы пошлете? Пошлете? Исхудалое его лицо с глубокими морщинами задрожало, затем, видимо заметив в выражении лица Генри Уайэтта сострадание, он подтащился еще ближе. — Добрый человек, великодушный человек, разве вам удача никогда не изменяла? Вас не гоняли пинками от поместья к поместью, от фермы к ферме, от одной лавки к другой, как какого-нибудь жалкого шелудивого пса? Послушайте, молодые люди, мы с Диком вовсе не настоящие разбойники с большой дороги — а иначе мы бы так глупо не провалили это дело. Его заросшее лицо с запекшейся на нем грязью дернулось от избытка ужаса. — Не передавайте нас палачу — ведь и вам когда-нибудь придется взывать к милосердию. Уайэтт заколебался в нерешительности. В этом задыхающемся от страха голосе он, кажется, узнал речь многих запыхавшихся парней, которые перелезали через борт «Первоцвета», едва успев спастись от почти уже схватившего их за пятки закона. Впоследствии многие из этих преследуемых законом показали, чего они стоят на самом деле. Но как бы там ни было, от моря было сейчас далеко. И разве этот Джим Тернер и его косматый товарищ не пытались ограбить их и убить — предательски, зверски? — Припаси свое красноречие. Счастье для вас, что это Англия, где вам, можете не беспокоиться, даруют справедливый суд, — напомнил Питер не без доли мрачного юмора, — и наказание, в соответствии с законами милосердного ее величества. Слуги таверны с помощью ругани, вил и дубинок загнали незадачливых разбойников в молокохранилище — прочное каменное строение без окон и с массивной дубовой дверью, окованной железом. — Это хорошо, что вы добрались до крова еще засветло, друзья мои, — заметил дюжего вида странствующий торговец с дальнего конца конского двора. Там он руководил подмастерьями, разгружающими ряд тяжело нагруженных ломовых лошадей. Его обоз, должно быть, ездил далеко, поскольку покрывающий его брезент был заляпан подсыхающей серо-голубой глиной. Подмастерья, голодные с виду юноши, облаченные в бесформенные бумазейные куртки и обтрепавшиеся снизу байковые штаны, составляли тяжелые корзины на сухую землю. Несмотря на усталость, они все же посматривали на молоденьких разносчиц пива. Уайэтт заметил, что у них наготове припасены дубинки и палки. — Верно, как говорит наш друг-коробейник, благоразумно еще до темноты найти убежище — такое, как у меня, — заверил красноносый трактирщик своих новых гостей. — По этим болотам разгуливают опасные банды разбойников и старых солдат; им перерезать кому-либо глотку все равно что помочиться. — А что у вас за товар? — обращаясь к странствующему торговцу; поинтересовался Питер. — Есть ли у вас какие-нибудь симпатичные вещицы, чтобы порадовать парочку знакомых мне близняшек? — Молодой человек, я тот, кто вам нужен, — заявил торговец, сбивая ногами грязь с очень высоких, выше колен, сапог. — В тех корзинах у меня есть отрезы очень хорошей шерстяной ткани голубого, алого и пурпурного цветов и полотно, воздушное, словно вы видите эту сторону рая. То что нужно для воскресного или для свадебного женского платья. Куда путь держите, можно полюбопытствовать? — В Сент-Неотс, тот что в Хантингдоншире. — Сент-Неотс? — Странствующий торговец поджал толстые губы и сдвинул на затылок засаленную черную габардиновую кепку. — Сент-Неотс? Вот те на! Я что-то слышал об этом местечке, и притом не так давно. Расстегивая ремни, которыми поклажа крепилась к лошадиной спине, Уайэтт поинтересовался: — И что же такое вы слышали? Ну, говорите, смелее. — Сейчас, хоть убей, не могу вспомнить, но, может, хороший глоток пива освежит мою голову. Питер Хоптон легко перекинул тяжелый тюк со спины лошаденки себе на плечо и направился к двери таверны. В это время во двор ее въехал крепкого телосложения седоволосый мужчина в выцветшем на солнце темно-зеленом дублете, красных, плотно обтягивающих ногу штанах и тяжелых верховых сапогах. У него под седлом была хоть и нечистокровная, но хорошо ухоженная бурая кобыла. Уайэтт заметил, что сюртук незнакомца из рыжевато-бурой простой деревенской кожи, что ворот и рукава украшены фестонами; стальные с серебряной отделкой шпоры придавали ему вид довольно потрепанной элегантности. По наличию пары миниатюрных перекрещенных серебряных жезлов, подвешенных на тяжелой цепи из того же металла, Уайэтт сделал для себя вывод, что этот жилистый, с ястребиным лицом джентльмен не просто какой-то констебль, а, безусловно, шериф этой части графства. Вслед за ним ехали двое лучников в остроконечных стальных шлемах, полукирасах, в кожаных куртках и штанах. Не спеша тот, кто оказался эсквайром Эндрю Тарстоном и кто действительно был шерифом Хантингдоншира, спешился, несколько раз присел, разминая длинные ноги, затем, сняв рукавицы, важно прошествовал туда, где перед входом в таверну стояли двое кузнецов. Пока он приближался, Уайэтт заметил, какие у него необыкновенно проницательные черные глаза со странным металлическим блеском; еще он отметил узкую прорезь рта и каштановую с сединой раздвоенную бородку, в которой было что-то воинственное. Уайэтт поклонился и снял свою низкую зеленую шляпу; Питер неловко последовал его примеру. — Ваше занятие и положение? — сухо спросил Эндрю Тарстон. — Мы моряки, возвращаемся домой после долгого отсутствия, — без всякой заминки объяснил Питер. — Я лодочник-канонир, а вот Генри — он помощник капитана торгового судна и скоро будет капитаном своего собственного. Затем шерифу вкратце сообщили о нападении разбойников. — Хорошо, дело ясное: попытка ограбления и убийства. Где сейчас эти молодчики? — Хозяин таверны упрятал их в каменное молокохранилище. — Ну-ну. Утром я их допрошу — я ведь к тому же и мировой судья, — небрежно прибавил он, — а потом мои люди повесят их аккурат на том самом дубе, что позади перекрестка. — Шериф тяжело вздохнул и стряхнул с ярко-синих французских бриджей прилипшую грязь. — Боже, эта страна перестала бояться законов! Вчера я приказал Длинному Уильяму, вон тому самому, повесить шайку воров, которые украли и съели одну из призовых овец сэра Роберта Кинсмена. — Скольких же повесили, ваша честь? — поинтересовался хозяин таверны, смахивая пену с пива, которым он угощал эту очень важную персону. — Спасибо, Эгберт, жуткая жажда. — Эсквайр вытер тонкие губы и только тогда, издав короткий смешок, отвечал: — Мы вздернули целую дюжину. Признаюсь, дело это не очень-то приятное, но моральное, очень моральное. Кражам овец нужно положить конец. Но все равно мне не нравится вешать мальчишек и женщин, да в общем-то и Длинному Уильяму тоже. Они так горько рыдают, что трогают его нежное сердце. Верно, Уилл? — С этими словами он почесал жесткую седеющую бородку и одновременно подмигнул дюжему черноволосому лучнику, занятому расседлыванием лошади шерифа. На спине Уильяма висел длинный лук в красивом футляре вместе с колчаном, полным стрел длиной в ярд.*["318] — Скажите, пожалуйста, ваша честь, что нового насчет суда над ведьмами в Хантингдоне? — спросил фермер в синем холщовом халате. — Видишь ли, мой добрый друг, — с печальным видом отвечал эсквайр Эндрю, — их признали виновными. Всех трех приговорили к повешению, чтоб серьезно предупредить всех тех, кто желал бы продать свою душу дьяволу. — Вот бы посмотреть, как их казнят! — вздохнула служанка, которую послали наполнить кружки. — Я от этого просто балдею. Бог ты мой, вот будет зрелище так зрелище. — Это дело, похоже, всех взбудоражило, — заметил Уайэтт. — Еще бы. Об этом суде над ведьмами уже девять дней в деревнях только и говорят. При упоминании о ведьмах сидящие в пивном баре почувствовали беспокойство и тревогу и заговорили громче, чем было нужно, как если бы успокаивали и убеждали себя, что среди них нет никаких ведьм или же иначе они бы сами могли подпасть под подозрение. Питер медленно покачал своей крупной желтоволосой головой: — Не нравится мне это. А были ли представлены убедительные доказательства их колдовства? — Спокойно, молодой человек, — посоветовал шериф, вытирая бороду тыльной стороной руки. — Да, было убедительно доказано, что эти поклонницы дьявола заколдовали насмерть бедную леди Эддисон и обеих ее внучек. — Спаси нас Бог! — воскликнул Уайэтт. — Они же наши соседи! Пока Уайэтт пристраивал поудобнее свою тяжелую испанскую шпагу в кожаных ножнах, эсквайр Эндрю убрал бесполую зеленую шляпу и подался вперед, держа локти на столе. — В самом деле? Тогда я расскажу, что знаю сам, а знаю я много, поскольку присутствовал на мирском суде над этими колдуньями: со мной еще были сэр Генри Кромвель, мастер Бакбэрроу и сэр Уильям Джекмен — главный констебль Хантингдонского графства. — Он в упор посмотрел на Питера. — Никто в моем присутствии не будет отрицать, что более справедливых людей еще не носила земля. К слушателям шерифа присоединилась группа плотников, приехавших, чтобы построить еще один из тех многочисленных барских особняков, которые возникали в этих окрестностях благодаря процветающей торговле Хантингдоншира шерстяными тканями со Скандинавией и Ганзейскими портами на Балтике. Поварята, судомойки, конюхи и горничные тоже сгрудились вокруг эсквайра Тарстона, прямо сидящего в деревянном кресле, установленном перед большим камином. На противоположном от каминного наличника конце толстый вспотевший повар тоже пытался слушать, ощипывая жирного гуся. Разнообразные тощие дворняжки разгуливали по таверне и обнюхивали башмаки приезжих, перед тем как обескураженно улечься у стены и заняться вылавливанием блох. — Дело это нечистое, — стал рассказывать шериф, — началось оно около года назад. Началось с того, что леди Эддисон, муж которой — крупный в графстве землевладелец, стала мучиться странными припадками. Во время этих припадков она обвиняла свою соседку, некую матушку Энн, в том, что у нее имеется дьявольский домовой в виде коричневатого цыпленка. Вскоре после того, как начались эти припадки, леди Эддисон поехала навестить свою дочь, госпожу Хендерсон, живущую в Партоне. — Вскинув бровь, он посмотрел на Уайэтта. — Знаете, где находится это местечко? — Да. Партон — это деревушка примерно в двух милях от Сент-Неотса. — Так вот, было установлено под присягой, что вскоре после прибытия леди Эддисон к Хендерсонам у внуков ее начались такие же припадки — к большому огорчению госпожи Хендерсон, которая не могла удержаться от слез. По таверне пробежал тихий ропот. Взоры, сосредоточенные на ястребином лице говорящего, по-разному выражали недоверие, благоговение и ужас. — Поэтому госпожа Хендерсон послала за этой старухой Энн, о которой ей было известно, что она искусна в делах медицины. Поскольку муж ее был арендатором сэра Джона Эддисона, старая ведьма не посмела отказать, но, как только она явилась к госпоже Хендерсон, детям стало намного хуже. Тогда леди Эддисон отвела матушку Энн в сторону и резко обвинила ее в колдовстве. Та упрямо это отрицала, заявляя, что госпожа Хендерсон и леди Эддисон очень ее оскорбили, обвинив без всякой причины. Один из лучников шерифа, устроив лошадей на отдых, вошел в таверну и наступил на хвост дремавшей собаки. Пронзительный визг несчастной твари заставил всех присутствующих вздрогнуть от неожиданности, словно это сам нечистый дух внезапно заговорил среди почерневших от дыма балок. Как только потревоженное животное пинками заставили замолчать и лучник неуклюже пробрался на место рядом с камином, Эндрю Тарстон снова продолжил рассказ своим ровным, степенным голосом: — Леди Эддисон отвечала, что ни она, ни ее дочь не обвиняют матушку Энн, но одна из внучек, девочка по имени Эллен, когда у нее начался припадок, закричала, что все это из-за старухи. Девочка — и это было клятвенно подтверждено — пролепетала: «Даже теперь я слышу, как что-то громко пищит у меня в ушах. Это мне так надоедает. Разве вы не слышите?» — Храни нас Господь! — пробормотал один из плотников с круглыми от страха глазами. — Вот уж и впрямь нечистое дело. Шериф рассеянно погладил по голове глазастого карапуза, который приковылял к нему, совершенно не смущенный тем обстоятельством, что на нем из всей одежды была лишь ветхая рубашонка, настолько рваная, что насчет его пола не оставалось никаких сомнений. — Да, это верно. Матушка Энн продолжала отрицать свою причастность к колдовству, и леди Эддисон велела препроводить ее в кабинет, где некий Джеймс Уинтер, доктор теологии, смог бы изучить ее более внимательно, но матушка Энн отказалась оставаться и выбежала, после чего леди Эддисон, видя, что ей не удается одержать верх, сорвала с матушки Энн косынку и, взяв ножницы, отстригла клок ее волос и тайно отдала его госпоже Хендерсон вместе с завязкой, повелев ей все это сжечь. Генри Уайэтт беспокойно пошевелился на своей не имевшей спинки скамье. Как ни странно, от рассказа Эндрю Тарстона ему стало здорово не по себе. Для немцев, французов, испанцев было вполне нормально пытать, сжигать и вешать бедолаг, подозреваемых в причастности к колдовству, но ему такое наказание казалось чем-то таким, что для Англии чуждо — несмотря на тот факт, что это продолжалось уже веками. «Держи язык за зубами, Генри, — молча посоветовал он себе. — Возможно, тут что-то есть, в этой истории, связанной с черной магией». Только звяканье вертела, приводимого в движение специально обученной крупной собакой, нарушало тишину до того, как эсквайр Эндрю возобновил свой рассказ. Он понизил голос и уставился на угли, тлеющие в камине. — Той же самой ночью к леди Эддисон, странное дело привязался кот, которого, предполагала она, подослала к ней матушка Энн. Эта любимая ведьмами тварь предлагала содрать с ее тела всю кожу и мясо. Женщина так разволновалась в своей постели и издавала такие странные звуки, разговаривая с котом и с матушкой Энн, что разбудила свою дочь, госпожу Хендерсон. После этого случая бедная леди почему-то все болела и болела — и так до тех пор, пока около шести месяцев назад не умерла. Питер Хоптон хмыкнул, подался вперед и выставил перед огнем широкие ладони с короткими пальцами. — В чем же проявлялась эта ужасная болезнь, ваша честь? — Сию леди и ее внуков осаждали боли то в одном, то в другом участке тела, причем пораженный участок подрагивал, словно в параличе. Однако они оставались в ясном сознании. То и дело леди Эддисон повторяла слова матушки Энн: «Мадам, я вам пока не причинила никакого зла!» Спустя некоторое время после кончины леди Эддисон матушка Энн сильно заболела и, болея, покаялась в том, что колдовала, хотя потом эта старая ведьма клялась, что на покаяние ее толкнула слабость рассудка, что ни леди Эддисон, ни ее дочери, госпоже Хендерсон, она никогда не желала ни малейшего зла. В баре воцарилась мертвая тишина, но в ноздри Уайэтту лезли острые запахи жарящегося лука и псины. — Когда преподобный доктор Гейдж, священник церкви в Партоне, пошел, чтобы разобраться в этом деле, он застал старуху, ее мужа и дочь за разговором об этом происшествии. Он спросил ее, призналась ли она, на что бабка отвечала: «Ну да, призналась, но это неправда». Это так возмутило доктора Гейджа, что на следующее же утро он отправился к сэру Уильяму Джекмену, главному констеблю графства, и потребовал от него прислать стражников. Шериф остановился, чтобы сделать долгий глоток эля из кружки, которую красноносый трактирщик постоянно доливал до краев. — Это было сделано, и матушку Энн с дочерью взяли под стражу, с тем чтобы они могли предстать перед епископом Линкольнским в Бакдене. Их обеих доставили к епископу и тотчас же допросили. — И что же случилось потом, ваша честь? — спросил поваренок с раскрасневшимся лицом, поджаривающий на вертеле молочного поросенка, покрывающегося золотистой корочкой и приобретающего уже соблазнительно сочный вид. — Это было ужасно, — вмешался один из лучников. — Я нес вахту в зале суда, когда старую ведьму спросили, сосал ли когда-нибудь коричневый цыпленок ее подбородок и был ли он нормальным цыпленком. — По таверне прошел тихий стон, когда этот простолюдин продолжал: — Она отвечала, что дважды сосал, но с сочельника ни разу. — Лучник начал было осенять себя крестным знамением, как его научили в детстве, но вспомнил, что в нынешние времена на такие папистские знаки смотрят с неодобрением, и его большая загорелая рука после недолгого колебания опустилась. — Он сосал ее подбородок! — нервно воскликнул один из плотников. — Боже! Это же был совсем ненормальный цыпленок! Лучник, засунув руку под кожаную куртку, остервенело почесался. — Все же старая ведьма настаивала, что цыпленок был самый обычный, ибо, когда он сосал ее подбородок, она этого почти не чувствовала, а когда снимала его с себя, место кровоточило. Так ведь, ваша честь? — Так, Олвальд. Более того, матушка Энн показала под присягой, что во всех несчастьях, выпавших на долю семейства леди Эддисон, виноват этот темный цыпленок, — торжественно заключил шериф. — И я очень рад, что завтра в полдень Длинный Уильям, — он кивнул в сторону второго своего спутника, — наденет петлю на ее безобразную кривую шею. Нельзя терпеть эти дьявольские проделки. — Вилли завяжет на петле самый искусный узел во всем Восточном округе, — заверил лучник Олвальд. — Прошу вас, рассказывайте дальше о суде, — попросил Питер. Как и все остальные, он взглядом постоянно искал связку чеснока, подвешенную на карнизе. Чеснок, как всем было известно, считался лучшим средством против привидений, оборотней, ведьм и колдунов. Сегодня он намеревался попросить одну-две головки, чтобы положить себе в башмаки. — Матушку Энн и ее супруга привели к епископу Линкольнскому, сэру Генри Кромвелю и Ричарду Джойсу — оба они мировые королевские судьи. На этом допросе старая ведьма заявила, будто ей известно, что ее коричневый цыпленок отступил от больных детей, потому что он вернулся к ней и теперь лежал у нее под животом, отчего тот раздулся настолько, что на нем с трудом можно было подпоясать котт*["319], и к тому же он стал таким тяжелым, что лошадь под ней свалилась. Слушатели испуганно заахали. — Она призналась, что имеет трех таких цыплят и у каждого из них есть имя: Щип, Хват и Белый. После этого ее с мужем и дочерью отправили в хантингдонскую тюрьму до судебного заседания. Тем временем у дочерей госпожи Хендерсон продолжались мучительные припадки, несмотря на то, что старухи не было рядом, и никакие просьбы и увещевания не могли убедить ее снять свой наговор. В конце концов несчастные дети умерли в страшных корчах и судорогах, с пеной у рта. Эсквайр Эндрю Тарстон вздохнул, вид у него был очень серьезный. — На следующий же день матушку Энн, мужа ее и дочь — тоже людей недобрых — обвинили в том, что они насмерть заколдовали леди Эддисон и двух ее внучек вопреки Божьим законам и нормам поведения, установившимся за пятнадцатилетнее правление нашей милостивой королевы. Поскольку эти факты, как и многие другие, были подкреплены свидетельскими показаниями под присягой, суд в своем вердикте признал их виновными и всех троих осудил на смертную казнь через повешение завтра на рыночной площади города Хантингдона.Глава 9 ДВЕ ВЕДЬМЫ И КОЛДУН
Рано утром отряд вооруженных пиками солдат подошел к Саттон-Бриджу, чтобы оттуда отплыть на Мидвэй: поговаривали, что его светлость граф Лестер начал собирать армию для борьбы с испанским засильем в Нидерландах. Громкая ругань и грохот от пик, которые волокли по участку, выложенному булыжником, — такое оружие из-за чрезмерной его тяжести невозможно было долго нести на плече — разбудили сквайра Эндрю Тарстона, спавшего на одной постели с Питером Хоптоном и Генри Уайэттом. Прочистив горло и сплюнув на пол, сквайр Эндрю, раздраженный, с мутными глазами, прошаркал вниз по лестнице, чтобы объясниться с офицером. Им оказался довольно-таки неказистый молодой джентльмен, хоть он и был ярко одет в походный плащ, где сочетались зеленый и золотистый цвета, наброшенный на дублет и короткие голубые штаны с горчично-желтыми полосками. Голову офицера украшала очень модная плоская шляпа с алым страусиным пером, в данный момент вяло свисающим у него над плечом. Он терпеливо пришпоривал и дергал за уздцы серого жеребца, пока тот не встал на дыбы и не забил в воздухе передними копытами. Зрелище по меньшей мере было впечатляющим. Молодой джентльмен склонился над лукой седла. — Доброе утро, сэр. Что-то рано вы поднялись. Эсквайр Эндрю Тарстон, хотя лицо и поведение его выражало недовольство, поклонился в ответ. — Как тут не подняться, когда вы со своими солдатами подняли такой шум? — Тогда извиняюсь, — заявил неказистый молодой офицер. — Сегодня такое чудесное утро, что захотелось пораньше снять лагерь. Могу ли я хоть чем-то загладить свою вину? — Можете, — ответил сквайр Эндрю и, снова прочистив горло, сплюнул под ноги в лужу. — Если для пополнения ваших рядов вы не откажетесь от пары разбойников, то возьмите их у меня — и привет. — Рад услужить. — К этому времени он уже различил знак отличия шерифа — скрещенные серебряные жезлы. — А руки, ноги и зубы у ваших висельников в порядке? — Офицер говорил картавя. При дворе стало модным придавать своей речи французский, итальянский или испанский акцент. — Ручаюсь, что протянут они достаточно долго, чтобы храбро проявить себя на службе у королевы. Отряд, числом человек в восемьдесят, расположился вокруг конюшенного двора таверны, и солдаты, прислонив пики к низкой стене, окружающей фруктовый сад, стали извлекать из своих сумок еду. Одни отправились попить у места водопоя для лошадей, другие в непристойных выражениях зазывали крепконогих служанок, которые, с покрасневшими глазами и еще неумытые после ночных шалостей с постояльцами «Пестрого быка», вышли во двор, чтобы равнодушно поглазеть на этих грубых вояк. Из молокохранилища лучники Эндрю Тарстона выволокли двух незадачливых разбойников. Давно не поенные и не кормленные, перепачканные коровьим навозом, усыпанные соломой, они сопротивлялись и бранились, убежденные, что час расплаты настал. — Давайте, давайте, вешайте нас во имя справедливости! — всхлипывая, кричал тот, кто был поменьше ростом. — Сперва вы отнимаете у нас права наобщинные земли, потом огораживаете наши наделы — так что вам только и остается, что растянуть нам шеи всего лишь за то, что мы пытались выжить. До чего же докатилась Англия! Лучник Олвальд отвесил своему пленнику крепкую оплеуху. — Молчать в присутствии начальства, ты, нахальная перезрелая висельная ворона. Офицер дал шпоры своей лошади, чтобы поближе разглядеть этих грязных бедолаг с серыми рожами. — Сержант, проверьте этих шарлатанов и сообщите мне, действительно ли в порядке у них руки, ноги и зубы. Словно продавец лошадей на ярмарке, сержант разомкнул разбойникам челюсти кинжалом, вложенным в ножны, затем безжалостно потыкал им рукой в животы, выискивая, нет ли признаков разрыва внутренних органов, и, наконец, поколотил их по спинам, проверяя, нет ли у них каменной болезни. — Если у этих псов столько же силы, сколько и вони, они нам подойдут, сэр Седрик, — процедил сержант. Немного погодя вооруженную пиками роту — это войско не имело никакого огнестрельного оружия — пинками и руганью построили в шеренги, которые угрюмо двинулись в сторону болот и лежащего за ними залива Уош. Рекрутов тащили за веревки, привязанные к их шеям. Утро выдалось, по оценке Уайэтта, такое великолепное, о каком мог бы мечтать любой простой англичанин, и на самом деле почти в точности такое же совершенно прекрасное, каким представляли его себе двое этих путешественников, когда изнывали под палящим солнцем или замерзали от холода на далеких чужих берегах. Даже их вьючная лошадь и та ощутила вдруг желание поднять отупевшую голову и сонно оглянуться вокруг. Время от времени бедная скотина даже вытягивала свою тощую, как у овцы, шею, чтобы сорвать губами связку зеленых листьев с какой-нибудь низко свисающей ветви. Возможно, потому, что город Хантингдон — столица графства, где должна была состояться казнь, — располагался в противоположной от Сент-Неотса стороне, та неровная дорога, по которой пошли Генри Уайэтг и Питер Хоптон, оказалась безлюдной. Вот уже шире раскинулись поля, тут и там пересеченные вечнозелеными растениями, фруктовыми садиками и живыми изгородями, где под мягким солнцем источал аромат первоцвет. Уайэтт, откинув голову назад, глубоко вдохнул. — Ты видишь, Питер? Вон кончик шпиля нашей церкви. — Его гладкое с медным оттенком лицо расплылось в широкой улыбке. — Господи! Сколько раз болела моя бедная спинушка по воскресеньям от трехчасовой проповеди. — Он усмехнулся. — Интересно, разделил бы этот доктор Гейдж убеждение моего дедушки, что очень мало добрых душ спасается за первые двадцать минут проповеди? Он отломил веточку цветущего боярышника и воткнул ее в свою шляпу, затем несколько раз шумно вдохнул в себя свежий, душистый воздух. Солнце только что выплыло над горизонтом, заглядывая своим оком в различные балки, овраги, луга, где еще прятались серебристые туманы. На близлежащем холме, на одной из нескольких видимых глазу мельниц лениво завертелись желтовато-коричневые крылья. — Где еще, как не в Англии, братишка, можно увидеть такие прекрасные цветы, такие величественные деревья, такую жирную темную землю или такого пьяного бродячего лудильщика, как тот, что храпит вон там, под кустарником? Питер облизал пальцы, на которых остался жирный налет после съеденного им холодного поросенка. — Оставляя в стороне лудильщика, я отвечу тебе на это, Генри, и отвечу правдиво. — Где же тогда? — В Америке. Попомни мои слова, Генри, там лежит страшно богатая и все еще нетронутая земля. Леса там повыше, чем наши, поля плодородней, а дичи!.. Ей-богу, братишка, ты должен все это увидеть собственными разами! Только ленивый олух мог бы там голодать. Из-под прямых рыжих бровей Генри смерил своего спутника насмешливым взглядом. — Неужели? Тогда почему же ты ударился в плавание? Ведь в душе, знает Бог, ты всегда был фермером. Его здоровяк кузен пожал плечами. — А могут ли подобные нам с тобой иметь хоть крупицу надежды обзавестись недвижимой собственностью в Хантингдоншире? Кроме того, хибара моего папаши стала кишеть клещом, когда родился мой десятый — точно уж не помню какой — брат или сестра. — Питер весело рассмеялся. — Однажды папаша вызывает меня из коровника. «Питер, — говорит он мне, — по-моему, ты уже достаточно стал мужчиной, чтобы постоять за себя. Вот тебе шестипенсовая монетка на удачу и на первую еду — и ступай себе с Богом. Только не забывай, — говорит он, — всегда прикладывать руку к шапке перед начальством и исправно служить Богу и королеве. Помни это, мой мальчик, и ты не заблудишься». Хоптон окинул рассеянным взглядом стадо белых с рыжими пятнами на боках коров, замешкавшихся в высокой траве на берегу мельничного пруда. — Но почему ты, как и я, отправился в плавание? Ты же всегда любил заниматься сельским хозяйством. — Верно, Генри, верно. Я бы с радостью пошел батраком к какому-нибудь зажиточному поселянину, но, как тебе хорошо известно, фермерам в этих краях так сильно урезали земли, что мало остается места для работника. Поэтому, услышав, что сэр Ричард Гренвилль набирает команду для экспедиции к берегам Северной Америки, я пошел с ним юнгой. — Лицо его просияло. — Бог мой, братишка, это был действительно блаженный денек! — Он завелся, и его было не остановить — как всегда, если темой разговора оказывалась Виргиния. — Пока своими глазами не увидишь эту землю, ты и представить себе не сможешь, как она велика. Ой, да в ее границах поместится дюжина Англии! Уайэтт терпеливо усмехнулся — чего он будет к нему привязываться? Пусть Питер побудет счастливым. Он даже поощрил кузена рассказывать дальше: — Тогда Америка должна быть больше, чем даже Французское королевство? — Да, раза в два-три. Ты представления не имеешь, какие могучие там реки, как обширны и богаты поля и леса. Ей-богу, там простому человеку не нужно приходить с шапкой в руке и просить у своего помещика разрешения срезать несколько прутиков. От него не потребовали бы, чтобы он перед кем-то там гнул колени, кроме Господа Бога и ее королевского величества. — Ты знаешь, о чем говорил народ, когда мы вернулись в Плимут? — Питер бросил на кузена внимательный взгляд. — Нет. И что же? — Этот знаменитый исследователь, сэр Уолтер Ралей, планирует основать постоянную колонию на этой новой земле, которую он называет Виргинией. Питер, как большой мальчишка, вдруг прошелся «колесом» среди маргариток, что клонились головками у дороги, и рассмеялся чистым, радостным смехом. — Знаешь что? Если бы мне встретилась крепкая девчонка, которая стала бы мне доброй женой и племенной кобылой, что ж, я готов участвовать в этом предприятии сэра Уолтера. Почему бы и тебе тоже не присоединиться вместе с Кэт? — Это не для меня. Кэт слишком любит свою семью и удобства. Я знаю. Кроме того, я поставил своей целью разбогатеть и прославиться, стать моряком-торговцем, наподобие сэра Джона Хоукинса, Мартина Фробишера и сэра Френсиса Дрейка. На взгорке низкого холмика оба они помедлили, чтобы перевести дыхание и полюбоваться блестящими от росы крышами Сент-Неотса. Каким щемяще знакомым казался им этот вид, весь до малейшей детали! Они могли опознать любой и каждый из стоящих домов, выпускающих из труб завитки голубовато-белого дыма. Находясь в естественной ложбине, образованной плавно закругленными и заросшими лесом холмами, деревушка выглядела чистенькой, мирной и процветающей среди окружающих ее угодий. Остатки монастыря, разграбленного и сожженного до основания во время религиозных беспорядков примерно семьдесят лет назад, теперь почти полностью скрылись под темно-зеленым плющом — лишь серая каменная кладка колокольни торчала еще из листвы и давала убежище сотням грачей. К западу, на таком удалении, что казалась игрушечной, поднималась еще квадратная серовато-белая башня — поместье сэра Джона Эддисона. На небольшом пригорке между путниками и деревней стояла еще одна веха — разваливающиеся остатки сторожевой башни, возведенной легионерами римского императора Септимия Севера. Между этой руиной и усадьбой сэра Джона располагался дом, в котором родился Генри Уайэтт. Какое-то время скромный домик Эдмунда Уайэтта оставался невидимым, скрываясь в небольшой красивой долине. Как и можно было ожидать, дорога из Сент-Неотса в Хантингдон уже покрылась ухабами от телег, сильно нагруженных различными товарами, пешеходов и скота, что гоняли на рынок. — Думаю, из-за этих казней вряд ли мы застанем кого-нибудь в Сент-Неотсе, — предположил Питер. — Мой-то старик уж точно ушел: после медвежьей травли казни для него всегда были вторым развлечением. Уайэтт ничего не ответил. Он глядел на большой, наполовину обшитый доской дом с острым коньком, жилище Кэт Ибботт. Отец ее, Эдвард, хотя по рождению и сквайр, в юности решил отказаться от своего общественного положения и заняться торговлей. Став торговцем мануфактурой, с годами он преуспел. Поскольку франклин Ибботт, как было заведено, предпочитал держать основную часть своего инвентаря на просторном чердаке над жилым помещением, его дом по размерам намного превосходил другие в Сент-Неотсе. И вот наконец помощник капитана «Первоцвета» смог различить тот красивый старинный, но плохо ухоженный домик, в котором они с Мэг столько лет прыгали, боролись и резвились, а иногда прислушивались хоть и к странным, но порой любопытным ученым рассуждениям отца. На окраине Сент-Неотса, у пруда, где поили принадлежавшую жителям деревни скотину, они встретили мальчика-подростка, гнавшего с помощью длинношерстой шавки стадо черномордых овец — путь их лежал к широкому лугу, поросшему лютиками. — Привет, Джереми! — окликнул его Уайэтт, будучи в восторге оттого, что видит первое знакомое лицо, пусть даже такое веснушчатое и глупое, как это. Челюсть у парня от неожиданности так и отвисла. — Вы… вы Генри Уайэтт, правда? — Ну конечно, и не нужно глазеть на меня с открытым ртом, как дурачок. Мы с Питером возвращаемся домой из плавания и здорово рады видеть тебя, Джем. Но русоволосый паренек продолжал таращиться, затем попятился, что-то бормоча. Он вытянул правую руку на всю длину и, сделав указательным и средним пальцами знак «Y», заорал: «Спаси меня, Боже!» — и бросился наутек, как заяц, оставив свою лохматую собаку гнать овец вслед за ним. Питер приподнял свою кожаную шляпу и пятерней почесал свою соломенно-желтую шевелюру. — И что же ты об этом думаешь, брат? Джереми никогда не отличался особым умом, но, видно, он еще больше из него выжил. Уайэтт покачал головой. — Не знаю. Что-то не укладывается у меня в голове. Чего ради этому простачку померещилось, будто я собираюсь его сглазить, и он сделал этот знак против колдовства? — Может, о нас уже сообщили, что мы погибли, и теперь нас считают привидениями, — рассудил Питер. — Моряков всегда считают погибшими, поскольку они лишь изредка возвращаются после того, как их судно вынесет бурей на какой-нибудь остров или сбежав из рабства у турок. Добравшись до окраинных строений Сент-Неотса, Уайэтт извлек из своей поклажи новый плащ из оранжевого шелка, отороченный крашеным кроликом, и повесил на шею изящную серебряную цепь, подаренную ему сэром Френсисом Дрейком при расставании. На широком бронзовом лице Уайэтта появилась улыбка предчувствия чего-то приятного. Скоро эти деревенские простаки узнают не только то, что он виделся с этим полубогом в глазах общественного мнения, с легендарным Золотым адмиралом, но и то, что он лично общался с ее королевским величеством, даже разговаривал с ней! Ей-богу, это заставит высокомерного полковника Кристофера Филлипса, семейство Уоткинсов и гордого своим богатством франклина Ибботта по-новому оценить сына старого Эдмунда. Взгляд его упал на поклажу вьючного животного. Ух! Матери здорово должны прийтись по душе яркая шаль, платок из чистого шелка и бирюзово-синяя брошь, которые он ей везет, а отцу — «Вкратце о здоровье» Эндрю Бурда, томик по медицине, который он обнаружил в книжной лавке в тени собора Святого Павла. Что до Мэг, — подождем, пока она не увидит желтое с синим платье из камлота, которое он припас для нее. В Сент-Неотсе, похоже, ничего так и не изменилось. Выскочила, как обычно, собака Джозефа, рыча и скаля зубы, затем отпрыгнула в сторону, и смелость ее испарилась, как только Питер резко взмахнул перед ней палкой. Как всегда, свиньи и куры ковырялись себе в грязи, неизменно заполнявшей единственную улицу Сент-Неотса. Выветрившийся от непогоды сельский каменный крест, воздвигнутый на площади в центре деревушки каким-то давно уже умершим норманнским рыцарем в знак осуществления своей клятвы, выглядел таким же, как всегда, серым и покрытым пятнами мха. Появилась женщина, в которой они узнали госпожу Хоулден. Она вела за руку маленького ребенка. — С добрым вас утром, мадам Хоулден! — весело крикнул ей Уайэтт. — Мы с Питером вернулись из плавания. — Смилуйся над нами! — Женщина в мгновение ока набросила на лицо ребенка свой фартук, повернулась спиной и стала смотреть в другую сторону. Старый Джоб, башмачник, узнав высокую фигуру Уайэтта, вскочил со скамейки около своего дома, выплюнул изо рта зажатые в губах дубовые гвозди, которыми он приколачивал новую подошву на башмак, и захлопнул свою дверь. — Ей-богу, наши соседи оказывают нам редкий по своей теплоте прием, — заметил Питер, еще больше озадаченный. Уайэтт ничего не сказал, но в голову ему закралось совсем небольшое, но острое, как кончик иглы, подозрение. Поравнявшись со следующей дверью, дверью булочника Симпкинса, он решительно вошел в дом и, прежде чем испачканный мукой хозяин мог улизнуть, крепко схватил его за плечо. — Что происходит? — резко осведомился он. — Я только что вернулся из-за моря. Почему все от меня шарахаются, словно бы я сам сатана? Этот старик с дрожащей, перепачканной в муке бородой в ужасе закатил глаза. — Сын и брат ведьм тоже может быть слугой сатаны. Краска ярости прилила к широким щекам Уайэтта, и он встряхнул Симпкинса с такой силой, что с фартука у того взметнулась мучная пыль. — Ведьмы? Хватит бормотать что-то несвязное и отвечай мне. Булочник отшатнулся, но все же постарался улыбнуться умиротворяющей улыбкой. — Генри, малыш, ты разве не слышал? — Слышал что? Я же говорил вам, что только что вернулся из заморских земель. Да выкладывайте же, черт вас побери! Имеет ли этот бред отношение к моей матери и моему отцу? Симпкинс кивнул, затем съежился и вскрикнул, видя мрачное выражение в синих глазах Уайэтта, когда его первое ужасное подозрение всколыхнулось в сознании с силой разорвавшейся петарды. Матушка Энн? Энн — так звали его мать; деревушка Партон — всего в нескольких милях от них, как и поместье сэра Джона и леди Эддисон! — Да поможет тебе Господь, Генри, в недобрый час ты вернулся. — Булочник вырвался из внезапно ослабевших рук Уайэтта. — Твоих отца, мать и сестру сегодня должны повесить на рыночной площади в Хантингдоне! Н-не бей меня, Генри, — лопотал он. — Я н-не имею никакого отношения к этому делу. К-клянусь! Если бы Уайэтта ударили дубиной по голове, это не произвело бы более ошеломляющего эффекта, однако он колебался только мгновение. — На который час назначена казнь? — Точно не могу сказать, Генри, — дрожащим голосом проговорил Симпкинс. — Одни говорят — в десять, другие — в полдень. Уайэтт выбежал на улицу, схватил вьючную лошадь за недоуздок и подтащил ее к двери булочной. — Берегите это животное пуще собственного ока. Если хоть одна пуговица пропадет, когда я вернусь, то глотку вам перережу. Питер Хоптон уже стремглав помчался по улице в поисках верховых лошадей. Ведь Хантингдон находился всего в восьми милях к северу. Если казнь была назначена на полдень, тогда они с Генри могли надеяться, что успеют вовремя; если же на десять — надежды не оставалось никакой. Только путем прямых угроз и нескольких крепких затрещин два кузена смогли заполучить на время, пару неуклюжих крупнокопытных фермерских лошадей.Глава 10 РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ В ХАНТИНГДОНЕ
Благодаря более длинным ногам и лучшему состоянию лошадь Генри Уайэтта влетела, тяжело стуча копытами, в окрестности Хантингдона, на добрых четверть мили опередив небольшую лошадку Питера Хоптона. Всадник тяжело отдышался и почувствовал, как напряжены его мышцы, давно отвыкшие от верховой езды. Он безрассудно настегивал плетью своего скакуна, гоня его через беспорядочные группы овец и коров, пока наконец несчастное животное не споткнулось о кормящуюся свиноматку и не свалилось бессильно на землю. Как ни дергал всадник за узду, лошадь лежала, оглушенная ударом, и только подергивалась, словно бык, прирезанный мясником. То, что так мало людей осталось присматривать за животными, пригнанными на рынок, заставило Уайэтта с ужасом осознать, что час казни, должно быть, совсем уже близок. Когда вдалеке поднялся сильный крик, тысяча фурий завыла в его ушах. Их соседи, приличные люди, как могли они все сговориться, обрекая на смерть его бедную мать-старуху из-за припадков падучей болезни, что преследовала ее с детства? Трезвые богобоязненные англичане, как могли осудить они на погибель изуродованную шрамами бедную Мэг и слабого чудаковатого отца? Да, верно, Эдмунд Уайэтт время от времени баловался химией (но не алхимией же!), и это, похоже, сильно повредило ему на суде. А ведь отец за всю свою жизнь и мухи не обидел. А леди Эддисон, такая всегда милосердная и честная дама в общине, как могла она только сплести в своем воображении такую фантастическую паутину кошмаров, что одним лишь рассказом о них можно было отправить на смерть трех несчастных, но совсем не виновных людей? Почему она это сделала? Заболела какой-то хворью, неизвестной нынешним медикам? Задыхающийся, с полубезумными от тревоги глазами, Уайэтт бежал по Коббетс-лейн в сторону рыночной площади и зала суда графства. Там, напротив этого здания, уже веками, еще с тех пор как маленькая деревня выросла и превратилась в город Хантингдон, стояла постоянная виселица. Переулок, мощенный булыжником, тянулся, петляя, меж старинных зданий, что стояли, накренившись вперед, словно хотели коснуться друг друга коньками остроконечных крыш над разделявшей их улицей. Невдалеке он услышал, как, перекрывая гул голосов возбужденной толпы, зазвучали трубы и барабаны. — Боже милостивый, дай мне успеть! — Почти ослепший от пота, он услышал, как его догоняет, стуча тяжело копытами, лошадка Питера. Уайэтт обернулся назад и, задыхаясь, крикнул: — Скачи вперед! Останови их! Времени мало! — Нет! — рявкнул Питер. — Хватайся за стремя! — Изможденная, с пеной на губах плуговая лошадь, спотыкаясь, кренясь, продвигалась вперед, одной своей массой прокладывая себе дорогу в непрерывно растущей толпе. Еще один взрыв ликования прокатился среди домов, и вспугнутые им вороны закружились высоко над крышами. Не обращая внимания на брань и удары, наносимые возмущенными горожанами, которым помешали наслаждаться спектаклем, кузены пробились мимо церкви Святого Беннета, и взору их открылись серый фасад зала суда и позолоченные флюгера. Новую муку Уайэтту причинила мысль, что если бы они с Питером сразу же из таверны «Пестрый бык» отправились в Хантингдон в компании с шерифом и его людьми вместо того, чтобы топать дорогой в Сент-Неотс, они бы успели добраться до этого места, чтобы… Но что бы они тогда сделали? Почему, ну почему не хватило ему прошлой ночью ума, чтобы узнать имена приговоренных к повешению? Ведь эсквайр Эндрю Тарстон несколько раз упомянул «матушку Энн», хотя верно и то, что в Хантингдоншире могла бы найтись сотня женщин с таким же именем. Остервенело работая кулаками, Уайэтт пробился через толпу и хотел уже нырнуть под древко копья пикинера, которое тот держал горизонтально, сдерживая толпу. — Эй, ты! Стой! — хрипло рявкнул пикинер. — А ну-ка давай назад! Уайэтт остановился, но лишь потому, что поднял глаза на высокую, из дуба и камня, виселицу в форме буквы «Н». И словно бы раскаленное лезвие вонзилось ему в самое сердце. Ужасающе темные и безжизненные на фоне яркого июньского неба, медленно вращаясь на веревках, висели два изможденных тела. Он мог быть только уверен в том, что недавно здесь испустили дух мужчина и женщина. Могла ли повешенная быть его матерью или бедняжкой Маргарет — это Уайэтту выяснять было некогда, ведь Длинный Уильям, в черном облачении палача и с капюшоном на голове, уже подталкивал вверх по короткой лестнице последнюю, третью, жертву. — Вздерни ее, Уилл! — Пусть попляшет, проклятая ведьма! — Растяни-ка ей шею! Выкрики из толпы были грубыми, совершенно безжалостными, незабываемо страшными и отвратительными. — Сжечь бы лучше это сатанинское отродье! Это была Мэг, растрепанная и в крайнем ужасе что-то бессвязно лепечущая. Звонкое «зи-ип», изданное шпагой Уайэтта, выскальзывающей из ножен, зловещий блеск клинка, подкрепленный броском моряка к виселице, заставил ближайших к нему зевак отшатнуться в сторону. Питер тем временем рукояткой своей рапиры оглушил пикинера, попытавшегося помешать ему выбраться из толпы на открытое пространство, в центре которого возвышалась виселица. Вместе двое парней метнулись по грязным булыжникам к кучке чиновных людей с суровыми лицами, неуверенно закружившихся вокруг лестницы и палача. — Стойте! Остановитесь, вы, проклятые вероломные мясники! — выкрикнул Уайэтт. Он лишь чуть-чуть не успел подскочить к подножию лестницы. Длинный Уильям столкнул уже хрупкую, облаченную в жалкое тряпье фигуру приговоренной, чтобы в тот же момент ей закорчиться и закачаться в зловеще-гротескном танце в пустом пространстве. И в третий раз площадь ответила воем звериного удовлетворения. — Слушайте! Слушайте! Слушайте! Королевское правосудие испол… — Главный констебль Хантингдоншира прервался, не закончив своего объявления. — Арестуйте и свяжите этих беззаконных мошенников! — прокричал он. Целый отряд пикинеров и оба лучника шерифа бросились исполнять приказ, но так же скоро отступили перед бешеной игрой тяжелой шпаги Уайэтта. — Перережь веревку, — взмолился Уайэтт. — Может, Мэг еще жива. Я… задержу их! — Клянусь Богом, это те самые моряки из «Пестрого быка»! — изумленно вырвалось у сквайра Эндрю. — Назад! Как вы смеете мешать королевскому правосудию?! На шерифа с ястребиным лицом Уайэтт не обратил ни малейшего внимания, он лишь яростно ринулся на Длинного Уильяма и нанес ему сильный режущий удар своей испанской шпагой. Взвыв, палач накренился вбок и исчез из виду за спиной здоровенного чернобородого пикинера, взявшего пику наперевес и сделавшего быстрый выпад. Уайэтт нырнул под стальной наконечник пики и нанес стражнику колющий удар. Скрипнули кости в запястье, когда, скользнув по кирасе солдата, острие шпаги отклонилось в сторону. Со всех сторон засверкало оружие спешащих на помощь алебардистов, и Уайэтт в неистовстве отбивал их атаки, сражаясь спина к спине с Питером, преисполненный гнева и ярости. Теперь и пикинеры, и лучники, и аркебузиры*["320] перестали сдерживать толпу зрителей, и горожане с жадным интересом хлынули к виселице. «Их слишком много», — сказал себе Уайэтт. Да, много, слишком много пляшущих жалящих пик, и вот уже со всех сторон к нему протянулись руки, выхватили у него драгоценную испанскую шпагу, и кто-то древком копья нанес ему по голове такой сильный удар, что из глаз посыпались искры, подобные тем, что видишь вылетающими из-под молота кузнеца. Словно палуба «Первоцвета» при мощном налете штормового ветра, рыночная площадь закачалась у него под ногами, и он повалился назад, при этом на мгновение увидев высоко над собой багрянистое, искаженное мукой смерти лицо своей бедной сестренки. В этот жуткий момент до сознания его дошло, что язык ее вывалился меж зубов, а глаза выпучились и стали размером с голубиные яйца. К счастью, седые волосы матери упали вперед и рассыпались у нее по лицу, скрывая его выражение, но фатальный наклон ее головы к плечу им было уже не скрыть. Он не успел разглядеть, как выглядит труп отца: последовавший второй удар оглушил моряка, странные темные волны нахлынули на него и поглотили его сознание. То, что так много событий критической важности в жизни одного человека могло произойти на протяжении единственного дня, от рассвета до заката, узнику казалось невероятным. События эти, однако, действительно произошли. Только вчера утром он, Генри Уайэтт, был бодрым, здоровым и свободным молодым человеком, имевшим скромный достаток и, вследствие появления при дворе королевы, а также знакомства с сэром Френсисом Дрейком, видящим свое будущее таким, где возможны любые прекрасные вещи. Он был и, коль скоро об этом зашла речь, оставался всей душой влюбленным, хотя и пребывал в неизвестности — взаимно ли. Возможно ли то, что Кэт Ибботт узнала о его возвращении? Разумеется: слишком уж мал был Сент-Неотс, чтоб не узнать. Уайэтт неожиданно обнаружил, что человеческое страдание уже больше не трогало его, как прежде. Разве не видел он стольких людей в оковах, клейменных, увечных — и все лишь во имя закона ее величества? Разве он не был свидетелем того, как существ, доведенных до голода и отчаявшихся, таких, как тот бродяга Дик и его сотоварищ, называли преступниками, загоняли в солдатский строй и гнали на войны ее величества, чтобы там они нашли свою смерть — коль не хочется им болтаться на виселице в каком-нибудь городе, похожем на этот? В помещении стояла отвратительная вонь. Скрючившись на связке тростника, должно быть оставшегося в этой камере с незапамятных времен, Уайэтт, чтобы его снова не вырвало, приподнял голову и оперся о согнутую в локте руку. Пол и стены его камеры на ощупь казались грязными и отвратительно липкими. Однажды в детстве он случайно оказался запертым в конюшне, принадлежавшей полковнику Филлипсу. К счастью, обычно стоявшего там жеребца вывели попастись, иначе бы поднятый им от детского ужаса крик испугал бы эту здоровенную строевую лошадь и она затоптала бы его насмерть. Но случилось так, что конюхи со смехом вывели перепуганного паренька за ухо, и приключение это окончилось для него благополучно. Однако с той самой поры у Уайэтта осталась необъяснимая боязнь закрытого пространства. На судне он испытывал жуткие муки, когда его принуждали занять необычно крохотную каюту, и поэтому, какая бы ни была погода, он часто предпочитал укладываться на ночь на палубе, среди учеников матросов и юнг. Сейчас у него нестерпимо болела ушибленная голова и непрестанно пульсировало в висках, вызывая тошнотворное ощущение. В ушах все еще стояли голоса мировых судей: дребезжащий — сэра Генри Кромвеля, елейно мурлычащий — франклина Ричарда Джойса и отрывисто лающий — полковника Томаса Гранта. К ним его притащили, обвинили в убийстве некоего Уильяма Бентона, лучника, иначе называемого палачом Длинным Уиллом; а далее — и в более тяжком преступлении: в попытке помешать своевременному и законному отправлению королевского правосудия и в нанесении телесных повреждений главному констеблю графства Хантингдон и сквайру Эндрю Тарстону. Уайэтт тупо уставился на тот лоскуток синевы, что лежал за единственным узким окном его камеры. Если бы не железная полоска, делящая окно пополам, оно оказалось бы вполне широким, чтобы в него мог пролезть человек. При первых приступах отчаяния он в слепом бешенстве пытался вырвать эту полоску железа из стены, но напрасно, хоть и выглядела она такой тонкой, что, казалось, ее наверняка можно было переломить или отогнуть в сторону. На слушании его дела, окончившемся около часа назад, главный мировой судья, сэр Генри Кромвель, был таким же свирепым и непреклонным, каким окажется и его сын, Оливер, одно поколение спустя. Раз уж избавились от этой дьявольской семейки, предлагал сэр Генри, почему бы начисто не извести весь адский выводок? Однако двое других судей относились к делу Уайэтта с меньшей долей мстительности, должно быть, он представлял собой слишком печальное зрелище, когда стоял там, запачканный кровью и грязью и с туго связанными за спиной руками. Ни у кого не нашлось доброты, чтобы стереть с его лица кровь, которая не переставала сочиться из пореза на голове. — Клянусь ногтями на ногах Святого Павла, — заявил полковник Грант, — мне, Кромвель, нелегко будет повесить человека, способного сражаться так мужественно, как дрался наш подсудимый. — Это верно, мужественно. И к тому же он прикончил лучшего моего лучника, — проворчал Эндрю Тарстон. — И все же он, что там ни говорите, вовсе никакой не колдун. — Резонно ли, сэр Генри, считать этого бедолагу ответственным за нападение? — Кустистые темные брови вопросительно поднялись. — Понятно, что парень был расстроен. А кто не был бы, вернувшись домой и найдя своих близких болтающимися на виселице? — И кроме того, — сообщил шериф, пусть и нехотя, — если мастер Уайэтт не лжет, он славно послужил Англии в той оскорбительной для нее истории с «Первоцветом». И не так много подданных получают награду из собственных рук королевы. Нет, не стоит нам его вешать. — Что же тогда? — ковырнув в волосатой ноздре, вопрошал остальных заседавших полковник Грант. — Может, нам приговорить его к служению в армии? — В этом негодяе чересчур много характера, и он немедленно дезертировал бы, — возразил сэр Генри. — Но пусть будет по-вашему, Тарстон, и избавим его от петли. Скажем лучше так: при всей нашей милости, пусть он проведет три года в тюрьме, после того как ему поставят клеймо на большом пальце правой руки — пусть все знают, что он совершил убийство. Поскольку день выдался долгим и напряженным, мировые судьи не были расположены к пререканиям. Итак, с тоской размышлял Уайэтт, завтра или на следующей неделе его заклеймят перед отправкой в темницу замка Норманнского креста, стоящего далеко от Сент-Неотса — и бедной Кэт Ибботт. Чувствительная и добросердечная, как горько, наверное, страдала она во время казни его семьи! — Три года в тюрьме? — пробормотал, вопрошая самого себя, Уайэтт. — Тридцать шесть месяцев не видеть Божьего света? — Дрожь пробежала у него по спине. Лишь год назад видел он в Лондоне партию только что освобожденных преступников; с пергаментной кожей, почти беззубые, они ковыляли вокруг собора Святого Павла, выпрашивая корку хлеба у ярко разодетых жестокосердных проституток и ростовщиков. Под их грязными вонючими обносками, казалось, просматривались все до единой косточки их скелетов. С тупым безразличием Уайэтт подумал о том, какая участь могла постигнуть Питера Хоптона. Последнее, что припомнилось ему, было то, как этот доблестный здоровяк стоял, широко расставив ноги, над поверженным противником и раздавал удары направо и налево, как паладин. Лежит ли кузен его тоже в тюремной камере в ожидании заключения или казни? А может, уже погиб или корчится в муках от какой-нибудь жуткой раны? То, что он мог проложить себе путь к свободе рапирой через взбудораженную рыночную площадь, казалось почти невероятным, и все же, и все же… — С отчаянным пылом Уайэтт вцепился в столь призрачную надежду на то, что спасение Питера было возможно среди беспорядочно прущей толпы. Его тюремщик, как он успел убедиться, оказался грубым безмозглым олухом и на любой вопрос, как бы вежливо ни был он задан, неизменно отвечал пинком или руганью. Убедился Уайэтт и в том, что вся обстановка в камере — только один табурет о трех ножках, треснувший глиняный кувшин и связка заплесневелого тростника, на котором он сидел поджав под себя ноги. — Не останусь я здесь, — тихо пробормотал он. — Не позволю себя клеймить. — Мало-помалу решимость придала ему уверенности, хотя при этом он и не мог представить себе, каким образом удастся ему бежать.Глава 11 ВЕРЕВКА ПАЛАЧА
Медленно, бесконечно медленно тянулись два дня, во время которых будничные звуки с улицы, что пролегала непосредственно внизу под его оконцем, мучили заключенного узника множеством знакомых проявлений обыкновенной деловой суеты: то заскрипят несмазанные оси, то монотонно, нараспев закричат о своих товарах уличные торговцы, то дробно застучат копыта лошадей, то звонко завопят увлеченные какой-то грубой забавой запыхавшиеся мальчишки. После этих последних лет, проведенных в море с его далекими горизонтами, теснота этой крошечной камеры казалась такой же убийственной, как давление воды, когда раз он нырнул чересчур глубоко. Хотя Уайэтт ежедневно отрывал от своей далеко уже не чистой тельняшки новые лоскуты, чтобы кое-как перевязать себе голову, кровотечение из ран так до конца и не прекращалось. Он рассудил, что это, должно быть, потому, что при смене повязки от ран отдирались кусочки струпьев. Как Уайэтт ни старался, он не мог отделаться от воспоминания о том жутком выражении искаженного мукой лица бедной Мэг. И как же могли только люди, воспитанные на благородном учении Иисуса Христа, так мучить и предавать друг друга? Генри страдал от бездействия — безделье являлось для него наказанием, ужасным само по себе. Он твердо решил, что, когда совершит побег — а это уж точно будет, — он разыщет сэра Джона Эддисона и будет душить его, медленно, чтобы этот мерзавец мог слышать его слова: «Твоя подлая ложь сгубила мою семью. Теперь отвечай мне, сэр Джон, как тебе пришлось ощущение, когда разрываются твои легкие? А знаешь ли ты, что глаза у тебя уже начали вылезать из орбит? Что язык вываливается у тебя изо рта? А теперь я тебя задушу окончательно». После полудня третьего дня заточения Уайэтта не было еще ни каленого железа, ни разговора о переводе его в темницу замка Норманнского креста. Точно медведь в слишком тесной яме, помощник капитана «Первоцвета» часами напролет мерил шагами камеру: три шага вперед, три назад. Но стоило только ему заслышать голоса, доносящиеся из низкого арочного коридора за ржавой решетчатой дверью, как он тут же остановился и плюхнулся на тростниковую вонючую подстилку — чтобы этот скот надзиратель видел его не иначе как погруженным в оцепенение безнадежности. — Еще одного вешают! — ворчал надзиратель. — Клянусь Богом, Джек, хлопот у нас прибывает, как при Марии Кровавой. — Попридержи-ка язык. Ты возьмешь его одежду, — напомнил второй. — Кого должны вздернуть? У Уайэтта сжалось сердце от страха, что сейчас он услышит имя кузена. — Одного сопливого подмастерья. Он украл кошелек в тот день, когда вешали ведьм. — Что было-то в кошельке? — Два шиллинга. А вешают за один и шесть пенсов. — Видно, подвыпившие, тяжело дыша, стражники постояли напротив камеры Генри. — Полюбуйся на это, Джек. На этой веревке болталось около ста человек. Послужит еще, как ты думаешь? Тот, кого звали Джек, поставил на пол кувшин, чтобы ощупать веревку опытными руками. Кивнув, он сказал: — Послужит. Для нее подмастерье сгодится, он легонький — голодный юнец, еще борода не растет. Слезно клялся, мошенник, что спер, чтобы только поесть. — Ха! Очень разжалобил этим он сэра Генри. Уайэтт уголком глаза наблюдал за Джеком, сгорбленным уродливым малым, обезображенным шишкой на нижней челюсти. Тот бросил веревку и снова поднял кувшин. — Пойдем ко мне, Том, охладим наши глотки вот этим. — Спасибо, дружище Джек. Клянусь, у меня она суше, чем печь для обжига глины. Гулко застучали тяжелые башмаки с деревянными подошвами, когда драгоценная парочка удалялась по арочному коридору. Наконец до моряка донеслись взрывы смачного хохота, Уайэтт догадался, что в том кувшине наверняка эль — и много. Временно брошенная в коридоре веревка для виселицы лежала развалистой бухтой, словно разомлевшая коричневая змея. Поневоле эти грубые сальные пряди напомнили Генри о площади в Хантингдоне и об известных событиях трехдневной давности. Потом эта веревка навела его на мысли о снастях, о судне, которым теперь, уж конечно, ему никогда не владеть. Хм. Вполне подходящая толщина для фала; или, может, она больше бы подошла для шкотового линя у какого-нибудь латинского паруса на бизани? Но, с другой стороны, ее с большей пользой можно было бы использовать как якорный линь для небольшого судна. Якорный линь… якорный линь… Запавшие глаза Уайэтта метнули быстрый взгляд на мощный железный болт с кольцом, заглубленный в каменную кладку возле самой двери его камеры. Слава Богу (или, может, сквайру Эндрю Тарстону), что тюремщики не приковали его к этому кольцу. В голове у него возникла идея, и с жадностью изголодавшегося солдата, набрасывающегося на еду после долгой и утомительной осады, он целиком сосредоточился на ее обдумывании. Веревка! Затаив дыхание, Уайэтт прислушался, как удаляются шаги, бросился на каменный пол и просунул руку сквозь мелкую решетку двери. Тяжело дыша от нетерпения, он прижался к ней телом, извивался, вытягивался и сучил ногами, чтобы только рука его могла протянуться хоть чуточку дальше. Проклятье! Как он ни старался, кончики дрожащих пальцев не могли дотянуться до ближайшей спирали веревочной бухты на какие-то шесть остающихся дюймов. Стараясь не обращать внимания на боль, причиненную раненой голове, когда он прижался ею к решетке, Уайэтт выложился до предела, но пальцы его лишь скользнули по прядям каната. Если бы еще хоть полдюйма, он, уж точно, зацепил бы ногтем драгоценные пряди. Чувствуя, как по щекам катятся слезы, вызванные болью от потревоженных ран, Генри рухнул, часто дыша, на грязный каменный пол. Отдышавшись, он сел, с тоской огляделся вокруг и тут вдруг заметил свой табурет. Одним прыжком он перескочил на другую сторону камеры и осмотрел три грубоотесанные его ножки. Любая из них годилась, чтобы помочь ему дотянуться до цели. Предприняв бесплодную попытку раскачать ножку в ее гнезде, он подождал, пока хор пьяных голосов, доносящихся до него из конца коридора, не станет особенно громким, и тогда, прошептав молитву Всевышнему, двинул табуретом о стену. Прислушавшись в мучительном беспокойстве, не раздастся ли топот бегущих по коридору ног, он убедился, что пронесло, и снова взялся за дело. Чуть позже веревка палача исчезла из виду под тростниковой подстилкой, и Уайэтт, дрожа, как от лихорадки, внимательно осмотрел тот железный стержень, что мешал ему выскользнуть из окна. Он обнаружил, что в основании стержня цемент выщерблен — возможно, каким-то давно уже умершим и всеми забытым узником, — но недостаточно для того, чтобы можно было снять эту преграду. Однако стараниями неизвестного образовалось углубление, в которое время от времени — возможно столетие — могла проникать дождевая вода и накапливаться там. А от воды же образуется ржавчина, разъедающая железо. Вдруг как-то сразу совершенно успокоившись, Уайэтт принялся за работу. Он дважды пропустил захваченную веревку через кольцо в стене и вокруг оконного стержня. Затем недалеко от болта, натянув так туго, насколько позволяли убывающие силы, четыре куска веревки, он соорудил морской узел — «узел дровосека». Вставив в середку узла пару ножек от табурета, он начал вращать их, закручивая веревку, пока не образовались на ней узлы. У Генри екало в пустом животе, потрескивали плечевые мышцы, а дыхание вырывалось из груди, как у борца в заключительных муках жестокой схватки. «Не могу. Мощи не хватает». Едва родилась эта крамольная мысль, как моряку живо представились болтающиеся на виселице три дорогих ему тела. Гнев обуял его и открыл неведомые запасы сил. Уайэтт еще раз сосредоточил всю свою мощь на закручивании веревки, и так это здорово ему удалось, что импровизированный брашпиль вдруг ослаб, заставив его полететь головой вперед и грохнуться на пол, вместе с канатом, обвившимся вокруг туловища и рук, словно змея из джунглей Южных морей. «Не удалось». От этой ужасно обидной мысли к груди подкатили рыдания, и Уайэтт бессильно распластался на полу, чувствуя лишь боль и дрожь. Когда же наконец он поднял кружащуюся голову, то из его пересохшего горла вырвался хриплый возглас изумления. Ярко-синяя продолговатая форма его окна уже не делилась надвое; прут, вырванный из него удивительной, где-то неожиданно найденной им силой, валялся возле обломков табурета. Теперь, когда путь на свободу казался открытым, Уайэтт действовал быстро и без промедления. Он спрятал эту ниспосланную ему Провидением веревку под тростниковой подстилкой, а вместе с ней и металлический прут, который, как он отметил, действительно погнулся в своем нижнем проржавевшем конце. Уайэтт давно уже пришел к заключению, что его камера, вероятно, расположена довольно высоко над улицей, которая, полагал он, проходит внизу. С бегством придется подождать, потому что этот чудный июньский вечер оставался еще таким светлым, что любой выбирающийся из окон тюрьмы был бы моментально замечен. И ждать придется довольно долго; в Англии в конце весны*["321] темнота опускается поздно. Уайэтт весь насторожился, когда тюремщик и его собутыльник перестали распевать и двинулись нетвердой походкой по коридору. — Клянусь сияющим локоном Господа, — прорычал тюремщик, — какая-то свинья украла мою веревку! — Он рыгнул и остановился, покачиваясь, возле камеры Уайэтта. Оконце его оставалось предательски ярким. А вдруг он заглянет внутрь и заметит отсутствие перекрывающего окно металлического стержня? У Генри упало сердце, словно камень в колодец. — Чего же еще ожидать? — тихонько заржал коренастый тюремщик. — Тут кругом одно ворье, по обе стороны решетки. Даю гарантию, что это Сэм Джоунс, новый надзиратель. Это он ее спер. Никогда не доверяй валлийцу, Том, эти сопрут и зубы из твоих челюстей. — Но он же сегодня не на дежурстве. — Как бы не так, на дежурстве. Эх ты, простофиля! Они постояли в полутемном вонючем коридоре, пререкаясь так громко, что наконец не выдержали сидящие там по разным камерам заключенные, которые принялись браниться и орать, требуя, чтобы они замолчали. Чувство нерешительности охватило Уайэтта. При всем этом шуме негоже ему было притворяться спящим, ведь даже последний тупица, такой, как его тюремщик, мог бы тогда, чего доброго, насторожиться и заподозрить неладное. А привлекать к себе лишнее внимание ему совсем не хотелось: оконце все еще ярко светилось на фоне закатного неба — словно прямоугольник, где стоялоцветное стекло. Уайэтт приподнялся на локте и пробормотал: — Около часу назад приходил смугловатый мужик небольшого роста. Он-то и унес вашу веревку, сказав, что на рынке надеется выручить за нее шиллинг. — Небольшого роста и смугловатый? — Тюремщик рыгнул. — Тогда это был Джоунс, как я все время и говорил. Пойдем, дружище, я заставлю этого пса ворюгу изрыгнуть проглоченное. Они ушли, топая по коридору деревянными подошвами башмаков, но Уайэтту пришлось подождать еще полчаса, пока небо не потемнеет достаточно, чтобы позволить ему привязать наконец веревку к кольцу. Он не пожалел веревки, чтобы смастерить узел понадежней, ведь только Богу было известно расстояние от подоконника до жестких булыжников мостовой, на которые ему непременно придется прыгать. Как только часы на башне церкви Святого Георгия гулко пробили девять раз и затихло последнее эхо, узник высунулся из окна и принялся спускать по стене веревку. В небе еще оставалось слабое свечение, но такое слабое, что болтающуюся вдоль стены веревку уже трудно было различить. Тихо помолившись, чтобы его появление снаружи могло пройти незамеченным, Уайэтт просунул в оконце сначала ноги, за ними бедра. Когда дело дошло до плеч, они застряли и никак не хотели проталкиваться сквозь такое крошечное отверстие. У него закружилась голова. Приложив неистовые усилия и сильно порвав свой дублет, он наконец протиснул и плечи и со страхом уцепился за качающуюся веревку. Ему показалось, что улица лежит где-то бесконечно далеко под ногами и сейчас его заметят. Но, к счастью, среди этого нагромождения крыш и труб тут и там горели только редкие огоньки. Не послышались ли ему голоса из только что покинутой им камеры? Не медля ни секунды, чтобы в этом удостовериться, он стал спускаться, перехватывая веревку руками — пустяковое дело для опытного моряка, — пока, как-то вдруг неожиданно, его ноги не задергались в пустоте, напрасно пытаясь нащупать несуществующее продолжение веревки. Собираясь с мужеством для падения с неизвестной ему высоты, он со всей очевидностью понял, что там наверху поднимается гвалт голосов. Мельком заметив в окне своей камеры свет, он отпустил веревку, молясь, чтобы все кости остались целы. К счастью, пролетев только шесть или семь футов, он приземлился на покрытые грязью булыжники, разбив лишь коленки, и, прихрамывая, пустился бежать сквозь сгущающуюся темноту. С детства знакомый с городом, он пронесся по цепочке зловонных переулков и юркнул за ряд торговых лавок, охраняемых псами, которые зарычали и бросились на него, натянув свои цепи. Боль в голове, как заметил он с радостью, проходила, и, стоило ему только ступить на дорогу в Сент-Неотс, ноги понесли его сами собой. Жадно хватая ртом ароматный вечерний воздух, Уайэтт задрал голову вверх и, не увидев множества звезд, сделал вывод, что небо затягивается облаками, да и ветер уже доносил до него знакомый запах дождя. То широко шагая, то переходя на бег, он около полуночи добрался до окраины Сент-Неотса. Не обратиться ли к Симпкинсу, булочнику, и не потребовать ли назад свое имущество или, по крайней мере, тот небольшой мешочек с золотом, что был заперт в деревянном сундучке? Но перед булочной из своей будки вылез мастифф и так остервенело залаял, что Генри решил отказаться от подобного шага. Чтоб тебе провалиться, зверюга! Если он будет все лаять и лаять, то всполошит деревню; тогда уж ему ничего не останется делать, как искать убежище в гуще надежного Роубсденского леса, где он подумывал затаиться до тех пор, пока не уляжется первый переполох, связанный с его побегом. Оставалось только сделать одну очень важную вещь: будь что будет, но он должен поговорить с Кэт Ибботт.Глава 12 УЗКАЯ ДОЛИНА
Как разбудить Кэтрин Ибботт, не потревожив домочадцев торговца мануфактурой, стало его первостепенной заботой. Если бы только он знал, крепко ли спит сероглазая Кэт по ночам или же легко просыпается. Капля, скользнувшая по щеке Генри Уайэтта, предупредила, что скоро начнется дождь. Из пирамиды жердей, смутно вырисовывающейся в саду, он выбрал тонкий шест и стал им легонько постукивать по плотно закрытым ставням, которыми отгородилась от улицы спальня Кэт Ибботт. Окно-то он знал хорошо, годами бросая любовные томительные взгляды на его крепкие ставни. Поднимающийся ветер шевельнул ветви деревьев за его спиной, и они беспокойно зашелестели, когда, к бескрайнему его облегчению, послышался тихий скребущий звук, какие могут издаваться осторожно отпираемыми засовами. Ставни открывались медленно и постепенно, и вот уже он, стоя под ветками, раскачивающимися от порывов растущего ветра, различил смутные очертания девичьего лица. Кэт, как и всегда до этого, показалась ему невыразимо прекрасной с короной из светлых с золотистым оттенком волос, подобие которых ему предстояло еще узреть в иных краях. — Генри? — окликнула она его напряженным голосом. — Генри, неужели это ты? — Да, милая Кэт, это я — но попал в печальную историю. — Что бы там ни было, пусть Бог благословит этот момент, Генри. — Голос ее звучал низко и сочно, словно музыка, которую играли на одной из виол в театре господина Шекспира в Лондоне на Картерс-лейн. Беглеца удивило спокойное отношение Кэт к его безобразному виду. Но потом он решил, что, наверное, уж десяток-то жителей их деревни видели, как они с Питером бесполезно сражались с солдатами. — Оставайся там, где стоишь, Генри, — услышал он из окна, и ставни медленно снова вернулись в прежнее положение. Впервые за многие часы горечи радость вытеснила муку из сердца Уайэтта. Почему-то в глубине души он ожидал, что Кэт либо вовсе не ответит на его постукивания, либо отошлет его прочь под каким-нибудь малозначительным предлогом. Ему еще как-то не верилось, что щелкнул тихонько замок задней двери, что вот она открывается… — Генри, любимый! Я вся за тебя исстрадалась! Не обращая внимания ни на его запачканную грязью и дурно пахнущую одежду, ни на его растрепанные волосы и покрытые запекшейся кровью щеки — эта проклятая рана на голове снова стала кровоточить, — она бросилась в его объятия со всей искренностью измучившейся ожиданием души. — О Кэт, моя Кэт! — Это все, что он мог сказать, когда она прижалась к нему своим телом, гибким, мягким и теплым, под редким ночным дождем. — О! Он ощутил своими губами ароматную, словно бальзам Гилеада, прохладу ее щеки. — Отвратительно, — вспыхнула она, — как эти набожные болваны из наших мест довели твоих бедных родных до виселицы. Она нежно взяла в свои руки его шершавое небритое лицо. — А ты, Генри? Ты как — не ранен? — Нет, но я только что сбежал из хантингдонской тюрьмы. Они уже там собирают за мной погоню. Так что, моя куколка, — он назвал ее давним, дорогим для обоих ласковым именем, — вместе пробудем мы очень недолго. — Недолго? — Кэт, как-то по-птичьи быстро вздернув головку, посмотрела ему в лицо. — Нет уж, мой родной, мой любимый, не так-то скоро ты от меня отделаешься. Два бесконечных года ждала я тебя и жаждала встречи с тобой — и целых двенадцать месяцев от тебя ни словечка. Ну почему, почему, дурачок мой милый, ты не написал мне, где находишься? — Я и сам-то был не больше уверен, чем ты, что нам удастся свидеться, — пояснил он. — Почему? — горячо вопрошала она. — О Кэт, моя драгоценная, откуда нашлось в тебе столько упрямства, чтобы идти против воли отца? Прежде чем отвечать, она нежно, но пылко прильнула к его губам. — А разве не дочь я Эдварда Ибботта? Поэтому я так же тверда в своей цели, как он — в своей. — Но… но, похоже, ты так мало удивлена тем, что видишь меня. — Я знала, что ты придешь за мной и ничто не сможет тебе помешать, — Высокая, прямая, похожая в своей ночной рубашке на привидение, Кэт освободилась из его объятий. — Я так была в этом убеждена, что припрятала и держала наготове деньги, еду и кинжал, который принадлежал бедному Руфусу. Руфус был ее старшим братом, капером, убитым несколько лет назад во время схватки с французскими пиратами близ Ла-Рошели. Когда он запротестовал, она лишь поцеловала его и юркнула снова в дом, как призрак, которого она напоминала. Ему же только оставалось укрыться от усиливающегося дождя под сенью яблони, посаженной, чтоб обеспечивать тень дубовому корыту для водопоя. Из него он и напился и тогда вдруг почувствовал зверский голод. Уайэтт постарался отмыть лицо и руки и, работая пальцами как гребнем, привести свои сальные волосы хоть в какой-то порядок. Заслышав, как тихо скрипнули петли двери, он сначала напрягся, затем расслабился, завидев худенькую фигурку Кэт. На ней поверх темного платья был надет серый плащ с капюшоном. Он поспешил к ней, чтобы взять у нее из рук корзину и тяжелый узел. — Я понесу корзину, — настаивала девушка. — Она совсем не тяжелая. Пойдем, Генри, чем дальше мы будем от Сент-Неотса, когда рассветет, тем лучше для нас. — Мы?! — ахнул он. — Боже Всевышний! Не пойдешь же ты со мной, с разыскиваемым преступником? — А вот и пойду! — настаивала она с горячностью в голосе. — Если ты воображаешь, что я собираюсь состариться в девственном одиночестве в этом свинарнике, Сент-Неотсе, тогда, Генри Уайэтт, ты совсем сумасшедший! Уайэтт неистово восстал против такой глупости. Знает ли она хоть что-нибудь о трудностях и опасностях пути? Отдает ли она себе отчет в том, что он должен скитаться как бродяга, избегая больших дорог, ночуя под кустами и стараясь не попадаться на глаза констеблей? Нет, она не должна покидать уюта этого дома, где находится под защитой доброго имени батюшки — и своего собственного. — Ведь тебя же растили в нежной заботе, — напомнил он ей, чувствуя, как ледяные струйки дождя катятся по его спине. — Поэтому нельзя тебе со мной. Когда отец тебя хватится, он всю округу поднимет на ноги и устроит погоню. Кэт, дорогая моя, ты понятия не имеешь, что значит уныло тащиться по грязи, когда непрестанно, часами льет дождь. Ты не испытывала еще мук голода и болезни. Пальцы ее впились ему в предплечье, словно ястребиные когти. — Генри, если мы через минуту не уйдем отсюда, я так заору, что перебужу весь Сент-Неотс и тебя поймают, обещаю тебе. Милый, славный мой дурачок, неужели ты не понимаешь, что больше я никогда с тобой не расстанусь? — О Кэт! Родная моя, любимая Кэт! Дрожа от радости, он подхватил ее на руки, приподнял над землей и поцеловал. Затем взял ее узел и вышел из темного сада Ибботтов. Как странно знакомо это было ему — еще раз провести неуверенно покачивающуюся Кэт по узенькой планке моста над ручьем, где он в детстве ловил форель. Вот и сливовый сад мастера Ричарда Амнета уже скрыл за собой остроконечные крыши Сент-Неотса. Под хлещущим холодным дождем, под низко нависшими небесами они шли все утро разными коровьими тропами, переходили вброд речки и шлепали по заливным лугам, зеленым, насыщенным влагой, меж рощиц, где с листьев капало не переставая. Выбранный маршрут был ему отлично знаком, так как еще мальчишкой Уайэтт, с тисовым луком и стрелами гоняясь за неким благородным оленем, принадлежавшим графу Хантингдонскому, обрыскал почти все леса в этом крае. Он уводил Кэт все выше, в цепь низких, поросших лесом холмов. Капюшон ее, задевая за ветки, так часто спадал с головы, что она позволила ему болтаться на спине, а своим светло-золотистым волосам — промокать и спутываться с листвой, обломками веток и кусочками коры. Корзина, которую она несла по собственному настоянию, постепенно пропиталась влагой и стала такой тяжелой, что приходилось то и дело перекладывать ее из одной руки в другую. Во время одной из их нечастых остановок Уайэтт срезал ей палку, чтобы она могла нести ее за спиной на плече и дать отдохнуть рукам. Он заметил, что рот у нее плотно сжался, губы побледнели, а волосы дождь превратил в длинные гладкие пряди, облепившие спину и грудь. Полдень застал их окруженными вершинами Роубсденских холмов, а холодный дождь все хлестал, словно бы наказывая дочку Эдварда Ибботта за бегство из дома ради разыскиваемого преступника, у которого, кроме сердца, ума и рук, ничего-то почти и не было. — Г-генри! — Голос ее сквозь шум дождя звучал еле слышно. — Знаешь, мне пора отдохнуть. В-видишь ли, мне сильно натерло ногу и она очень болит. — Надо было сказать раньше, — мягко упрекнул моряк. — Чем больше волдырь, тем дольше он заживает. Когда Уайэтт опустил на землю свою ношу и встал на колени, чтобы осмотреть ее башмачок — легкий, совсем не подходящий для долгих путешествий, — то стиснул зубы: сквозь светло-коричневую шерсть чулка просачивалась кровь. Стоя в обвисшем платьице из серой и грубой шерстяной материи среди серебристо-серых стволов буковой рощи, Кэт выглядела удивительно маленькой и одинокой. Подол юбки был в грязи. — Прости меня, Генри. Не раздражайся. Мне нужно только чуточку отдохнуть. Он поднялся с земли и вгляделся в промокшую серую стену шумящего каплями леса. — Идти осталось немного. — Немного идти — куда? — Она попыталась улыбнуться. — До лачуги, на которую я наткнулся в прошлом, когда охотился в Роубсденском лесу. Видишь тот склон? — Вижу. Он очень крутой. Кэт непроизвольно оглянулась через плечо и вдруг убедилась, что сквозь косые серебряные нити дождя ей видна чуть ли не вся южная часть Хантингдоншира. Там позади остался родимый дом — с теплой постелью, крепкой непромокаемой крышей и обильной едой. Едва не падая с ног от голода и усталости, Уайэтт содрогнулся. — У тебя же силенок почти не осталось, это бесспорно. А ну дай-ка мне понести корзину, — с грубоватой решительностью потребовал он. — Нет! — Она так резко вздернула подбородок, что капля дождя упала с кончика ее короткого чуть вздернутого носика. — Когда мы уходили из Сент-Неотса, разве я не ручалась, что буду нести свою долю бремени, ниспосланного нам Богом? — Она похлопала по большой камышовой корзине. — Кроме того, ты не должен знать, что у меня здесь, пока… пока мы не доберемся до нашей лачуги, которая, даст Бог, не будет занята бездомными бродягами. — Не будет. Посмотри! Вон там, по-моему, хороший знак. Далеко с северной стороны проглянуло солнце и разбросало яркие золотистые пятна по темно-зеленым волнистым холмам и долинам. Он вытер влагу со лба рукавом и постарался говорить убедительным тоном. — Нет, я уверен, что домишко будет незанятым. Понимаешь, стоит он в тех холмах довольно высоко и до него добраться не так-то просто. Кроме того, бродяги — народ ленивый, они предпочитают прятаться у дорог. Уайэтт ненадолго задумался о судьбе двух разбойников поневоле, схваченных им и Питером. Удалось ли им отвертеться от армии? Как странно ведет нас судьба! Ведь и он теперь во всех отношениях не в лучшем положении, чем они. Разве не бежит он от королевского правосудия? Разумеется, за его голову назначат цену; Генри Кромвель со своей лошадиной челюстью непременно позаботится об этом. Наверное, уже давно обратили внимание на совпадение его бегства из тюрьмы и ночного исчезновения Кэт. Эдвард Ибботт, несомненно, назначит и свою собственную награду и организует погоню. Уайэтт знал, что являет собой довольно неприятное зрелище: грязный, небритый, с окровавленной повязкой на голове. Дублет его и штаны, уже побывавшие в передряге, пострадали теперь еще больше от веток ежевики, а чулки в черную и зеленую полоску прорвались во многих местах. Слава Богу, хоть ботинки-то остались целы. — Милая, — он помог ей подняться, — нам нужно идти. — Он решительно присоединил ее удивительно тяжелую корзину к своему узлу и был поражен, как она несла ее до сих пор. Кэт неопределенно улыбнулась, принимая из его рук вырезанный из ветки посох. — Не жалеешь, Генри, что я пошла с тобой? Я… боюсь, я для тебя тяжкая обуза. Он покачал перевязанной рыжей головой. — Обуза? Ни в коем случае! Неужели не стойко ты держалась, волоча на себе такую вот тяжесть? В прошлом ты ни за что бы с ней не справилась. Твоя выносливость изумляет меня. — Пока ты был за морями, — спокойно объяснила она, — я часто пешком уходила одна подальше от Сент-Неотса, чтобы никто не мешал мне помечтать о тебе. — С полных губ ее довольно широкого рта сорвалась улыбка, когда она надевала на голову свой капюшон. — Дома отец заботился о том, чтобы у меня поменьше находилось предлогов говорить о тебе. Когда они снова продолжили путь, следуя узкой тропой, вьющейся вверх среди беспорядочных нагромождений древних обветшалых валунов, дождь еще шел, но небо уже стало понемногу проясняться. Они вспугнули семейство оленей — робких красно-коричневых созданий, долго глядевших на путников, прежде чем броситься наутек через поросль берез, столь же белых, как и выступившие между ними известковые плиты. Наконец их тропа так круто полезла вверх, что немного спустя они тяжело задышали и взмокли от пота. — Стой здесь, — приказал ей Уайэтт и, не теряя времени, чтобы убедиться, подчинилась ли девушка, полез дальше один. Он возвратился мокрый, облепленный листьями, но улыбаясь и так быстро, что Кэт и опомниться не успела. — Слава Богу, лачуга еще стоит и крыша вроде бы пока крепкая, вот только дверь исчезла. Домик оказался грубым, без окон и с земляным полом. Из мебели — лишь лавка из бревен и грубо сколоченный стол, стоявший в углу. У дальней стены — подстилка из давно пожелтевших высохших веток ели. Трубы не было, но в центре хижины, под дымовым отверстием, проделанным в крыше из дерна, был выложен из почерневших камней очаг. От проникавшего сквозь отверстие дождя на земляном полу образовался темный мокрый круг, но кроме него все было сухо. Уайэтт встревоженно обернулся и увидел свою мокрую несчастную спутницу, печально озирающуюся вокруг в отдающей плесенью полутьме. С трудом повернулся его язык, чтоб задать ей критически важный вопрос: — Ты… ты захватила с собой кремень и сталь? — В корзинке, — устало сообщила Кэт. — Там же найдешь и трут.Глава 13 РАЙСКАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ
К закату солнца избушка подверглась существенным изменениям. С помощью березового веника, смастеренного Уайэттом, они вымели сухие листья, желудевую шелуху и помет полевых мышей и других зверьков. Уютно трещал и шипел небольшой, но теплый огонь в очаге и над ним поднимался столб едкого голубоватого дыма, задерживался под крышей и, найдя в ней дыру, улетучивался в ясный весенний солнечный свет, который косо пробивался теперь ослепительными золотыми полосами сквозь верхушки высоких величественных буков, возвышающихся над этой крошечной полянкой. Пышная подстилка из свежих, пахучих еловых веток выглядела соблазнительно мягкой и упругой. И была она в доме только одна: поминутно краснея, хозяйка Кэт Ибботт живо положила конец колебаниям ее спутника по поводу устройства их на ночь. — Поскольку одеял у нас нет, мой милый, — проговорила она, не отрывая глаз от огня, — и нет возможности их достать, не лучше ли нам лечь вместе и согревать друг друга? — Pa-разумеется, т-ты права, — ответил он, заикаясь и покраснев, как петушиный гребень, до самой повязки, которой Кэт заново обвязала его темно-рыжую голову. — Н… но, радость моя, ч-что бы на это сказал п-преподобный доктор Гейдж? — Доктору Гейджу вовсе не обязательно об этом знать, — отвечала она невозмутимо. — Кроме того, Генри, мы теперь столь же женаты, как и прочие, и нам позволительно исключить некоторые штрихи, о которых можно будет исповедаться священнику при первой возможности. — Она мило улыбнулась, потом рассмеялась, и ее смех зазвенел высокой ласковой птичьей трелью, смешиваясь с потрескиванием огня. — Скромность и такой образ жизни несовместимы. — Да… в-верно. И с-спасибо тебе, моя душенька, за твою мудрость и понимание. — Он поспешил наружу, бормоча что-то невнятное о сборе побегов папоротника им на ужин. Когда он вернулся с толстым пучком этой сочной лесной зелени, она уже разложила на столе весь их запас еды. — Теперь, — объявила она, мило наморщив лоб, — ты узнаешь, что у нас было припасено. Неудивительно, что ее корзина казалась такой тяжелой! Запавшим его глазам предстали голландский сыр, засоленный бекон, три толстых куска окорока, около десятка сушеных рыбин с двумя буханками бездрожжевого хлеба и, в качестве дорогого и редкого угощения, целая голова сахара. — Отец будет в ярости, когда обнаружит эту пропажу, — улыбнулась она. — На сколько, по-твоему, нам этого хватит? — Если экономить и поститься, то, осмелюсь сказать, у нас тут достаточно, чтобы продержаться дня три-четыре. — Тревога омрачила его лицо, и он, подойдя к Кэт, обнял ее рукою за талию. — И пройдет не меньше недели, прежде чем нас перестанут искать. — Три-четыре дня, и только? — Серые глаза удивленно расширились. — Не больше. — Однако он ободряюще улыбнулся. — Разумеется, я поставлю ловушки на кроликов и обязательно что-то поймаю; поразоряю гнезда фазанов. И еще я знаю ручей, где можно пощекотать форель. — Пощекотать форель? Ты смеешься? — Да нет же! Этому искусству цыган и браконьеров я скоро тебя научу. Эх, мне бы лук, тогда бы мы непременно ели на обед оленину сколько душе угодно. — Ля-ля-ля! — Она рассмеялась. — Из глупой дочки франклина Ибботта ты сделаешь истинную цыганку. Проглотив кусок сыра с хлебом, Уайэтт вышел ненадолго наружу — принести воды. Обернувшись, он широко заулыбался, радостно наблюдая, как вьется дымок над крышей, просто и по-домашнему. Только подумать, ведь это же их первый дом — а сколько еще впереди? Уайэтт попытался заглянуть в будущее и унесся мыслями далеко-далеко. Он совершенно не обращал внимания на то, что найденный им у родника на дальнем конце полянки потрескавшийся железный горшок давно переполнился и течет. После этой хибарки будет скромная, покрытая соломой мазанка, потом уже домик побольше, наполовину из дерева и штукатурки, беленький, чистый; и наконец воображению его предстал помещичий особняк в форме «Е», отделанный камнем, какие сейчас возникали по всей Англии. Когда-нибудь, это уж точно, его труды за морями обеспечат им с Кэт и достаток, и кучу детей, что будет свидетельствовать о полноте и незыблемости их любви. Со светлыми косами, аккуратно уложенными теперь в светящуюся корону, Кэт появилась в дверном проеме. — Иди, дорогой, ужин готов. Не стой там как дурень. Уайэтт чуть не выронил горшок: Кэт стояла в сине-желтом шарфе, купленном им для нее в Лондоне! Он облегал ее плечи и подчеркивал изящную их покатость. — Мой… мой тюк! Ты вызволила его? Он кинулся к ней и заключил ее, теплую и податливую, в объятия. Затем глянул через ее плечо и совсем уж пришел в восторг. Среди снеди, разложенной на столе, стояла и деревянная шкатулочка, в которую он сложил золото, подаренное королевой! — О Кэт, Кэт, не чудо ли это? Как тебе… — Как только в Сент-Неотсе заговорили, что ты вернулся, мой милый, — объясняла она, уцепившись за него обеими руками и прижавшись своей гладкой щекой к его давно не бритому лицу, — я повсюду расспрашивала, пока не узнала, что вы с Питером оставили вьючную лошадь у этого глупого старого олуха, булочника. — И Симпкинс отдал это тебе? Яркие губы ее сжались плотнее. — Не без борьбы. Но когда я поклялась, что мы обручены, и пригрозила разоблачением перед констеблем, он больше не отважился перечить. Когда заходящее солнце низко нависло над линией округлых холмов, видимых из узкой долины, он отпер шкатулку и дал ей потрогать те четырнадцать поблескивающих желто-красных монет, что теперь составляли весь его капитал. — Красиво они звенят, правда, куколка? — Да. И еще добавь эти. Она полезла в карман самой верхней из нижних юбок, скрытой под простеньким платьицем из коричневой шерсти, и вытащила кожаную сумочку. Непринужденно смеясь, она подняла ее, и в руки ему полился тоненький ручеек из золота и серебра. — Нечего таращиться с таким ужасом, — спокойно сказала она, вглядываясь в него из-под широких, плавно изогнутых бровей. — Ну да, я взяла это из сундука отца. Но я же взяла куда меньше, чем он дал бы мне в качестве приданого, если бы я вышла за Герберта Смоллетта из Партона, как он того желал. — Но… но все равно ты взяла эти деньги без разрешения отца. Кэт покраснела и вздернула маленький подбородок. — Да, так я и сделала. Не будить же его посреди ночи, чтобы спросить разрешения — что бы тогда случилось? Понимание того, что она фактически ограбила сундук своего отца, подействовало отрезвляюще: им предъявят еще одно, и серьезное, обвинение! Теперь-то уж тем более им нужно скрываться по крайней мере неделю. — Ну же, Генри, давай подсчитаем наше состояние, — весело предложила она. — Будет только благоразумно установить размеры наших ресурсов. То, что Кэт за последние два года научилась большему, чем приятно играть на виоле — к музыке она всегда испытывала страсть, — стало очевидным по той ловкости, с которой она рассортировывала французские солиды, португальские эскудо, испанские и итальянские реалы и дукаты и монеты, ему совершенно не знакомые. Они проскальзывали сквозь ее тонкие пальчики, словно овцы через сломанную загородку. Уайэтт все еще пытался сосчитать те испанские монеты, что составляли большую часть их скромных накоплений, когда она объявила: — Наш капитал, любимый, по моим подсчетам, равняется пятидесяти фунтам шестнадцати шиллингам и трем пенсам. Ухмыляясь, он сделал вид, что навострил ухо, чтобы лучше расслышать вдалеке горестные жалобы Эдварда Ибботта. Всем в Сент-Неотсе было известно, что торговец мануфактурой отличался необычайной скупостью и держался за каждый пенни с цепкостью беса, волокущего грешника жариться в вечном пламени. — Жаль, что мы не смогли прихватить остальные твои богатства, — заметила Кэт, укладывая деньги в шкатулку. — В самом деле, сэр, оказалось, что вы великолепно обеспечены прекрасными нарядами. — А, это? Большинство из них принадлежало Питеру Хоптону. Мы купили с ним на двоих вьючную лошадь, чтобы доставить свое добро сюда из Уоша. Скажи-ка, не слыхала ли ты что-нибудь о судьбе моего кузена? Я очень за него волнуюсь. Он беспокойно взглянул на дверь. Черт побери, ведь все-таки остается шанс, что их печка может привлечь своим дымом разбойников. — Нет, ничего, — отвечала Кэт. — Впрочем, через глашая нам сообщали, что Питер Хоптон убил трех пикинеров и в суматохе скрылся. — Скрылся?! — переспросил он, схватив ее за плечо. — Ты уверена? — Нет, но ходили такие слухи. — Молю Бога, чтобы так и было. Случись с ним беда, это легло бы камнем на моей совести, поскольку не его это было дело. — Как не его? — тут же возразила девушка. — А твоя мать разве ему не тетка? Поужинав хлебом, поджаренной над огнем ветчиной и сваренными побегами папоротника — изголодавшимся, им этот ужин показался царским пиршеством, — они возлегли на еловые ветки, прислонившись спинами к бревнам стены, и глядели на яркие угли открытого очага. Устраиваясь поудобней и ощущая крайнюю усталость, Кэт привалилась головой к его плечу. — Как удивительно спокойно здесь, Генри, — вздохнула она. — И прекрасно, как будто это конец какой-то чудесной героической сказки. Возможно, на Уайэтта так подействовал этот нежный контраст с теми годами одиночества и зачастую жестокости на море, с ужасами, сопутствующими его возвращению домой и заточению в камере, но телом его все больше овладевала дрожь, пока Кэт не взглянула на него, широко раскрыв глаза от удивления. Она мудро сохраняла молчание, только притянула к себе эту милую ей израненную голову и, найдя его губы, прильнула к нему, такая теплая, животрепещущая, несущая столько успокоения. С губ девушки слетели какие-то несвязные звуки — возможно, подобные звуки раздавались в первобытной пещере, когда женщина встречала мужчину, вернувшегося после долгой и опасной охоты. Крайняя степень усталости не позволяла ей подыскивать определенные слова. Он повернулся, прильнул к ней, как маленький испуганный мальчик, и постепенно дрожь его прекратилась, рассеянная восхитительным теплом и упругой мягкостью ее тела. — Полно, полно, радость моя, — шептала она. — Наконец-то мы вместе и нечего нам бояться. Дай-ка мне руку, слышишь, как бьется мое сердечко? Для тебя это все, для тебя одного. Для Уайэтта с самого детства высшей степенью красоты всегда оставались ее глаза и невероятно прекрасные светлые волосы, казавшиеся ему сейчас неописуемо мягкими, светящимися и чистыми. Их обволакивали смолистые ароматы ложа, а пульсация розового огня создавала атмосферу очарования настолько тонкую, что они могли бы ее не почувствовать, если бы не так устали. Освобожденные от реальности, они очутились в объятиях магии, и единение юных и сильных тел перенесло их в тот редкий Элизиум, куда доступен вход лишь истинно любящим парам. Сперва очень робко исследуя тайны друг друга, они постепенно слились в своей страсти без всякого ограничения. Где-то перед рассветом Уайэтт, приученный долгой службой на море, где спать слишком крепко опасно, пробудился, и тут же сон его как рукой сняло. В кустарнике перед входом ему послышался шорох. Рука его поискала рукоятку того кинжала, что когда-то принадлежал брату Кэт Руфусу, но он успокоился, узнав едкий запах самца лисицы. Вздохнув с облегчением, он снова улегся на ветки, но потом привстал на локте и с блаженным изумлением стал рассматривать невыразимо прекрасные очертания той, что лежала с ним рядом, забывшись глубоким сном. Ее лицо на измызганной грязью, но сухой нижней юбке, постеленной поверх елового лапника, размягчилось в нежном покое, его профиль четко вырисовывался на темном материале; голова напоминала источник, из которого наподобие выбивающейся воды струились распущенные волосы. Во время сна ее сорочка, несшая ночную вахту у ворота, сползла, обнажив розоватому свету зари совершенство округлой и полной груди, бледные холмики которой были чудно украшены сосками, аккуратно изящными и розовыми, как свежие бутоны клевера. Как долго он пребывал в таком состоянии, знакомясь с ее красотой, Уайэтт не имел никакого представления, но вот он снова улегся, погрузившись в глубокий спокойный сон. Раздув в углях пламя, Уайэтт заметил: — Вот что я думаю: переждем здесь, в холмах, сколько потребуется, а потом отправимся в Лондон. — В Лондон?! О Генри, нет! Мне будет так страшно! — Она заплетала волосы в две тоненькие косички, но, прервав свое занятие, испуганно подняла на него глаза. — Я в жизни не видела города больше, чем Хантингдон. — Так и все, когда впервые приезжают в Лондон. Ничего удивительного. В Лондоне и его окрестностях, говорят, обитает около двухсот тысяч душ. Конечно, это самое лучшее место, где можно быстро добиться власти и разбогатеть. — В его голосе появились возбужденные нотки. — Теперь, когда сэр Френсис Дрейк готовит флот, чтобы пойти на Испанию, будут возможности — и немалые — для энергичного молодого моряка с честолюбием, его молодой супруги и золотишка в его кошельке. — Сэр Френсис Дрейк! О Генри, вот имя, которым можно вызывать духов. — Кэт улыбнулась и принялась обшивать кружевами то, что она называла сокровенной одежкой — а именно грубоватый корсет, смоделированный из клеенки и деревянной щепы. Вдруг заметив, что в утреннем свете ноги ее не слишком-то чистые, она покраснела и спрятала их под нижними юбками. — На каждой ярмарке и в каждой таверне поют песни и рассказывают свежие истории о Золотом адмирале ее величества. Вот послушай-ка одну из последних. И она запела богатым, непоставленным контральто: Вы, геройские, храбрые души, Достойные славы страны, Кому еще честь дорога, Вперед на врага! Пока эти лентяи на суше Затаились под юбкой жены. Когда Уайэтт тихонько поаплодировал — он не хотел, чтобы с их поляны исходили неподходящие звуки, — Кэт с живостью малиновки повернулась к нему и спросила: — Верно ли, что сэр Френсис Дрейк — настоящий гигант и сила у него, как у двух мужчин? — О Господи, милая, нет! Даже я на целую голову выше его, но есть что-то такое особенное в его яростных синих глазах и что-то в его манерах, что придает достоверности подобным небылицам. Ей-богу, вот уж забавно было смотреть, как эти разодетые щеголи придворные, знаменитые аристократы и даже государственные советники низко раскланивались и шаркали ножками, когда проходил сэр Френсис. Ты бы просто обхохоталась, если б видела, как трепетали эти размалеванные дамы при дворе и как томно посматривали в его сторону, несмотря на то, что он совсем недавно женился на Элизабет Сайденхэм. Когда Уайэтт принялся свежевать пойманного в силки кролика, то заговорил с еще большим энтузиазмом: — Ты бы послушала удивительные истории о его плавании вокруг света, как он подавил в своем экипаже мятеж, о стычке его с людоедами и, наконец, как ему удалось захватить знаменитый корабль Касафуэго, иначе называвшийся, Nuestra Senora de la Concepcion*["322], каракку губернатора Перу с сокровищами. — Тогда это правда и вовсе не выдумки, что он вернулся с золотом и серебром на миллион фунтов? — Да, правда. Испанцы везде дрожат при одном лишь упоминании его имени, которое по-испански звучит «el Draque»*["323], что значит — дракон. И Филипп, их король, просто бесится из-за потерь, которые наносит ему адмирал. — С этими словами Уайэтт сдернул окровавленную шкурку со своей добычи и бросил ее в кусты, — Но то, что было прежде, это всего лишь бледная тень того, что наш Золотой адмирал теперь устроит папистам. Видела бы ты, Кэт, выражение на лице сэра Френсиса, когда мы с Фостером докладывали о подлом предательстве, учиненном испанцами на борту «Первоцвета». — Тогда, наверное, сэр Френсис очень богат? — Да. Он стал одним из самых богатых людей во всей Англии, но деньги свои он заставляет все время работать. Почти ни одной торговой экспедиции за море не обходится без того, чтобы там не было хотя бы одного принадлежащего Дрейку судна. Уайэтт занес тушку кролика в дом, затем снова вышел наружу, чтобы вымыть окровавленные руки. — Он уже стал владельцем аббатства Бакленд, поместий Шерфорд и Яркомб в Девоне, где он женился на дочери сэра Джорджа Сайденхэма и, следовательно, является теперь хозяином более обширной собственности. — Тогда уж наверняка этот джентльмен должен вести себя гордо и величественно. — Как-то совсем незаметно Кэт подбежала к нему, обняла и чмокнула в углубление шеи обнажившейся под расстегнутым дублетом. — Нет, у сэра Френсиса характер совсем другой. — Уайэтт улыбнулся и ласково погладил ее по головке. — Как правило, он ведет себя очень скромно, если только не хвастает тем, что уже сделал и что еще сделает этим испанцам. Ведь только подумать, что каких-то пятнадцать лет назад он был гол как сокол. Чтобы доказать тебе, что мечта моя о владении собственным судном не вздор, не фантазия, я напомню тебе, что сэр Френсис не единственный, кто добыл себе славу и состояние на море. — Кто же еще, например? — Сэр Уолтер Ралей, сэр Уильям Винтер, сэр Ричард Гренвилль и двое Хоукинсов, Джон и Уильям. Он обнял Кэт одной рукой, восхищаясь упругой податливостью ее тела, затем повернул ее к себе лицом, чтобы заглянуть в широкие серые глаза, и с торжественной серьезностью заявил: — То, что совершили эти люди, могу совершить и я. Ручаюсь тебе, Кэт, что ты доживешь до того дня, когда мне присвоят звание рыцаря и я стану хозяином прекрасного имения. И еще я тебе обещаю, — сказал он серьезно и тихо, — что однажды королева будет рада принять при дворе леди Уайэтт. Яркие ее губы сложились в улыбку, выражающую абсолютное доверие, говорящее о блаженном неведении тех страшных опасностей, что лежат на его пути. — Я верю, что так и будет, Генри. Я в своих мечтах относительно нас двоих тоже строю большие планы. Позавтракав, они вышли в долину и сели под буками, разглядывая разных птиц, занятых своими маленькими хлопотами. Кэт упросила его рассказать о плаваниях, и Уайэтт сумел заставить ее увидеть и почувствовать жару целого ряда зловонных портов Средиземного моря в его восточной части; вызвал ее восхищение величественными разрушающимися зданиями Константинополя, где правил теперь турецкий султан; привел ее в содрогание, описывая порочность Марселя. Она же в свою очередь потешила его душу старинными народными песнями, когда они в чем мать родила купались в маленьком водоеме, обнаруженном ими под миниатюрным каскадом. И так на крыльях ничем не омрачаемого блаженства началась эта сладостная неделя их уединения от окружающего мира, с его погонями, волнениями, сражениями, стяжательством и королевским правосудием.Глава 14 ЛОНДОН — 1585 ГОД
Двумя днями позднее после того, как «Первоцвет» отплыл вниз по Темзе в Плимут, запыленные и измученные долгой дорогой Генри и Кэт Уайэтт прошествовали через Мургейт и оказались в начинающем бурно разрастаться беспокойном Лондоне. На ночь они, вполне честно, как муж и жена, поскольку уже поженились в городке Бедфорд, в графстве с тем же названием, сняли комнату в «Красном рыцаре». Эту важнейшую церемонию осуществил добродушный, но плохо держащийся на ногах старый священник приходской церкви, у которого их загорелость и дорожная пыль на одежде не вызвала неподобающего любопытства, и потому он без всяческих осложнений сочетал их в священном браке и зарегистрировал в книге женитьбу этого крепкого рыжеволосого парня на спокойной синеглазой красавице с золотистыми волосами, казавшейся такой безмятежной и уверенной. К счастью, их долгая, тянувшаяся шестьдесят с лишним миль дорога в Лондон была омрачена всего лишь одним неприятным происшествием: из зарослей выскочила пара дюжих парней, чтобы схватить за уздечку их вьючную лошадь, нагруженную седельной подушкой Кэт и тощим их багажом. Уайэтту хватило простого укола кинжалом, чтобы один из разбойников, с воем держась за окровавленную руку, тяжело побежал прочь, а другой с быстротой хорька растворился в чащобе, откуда и появился вначале. Устроив благополучно Кэт, Уайэтт отправился в портовую часть города и вновь испытал возбуждение, появившееся у него в первый раз при виде путаницы мачт, рей и гафелей дюжин и дюжин судов всевозможных оснасток из двадцати разных стран, что стояли на якоре в Лондонском Пуле, у Биллингсгейта, или возле причала таможни ее величества. У хозяина свечной лавочки в переулке Баттольф-лейн, куда любил заглядывать капитан Фостер, он узнал, что, во-первых, «Первоцвет» действительно ушел, и, во-вторых, вследствие эмбарго, наложенного королем Филиппом, около сотни английских торговых судов не вернулись из испанских портов. Он же подтвердил, что королева Елизавета собирает большую армию для войны с папистскими силами в Нидерландах. Через некоего Николаса Спенсера, судового такелажника и давнишнего знакомого, Уайэтт навел справки, где можно было бы приобрести за скромную, очень скромную сумму маленький шлюп, бойер или небольшое береговое судно. Желательно, если судно будет малого тоннажа, способное месяц находиться в море и управляться, скажем, семью моряками и капитаном. — Видишь ли, дружище Уайэтт, то, что ты хочешь, не так-то легко достать, — отвечал Спенсер, пощипывая пальцами бороду. — Хотя после испанского эмбарго много судов торчало без дела на реке, однако еще больше зафрахтовано, чтобы сначала перевезти войска графа Лестера через Узкое море*["324], а затем снабжать их провизией. Но дай подумать, дай подумать. Спенсер, сморщенный, с коричневым лицом малый с широким красноватым шрамом на левой щеке, немного поразмышлял и сплюнул в зловонный ил, обнажившийся после отлива. — Я вспоминаю голландца с брюшком, которого повстречал вчера вечером в гостинице «Колокол». Из-за своей толщины и лени он боится оказаться на какой-нибудь испанской галере в рабских цепях. Он владелец старого суденышка типа бота, которое могло бы послужить твоей цели и, думаю, должно продаваться по дешевке. Питер ван Клейкамп оказался крупным человеком, толстым как бочка, без всяких признаков шеи, с ярко-красным лунообразным лицом и бородой веером. «Да. У него есть бот, который стоит в Лондонском Пуле». — «Давно ли построен?» — «Конечно, „Катрина“ теперь не так молода, как когда-то. А кто молод?» — Клейкамп смачно расхохотался над собственной шуткой. — «Давно ли?» — «Ну, может, его спустили со стапелей лет пятьдесят — шестьдесят назад. Но, клянусь копьем святого Михаила, „Катрина“ все еще прекрасно оснащена и крепка как орешек «. Они осмотрели бот, и, как Уайэтт и предполагал, судно оказалось почти круглым — в длину всего лишь вдвое больше, чем в ширину, и потому очень грузоемким. Но, без сомнения, оно было очень-очень старым и протекало во многих местах. Что еще хуже, мингер ван Клейкамп упрямо отказывался отдавать его меньше чем за пятьдесят фунтов золотом — за остов, рангоутное дерево и бегучий такелаж. Не теряя надежды и отчаянно желая его приобрести, Уайэтт осмотрел судно голландца от форштевня до судьбоносного места — штурвала с прямым румпелем, которым оно управлялось. Ван Клейкамп не высказывал ни малейших возражений, когда Генри втыкал кончик кинжала во все ребра, кницы и обшивку, и это приободрило Уайэтта; голландец только шумно хлебал свое пиво и хмыкал, когда случалось, что лезвие Уайэтта погружалось в дерево с подозрительной легкостью; он знал, что на нынешнем рынке ему дадут его цену. В конце концов Уайэтт решил, что, несмотря на почтенную внешность, «Катрина»в основном суденышко крепкое и что ее жилое помещение на полубаке как раз вместит команду, какую он держал в уме, хотя спать матросам пришлось бы сбившись в кучу друг на друге, как свиньям под солнышком. Сзади располагалась капитанская каюта с низким потолком и меблированная только узенькой койкой и столом с откидной доской. — Ну а как паруса? Голландец пожал массивными плечами. — О, свои паруса я уже наполовину распродал. Уайэтт с возмущением глянул на его невозмутимо спокойную лунообразную физиономию. — Но, мингер, вы же дали мне понять, что в мои пятьдесят фунтов входят оснастка и паруса. — Нет. — Ван Клейкамп почесал свою плешь. — Корпус, рангоутное дерево и бегучий такелаж. О парусах я и не заикался. Юный моряк тяжелосглотнул: действительно, о парусине не было сказано ни слова, но если он купит комплект даже подержанных парусов, Кэт Уайэтт останется почти без средств к существованию, пока он не вернется домой с первой прибылью, заработанной «Катриной». Уайэтт саркастически поблагодарил мингера ван Клейкампа, самостоятельно на веслах добрался до берега и еще два дня рыскал по речным стоянкам от пристани Павла до Лебединого пирса; от Смартс-Ки до Галерной пристани под Тауэром. После осмотра одного судна, потом другого ломило руки и спину от бесконечной, как казалось, гребли. Спенсер был прав: на суда большой спрос, особенно на те, что годились для перевозки продовольствия через пролив. — Разумеется, ты найдешь себе судно получше, — ободряла его Кэт, когда они сидели вдвоем в своей крошечной спальной и она чинила прорехи на его изрядно поношенных широких коротких штанах без подкладки. Долго ему предстояло ждать, прежде чем он смог бы позволить себе другие того же качества. Уайэтт нахмурился, медленно поколотил кулаком о кулак. — Я, похоже, ищу себе судно столь же редкое, как кукарекующая курица. А самое скверное здесь то, что если я собираюсь отчалить из Плимута вместе с эскадрой Дрейка, то у меня в запасе всего неделя. Он сколотил мощную флотилию и ждет лишь прибытия нескольких транспортов для перевозки продовольствия. Я просто обязан отправиться с ним, дорогая. Там меня ждет великолепная возможность показать, на что я годен. Светлые ее волосы заблестели в луче заката, пробившемся сквозь окошко такое же малое, как и то, через которое он сбежал из тюрьмы. — Что так серьезно тебя беспокоит в том судне, о котором ты говорил мне на днях? — Возраст и… и его цена, — уныло признался он. — Оно что, прогнившее? — Нет. Шпангоуты «Катрины», где бы я ни проверял, показались мне вполне крепкими, но из-за балласта я не смог осмотреть ее днище, а убрать его или прокренговать посудину*["325] я не могу. — Он снова постучал кулаком о кулак, как делал часто, когда пребывал в растерянности, и это не ускользнуло от внимания Кэт. — Наверное, я все-таки куплю ее в конце концов, хотя мне и придется влезать в долги из-за комплекта парусов — а это мне ой как не нравится. Он объяснил ей, что за комплект парусов даже из старой парусины потребуется израсходовать дополнительно пятнадцать фунтов. — Уж наверное, твой приятель Николас Спенсер согласится принять письменное обещание за часть покупной цены? — Вполне вероятно, что и согласится. Но, черт побери, никуда не годится, чтобы мы начинали с долгов. — Не стоит, Генри, смотреть на это с такой стороны, — проговорила Кэт, наклонившись, чтобы перекусить нитку. — Считай, что ты просто одалживаешь деньги, как брал бы, скажем, на время вьючную лошадь — и расплачивался за пользование ею. В конце концов он все же купил это суденышко у голландца, затем поторговался с Николасом Спенсером из-за нужных ему парусов и кое-какой другой дополнительной оснастки. Этот грубоватый, но добрый малый без колебаний готов был ссудить ему нужную сумму, но лишь при условии, что госпожа Кэт поставит подпись под письмом, подтверждающим его обязательство. Таков уж обычай, добавил он в смущении, когда главный составитель такого письма выбывает за пределы сферы полномочий королевы Англии. Ввиду почти полной истощенности своего кошелька, Уайэтт решил нанять на «Катрину», — странно, но, возможно, и к счастью, что первое судно под его командой носило такое же имя, что и его жена, — пять человек вместо планируемых им вначале семи. Поэтому он приложил все усилия, чтобы найти себе сильных и молодых, подающих надежды подручных, каких весьма уже мало осталось в Лондонском порту. И вот в конце следующей недели «Катрина» покачивалась на швартовах со спущенными парусами, свежепромазанным дегтем стоячим такелажем, и там и тут в ее давно уже не крашеных бортах ярко проглядывали свежие доски. Желая взять груз для Плимута, Уайэтт не столкнулся ни с какими трудностями. Груза было навалом: парусина, бочки с сухарями и солониной, предназначавшиеся для тех кораблей королевы, что экипировались в небольшой, но быстро растущей рыболовецкой деревне Плимут. — Если я обнаружу, что сэр Френсис уже отплыл, я обернусь в месячный срок и буду иметь достаточно прибыли, чтобы выплатить долг Нику Спенсеру, и на кренгование еще останется, — пообещал он Кэт, привлекая ее к себе и стараясь не обращать внимания на проснувшуюся вдруг тревогу в ее лице. — Обратного груза я не возьму. Говорят, в Плимуте береговые купцы дерутся за каждую бочку, предназначенную к перевозке. Проделав все свои неотложные дела, Уайэтт с женой улеглись в маленькой комнатке Фостера — капитан выхлопотал ее для своего бывшего помощника — и сонно наблюдали за грядой небольших облаков, одно за другим наплывающих на луну, находящуюся в фазе между второй четвертью и полнолунием. Кэт прижалась к его щеке своей влажной щекой и пробормотала: — Какие странные формы приобретают облака в лунном освещении. Вон, узнаешь — серебристый военный флаг, развевающийся на ветру? — Узнаю, — прошептал он. — Мне он кажется победно развевающимся знаменем. — Пока Уайэтт это говорил, луна уже скрылась, и знак моментально исчез, как будто похищенный каким-то ожившим врагом. Дрожь пробежала по телу Кэт. — О! Это означает какую-то неудачу! — Ничего это не означает, сердечко мое. Глупо верить в предзнаменования. Она вновь повернулась к нему, и, когда наконец луна снова выплыла из-за облака, никто из них этого уже не заметил.Книга вторая ЖАЛО ДЛЯ ИСПАНИИ
Глава 1 КОРАБЛЬ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА «БОНАВЕНТУР»
Адмирал сэр Френсис Дрейк пробудился под звук грохочущих на палубе барабанов. Зевнув, он сел, привалившись спиной к большому, набитому перьями валику в изголовье его украшенной замысловатой резьбой постели о четырех ножках, приколоченной к палубе и к борту. Он лениво понаблюдал за яркой игрой отражений от маленьких волн на раскрашенных в ярко-красный и золотистый цвета бимсах, что проходили над головой. Через кормовые окна — а они были больше, чем окошки многих сельских церквушек, и так же со вкусом декорированы, правда, их узоры заполнялись исключительно чистым стеклом, — Дрейку были видны некоторые из судов, входящих в состав его медленно приумножающейся эскадры. На якоре покачивался высокий и величественный галион «Лестер» контр-адмирала Ноллиса, яркие флаги которого на топах мачт мягко развевались под дующим к берегу ветром. За «Лестером» расположился «Тигр», которым командовал генерал-лейтенант Кристофер Карлейль — способный боевой офицер, он был благодарен, что его взяли на это дельце. Кит Карлейль знал, как руководить войсками на берегу, знал превосходно и, слава Богу, не относился к числу дубоголовых генералов, воевавших только по книге военных правил. Не раз он доказывал, что способен к тактической импровизации, чтобы справиться тут же, на месте с реально возникшей угрозой. — Молю Бога, чтобы ее величество снова не передумала или чтобы этот Беркли, робкий старый козел, не убедил ее в том, что остается еще возможным действительный мир с Испанией, — произнес он вслух. Протянув руку и взяв серебристый колокольчик, Дрейк позвонил и вызвал пажа. Ожидая появления мальчика, он слез с постели и, путаясь в полах ночной рубашки, обвившимися вокруг его крепких, слегка искривленных ног, подошел к кормовым окнам. Чертовски приятно было смотреть на Плимут! Впервые ему привелось увидеть этот маленький очаровательный порт еще мальчиком, когда он со своим отцом бежал от преследований папистов из Тейвистока, где родился; затем уже юнгой, желтоволосым юношей, хоть и низкорослым, но с честолюбием непомерным. Здесь он собирал корабли и набирал людей для нескольких самых опустошительных своих рейдов в Карибское море. И именно сюда солнечным сентябрьским днем 1580 года он привел «Золотую лань», чтобы с ослепительным успехом завершить свое кругосветное плавание. Дрейк праздно понаблюдал за шлюпчонкой с «Первоцвета», направляющейся в их сторону. Этот «купчик» со славой Бильбао был теперь переоснащен под маленький, но крепкий военный корабль, и командовал им старый сварливый Мартин Фробишер. Кого это она везет на флагман? Ведь вице-адмирал собирает общий совет на «Бонавентуре» лишь в 9 часов утра. — Доброе утро, сэр Френсис. — Паж со свежим лицом, с гербом Дрейка, вышитым на его дублете, подошел, протягивая своему господину сверкающе чистую сорочку, свежие темно-фиолетовые чулки из шелка и бриджи, входившие теперь в моду, вместе с жестко накрахмаленными желтыми брыжами. — Доброе утро, сэр, — повторил он. — Капитан Феннер хотел бы переговорить с вами, и очень срочно. — Я приму его, как только ты подровняешь мне бороду. — Дрейк вылез из ночной рубашки, но немного помедлил, позволяя прохладному воздуху обласкать свое небольшое, но крепко сбитое тело. Восемь или десять старых ранений оставили о себе напоминание в виде белых или красноватых шрамов. Самое серьезное из всех он получил во время сражения при Сан-Хуан де Улуа в 1568 году, когда дон Мартин Энрикес, вице-король Мексики, напал на маленькую флотилию Джона Хоукинса и сделал это так же коварно, как и коррехидор Бильбао, когда пытался захватить «Первоцвет». В тот день Френсис Дрейк проникся глубокой, неисчерпаемой ненавистью к Испании, Риму и всему, что стояло за ними. Когда мальчик-паж натягивал на него адмиральские чулки и надевал потом туфли с высокими каблуками из желтой испанской кожи, украшенной большими розетками, он слышал, как солдат и матросов зовут на молебен. Очевидно, сэр Френсис решил нынче утром не молиться на богослужении, хотя на море он строго придерживался этого правила, и на всех подвластных ему судах обязательно служили утренний или вечерний молебен. Паж заметил, что на столике возле койки лежит открытая Библия. Недаром сэр Френсис был старшим сыном Эдмунда Дрейка, которого в Гиллингэм-Рич, военно-морском порту Тюдоров, назначили на корабли чтецом Библии. Правда, за эту богоугодную должность отец адмирала получал такое мизерное жалованье, что ему и многочисленному его семейству, состоящему из двенадцати сыновей, приходилось проживать на борту небольшого берегового суденышка, брошенного на зловонной илистой отмели в Мидвэе. Как только мальчик приладил и завязал брыжи, адмирал надел пояс, встал на колени вместе с пажом и помолился всемогущему Богу, чтобы он с благоволением отнесся к некоторым смелым его шагам, которые Дрейк намеревался осуществить, служа своей королеве, а также чтобы поскорее закончилось снабжение флота продовольствием. Закончив молитву, Дрейк легко вскочил на ноги и чуть ли не бегом покинул свою каюту. Солдат снаружи у двери поспешно взял свою аркебузу на караул. — Доброе утро, Арчибальд. — И вам доброе утро, сэр. Вас спешно хочет видеть капитан Феннер, сэр. Он с вестями из Лондона. Вести из Лондона? Дай Бог, чтобы не какой-нибудь противоречивый приказ от королевы. Дрейк прищурил небольшие ярко-синие глаза. Появившись на палубе, он застал капитана Феннера оживленно разговаривающим с парой капитанов с купеческих судов, которые, заметив небольшую сияющую фигуру приближающегося к ним адмирала, постягивали шляпы, раскланиваясь. Они прибыли сообщить, объяснили капитаны «купцов», что главная партия пороха, посланная сэром Джоном Хоукинсом из Тауэра, задержалась из-за свирепого шторма, принесшегося с Бискайского залива и причинившего сильные разрушения в устье Темзы и вдоль всего юго-восточного побережья Англии. Пороховые суда, божились компаньоны Феннера, едва добрались до Саутгемптона, но буря их так потрепала, что потребуется по крайней мере дня три-четыре, чтобы восстановить их судоходные качества. — Действительно, сэр, — заявил один из посетителей, — это была очень скверная буря. Много погибло бедняг рыбаков, по которым теперь плачут вдовы и чьи дети ходят голодными. — Чума ее побери! — Это было самое близкое к богохульству проклятие, которое обычно позволял себе Дрейк — и впрямь, очень странное притворство среди поколения самых выдающихся любителей крепких выражений во всей истории Англии. — Новая задержка! Наконец маленькая шлюпка вице-адмирала Мартина Фробишера подгребла под кормовой подзор «Бонавентура», и этот белобородый, закаленный ветрами человек вскарабкался на борт, — достаточно проворно для своих без малого семидесяти лет, — чтобы доложить, что прошедшей ночью стопятидесятитонный барк «Боннер» получил такую серьезную течь, что, несомненно, его придется кренговать перед выходом в море. Дрейк выслушал его, возбужденно походил по шканцам, и толстая золотая цепь, висящая у него под брыжами, поблескивала в такт его резкому и короткому шагу. Лоб его недовольно наморщился. Теперь каждая такая задержка казалась ему вонзавшимся в тело шипом, и в последнее время покой души адмирала смущали дурные предчувствия, словно его непрестанно пилила сварливая жена. А вдруг королеве в этот последний момент пришло в голову передать все командование какому-нибудь родовитому фавориту ее двора? Знает Бог, что в прошлом она такое проделывала. А вдруг испанские шпионы в Лондоне — или в Плимуте, уж коли на то пошло, — пронюхали об истинных его намерениях и готовят ему теперь кровавую встречу? Нет, чем скорее он выйдет в море, тем лучше. А к «Бонавентуру» подходили все новые и новые лодки и скапливались у него за кормой, словно утята, столпившиеся возле матери. Наконец на борту флагмана собрались все флотские командиры, включая капитанов каперных судов и тех, кто командовал кораблями, принадлежащими Лондонскому Сити и оснащенными его торговцами. Собственно, только два корабля в составе этой экспедиции принадлежали самой королеве: «Бонавентур»и «Подспорье». «Томас», принадлежащий Дрейку, в данный момент вышел из внутренней гавани, чтобы бросить якорь напротив нового форта, строящегося под руководством Дрейка. Командовать им он поручил юному Томасу Дрейку, своему младшему брату, от которого многого ожидал в будущем. Чтобы не оказаться в тени, Уилл Хоукинс послал в экспедицию галиот под названием «Утка»и капитаном его назначил племянника, юного Ричарда Хоукинса. В целом двадцать один корабль поднял флаг с крестом Святого Георгия в дополнение к прочим ярким знаменам с гербами тех благородных дворян, что несли на них свою службу. Собравшиеся на шканцах капитаны Дрейка производили яркое, но странное впечатление. Глядя на этот пышно разодетый народ, можно было заметить несколько парадоксов: они рядились в элегантные, но чаще всего безвкусные костюмы и украшались модными безделушками; в то же время лица их оставались обветренными, суровыми, а иногда и откровенно жестокими. — Джентльмены, я полагаю, настал момент, — объявил Дрейк, пробегая взглядом по бородатым лицам, — раскрыть вам, с какою целью мы отправляемся в плавание. В большинстве своем вы уже знаете, что Католическая лига*["326] во главе с иезуитами и французскими герцогами Гизами то и дело замышляли убийство нашей милостивой королевы, что менее шести лет назад войска Лиги под предводительством бывшего эскулапа Сандерса вторглись в ее владения в Ирландии и что папский Рим вечно подбивает Шотландию выступить с оружием против нас. Адмирал говорил быстро и убедительно. — Все вы, конечно, помните заговоры Френсиса Трогмортона и что голландский правитель принц Оранский погиб от руки убийцы, нанятого этой бесовской Лигой. Джентльмены, даже лорд Беркли теперь убежден, что ее величество должна действовать быстро, или же наши протестантские друзья в Нидерландах и на западе Франции подвергнутся жесточайшему истреблению. Поэтому королева решила защитить Объединенные Провинции*["327], посылая сильную армию под предводительством графа Лестера, а также решила, что мы, не объявляя войны, должны обессилить Испанию и сделать ее неспособной к нападению на нас. Растрепанная белая борода Мартина Фробишера взметнулась и опустилась под дуновением ветра, когда он шумно фыркнул и прохрипел: — Не объявляя войны? Легче будет морскую свинью протащить через рым-болт! — Ну и как же это, сэр Френсис, — мрачно осведомился Ноллис, — наша слабая и плохо оснащенная эскадра сможет добиться того, чтобы испанский король и его могущественные флотилии оказались не в состоянии предпринять свой хваленый поход против нас? Окружив поплотнее Дрейка, они напряженно слушали, что он ответит. — Как? А вот вам грандиозный план. Мы должны напасть на Испанию от имени дона Антонио, претендента на корону Португалии. Как вам известно, Филипп захватил его королевство, поэтому советники ее величества считают, что она, не рискуя тем, что ей объявят войну, может разрешить англичанам воевать таким образом, в то же самое время привлекая к делу дона Антонио голландцев, шведов и гугенотов-французов. Такое сочетание примет форму интернациональной компании, которую королева согласится экипировать и снабжать продовольствием и позволит распродажу добычи в Англии. В ответ на такое разрешение королевская казна получит щедрую долю захваченного имущества. На этих свирепых красно-коричневых лицах под ярким солнечным светом во всех деталях отразились разнообразные оттенки изумления, удовлетворенности и сомнения. Первым заговорил генерал-лейтенант Карлеиль: — Клянусь ногтями на ногах Господа, сэр Френсис, ведь мы, уже собравшись здесь, в Плимуте, конечно, не позволим себе медлить, пока на это дело наймут какую-нибудь шайку иностранцев? — Нет, если мне удастся взять верх, — тепло отвечал Дрейк. — Благодаря определенным друзьям в Испании, сэр Френсис Уолсингем подтвердил тот факт, что для победы над Англией сколачиваются, вооружаются и оснащаются две флотилии — одна в Лиссабоне, другая в Кадисе. Поэтому со своей стороны, как заявляют господа из Морского ведомства, нам тоже нужно время, чтобы успеть построить военные галионы и большие военные корабли для нашей защиты, отлить пушки и обучить для них канониров. — И сколько же времени для этого потребуется? — раздался чуть сиплый голос капитана Эдварда Кэрлеса с «Надежды». — Всего два года, — последовал быстрый ответ Дрейка. Он производил впечатление знающего все, что нужно знать по этому делу. — Теперь, джентльмены, вы легко поймете безотлагательность нашей миссии. Она состоит в том, чтобы всячески беспокоить и истощать Испанию. Мы должны помешать военному снаряжению короля Филиппа, мешать запасать продовольствие, совершать набеги на его рыболовов. — Синие глаза адмирала загорелись, проницательный взгляд устремлялся то на одно лицо, то на другое. — Главное, у нас есть разрешение совершать набеги на собственные порты испанского короля! — Боже Всевышний! — вырвалось у капитана Феннера. — Нападать на саму Испанию? — Ну да, — непринужденно ответил Дрейк. — Кроме того, мы должны подбивать колониальные владения Филиппа к восстанию и… — он чуть ли не облизнулся, — и обложить их данью. Суровое лицо капитана Кэрлеса растянулось в ухмылке. Аккуратно сказано: «обложить их данью». В действительности это означало — грабить, жечь и другими средствами разрушать великолепные богатые порты испанского Мэйна.*["328] — Подрезав таким образом крылышки этому парню, Филиппу, — Дрейк вложил в свою интонацию всю глубину презрения, — мы сможем завоевать простор, чтобы строить военный флот и, значит, быть наготове, когда флотилии Испании и Португалии пустятся в море, чтобы напасть на нас. Адмирал мог бы еще добавить, но не сделал этого, что идею этой вроде бы простой философии выдвинул сэр Джон Хоукинс, много лет пробивавший стратегию ведения войны с самой Испанией и всегда выступавший против бессмысленного разбазаривания золотых и людских ресурсов Англии на континенте. Было, однако, совершенно ясно, что взгляды Дрейка и Хоукинса полностью совпадали и оба они настаивали на том, что Филиппа можно победить созданием блокады, которая лишила бы его многих жизненно важных военных материалов, не производимых в его королевстве. Заново воскрешая старые мечты, они указывали, что потеря сокровищ из Америки приведет к полному развалу и без того уже шаткой экономики испанского Габсбурга.*["329] Быстрым шагом пройдясь по шканцам, сэр Френсис обрушился на совет, словно атаковал его в бою: — А потому я требую от вас, джентльмены, чтобы вы в кратчайший срок закончили оснащение ваших судов и снабжение их продовольствием. Посмотрите, что можно сделать, чтобы обеспечить немедленную поставку провианта, сегодня же наполните бочки водой — но только свежей пресной водой. Я желаю покинуть Плимут еще до того, как поспеет приказ из Уайтхолла, где нам будет велено ждать прибытия иностранцев. Теперь же, мои дорогие друзья, расходитесь по своим делам.Глава 2 СУДЬБА ОСТАВШИХСЯ В ЖИВЫХ
На следующий день после созыва общего совета сэр Френсис Дрейк, приободренный, настроился на то, чтобы поскорее уйти из Англии, ибо пороховые суда оказались не в таком уж плачевном состоянии, как сообщалось, и при везении и попутном ветре должны были войти в забитую кораблями гавань Плимута в течение следующих сорока восьми часов. Благодаря обещаниям, премиальным и угрозам, горы довольствия, скопившегося на рыбопромысловых молах маленького порта, становились все выше и выше. Повсюду баржи, вельботы и всевозможные маленькие суда подходили к кораблям, на которых матросы крепили новые тали, прорезали орудийные порты или трудились над парусиной. Отслужив вечерню на своем флагмане, адмирал удобно расположился за столом, установленным на шканцах, и стал щедро угощаться прохладным Канарским вином из фляги, в то время как его секретарь трудился, чтобы успеть управиться с подготовкой доклада своего хозяина. Вверх по лестнице юта затопали ноги, и, снимая шляпу, появился вахтенный командир. — Сэр Френсис, у борта стоит наемное судно, на нем какой-то дерзкий нахал настаивает на личном свидании с вами, ваше превосходительство. Дрейк глянул вверх из-под кустистых светлых бровей. — Он назвался по имени? — Нет, сэр, но он претендует на вашу дружбу и расположение. Дрейк, повеселевший от выпитого вина, согласно кивнул головой. — Неужели? Ладно, приведите сюда мерзавца, но учтите — только на минуту. — Слушаюсь, сэр. Тут же доставлю его сюда. — Разрази меня гром! — вырвалось у адмирала, когда перед ним появилась темно-рыжая голова с бронзовым лицом и дюжая фигура Генри Уайэтта. — Это не наш ли молодой петушок с «Первоцвета»? — Так точно, сэр Френсис, и нижайше вам благодарен за прием. Дрейк оглядел посетителя и решил, что трудные, должно быть, у того настали времена, поскольку он стоял перед ним босой, в одной только выгоревшей рубахе и рваных штанах. И кроме того, в его синих глазах был заметен какой-то обеспокоенный, почти загнанный взгляд, которого прежде не было. — Ну, мой друг, и что же тебе от меня надо? — Сэр, — он смотрел адмиралу прямо в глаза, но слова с трудом сходили с его языка, — я явился узнать, можете: ли вы пристроить меня у себя. — Вот как? Стало быть, наш юный петушок изменил свои взгляды насчет поступления на службу ее величества? Как это лестно. Небось растранжирил подаренные королевой деньги и должен теперь зарабатывать себе на хлеб? Уайэтт мучительно покраснел. — Нет, сэр Френсис. Тут дело посерьезней. — Посерьезней? — Да, сэр. Я купил старое береговое судно в Лондоне, лучшее, какое я мог себе позволить, и возил довольствие для вашего флота, но на прошлой неделе разразилась большая буря и… ну, и дно у «Катрины» оказалось непрочным… У меня не хватило денег на ее кренгование… и она вдруг стала вся протекать, как рыночная корзина. — Она затонула? — Да, сэр, и утащила с собой на дно трех членов моей команды, — с горечью признался Уайэтт. — Остальные уцепились за обломки и были подобраны вон тем большим тихоходом. Выражение лица адмирала смягчилось, и эта его необычайно обворожительная улыбка согрела Уайэтту сердце. — Скверное дело терять корабль, особенно если это твой первый. Знаю. Я тоже терял корабли, приходилось даже и самому их топить, как я однажды сделал у Сан-Бернардино. — Он задумался, вспоминая тот критический день у Номбре-де-Дьос почти пятнадцать лет назад. Его пальцы стали теребить блестящую жемчужину грушевидной формы, висящую у него в ухе. — Значит, ты разорился. — Хуже того, сэр, — горько признался Уайэтт. — У меня остался долг и… и мне теперь приходится содержать жену. — Жену? Боже правый, малыш, ты не тратил времени даром с тех пор, как мы расстались. Гай! — позвал он слугу. — Принеси поскорее чашу вина и тарелку еды. Спорю, что мой друг уже давно не питался ни регулярно, ни в должном количестве. Достаточно, Фульк, — обратился он к секретарю. — Возобновим попозже. А ну-ка расскажи мне, мастер Уайэтт, обо всем, что случилось с тобой со времени нашей последней встречи. Между глотками вина с Канарских островов и вниманием к ножке холодного каплуна, прекрасно гарнированного трюфелями, Уайэтт описал, как мог, трагическую судьбу ведьм из Сент-Неотса, свое бегство из тюрьмы и, наконец, воздал должное мужеству и постоянству славной своей Кэт. — Так что видите, сэр, трудно мне, сидя в луже, описывать свои удачи. — Он выпрямил плечи и заставил себя улыбнуться. — Поскольку спасшее меня судно шло в Плимут, я вспомнил о ваших прощальных словах. Дрейк задумчиво потрогал пальцами подвеску из бриллианта и жемчуга, свисающую на роскошной золотой цепи, и спросил: — Сколько вместе с тобой спаслось матросов? — Три крепких парня, сэр. И они не в лучшем положении, чем я. — Скажи им, чтобы поднимались на борт «Белого льва». — Унизанные драгоценными камнями пальцы Дрейка немного поласкали его золотистую бороду. — Что же касается тебя, мастер Уайэтт, хм, видишь ли, два дня назад с помощником штурмана моего флагмана случилась беда. Поэтому отправляйся к моему флаг-капитану, Томасу Феннеру. Твое жалованье будет десять шиллингов в месяц. Если докажешь, что ты тот самый ловкий моряк, за которого я тебя принимаю, тогда, возможно, я достану тебе новое судно — за счет испанцев.Глава 3 ЛЮБИМЕЦ КОРОЛЕВЫ
Несмотря на то что вдоль берегов Корнуолла и Девона сновали адъютанты и быстрые пинассы с приказом ускорить поставку существенно важных предметов довольствия, день за днем небольшая эскадра сэра Френсиса Дрейка вынуждена была простаивать в очаровательной гавани Плимута, все это время засоряя ее воды всевозможным мусором и отходами. Хуже того, среди моряков началось дезертирство: их сманивали обещанием высоких заработков на борту купеческих судов, занятых перевозкой товаров вдоль побережья. Похоже, бесплодными оказались и обращения адмирала Дрейка к Тайному совету и особенно к Торговой корпорации Лондонского Сити, подписавшей полис морского страхования в отношении большинства военных кораблей, находящихся под его командованием. Все больше выводила адмирала из себя та ужасающая медлительность, с которой устанавливались некоторые новые орудия, полупушки, кулеврины и камнеметные орудия. Каждый день задержки обходился страшно дорого, а все расходы, связанные с этой экспедицией, ложились на него самого и других частных инвесторов. Казна королевы не участвовала в этом мероприятии — до сих пор она не выделила ни пенни. Ее величество с большой неохотой позволила кораблям «Бонавентур»и «Подспорье» отправиться в это плавание, и даже их экипажи оплачивались из частных кошельков инвесторов. Для Генри Уайэтта задержка оборачивалась еще большей мукой. Он представлял себе Кэт пораженной как громом, озадаченной и расстроенной тем письмом, которое он с болью нацарапал по прибытии в Плимут. Разумеется, она могла и не получить его послания, поскольку ему не оставалось иного выбора, как только препоручить его трезвому на вид лоцману посыльной пинассы. Уайэтт прекрасно понимал, что этот малый мог выбросить его письмо и налакаться на тот шиллинг, что он дал ему, надеясь гарантировать доставку. Горько было ему от сознания, что Кэт так сравнительно близко и все же так от него далеко. Возможно, теперь подошло уже к концу первое плавание капитана Фостера в Нидерланды на новом кромстере, купленном им на деньги, вырученные от продажи доблестного «Первоцвета». Бедная Кэт! Прочитав о потере «Катрины», она, видимо, страшно расстроилась. К тому же там находилась большая часть отобранного ею самой приданого. Ах, как легко быть сильным задним умом! Сколько бы это ни стоило, ему нужно было выкроить время для кренгования «Катрины», чтобы тщательно, фут за футом и доска за доской, осмотреть ее днище. А теперь срочная необходимость возвратить Николасу Спенсеру те занятые им 15 золотых фунтов висела на нем как жернов на шее. Боже правый! Неужели не выступит Дрейк никогда из этой гавани и не возьмет курс на Бискайский залив? Сколько ему еще придется ждать возможности показать себя в деле и тем самым заслужить право на владение новым судном? Адмирала Уайэтт видел очень редко, однако, когда это случалось, желтоволосый герой Англии неизменно одаривал его дружеским кивком и той обаятельнейшей улыбкой, которая магически превращала обычно жестоких врагов в надежных и верных друзей. Много бурных дебатов велось тогда в капитанском совете, во время которого разгоряченные капитаны осыпали друг друга проклятиями и оскорблениями, пока не появлялся сэр Френсис Дрейк, готовый выслушать и понять каждого капитана с его проблемой, но все же при этом настаивая, чтобы он отказался от пары своих претензий ради одной выигрышной. В том веке, когда короткие ссоры быстро доходили до длинных кинжалов, его терпение казалось чем-то невероятным. Ничто не изумляло так Генри Уайэтта, как дисциплина, которой Дрейк добивался на флагмане и на всех других своих кораблях. До него, как известно, экипажи, когда им это было удобно, то и дело не подчинялись командам своих капитанов, и во время продолжительных плаваний мятежи скорее являлись правилом, чем исключением, и поэтому многие экспедиции постигала беда. Во время своего знаменательного плавания вокруг света Дрейк оказался на волосок от трагедии на неласковых берегах Тьерра-дель-Фуэго*["330]. Там он судил, накормил обедом, а потом действительно очень вежливо предал казни Томаса Доути как зачинщика беспорядков. Верно, что некоторые старые морские волки, такие, как Фробишер, Бароу и Бромли, непрестанно ворчали, выражая недовольство этим новым порядком, и, насколько могли, освобождали служащих под их командованием дворян от их обязанностей моряков. Наконец прибыла отсутствующая артиллерия и ее по частям втащили на борт. Группа оружейников из военно-морской верфи в Дептфорде позаботилась о том, чтобы пушки как следует установили и отладили для стрельбы. Они завидовали тому времени, когда занимались вооружением кораблей, которые строил сэр Джон Хоукинс на тот случай, если английскому военному флоту придется выйти в море для защиты своей державы. Почти каждый день в порт входили суда и следовали впечатляющие описания приготовлений, предпринимаемых адмиралами Филиппа, особенно искусного и любящего сражения маркиза де Санта-Крус. Во всех испанских и португальских колониях, крупных и мелких городах был объявлен набор рекрутов. Кроме того, закипела бурная деятельность на верфях Лиссабона, Кадиса и Барселоны. Там у воды вырастали кили, шпангоуты и остовы гигантских каракк, галионов и галеасов. Уайэтту дел хватало по горло. Штурман «Бонавентура» Хамфрис, способный, умный и энергичный, страдал ревматизмом, и нередко у него случались странные приступы лихорадки, которую он подцепил, побывав в рабстве на восточном побережье Африки. Вскоре после поступления на королевскую службу Уайэтт подружился с капитаном Томом Муном. Грубоватый, славящийся своим сквернословием, он сопровождал Дрейка в его историческом кругосветном плавании на «Пеликане», переименованном в ходе этого события в «Золотую лань». Теперь он командовал личным капером*["331] Дрейка и по вечерам ублажал таращившихся от изумления завсегдатаев портовых таверн фантастическими байками об антропофагах — расе безголовых людей, видящих посредством глаз, расположенных в виде сосков на груди, а питающихся через пупки Далее он описывал здоровенных ревущих морских слонов и злонравных морских коней, которые при случае раскусывали человека пополам. Он говорил и о тех по характеру добрых и мягких, но ленивых аборигенах, которых мореплаватели обнаружили в месте их обитания — в огромном закрытом заливе на западном побережье Северной Америки. Слушая его, Уайэтт думал о Питере Хоптоне и о встрече их в «Красном рыцаре». Что случилось с сильным и беззаботным его кузеном? — Да. Когда мы завидели острова Пряностей*["332], — рассказывал Мун, — их можно было почуять носом за пять лье*["333], так они сильно пахнут своими рощами деревьев гвоздики, перцем и сахаром. — Травя свои байки, Мун брызгал слюной, как маленький водопад, и она разлеталась во все стороны, особенно когда он воодушевлялся, хватив крепкого эля, предложенного ему его восхищенными слушателями. — Капитан, а на тех островах Пряностей женщины есть? — вопрошали горячие его поклонники. — А как же, деревня ты неотесанная, — фыркал Мун. — Хоть жители Ост-Индии и чудные, дети у них все же рождаются бабами — точно так же, как здесь, — а не вылупляются из яиц, как, я слышал, болтают некоторые путешественники. — А они симпатичные? — Лопни мои глаза, да. Они кроткие, зрачки у них как ягоды терновника, а кожа коричневая, как цыганская задница. Видели бы вы нашего адмирала на острове Моко в тот день, когда туземцы замыслили предательство. Именно там местные дикари зарезали, а потом и совсем сожрали бедняг Тома Флуда и Тома Брюера. Да, напоролись тогда. Самому адмиралу попали стрелой в лицо. Если приглядеться как следует, можно заметить шрам прямо под правым глазом возле ноздри. Около двух тысяч их было, — продолжал Мун, — завывали, как оборотни. Из-за противного ветра и отлива нам пришлось стоять у берега и наблюдать, как наших бедных товарищей раздели догола и связали по рукам и ногам. Потом дикари распевали, выплясывая вокруг них; и наконец эти чудовища склонились над пленниками и стали отрезать куски мяса прямо от живого тела. Они подбрасывали куски плоти в воздух, а те, что плясали, хватали и съедали. — Надо же! Но вы, наверное, могли что-нибудь сделать? — допытывался капрал. — Конечно, мы стреляли бортовыми залпами, но расстояние было чересчур велико, а когда мы попытались высадиться, они нас встретили ливнем стрел, плотным, как при грозе. Поэтому в ярости адмирал приказал поднять якорь, и мы ушли, не наполнив ни бочки из-под воды, ни желудки. — Действительно ли существуют такие чудеса на свете, как русалки? — поинтересовался запачканный дегтем такелажник. — Да, дорогой, существуют. Собственными глазами видел таких, большей частью в устьях великих рек Южной Америки, впадающих в море. По правде говоря, эти твари не так уж красивы, как будут уверять тебя некоторые, они почти безволосые, с серовато-коричневым цветом кожи. Но все равно своих детишек они носят с собой под мышками и, даже плавая, кормят их грудью. — Расскажите нам о том корабле с сокровищами, который вы захватили у берегов Перу. Блеснули серьги из чистого золота, когда Мун задрал косматую голову, чтобы удобней было принять в свою глотку щедрый глоток эля. — Сказать по правде, друзья, дело это — не такой уж геройский подвиг, как писал бы об этом в балладе поэт. Испанские суда в Тихом океане плавают почти невооруженные: мы нашли на борту только семь аркебуз, когда взяли на абордаж «Nuestra Senora de la Concepcion», известный нам, англичанам, под именем «Касафуэго». Мы перелезли через борт этого здоровенного судна с сокровищами, визжа как демоны, которых испугали ливнем святой воды, и пришлось лишь несколько раз помахать туда-сюда палашами, после чего испанцы бухнулись на колени и запросили пощады. — Вы их, конечно, всех закололи? Томас Мун окинул говорившего взглядом, исполненным сожаления. — Неотесанный ты невежда. Того и не знаешь, олух, что наш адмирал — джентльмен, отличающийся редким милосердием. Он ни разу не продал пленника в рабство, не подверг его пыткам и истязаниям. Когда мы грабили захваченное судно, он обычно устраивал для его офицеров пир у себя в каюте, а потом, сделав им подарки из их же собственного добра, вежливо возвращал на судно. — Но, скажите, ради Бога, почему? — спросил чей-то голос сзади. — Разве проклятые испанцы не сжигают и не мучают наших, захваченных ими в плен? Разве бедняга Джон Оксенхэм не страдал от ужасных пыток, прежде чем наместник Перу повесил его в Лиме? — Твоя правда, — прорычал Мун. — Что до меня, никогда не пойму, почему сэр Френсис так мягок с папистами. Это и много чего еще слушал Генри Уайэтт, опечаленный воспоминаниями о Питере, но, как и у всех остальных, глаза у него сузились и участилось дыхание, когда капитан Мун рассказывал, как трюмы «Касафуэго» слиток за слитком отдавали чистейшее золото и серебро, как в сундуках «Золотой лани» исчезали в великом множестве маленькие мешочки жемчуга, изумрудов и тех больших желтоватых алмазов, которыми славились прииски Южной Америки. Что именно в тот момент заставило Уайэтта поднять глаза над головами сидящих, он бы не мог объяснить, но, как бы то ни было, он заметил группу из трех человек, спокойно входящих с конюшенного двора. Один, одетый в темно-зеленое платье, отделанное алыми полосами, казался довольно высокопоставленной персоной, а двое других были рангом пониже, хотя и не принадлежали к классу служивых. В поведении этого энергичного темноволосого молодого дворянина замечалась какая-то отчужденность и что-то было знакомое в том, как выглядела его светло-коричневая борода, подстриженная на итальянский манер. И вдруг он вспомнил тот день во дворце королевы в Хэмптон-Корте, как Дрейк говорит ему приглушенным голосом: «А вон там стоит образец совершенства сэр Филипп Сидней — солдат, поэт и в данное время любимец королевы». Но был еще один факт, который врезался в сознание Уайэтта: королевский любимчик был также главным над артиллерией и потому в военных вопросах стоял наверху. Почему это начальник артиллерии королевы вот так, чуть ли не тайно, появляется в Плимуте? Быстро и не привлекая к себе внимания, сэр Филипп прошел через заднюю часть пивной, направляясь в приватную комнату в сопровождении хозяина заведения, который весь рассыпался в поклонах и восторженно улыбался. Не сформулировав в уме никакого определенного плана, Уайэтт натянул на голову свою круглую кожаную шляпу, потихоньку выбрался из толпы и вышел во двор, где стояло с полдюжины разгоряченных верховых лошадей, от которых шел пар, и тройка слуг, видимо, из той же компании сэра Филиппа охлаждала их пыл. Уайэтту с его наметанным глазом стало совершенно ясно, что этих животных гнали сюда очень быстро и издалека. На ум пришла мысль, которая показалась ему очень важной. Как и все другие, служащие на «Бонавентуре», он понимал, что сэр Френсис Дрейк смертельно боится, как бы присутствие на корабле какого-нибудь любимчика королевы, подобного этому бойкому, бросающемуся в глаза сэру Филиппу Сиднею, не смутило бы его и не лишило бы авторитета в глазах всей команды. На берегу Уайэтт, подчиняясь внутреннему побуждению, заплатил лодочнику два фартинга за то, чтобы он отвез его на флагманский галион, который великолепно смотрелся ярко окрашенным корпусом и снастями, четко выделявшимися на желтоватой мути воды и на фиолетово-синем темнеющем небе. Адмирал играл в шашки со своим флагманским капитаном Феннером, когда адъютант доложил ему, что некий член экипажа настоятельно просит переговорить с сэром Френсисом. Дрейк, гордящийся тем, что всегда доступен офицерам и людям низшего ранга, кивнул, выражая согласие. — Так это снова вы, мастер Уайэтт? — отрывисто проговорил он. — Похоже, всегда, когда мы встречаемся, в воздухе пахнет грозой. Уайэтт стоял перед ним и нервно мял шляпу. — Точно, сэр, но на этот раз, может, я и напрасно вас беспокою. Взгляд синих холодных глаз посуровел. — Помогай вам Бог, если это действительно так. Ну, говорите, что там такое стряслось? — Помните, сэр, когда мы были во дворце, вы показали мне одного дворянина? — Там их было навалом. — Но этот был очень красивый молодой человек с раздвоенной каштановой бородой. — Генри бросил взгляд в сторону, на капитана Феннера. — Вы еще назвали его любимчиком королевы. Челюсти Дрейка так резко сомкнулись, что клацнули зубы. — Сэр Филипп Сидней! Он в Плимуте? — Слова прозвучали как удары палочек по туго натянутой коже барабана. — Так точно, сэр. Я только что видел, как он приехал. Он остановился в таверне «Трезубец». Феннер разразился крепким проклятием: — Горящие глаза Иисуса! Это как раз то, чего мы боялись! Дрейк окинул Уайэтта проницательным взглядом. — Сэр Филипп прибыл с помпой? Много с ним сопровождающих? — Нет, сэр. Он, должно быть, гнал изо всех сил, это видно по лошадям. И с ним только двое джентльменов. Нетрудно было заметить, что Дрейк напряженно думает. Он вскочил на ноги и сделал несколько быстрых шагов взад и вперед, тогда как Феннер ворчал себе в бороду и жаловался, что эскадра все еще торчит у мыса Рейм Хед. Вдруг адмирал щелкнул пальцами. — Я уверен, что эта жаждущая романтики горячая голова выскочила из шелковых пут королевы и примчалась сюда, чтобы участвовать в экспедиции. — Он дернул себя за остроконечную бороду. — Подождите здесь, — приказал он Уайэтту и, проорав команду вверх по сходному трапу, позвал своего секретаря. Когда Фульк Гревиль спустился к нему в каюту, Дрейк продиктовал расчетливое, но в скромных выражениях, письмо сэру Френсису Уолсингему, настаивая на том, чтобы немедленно отозвали во дворец этого человека, представляющего собою вызов еголичному авторитету. «Я просто не могу потерпеть, чтобы сэр Филипп Сидней стал одним из членов моей компании, — писал он в заключение, — особенно в изложенных мною обстоятельствах. Ее милостивое величество ни за что не поверит, если только вы не убедите ее как можно скорее, что я не уговаривал ее любимца принять участие в своей экспедиции». — Вы, мастер Уайэтт, будете нашим посыльным. Отвезите это Гренвиллю в Гринвичский дворец и не жалейте никаких расходов. Гоните туда во всю мочь. Я не испытываю никакого желания смотреть на белый свет из темницы Тауэра.Глава 4 В ДОМИКЕ МИССИС ФОСТЕР
— …Итак, куколка, я передал послание адмирала в руки сэра Френсиса Уолсингема. Когда этот большой человек прочитал письмо, его лицо вспыхнуло как вечерняя заря. Уайэтт, сидя на табурете, согревал руки у крошечного камелька в этой довольно просторной спальне миссис Фостер, которая стала теперь их единственным домом. — Видишь ли, Кэт, дело это было чрезвычайно щекотливое. Сэр Филипп Сидней женат на дочери Уолсингема, Франсуазе. «Дурак! — гремел милорд советник. — Ну что за романтический идиот!»И он обложил своего зятя такими крепкими словами, что мне и подумать-то о них стыдно. — Еще бы, неудивительно, — комментировала Кэт, неторопливо расчесывая свои светлые, с медовым оттенком пряди, всегда бывшие для ее мужа главным источником восхищения. Королеве, объяснил Уайэтт, еще предстоит узнать, что ее любимчик не только не подчинился приказу, повелевающему отправиться на службу под начало графа Лестера, но подобно шкодливому школьнику в обиде сбежал с урока, потому что королева считала его чересчур драгоценным для такой суровой и грубой морской экспедиции, которую намерен предпринять адмирал. После двухдневного пути, осунувшись и загорев, Уайэтт был вознагражден за свои труды: при расставании Уолсингем бросил ему небольшой кошелек, говоря: «Возьмите это, мой добрый друг, и передайте мою благодарность адмиралу. Думаю, ваша скорость и его проворство спасли и сэра Филиппа, и меня от самой большой беды». — А как выглядит сэр Френсис Уолсингем? — Кэт явно была довольна, что ее Генри фигурирует в делах государственной важности. Ее широкие серые глаза горели прелестным огнем. — Ему за пятьдесят; длинноносый и малость согнутый ревматизмом. — А кошелек? — проговорила она, улыбнувшись и протягивая руку. — Это подарок судьбы, мой милый, а тот золотой фунт, что дал тебе адмирал, ну… это меня не касается. — Увы, в кармане адмирала было почти что пусто, — вздохнул он. — Единственная золотая монета и несколько серебром. — Он притянул ее к себе на колени. — Надеюсь, что в кошельке милорда Уолсингема окажется достаточно, чтобы расплатиться с этим проклятым долгом Нику Спенсеру и дать тебе возможность продержаться до моего возвращения. — Он огляделся вокруг. — А где мой добрый зеленый плащ? И где твои ожерелье и расческа? Его жена принужденно улыбнулась. — Вести о гибели «Катрины» быстро достигли Лондона. Николас Спенсер был очень добр, но другие кредиторы привели судебных приставов — и у нас все забрали. Фактически, Генри, они не оставили почти ничего, кроме этой рубашки, которая сейчас на мне. Уайэтт медленно постучал кулаком о кулак. — Бедняжка моя! Скверно, конечно, что так рано нам выпало это невезение. Сидя у него на коленях, Кэт вытянула ногу и не слишком-то белым пальчиком подтолкнула конец хворостины в огонь. — Жизнь, душа моя любезная, как мне говорили, не что иное, как везение и невезение, которые выпадают попеременно. Может, оно и лучше, что наше невезение явилось, когда мы молоды. И у нас бывают удачи. — Она повернула голову и заглянула в его честные синие глаза. — Бывают удачи, — невесело повторил он. — Да, милый. — Губы ее коснулись жесткой его щеки. — Когда ты вернешься из экспедиции, которая, я уверена, будет успешной с твоим замечательным адмиралом, нас уже тут будет двое, чтобы любить тебя и восхищаться тобой. — О Кэт! Кэт! Ты и правда в этом уверена? — Вне всякого сомнения, — просто отвечала она. — Так говорит матушка Фостер, а она в такого рода делах имеет большой опыт. Расцеловав ее, он грустно вздохнул. — О Боже, только подумать, что я должен уплыть от тебя так далеко и оставить тебя почти без гроша. Ты, наверное, Кэт, должна сожалеть о той ночи, когда я постучал тебе в ставни? — Никогда! — горячо возразила она. — Ни на одно мгновение! Ты уезжаешь утром? — Да, — неохотно признался он. — Адмиралу нужно быть уверенным в том, что я виделся с сэром Френсисом Уолсингемом. — Это и хорошо, — пробормотала она. — Знай твои кредиторы, что ты возвратился, нам бы могло быть плохо. Так что поезжай-ка ты лучше завтра пораньше. Но до этого… — Она развязала свою рубашку, и та соскользнула ей на колени. Глянув поверх сияющего белизной плеча на их узенькую и неудобную постель, она улыбнулась безмятежной улыбкой.Глава 5 14 СЕНТЯБРЯ 1585 ГОДА
Не много потребовалось времени жителям городишка Плимут в графстве Девон, чтобы все узнать о нарочном, прискакавшем галопом из Лондона. Сообщали, что он загнал двух лошадей — такова была срочность его поездки. Ходили слухи, будто этот адъютант привез три письма: одно, адресованное этому бравому юному дворянину сэру Филиппу Сиднею, с требованием немедленно вернуться к королевскому двору; другое — адмиралу сэру Френсису Дрейку, со вздохом огромного облегчения воспринявшему непосредственный приказ ее величества, чтобы ни при каких обстоятельствах сэр Филипп Сидней не сопровождал его экспедицию; и третье — его милости мэру Плимута с инструкцией упечь любимчика королевы в тюрьму, если только он проявит нерешительность и задержится с отъездом в Лондон. Бедный сэр Филипп пришел в замешательство. Каким это образом королева так быстро узнала о его попытке сбежать? Говорили, что молодой дворянин, этот бедняга-романтик, неистовствовал как безумный, прочтя короткое и властное распоряжение Глорианы немедленно явиться в Гринвичский дворец. Как только сэр Френсис Дрейк и подчиненные ему адмиралы благополучно проводили в путь, назад в Лондон, «цвет рыцарства», удрученного и все время при этом проливающего крокодиловы слезы, гавань Плимута стала ареной какой-то судорожной, почти нелепой спешки. Одно за другим к причалам подтягивали или прибуксировали суда разных видов; те, что служат для перевозки провианта: каравеллы, береговые суда, боты и кромстеры, — и на них сваливали в беспорядке первое, что попадалось под руку из припасов. Только отходило одно нагруженное судно, как уже другое подставляло свои борта причалу. Адмирал так торопился, что никто не знал, какие именно припасы шли на те или иные суда. Он не стал даже медлить, чтобы наполнить бочонки водой, истощившиеся за время бесконечных проволочек. Простые моряки и джентльмены — последние стали уже соблюдать строгое предписание Дрейка «тянуть и тащить вместе с матросами» — работали до седьмого пота. На самом деле адмирал пошел даже на то, чтобы выставить вдоль лондонской дороги дозоры из моряков, а у Ярмута — сторожевое судно с приказом предупреждать его и мешать проезду любого посланника королевы. Весь день на протяжении 12 и 13 сентября эскадра Дрейка заглатывала в свои трюмы орудия, продовольственные припасы и прочее снаряжение. Возможно, это была лишь ложная тревога, но когда дозорные Дрейка на лондонской дороге примчались что есть мочи в Плимут — это было на утренней заре 14-го — и, еще не отдышавшись, сообщили, что в Тейвистоке остановился перекусить гонец королевы, собираясь заодно поменять лошадей, адмирал повернулся к капитану своего флагмана. Чувствуя, что задул свежий ветер, хотя небо и было пасмурным с дождевыми облаками, он коротко отчеканил: — Срочно передайте сигнал поднять якорь. Клянусь Богом, им меня не остановить! Жители городка столпились на барбикане, большой проходной башне, стояли рядами у различных причалов и даже вышли на еще не достроенный мол. Те, кто находился на каперских и других судах, не сопровождающих экспедицию, смотрели, как распускаются паруса одного за другим двадцати семи кораблей, входящих в эскадру Дрейка. Большинство из них выглядели совсем крошечными и на самом деле такими и были, ведь тоннаж их не дотягивал до ста тонн. В сущности, в поход уходили только три действительно крупных корабля: шестисоттонный флагманский корабль «Бонавентур»с вымпелом Дрейка и флагом с крестом Святого Георгия, четырехсоттонный галион «Лестер»с флагом контр-адмирала Ноллиса — кузена самой Глорианы, а также двухсотпятидесятитонный корабль «Подспорье», принадлежавший королеве и находившийся под командованием сварливого капитана Уильяма Винтера. Слаба и ничтожно мала эта эскадра, чтобы с нею бросать вызов мощи Испании и Португалии, неоспоримо властвующих на Семи Морях — так мрачно брюзжало претенциозное дурачье. Любая из этих больших каракк, поправлявших теперь такелаж в Лиссабоне и Кадисе, могла выставить больше пушек, чем любая шестерка самых мощных военных кораблей Дрейка. — Да, корабли его маловаты, — заметил один суровый капитан купеческого судна, — но обратите внимание на имена людей, которые командуют ими: Фробишер, Винтер, Ноллис, один Хоукинс и два Дрейка! — Он был прав. С этой эскадрой в поход отправлялись люди, чье постоянство, сила духа и выносливость определяли судьбу не только Европы, но и всего мира на протяжении многих последующих веков. Один за другим их корабли выскальзывали из гавани с поднимающимися и опускающимися парусами до тех пор, пока дующий с берега ветер не наполнял их ровно и до краев, одновременно развевая белые флаги с кроваво-красным крестом Святого Георгия. Береговой бриз сносил в море и дым салютов, зажигаемых каждым кораблем при прохождении мимо сторожевого форта, мимо Барбикана, охраняющего Плимут и часть рейда. На борту кораблей люди с жадностью смотрели в открытое море, и только немногие еще поглядывали назад на крутые холмы и зеленые луга Девона, все уменьшающиеся за кормой. Разве не ждали их впереди за бушпритами богатства Испании и Индии? Если им позволяли обязанности, матросы и благородные господа устремляли глаза к шканцам «Бонавентура», где в ярко-синей одежде стоял невысокий прямой человек. Наконец-то отплыли они с Золотым адмиралом, отплыли, чтобы узнать, какая их ждет судьба в тех далеких землях за горизонтом.Глава 6 К БУХТЕ ВИГО
Под все более палящим солнцем армада сэра Френсиса Дрейка — люди сухопутные постоянно удивлялись, как часто на судах королевы употреблялись испанские и португальские морские термины, — пробороздила вечно изменчивый Бискайский залив. За два дня перед этим она попала в жестокий шторм, разметавший эскадру и угнавший пинассу «Спидуэлл» назад в Плимут. Наступило воскресенье, и корабль ее величества «Бонавентур» поднял все флаги, а адмирал прочел со шканцев очень яркую проповедь. Среди слушающих ее дворян находился некий сквайр Хьюберт Коффин. Его сотоварищи считали этого молодого джентльмена веселым, остроумным и проницательным, потому что, по его оценке, Золотой адмирал лишь совсем незначительно по всемогуществу отличался от самого Господа Бога. Возможно, потому, что сквайр и Уайэтт были почти ровесниками и жадно поглощали все, что могли узнать о навигационном искусстве, между ними возникло взаимоуважение. По большей части именно от молодого Коффина Уайэтт приобрел ценные знания, касающиеся артиллерийского дела и умения поддерживать дисциплину. Например, Коффин объяснил ему, что, когда начинается сражение, солдаты с аркебузами и пиками посылаются на возвышающиеся полубак и полуют галиона, тогда как здоровенные бомбардиры, вооруженные гранатами, забирались на боевые марсы, которые едва ли больше, чем бочки из-под солонины. — На этом военном корабле и большинстве других морские офицеры, — Коффин вытянул длинный загорелый палец, — это капитан, на торговом судне ты бы называл его «мастер», потом ответственный за хозяйство боцман и помощник боцмана, затем канонир и помощник канонира. — Хотя Генри Уайэтт давно уже это знал, он промолчал, не желая перебивать своего приятеля. — Затем идут старшие моряки; обычно они делятся на младших офицеров и тех моряков, которые управляют парусами. Они все получают по десять шиллингов в месяц. Ниже стоят йонкеры, или обыкновенные матросы; затем кренгельсы, или корабельные ученики, и, наконец, эти бедолаги, которых зовут юнгами. — Хорошо. Но меня больше всего интересует артиллерия, — признался Уайэтт, когда они помедлили у основания бизань-мачты с латинским треугольным парусом. Был там и второй бизань, поменьше, расположенный от первого ближе к корме, а потому, что это был первый из кораблей королевы, на котором поднимали второй бизань, он стал известен под названием «бизань Бонавентура». Подчиняясь движению палубы вверх и вниз, они пересекли ее поперек, чтобы видеть другие корабли эскадры или «армады», как настоятельно рекомендовал называть эскадру Коффин, растянувшиеся в длинный неровный строй. Они бороздили синие воды Бискайского залива, и их паруса казались неестественно чистыми в этом ярком солнечном свете. — Артиллерийское дело? Друг Уайэтт, ты обратился к кому следует, — рассмеялся Коффин. — Я целиком и полностью за порох. Что бы там старики ни говорили, длинный лук и даже арбалеты уже свое отжили. Войны будущего будут выигрываться порохом. Он похлопал по длинному пушечному стволу и, перейдя на серьезный тон, стал объяснять: — Перед нами полу пушка, способная выбросить тридцатифунтовое железное ядро на расстояние тысячи семисот ярдов. Конечно, точно не угадаешь, куда оно попадет при такой дальности орудийного огня, — добавил Коффин, ослабляя простой суконный воротник, который он носил вместо брыжей. — Но для ядра это громадное расстояние, ведь так? — Верно. Сколько людей требуется для обслуживания этого орудия? — Уайэтт пробежал глазами по сбивающей с толку путанице талей и канатов, которыми орудие крепилось к палубе и борту. — Четверо канониров, — последовал незамедлительный ответ. — Разумеется, для самого тяжелого орудия, которое мы сейчас устанавливаем, потребуется шесть канониров. — Он повернулся и указал рукой. — Вон там, друг Уайэтт, у нас кулеврина, отличнейшее орудие, бьет семнадцатифунтовыми ядрами примерно на две тысячи пятьсот ярдов. — Ого, это же больше чем полмили! — удивился Уайэтт, затем в его ярко-синих глазах появилась подозрительность. — Уж верно, друг Коффин, ты меня разыгрываешь? — Да нет же. Завтра получишь доказательство тому, что я говорю, так как ручаюсь, что к тому времени сэр Френсис распорядится насчет учебной стрельбы. По этому поводу другие капитаны наверняка разворчатся как голодные медведи, а джентльмены будут ругаться и кукситься. Хотя наше судно и не так хорошо вооружено, как те новые корабли, которые, как мы слышали, строятся в Дептфорде, однако мы устанавливаем восемь полупушек по каждому борту. — А как называются те небольшие пушки, установленные у нас на юте и на полубаке? — Это камнеметные орудия, они стреляют каменными ядрами. Следующие по величине — полукулеврины. Все они называются осадной артиллерией, обладая небольшой дальностью огня, но мощным выстрелом. Затем у нас есть убойные орудия, стреляющие исключительно картечью, такие, как вон те пушки, что стоят вдоль поручня, а двухфунтовые фальконеты охраняют наш шкафут. Эти орудия заряжаются с казенной части, и дальность огня у них очень небольшая, потому что главное их назначение — отражать идущих на абордаж; мощность выстрела у них теряется из-за плохо подогнанных замков на казенной части. Коффин все рассказывал и рассказывал до тех пор, пока голова у Уайэтта не закружилась от незнакомых слов; тем не менее он приготовился запомнить их все до одного. Этот сентябрьский денек был таким, о каком обычно мечтают выходящие в плавание моряки: теплый, но не переходящий в зной воздух; наверху поскрипывали реи, создавая мягкий аккомпанемент ветру, тренькающему в брасах, фалах и вантах. Правильно или ошибочно, но поговаривали, что завтра на горизонте покажется берег Испании. Поэтому будут учения по внедрению автоматизма действий при орудии и стрельба по мишени. — Подожди, пока не послужишь на каком-нибудь другом из наших кораблей, — заметил Коффин. — Вот тогда убедишься, что сэр Френсис поступает умно, когда настаивает на том, чтобы люди, несущие разные обязанности, держались своего места на корабле и чтобы строгое подчинение приказам стало неукоснительным правилом. Боже! Почти на всех других кораблях ты услышишь пререкания и игру словами, если приказ не нравится; бывает, матросы просто-напросто игнорируют такую команду и это им сходит с рук. Так было на «Черном медведе», на нем я ходил к западному побережью Африки по заданию сэра Джона Хоукинса. Джентльмены на судне избегали простых матросов и держались в сторонке, отказываясь выполнять какую-либо работу, связанную с навигацией. Их дело воевать, говорили они. Что еще хуже, большинство из них держали слуг, которым запрещалось пальцем пошевелить в деле управления судном, даже если их собственная жизнь висела на волоске. На юте зазвучали трубы, и группы блестяще одетых джентльменов удалились, чтобы принять участие в послеполуденной трапезе. В этой эскадре, как и в большинстве других, еда подавалась только два раза в день, тогда как те, кто состоял в низшем ранге, сами готовили суточные рационы, склоняясь над огнем, разведенным на ящиках с песком в районе полубака. Как обычно, если позволяла морская погода, сэр Френсис Дрейк обедал с помпой. Он откровенно наслаждался тем фактом, что сын бедного приходского священника может потчеваться, имея двух мальчиков на подхвате: один передавал ему еду или подставлял медный таз, в который он сплевывал воду при полоскании рта, другой готов был наполнить кубок из чистого золота сию же минуту, как тот становился пустым. В большущем кресле с деревянной резьбой, обитом тисненой кожей, адмирал казался почти малышом, особенно если справа от него возвышалась фигура восседающего за столом старшего сержанта Энтони Пауэлла, великана валлийца со смуглым лицом. Последующим поколениям старшина будет известен как генерал-майор Пауэлл. Присутствовали также два полевых капрала Дрейка — позже ставших бригадирами. Генерал-лейтенант Карлейль с интересом отметил, что сегодня к адмиральскому столу приглашены в основном армейские офицеры. Дрейк, разумеется, получал немалое удовлетворение от того, что под его командованием оказались как флотские, так и армейские элементы. Какое-то время адмирал молча старался разжевать кусок определенно жесткой говядины, задаваясь вопросом, догадываются ли другие о его беспокойстве относительно следующих нескольких дней. Они конечно же видели мощь Испании на суше и на воде, продемонстрированную ею в Средиземном море и Нидерландах, и все как один знали, какая ужасная доля поджидает еретиков, воюющих против самого его католического величества, если они попадают в плен. Едва ли нашелся бы за этим столом человек, не потерявший родственника или близкого друга по вине Святой инквизиции. Тем не менее сердце Дрейка стучало сильнее при мысли, что он командует крупнейшей морской экспедицией, когда-либо отплывавшей от берегов Англии. Не то чтобы это была последняя такого рода эскадра или самая сильная: пройдет еще два-три года — и флот Англии получит те прекрасные корабли и галионы, которые сэр Джон Хоукинс проектировал и закладывал с неисчерпаемой сноровкой, проницательностью и воображением, — но она стала первой. И кто, интересно, должен будет командовать великолепными новыми кораблями, как не некий Френсис Дрейк? Не светит ли ему еще графский титул, если только некоторые нынешние планы его и расчеты окажутся плодотворными? Дрейк отложил столовый нож и, орудуя «пальцами учтивости» — большим и третьим пальцами левой руки, — поднял последний кусок говядины и поднес его к обросшим бородой губам. Он заметил, что Кристофер Карлейль изучает его с насмешливым выражением в серо-стальных глазах. — Ручаюсь, что могу прочесть ваши мысли. — Дрейк улыбнулся, заслышав мягкие звуки музыки, исполняемой на виолах парочкой музыкантов, примостившихся на сходном трапе. — Вы думаете: «Чума и оспа на адмирала за то, что молчит о своем намерении»? Напряженно сжатый рот Карлейля слегка расслабился. — В самую точку, сэр Френсис. Действительно, ваши полевые капралы, старшина и я хотят обсудить с вами высадку на берег и то, какую применять тактику. — Точно. — Капрал Симпсон кивнул в согласии с легкой носовой качкой «Бонавентура». — В чем же конкретно заключается наше предприятие, сэр Френсис? — Во-первых, я намерен добиться безусловного освобождения наших соотечественников и их судов вместе с товарами, — тут же последовал ответ. — Кроме того, я нанесу как можно больше вреда испанскому торговому флоту. — Адмирал нахмурился. — Ох, жаль, что мне запрещено сжигать их порты. — Но, разумеется, мы можем их пограбить? — полюбопытствовал Пауэлл. Большая темно-красная родинка на правой щеке валлийца подчеркивала голубизну его глаз. Раздвоенная борода казалась густой и жесткой, как шерсть на спине медведя. — Да, нам разрешено грабить, но, при любых обстоятельствах, не более чем на половину лье в глубь материка. Как вам, наверное, известно, дружище Пауэлл, солдаты, с которыми мы будем сражаться в самой Испании, по качеству намного будут превосходить тех несчастных, измученных лихорадкой чертей, которых мы так часто встречали в Карибском море и на северо-восточном побережье Америки. Один за другим гости отодвигались на табуретах от стола и извлекали из тяжелых кожаных футляров глиняные трубки, которые набивали табаком из позолоченной свинцовой табакерки, подносимой пажами Френсиса Дрейка. Дрейк про себя улыбался: все ведь знали, что ни Симпсон, ни Пауэлл не получали удовольствия от курения. Даже Кристофер Карлейль неуклюже обращался со своей трубкой и то и дело сплевывал в поставленный у стола рукомойник; но поскольку было модно курить табак, он курил — кашлял, но курил, — и яростно вытирал слезящиеся глаза. — Дорогие друзья, я намерен нанести удар по Байоне, что на побережье бухты Виго, — просто объявил Дрейк. — В Виго хорошая якорная стоянка, где мы можем рассортировать наши запасы — ведь знает Бог, у нас имеется в этом нужда — и позволить нашим солдатам размяться. Карлейль сплюнул и энергично кивнул. — Чем скорее, тем лучше — вот мое мнение. Все наши корабли чересчур переполнены: один человек на каждые две тонны корабельного тоннажа — это слишком рискованно. Я все время держал пальцы скрещенными, чтобы, не дай Бог, не разразилась какая-нибудь оспа или чума. А что! Ведь Ноллис заявляет, что на «Подспорье» солдаты находятся в такой тесноте, что многие не в состоянии вытянуться на палубе в полный рост, когда ложатся спать. — Но почему Байона? — Капрал Симпсон слыл человеком немногословным, но слова, когда он начинал говорить, были в основном богохульные. — Большое число наших задержанных судов находится именно там и в других портах бухты Вито. Старшина ухмыльнулся, вытирая соус с седеющей бороды. — А в этой Байоне нет ли случайно богатого собора и нескольких больших церквей и монастырей? При словах «церкви и монастыри» на этих жестких обветренных лицах, окруживших обеденный стол сэра Френсиса Дрейка, появилось голодно-задумчивое выражение. — Есть, — с легкостью признался адмирал. — Кажется, я о таких слыхал. Но из-за этой переполненности, о которой говорил Кит, нам нужны дополнительные суда снабжения. Те, что мы привели из Англии, годятся только на короткое плавание, а… — Он осекся, нарочно давая своим подчиненным понять, что этот поход может оказаться весьма продолжительным. Он уже мог представить себе их дебаты насчет того, не предначертано ли их экспедиции появиться внезапно в Средиземном море, чтобы напасть неожиданно на порты восточного побережья Испании, или они поплывут на юг, чтоб перехватывать идущие с западного побережья Африки каракки, груженные золотом и специями. — Когда мы станем на некотором расстоянии от Байоны, — информировал Дрейк Карлейля сквозь пахучую серую табачную дымку, — один отряд высадится севернее, а другой южнее Байоны. Я же тем временем поведу третий отряд прямо в город. Во взглядах собравшихся офицеров выразилось краткое изумление. Дрейк говорил так непринужденно, словно они намеревались обложить медведя в берлоге, а не предпринять дерзкое и совершенно беспрецедентное нападение на собственные владения испанского короля. Ну да, его поведение предполагало, будто он собирался повести могучую армию на слабые и почти беззащитные крепости, а не слабо дисциплинированные и плохо организованные отряды численностью менее тысячи измотанных морской качкой солдат против мощнейшей, лучше всех управляемой армии христианского, а уж если на то пошло, то и целого мира.Глава 7 НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ В БУХТЕ ВИГО
Появись внезапно из моря армия циклопов, жители провинции Галисия не были бы так поражены, как при виде странной армады, насчитывающей двадцать шесть парусных кораблей, обращенных носом к берегу в направлении от мыса Куэйо. Когда распространился слух, что эскадра английская и командует ею не кто иной, как ужасный «эль Драго» собственной персоной, тревогу забили церковные колокола и страхом прониклась вся прибрежная местность. Охваченные паникой, купцы, дворяне и богатые домовладельцы грузили самое ценное из своих товаров и принадлежностей — одни на мулов, другие на маленькие гребные галеры, которые увозили их вверх по реке Виго или в горы. Невдалеке от Байоны английские корабли мастерски свернули паруса, отдали свои неуклюжие якоря, а затем наблюдали, как генерал-лейтенант Карлейль на «Тигре» повел три других небольших корабля в погоню за удирающими гребными галерами. Англичане с любопытством разглядывали растянувшийся вдоль берега город, где желтые большей частью дома стояли под красными крышами. За Байоной тянулся ряд голых, лишенных деревьев холмов, которые выглядели иссушенными солнцем, со странным коричневатым оттенком, очень непохожим на мягкие голубовато-зеленые краски южного побережья Англии. У города беспрерывно сновали небольшие суденышки, словно испуганные водяные жучки по мельничной запруде. Вдоль более крупных кораблей английской эскадры выстроили пинассы, на воду спустили гички и баркасы и приготовили собственную галеру адмирала, вооружив ее и укомплектовав экипажем. В стальном шлеме и куртке из жесткой кожи, которая легко могла отразить стрелу на излете или скользящий удар шпаги, Генри Уайэтт ждал своей очереди присоединиться к солдатам и сожалел, что на боку у него висит не его красивая «бильбо», потерянная им в Хантингдоне, а короткая неуклюжая шпага, бывшая у сквайра Коффина запасной. Уайэтт поклялся, что скоро он сменит этот одолженный им клинок на что-нибудь более отвечающее его вкусу. Громко звучала похвальба относительно того, что произойдет на берегу и какие доблестные подвиги совершат Джон Симпкинс или Уот Блэк. — Клянусь Богом! Я уже чувствую, как держу в руке пару подсвечников из чистого золота, — ревел широколицый парень, говоривший с сильным йоркширским акцентом. На высоком, но узком юте «Бонавентура» собралась небольшая кучка офицеров. На ветру развевались разноцветные перья их шишаков, и солнце отражалось от их выкрашенных в черную краску кирас. Некоторые из этих кирас имели золотые или серебряные орнаменты, поблескивавшие как водная рябь на закате. Это был единственный цветовой мазок. В сундуки оказались убраны вчерашние красочные наряды, и теперь преобладали цвета темно-зеленые, черные и красновато-коричневые. Что касается сэра Френсиса, то он надел на голову полушлем, обильно украшенный золотом и захваченный им при разграблении Вентакруса еще в 1573 году. В нем он носил страусиное перо — султан белого и голубого цвета, излюбленных его красок. Люди перелезали через борта других кораблей, и десантная партия скоро оказалась готова к высадке на берег, когда от Байоны отчалила длинная низкая шлюпка с красно-золотым флагом испанского короля; она шла с такой скоростью, что, наверное, гребцам ее трудно было дышать. В роли эмиссара выступал перепуганный насмерть английский купец, который, подчиняясь приказу дона Педро Ромеро, губернатора города, отважился подойти, чтобы выяснить намерения этой эскадры, держащей теперь Байону под угрозой почти сотни пушек. Приведенный к адмиралу, он поклялся, что все захваченные английские суда некоторое время назад были уже освобождены. Дрейк вонзил в перебежчика взгляд синих холодных глаз. — А по-моему, сэр, вы всего лишь несчастный мерзавец, которого заставили передать мне такое послание в интересах наших соотечественников, удерживаемых на берегу в качестве пленников. — Он круто повернулся к своему полевому капралу Симпсону и прогремел металлическим голосом, какого многие на корабле раньше еще не слышали: — Возьмите мою галеру и охрану, разыщите его превосходительство губернатора и потребуйте от него прямых ответов на два ясных вопроса. — Слушаюсь, сэр. — Коричневые глаза Симпсона продолжали гореть и под забралом тяжелого шлема. — Первое, узнайте у его превосходительства дона Педро, не находятся ли Испания и Англия в состоянии войны. — Слушаюсь, сэр. — Второе, если наши страны не находятся в состоянии войны, тогда почему были задержаны наши суда? — Слушаюсь, сэр. — Капрал Симпсон поклонился, подозвал сквайра Коффина, горниста и шестерых здоровенных парней с аркебузами. — Ну и дела! — прорычал вице-адмирал Фробишер. — Что мы выиграем, если будем тянуть с атакой? Дрейк с раздражением взглянул на седовласого старого моряка — они вечно с ним были на ножах. — Остается достаточно времени, чтобы я получил ответы на свои вопросы. Если мы с ними воюем, моя тактика будет резко изменена. Адмирал отвернулся в сторону, притворяясь, что не слышит недовольных проклятий, раздававшихся со шлюпок, нагруженных до планширов людьми, сгорающими от нетерпения оказаться на берегу и разлучить испанцев с их богатствами. Зрелище длинных рядов запряженных волами телег, тянущихся к холмам, и маленьких ботов с залатанными коричневыми парусами, удирающих прочь, мало способствовало их успокоению. — Черт побери! Подливка утекает прямо сквозь наши пальцы, — проворчал старый вояка-сержант. — Командуй нами старина Фробишер, мы бы не знали таких политических тонкостей. Уайэтт тоже сгорал от нетерпения. В гавани Байоны на якоре стояло с полдюжины чудных барков, и все они были куда превосходней «Катрины»с ее латаными-перелатаными парусами и источенными червем досками. Вскоре капрал Симпсон вернулся на флагманский корабль вместе с депутацией купцов — капитанов английских судов, торгующих в Байоне. Дрейк их вежливо принял у себя на шканцах и после обстоятельного опроса узнал, что действительно определенная часть судов и грузов освобождена. Никакого состояния войны не существует, доложил ему полевой капрал — или, по крайней мере, так клянется губернатор дон Педро Ромеро. Далее он заявил, что, хотя Дрейк вторгся во владения его самого католического величества, он считает себя слишком незначительным подданным, чтобы брать на себя ответственность за начало военных действий. Губернатор, ухмыльнулся Симпсон, был совершенно поражен тем, что экспедиция военных кораблей с жалко-то, маленького, вечно затянутого туманами острова Англии осмелилась вторгаться в один из портов короля Филиппа, выставив пушки и запалив фитили. С этим по поразительности не могло бы сравниться даже извержение вулкана. Теперь-то уж ясно, что на юг скачут курьеры с сообщением об этом неслыханном оскорблении достоинства Испании. — Вы сказали «определенная часть задержанных судов», — заметил Дрейк, пристально глядя на этого самого длинного дылду из англичан, — а не все наши суда с их грузами и экипажами отпущены на волю? — Нет, ваше превосходительство. Они отпустили только тех из нас, кто заверил их, что останется здесь и будет торговать, как и прежде. — Вот как? — Остроконечная золотистая борода воинственно вздернулась вверх. — Генерал Карлейль, прошу приказать своим солдатам высадиться на берег. Я намерен нанести визит этому обманщику дону Педро Ромеро. Когда со шлюпок раздались громкие крики ликования, Генри Уайэтт почувствовал радостный подъем настроения. Он огляделся вокруг. Несмотря на то что это были регулярные войска, снабжаемые всем необходимым правительством ее величества, в их одежде и экипировке не было никакого единообразия. Однако латинский крест Святого Георгия, нашитый на многих грязно-белых сюртуках, делал их отдаленно похожими на военную форму. В остальном в порядке вещей были длинные мощные луки, копья и пики, арбалеты и аркебузы, неуклюжие и непредсказуемые пистоли. Большинство офицеров, стоящих на корме, держали копья, но некоторые, такие, как сквайр Коффин, предпочитали кремневые пистолеты или мушкеты с колесцовым замком. Аркебузиры уже запалили медленно тлеющие фитили, которые, прикрепленные к рычагу, имеющему форму буквы «S», при нажатии на курок поднимали крышку полка мушкета и горящий фитиль проникал в ложе воспламеняющего порохового заряда. Аркебузиры носили также вилообразные подставки, ибо их оружие весом в четырнадцать фунтов оказывалось слишком тяжелым, чтобы из него можно было стрелять с плеча без какой-либо подпорки. Потея, босые и по большей части полуголые матросы гребли так усердно, что в конце концов ведущие шлюпки этой флотилии начали отрезать от берега удирающие из гавани парусники и весельные суда. Эта фаза операции принесла разочарование. Улепетывающие испанцы не принадлежали к числу воинственных; они только плакали и скулили, как потерявшиеся дети, когда к их бортам подгребали эти краснорожие и, как правило, светловолосые чужестранцы. Байона пала без всякого сопротивления, к большому сожалению некоторых дуэлянтов из дворянской среды. Тем не менее это дело принесло радостное настроение бывшим морякам торгового флота, таким, как Генри Уайэтт. Какое любопытство и нервное возбуждение испытывали они, когда шагали как захватчики и победители по ряду обезлюдевших улиц, поглядывая вверх на закрытые ставнями окна вторых этажей домов, убежденные, что за ними прячутся юные девушки, дрожащие за свою невинность. — Тьфу! Никакого развлечения, — ворчал косматый капитан Томас Мун. — Провались она пропадом, вся эта осторожность. Смотрите. — Он вскинул вверх волосатую руку, указывая на окно, из которого неблагоразумно выглядывали три пары бойких черных глаз. — Будь это Санта-Маргарита или Сан-Хуан, уж я бы, парни, в десять секунд взломал вон ту дверь и за минуту раздел бы тех красоток в доме. Бог знает, что это нашло на сэра Френсиса. Тут и там знойный и пыльный воздух сотрясали удары импровизированных таранов, обрушивающихся на запертые двери складов; время от времени слышался тоненький крик, говорящий о том, что какой-то недисциплинированный олух, должно быть, ублажает свою похоть, несмотря на приказ. В целом, однако, солдаты вели себя хорошо — только захватывали товары, обнаруженные на королевских складах и на тех, что принадлежали купцам побогаче. И вот зазвучали барабаны и цимбалы, а затем на булыжную мостовую центральной площади Байоны с цоканьем копыт выехала блистательная фигура верхом на горячем черном жеребце. За этой высокопоставленной особой, стараясь шагать в ногу, появились алебардисты, но двигались они неровными шеренгами и вид у них был настороженный. Ясно, что их угнетала близость того, кого они прозвали «эль Драго». — Где найти командира англичан? Когда кое-кто из капитанов указал на Кристофера Карлейля, худое лицо дона Педро расслабилось. По крайней мере, ему не нужно было обращаться к этому дьяволу во плоти, сэру Френсису Дрейку. Он спешился и зашагал к генералу Карлейлю. В нескольких шагах от этого сурового офицера он снял с головы свою коническую шляпу и провел плюмажем по мостовой. Он, заявил губернатор, заинтригован этим странным посещением военных из предположительно дружеской державы. Не соизволит ли генерал Карлейль принять вина, оливкового масла и, может, немного винограда и мармелада, которые ему доставят в штаб-квартиру? У Карлейля вид был такой, словно он смотрит прямо сквозь этого смуглого маленького человечка. — Да, сэр, мы с радостью примем ваш провиант, если вместе с ним прибудут те из наших соотечественников, что все еще томятся в ваших темницах. Дон Педро поклялся честью матери и призвал в свидетели целый сонм святых, что все пленные англичане уже освобождены. Генералу Карлейлю эти переговоры показались совершенно неудовлетворительными, особенно потому, что небо стало темнеть и над старинной площадью Байоны порывы ветра взбивали вихрастые клубочки пыли. Со стороны гавани прибежал посланник с «Бонавентура». Появились признаки ухудшения погоды, поэтому адмирал требовал, чтобы десантная партия немедленно вернулась на корабли. Волны приобрели свинцовый оттенок, и ветер взбивал на их гребнях барашки, которые становились все больше; пинассы и малые шлюпки с трудом возвращались к кораблям, которые неуклюже покачивались на своих якорях. Ветер свежел так быстро, что многие шлюпки с трудом освобождались от своего человеческого груза, а одну или две затопило, прежде чем их подняли на борт. Под синевато-багровым небом ветер набирал штормовую силу и завывал на самой верхней ноте, обрушивая потоки дождя. Незадачливые англичане мерзли, сгрудившись в кучки на палубах и тушили разведенные для приготовления пищи огни. Едва успели развернуть паруса, как эскадра, покачиваясь, сразу направилась к выходу из бухты Виго, взяв курс на сравнительно безопасный Бискайский залив.Глава 8 ПЕРЕМИРИЕ
Целых трое суток английскую эскадру трепал штормовой ветер, заливая ее водой и рассеивая корабли. Ни одной сухой нитки не осталось на моряках и солдатах. Как обычно, слабые духом проклинали свою судьбу и требовали поскорее вернуться в Англию. Два судна из тех, что были поменьше, исчезли совсем, с концами. Несомненно, что темной бушующей ночью они стали добычей свирепого ветра и волн. — Наверняка адмирал возвратится в Плимут, — высказал свое мнение мастер Карпентер. — Он должен это сделать, ведь наши бочки из-под воды почти пусты. — Вы не знаете сэра Френсиса Дрейка, — прорычал помощник наводчика флагмана. — Он вернется, чтобы закончить свое дело в Байоне. Его предсказание оказалось верным, так как утром 1 октября 1585 года армада Дрейка снова вошла в бухту Виго и бросила якорь на хорошо защищенной якорной стоянке. На этот раз испанцы, похоже, намеревались сопротивляться, поскольку видны были большие отряды солдат, шагающих дорогами, лежащими параллельно морскому берегу. Теперь стало очевидно, что, несмотря на уверения дона Педро Ромеро, многие английские моряки остались заключенными в тюрьмах Байоны. Генералу Карлейлю было разрешено действовать на берегу как ему заблагорассудится. Тем временем Дрейк приказал своим капитанам захватывать любое стремящееся улизнуть судно. Было задержано много каперских судов и тихоходных каракк, а тех испанцев, что пытались защищать свою собственность, живо вздергивали на рее или рубили клинками на месте, если они склонны были оказывать вооруженное сопротивление. В одной из таких пытающихся улизнуть из бухты каракк были обнаружены священные сосуды Байонского собора. Жадными глазами взирали англичане на массивный инкрустированный драгоценными камнями золотой потир, на бриллианты, сверкающие на одеянии епископа и на его митре. Но довольную улыбку на лице Дрейка вызвал большущий крест из массивного серебра, дважды позолоченного и великолепно украшенного большим количеством изумрудов и рубинов. Капитан Мун, считавший себя разбирающимся в таких вещах, оценил эту добычу самое малое в тридцать тысяч венецианских дукатов. — Тут у вас, друзья мои, не больше чем объедки со стола, — прогремел Мун. — Подождите, пока мы не захватим сам город! Уайэтт со своего поста на правом борту бросил взгляд на окрашенные закатом воды. Каким же древним выглядел этот порт вместе со стенами, окружавшими город и тронутыми седым временем; с башнями собора, выдержавшими много бурь; с просевшими от времени складами. Почти на всех лежащих в поле его зрения холмах стояли, крошась от старости, какие-нибудь фортификационные сооружения и среди них — неизбежная сторожевая башня времен древних римлян и арочные пролеты давно уже разрушенного акведука. Теперь горожане стремились спасти свои самые дорогие ценности, унося их в глубь материка и напоминая при этом колонны потревоженных муравьев. Такого зрелища не видали в Испании с тех пор, как армии Фердинанда и Изабеллы прогнали последних мавров через Гибралтарский пролив в Африку, откуда они появились когда-то много веков назад. Сквайр Коффин, облизнув потрескавшиеся от солнца губы, предсказал: — Завтра мы отведаем превосходного вина вместо испорченного пива и отобедаем свежими фруктами и молодой ягнятиной вместо этой прогорклой говядины. — Он подмигнул. — Возможно еще, что мы найдем себе более приятную компанию по постели, чем эти заеденные блохами солдатики Карлейля. Уайэтт кивнул, но мысли его прежде всего оставались с той, которая с такой непритязательностью занимала ту тесную и одинокую спаленку в домике капитана Фостера. События повернулись так, что губернатор провинции Галисия выслал глашатая с просьбой о переговорах, давая при этом знать, что под его командованием находятся три тысячи закаленных в боях ветеранов и что он вполне готов воспротивиться любой попытке захвата Байоны. Сэр Френсис Дрейк облачился в свои самые великолепные доспехи и посоветовал джентльменам и офицерам придать себе как можно более храбрый и воинственный вид. Переговоры между губернатором и Дрейком происходили на реке на борту большой шлюпки, довольно далеко от стоянки эскадры. Губернатор изо всех сил старался оставаться вежливым, несмотря на унижение: ведь егопринудили вести эти переговоры в границах собственных владений короля Филиппа. Дрейк прямо заявил: немедленное освобождение всех пленных англичан и право пополнять запасы воды и покупать провиант. Далее дон Ромеро должен согласиться на обмен заложниками. Со своей стороны он, адмирал королевы, соглашался возвратить захваченную церковную утварь и обещал, что Байона больше не пострадает от насилий и грабежа. Губернатор склонил свою лысеющую голову и расстался с адмиралом, бледный от унижения; Тем же самым днем появилась согреваемая солнцем колонна шумных, довольных пленников. Осунувшиеся, лохматые, с гноящимися от оков ранами, они на слабых ногах пытались приплясывать от радости. Дойдя до причалов и видя своего освободителя, многие тянулись поцеловать руки этому невысокого росточка, но властного вида человеку, облаченному в голубое и белое. Хотя и явно довольный, Дрейк не позволял приносить себе такую дань уважения и благодарности. Из королевских складов и адуаны возвратили все, что осталось от отнятых у англичан грузов, и английские суда, отправленные вверх по реке перед захватом Байоны, были доставлены назад. На протяжении следующих семи дней сохранялась любопытная ситуация: в мирное время войска королевы Елизаветы Английской оккупируют испанский порт. Без всякого сомнения, Золотой адмирал со своей эскадрой действительно являлся временным хозяином Галисии. Уайэтту казалось как-то странно видеть загорелых желтоволосых англичан, вооруженных и шатающихся по улицам и базарным площадям Байоны, вполне дружелюбно общающихся со смуглыми и в общем менее крепкими рядовыми солдатами королевского губернатора, хотя их офицеры, судя по бесам, плясавшим в их черных глазах, этого не одобряли: эти высокомерные гусаки давно уж привыкли повелевать Европой и половиной мира. И потому неизбежно с горечью уязвленного самолюбия переносили нынешнее унижение и такое неслыханное оскорбление престижа Испании. Однако благодаря их прекрасной дисциплине не было ни одного случая ссоры с ненавистными еретиками-англичанами. Для англичан предостережением было видеть, с какой четкостью испанцы проводят строевые учения и как заботятся о своем прекрасном оружии. Когда офицерам противных сторон случалось где-то встречаться, они привередливо относились к тому, чтобы непременно раскланиваться или приподнимать головные уборы. За время хаоса средневековья военные приветствия в основном вышли из употребления, но теперь они вновь возрождались суровыми ветеранами короля и императора Священной Римской империи Филиппа II Габсбурга. В безмятежных водах реки Виго за Байоной английские суда, словно ими играла чья-то невидимая рука, отбуксировывались туда и сюда, чтобы запасы, заброшенные вперемешку, кое-как, в Плимуте на борт кораблей, можно было рассортировать и пропорционально разложить снова так, как они должны были бы лежать тремя неделями раньше. Испанские крестьяне привозили свои продукты с холмов в больших двухколесных повозках, запряженных крупными светло-желто-коричневыми волами, ярма которых ярко украшались бахромой и длинными развевающимися лентами всевозможных цветов. Когда стало очевидным, что протестанты не намерены разорять и опустошать сельскую местность и заплатят хорошей монетой за то, что им нужно, к ним стали свозить все мыслимые и немыслимые виды продовольствия. Открылась даже шустрая подпольная торговля оружием небольшого размера, хотя продавцы хорошо понимали, что, очень возможно, эти шпаги и кинжалы вскоре будут применены против их же собратьев по католической вере. Важнее всего для сэра Френсиса Дрейка стало восполнить запас питьевой воды в бочонках. Он не забыл, какие муки жажды терзали его на «Золотой лани». Кроме того, его серьезно беспокоила скученность на кораблях. Хотя его капитаны спорили и бушевали, он, помня, что пока еще не существует никакого состояния войны, отказывался реквизировать какие-либо испанские суда в Байонской гавани; не принуждал он и вызволенных из плена капитанов торгового флота англичан служить у него под началом. Для сэра Френсиса явилось чем-то вроде удара вдруг узнать, что многие местные купцы-англичане не желают ни вербоваться к нему в эскадру, ни возвращаться на родину Фактически эти несуетливые эмигранты — большей частью католики — предпочитали вести и дальше дела своих предприятий, построенных за многие долгие годы лишений. Многие из них сколачивали себе состояние, делая поставки строящимся в морских арсеналах Лиссабона и Кадиса флотилиям. Эти «презренные лакеи», как окрестил их контр-адмирал Ноллис, прекрасно отдавали себе отчет в том, что такие корабли строились с одной только целью — с целью вторжения в Англию. Как ни странно большинству рядовых англичан никогда не приходило в голову отнестись к этому с критикой; а разве мало было испанцев, живущих и торгующих в Англии? Ни они, ни местные купцы не обращали большого внимания на флюгер международной политики. — Повесьте и четвертуйте меня, но я никак не могу понять их цели, — признался Хьюберт Коффин на третий день повторной оккупации Байоны английским флотом. — Перед Богом англичанин, по-моему, во всем должен быть англичанином, а испанец — испанцем. Чума на этих жадных ублюдков, которые служат и нашим и вашим! Коффин и Уайэтт прогуливались по широкому, затененному деревьями променаду, лежащему параллельно кромке воды, и с любопытством поглядывали на ряды узких жилых домов под красными крышами, разделенных крошечными садиками, с фруктовыми деревьями и без оных. Время от времени их дорога сворачивала в сторону материка, и между ней и водой возникал какой-нибудь дом прекрасной постройки и немного выдающийся в бухту причал. Когда они рассматривали один из таких домов, из него вышел слуга, низко поклонился и сказал на чистом английском, но с сильным акцентом: — Сеньоры, мой хозяин Дженкинс будет польщен, если вы зайдете с ним выпить. — Черт побери! — расплылся в ухмылке Коффин. — Ты сказал, его зовут Дженкинс? — Да, сеньор. Мой хозяин англичанин из Бристоля. Уайэтт кивнул в знак согласия; любопытно было поговорить с одним из этих необъяснимых эмигрантов — особенно с таким, у которого, очевидно, так здорово шли дела. Они последовали за слугой в желтой куртке в маленькие ворота и в небольшом фруктовом садочке столкнулись с пухлым, по виду веселым и краснолицым парнем, который подскочил и протянул свою руку. — Роджер Дженкинс к вашим услугам, — объявил он. — Для меня большая и редкая честь пригласить в свое скромное жилище соотечественников благородных кровей. — На нем оказалась богатая одежда модного покроя, и то же самое можно было сказать о его густой коричневой бороде — ухожена по последней моде. С чуть-чуть настороженным видом он пригласил гостей садиться под тщательно подстриженными деревьями миндаля. Само воплощение уверенности, высокий молодой Хьюберт Коффин непринужденно прошел к скамейке и поправил на боку свою шпагу. Усевшись, он стянул с головы плоскую темно-зеленую шляпу. — А вы, похоже, неплохо здесь устроились, на чужбине, дружище Дженкинс, — заметил он, пробежав глазами по фасаду желто-серого каменного дома хозяина. Очертания его смягчались тянущимися вверх шпалерами ветвей грушевых и персиковых деревьев. — Да, это верно. В обычные времена дела у меня идут относительно неплохо, но за последние три года торговля стала предприятием трудным и рискованным. — А чем торгуете? — полюбопытствовал Уайэтт. Кто знает, мелькнула мысль, может, когда-нибудь, когда не будет явной угрозы войны, этот же самый мастер Дженкинс окажется ценным знакомством? — Я, молодой человек, экспортирую вина, снасти — я продаю только лучшие канаты, сделанные в Испании, — с гордостью заявил он. — Пенька доставляется издалека, аж из Африки. Ручаюсь, на этом можно сколотить состояние. Конечно, кроме этого я еще экспортирую bacalao — соленую треску. — А вы импортируете? — Уайэтт уселся в удобное веревочное кресло и пристроил шпагу у себя на коленях. — Ну да, добрые английские шерстяные вещи, кожу и, — Дженкинс облизал полные губы, — орудия, как только предоставляется возможность их достать. — Его налитые кровью серые глаза, утратив вдруг непринужденность, загорелись расчетливостью. — Я вам скажу, эти испанцы страшно нуждаются в пушках, особенно с тех пор, как «эль Драго» вынудил их вооружать свои колонии в Америках. — Он издал короткий смешок. — Клянусь Богом! Ваш адмирал — мой святой-покровитель. Чем больше он дерет шкуру с испанцев, тем лучше мой бизнес. Железный товар любого характера пользуется горячим спросом — например, железная цепь. А что, я прямо сейчас мог бы сделать богатым любого, кто продал бы мне две сотни шестифутовых саженей крепкой цепи ручной ковки. — Он уставил чуть выпуклые карие глаза на Уайэтта. — Вы случайно не знаете, где бы я мог раздобыть немного, а, сэр? Все трое повернули головы, когда открылась дверь и в темнеющий сад, где уже заводились древесные лягушки и сверчки, хлынул желтоватый свет. Но вышел не слуга: в дверях появилась темноволосая большегрудая девушка лет девятнадцати. Дженкинс распрямился, очевидно раздосадованный. — Паула, что тебе здесь надо? Она неловко трижды сделала реверанс. — Но, отец, мне бы хотелось поздороваться и поговорить с нашими соотечественниками. — Девушка громко вздохнула. — Мама и Тереза все еще одеваются. Скоро они выйдут. — Не следовало бы тебе входить без приглашения, — укорил ее Дженкинс, но совсем не сердитым голосом. — Но уж поскольку ты здесь, могла бы сослужить нам службу. Принеси-ка кувшин вина из того бочонка, от Фейала, и налей джентльменам по чаше. Потом нарви миндаля, но не того с червяками. Ха-ха! Самое лучшее и ничего иного для наших английских гостей. Когда Паула вернулась, Коффин заметил, что она не очень-то торопится уйти, стараясь медленно наливать вино. Делая это, она так низко наклонилась, предлагая ему тяжелую серебряную чашу, что Коффин не только смог хорошо разглядеть черты ее гладкого с оливковым оттенком лица, но и приятные округлости ее тела под чувственно облегающим платьем. Изящество, с которым она выставляла напоказ полные груди с розовыми сосками, могло бы поспорить с искусством самой совершенной придворной кокетки. В поведении Паулы не было никакой сухости или формальности, так же как не замечалось скованности и в манерах миссис Дженкинс, и второй дочери, Терезы. Тереза оказалась толстушкой, унаследовавшей от отца его веселость, светло-коричневые волосы и румяный цвет лица. Вскоре выяснилось, что миссис Дженкинс по отцу португалка, а по матери англичанка, из Хэмпшира. Очевидно, вся семья Дженкинсов чувствовала себя здесь, в Испании, счастливо и спокойно, словно это их родина. Складывалось ощущение, что в Англии они бы чувствовали себя иначе. Хьюберт Коффин двумя дюжими глотками осушил свою чашу янтарного, удивительно приятного по вкусу напитка, затем вытянул перед собой ноги и откинулся назад, чтобы с восхищением полюбоваться изобилующей приятными изгибами фигуркой Паулы Дженкинс. Улыбаясь, он полюбопытствовал: — Вы бывали в Англии? — Нет, сэр. Только отец. — И у вас нет никакого честолюбивого желания увидеть нашу страну? — Очень-очень хочется. Мне бы хотелось увидеть такой удивительный город Лондон, — призналась Паула, после чего улыбка на ее лице растаяла. — Но нам, разумеется, не будут там рады. — Почему? Разве отец ваш не англичанин? — Он различил в сумраке угловатые очертания ее полного рта и нашел его чрезвычайно возбуждающим. — Да, — вздохнула Паула, — он англичанин, но он также и католик. Мы все католики. Нет, не думаю, что нам очень обрадуются в Англии. Хьюберт рассмеялся и покачал белокурой головой. — Чепуха! В Англии остается столько же католиков, сколько и протестантов, особенно в северных графствах и в Шотландии, и даже при дворе королевы есть несколько известных католиков. Так что вам обязательно нужно увидеть Лондон. Он вам понравится — он такой оживленный. Опустошив вторую и третью чашу в свое солидное брюшко, мастер Дженкинс устроился поудобней в кресле, украшенном красивой резьбой. — Паула, девочка, почему бы тебе не показать сквайру Коффину своих ручных лебедей. — Он повернулся к своей пухленькой смуглолицей жене: — Луиза, приготовь-ка нам поужинать. Тереза, иди помоги матери. Уайэтт нисколечко не удивился, что Хьюберт Коффин вдруг сильно заинтересовался лебедями и последовал за Паулой через дом купца к реке, в которую выдавался причал мастера Дженкинса со стоящим возле него крепким галиотом. На палубах его еще лежали горы товаров, которые Дженкинс решил приберечь, когда в первый раз в бухте появилась враждебная эскадра. Дженкинс снова наполнил чашу своего темнолицего гостя, изготовленную из венецианского стекла. — Женщины являются украшением, но я предпочитаю пить, не слыша их болтовни. Вы сказали, что вы капитан торгового флота? Вы командуете своим собственным судном? — Командовал. — Уайэтт наклонился вперед, держа локти на коленях и палочкой бесцельно выводя узоры в лежащей перед ним пыли. Наконец он поднял голову и в наступивших уже сумерках бросил на хозяина насмешливый взгляд. — Вы только что говорили об огромном спросе на орудия. — Говорил. В Кадисе и Лиссабоне прочные пушки из латуни почти на вес серебра. Уайэтт задумчиво постучал кулаком о кулак и протянул: — Если пушки вам действительно так необходимы, я, пожалуй, могу найти вам несколько штук в некоторых литейных на юге Англии. У меня есть кузен, который их отливает, — солгал он. Округлый животик мастера Дженкинса пришел в сотрясение, когда его хозяин вдруг резко выпрямился. — У вас действительно есть такой кузен? Нет, дружище Уайэтт, не шутите. Не далее как три дня назад начальник королевского арсенала в Толедо предлагал мне, — он сделал паузу, — истинно королевскую цену за любое количество длинноствольных пушек, полупушек и кулеврин, которые я смогу поставить. Рыжеволосый капитан торгового флота свистнул от удивления. — Но я полагал, что испанские пушкари предпочитают орудия для более тяжелых ядер. — Так-то оно так, но похоже, что форты, защищающие Санто-Доминго, столицу Испанской Америки, сильно нуждаются в длинноствольных орудиях. Кажется, только что построили главный форт, но его амбразуры остаются пустыми. Офицер, о котором я говорю, чуть ли не плакал, потому что его начальники угрожали ему позором в том случае, если он не сможет найти такие пушки. — Дженкинс далеко подался вперед и понизил голос. — Если бы вы только могли быстро получить разрешение возвратиться в Англию, я мог бы снабдить вас крепким стотонным нефом и доверенностью, составленной на одного генуэзского банкира в Лондоне. — Как вы можете быть уверены, дружище Дженкинс, что такие пушки не найдут до меня? Торговец промычал от нетерпения. — Их не найдут — королевские адмиралы захватывают всю артиллерию в королевстве. Теперь вот что можно сделать: один мой друг, он же и мой агент, некий Ричард Кэткарт, живет в Санто-Доминго и там руководит моей торговлей с испанскими владениями. — Он заговорил с пылом. — Вы могли бы погрузить эти пушки на мой неф и держать курс прямо на Санто-Доминго, но под английским флагом первую половину пути и под испанским — остальную. Подумайте, молодой человек, какую огромную прибыль мы извлечем, покупая в Англии и продавая здесь; королевский губернатор в Санто-Доминго также заплатит большую премию — уж так он боится, что с востока нагрянут англичане. Ну, что скажете? — Странно было слышать, как этот хэмпширец обращается к своим соплеменникам как к иностранцам. — Я должен как следует обмозговать это дело, — тянул время Уайэтт. — Ведь то, что вы предлагаете, похоже на очень многообещающее дельце. — Пока «эль Драго», о, простите, сэр Френсис Дрейк находится здесь, прошу считать мой дом своим собственным. — Дженкинс подмигнул. — Пожелаете развлечься на берегу, как это принято у моряков, тогда что ж, только дайте знать и скажите, каких девчонок предпочитаете: белых, коричневых или цыганок. Из-за этой адской засухи порт кишит милашками, с радостью готовыми пойти с вами в постель за один лишь сытый желудок.Глава 9 РАЗВЕДКА НЕ ДРЕМЛЕТ
Адмирал сэр Френсис Дрейк на борту своей личной гребной галеры получил дурные новости, вслед за инспекцией своей эскадры. Лично он желал убедиться, что все бочонки наполнены пресной водой. Его сторожевому кораблю, несшему дозор близ входа в бухту, удалось перехватить и доставить к нему каперское судно, шедшее с юга, из Сан-Лукара, в порт Сан-Себастьян близ французской границы. Захваченный капитан, свирепый, с оливковым оттенком кожи житель города Малаги, отказался продавать свой груз соленой рыбы, поэтому его конфисковали. Тогда возмущенно орущего испанца доставили на маленькую галеру, где Дрейк, сидя на алой подушке, изучал списки личного состава, представленные ему старшиной Пауэллом. Испанец поддразнивал тех, кто его пленил, новостью, от которой лица англичан вытянулись так, словно их целый день заставили голодать без крошки хлеба. — Сэр! Сэр! Новости чрезвычайной важности, — прокричал Томас Дрейк. — Да? Что случилось? Не видишь, я занят, — набросился Дрейк на молодого капитана галиота «Томас», словно тот и не был его собственным братом. — Сэр, у нас на борту иностранная обезьяна, злорадствующая по поводу кое-каких недобрых для вас вестей. — Ну что же ты, Томас? Что медлишь? Давай сюда этого пентюха. Когда упирающегося и брыкающегося испанского капитана привели к Дрейку, тот с вызовом плюнул на палубу возле ног Дрейка. Адмирал вскочил на ноги и, схватив испанца за бороду, раза три-четыре резко дернул взад и вперед, а затем отвесил ему по щекам две звонкие пощечины. Потом, не произнеся ни слова, Дрейк снова сел на свою подушку. Юный Томас Дрейк заставил пленника опуститься на колени и, приставив острие испанского кинжала сзади к его продубленной шее, прорычал: — А ну, злобный пес, выкладывай все, что знаешь! Глаза пленника ошарашенно завращались в глазницах, но он, задыхаясь, произнес: — Дьявольское проклятие на всех вас, чертовых англичан! Вы, проклятые еретики, зря сюда плыли. Наши берега охраняют Святая Дева и ее ангелы. С развевающейся на ветру косматой седой бородой на своем баркасе подошел Мартин Фробишер. — О чем визжит эта мартышка? Юный Дрейк не мог уже больше сдерживаться. — Этот трепач говорит, что на прошлой неделе в гавань Сан-Лукар благополучно зашла флотилия из Мексики, груженная серебром. Лицо Дрейка вспыхнуло, и он весь напрягся, словно ужаленный острием копья. — Невозможно! Эта свинья лжет! Флотилия вице-короля должна выйти в море не раньше, чем недели через две. Скорее всего, я перехвачу ее у берегов Барбарии. Том Дрейк был воплощением уныния; несмотря на темные волосы и худобу, он глазами и ртом немало походил на своего знаменитого брата. — Боюсь, сэр, что этот пожиратель чеснока говорит правду. Я и мои офицеры допросили по отдельности некоторых из членов его экипажа. Описание галионов, их названия и точный час прибытия флотилии — все совпадает. Крепки были проклятия, прокатившиеся по английской армаде. А сэр Френсис Ноллис превзошел самого себя; разве не был он чемпионом по ругани? Что до Дрейка, он уставился в море, лежащее за бухтой Виго, а сильные загорелые руки сжались так крепко, что многочисленные кольца на них врезались в плоть. — Господи, — взмолился он дрогнувшим голосом, — если бы не эти проволочки из-за чертова щеголя Сиднея, я бы вовремя подошел к Сан-Лукару. Он поднялся и сплюнул за борт. — Увы, джентльмены, что сделано, того не воротишь, а неудачу не поправишь, как не вложишь мудрые слова в рот дураку. Мало кто догадывался, что для Дрейка новость, принесенная жителем Малаги, явилась особо тяжелым ударом. Возможно, неосознанно он рассчитывал на захват этой флотилии, чтобы потом финансировать строительство нескольких новых торговых судов. И потом, его доля сокровищ флотилии помогла бы ему к тому же рассчитаться за большие расходы того богатого домашнего хозяйства, которым заправляла его новая жена Элизабет, урожденная Сайденхэм. Кроме того, гораздо дороже, чем он предполагал, обходились ему его пажи, секретари и слуги меньшего чина вдобавок к богатому гардеробу и обильному столу, который накрывали по его настоянию. Как только плохая новость распространилась на берегу, в Байоне восторженно забили церковные колокола. Поэтому для Генри Уайэтта вряд ли это был самый подходящий момент, чтобы просить о встрече с адмиралом; откуда ему было знать, что сэр Френсис погружен в одно из тех черных, чреватых взрывами настроений, которые овладевали им, слава Богу, довольно редко? Генри был полон энтузиазма: он подробнейшим образом разработал на удивление смелый проект. Он принес с собой доверенность от богача Роджера Дженкинса и письменное разрешение купца воспользоваться быстроходнейшим нефом для плавания в Англию. Там будут закуплены пушки в интересах губернатора Санто-Доминго, но пушки бракованные, которые разорвутся при первом же выстреле. Это был глубоко продуманный и хитроумный план, и Уайэтт в глубине души очень надеялся, что адмирал сразу же с воодушевлением одобрит его. К его великому изумлению, эти проникающие насквозь синие глаза враждебно поблескивали, словно острия двух шпаг. — Ну, сэр, что это опять вы так бесцеремонно лезете ко мне? Черт возьми! Разве я мало оказал вам услуг, чтобы вы вторгались и выклянчивали еще? Уайэтт оторопел — не на такой он рассчитывал прием. — Я сожалею, ваше превосходительство, что отнимаю у вас время и доброе расположение духа, но, находясь на берегу, я узнал кое-что интересное и разработал план для вашего одобрения. — Разработал план? Кто просил вас, дурья башка, навязывать мне свои дурацкие планы? Грозен был Дрейк в своей холодной ярости. Адмирал ощетинился бородой, а ноздри его раздувались, словно жабры у вытащенной из воды рыбы. Хотя обида перехватила ему дыхание, Уайэтт стиснул челюсти и терпеливо стоял на своем. — И все же я прошу о снисхождении, сэр. Мне кажется, вы должны знать, что оборонные сооружения Санто-Доминго на Эспаньоле… — Чума вас побери, сэр! Я знаю, где находится Санто-Доминго. Вы что, собираетесь учить меня географии? Уайэтт в отчаянии замотал рыжеволосой головой. — Нет, сэр, вовсе нет, но мне сказали, что форты, охраняющие Санто-Доминго, лишены всех видов тяжелых орудий… — Рассказывайте мне сказки! Ступайте прочь и без спросу больше ко мне не врывайтесь. Вопиющая несправедливость, с какой Дрейк принимал его, вызвала на глазах Уайэтта слезы гневной обиды, впервые с того ужасного, будоражащего его по ночам события на рыночной площади в Хантингдоне. Одному Богу было известно, какие меры мог бы теперь принять мастер Дженкинс, неудачно выступив в роли дезертира. Молча, угрюмо Уайэтт вновь приступил к своим обязанностям помощника штурмана, и 8 октября 1585 года английская флотилия подняла якоря, поставила паруса и растворилась в бескрайних просторах Атлантического океана.Глава 10 ДНЕВНИК ХЬЮБЕРТА КОФФИНА
Несмотря на непривычное ощущение апатии и пульсирующую головную боль, сквайр Хьюберт Коффин приготовился внести очередную запись в дневник, который он поклялся вести на протяжении всего плавания. Писатель он был никудышный, и это мог бы с радостью засвидетельствовать любой из его учителей в Итонском колледже, как и то, что его правописание всегда оставалось безобразным в глазах образованного человека. Тем не менее Коффин открыл маленький свинцовый пузырек с чернилами, выбрал гусиное перо из латунного ящичка, хранимого им на дне его морского сундучка, и, пользуясь столом, за которым обычно обедали джентльмены рангом пониже, трудолюбиво начал писать. «Третье декабря. Вечером шестнадцатого ноября наша эскадра встала на якорь в бухте Сантьяго на островах Зеленого Мыса, принадлежащих португальской короне, но теперь узурпированных этим парнем Филиппом. Той же ночью наш главный адмирал приказал генерал-лейтенанту Карлейлю высадить свыше тысячи солдат на маленьком мысе, лежащем немного восточнее города Сантьяго. Этот отряд он потом разделил на несколько небольших подразделений, которые отправились маршем на возвышенность, лежащую милях в двух от города. Здесь наш генерал-лейтенант дал передохнуть своим солдатам до утренней зари, а затем, перестроив их в три колонны, повел в атаку с фланга на город, защищенный многими сильными батареями и высокими стенами. К громадному нашему удивлению, с зубчатых городских стен не раздалось ни одного выстрела и никто нас не окликнул. Должно быть, враг бежал с очень сильных позиций и бросил свою артиллерию — отличные длинноствольные и 42-фунтовые пушки из бронзы; и что странно — они были заряжены. Именно так. Полевые капралы Бартон и Симпсон были посланы с небольшим отрядом на разведку. Они установили, что город и форты пусты, поэтому генерал Карлейль приказал водрузить большой флаг Святого Георгия, с тем чтобы его видели на кораблях и знали, что город у нас в руках. Так как это было 17 ноября — день рождения нашей любезнейшей королевы, — мы произвели салют из всех орудий, обнаруженных в покинутом городе. На что эскадра ответила бортовыми залпами. В наших рядах было много разочарования от того, что враг оказался таким трусливым!» Юный Коффин сделал остановку, провел по глазам рукой и заметил, что на тыльной стороне ладоней выступил пот. Он поднялся и отыскал ближайший бочонок, откуда зачерпнул кружку воды, взятой на островах Зеленого Мыса. Завернувшись в плащи, двое или трое свободных от вахты офицеров спали прямо на палубе, подложив под головы флотские мешки. Их оружие и доспехи, висящие на колышках, вбитых в фальшборт «Бонавентура», тихонько позвякивали под монотонное покачивание галиона. Тяжело вздохнув, Хьюберт Коффин снова взялся за перо и решил писать покороче, опустив упоминание о том, что добычи, взятой в Сантьяго, оказалось столь же мало, как и жителей. «Мы искали губернатора, епископа и жителей в городе Сан-Доминго, лежащем в глубине континента. Город оказался покинутым. Наш главный адмирал отправил послание с требованием выкупа, но, не получив никакого ответа, приказал предать город Сан-Доминго огню. В городе мы обнаружили большие запасы вина и провизии, и сэр Френсис мог бы его пощадить, если бы ночью не убили юнгу, притом самым отвратительным образом. Это сильно разъярило нашего адмирала, и тогда он приказал предать огню Сантьяго. Утром город весело заполыхал. Так как моряки не разжились до сих пор никакой добычей, среди них и солдат стало зреть недовольство, достигшее апогея в последний день нашего пребывания на этих бесприбыльных островах. Поэтому адмирал выстроил всех солдат и экипажи кораблей и заставил их принести присягу верности делу ее величества и власти, которой она его наделила». В горле Коффин почувствовал усиливающееся ощущение тошноты, которое досаждало ему уже несколько часов. Сильно потея, он заставил себя писать. «И вот 26 ноября мы погрузили на нашу армаду все хорошие орудия, обнаруженные на португальских островах. Некоторые говорят, что теперь мы поплывем в Вест-Индию, но так ли это, известно только Господу Богу и нашему адмиралу». Коффину потребовалось довольно значительное усилие, чтобы убрать футляр с перьями, пузырек чернил и рукопись, но только он это сделал, как его вдруг стошнило на палубу. — Проклятье! Ну и насвинячил, болван! — прорычал, пробудившись, один из спящих. Вскоре и другие, почувствовав тошноту от исходящего от палубы зловония, присоединили свои голоса к его брани. Коффин уцепился за поручни и жалобным голосом стал оправдываться: — Извините, джентльмены. Странно, но руки у меня как из песка и… и… — Его снова стошнило. — Ясно, у вас лихорадка, — наконец пробормотал Натаниэль Годвин, врач флагманского корабля, — и, боюсь, она осложнена патологическим течением. Помимо рвотных судорог заболевшего молодого человека стал еще мучить понос, удвоив его несчастье и исходившее от него зловоние. По истечении нескольких часов у Коффина стали путаться мысли. Сначала он бредил, что отливает чудовищно огромные кулеврины и изготавливает зернистый порох, потом слабо забормотал о Байдфорде в Девоншире, где по белым утесам, увенчанным зеленью, прыгают кролики. Изрытое оспой лицо доктора Годвина вытянулось еще сильнее, когда та же самая лихорадка поразила еще двоих джентльменов, около дюжины матросов на полубаке и солдат. — Я встречался с этой чертовой лихорадкой Зеленого Мыса и раньше, — заявил штурман. — В большинстве случаев она смертельна, а из тех, кто выздоравливает, многие бывают повредившимися в уме. Бог знает, почему адмиралу пришло в голову стать на прикол именно здесь. — Ради воды, — пояснил Уайэтт — он прикладывал мокрые тряпки к горячему лбу Коффина. — Да, но вода-то оказалась плохой, — угрюмо комментировал боцман. — Я заметил, что речка пробегает там ниже города и она очень грязная. Уайэтт был теперь более обычного молчалив, поглощенный мыслями о Кэт, беременной, одинокой и почти без гроша в кармане. Еще хуже было то, что, хотя эскадра Дрейка вот уже свыше двух месяцев находилась в плавании, кошелек помощника штурмана ничуть не стал от этого тяжелее и сам он тоже не стал владельцем даже пинассы. Учитывая свой последний разговор с адмиралом, мало, казалось, оставалось вероятности надеяться на такое развитие дела, хотя Дрейк, по своему обычаю, взял себе за правило всегда здороваться по имени не только со своими офицерами, но даже с самыми незаметными из корабельных юнг. Сейчас один из этих несчастных парней, умирая, лежал на мокром брезенте, тяжело и хрипло дыша, с ужасным желтовато-зеленым лицом. Уайэтт подошел к нему и поднес к его дрожащим губам тыквенную бутыль с водой, хоть и знал, что чуть позже его будет рвать этой несущей краткое облегчение жидкостью. День за днем под пылающим солнцем охваченная эпидемией армада продвигалась на запад. Ветер сопутствовал эскадре. Эпидемия распространялась до тех пор, пока незатронутыми этой таинственной и свирепой болезнью оставались только два судна — обе маленькие каравеллы. Теперь уже люди умирали почти ежечасно, потому что из-за тесноты внизу и на палубе невозможно было держать корабли в какой-то хотя бы относительной чистоте. В конце недели «Бонавентур» издавал такую невыносимую вонь, что даже слабый нюх мог бы распознать его присутствие с расстояния в полмили. Вначале мертвецов отправляли за борт после похоронной службы, прочитанной капелланом флагманского корабля, каким-нибудь из офицеров или даже самим Дрейком, но потом, как только заболевший испускал дух, здоровые матросы волокли его труп по палубе и выкидывали в искрящееся голубое море. В конце двухнедельного плавания вице-адмирал Фробишер, до крайности обеспокоенный, прибыл на борт «Бонавентура»и предложил прекратить свободное плавание и изменить курс эскадры так, чтобы ветер с бимса продувал между палубами и, возможно, тем самым ослабил бы эпидемию. Сэр Френсис Дрейк внимательно выслушал его, но потом покачал выгоревшей на солнце тяжелой головой: — Нет, Мартин, я и раньше встречался с такими лихорадками, и не выдуть ее ветрами, какими бы свежими и крепкими они ни были. Будем держаться настоящего курса и молить Бога, чтобы дал нам достичь какого-нибудь острова Вест-Индии, прежде чем слишком много бедняг отправится на тот свет. Устало покорившись несгибаемой воле адмирала, пораженные болезнью корабли продолжали свой курс на Карибское море, и в снастях их пели северо-восточные пассаты, обрушивая алмазные россыпи брызг на шканцы правого борта. Благодаря этим пассатам эскадра практически шла сама по себе, и это было хорошо, поскольку оставшиеся здоровыми в основном заботились о своих бредивших сотоварищах, валявшихся повсюду на палубах и со стоном молящих о смерти, воде или о той, что осталась любимой на берегу. Генри Уайэтт большую часть своего времени посвящал сквайру Хьюберту Коффину, который, несмотря на ужасную слабость и истощенность, упрямо цеплялся за жизнь, и его когда-то мощная грудная клетка поднималась и опадала с лихорадочной частотой. Будучи в отчаянии, доктор Годвин приказал жечь фосфор, а также селитру, чтобы хоть на время ослабить эту жуткую вонь между палубами, но на эпидемию это не действовало. Теперь на всех топах мачт день и ночь сидели наблюдатели и вглядывались в даль, пытаясь заметить остров и гавань, где можно было бы оставить больных, почистить корабли и отмыться самим. Уже более двухсот тридцати трупов дрейфовали за кормой армады Дрейка, и вот наконец наблюдатель на «Подспорье» издал тот самый клич, который со страстным нетерпением ожидали все. Уайэтт положил голову Хьюберта себе на колено, влил ему в рот несколько ложек бульона и объявил: — Землю завидели, так что теперь, дружище Хьюберт, ты уж точно доживешь до того дня, когда запустишь свои руки по локоть в сокровища. Налитые кровью карие глаза, дрогнув, устремили свой слабый взгляд вверх, и он едва заметно кивнул головой. Уайэтт добавил: — И где-нибудь здесь ты, может, найдешь мне крепкую каравеллу, чтобы она стала моей собственной. Хьюберт моргнул, еще раз кивнул головой и, закрыв глаза, привалился спиной к старому марселю. Уайэтт задержался, разнося бульон в зловонном полумраке батарейной палубы и пытаясь забыть бредовые стенания верзилы канонира, беспрестанно зовущего девушку по имени Долли. Замеченная земля оказалась островом Доминика, самым восточным из Антильских островов Наветренной группы — факт, говоривший о том, что Золотой адмирал не утратил за годы, проведенные на берегу, своего мастерства флотоводца. Индейцы этого острова, недавно восставшие против невыносимой жестокости испанцев, выплыли навстречу эскадре на весельных лодках, размахивая в знак мира и доброжелательности зелеными ветками. Тела их, раскрашенные в желтый, красный и синий цвета, выглядели кричаще яркими на фоне сине-зеленой воды Карибского моря. С собой они прихватили нескольких жалких испанских пленников, с помощью которых и смогли разговаривать с офицерами Дрейка. Они горячо упрашивали англичан высадиться на берегу, все время страстно заверяя их в своей дружбе, но Дрейк, памятуя о почти фатальном предательстве на острове Моча, глубоко отпечатавшемся в его сознании, резко оборвал ворчание капитанов и отказался. Однако он распорядился о покупке у них табака и лепешек из клубней маниока, которые, как утверждали моряки-ветераны, являлись действенным средством для лечения именно этого вида лихорадки. Оттуда грязные вонючие корабли поплыли курсом на север и спустя два дня вошли в просторную, хорошо защищенную бухту покинутого людьми острова, названного в честь святого Кристофера островом Сент-Кристофер, вряд ли догадываясь о том, что в последующие годы большие флотилии последователей Дрейка — Худа, Роднея и Нельсона — будут искать пристанище в этих же самых водах.Глава 11 СЛЕДУЮЩЕЕ РИСКОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Остров Сент-Кристофер — позже Сент-Китс — оказался идеально подходящим для эскадры Френсиса Дрейка. Невообразимо прекрасный остров располагал обильными запасами дикорастущих фруктов и табака — этого превосходного антисептика. Какое неописуемое облегчение — покинуть тесный воняющий «Бонавентур», думал Уайэтт, помогая переправить больных на берег и разложить их рядами в прохладной тени зеленых пальмовых веток. За день больные перестали умирать и начали выздоравливать, а, что еще лучше, инфекция перестала требовать новые жертвы. Поскольку остров оказался ненаселенным и опасности нападения не существовало, не нужно было выставлять охрану и наблюдательные посты среди холмов. Бородатые члены команды снова набирались сил, вдоволь питаясь мясом дикого рогатого скота и свиней, бродивших по острову большими стадами. — Хоть в этом старые испанцы были мудры, — заметил Лоусон из Дувра, старшина небольшой весельной галеры адмиральского корабля и надежный мужик, уважаемый равно как своими товарищами, так и старшими офицерами. — Как только они захватывали остров, то при первой же возможности завозили туда коров, бычков и свиней, чтобы изгнанники их народа не голодали. На Эспаньоле, к примеру, я видел стада диких коров и быков, кормящихся вдоль побережья, которые насчитывали тысячи голов. На острове Сент-Кристофер, как в райском саду, водились также большие количества диких голубей — красивых зеленовато-серых птиц с широкой черной полосой на хвостах и настолько не пуганных человеком, что легко становились его добычей. Еще один вид еды представляли собой безобразные ящерицы, которые, надлежащим образом приготовленные, оказывались сочными, как каплуны. Многие заболевшие быстро возвращали себе силы. Хотя хирург Годвин и не обращал на это внимания, но Уайэтту показалось интересным то обстоятельство, что те, кто выздоравливал быстрее всех, в прошлом перенесли какое-нибудь тяжкое заболевание. Такие поднимались на ноги намного раньше тех больных, которые вплоть до того, как их свалила лихорадка Зеленого Мыса, отличались завидным здоровьем. Люди в этих благоприятных условиях хорошо отъедались, и вскоре к ним возвращались их бодрость и энергия. Они охотно присоединялись к тем грубым играм, которые затевали их командиры. На гладких белых пляжах устраивались борцовские схватки, и долговязые копейщики азартно награждали друг друга ударами по башке в палочных поединках. На тенистых лужайках, образованных высокими деревьями красных пород, лучники устанавливали мишени, и тетива за тетивой хлестала о луки, и стрелы длиной в ярд проносились в теплом солнечном свете под крики «Боже упаси!». Уайэтт немного приободрился и, каждый вечер становясь на колени для молитвы перед сном, благодарил милосердного Бога за то, что он уберег его от этой ужасной лихорадки и сохранил его в силе и здравии. Благодаря этому он познал много тонкостей мореходного дела, начиная с того момента, как Плимут-Хоу скрылся за горизонтом. Рождественский день отмечался особыми играми: в мяч, в дубинки, в стрелковые игры, для которых выделялись необычайно щедрые награды из личной казны Золотого адмирала. Единственное, что навевало печаль, — это большие прорехи в рядах соревнующихся и отсутствие многих знакомых лиц, которым не суждено было больше смеяться или грубой соленой шуткой повеселить товарищей. Вместе с другими выздоравливающими Хьюберт Коффин смотрел на парад, устроенный воинами Карлейля в честь любимой их королевы, и чувствовал себя вполне удобно в прохладной тени шалаша из пальмовых веток. В конце двухнедельного срока участники экспедиции снова собрались с духом и восстановили большую часть своих сил. От свежего воздуха, отсутствия скученности и, главное, от свежего мяса, фруктов и овощей их тела пополнели, а постоянные военные учения позволили им в совершенстве овладеть и тактикой, и искусством стрельбы. К сожалению, многие еще продолжали болеть и, как предсказывал штурман флагмана, у некоторых так и не восстановилась полностью здравость мышления после перенесенной болезни. И разумеется, заново вспыхнула старая ссора, упрямо живущая между лучниками и аркебузирами (первые живо могли послать с дюжину стрел, пока последние перезаряжали свои неуклюжие, но более смертоносные орудия), и только своевременное наложение наказания предотвращало серьезные неприятности. Что же касается сэра Френсиса, он, казалось, везде успевал — не человек, а неиссякающий фонтан энергии. Те, кто лучше всех знал Дрейка, утверждали, что он замышляет свой следующий ход, в котором соединит накопленный в прошлом опыт с кое-какими новинками, рассчитанными на то, чтобы обмануть и перехитрить испанцев. Что бы там у него ни было на уме, Дрейк хранил свои планы при себе до тех пор, пока эскадра не пробыла в море целых четыре дня. К неловкому удивлению Генри Уайэтта, его вдруг вызвали в роскошную красно-золотистую каюту адмирала, оторвав от наблюдения за работой по замене некоторых изношенных шкотовых линей и фалов. День выдался необычайно знойный, и сэр Френсис, как и большинство его приближенных, сменил теплые, плотно облегающие чулки, бриджи и дублет на муслиновую рубаху и просторные панталоны — такие, в каких в тех широтах красовались его враги. На широком столе были разбросаны карты, схемы и прочие чертежи, поразившие Уайэтта чудесным своим исполнением. Фульк Гревиль, главный секретарь адмирала и «верный Ахат», сидел, сосредоточенно подготавливая списки и составляя различные реквизиции. В каюте флагманского корабля было так жарко, что с конца луковицеобразного красного носа вице-адмирала Мартина Фробишера начал уже капать пот, а генерал-лейтенант Карлейль разделся до пояса, выставив напоказ свою густо поросшую черными волосами грудь и красноватый шрам, тянущийся вдоль ребер. Дрейк промокнул лоб батистовым платком и откинул назад рукой свои желто-соломенные волосы, которые начиная с Байоны он подстригал довольно коротко. — Мастер Уайэтт, сэр, — объявил флаг-капитан Феннер. Дрейк резко поднял на Уайэтта взгляд пронзительных синих глаз, буравя его красное, цвета меди, лицо. — Если мне не изменяет память, мастер Уайэтт, — сухо заговорил он, — вы в тот проклятый день, когда мы покинули бухту Виго, что-то говорили об Эспаньоле? Чувствуя себя страшно неловко, ибо он не был уверен, что Дрейк уже не считает его тогдашнее выступление наглостью, Уайэтт ответил утвердительно. — Не говорили ли вы об отсутствии длинноствольных пушек в фортах Санто-Доминго? — Говорил, сэр. — Уайэтт чувствовал на себе испытующие взгляды дюжины пар глаз. — Но из-за промедления, связанного с нашим плаванием на острова Зеленого Мыса, невозможно теперь быть уверенным, что их туда не завезли. На загорелых щеках адмирала выступил легкий румянец: не нравилось ему, очевидно, это напоминание о бесполезном и почти катастрофическом изменении курса. — Иными словами, вы не можете с уверенностью сказать, что эти форты на Эспаньоле все еще лишены тяжелых орудий? — Так точно, сэр. Испанцы давно уже, наверное, заподозрили, что вы намерены ударить в этомнаправлении. Одна из кустистых желтых бровей адмирала поползла вверх. — Разумно. Скажите мне, что вы знаете о городе. Стыдясь неповоротливости своего языка, Уайэтт отвечал: — Я ничего не знаю о городе Санто-Доминго, кроме того, что мне рассказывал о нем мастер Дженкинс. — И что же он вам рассказывал? — Что Санто-Доминго — столица и резиденция испанской власти над всеми их владениями в этой части Западного Мира. Он уверял меня, что город расположен на прекрасной местности и красиво отстроен из камня и превосходного мрамора. В нем можно увидеть десятки церквей и монастырей. Эта столица имеет славу самого богатого города испанской Вест-Индии. Дрейк кивнул головой и улыбнулся своим капитанам. — Это не вранье, джентльмены. Санто-Доминго должен быть той сочной сладкой сливой, что мы ищем, если таковая вообще имеется. Теперь, джентльмены, давайте-ка обсудим, как нам лучшим образом потрясти дерево короля Филиппа, чтобы эта пухленькая слива непременно упала так, что до нее можно было бы дотянуться. Адмирал не мешкая разложил на столе большую карту Санто-Доминго и приступил к рассуждениям о том, какие стратегию и тактику им нужно принять в этом деле. Поскольку об Уайэтте он, похоже, забыл, тот, испытывая неловкость, стал потихоньку пробираться к двери, но Дрейк, останавливая его, поднял руку. — Нет, прошу остаться здесь, мастер Уайэтт, потому что я намерен отправить на разведку галиот «Утку», а капитану Хоукинсу, видно, придется так много заниматься наблюдениями, что ему понадобится иметь с собой рядом ловкого моряка. — Далее адмирал заговорил о своем намерении высадить на берег лазутчиков для заключения союза с его старыми друзьями маронами — беглыми неграми-рабами Вест-Индии. На Эспаньоле, как и в других местах, бесчувственная жестокость испанцев готова была пожинать кровавые урожаи. От многих мореплавателей до адмирала уже доходили слухи о том, что на Эспаньоле скрываются сотни отчаявшихся негров и индейцев, жаждущих лютой мести. Контр-адмирал Ноллис, всегда поджарый и мрачновато молчаливый, заявил, что он возражает против подключения к ним незнакомых и, вероятно, не заслуживающих доверия союзников; в этом его горячо поддержал капитан Уильям Винтер с «Подспорья». — Я против этого, сэр Френсис. Никто не может сказать, как поведут себя эти чернокожие, если удача в этом деле обернется против нас. Дрейк резко распрямился и заговорил уверенно и энергично: — Они не отвернутся. Разве они не из тех, кого ожидает гнев Испании в случае нашего поражения? Чего Господь не допустит! В Санта-Крус и Номбре-де-Дьос они оставались верными и доблестными, хотя удача мне и изменила. Нет, эти негры никогда не отвернутся от нас. Наконец в каюту ввели греческого купца, захваченного одним из кораблей эскадры при сторожевом патрулировании и теперь служащего экспедиции лоцманом. Хотя этот изменник, казалось, так весь и рассыпается в улыбках и поклонах, он явно боялся, что пропадет его маленькая барка с грузом молодых оливковых деревцев и он сам будет болтаться на рее английского корабля. Нескольких успокоительных слов со стороны Дрейка оказалось вполне достаточно, чтобы этот человек быстро набросал грубый, но понятный для глаза план Санто-Доминго с его фортами и батареями. Старый грек вращал глазами и бормотал себе под нос какие-то указания для самого себя, а кисточка его обрисовывала длинную, выступающую в море с восточной оконечности Санто-Доминго песчаную косу. Западнее остров описывал широкую кривую, заканчивающуюся невысоким мысом. — Между острием этой косы, сеньоры, и этим мысом западнее от нее находится мелкое место, которое можно преодолеть только в умеренную погоду. Здесь же, за этой отмелью и в пределах досягаемости для длинноствольных пушек, стоят городские стены из камня-известняка, — давал он свои пояснения. — Увы, сеньоры, только в этом единственном месте возможна высадка в гавани. — Такое место для высадки нам очень здорово подойдет, — проворчал Фробишер, — если те две звезды, что нарисовал этот воняющий чесноком парень, представляют собой форты. — Узнайте, действительно ли те отметины означают форты, — распорядился Дрейк, — и, если это так, сколько в них установлено пушек. Переводчик затрещал по-гречески, затем сообщил: — Он клянется, что уже много месяцев не наведывался в Санто-Доминго, но в то время у них стояло только пятьдесят шестидесятифунтовых пушек. Однако он заметил, что многие амбразуры все еще пустуют и ожидают прибытия орудий из Испании. — Слышал ли этот чесночный пройдоха насчет того, прибыли ли эти недостающие пушки? — включился в разговор Ноллис. — Нет, сэр. Он говорит, что полгода не был в этом городе и как раз направлялся туда, когда его судно захватил «Белый лев». — Пусть продолжает. Смущенный вниманием этих высокопоставленных лордов, высохший старый грек объяснил, что город стоит целиком окруженный высокими стенами из прочного известняка, что королевские инженеры построили пару укреплений, которые защищают стены со стороны моря, и что недавно он слышал, будто эти форты укомплектовываются испанскими регулярными войсками. — Где же тогда мы можем высадиться? — услышал Уайэтт густой и глубокий голос Карлейля. — Я узнал, — громко заговорил Дрейк, — что милях в десяти к западу от Санто-Доминго лежит мелководная бухта с берегом, подходящим для нашей цели. Но только она охраняется двумя сторожевыми башнями, в которых службу несут добровольцы из города. — В десяти милях, вот как? — протянул Карлейль и пощупал пальцами свою тяжелую черную бороду. Тем временем грек-лоцман охотно распространялся о богатстве домов, количестве очень солидных складов и о громадных церковных накоплениях. Город был переполнен знатью, богатыми купцами и высокопоставленными чиновниками колониального правительства. Каково население? Что-то около шестнадцати тысяч, не считая рабов и временных поселенцев, которых так много потому, что Санто-Доминго — перекресток дорог американских владений испанского короля. Нет, на него еще никогда не нападали, заявил старый грек, и его жители из-за своих фортов и доблести солдат убеждены, что этого никогда не случится. В конце концов, разве не здесь находится, чтобы защищать их, цвет испанской колониальной армии?Глава 12 МАРОНЫ
Благодаря навигаторскому мастерству Эрика Паркера, английского моряка, решившего, в отличие от ему подобных, оставить Байону после того, как прожил там годы, занимаясь торговыми делами, галиот «Утка» смело вошел в гавань Санто-Доминго, уверенно проскользнув среди стаи высоких купеческих судов и двух стоявших там на приколе военных кораблей. Галиот «Утка», переименованный на скорую руку в «Санта-Тереза де ла-Глориа», якобы прибыл с Кубы с грузом выделанной кожи — так на безукоризненном испанском заявил выдавший себя за его капитана Паркер. Холодные мурашки пробежали по спине Генри Уайэтта, когда нос невысокого маленького галиота врезался в воды оживленной разноцветной гавани Санто-Доминго. Подумать только, он теперь в действительности видит перед собой эти великолепные фортификационные сооружения, так ярко описанные мастером Дженкинсом под деревом миндаля в Байоне. Уайэтт имел на себе только поношенные бриджи длиной до колена и так сильно загорел, что, имея от природы темный и густой цвет кожи, легко мог сойти за испанца. Он присмотрелся к длинному ряду амбразур, проделанных в зубчатых желтовато-серых стенах, возвышающихся над чистыми, кое-где со следами мусора, зелеными водами гавани. Почти из всех крепостных бойниц торчали жерла орудий! К сожалению, галиот был вынужден плыть в такой близости от парапетов, что оказалось невозможным оценить вероятный вес этих пушек, так грозно поблескивающих там, наверху. И точно, как и рассказывал старый грек, была тут и вымощенная булыжником площадка для высадки — на ней, вытащенные из воды, лежали пироги и небольшие лодки. Площадка располагалась на самом краю гавани и находилась под столь плотным прикрытием батарей, что всякая вражеская попытка высадиться на ней неминуемо привела бы к массе разорванных в клочья тел. Множество сарычей парило высоко в воздухе вокруг спаренных кружевных башен большого собора, в котором, как говорили люди, покоились мощи дона Кристобаля Колона*["334]. — Видели, какого размера их чертов собор? — пробормотал матрос по имени Джексон, — Ручаюсь, мы в нем здорово поживимся. Не вызывало ни малейших сомнений то, что до колониальной столицы еще не дошли никакие известия о близости к ней английской эскадры. Маленький галиот вошел в порт в первый послеполуденный час: капитан Ричард Хоукинс, человек кипучей энергии и нередко скандальный, выбрал именно это время, когда подавляющее большинство населения обыкновенно погружается в сиесту — послеполуденный сон. «Утка», подгоняемая мягким бризом, сделала поворот оверштаг и, пройдя через гавань, удостоверилась, что два стоящих там военных корабля проходят обширный ремонт: один — большой галион примерно тонн на шестьсот и, судя по его виду, построенный французами; другой — галлизабро, небольшое быстроходное судно. Последнее представляло собой новый класс кораблей, спроектированных адмиралом Менендесом специально для того, чтобы защищать испанские королевские флотилии с серебром от нападающих в море пиратов. Если мужественно и умело пользоваться его преимуществами (маневренность, быстрота, хорошая вооруженность) в сражении, галлизабра одна стала бы более чем достаточным соперником «Бонавентуру». Разведывательное судно неторопливо прокралось сквозь путаницу стоявших на приколе судов, два из которых, судя по издаваемым ими тошнотворным запахам, видимо, только что прибыли с грузом рабов с Гвинейского побережья. По снастям распознавались все виды судов: нефы, барки, фрегаты и каракки, а также торговые суда для плавания по внутренним водам архипелага. Вдоль прибрежной части гавани был разбросан ряд внушительных строений, включая таможню — адуану, королевские склады и дворец, резиденцию губернатора и одновременно главнокомандующего всеми вооруженными силами. Далее располагалось то, в чем Паркер распознал королевское казначейство, где собирались и хранились слитки золота и серебра, дожидаясь, пока флотилия галионов и каракк перевезет сокровища в Кадис. Весь обращенный к морю фасад этого здания, что относилось и к другим королевским строениям, украшала изысканная резьба с гигантским гербом Филиппа. Сколько несчастных рабов, думал Уайэтт, томилось и умирало под этим палящим солнцем, чтобы создать эту чудную каменную резьбу! Среди обширных садов, на вершине низенького холма, казавшегося крошечным по сравнению с возвышающимися позади горами, стоял дворец наместника короля, ослепительно сверкающий белизной под этим ярким декабрьским солнцем. — Этот старый грек говорил правду, — пробурчал Ричард Хоукинс, отгоняя вьющуюся над ним стаю мух. Эти и прочие летающие насекомые осаждали судно, словно вражеские солдаты, идущие на абордаж. Только совсем небольшое количество негритянских лодок, снабжавших суда провизией, отчалило от берега, чтобы встретить самозваную «Санта-Терезу»; они везли кучи кокосов, лимонов, апельсинов и прочие фрукты и яства, столь любезные матросам судов, прибывших в долгожданную гавань после долгого плавания. На городских крепостных стенах не было видно признаков жизни, помимо головы единственного полусонного часового, снявшего свой стальной шлем и прислонившего пику к стене, чтобы немного побыть в голубоватой тени. Он лениво обмахивался пальмовым, с бахромой по краям листом. Галиот покружил по гавани, словно бы в поисках подходящей якорной стоянки, но, когда гавань стала оживать, задул морской ветер и стали удлиняться тени, Хоукинс повел судно ломаным курсом назад к входу в гавань, лавируя между желтыми парусами рыболовецких шлюпок, входящих в порт в компании с двумя неуклюжими каравеллами. Последние, видимо, приплыли сюда из Мексики, потому что подняли флаги Кастилии и Арагона с изображением башен и львов и дали приветственный залп, проходя мимо замка у входа с восточной стороны. — Исхитрись бросить лот, когда мы пойдем над отмелью, — приказал молодой Хоукинс Уайэтту, и в его голосе послышалась напряженность. — Давай убедимся, что наши суда не сломают себе хребты под испанскими пушками. Всем на галиоте было немного не по себе. Если бы на протяжении истекшего часа кто-либо потрудился понаблюдать за так называемой «Санта-Терезой», он бы уж точно заподозрил неладное. Измеряя лотами глубину, Уайэтт и Джексон следили за крепостными стенами и вот заметили на них значительно возросшую активность. Засверкала сталь, над водой разнеслось лошадиное ржание труб, прогрохотала пушка. — Божьи зеницы! — рявкнул Хоукинс. — Эти болваны все же подняли тревогу. Ставить все паруса! — Прошу прощения, сэр, — вмешался Уайэтт, — просто с той крепости отвечают салютом. В данный момент, если мы сразу поднимем все паруса, это вызовет подозрение. — Возможно, ты прав, — сердито бросил в ответ Ричард Хоукинс. Когда изумрудные воды под галиотом посветлели и стали желто-зелеными, Уайэтт извлек свой лот и вздохнул с облегчением: не менее трех добрых морских саженей — достаточная глубина для всех кораблей армады. Одна из идущих в порт каравелл проходила так близко, что матросы ее экипажа закричали приветствия. Паркер помахал им рукой и не спеша поприветствовал в ответ. — Это «Санта-Анна де Веракрус», только что из Сан-Хуан де Улуа. — Паркер ухмыльнулся. — Как раз успевает на праздник Нового года. Благодаря своей заурядной внешности и испанскому флагу на мачте галиот «Утка» остался, очевидно, незамеченным и у него не потребовали опознавательных; он прошел мимо входящего в гавань рыболовецкого судна, и оттуда его приветствовали веселыми криками. Отплыв подальше в открытое море, галиот повернул на запад и шел этим курсом до тех пор, пока, уже в сумерках, не завидел вход в небольшую гавань с двумя возвышающимися сторожевыми башнями, охранявшими великолепный и хорошо защищенный от непогоды берег. Это, объявил Хоукинс, то самое место для высадки на берег без всяческих проволочек шести-семи сотен солдат — конечно, при том лишь условии, что сначала захватываются башни. Словно бы нисколько не интересуясь этой гаванью, разведывательный галиот прошел мимо, раздувшись под свежим ветром желто-коричневыми парусами. У берегов еще одной гавани, лежащей, возможно, в лье от охраняемого берега, капитан Хоукинс положил руль налево и, когда уже первые звезды стали приобретать тот добела раскаленный блеск, что был свойственен им в небе тропиков, повел свое судно к суше и в тридцати ярдах от берега вошел в бейдвинд и бросил там якорь. — Вывесь два фонаря со шпринтовштага, один над другим, — распорядился Хоукинс. — А ты, рыжий разбойник, готовь своих людей, чтобы они отвалили по первому же знаку. — Слушаюсь, сэр. Уайэтт чувствовал враждебность молодого капитана. Не стоило Хоукинсу так заводиться по поводу его совершенно справедливого замечания; жаль, что он, очевидно, сцепился рогами не с кем-то еще, а именно с Хоукинсом. Будучи сыном сэра Уильяма Хоукинса, он неизменно пользовался большим уважением, чем мог бы на то рассчитывать командир самого что ни на есть маленького суденышка в английской эскадре. Наконец с кормы спустили на воду судовую шлюпку галиота, и капитан Хоукинс приказал, чтобы его отвезли на берег. Он восседал, прямо и горделиво, на кормовом сиденье, Уайэтт же правил, держа шлюпку носом к полого поднимающейся галечной полосе. Затем полчаса ожидания, пока комары праздновали веселье над жалобно скрючившимися гребцами. Хоукинс не желал высаживаться на берег или даже приблизиться к тем темным джунглям, в которых зловеще звучали крики всевозможных птиц и обезьян. — Есть! — вдруг резко выкрикнул Хоукинс. — Вон они пришли! Из гущи теней донесся голос, он подавал им сигнал опознания: «Глориана», на который Хоукинс ответил: «Боже, спаси королеву». Затем на галечной полосе появились вице-адмирал Мартин Фробишер, старшина Пауэлл, капитан Мун и молодой корнет вместе с дюжиной человеческих существ самого безобразного вида, каких только мог представить себе Уайэтт. Вожди негритянских рабов носили ожерелья из кабаньих клыков, перемежающихся с человеческими костяшками пальцев, в мочки их ушей и в носовые перегородки были продеты вырезанные в форме полумесяца кусочки слоновой кости. Это убранство дополнялось разнообразными, странного вида головными уборами, сидящими на черных и жестких, как ежовые иглы, волосах. Вооруженные всевозможными дротиками, луками и дубинками, они молча рысцой подбежали к краю воды. При ярком свете звезд их плоские черные лица приобрели слегка синеватый оттенок, и Уайэтт заметил, что многие из них обточили свои зубы так, что они стали похожи на острые собачьи клыки. Все мароны были голые, если не считать пояса, с которого свисала блестящая морская раковина; в таких крупных раковинах негры прятали свои половые органы, видимо, для того, чтобы уберечь их от шипов и прочих травмирующих прикосновений джунглей. — Ну прямо как бесы из преисподней, а? — тихонько проговорил Джексон. — Это уж точно, — согласился Уайэтт. — Вряд ли позавидуешь доле испанца, попавшего им в руки. Томас Мун, сопровождавший Дрейка в нескольких предыдущих экспедициях, видимо, без затруднений нашел общий язык с главным вождем маронов, сильно смахивающим на обезьяну, хотя казалось, что тот издавал лишь ряд звуков, не более сложных, чем щелканье языком и свистоподобное хрюканье. — Договорились, — проинформировал он крепкого старого Мартина Фробишера. — Перед рассветом наши дикие друзья овладеют сторожевыми башнями, охраняющими место высадки, и, когда мы окажемся на берегу, нашим глазам, я думаю, откроется жуткое зрелище. — Это уж точно, если, конечно, им посчастливится застать испанцев врасплох, — проворчал вице-адмирал, — но да поможет нам Бог, если у них сорвется.Глава 13 ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ
На рассвете первого дня нового, 1586 года эскадра сэра Френсиса Дрейка подняла якоря. Больше не было смысла притворяться, что присутствие ее оставалось незамеченным. Слишком часто она оказывалась в поле зрения пирог и рыболовных суденышек, которые тут же разворачивались и улепетывали в сторону этой жемчужины Антильских островов, именовавшейся Санто-Доминго. Один за другим английские корабли поднимали развевающиеся флаги и вымпелы, обрасопливали паруса и пускались в сторону двух голубовато-зеленых гор, маячивших над горизонтом. Воины генерал-лейтенанта Карлейля напоследок бегло осмотрели свои доспехи, подточили шпаги и копья. Лучники испробовали свои луки, а аркебузиры убедились, что порох у них сухой и фитили готовы к запалке — благо что угольная жаровня меж палубами полубака никогда не затухала. Браво, со всех топов мачт затрепетал крест Святого Георгия, и, в согласии со старинным обычаем, обладавшие своим гербом дворяне навесили деревянные щиты, теперь уже чисто геральдические и не используемые в боях, на поручни юта, чтобы их врагам было известно, с кем предстоит сражение. Хотя сквайр Коффин оставался еще слишком слабым, чтобы участвовать в предстоящей схватке, он тем не менее попросил, чтобы ему на палубу принесли отцовский, уже устаревший шишак и усеянную вмятинами от ударов кирасу. Как обычно, никто не знал наверняка, каким курсом задумал идти адмирал, и его джентльмены то и дело поглядывали на эту прямую коренастую фигуру у поручней борта на юте. Из-за людских потерь во время эпидемии на кораблях больше не было прежней теснотищи, и оставшиеся в живых так и рвались наружу, словно гончие из-за загородки, при виде все приближающегося бело-желто-серого города впереди у подножия горы. Дрейк стоял в стороне и глядел на залитое солнцем море. Какая судьба ожидает его там? Вот так же он шел на Санта-Марту, Сан-Хуан де Улуа и Номбре-де-Дьос. Над горизонтом поднялись рассеянные дождевые шквалы недолго побродили по небу и промочили один корабль за другим, заставив лучников выругаться и попрятать свои луки в непромокаемые чехлы. Но ливни отшумели быстро, и уже через считанные минуты солнце жарило как и прежде. Несмотря на полдень и время сиесты, мало кто спал сейчас в Санто-Доминго: у берега легким галопом скакали кавалеристы, а по дорогам, ведущим в столицу, маршировали отряды войск. Похоже, с мрачным удовлетворением заключали английские моряки, уже больше не повторится то малодушное и опрокидывающее их планы нежелание сражаться, которое так испортило им настроение при налете на Сантьяго. Видно было, как несколько суденышек поспешно выбираются из гавани и стремглав удирают, держась береговой полосы. — Жаль. Теперь их никак не поймать, — проворчал Дрейк. — Наверное, доверху набиты ценными грузами. Генри Уайэтт, поставленный рядом с лоцманом «Бонавентура» (учли его опыт, приобретенный на галиоте «Утка»), теперь обнаружил, что Санто-Доминго впечатляет его еще больше, чем прежде. Вспомнив, что до сих пор экспедиция не принесла ему ни гроша, он бессознательно облизнулся. Наверняка в этом богатом городе его ожидает сокровище, достаточное, чтобы обеспечить собственным домом милую Кэт и ребенка, который, уж верно, тоже будет его встречать. И домом достаточно большим и красивым. Обожженное солнцем лицо блеснуло зубами, когда он представил себе, сколько судов сейчас стоит на приколе в той гавани. Пока его флагман равномерно шел к отмели, он заметил клубы серовато-белого дыма, отделявшиеся от зубчатых стен того массивного форта, который стоял на страже у входа в гавань с западной стороны. Несомненно, это всего лишь палили сигнальные пушки. Теперь на каждую башню водрузили яркие флаги — короля, наместника короля или какого-нибудь могущественного сановника. Уайэтт, хоть убей, не мог понять, почему войска не высадились на берегу, разведанном галиотом. Чувствуя, как всем существом его овладевает напряжение, он бросил взгляд на шкафут, заполненный теперь бородатыми, выбеленными солнцем солдатами в стальных касках и белом обмундировании, помеченном крестом Святого Георгия. Все до единого бравые ребята, они отпускали грубые шутки. — Ставлю два дуката, Уилл, что раньше тебя буду развлекаться с девчонкой, — хвастался один. — Это точно. Завалишь какую-нибудь черненькую в переулке. Первый аркебузир сплюнул на палубу. — Ну нет, только не негритянку, а какую-нибудь утонченную светлокожую дамочку благороднейших испанских кровей. — Чего базарить, ребята? Благородная леди или негритянская девка — в темноте они все одинаковы, — зубоскалил третий. — Можешь своих светлокожих голубок оставить себе, — пробурчал высокий копейщик с щербатым ртом. — Лично мне по вкусу большая черная баба, у которой с сисек капает пот, как сало с прожаренного куска мяса. Благодаря разведке, произведенной галиотом «Утка», «Бонавентур»с личным вымпелом Дрейка, развевающимся с главной бизани, уверенно продвигался к отмели. И все же его лоцман бросил на Уайэтта недоверчивый взгляд. — Лучше бы тебе не ошибиться насчет этих замеров, иначе тебя живьем освежуют и солью натрут в какой-нибудь испанской темнице. Темно-рыжие брови Уайэтта сошлись на переносице. — Все пройдет гладко, если у тебя королевская таможня будет на одной линии с правой башней собора. Когда вода побледнела и глубина стала минимальной, на армаду опустилась тишина, позволившая экипажам ее двадцати пяти кораблей ясно расслышать бешеную дробь барабанов и похожее на ослиные крики звучание труб, доносившиеся с зубчатых стен. Сэр Френсис Дрейк, сверкая своим позолоченным шлемом, важно прошелся по палубе юта гибкой и легкой походкой. — Теперь очень скоро, мастер Уайэтт, мы убедимся, есть ли у них те длинноствольные пушки, о которых вы говорили, или нет. — Он бросил на Уайэтта любопытный, почти извиняющийся взгляд. — Если по нам ударят, это не ваша вина. Вы меня вовремя предупреждали. Матросы, собравшиеся на полубаке, с тревогой оглядывали бледно-зеленую линию — внутреннюю кромку отмели гавани. Капитан Феннер выругался и заметил: — Это будет опасно, чертовски опасно. Мимо синих бортов заскользили выплывающие из гавани кусочки помоев. Когда под бушпритом «Бонавентура» замерцала желанная отмель, Дрейк, может, невольно ухватился за ванты, чтобы крепче стоять на ногах. Все на борту ощутили, как замедлился ход корабля при вхождении в мелководье: на какое-то мгновение он как бы присел на воде. И… в следующий миг из глоток матросов вырвалось бурное ликование: «Бонавентур» благополучно прошел над мелью. Поодиночке, по двое, по трое другие английские корабли — желтого, красного, синего или коричневого цвета — следовали за флагманом, пока наконец все они не одолели отмели, за исключением старого тихохода «Лестера». Подчиняясь сигналу своего адмирала, эскадра сделала поворот и стала выстраиваться в длинный неровный ряд параллельно зубчатым стенам крепости. Этот маневр, как заметил Хьюберт Коффин, выполнялся на таком благоразумном расстоянии, что только длинноствольная пушка могла бы достать корабли англичан, идущие теперь в один ряд. — Поднять мой сигнал «открыть огонь», — спокойно приказал Дрейк начальнику артиллерии. На сигнальный рей галиона быстро взлетел сине-красный полосатый флажок, и тут же одна за другой грянули восемь тяжелых полукулеврин, составляющих батарею левого, или грузового, борта «Бонавентура». Вьющиеся клубы серо-белого дыма лениво поплыли в сторону осажденного города, но — как вполне ожидал Хьюберт Коффин — до цели снаряды всех пушек не долетели как минимум и ста ярдов, подняв на мгновение внушительные фонтаны разлетающихся осколков камней. Английские корабли один за другим следовали примеру флагмана, и по городу с красными крышами прокатились громоподобные залпы, которые, отражаясь от гор за портом, возвращались эхом, и в воздухе тучами закружились перепуганные морские птицы: крачки, большие бакланы и пеликаны. Теперь и испанский западный форт открыл огонь, но с теми же нулевыми результатами. Что касается Дрейка и его старших офицеров, их внимание было поглощено той большой батареей, что защищала место высадки. Пополнилась ли их артиллерия длинноствольными пушками? Всем были видны пушкари, суетившиеся вокруг орудий с ганшпугами, пробойниками и щетками банников в руках. — Дьявольское им проклятье! — прорычал Винтер. — Почему эти ублюдки не открывают огня и не дают знать, чем они могут нам досадить? Момент был напряженным: имейся там, у них наверху, даже полупушка, они могли бы здорово потрепать наступающую эскадру. Где-то минутой позже испанский начальник удовлетворил любопытство Винтера. Около десяти пушек их главной батареи выпустили свои снаряды, выплюнув крупные кольца дыма навстречу летящему с моря ливню. Уайэтт мог совершенно отчетливо разглядеть, как вражеские ядра взмыли по дуге в небо. Коффин же вдруг ухмыльнулся и весело хлопнул себя ладонью по ноге. — Да у них только полукулеврины да камнеметные орудия — и ничего серьезней. — Как ты можешь определить? — Смотри, какие параболы описывают их снаряды. Даже генерал Карлейль задрал вверх голову, чтобы проследить за полетом приближающихся пушечных ядер, отчего его черная борода вылезла далеко за поручень. Очевидно, сохранялось еще положение, описанное мастером Дженкинсом из Байоны, и снаряды крепости шлепались в воды гавани, не долетая добрых двух сотен ярдов до борта «Бонавентура». Наконец Дрейк приказал армаде прекратить огонь, тем самым уменьшив шум канонады вдвое. Однако стрельба англичан имела определенный успех: загорелась каракка, а одна из тех каравелл, которые за день до этого Уайэтт видел входящими в порт, так глубоко ушла носом под воду, что ее фок-мачта резко накренилась над водой. Неторопливо эскадра Дрейка стала на якорь прямо у внутренней кромки той отмели, но все же достаточно далеко от берега, чтоб избежать испанских орудий и опасности внезапной атаки на шлюпках.Глава 14 ЗАХВАТ
Сперва один за другим, затем гроздьями в Санто-Доминго зажглись желто-красные огоньки и, словно бы им в помощь, загорелись мириады звезд и сияли так ярко, что легко было даже без луны различить очертания укреплений. Генри Уайэтт, подчиняясь сигналу Феннера, приказал подтянуть к борту адмиральскую гребную галеру, которая вместе с другими мелкими суденышками «Бонавентура» тащилась на буксире за кормой. Быстро и без лишнего шума аркебузиры, лучники, копейщики и матросы, отряженные для сопровождения экспедиции, спустились в ожидающие их лодки. Хотя сильный ветер с суши и должен был относить в море большинство звуков, в расчеты Дрейка вовсе не входило настораживать испанцев во внешних фортах относительно предстоящих его действий. К укреплениям устремились шлюпки и с других кораблей, подгоняемых ветром, дующим в помощь гребцам. В стальной каске без украшений, кирасе и коротком черном плаще адмирал Дрейк ловко спустился по канатному трапу, а следом к нему присоединился генерал Карлейль с двумя полевыми капралами. Уайэтт был очень огорчен, что по долгу службы ему пришлось остаться на борту. Вместе с Хьюбертом Коффином, тоже клянущим свою судьбу, он стоял, вглядываясь в темноту, поглотившую флотилию мелких судов. — Как, по-твоему, там, в фортах, заподозрят, что происходит? — полюбопытствовал Коффин, плюхнувшись от слабости на целый пороховой бочонок, так как, снова оказавшись на кораблях, больные перестали поправляться, а некоторые, и в немалом числе, посходили с ума. — Нет, не думаю, что они догадаются, — отвечал Уайэтт. — Ветер с суши, поэтому вряд ли они услышат что-нибудь тревожащее. Вскоре ветер задул сильнее, и, к большому огорчению тех, кто остался позади, из тьмы небесной захлестало дождем. Время, казалось, потеряло свой счет. Сердито закачались на своих якорях корабли, заныли, застонали их шпангоуты и верхние реи, словно их раздражало это нежелательное бездействие. Теперь, когда свободного времени у него было предостаточно, Уайэтт, как обычно, пустился в догадки насчет того, что могло бы случиться с его ненаглядной Кэт. Теперь она, наверно, здорово располнела, вынашивая их отпрыска, зачатого несомненно в той райской долине, лежащей в лесу в окрестностях Сент-Неотса. Сент-Неотс! В темноте его губы сурово сжались при воспоминании о том, что тогда произошло в его родном городишке и на рыночной площади в Хантингдоне. Несомненно, существовали на свете такие отвратительные безобразия, как ведьмы и колдуны. Каждый простой человек в Англии согласился бы с этим, но обвинять в таких ужасных злодеяниях несчастную обезображенную Мэг и доброго, не в меру любопытного и непрактичного отца было просто абсурдом! Что касается матери, он снова представил себе эту жутко трогательную, истощенную фигурку с растрепанными седыми волосами, раскачивающуюся на фоне яркого полуденного неба. «Когда-нибудь, — молча решил он, — я встречусь с сэром Джоном Эддисоном и заставлю его отречься от лживых слов». Ведь это он взбудоражил власти и выдвинул обвинения. Кроме того, подумалось помощнику штурмана, нужно добиться отмены обвинений в его собственный адрес. Ведь фактически в данный момент он не более чем приговоренный преступник, сбежавший от правосудия королевы. Он только вполуха слушал то, что не переставал рассказывать сквайр Коффин. — Да, Генри, я просто не дождусь, когда мы пойдем на штурм города. — Он понизил голос. — Видишь ли, семья моя обеднела на королевской службе. Отец мой издержался почти до последнего шиллинга, чтобы снарядить меня в это плавание. Дай Бог, чтобы в казне короля Филиппа оказалось достаточно и на нашу долю. — Он повернул к Уайэтту бледное лицо, заблестевшее от дождя под светом большого кормового фонаря. — Да, Генри, и тебе кое-что перепадет для твоей милой Кэт, о которой ты вечно болтаешь, и для твоей семьи. — Кроме Кэт, у меня из семьи никого не осталось, — мрачно ответил Уайэтт. — Но тем не менее я не прочь получить свою долю военной добычи и еще одну каравеллу, которую я видел вчера в Санто-Доминго. Ей-богу, Хьюберт, вид у нее был что надо: чистые линии, стройная и, кажется, быстроходная. Весь этот отрезок времени, пока корабли покачивались на своих якорях, люди на них разговаривали подобным же образом, при этом пытаясь понять, что за план разработал адмирал для захвата столицы. Ветераны среди матросов понимали, что Санто-Доминго скорее всего окажется очень крепким орешком. У города были очень мощные укрепления, и поговаривали, что их защищают около ста пятидесяти пушек всех видов. Кроме того, за стенами находились регулярные войска короля Испании, и, если их старшие офицеры владеют военным искусством соответственно той репутации, какой они пользуются в мире, англичанам придется довольно туго. До рассвета оставалась пара часов, когда с кораблей можно было уже различить, как из сумерек, крадучись, возвращаются восвояси шлюпки и прочие маленькие суда. Они уже не оседали под грузом солдат и их воинского снаряжения. Когда послышался тупой удар о борт, капитан Винтер собственноручно поискал конец трапа и крикнул вниз, в ветреную темень: — Все в порядке, сэр? — Да, — ответил Дрейк сильным и отчетливым голосом. — Мои чернокожие друзья перерезали охрану сторожевых башен, всех до одного. Ловкие парни, они сделали из них настоящий корм для собак, — добавил он, переваливаясь через борт «Бонавентура»с развевающимся на ветру плащом. — Ох уж любят эти испанцы всячески мучить и убивать своих бедных рабов. Ну а теперь отдыхать. На рассвете мы атакуем город. Длинные цепочки взлохмаченных коричневых пеликанов, похожих на уцелевших обитателей доисторических веков, потянулись, хлопая крыльями, мимо разношерстной эскадры Дрейка, улетая куда-то в море. Когда вокруг марселей засновали, взлетая и падая, чайки и другие морские птицы, корабли английского флота тоже пришли в движение. Подняли якоря и выбросили за потрепанные борта принесенную с ними грязь. Матросы разворачивали паруса по мере того, как один за другим разные суда эскадры Дрейка выстраивались в неровную линию позади «Бонавентура». Адмирал еще раз облачился в тот великолепный костюм из черной в золотой оправе брони, который он надевал у берегов Байоны. На его нагруднике было изображено сражение между тритонами и великанами, а шлем с высоким гребнем, украшенный уже знакомым пучком страусиных синих и белых перьев, придавал сэру Френсису вид чрезвычайно важной персоны. По команде Феннера на шкафуте флагманского корабля зазвучали трубы: там канониры уж дули на пальники и гнулись в напряженном ожидании возле своих обременительных сорокадвухфунтовых пушек, кулеврин и фальконетов. Под крепким ветром с моря дым от горящих фитилей весело вился над палубой вместе с обычными для такого момента солеными шутками. Высоко над грот-марсом заплескался красно-белый узор креста Святого Георгия. С вражеских укреплений донесся ответный сигнал горнов и громкое бряцание мавританских цимбал. Почти на всех башнях и стенах появились флаги — яркие, как бабочки, а цветом и узором бесконечно разнообразные. Еще задолго до этого все испанские суда забились во внутреннюю гавань Санто-Доминго и сгрудились там в такой тесноте, что полностью лишились маневренности. Что же касается тех двух военных кораблей, которые заприметил Уайэтт, то теперь они стояли на страже у входа во внутреннюю гавань с открытыми орудийными портами и развевающимися боевыми флагами. Флагманский корабль Дрейка с полуобнаженной и потной от напряженного ожидания командой все ближе и ближе подходил к фортам неприятеля. Вот уже английские корабли приблизились к ним настолько, что моряки с них могли различать отдельных людей, например, высокого капитана, облаченного в желтый мундир, с черными и алыми перьями на шляпе. Все отчетливей были видны поблескивающие наконечники пик и доспехи, все ярче и ярче сверкали стволы поджидавших их фитильных пушек. Наконец Дрейк резко дернул себя за желтую бороденку и, ступив за переходную доску в палубе юта, крикнул вниз начальнику канониров: — Открыть огонь, мастер Олуин, и смотрите, чтобы целились повыше. «Бонавентур» накренился от отдачи его бортовых пушек и тем самым положил начало длившейся безостановочно почти часовой канонаде, во время которой армада неторопливо окружала наружную гавань и крушила фортификации из своих тяжелых орудий. К счастью для англичан, вражеские валы везде только с виду казались прочными. Довольно часто случалось так, что, когда тридцатифунтовое ядро из полупушки ударялось в каменную крепостную стену, целый сегмент ее взлетал в воздух, оставляя неровную белую брешь. Однако огонь испанских батарей оказался вовсе не таким уж безрезультатным. Снова и снова корабли Дрейка получали пробоины, а разлетающиеся осколки убивали или калечили людей. И все же почти до самого полудня английские корабли продолжали свою смертоносную карусель. Когда наконец они отошли, выяснилось, что у некоторых из них ядрами посбивало стеньги, у других возле самых ватерлиний зияли пробоины, на которые корабельные плотники набивали листовой свинец. Как только флотилия вернулась к своей стоянке, почти все сохранившие физическую пригодность моряки, оставшиеся на борту, подняли сильный шум, размахивали оружием и как-либо иначе делали все возможное для создания впечатления, будто Дрейк собирается высадиться всеми своими силами на каком-нибудь болотистом уголке суши к западу от города. Дрейк расхаживал по корме, делая быстрые короткие шаги. «Прямо как боевой петушок перед схваткой», — подумал Хьюберт Коффин. Очевидно, адмиралу не терпелось узнать, способен ли будет королевский наместник, генерал-губернатор дон Хуан Фернандес де Меркадо, отразить его вылазку, почувствует ли он возможность уничтожить проклятых еретиков на этой открытой местности, где его обученные испанцами регулярные войска могли бы добиться наибольшей эффективности. — Ха! На это я и надеялся, — услышал Уайэтт возглас адмирала, лишь только шлюпки отчалили от кораблей, взяв курс на болотистый уголок берега. Генри взглянул на город. Одни из двух ворот в западной стене распахнулись настежь и оттуда галопом вылетели прекрасно снаряженные всадники на горячих, покрытых чепраками андалузских лошадях. Потом появился отряд аркебузиров, за которым следовала плотная колонна пикинеров. Эти войска повернули на юг и выстроились на краю той болотистой лагуны, к которой плыли теперь моряки английской эскадры. Дрейк стоял на кормовом сиденье своей галеры, и под ударами весел перья вздрагивали у него на шлеме; он вглядывался из-под ладони в лежащие за болотом джунгли. Сумел ли Карлейль, думал он, вовремя завершить свой кружной десятимильный марш вдоль побережья? Задуман такой дерзкий маневр… Никто из нынешних профессиональных военачальников еще не пытался осуществить такое. Нервно дернув себя за бородку, сэр Френсис отдал приказ всей флотилии сушить весла вне досягаемости выстрелов с берега: он вовсе не желал бросать на противника свою малочисленную армию плохо вооруженных матросов. А из ворот Санто-Доминго выбегало все больше и больше солдат: пикинеров, арбалетчиков и довольно много стрелков из аркебуз. Вскоре шесть-семь сотен испанцев построились у болотистой лагуны и замерли в мрачном ожидании. Дым от испанского корабля, подожженного в утренней перестрелке, плыл над городскими стенами и стлался по берегу, отбрасывая неровные голубоватые тени на сидящих верхом, богато разряженных кабальеро. Над водой зазвучали насмешки и оскорбления с обещаниями самой жестокой расправы. Англичане — трусливые псы, орали испанцы. Что, боязно им выйти на берег? А иного и нечего ждать от клятвопреступников, сторонников этой предавшейся ереси бляди*["335], которая восседает на троне Англии. Лица английских матросов начали загораться краской стыда и гнева, руки сжимали оружие — так им хотелось немедленно покончить с этой испанской наглостью. Вдруг откуда-то со стороны густого леса, отделявшего испанцев от их городских ворот, заиграли трубы, и там появился авангард сплоченной колонны солдат, защищенных стальными доспехами, играющих боевую музыку и несущих перед собой огромное знамя с крестом Святого Георгия. Две стрелковые роты — лучники и аркебузиры — быстро выстроились в линию под флагами и красно-белыми полосатыми знаменами. А позади них три отряда пикинеров Карлейля развернулись в плотный трехшеренговый строй. По рядам испанцев прокатился крик удивления, с минуту они колебались, а затем их кавалерия бросилась во фланговую атаку, размахивая десятифутовыми копьями с флажками на концах. Верхом на малорослых, но сильных лошадях кавалеристы помчались сломя голову на эту вторую английскую армию, невесть откуда взявшуюся у них в тылу и на фланге. Пришпоривая коней, кабальеро неслись все быстрей и быстрей с развевающимися на ветру плащами и струящимися плюмажами. От залпа солдат полевого капрала Симпсона опустела дюжина с лишним седел, а затем в тропическом солнечном свете взмыли длинные стрелы, решившие участь сражений при Пуатье, Азенкуре и Кресси. Лошадь за лошадью грохались оземь и с бешеным ржаньем месили воздух копытами. Другие, невыносимо страдая от ран, уносились прочь, сбрасывая своих седоков или буквально втаптывая их в землю. По команде генерала Карлейля лучники и аркебузиры повернулись и отбежали назад сквозь шеренги ожидающих пикинеров, чтобы там перезарядить свои ружья или выбрать новые стрелы. Однако кавалерийская атака продолжалась. Испанские всадники храбро и безрассудно мчались вперед: дворянская кровь благороднейших кабальеро Старого и Нового Света не позволяла им отступить. Среди атакующих находились лиценциат Бальтазар де ла Вилла Фане, аудитор Королевского совета, фискальный лиценциат Альего и лиценциат Ареро из Колониального совета. Начал атаку сам генерал-губернатор, но, к несчастью, лошадь его завязла в трясине и, чтобы вызволить его оттуда, потребовался целый отряд. Из англичан пока никто не пострадал, а вот у испанцев по меньшей мере пятнадцать — двадцатькабальеро лежали убитыми или корчились от боли рядом с позициями противника. Когда в самый последний момент испанские кони благоразумно заартачились при виде зловеще сверкающих наконечников копий, всадники веером повернули назад и ускакали, чтоб перестроиться за спинами арбалетчиков и аркебузиров, идущих теперь в атаку на отряды Карлейля, измотанные долгим маршем под палящим солнцем. Когда значительное число испанцев покинуло берег, чтобы биться с Карлейлем, Дрейк приказал малым судам возвращаться на корабли. Моряки подчинились, но с большой неохотой, клянясь всем святым, что их подло надули, лишив возможности показать этим чертовым донам, кто блядь, а кто нет. — Кроме того, эти ублюдки солдаты разграбят весь проклятый город до того, как мы высадимся на берег! — прорычал одноглазый боцман. Со своей позиции на борту адмиральской галеры Уайэтт смог получить ясное представление о том, что творилось на берегу. В настоящий момент аркебузиры с обеих сторон двинулись друг на друга, прилаживая свои ружья, и стреляя практически на равных условиях. А исход этой схватки, и, вероятно, в последний раз в истории Англии, решили мощные длинные луки. Лучники Дрейка могли выпустить дюжину стрел, пока вражеские арбалетчики тяжеловесными лебедками натягивали тетивы своего стального оружия. Все чаще и чаще падали пораженные этими смертоносными ярдовыми стрелами орущие во всю глотку испанцы. Как только генерал Карлейль заметил колебания противника, он выпустил вперед отряды пикинеров. Перед их молчаливым, неумолимо надвигающимся строем испанцы пустились в паническое бегство, пытаясь укрыться за городскими стенами. Многие из них, однако, нашли убежище в зарослях у дороги и тем самым устроили ряд засад, уничтожить которые удалось лишь ценой значительных потерь. Далее защитники города прибегли к излюбленной тактике испанцев. Их всадники окружили большое стадо полудиких быков и прочего рогатого скота и хлыстами погнали их на воинов Карлейля в надежде расстроить их боевой порядок. Но оказалось, как ни кололи их пиками и шпагами, для ревущих животных слепящий огонь английских аркебузиров был пострашней. Оставшаяся в живых скотина повернула и тяжело затопала прочь, пытаясь найти спасение в джунглях, при этом ревя от страха и затаптывая насмерть тех немногих испанцев, которым хотелось их удержать. Увидев повальное бегство противника, оставившего на поле сражения своих тяжело дышащих и стонущих раненых, генерал-лейтенант Карлейль дал отбой, снял с головы свой шлем и с помощью пропитанной водой губки, находящейся в верхней части шлема для охлаждения, отер разгоряченное лицо. Пока дела идут довольно хорошо, заключил он, и, несмотря на то обстоятельство, что его люди утомлены долгим маршем на Санто-Доминго, вид у них боевой. А самое приятное — это то, что потери его пока составляют менее двадцати человек. Будучи слишком опытным военачальником, чтобы допустить падение темпа своего наступления или позволить противнику снова сплотить свои силы, он повернулся своим ястребиным лицом к старшему сержанту Пауэллу. — Возьми половину наших солдат и атакуй ворота со стороны леса, а я поведу людей на главные ворота со стороны моря. Бог даст, скоро встретимся на главной площади Санто-Доминго. — Слушаюсь, сэр. — Чернобровый валлиец повернулся, отдавая распоряжение, которому охотно подчинились, потому что все видели, что на стенах появляются испанские солдаты. На этой обращенной к суше стороне стены было много пустых амбразур, но к ним поспешно подтаскивали такие небольшие, но опасные орудия, как миньоны, бомбарделлы и фальконеты. Налетчики собрали богато украшенное оружие и прочее снаряжение, брошенное на берегу бежавшими испанцами, а затем, бряцая оружием, в ритме ускоренного марша английское войско пустилось в преследование; под тяжестью амуниции солдаты шли, чертыхаясь и истекая потом. Со шпагой в руке и вопя, как черти в преисподней, Карлейль повел свою братию на штурм восточных ворот Санто-Доминго. Как обычно, испанцы строили обращенные к суше стены несколько ниже и вооружали их легче, чем стены, обращенные к морю. Умело развернув свое войско, генерал Дрейка, дав солдатам лишь немного времени для передышки, выехал вперед, в серебристом пластинчатом доспехе сверкая как метеор. На его шишаке, словно пальмовая ветвь на ветру, покачивался пучок из алых и зеленых перьев. В одной руке Карлейль держал «собачку» — тяжелый пистолет с колесцовым замком, в другой — шпагу. — Вперед! — прокричал он. — Вперед! И завоюем славу нашей королеве! — Стоило ему сделать только два шага, как с валов прозвучал беспорядочный залп. Адъютант Карлейля споткнулся и повалился лицом вперед, впиваясь подрагивающими пальцами в горячую бурую землю. Под убийственным градом свинца пало несколько англичан, пока они не успели убраться под прикрытие стены, чтобы затем, помогая друг другу, карабкаться на парапет: они вовсе не собирались позволять обороняющимся спокойно перезаряжаться и лучше организовать свою оборону. Жахнуло несколько пистолетов и ручниц, затем сражение происходило в сравнительной тишине: в дело вступили шпаги и пики. Дородный светловолосый капитан с «Надежды» Эдвард Кэрлес спрыгнул вниз в кучу орущих смуглолицых испанцев, собравшихся непосредственно за воротами, и успел свалить двух, прежде чем остальные пустились наутек, предоставив ему возможность открыть ворота. Через них на опустевшую улицу, вымощенную булыжником, хлынули, стуча сапогами, краснорожие, ревущие низкими, полными ярости голосами английские пикинеры, сверкая своим оружием под лучами послеполуденного солнца. Справа от себя они расслышали звуки яростной схватки, говорившие о том, что сержант Пауэлл штурмует другие ворота. Вот так и вышло, что генерал-лейтенант Карлейль со своими людьми, пыхтящими, как задыхающиеся от бега спринтеры, первыми захватили рыночную площадь. Там он приступил к быстрому переформированию своего войска чтобы оно не распалось на ряд не способных к военным действиям небольших грабительских шаек. Действительно, этот город казался таким обширным, что мог бы очень легко растворить в себе, поглотив, несколько сотен его солдат. Наконец звуки схватки на северной стороне зазвучали все громче и громче, и вскоре на рыночную площадь прибежали беспорядочные толпы охваченных паникой испанских солдат с выпученными от страха глазами, оказавшись тем самым между двумя огнями. Большинство из них сразу же побросали оружие и на коленях просили о милости, другие же рассыпались по переулкам и там попрятались по домам. И только небольшая горстка попыталась прорваться в форт, охранявший внутреннюю гавань. В четыре часа пополудни Карлейль приказал водрузить на башне собора их флаг с крестом Святого Георгия и тем сообщить эскадре, что победа досталась им. Победа, но все же еще не город.Глава 15 РАЗГРАБЛЕНИЕ САНТО-ДОМИНГО
Несмотря на то что его солдатам за последние тридцать шесть часов удалось поспать не более полного часа, генерал-лейтенант Кристофер Карлейль, ни минуты не колеблясь, повел свое войско на штурм обоих охраняющих гавань укреплений; и сэр Френсис Дрейк с не меньшим проворством вновь приступил к бомбардировке тех же самых фортов. Оставив горстку изможденных и раненых солдат для удержания большой центральной площади Санто-Доминго, Кит Карлейль повел остальных — осунувшихся, еле волочащих ноги — вперед. Тем временем матросы с кораблей снова погрузились в шлюпки и прочие малые суденышки, сгорая желанием участвовать в разгроме противника и тем заработать себе какую-то долю славы, чтобы суметь заткнуть глотки солдатам, когда дело дойдет до хвастовства. Прямо перед наступлением вечерних сумерек моряки высадились на том самом отрезке берега, к которому плавали раньше тайком. Дрейк, возбужденно и страшно сквернословя, повел их сам. Теперь Уайэтт мог оценить по достоинству, какого большого терпения стоило этой горячей натуре оставаться, как хорошему командиру, в личном отчуждении от сражения. Совместный штурм главного форта был назначен на десять часов вечера или около того, как утверждал Хьюберт Коффин, когда они с Уайэттом выбирались на берег, бредя по воде. Коффин в качестве посоха пользовался коротким копьем. Кроме того, он был вооружен кремневым пистолетом и испанским кинжалом, но не надел ни кирасы, ни шлема: общая слабость еще давала о себе знать, чтобы выдержать такой груз. В половине десятого флот под временным командованием контр-адмирала Ноллиса вновь приступил к бомбардировке, и тьма запульсировала от ярких вспышек бьющих с обеих сторон пушек. В этот безветренный вечер под оглушительный гром канонады, вступая вместе с другими в бой, Генри Уайэтт сознавал, что перед ним — прекрасно вооруженный противник, готовый сражаться насмерть. Во время того происшествия на борту «Первоцвета» он тоже, конечно, подвергался смертельному риску, отбиваясь от вражеских шпаг, и даже двух человек заколол насмерть, но теперь он шел, увязая в рыхлом песке, к тем грохочущим пушкам, и это было нечто другое. Его била легкая дрожь, и он испытывал настоятельное желание опорожнить мочевой пузырь. Позади него корабельный юнга заверещал что-то несвязное, как безумный, явно пытаясь скрыть от себя и других свой страх. Притворившись, что ему показалось, будто этот юнец споткнулся, Уайэтт протянул ему руку. — Возьми-ка меня за руку, парень, этот проклятый берег весь в ямах. Несвязная болтовня мальчишки сразу же прекратилась, когда Уайэтт почувствовал дрожь протянутой ему в темноте холодной руки. Ближе и все выше и выше маячили стены форта с навесными бойницами; в этой полутьме казалось, что они вырастают до самых звезд. Приближение моряков не вызывало никакой ответной тревоги на укреплениях. Возможно, это объяснялось тем фактом, что в этот момент солдаты Карлейля пошли на яростный штурм барбикана, навесной башенки дальнего укрепления. Готовясь к бою, успокоившийся адмирал с минуту помедлил, поглядел вверх на стены, а потом почти небрежно сказал: — Давайте-ка, ребята, заберемся туда, наверх. А ну-ка, подкиньте меня на плечах. — Невысокий и легкий, от толчка он мигом взлетел на парапет, где замер силуэтом, очерченным отблесками городского пожара. До последнего своего часа Уайэтт никогда не забудет силуэт адмирала на фоне небес, его мужественный профиль, выведенный красной и золотой линиями. Сначала десятки, а там и сотни матросов, выкрикивая непристойные угрозы, роем кинулись через стену. Сопротивление оказалось столь же кратковременным, сколь и бесполезным. Бок о бок с Недом Джексоном, молодым помощником боцмана из Гринвича, Уайэтт промчался рысцой мимо ряда орудий и, взобравшись по лестничному пролету, наткнулся на группу призрачных мрачных фигур. Он услыхал, как клинок его шпаги со скрежетом проскользил по чьей-то выпуклой кирасе, затем к нему наверх прибежали еще англичане, вопя, словно черти, опущенные в святую воду. Хотя испанцы взывали к пощаде, очень немногим дарована была такая милость, большинство же из них закололи на месте или сбросили вниз со стен. Когда незадолго до полуночи взяли штурмом оба опорных форта, Дрейк приказал развести на парапетах костры, чтобы сообщить обеспокоенному контр-адмиралу Ноллису, что наконец-то город Санто-Доминго полностью покорен. Только потому, что у Френсиса Дрейка с дисциплиной было очень сурово, разграбление процветающей колониальной столицы его солдаты отложили до следующего утра. После сдачи батареи и фортов солдаты Кита Карлейля стали бивуаком на площади и объедались тем, что достали в ближайших домах. Увы, их было так мало, что они не могли помешать исходу из города тех оставшихся жителей, что еще не сбежали во время ложной атаки, продемонстрированной эскадрой перед городом предшествующим днем. Но эти последние не стыдились своего бегства: разве перед их глазами не существовало примера генерал-губернатора? Этот испуганный трус, как только его вытащили из болота, умчался галопом подальше от моря, оставив оборону столицы лиценциатам и некоему дону Диего Орсинио, капитану флагманского корабля эскадры Санто-Доминго. Когда наступил рассвет, ограничение перестало быть действительным, и потому со шпагой и копьем в руке люди Дрейка пошли утверждать себя почетными гражданами города в согласии с жестоким обычаем того века. Грабителей, решивших поживиться в квартале, ближе всех лежащем к морю, привлек к себе ряд импозантных жилых домов с каменными фронтонами. Уайэтт, ликуя в предвкушении поживы, был увлечен толпой полуголых матросов. Он бежал вместе с другими, пользуясь частью сломанной реи в качестве тарана, чтобы взломать обитую железом дверь большого дома с впечатляющим гербом над главным входом. Эта сцена дублировалась повсюду: и ниже, и выше по улице. Когда наконец снесли тяжелую дверь, изнутри до них донеслись пронзительные женские крики. Юный Джексон из Гринвича, оскалившись в свирепом предвкушении, ринулся в дом во главе целой стаи матросов. Первым из домашних, кого увидел Уайэтт, был здоровенный негр в желтой ливрее, размахивающий дубинкой. При виде волосатых, опаленных солнцем парней раб-негр выронил свое оружие и в молитвенной позе простерся на полу, беспрестанно моля о пощаде. Помимо презрительного пинка он не удостоился иного внимания. Уайэтт на минуту задержался: с открытым от удивления ртом смотрел он на великолепные гобелены, роскошную мебель и сияющие панели огромной гостиной. В дальнем ее конце в розовом свете восходящего солнца поблескивали позолоченные корешки множества — ряд за рядом — стоящих книг в великолепных переплетах. По полу, выложенному черными и белыми мозаичными узорами, Уайэтт направился прямиком к тяжелому, окованному железом сундуку, охраняемому большим тяжелым висячим замком. Беглый осмотр подсказал ему, что без тяжелого молотка тут никак не обойтись. Он подсунул голову под одно плечо большого серебряного подсвечника на две свечи и услышал звук разрываемой ткани: это один из его сотоварищей срывал яркую бархатную занавеску рубинового цвета. — Ух ты! Разве из этого не получится шикарной юбочки для моей Полли на зависть всем в Холодной Гавани? — осклабился матрос, свертывая материал и засовывая его себе под мышку. Другие проникли в комнату, которая оказалась столовой, и стали набивать в импровизированные узлы, сделанные из гобеленов, порезанных на удобные квадраты, серебряные тарелки, чашки и прочую столовую утварь. Уайэтт, помня об отчаянной нужде, в какой пребывала Кэт, поискал какой-нибудь рычаг, чтобы открыть железный сундук. Рыжий, почти беззубый пушкарь помахал ему перевязанной рукой. — Пойдем со мной. Кажется, я слышу там, наверху, пищат хорошенькие белые мышки. Через запертые, но лишенные стекол окна звучали выстрелы, треск разносимого в щепы дерева и пронзительные крики, смешанные со взрывами буйного хохота. Не найдя никакого подходящего орудия, Уайэтт присоединился к потным зловонным парням, ринувшимся вверх по лестнице. Напротив лестничной площадки располагалась дверь из хорошо отполированного кедра. Как только Уайэтт и его подельник достигли второго этажа, она распахнулась, и они увидели хрупкого светловолосого джентльмена в темно-красном камзоле с обнаженной шпагой в руке. Привидение и не думало защищаться — просто протянуло Уайэтту свою шпагу эфесом вперед. Почти на безукоризненном английском он сказал следующее: — Поскольку мне невозможно защищать свой дом, сеньоры, я сдаюсь на милость победителя и умоляю вас не причинять обиды моей жене и внучке. — Вы заплатите за них выкуп? — спросил его Уайэтт, принимая шпагу. Попутно он с удовольствием отметил, что ее гарда и рукоятка — прекрасной золотой чеканки с множеством мелких драгоценных камней. — Да, джентльмены, если вы не будете их мучить. — Мы не обидим такого старого деда, как вы. Вы должны знать, что сэр Френсис Дрейк… У старика от удивления отвалилась серебристая челюсть. — Вами командует «эль Драго»? — Он, и никто иной. Старик повернулся и крикнул скрипучим и пронзительным старческим голосом: — Gracias a Dios! Слава Богу! Вы спасены, мои милые. Что бы там ни говорили, «эль Драго» милосердный человек и с женщинами не воюет. Это я узнал несколько лет назад в Тихом океане. — Он поклонился кучке полунагих мужчин. — Сеньоры, я дон Хуан де Антон, генерал Западного моря моего короля, а ныне — ваш пленник. — Клянусь Богом, — хохотнув, воскликнул Джексон, — значит, нам везет! Этот старый усач заплатит нам приличный выкуп! Разгоряченное лицо Уайэтта расплылось в широкой улыбке. — Вы хорошо осведомлены, сэр. Наш адмирал распорядился, чтобы всем знатным и почтенным людям не чинилось никакого зла, если они предлагают выкуп и не артачатся. Вы говорите, что однажды уже встречались с сэром Френсисом? — Si, si. Я был на борту галиона Neustra Senora de la Concepcion, который вы называете «Касафуэго», когда ваш адмирал захватил его у побережья Перу. — Прекрасно. Пусть ваши дамы остаются наверху, им не причинят никакого вреда. А тем временем мы с ребятами пошуруем вокруг. Дон Хуан де Антон начал было возражать, но по широким каменным ступеням все прибывали матросы с кусками от гобеленов и такими же разделанными на части плащами на плечах, хлеща вино из покрытых орнаментами серебряных кубков. Уайэтт и Джексон прошли коридором, пока не наткнулись на большую спальню. Там они увидели двух женщин — степенную даму, чьи волосы были почти столь же седы, как и у дона Хуана де Антона, и стройную девушку лет семнадцати с косами цвета воронова крыла. Обе стояли на коленях перед домашним алтарем, на котором горели свечи. Даже когда захлопнулась дверь, обе облаченные в черное одеяние фигуры не шелохнулись, лишь только пальцами перебирали бусы на четках. В сопровождении худосочного хозяина Уайэтт прошел к туалетному столику, на котором стояло несколько шкатулок из черного дерева. — Поверьте моему святому слову, сеньор, — залепетал дон Хуан, — здесь лежат все наши драгоценности. Не пытайте нас. Пока другие мотались по коридору, хватая все, что могло им приглянуться, Уайэтт отвел дона Хуана в сторону. — Мне нужен ключ от кованого сундука внизу. Дон Хуан де Антон вздохнул и из кошелька, прикрепленного к его поясу, извлек здоровенный тяжелый ключ. Джексон подошел к коленопреклоненным фигурам в черном и, расстегнув, снял с шеи дамы тяжелую золотую цепочку. Она и мускулом не пошевелила, лишь продолжала шептать, горячо обращаясь с молитвами к Пресвятой Деве. Затем матрос Джексон вытащил из волос старушки высокий черепаховый гребень, усеянный жемчугами, и волосы дамы, лишенные скрепки, упали ей на плечи. — Puercos Ingleses!*["336] Дон Хуан со свистом втянул в себя воздух и, выхватив из камзола испанский кинжал, бросился вперед. Уайэтт вовремя перехватил его кисть и без труда отнял у него оружие. — Не вмешивайтесь, — посоветовал он. — Джексон не причиняет вреда вашей даме. В задней части дома послышались крики ужаса. Это служанки поняли, что двери их спальни скоро не выдержат натиска и откроются. Зазвучали восторженные скабрезности: «Клянусь Богом, эта светло-коричневая кошечка как раз моего размера», «Поцелуй нас как следует, куколка, мы четыре месяца плавали в море», «Спокойно, маленькая чертовка, подожди, пока я разрежу завязки на твоей юбчонке, не то сама порежешься», «Ой! Вы только посмотрите, ребята, у этой сиськи больше, чем у пятнистой телки франклина Поттера». Поскольку он уже тщательно обыскал спальню дона Хуана де Антона, Уайэтт в глубоком удовлетворении взвесил в руке наволочку, раздувшуюся от самой отборной добычи. После этого он бросил со звоном шпагу дона Хуана на полированный деревянный пол и приложился каблуком к ее клинку с намерением переломить его. Старик хрипло рассмеялся. — Эта сталь лучшего толедского закала. Вам ее ни за что не сломать. — Ну что же, старик, тогда я оставлю ее себе, — засмеялся Уайэтт. — А где ножны? Поданные ему ножны оказались красивой вещью из красного сафьяна, на котором было оттиснуто множество арабесок, с железным наконечником и верхним краем, литым из золота. — Здесь, наверху, у вас имеется пища и вода? — приходя в себя от изумления, спросил Уайэтт. — Si, senor. — Тогда забаррикадируйте эту дверь до моего возвращения. Снаружи я выставлю нескольких надежных парней. — Он согнулся под тяжестью мешка с награбленным добром. — Вам и вашим дамам больше не будут докучать. — Да благословит вас Пресвятая Дева, хоть вы и еретик! Розовато-серое, покрытое глубокими морщинами лицо старого кабальеро мелко задрожало. Уайэтту показалось странно трогательным увидеть пару слезинок, сползающих вниз по этим увядшим щекам. Видимо, дон Хуан ожидал, что его женщинам достанется та же доля, что и служанкам. — Теперь, черт возьми, — крикнул Джексон, — посмотрим-ка, что там у старика в сундуке. Как только Уайэтт стал на колени, чтобы отпереть кованый сундук, вокруг него собралось с полдюжины матросов. Их разогретые вином лица, нахапанные ими изящные вещи подчеркивали тот беспорядок, который пришел в этот величественный дом. Те, кто был похмельней, напялили на себя предметы женского одеяния, изящество которых нелепо контрастировало с волосатыми ногами, широкими босыми ступнями и мускулистыми руками. Совсем как малые мальчишки, грабители издали торжествующий вопль, когда висячий замок грохнулся на пол и Генри Уайэтт поднял тяжеловесную крышку сокровищницы. Всем было видно, что внутри содержатся золотые украшения, блюда, кубки и всевозможные ювелирные изделия с большими морскими жемчужинами и алмазами, из которых солнце, пробивающееся сквозь зарешеченные окна, извлекало умопомрачительные вспышки. Джексон схватил один из нескольких кожаных мешочков, нетерпеливо дернул за его завязку — и две горсти золотых дукатов звонко раскатились по красному кафельному полу, вызвав всеобщую возню. — Теперь, ребята, пора взять себе по одной или две вещицы кому что приглянется, — предложил Уайэтт. Возбуждение спало. — Одну или две? Это все? — прорычал один. — Будь я проклят, если уступлю завоеванное мною каким-то там королевским аудиторам! — Так не пойдет! — резко возразил Уайэтт. — Вы знаете, что виселица грозит первому же, кто присвоит себе больше, чем положено безделушек из общественного фонда конфискованного имущества. Появилась группа матросов, в разной степени озверения утолявших свою похоть на жилой половине слуг; косматые, с несколько сонливым видом, почесывающиеся, они недоверчиво уставились на это первое сказочное богатство, увиденное ими в Новом Свете. Один за другим они, шаркая ногами, выходили вперед, загорелые и небритые, чтобы зачерпнуть горсть золотых монет и пощупать их пальцами; каждый выбрал по одной вещице из драгоценных украшений. Уайэтт, видя заранее, как заиграет сапфировая брошь на белой груди его Кэт, выбрал превосходное ювелирное изделие в оправе из мелкого жемчуга, перемежающегося с декоративными алмазами. Себе же он предпочел взять, пользуясь своим преимущественным правом, тяжелый золотой медальон с цепочкой. В крайнем случае всегда можно избавиться от такого сокровища по частям — как подскажут обстоятельства. Даже когда последний из налетчиков взял свою долю, сундук дона Хуана де Антона казался мало истощенным, а потому люди заворчали, когда Уайэтт вновь навесил замок и засунул ключ в свою поясную кошелку. Утром он решил, что обыщет гавань и узнает, что сталось с вызвавшей его интерес мексиканской каравеллой.Глава 16 РОЗМАРИ
Во время победной суматохи, жестокой и похотливой, которая сопутствовала захвату Дрейком Санто-Доминго, сквайра Хьюберта Коффина волей-неволей повлекла с собой компания пикинеров, намеренных собрать плоды своих усилий. Хьюберт пошел с ними, но неохотно, чувствуя, как быстро исчерпывается слабый запас его сил. Эта проклятая лихорадка, похоже, так ослабила его ноги, что ему пришлось тяжело плюхнуться на край фонтана и сидеть, болезненно ощущая, как вздымаются его ребра и кружится голова. Когда наконец, после краткого отдыха, какие-то силы вернулись к нему, он обнаружил, что способен различить на фоне утреннего неба очертания башен собора и длинных низких крыш великолепных зданий. «Этот рассвет запомнить навечно», — посоветовал он себе, видя горящие факелы и вороватые движения фигур, перепархивающих наподобие воплотившихся духов из одной аллеи или сада в другую. — Бедняги домовладельцы, — пробормотал Коффин. Почти все эти привидения несли сундучок или тащили тяжелый узел. Мало кто разжился каким-либо оружием. На дальнем конце небольшой площади, перед фонтаном которой он сидел, Коффин увидел, как широкоплечие матросы с корабля ее величества «Подспорье» догнали тройку горожан, которые сдуру попытались оказать сопротивление и тут же были заколоты насмерть. Крича как школьники, матросы открыли крышки некоторых оказавшихся у этих испанцев шкатулок. Он отчаянно жаждал встать и как-нибудь позаботиться о своей собственной доле трофеев. В конце концов, тот старинный норманнский замок, который на протяжении десяти поколений давал кров и приют его роду близ Байдфорда в Девоне, срочно нуждался в ремонте. Кроме того, Хьюберт был полон решимости выкупить и снова вернуть себе принадлежавшие им когда-то поля и леса в Портледже, проданные его дедом, с тем чтобы поддержать доброго короля Гарри в его распре с Франциском I*["337], достаточно хорошо снаряженным в военном отношении. Войны, грустно размышлял усталый молодой сквайр, в конце концов погубят семейство Коффинов. Теперь в их роду последними оставшимися мужчинами были он и двое его младших братьев, и это когда-то богатое баронское поместье, перешедшее к ним через столетия от сэра Хьюго Коффифорта, одного из самых доверенных советников Вильгельма II Рыжего, находилось в затруднительном состоянии. Хотя теперь в ногах его чувствовалось больше уверенности, ему все еще приходилось так тяжело опираться на копье, что пока он, Коффин, не осмеливался им доверять. То и дело на площади появлялись орущие банды мародеров, волочащих за собой пики и бросающих жадные взгляды на те склады и жилые дома, которые пока стояли с нетронутыми дверями. Ближе к центральной части Санто-Доминго можно было услышать ружейную пальбу — это уставшие как собаки солдаты Карлейля наталкивались на случайные точки сопротивления. Вот позади фонтана, где сидел Коффин, вспыхнул пожар, и вскоре всю площадь заволокло дымом и воздух над ней раскалился от ярких беснующихся языков пламени. Трое убитых испанцев лежали там, где их настигла смерть; из-под их тел извилистыми ручейками медленно вытекала кровь, образовывая среди булыжников мостовой крошечные лужицы рубинового цвета. Казалось, сама обширность столицы вобрала в себя захватчиков, как губка воду, и долго на площади не было видно ни одного англичанина, появлялись лишь насмерть перепуганные горожане, их рабы и несколько священников, шаркающих сандалиями в тщетной попытке унести с собой некоторые ценные предметы церковной утвари. Плеск воды за его спиной напомнил Хьюберту о том, что ему страшно хочется пить, и он приник ртом к прохладной напористо бьющей струе. Почувствовав себя удивительно посвежевшим, он поднялся на ноги и неуверенно посмотрел по сторонам. Куда бы ему пойти поискать добычу? Он вспомнил: Уайэтт ему говорил, что самые впечатляющие дома, как ему показалось, находятся в портовой части города. Тяжело опираясь на короткое копье, Хьюберт вступил на широкую, затененную пальмами улицу, где, как правило, фасады украшались красивой резьбой, когда вдруг справа от себя он услышал истошный женский вопль: — Пощадите меня, добрые люди. О, ради Бога, пощадите меня! Я, как и вы, из Англии. — Эта мольба заканчивалась еще одним разрывающим душу криком, когда Хьюберт зашаркал вперед со всей быстротой, на которую был способен. Как ему показалось, крик исходил из красивого дома, обращенного окнами к морю и спланированного в мавританском стиле. Крепкие чугунные решетки защищали окна первого этажа, но дверь болталась на петлях. Извлекая из ножен шпагу, Хьюберт переступил через остатки роскошной, обитой латунью двери из кедра. Его зазывал внутрь солдат с воспаленными глазами, дружески махая рукой. — Входите, сэр, входите! Тут поживы навалом, на всех хватит, а наверху прекрасный ассортимент бабенок. Говорящий перекинул через плечо накидку из зеленого бархата, искусно вышитую мелким жемчугом и золотой нитью; сдвинутый на затылок, на его голове красовался роскошный испанский шлем с пером белой цапли. Видимо, он был пьян. В свете все сильнее припекающего солнца на обеденном столе виднелась большая бочка бренди, из которой на вощеный, расписанный в желтую и черную клетку пол капала янтарная жидкость. На верхнем этаже снова раздались крики, затем звук удара и звон разбитого стекла, сопровождающийся хохотом многочисленных пьяных глоток. Отблески парчи, брошенной на нижние ступеньки лестницы, ярко и живо переливались, приглашая наверх, на второй этаж. Новые пронзительные крики отвлекли Хьюберта от беглого осмотра буфета с массивной серебряной посудой. Снова тот же голос то умолял о пощаде, то начинал истошно вопить. Ценой большого напряжения своих хилых силенок Хьюберт взобрался по лестнице и оказался перед длинным, тускло освещенным коридором. Этот дом, видно, принадлежал какому-то могущественному чиновнику или богатому негоцианту. Сквайр переступал через неподвижное тело слуги, лежащего на верхних ступеньках, когда раздалось стремительное шлепанье ног и в коридор выбежала совершенно голая молодая женщина с коричневатым цветом кожи. Большие глаза ее застыли от ужаса, каштановые волосы развевались за спиной — она убегала от полуодетого матроса, обе щеки которого были расцарапаны в кровь. Ругаясь как сумасшедший, грабитель перекинул свою жертву через плечо и потащил ее, орущую и брыкающуюся, назад в ту комнату, откуда она сбежала. Рыдания, крики и пустые мольбы звучали в различных комнатах, расположенных по коридору. Сквайр Коффин поднял свой голос, ругая поганящих дом распутных собак и напоминая им о страшном гневе адмирала и неизбежности наказания. Грохот опрокинутой мебели за дверью, перед которой как раз в тот момент находился Хьюберт, заставил его проверить, в чем дело. Открыв ее, он увидел стройную черноволосую девушку, неистово бьющуюся в объятиях седоволосого аркебузира. Одетая только в остатки запятнанной кровью ночной рубашки и с выражением неописуемого ужаса на лице, она, не прекращая попыток высвободиться, крикнула, задыхаясь: — О Боже, спаси меня! Неужели поблизости нет ни одного порядочного человека? — Отставить! — рявкнул Хьюберт, взяв свое полукопье за обратный конец, готовый использовать его как дубинку. Солдат и девушка оступились и свалились к ногам Хьюберта. Мужчина одним прыжком встал на ноги, изрыгая из себя грязные непристойности. Упавшая протянула руки и в отчаянии схватила Хьюберта за одну из лодыжек. — На помощь! Помогите! — пробулькало у нее в горле. — Назад, собака! Назад, я говорю! — Хьюберт снова перевернул древко и взял его как копье. — Чтоб тебе сдохнуть от черной оспы! Мой леденец тебе у меня не отнять! — взревел седовласый насильник и кинулся на Хьюберта. Хьюберт точно вогнал острие своей пики туда, куда целился — в левое плечо негодяя. Взвыв от боли, тот отшатнулся, качаясь, назад; из-под пальцев, зажавших рану, хлестала кровь. Если бы только аркебузир знал, он мог бы живо ему отомстить, ведь Коффину в тот миг показалось, что весь дом закружился вокруг его головы, и ему понадобилось собрать в кулак всю свою волю, чтобы приказать этому парню выйти в коридор. Тот вышел, вопя: «Где мое копье?! Вот найду его и насажу на него это дворянское отродье, как каплуна!» — Заприте дверь! — еле дыша, крикнул он почти обнаженной девушке, лежавшей на пороге. — Слишком поздно, — простонала она, не глядя на него. — Ради Бога, сэр, убейте меня. Раненый, видимо, нашел копье и снова появился в коридоре, ревя как пронзенный бык. Нечеловеческим усилием Коффин запустил свои пальцы в черные лоснящиеся волосы девушки, втащил ее в комнату и едва успел вовремя захлопнуть и запереть дверь. И тут весь мир завертелся, словно огненная спираль, и Хьюберт рухнул без чувств на дрожащие ноги девушки. Жаркое солнце стояло высоко в небе и било в окно так, что резало глаза, когда Хьюберт очнулся и осознал, что, хотя и лежит еще на полу, под голову ему подсунута мягкая ткань. Лоб ему протирали смоченным в прохладной воде лоскутом, и это здорово помогало ему приходить в себя до тех пор, пока он не ощутил запах горелого дерева, вонь запекшейся крови, гулкий гром стреляющей вдалеке пушки. Первое время он способен был только лежать, вытянувшись на спине. Постепенно глаза его сфокусировались на очень красивой мебели кабинета, а может, библиотеки, затем он заметил движение и взгляд его устремился на изящную девичью фигурку. Лет девятнадцати от роду, она пропорхнула по библиотеке, со страхом поглядывая на него, одетая в церемониальный плащ из огнецветного бархата, очевидно, имеющий отношение к какому-то рыцарскому ордену, так как на его левой стороне был прикреплен искусно сделанный значок. Плащ, очень эффектно выглядевший под беспорядочным водопадом черных волос, был таким длинным, что только после того, как она сделала несколько шагов, он заметил, что девушка боса. Чтобы плащ не распахнулся, она перепоясалась отрезком шнура от звонка-колокольчика. В ту минуту эта большеглазая девушка устало, равнодушно заплетала свои волосы в две косы. Потом он заметил, что его кинжал лежит рядом с глобусом, стоящим около нее на письменном столе и дающим изображение карты звездного неба. Коффин воспользовался случаем сквозь полуоткрытые глаза рассмотреть очаровательные, как ему показалось, черты лица этой девушки. Он видел его в профиль: узкий, слегка вздернутый носик, короткая, но довольно полная верхняя губа, маленький округлый подбородок и довольно длинная изящная шейка; цвет лица необычного золотисто-розового оттенка, а волосы — блестящие, иссиня-черные, цвета воронова крыла. У ее ног лежала сброшенная, разорванная и окровавленная ночная сорочка — та, что прикрывала наготу девушки, когда он увидел ее в первый раз. Он сделал глубокий вдох и попытался заговорить, но издал только приглушенный хриплый звук, похожий на карканье вороны. Девушка так резко повернулась, что ее огненная мантилья распахнулась, давая понять, что надета она на голое тело. Она уставилась на него своими черными глазищами, затем лицо ее дрогнуло, а рука потянулась и сомкнулась на рукоятке кинжала. — Что вы, не бойтесь. Убить меня ничего не стоит. Я слаб как новорожденный ребенок. Девушка несколько раз подряд глубоко вздохнула. — Вы неправильно меня поняли, сэр. Не вас бы я убила, а скорее себя. Будь у меня мужество, я давно бы уж это сделала. Но я безусловно найду в себе это мужество, если вы или кто-то еще тронет меня хоть пальцем. Откуда-то у Хьюберта взялись силы, чтобы кое-как приподняться на локте. — Уверяю вас, мне очень досадно, что я так опоздал и не смог уберечь вас от этого злодеяния. Коль сможете опознать вашего… вашего обидчика, его непременно повесят. — Вот бы я тогда порадовалась! — вскричала она. — Я уверена, что смогу его опознать, ведь я ему так сильно расцарапала обе щеки. Но а вы-то, вы-то почему так ослабли? — Босоногая, она прошлепала к нему по полу и опустилась рядом с ним на колени. — Пока те мерзавцы пытались взломать эту дверь, вы лежали как мертвый. Он описал ей лихорадку островов Зеленого Мыса и как она свирепствовала на их кораблях. — Жаль, что она не скосила всю вашу армаду! — вздохнула девушка и устало закрыла темно-карие, почти черные глаза. — Только подумать, что все эти годы я хвасталась перед друзьями своим английским происхождением. Тьфу! Я даже божилась, что, в отличие от турок, французов и португальцев, которые способны насиловать и грабить, ни один англичанин никогда не позволит себе осквернить добродетельную женщину. Коффин грустно улыбнулся и заметил, что в разбитое окно стаями залетают мухи. — Похоже, вы мало что понимаете в солдатах и их повадках, к какой бы стране или нации они ни принадлежали. Но скажите-ка мне, — поспешил он сменить тему разговора, — как это вам удается говорить на чистейшем английском? — Потому что я, Розмари Кэткарт, чистокровная англичанка, — объявила она с заново обретенной гордостью. — Отец мой купечествует в этом городе, зовут его Ричард Кэткарт, а раньше он был торговцем в Халле. Чуть содрогнувшись от боли, девушка опустилась возле него на подушку и объяснила, как процветали дела отца, занимавшегося торговлей между Испанией и ее колониями в Америке, несмотря на то, что вначале он был протестантом. Мать ее, повествовала девушка, дала обещание, что бы ни случилось, воспитывать дочь Розмари в протестантской вере. Капитан торгового судна старался быть верным клятве, но все же прошло небольшое время и он женился на богатой испанке и перешел в римско-католическую веру. В результате остальные его дети наполовину испанцы и католики. Розмари говорила теперь с большей раскованностью. Она поправила на себе мантилью и продолжала. Став католиком, капитан Кэткарт смог получить разрешение на торговлю всеми видами кожаных товаров между Испанией и Новым Светом. Фактически он стал ведущим лиценциатом столицы. Где он сейчас? Занят делами торговли в Кадисе, поэтому до захвата города Дрейком домом правила мачеха. — Ее наверняка, — она заплакала, — наверняка убили этим ужасным утром. Когда наконец рыдания девушки смолкли, Хьюберт спокойно сообщил свое имя, воинское звание и общественное положение. Немного погодя он попросил воды, и она принесла ему olla — грубый кувшинчик из красной глины, висевший в углу: благодаря постоянному испарению через стенки, вода в нем все время сохранялась прохладной и свежей. Некоторое время они прислушивались к разным шагам на улице, но в самом доме царила могильная тишина. В конце концов он поднялся и объявил о своем намерении поискать еду. В поисках пищи он, к своему ужасу, натолкнулся на тело убитого слуги, все еще лежащего на верхних ступенях лестницы и осаждаемого полчищами мух. У подножия лестницы лежало еще одно мертвое тело, распростертое на спине: этот седоволосый мужчина Хьюберту показался отдаленно знакомым. Узнал он его, лишь заметив колотую рану в плече, а на пепельно-бледном лице — ряд глубоких царапин. Очевидно, острие его пики проникло настолько, что рассекло артерию и тем обрекло на смерть насильника Розмари Кэткарт.Глава 17 ЖЕМЧУЖИНА АНТИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
Рано утром 3 января 1586 года сэр Френсис Дрейк велел переправить на берег несколько тяжелых орудий, захваченных на островах Зеленого Мыса, и установить их на крепостных стенах. Затем он призвал испанцев, упрямо сопротивляющихся ему в ряде пунктов Санто-Доминго, сложить оружие, и когда они отказались, его пушки устроили им такую баню, что они живо согласились на безусловную капитуляцию. Как только весь город признал свое поражение, адмирал королевы распорядился произвести осмотр и в результате узнал, что, как ему многие и предсказывали, сотни самых богатых граждан и правительственных чиновников сбежали в горы. Для многих из них это бегство оказалось бессмысленным, поскольку им пришлось погибнуть в муках от рук своих беглых черных рабов, которые сильными боевыми группами опустошали все побережье и далеко просачивались в глубь материка. Мароны зачастую сжигали именно те поместья, где мучились в рабстве, и этим жестоко мстили своим угнетателям. Пылкие головы других предводителей экспедиции Дрейка стали остывать, когда обнаружилось, что в закромах казны и таможни испанского короля Филиппа пусто, как в дырявом кармане нищего. Для Дрейка это известие оказалось особенно горькой пилюлей, ведь до сей поры экспедиция не накопила денег даже на покрытие собственных расходов. Он понимал, что, если дела не поправятся, кое-кто в Лондоне постарается навредить его репутации в глазах королевы, которая терпеть не могла неудач, особенно если они касались ее кошелька. Оптимистичным в сложившейся ситуации было то, что во внутренней гавани, позади трех умышленно затопленных у входа в нее кораблей, стоял построенный на французской верфи шестисоттонный красавец галион, практически новенькое и во многом прекраснейшее судно в этой части земного шара, хотя и ходило оно под нелепым, но все же забавным названием «Большое пугало». Так его долго еще называли с тех пор, как захватчики иронически переименовали его в «Новогодний подарок». Ужасно расстроило Генри Уайэтта то, что та самая каравелла, которую он прочил на смену потерянной в шторм «Катрины», затонула во время бомбардировки. Следовательно, ничего другого не оставалось, как только вновь поискать что-нибудь подходящее среди содержимого внутренней гавани — что было теперь делом легким, поскольку суда там стояли покинутыми всеми, за исключением крыс, и столь прочно притиснутыми друг к другу, что было совсем не трудно перелезать через поручни с одного на другое. Наконец, обливаясь потом, он оказался на борту примерно стодвадцатитонного крепко сколоченного барка из Венесуэлы. Не быстроходный, но подойдет — заключил он после тщательного осмотра. Палубные балки барка «Дева Компостеллы», так назывался корабль, явно казались достаточно прочными, чтобы нести на себе батарею полукулеврин, стреляющих десятифунтовыми ядрами на расстояние две тысячи пятьсот ярдов. Он, несомненно, найдет все, что нужно для батареи барка, либо в красивом здании королевского арсенала, либо где-нибудь прямо на стенах крепости. С конфискацией и получением разрешения на командование придется обождать, так как сэр Френсис Дрейк был слишком занят подсчетом выкупа, который он должен взять с города за то, что пощадит его. Наконец адмирал и его капитаны направили свои требования в ту деревню, где дрожал в своих сапогах губернатор. Если немедленно не поступит сто тысяч дукатов, то Санто-Доминго, известный как«Жемчужина Антильских островов», будет сровниваться с землей улица за улицей и квартал за кварталом — до тех пор, пока не соберут этой суммы. Как только послание Дрейка с требованием выкупа было написано четким пером Фулька Гревиля, его доверили негру, слуге адмирала, потому что он не только мог говорить на языке маронов Вест-Индии и на нескольких индейских диалектах, но также и на отличном испанском с правильным кастильским произношением. На следующий день, когда Дрейк занимался временным восстановлением городских ворот со стороны гор, появилась еле бредущая, мотающаяся из стороны в сторону фигура его слуги. Едва бедняга дотащился до своего хозяина, как тут же свалился на землю, обливаясь кровью. Он был тяжело ранен в грудь копьем. Выслушав его рассказ о том, что случилось, Дрейк пришел в одно из редких своих состояний холодного гнева. А получилось так, что один офицер с галиона «Большое пугало» раскипятился, обиженный тем, что посланец английского адмирала всего лишь обычный негр. И этот храбрец выхватил у солдата пику и, брызжа яростью, всадил ее в бок бедняге. Дрейк повернулся к капралу Симпсону, его желтая борода тряслась от с трудом сдерживаемого гнева. — Езжайте в город и среди пленников выберите двух монахов. Капрал Боуэн, на том фиговом дереве соорудите пару петель, — отчеканил он, поднимаясь с молитвы по отлетевшей душе своего испустившего дух слуги. Спустя полчаса два духовных лица, которым было позволено отпустить друг другу грехи, повисли на ветках, оставленные качаться и обещать усладу черноголовым сарычам. На поиски тех испанцев, что все еще прятались в пригороде Санто-Доминго, отправился вооруженный отряд. Под трепет белого флага, укрепленного на копье у Симпсона, эти джентльмены с прожаренными на солнце лицами выслушали наказ: пока испанцы не выдадут того, кто нанес смертельный удар телохранителю Дрейка, по двое пленников ежедневно будут предаваться смертной казни. Шестеро невезучих уже успели погибнуть подобным образом, когда наконец с гор, так красиво голубеющих позади плененной столицы, прискакал отряд кабальеро, привезя с собой арестованного офицера с серым как пепел лицом. Со стиснутыми челюстями и ярко горящими синими глазами сэр Френсис подъехал к дереву-виселице. — Вот, вешайте его сами, — коротко бросил он спутникам арестованного. — Но, сеньор генерал, — возразил, заикаясь, корнет, который был у них за главного, — ваш посыльный… он же был только негр… так что конечно… — Бедный Диего имел не меньше души, чем у вас, и был гнусно убит. Делайте свое дело. Только тогда я соглашусь на переговоры о будущем города. — Неудивительно, что эти черные поклоняются сэру Френсису и готовы сделать его царем, — проворчал Ноллис. — Верно, — кивнул Фробишер. — Когда десять лет назад он воевал на Тьерра Фирме*["338], поговаривали, что ему ничего не стоит собрать себе в помощь целую армию черных. Дрейк руководил из дворца вице-короля, и постепенно в «Жемчужине Антильских островов» был восстановлен относительный порядок. Многие утверждали, что адмирал хочет стать постоянным хозяином Санто-Доминго, полагая, что этот богатый город может прибавить чести и славы его королеве. Не только Фробишер, но и Карлейль и Ноллис указывали тогда, что эпидемия сильно сократила численность английской армии и флотского состава и что нельзя разбрасываться людьми, если они хотят, чтобы экспедиция продолжалась. Когда в выкупе Дрейку отказали, он объявил, что начнет сровнивать город с землей, и доказал, что не бросает слов на ветер. Но скоро люди его обнаружили, что в своем большинстве дома Санто-Доминго, прочно выстроенные из камня, плохо горят, что их можно только сносить, но ценой значительных затрат ручного труда. Когда наконец положили на землю целый квартал, Дрейк с очень кислым лицом снизил первоначальную цифру выкупа, заявив, что выплата всего лишь 75 000 дукатов положит конец разрушению города. Он стал еще более расположенным к щедрости, потому что поиски в различных колодцах, на садовых участках и зондирование ложных стен принесли удивительно крупный золотой улов. Далее, церкви и монастыри сдавали подносы, канделябры, кувшины, рукомойники и чаши, которыми будущие поколения украсят свои буфеты в Лондоне и Южной Англии. Много времени поглощало еще одно важное дело, бывшее неизбежным долгом: разрушение религиозных изображений. Под ударами больших кузнечных молотов множество изваянных из камня святых лишились рук, ног и голов, а большинству англичан радостно было видеть, как тщательно ведется эта работа по религиозному очищению. Вскоре завоевателям стало также очевидно, как это часто бывало и в отношении других испанских владений, что эти великолепные здания в Санто-Доминго служили фальшивым фасадом, маскирующим слабеющую экономику Испании и ее колоний. Во многих провинциях, округах и колониях больше не велась разработка рудников, вследствие бездумного истребления местной рабочей силы. Ежедневно еще один городской участок отдавался на разрушение, хотя сбежавший губернатор, архиепископ и группа главных негоциантов клялись всеми святыми, что никак не возможно собрать такую непомерно огромную сумму выкупа. — Мы можем подождать, — оповестил их эмиссаров Дрейк. — Город у вас приятный и пищи хоть отбавляй. Во время этой вынужденной задержки адмирал уделял большое внимание переоснащению и пополнению продовольствием крепких судов и замене изношенных. По той заботе, с которой он вооружал их, его подчиненные сделали вывод, что в ближайшем будущем ни один выработанный план действий не приведет их на родину. Они не то чтобы чувствовали себя недовольными, нет. Их угнетало то обстоятельство, что экспедиции до сих пор не удалось реализовать даже треть своих «золотых» амбиций, даже если при этом ей здорово удалось преуспеть в другой своей цели — досадить королю Испании и воспрепятствовать движению его торгового флота. Если налетом на бухту Виго Дрейк нанес чувствительный удар по высокомерию Филиппа II, то, несомненно, захват и оккупация «Жемчужины Антильских островов», его столицы Западного Мира, должны были оказаться для него поистине сокрушительным ударом, оставив его униженным и побежденным в глазах врагов, особенно турок, все еще никак не оправившихся от горьких воспоминаний о Лепанто. Однажды вечером Генри Уайэтт, честно выполнив свои обязанности на борту «Бонавентура», решил, что наступил благоприятный момент поговорить с сэром Френсисом о широконосом барке «Дева Компостеллы». Дрейка он застал уютно устроившимся во дворце вице-короля, под охраной многочисленных разряженных часовых, таким же бодрым и вездесущим, как и всегда. Небольшая коренастая фигура адмирала оттого, что он восседал на позолоченном троне вице-короля, казалась еще более уменьшенной в размере. Он слушал музыку струнного оркестра примерно из тридцати инструментов и, покуривая трубку с длинным мундштуком, казался посвежевшим и пребывающим в добром настроении. Видимо, сэру Френсису доставил удовольствие доклад, представленный старым вице-адмиралом Фробишером, и он, улыбаясь, поигрывал рубином, свисающим с левого уха. — Так-так, мастер Уайэтт, — заговорил он. — Давненько вы не приходили ко мне со своими просьбами. Прошу присаживаться, но сперва выберите себе какой-нибудь из этих кубков. — Он указал на стол, где стояли целые ряды питейных сосудов всех видов. Широкое, загорелое до черноты лицо Уайэтта стало еще темнее, как это всегда бывало, когда он оказывался в компании Дрейка. — Бла… благодарю, ваше превосходительство, но… но… — Тьфу! Ну идите же, идите. — Дрейк взмахнул унизанной перстнями с драгоценными камнями рукой. — Выбирайте самое лучшее и поверьте в искренность моего извинения. Действительно, тяжелых орудий здесь не было, и послушай я вас тогда в Байоне, то не тратил бы день впустую, испытывая их батареи. — Он чуть нахмурился и дернул себя за остроконечную бороду. — Дорого нам стоил тот день, а, Фробишер? — Что верно, то верно, — прохрипел вице-адмирал, переведя слезящиеся глаза на этого широкоплечего молодого парня с темно-рыжими волосами. — Мы дали время этим испанским выродкам упаковать вещички и удрать стремглав, как перепуганным насмерть зайцам. Да, это шесть очень дорогостоящих часов. Никогда не отличающийся особым дружелюбием вице-адмирал Дрейка выглядел несуразно. Его сильно потрепанное житейскими бурями лицо с пурпурно-красным носом, обрамленное косматыми седыми бакенбардами, вместе с веснушчатой лысиной на голове странно контрастировало с множеством золотых цепочек, изумрудными серьгами, роскошными чулками из венецианского шелка, покрытыми черно-желтым узором, алым дублетом и фламандскими брыжами такого размера, что с трудом он мог управляться с курительной трубкой. Как только Уайэтт сделал свой выбор — красивый замысловатый кубок, ножка которого была изготовлена в виде морского конька, ставшего на дыбы и поддерживающего его полую часть из позолоченного серебра, — Дрейк наклонился вперед. — Ну, полагаю, вы снова, несмотря на мой запрет, искали встречи со мной, чтобы выпросить судно из захваченной нами добычи? Сделав быстрый вдох, Генри Уайэтт усмирил бешено колотящееся сердце. Через несколько мгновений он узнает, сделан ли шаг к просторному поместному особняку, к страстно желанному званию «рыцарь»и к торговому дому, который он намеревался построить для Кэт и детей. — Да, ваше превосходительство, — отвечал он твердо, глядя Дрейку в лицо. — Мне сообщили, что «Преимущество» больше не годится для мореходного плавания. — Верно, верно, — отвечал Дрейк из-за клуба плывущего дыма. — Но вместо него я уже отдал крепкую каракку Джону Риверсу. Заметив легкое волнение Уайэтта, сэр Френсис вдруг улыбнулся, став сразу же неотразимо, магнетически обаятельным — ведь именно это качество позволило ему завоевать необычайно глубокое уважение нации и, время от времени, капризную любовь королевы. — Однако, друг Уайэтт, не буду отрицать, что могу найти дело и еще для одного грузового судна: имею намерение убрать отсюда все лучшие пушки и весь порох, что попадется под руку. Какое судно у вас на уме? Случайно не барк ли под названием «Дева Компостеллы»? Видя ошарашенное выражение на лице Уайэтта, Фробишер так мощно расхохотался, что его хохот прокатился по коридорам дворца наподобие рева престарелого льва. — Да полно вам, молодой человек, нечего так изумляться. Мы с сэром Френсисом видели вчера со стены, как вы оглядывали его — все до последнего линя и паруса. Пот выступил на лбу у Генри, когда он подумал о своей самонадеянности. — Можете забрать его себе, — весело сказал Дрейк, перекрывая своим голосом звуки музыки, — но при двух серьезных условиях. Первое: я получаю треть того, что выпадет на его долю за время нашего плавания. Второе: нуждаясь в матросах, я не могу выделить вам ни одного человека. Поэтому вы сами должны укомплектовать этот барк экипажем, обеспечить провизией и вооружить, хотя последние две заботы не создадут вам больших проблем. — Так точно, сэр. Об этом я позабочусь. — Уайэтт разразился радостным криком и вдруг, неожиданно для себя и для всех остальных, поцеловал крепко надушенную руку адмирала. Теперь уже бывший помощник штурмана казался таким молодым, сиял таким счастьем, что Дрейк рассмеялся. — Вы понимаете, капитан Уайэтт (Боже, он использовал воинский термин «капитан» вместо «мастер»!), что этот барк отойдет в вашу полную собственность только с окончанием плавания? — Так точно, сэр, и пусть Господь благословит ваше щедрое сердце. — Ну, тогда позаботьтесь, чтобы ваше новое судно плавало во славу нашей королевы и твердо стояло на страже истинной веры.Глава 18 LA CALLE DE LA TRINIDAD*["339]
Как и множество других раненых, сквайр Хьюберт Коффин был оставлен на берегу и к концу месяца, пока сэр Френсис Дрейк управлял островом, смог окончательно оправиться и снова заняться выполнением своего долга. Его назначили помощником командира солдат, охраняющих королевский монетный двор. Здесь захваченное золото и серебро переплавляли в слитки — короткие клинообразные чушки, легко укладывающиеся в сундуки. От плавильных котлов Дрейка пощадили только ювелирные изделия и необычные экземпляры посуды. Хьюберту было удивительно приятно после проведенного в служебных заботах жаркого дня пройтись к красивому особняку Ричарда Кэткарта на улице Троицы, расположенному напротив той самой окруженной пальмами площади, где он отдыхал утром в день захвата города. Благодаря гибкости молодого организма, Розмари Кэткарт теперь уж почти оправилась от ужаса, вызвавшего у нее оцепенение, хотя мачеха и сводные сестры исчезли, словно их поглотило землетрясение. К ней явилась, прося приютить ее, престарелая тетка, поскольку дом ее разрушили, когда принуждали испанские власти к выплате выкупа. Вместе со слезами и жалобными причитаниями донья Елена привела с собой свиту из слуг-мулатов, пополнивших ряды выжившего после резни домашнего персонала Кэткарта и восстановивших в доме некоторое подобие порядка. Все негры либо поступили на службу к англичанам, либо ушли, чтобы присоединиться к беглым рабам. Чтобы обеспечить безопасность Розмари и ублажать собственные свои наклонности, Хьюберт поселился в прохладном и просторном помещении отсутствующего негоцианта. Как приятно было проводить время в саду среди зонтичных сосен с открывающимся видом на бухту. Там, на кормах кораблей эскадры Дрейка, горели большие фонари, и, когда суда покачивались на якорях, их отражения в воде все плели и плели непрестанно меняющиеся узоры. Город оставался мирным, спокойным; изредка лишь звучала песня или мелодия, наигрываемая на гитаре. После ужасов и разбоя первых дней взятия города люди Дрейка больше не грабили кого ни попадя и не подвергали насилию обитателей столицы, если только они оставались уважительными и услужливыми. В общем-то в Санто-Доминго стали возвращаться многие домовладельцы, рассказывая о пытках и грабежах, устраиваемых бывшими черными рабами. — Пожалуйста, расскажите мне побольше об Англии и особенно о Девоне, — попросила Розмари, деловито сшивая разрезанный гобелен. — Отец обычно рассказывал мало — только об отдельных местах: устье реки Хамбер, Восточном Райдинге и Линкольншире. — Она слабо улыбнулась и посмотрела на него поверх нитки, которую собиралась перекусить. — Так вот, я могла бы поклясться, что уже там бывала, а вот о Девоне ничего не знаю. Мне известно только, что это какое-то место в Англии, которое является родиной для вас и вашего адмирала. — Девон, — с готовностью пояснил Хьюберт, — то есть хочу сказать, западное побережье отличается своеобразной красотой. Вот представьте себе, если хотите, множество диких обветренных утесов, так высоко поднимающихся над морем, что трудно высадиться на берег — например, в Кловелли, откуда мой дом всего лишь в нескольких милях. Оттого что очень часто идут дожди, в моих краях удивительно зеленые заливные луга, разделенные цветущими насыпями и живыми изгородями кустарников. Благодаря протекающему невдалеке от нашего берега большому теплому течению, у нас выращивается много фруктов. Утверждают даже, что вдоль нашего южного берега могут прекрасно расти и пальмы. В глубине материка много прекрасных владений, богатых особняков и поместий, потому что через маленький порт Плимут к нам текут потоки богатства из Леванта, Западной Африки и, — он улыбнулся, — с недавней поры из Америки. Жители наших мест сильно отличаются от жителей остальной Англии как по разговору, так и по внешнему виду. — Почему? — Некоторые ученые люди свидетельствуют, что спасшиеся от смерти первые островитяне бежали в Корнуолл и Девон — сначала перед нашествием саксов, а затем чтобы спастись от моих норманнских предков. Поэтому мы — те, кто из Девона, — претендуем на то, что в наших жилах течет чистейшая английская кровь. Все больше загораясь, Хьюберт далее описал свои потомственные владения, принадлежащие семейству Коффинов, — от древней цитадели, возведенной для защиты от норвежских и мусульманских грабителей, до большого обеденного зала и когда-то многочисленных конюшен. Эти последние теперь лежат в развалинах, простодушно признался он, или стоят пустыми, если не считать рабочих и нескольких спокойных верховых лошадей для его двух братьев и двух сестер, которые намного моложе его. С легким вздохом Розмари полюбопытствовала: — Вы полагаете, я смогла бы чувствовать себя в Англии как дома? — А почему нет? Разве по рождению вы не англичанка? — Но это страна, о которой я ничего не знаю; мне известен только ее язык и кое-что из истории. — Я убежден, что все будет в порядке. Наклонившись вперед, он разглядывал ее аккуратно вылепленное золотисто-белое лицо и находил пленительными ее ярко-красные губы. — Может, мне удастся уговорить отца отправить меня туда? — Она грустно кивнула головкой. — Раньше он бы не согласился, но теперь, — она покраснела и еще ниже склонилась над своим шитьем, — поскольку я уже не девственница, ни один кабальеро и не подумает искать моей руки, предложи ему отец в приданое за меня хоть половину своего богатства. Хьюберт заключил ее руки в свои. — Это зло совершилось вопреки вашей воле. Вы ведь сопротивлялись из последних сил, а тот, кто вас изнасиловал, мертв. Рад, что убил его именно я. Розмари, разве вы не можете отделаться от этого… — Нет, — твердо заявила она. — Никогда! Думаю, что по возвращении в Англию я поступлю в монастырь Англиканской церкви. А теперь, может, Энрике принесет вам бокал охлажденного Канарского?Глава 19 БАРК «НАДЕЖДА»
С тех пор как он ставил силки на своих первых кроликов в лесах близ Сент-Неотса, никогда еще Генри Уайэтт не был с такой полнотой поглощен своим делом и не испытывал такого глубокого удовлетворения. Разве, в конце концов, не удалось ему уговорить кое-каких англичан и французских гугенотов, освобожденных из подземных темниц Санто-Доминго, помогать ему плавать на новой посудине за обещание получить свою долю в добыче? Он переименовал свое новое судно, назвав его совсем не оригинально — «Надежда», и доставил его к причалу на небольшой пристани внешней гавани, принадлежащему Ричарду Кэткарту; сделал он это по совету Хьюберта Коффина, который возвращался теперь в прежнюю форму, расставаясь с остатками бледности, сопутствующей его болезни. Очевидно, забота и застенчивая любовь со стороны Розмари Кэткарт играли в этом выздоровлении далеко не малую роль. Услышав впервые имя ее отца, он рот разинул от удивления, вспоминая тот милый вечер в Байоне под миндальным деревом мастера Дженкинса. Боже! Ведь это сеньор Кэткарт, с кем ему предстояло вести дела, относящиеся к тем длинноствольным пушкам! Как совершенно иначе могло бы все обернуться, послушай его в то время сэр Дрейк. Да, что прошло, того не воротишь. Узнав, где обитает его выздоравливающий друг, Уайэтт стал ходить туда обедать по вечерам, выслушивая текущие новости, сообщая свои и обсуждая проблемы, казавшиеся когда-то незначительными, но теперь все более важными для его ближайшего будущего. Он радовался, что вовремя обратился к адмиралу, ибо все больше таяли надежды экспедиции на пополнение ее золотого запаса. Проходил день за днем, а никаких предложений о выкупе не поступало от этих трусливых, но упрямых испанских властей. Кипя от негодования, сэр Френсис Дрейк скрепя сердце отдал приказ, чтобы выкуп за Санто-Доминго снизили до пятидесяти тысяч дукатов и, наконец, до сущего пустяка — двадцати пяти тысяч дукатов. И хотя ежедневно еще один квартал Санто-Доминго превращался в груду руин, губернатор набожно клялся честью родной своей матери и, что еще более важно, святостью всех имеющихся в десяти заповедях святых угодников, что найти такой суммы ему просто никак не возможно. Доказательство того, что сэр Френсис действительно распростился с надеждой выжать из побежденных удовлетворительную сумму денег, появилось, когда эскадра ежедневно стала пополнять свои трюмы провизией и тщательно перевооружаться. Оружейный мастер с лицом как из дубленой кожи сообщил Уайэтту, что в трюме барка места хватит не менее чем для пятнадцати сорокадвухфунтовых пушек. Их немалая тяжесть, заметил он, обеспечит «Надежду» отличным балластом и тем самым придаст ей устойчивости против любого шторма. Оружейник предлагал капитану — Уайэтт имел теперь право называться этим чисто военным титулом — свободное разрешение брать все, что ему захочется для личного блага из вражеской мелкокалиберной артиллерии: к его услугам отличные кулеврины, фальконеты и полукулеврины, утверждал он. Таким образом, новому капитану удалось погрузить в трюм около двух дюжин полупушек, фальконетов и камнеметных орудий. Они, рассуждал Уайэтт, будут в огромном спросе, когда дело дойдет до вооружения военных кораблей, строящихся сейчас на верфях сэра Джона Хоукинса. Все эти пушки несомненно окажут свою услугу в битве против армады испанского короля Филиппа II, если имеющий чуть ли не полную власть на море испанский флот двинется всей своей мощью на Англию. Заметив, работая с мастером Фостером, что прибыль от разнообразного груза вернее всего подсчитывать в конце плавания, Уайэтт с большой неохотой продал сапфировую брошь, выбранную им во время разграбления города. Жаль, что она никогда не украсит белое совершенство груди его Кэт, но безделушкой этой ему удалось подкупить хранителя трофеев, и тот продал ему огромный запас стрелкового оружия, считавшегося устаревшим или по какой-то иной причине непригодным для службы на кораблях адмирала. Он грузил эти покупки на телегу и целых два дня оккупации провел в поездках к тому месту за стенами города, где предводители маронов установили пункт для обмена награбленного имущества. Здесь рослые черные воины, одетые в мишурные наряды, навесив на шеи ожерелья из человеческих пальцев и ушей, обменивали добро, похищенное из крупных поместий в отдаленных от побережья районах, а поскольку очень нуждались в оружии, чтоб отбиваться от испанских карателей после того, как парусники Дрейка скроются за горизонтом, Уайэтт смог провернуть много выгодных сделок. Итак, вечер за вечером его запряженная мулом телега возвращалась в город с двумя мускулистыми рабами-неграми, охраняющими такие продукты питания, как ямс, кокосовые орехи, маниок, тапиока и множество копченой говядины. Кроме того, он приобрел мешки со стручками какао, кампешевым деревом и кошенилем — два последних товара ценны тем, что играют существенную роль в профессии красильщика. Порой капитан «Надежды» поддавался искушению и покупал по спекулятивным ценам сундуки с великолепной резьбой, гобеленовое кресло или целое окно из цветного стекла превосходного оттенка. Но в основном он вкладывал деньги в прекрасные кожаные изделия и ткани, о которых кое-что знал. «Это, — частенько говорил он себе, — я покупаю для Кэт». Для ожидаемого ребенка он купил массу игрушек, миниатюрных кораблей, деревянных животных, ярких красных шаров и красивую куклу в парчовом платье — на тот случай, если малыш, которого он надеялся увидеть по возвращении домой, окажется девочкой. Нередко уже около полуночи отпускал он на отдых двух дюжих негров-рабов, полученных им в качестве его личной доли из общего котла. Точнее, рабами они уже не были: он отпустил их на волю при условии, что прослужат у него на барке целый год — и ни днем меньше. Согласно своему рангу, каждый офицер флотилии стал хозяином двух или большего количества беглых черных рабов. Трое адмиралов и генерал-лейтенант Карлейль, разумеется, получили в качестве своей доли по десятку отборных негров. Простейшая из проблем Уайэтта заключалась в том, что ему нужно было обеспечить себе двадцать работников, которые должны не только суметь управляться с парусами «Надежды», но и обслуживать ее орудия. Несмотря на все усилия, ему не удалось добиться разрешения Дрейка заполучить к себе на службу того джентльмена — искателя приключений по имени Хьюберт Коффин; особенно с тех пор, как свирепствовала лихорадка, адмирал непреклонно стоял на том, что нельзя ослаблять штатный состав части его первоначальной эскадры. Однако именно благодаря усилиям Коффина на борту «Надежды» появился некий Майкл Хендерсон, четыре года протомившийся в тюрьме Санто-Доминго, а в прошлом бывший когда-то капитаном собственного торгового судна. Высокий, сероглазый и костлявый, как выпь, он не только согласился стать помощником капитана, но и заручился услугами некоего Уильяма Томпкинса, сидевшего с ним в одной тюрьме, который знал, как обслуживать артиллерию, и мог свободно изъясняться на португальском и испанском языках. Затем к экипажу барка присоединились трое французов-гугенотов с ввалившимися глазами, освобожденные после почти пятилетнего пребывания в тюрьме. Они с тоской вспоминали свой город Ла-Рошель и добрые вина Франции. Далее Уайэтт пополнил свой экипаж генуэзцами и венецианцами, которых испанцы заставили служить на «Большом пугале». Они составили европейскую часть его команды. Для полного комплекта он отобрал добровольцев из числа маронов, могучих парней, утверждавших, что плавали и знают мореходное дело. Никто не понимал их языка, кроме Уилла Томпкинса, который сбежал с галеры, а после свыше года жил среди подобных им дикарей. Больше всего Уайэтт доверял англичанину — своему помощнику и канониру, затем гугенотам, потом уже маронам и, наконец, генуэзцам с венецианцами. Последние, хоть и придерживались католической веры, громко клялись, что служба их будет верной. Двадцать пятого февраля 1586 года Уайэтт сделал осмотр барка и остался доволен: теперь «Надежда» стояла с полными бочонками для воды, с установленной на бортах батареей и другими трофейными пушками, хранящимися так удобно, что их по команде адмирала можно было бы выставить без промедления. В носовом трюме и в маленькой капитанской каюте хранились ценные красильные материалы, какао, хорошо обработанная кожа и прочие личные грузы. Доставленную им на борт мебель он решил разместить на балласте под маленьким полубаком «Надежды». В различные шкафчики рассовали обильный запас зерновой муки, оливкового масла и мясной солонины. Майкл Хендерсон вскоре доказал, чего стоит, умело распределив весь груз, а Уилл Томпкинс отобрал несколько человек и учил их обслуживать два фальконета и шесть полукулеврин барка; в качестве существенно важной новинки он установил на носу два погонных орудия — двухфунтовые фальконеты. Ярким солнечным утром 29 января с «Бонавентура» пришла пинасса и причалила к «Надежде», стоявшей со свежепросмоленными снастями, новенькими реями и бросающимся в глаза рядом свеженьких досок вдоль ее ватерлинии: Уайэтт твердо решил никогда больше не допускать повторения драмы с «Катриной». Когда флагманская пинасса, стукнувшись, стала у борта, Уайэтт со своим помощником капитана занимались в носовом трюме, навешивая бирки на товары, принадлежащие Томпкинсу и Хендерсону, поскольку Дрейк с присущей ему щедростью разрешил всем освобожденным из тюрьмы англичанам получить свою долю военной добычи в соответствии с их общественным положением. — Эй там, внизу, капитан Уайэтт! — В проеме люка возникло круглое красное лицо Томпкинса, сияющее как миниатюрное солнце. — К борту пристала пинасса с «Бонавентура», сэр. Его превосходительство адмирал требует вашего немедленного присутствия — и чтоб были прилично одеты, говорит он. Назревает какое-то важное дело, решил про себя Уайэтт. Но какое? Может, эскадра готовится плыть к своей следующей цели? Слухи ходили, что это будет Номбре-де-Дьос на Тьерра Фирме или иной город на Южноамериканском материке. Может, так, а может, и нет. Но, поразмыслив, Уайэтт отказался от такого простого решения. Он-то лично успел залить свои бочки водой, но многие корабли армады оставались еще без воды, а в этом вопросе Золотой адмирал отличался большой пунктуальностью. С гордостью взирал Генри Уайэтт на то, как его четверка блестящих от пота черных гребцов, славно работая веслами, стремительно мчит его небольшую гичку по засоренным помоями водам внешней гавани. На флагмане явно проводилась какая-то церемония: сомкнутым строем стояли ряды, как всегда, разношерстно одетых солдат, блестели их пики и аркебузы, сверкали начищенные остроконечные шлемы из стали. — Капитан Уайэтт? Прошу пройти на корму, — распорядился вахтенный офицер, как только Генри отдал честь простому деревянному кресту, прибитому на шканцах. На грот-марсе лениво свивался и развивался личный бело-голубой флаг адмирала, отбрасывая беспокойные тени на свеженадраенную палубу. Два блестяще одетых офицера стояли навытяжку в ожидании перед креслом с малиновым мягким сиденьем, установленным позади богато украшенного стола, на котором лежали три рулона бумаги, придавленных сверху, чтобы не унесло ветром, упрятанным в ножны кинжалом. Уайэтт узнал стоящих в сторонке и тихо переговаривающихся Ноллиса, Фробишера, Винтера и нескольких капитанов эскадры старшего звания. Почти сразу же новоприбывший сумел догадаться о смысле сей церемонии, потому что справа от него стоял капитан Роберт Кросс, назначенный командовать новым галионом — тем, что назывался «Большое пугало»и получил теперь имя «Новогодний подарок». За ним стоял дородный Джон Риверс — он стал капитаном каракки, заменившей ему сильно потрепанное «Преимущество». Раздалось пение труб — и все джентльмены на шканцах сразу же обнажили головы, а пикинеры и аркебузиры взяли на караул. В сопровождении адъютанта, генерал-лейтенанта Карлейля и командира флагманского корабля Феннера из дверей своей каюты вышел в роскошном камзоле из черной и золотой парчи адмирал Френсис Дрейк. Довольно торжественно он приветствовал своих офицеров, затем склонил голову и, став на колени, вознес к небесам молитву за удачу новых кораблей, ныне присовокупляемых к его эскадре. От каждого командира новых кораблей он потребовал клятвенно пообещать ему, что те неукоснительно будут блюсти его дисциплину, бояться Бога и доблестно биться во славу их королевы. Закончилась церемония, и новые командиры, получив по флагу с крестом Святого Георгия, в приподнятом настроении отправились на свои суда. «Если бы видела это Кэт!» — подумал Уайэтт, счастливо улыбаясь на кормовом сиденье своей маленькой гички. Под мышкой у него похрустывал документ, согласно которому барк «Надежда» получал полномочия военного корабля, арендованного английской короной. Уж теперь-то для Генри Уайэтта из Сент-Неотса экспедиция непременно должна быть успешной, он просто не может не вернуться с триумфом в Лондонский Пул. И Провидение милостиво воздерживалось от того, чтоб показывать ему результаты некоторых предопределенных событий.Глава 20 ОБЪЯСНЕНИЕ НА МОРСКОЙ СТЕНЕ
Ветер с суши, несущий с собой кисло-сладкий аромат тропических джунглей, задул сильнее, и огни кораблей сэра Френсиса Дрейка закачались и заплясали над чернильно-черными водами гавани. По количеству и яркости они теперь могли поспорить с огнями полуразрушенного Санто-Доминго. Неделю назад Дрейк, уставший и, возможно, поверивший наконец королевскому губернатору, упорно твердившему, что более двадцати пяти тысяч дукатов ему собрать не под силу, снял со своих людей задачу снесения этих прекрасно выстроенных из камня домов, тем более что исполнители этой работы испытывали к ней полное отвращение. Эта обращенная к морю стена, стоявшая напротив собственности Ричарда Кэткарта, казалась безлюдной, и Хьюберт Коффин повел прижавшуюся к нему боком Розмари к пустой амбразуре и там набросил свой плащ на перевернутый лафет. С благодарностью отметил он достаточное количество сохранившегося дневного света, в нежной чистоте которого глазам его предстали очертания лица Розмари и прозрачность ее темных глаз. Сегодняшним вечером девушка уложила волосы, разделив их надвое посредине лба, и на нем на малиновой ленте подвесила единственную жемчужину. Коффин отметил это с восторгом, потому что Розмари впервые после случившегося надела на себя хоть какое-то ювелирное украшение. — Завтра, Хьюберт, — заметила она тихим голосом, — ты вернешься на борт своего флагманского корабля? — Вернуться-то вернусь, но невозможно сказать, когда наш адмирал прикажет поднять якоря. Все зависит от погоды и ветра. Живо, словно любопытная птичка, она заглянула в его еще худое после болезни лицо и мягко рассмеялась. — Ля, ля, ля, сэр! Вы теперь почти вдвое толще того человека, каким я видела вас вначале. — Дай Боже нам забыть эту встречу, — пробормотал он, обнимая ее за плечи. — Я бы тоже хотела забыть. — Взор девушки остановился на приземистых очертаниях отцовского дома и голос ее стих настолько, что Коффин едва мог его слышать. — Недавно я… я имела основания убедиться, что от того кошмарного утра не будет никаких последствий, кроме раны для чести и боли в душе. — Благословен всемилостивый Господь! Но все равно, если бы ты… если бы ты зачала, эта случайность нисколько не изменила бы моей решимости однажды, в не очень отдаленном будущем, жениться на тебе. Бедный Хьюберт Коффин хочет быть твоим Хьюбертом. Розмари посмотрела на него с удивлением, и губы ее раздвинулись в сияющей улыбке. — Значит, ты все-таки желаешь меня, несмотря на то что я не девственница? Думаю, ты твердо это решил, и это здорово. Я заметила, Хьюберт, когда ты твердо желаешь чего-то, ты во что бы то ни стало стремишься достичь своей цели. Из своего кошелька Хьюберт извлек сердолик с гербом Коффинов, вставленный в оправу как кольцо. Золотое кольцо оказалось таким большим, что могло держаться у девушки только на большом пальце. Он поцеловал ее страстно, но с нежностью, а теплый ветер с суши играл плащом у их ног, и сквозь сгущающиеся сумерки до них долетали отдаленные несвязные завывания негров, предающихся разгулу вокруг своих пиршественных костров. Немного погодя Коффин поправил свой маленький стоячий гофрированный воротник, а Розмари откинула назад выбившийся локон черных волос. — Тогда обещай, моя голубка, сесть на первое же судно, идущее в Кадис. — Обеспечить себе переправу будет делом несложным, — трезво заверила она. — Неприятности я предвижу после того, как окажусь в Европе. Серьезные неприятности. — Например? — засмеялся он. — Боюсь, отец, хотя по рождению и воспитанию он и англичанин, придет в неистовство по поводу убийства моей мачехи и сестер, по поводу разграбления его дома и изъятия оттуда всех его товаров. — Прямые брови девушки нахмурились. — Увы, Хьюберт, я заранее предвижу, что нелегко будет получить его разрешение на мой брак с офицером сэра Френсиса Дрейка. А его разрешение, — пальцы Розмари напряглись у него в руке, — я получить должна. Мы с отцом всегда относились друг к другу очень тепло. Ты понимаешь? Мне было бы невыносимо сознавать, что каким-то своим поступком я сделала его горе еще тяжелее. Серьезно, ласково он возражал против ее решения, но, к своему огорчению, не смог поколебать ее воли. — Нет, хотя это и разорвет мое сердце, я никогда не приеду к тебе без папиного благословения. Но предположим, что сердце его к тебе смягчится — как в этом случае я доберусь до Англии? Наверняка, как только распространится новость о разграблении этого города адмиралом «эль Драаго», между Англией и Испанией вспыхнет война. — Тем не менее тебе удастся переправиться туда на каком-нибудь судне, идущем из Кадиса с припасами для испанских войск, стоящих гарнизоном в Нидерландах. А там не так уж трудно будет сесть на одно из тех небольших судов, что постоянно плавают по Узкому морю как в военное, так и в мирное время. Стараясь быть еще более красноречивым, он снова расписал ей, с какой теплотой ее примут в Портледже, что близ Байдфорда; он ничуть не сомневается, заверял он ее, что искалеченный старый сэр Роберт примет в свою семью такую сдержанную, хорошо воспитанную и красивую молодую женщину — даже несмотря на то, что семейство Ричарда Кэткарта не имеет никакой иной грамоты о пожаловании ему благородного титула, кроме той, в которой он нарекался Мальтийским рыцарем за преданную службу Святой Церкви и короне Испании. Розмари пошевелилась. — А если бы отец согласился, — тело ее напряглось, — стал бы сэр Роберт возражать против поистине скромного приданого? Понимаешь, ваш драгоценный Золотой адмирал устроил в имении отца такое опустошение, что невозможно сказать, что осталось от всех его богатств. — Помилуй Бог, нет! — заверил он ее. — Хотя даже в нынешние времена мы в Портледже бедны как церковные мыши. Они обнялись среди теней, ложившихся вокруг от стены, затем, охватив лицо Коффина своими руками, девушка повернула его к свету месяца и вглядывалась в черты лица так, словно хотела, чтобы они навеки запечатлелись в памяти. Розмари запоминала, как почти сходятся брови над широко расставленными и довольно-таки небольшими светло-карими глазами, как мимолетно поблескивали золотые кольца в его ушах, приплюснутых к голове, как мощно выступала нижняя челюсть под курчавой коричневой, чуть отросшей бородкой. Недавно он подкоротил усы — в основном потому, что так сделал сам Дрейк, и в этом он следовал примеру почти всех джентльменов армады. Внезапно Хьюберт поднял Розмари на руки и внес в амбразуру, где в свою очередь держал девушку так, чтобы луна могла выявить безмятежную красоту ее заостренного к подбородку лица. Держать любимую оказалось на удивление нетрудно, и Хьюберт понял, что его силы восстановились полностью. Потом он снова набросил на плечи свой плащ и повел Розмари в дом на улице Троицы. Негр, впустивший их в дом, оказался достаточно сообразительным, чтобы сунуть свой факел в канделябр и мягко удалиться, бесшумно ступая загрубелыми босыми ногами. — Не пройдет и года, любовь моя, — горячо прошептал Коффин, — и либо ты приедешь ко мне в Англию, либо я отправлюсь в Испанию за тобой. Лицо ее исказилось страхом. — Нет-нет! Что ты! Обещай мне, что ты никогда не вернешься в Испанию. — Такого слова я не дам, — мягко возразил он. — Поэтому ты должна искать меня в Англии. — Ладно, если поможет мне Бог и найдется какой-нибудь земной способ получить согласие отца. Молодой Коффин ушел, а она осталась стоять в сводчатом коридоре, тупо уставившись на грубую временную дверь, повешенную на петли взамен той, что рухнула под яростным натиском мародеров Дрейка. Затем, издав легкий, вызвавший содрогание вздох, Розмари взяла факел, помедлила, чтобы вглядеться в пятно на нижней ступеньке, машинально плюнула на него и поднялась в свою комнату.Глава 21 ДОНЕСЕНИЕ ЕЕ МИЛОСТИВОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
Теперь, когда в сини Карибского моря показалась береговая линия Тьерра Фирме, сэр Френсис Дрейк удалился в тень навеса, сооруженного на палубе юта «Бонавентура», и бросил критический взгляд на эскадру, быстро идущую под благоприятным ветром. Крупные или малые, все его суда демонстрировали «кость в своих зубах». Улыбка мрачного удовлетворения искривила исхудалое лицо адмирала. После захвата им Картахены его зацепила лихорадка, истощившая даже его поразительно крепкие силы. С некоторой долей усталости он распорядился позвать к себе Фулька Гревиля, этого способного и исполнительного джентльмена, с такой легкостью владеющего пером. Когда прибыл секретарь, таща под рукой портативный письменный столик, адмирал расслабился на своем сиденье и с беспокойством задержал взгляд на сине-красно-желтом флаге королевы, трепещущем на крюйс-марсе. Прежде чем начать диктовать, Дрейк угрюмо посмотрел на «новогодний подарок», отметил, сколь ярким кажется большой латинский крест, написанный краской на его парусе, на фоне этого ультрамаринового океана. Фульк Гревиль устроился поудобней с пеналом на колене и выбрал оттуда ряд хорошо заточенных перьев. Наверху листа бумаги он написал дату: 13 марта 1586 года, затем перевел взгляд на сидящую в вялой позе маленькую фигурку. Дрейк задумчиво провел рукой по волосам: давно уже не стриглись они так коротко; из-за жары в Картахене и лихорадки ношение длинных волос стало невыносимым. Наконец он отвлекся от грустных размышлений и приступил к диктовке: — «Покинув остров Эспаньола и крупный столичный город Санто-Доминго, я взял курс через Карибское море на Тьерра Фирме, или материк. Прежде всего я намеревался разрушить Санта-Марту, а затем совершить набег на те пункты ловли жемчуга, что находятся на острове Маргарита, но, увы, Бог послал мне противные ветры, поэтому я решил идти в Картахену, город в испанской провинции Венесуэла. Хотя я и располагаю превосходными точными картами как Картахены, так и существующих к ней подходов, я желал, чтобы на флагмане у меня был лоцман. Однако где бы я ни искал, такого человека найти не мог, а рисковать своими судами среди предательских скал и проливов, ведущих в бухту Картахены, мне было совсем не желательно». Дрейк задумчиво пощипал свою бородку, настолько теперь сожженную солнцем, что она казалось почти что белой, и, старательно подбирая слова, продолжал: — «Поэтому, не имея лоцмана, я решил сам вести корабли. Я прибыл к берегам Картахены, столице „испанского Мэйна“, 3 февраля примерно в четыре часа пополудни. Картахена, как вашему величеству должно быть известно, второй по важности город после Санто-Доминго, который я захватил и наполовину разрушил во имя вашей чести и славы. Но Картахена намного превосходит тот город в коммерческом отношении, так как ведет большую торговлю с Испанией и новой колонией, имеющей название Новая Гранада. Кроме того, Картахена имеет торговые связи со всей Вест-Индией, а также с Перу и со всем побережьем материковой земли, и даже с теми местами, где занимаются ловлей жемчуга, а именно, с Рио-де-ла-Ача. Чтобы вашему величеству были понятны стоящие передо мной препятствия, я должен заявить, что Картахена прекрасно защищена мощными фортами и силами самой природы. Та артиллерия, что способны нести мои корабли, могла бы дать лишь очень слабенький результат. Одна сторона этого города выходит на запад коткрытому морю, и отсюда подхода к нему нет никакого. С севера к высоким городским валам подступает обширное болото. Для удобства вашего милостивого величества я прилагаю план сего очень большого и богатого города «. Дрейк прервался и сделал долгий глоток из кружки с разведенным водой ромом с лимонным соком. — Фульк, позаботьтесь о том, чтобы к отчету была приложена хорошая копия этой карты, сделанная сеньором Геварой. — Слушаюсь, сэр Френсис. Я уже заказал ее миниатюрную копию. — «В озеро или лагуну Картахены ведут два прохода. Один называется Ла-Бока-Гранде, это обычный вход в лагуну. Другой носит имя Ла-Бока-Чика, то есть „Маленький ротик“. В южной оконечности озера Картахены находится гавань в собственном смысле слова, отделенная от лагуны длинной песчаной косой, на которой воздвигнут сильно укрепленный форт, имеющий множество пушек. Кроме того, доступ в собственно гавань преграждает огромная цепь, крепящаяся к сваям на материке. Разведчики сообщили, что за этими преградами стоят две большие военные галеры и мощный галеас, принадлежащий военно-морскому флоту испанского короля. Из гавани ведет морской рукав, который отступает и кружным путем уходит назад в то болото, которое, как я уже говорил, непосредственно примыкает к морю. Картахена, таким образом, надежно стоит на острове, и единственный доступ к ней — по широкой дамбе длиной свыше трехсот ярдов, на городском конце которой находится укрепление, обороняющее подъемный мост, и само дополнительно защищенное тяжелыми пушками форта «. Как думаете, Фульк, я выражаюсь достаточно ясно? — Да, сэр Френсис, я бы сказал, просто восхитительно. — Фульк воспользовался этой возможностью, чтобы сменить перо, и обмакнул новое в свинцовый пузырек для чернил. — «Днем 9 февраля я произвел демонстрацию под стенами города, в которой участвовало 25 кораблей всех размеров. Я подошел достаточно близко, чтобы вызвать их орудийный огонь с укреплений, но на их пустую пальбу даже не соизволил ответить». Дрейк сделал паузу, отпил из оловянной кружки и вытер растрескавшиеся от солнца губы тыльной стороной ладони. — «Сделав вид, что мы сильно расстроены мощью их укреплений, я отошел назад в море до тех пор, пока не достиг входа в тот самый коварный фарватер, что называется Ла-Бока-Чика. Благодаря Божьей милости и моему опыту навигатора мне удалось провести свои корабли по этому маленькому проходу — и вот я оказался в водах лагуны Картахены. Развернув свои корабли, я стал на якорь примерно на середине этого тихого водоема, лицом к внутренней гавани. Сразу же с наступлением темноты я посадил во все пинассы и шлюпки вооруженных людей, которые под командованием генерала Карлейля без малейших потерь высадились на песчаной косе в точке около моря. Этот песчаный полуостров зарос джунглями и кустарником и, по-моему, представлял собой самое слабое место в оборонительной цепи Картахены: эта цепь тянется прямо, в горизонтальной плоскости, примерно три мили и ведет в самые улицы. Однако с приближением к городу полуостров этот сужается до 140 ярдов и поперек него в этом месте выкопаны полевые укрепления, вооруженные шестью тяжелыми пушками». Адмирал снова помедлил, проследил за полетом летучих рыб: серебристо-голубые, они выскакивали из длинной сапфирового оттенка волны и, с плеском проносясь по воде, исчезали с таинственной неожиданностью. — «Об этих защитных сооружениях я узнал из допроса пленных, взятых мною в Санто-Доминго. Тогда мы с превосходным и доблестным генералом Карлейлем решили немного выждать, пока не спадет вода, чтобы ваши солдаты смогли обогнуть эту грозную оборону. В глубокой тьме ваш храбрый генерал, — заметь, Фульк, Карлейль действительно храбр, храбрее его я не встречал никого, — повел своих солдат вдоль вышеупомянутой песчаной косы. Полевой капрал Симпсон командовал лучниками и пикинерами, а полевой капрал Горинг — еретиками, с которыми шел генерал Карлейль. Позади старший сержант Пауэлл вел четыре роты с пиками — мою главную атакующую силу. Капитан Морган командовал моим арьергардом. Как только ваша армия обогнула фортификации и пропитанные ядом палки ныряльщиков, генерал Карлейль просигналил мне, что готов штурмовать фортификации, выходящие на песчаную отмель. Тогда я приказал вице-адмиралу Фробишеру плыть вперед и вступить в сражение с фортами, охраняющими плавучее заграждение в виде цепи между двумя гаванями. Это, полагал я, в достаточной степени отвлечет гарнизон от генерала Карлейля, который успешно вел свои войска по низкой воде, при этом земляная насыпь защищала их не только от перекрестного огня двух галер, стоявших в лагуне, но также и от пушек, установленных в траншеях. Наши аркебузиры прокричали «ура!»в честь вашего величества, после чего дали залп и дружно пошли в атаку. Тут все проходило иначе, чем у стен Санто-Доминго, так как враг с исключительным упорством отстаивал свои позиции, и если бы его солдаты носили стальные кирасы, как наши бойцы, а не простые куртки на вате, наша атака могла бы захлебнуться. Затем последовала очень милая потасовка, закончившаяся повальным бегством испанцев, во время которого полевой капрал Горинг захватил в плен некоего Алонсо Браво, испанского генерала, командующего в Картахене. Капитан Уильям Винтер с лихвой поучаствовал в рукопашной схватке рядом с вашим отличнейшим генералом Карлейлем. Увы, в этом бою полевой капрал Симпсон получил очень тяжелое ранение. Каждый солдат как одного, так и другого подразделения нес свою службу с такой охотой, что противник не вынес яростного напора. Ваши войска, всемилостивейшая из всех монархов, следуя моим указаниям, не дали врагу ни малейшей передышки и в тот же момент обрушились сзади на его земляные укрепления. Но лишь тогда сражение стихло, а вскоре и вовсе прекратилось, когда они пробились к центральной рыночной площади Картахены и генерал Карлейль сразил своей собственной шпагой испанского знаменосца. Итак, моя дорогая леди, победа и слава снова увенчали ваше оружие «. Дрейк вздохнул, повторно глотнул горячего напитка из молока, вина, пряностей и протертой хинной коры, затем снова повернулся, чтобы внимательно оглядеть эскадру, идущую в кильватер за своим флагманом курсом на север. Улыбка воспоминаний тронула его губы, когда он узнал грубоватые очертания «Первоцвета». «Если бы не та попытка его захвата, — подумал вдруг Дрейк, — мне бы здесь век не бывать». — «Но город, однако, достался нам нелегкой ценой. Не считая раненых, пало свыше двадцати восьми отважных солдат». Бог знает, их было немало, — добавил он. — Сколько, по-вашему, выжило после ранений? Фульк Гревиль, нахмурившись, почесал ухо. — Возможно, каждый четвертый, сэр Френсис. Но, уж точно, не больше — ведь такая была жара. — Он макнул перо в чернильницу, ожидая следующих слов адмирала. — «Наутро я повел свой флот в атаку на форты, охраняющие плавучее заграждение и дамбу. К моей великой радости, они подняли белый флаг и сдались мне без единого выстрела. Вот так была захвачена Картахена, крупный столичный город Филиппа II на Испанском континенте». Адмирал прервался, встал на ноги и прошагал по залитой солнцем палубе юта туда, где капитан Феннер с буссолью, астролябией и секстантом занимался определением градуса широты. Точному вычислению долготы предстояло еще подождать лет сто. Заметив рядом с собой адмирала, капитан Феннер сунул секстант под мышку и, кланяясь, снял с головы свою низкую широкополую фетровую шляпу, которую он неизменно носил на море. — И как мы идем, Уилл? — Идем полным ходом на северо-запад, сэр, но я сомневаюсь, встретим ли мы какие-нибудь суда. С тех пор как мы разграбили Санто-Доминго, достаточно было времени, чтобы встревожилось все Карибское море. Дрейк приложил ладонь козырьком ко лбу и оглядел небеса. — Что думаете о погоде на завтра? Феннер метнул на своего командира хоть и слегка насмешливый, но восхищенный взгляд. Невероятно, как точно Дрейк, похоже, способен почуять назревающий шторм. Недаром он славился на весь мир как совершеннейший штурман и превосходный моряк. — Ей-богу, сэр Френсис, по мне, она будет вполне приличной. — Возможно, возможно. Но все равно просигнальте капитанам, чтоб явились ко мне на борт нынче днем, а не завтра. — Слушаюсь, сэр. Тотчас же просигналю. Вернувшись на скамью, Дрейк только присел на краешек и наклонился вперед, сомкнув руки и поставив локти на колени. Его явно мало радовало то, что он теперь должен был занести в свое донесение. — «Когда возник вопрос о выкупе за избавление Картахены от пожара, я настаивал на миллионе дукатов, но, увы, епископ религиозных орденов, предупрежденный о нашем прибытии, сбежал вместе с главными негоциантами и лучшей частью их собственности так далеко в глубь материка, что я не мог их догнать. Поэтому я снизил свои требования до ста тысяч золотых фунтов, но зато забрал у них много хороших товаров: красильное дерево, изысканные одеяния, полотна и шелка. Чтобы убедить врага в том, что я ревностно служу вашим интересам, моя дорогая леди, я велел спалить несколько богатых районов на окраине города; когда до конца месяца мне не предложили никакого выкупа и поскольку на мои экипажи снова напала сильная лихорадка, я принял в качестве выкупа (и, надеюсь, вы не станете посему обвинять меня в слабости), — Дрейк сделал гримасу, — сумму в сто десять тысяч дукатов, которая в наших деньгах примерно равна тридцати семи тысячам двумстам пятидесяти фунтам. К этому, однако, надо присовокупить тысячу флорентийских крон, приобретенных благодаря тому, что мы пощадили церковное имущество, находящееся за стенами Картахены». Адмирал вскочил на ноги и, приноравливаясь к заметной килевой качке галиона, заходил взад-вперед по палубе все время поглаживая пальцами украшенный драгоценными камнями кинжал, без которого он никогда не выходил из каюты. — «Когда мой флот снова был готов к плаванию, я собрал военный совет, так как требовалось обсудить очень серьезные вещи. Во-первых, мои солдаты и моряки выражали резкое недовольство тем, что должны получить столь малую компенсацию за все свои тяготы и труды, при этом как добровольцы не получая никакого жалованья из казны вашего величества. Поэтому я прошу ваше величество оценить то, как обрадовались эти честные воины, узнав, что генерал-лейтенант и главные его офицеры решили отказаться от своей доли выкупа за город, который они так доблестно захватили. Следуя их примеру, ради наших бедных матросов, точно так же поступили мои капитаны; по правде говоря, мы от всего сердца желали, чтобы поделенные таким образом деньги явились бы достаточным вознаграждением за их преданные труды. Мы также обсудили целесообразность размещения на стенах Картахены тяжелых орудий и обеспечения города постоянным гарнизоном как для защиты его от врага, так и для выполнения колонизаторских функций с выгодой для вашего величества. Но, увы, наше войско так поредело и снова на моих кораблях свирепствовала лихорадка, что мне показалось, что будет негоже основывать здесь колонию именно в данное время». Дрейк закусил нижнюю губу немного неровными и пожелтевшими зубами. — «Это решение оказалось для меня самым болезненным за всю мою службу у вашего величества». Адмирал перестал диктовать, подошел к поручню и стоял там, казалось, поглощенный ужимками стаи морских свинок, но на самом деле борясь с тем, что просилось к нему на язык. А в памяти его с совершенной отчетливостью всплыл один разговор с Уолсингемом, предупреждавшим его о политической непоследовательности королевы, о неспособности ее предвидеть неизбежность жестокой и решающей войны с Филиппом. Елизавета, объяснял он, все еще верит, что она может тянуть неизвестно как долго, отказываясь взимать налоги на обеспечение своего королевства надежной защитой от врагов. Нет, решил Дрейк, правильно ему посоветовали отказаться от колонизации Картахены; не бывать этому, пока Елизавета, все еще кокетничая с «призраком мира» — католическим королем, способна целиком пожертвовать своими офицерами и рядовыми солдатами, которые будут ради нее удерживать этот город. Вернувшись на скамейку под тентом, Дрейк закончил диктовать свой отчет: — «И потому на тридцатый день марта, после шестинедельной стоянки на Тьерра Фирме, я вывел свою армаду из Ла-Бока-Гранде и взял курс на север, к проливу Юкатан». Фульк Гревиль размял одеревеневшие, испачканные чернилами пальцы, когда стало очевидно, что адмирал закончил диктовку. — Не желаете ли перечитать донесение в том виде, в каком я записал его, сэр? — небрежно спросил он, прекрасно понимая, что Дрейк испытывал дьявольское отвращение ко всякого рода канцелярской работе. — Нет, но после того, как я приложу к нему свою печать, сделайте мне с него хорошую копию, которую нужно будет отправить на «Подспорье»и поместить вместе с остальными. Ближе к закату солнца ветер, поколебавшись, стих. И в то же время над краем моря пополз нездоровый желтовато-зеленый оттенок, который распространился на небо, испортив его привычную голубизну. Дурные предчувствия в отношении погоды наполняли сердца капитанов, взбиравшихся по коварному веревочному трапу, установленному на шкафуте «Бонавентура». Генри Уайэтт, строго одетый, с серьезным выражением на лице, стоял вместе с другими, образовавшими неплотный полукруг перед жилистой гибкой фигурой адмирала, и внимательно слушал его инструкции — так называемые военные советы Дрейка ничем подобным и не были: редко интересуясь мнением других, он просто заявлял о своих собственных решениях. — Джентльмены, — бодро заговорил Дрейк, — вы возьмете курс на Кабо-Сан-Антонио, что на западной оконечности Кубы. Там мы запасемся свежей провизией и водой. Оттуда, — он окинул взглядом продубленные красно-коричневые лица окруживших его офицеров, — мы пойдем во Флориду в Северной Америке и там вынудим к сдаче испанские форты в Сент-Августине и Святой Елене. Я ничего сейчас не знаю ни об их силе, ни об их значимости; знаю только, что по своему местоположению они держат под обстрелом пролив Флориды, по которому обычно проходят суда короля Филиппа, груженные деньгами и сокровищами, по пути в Испанию. Ярко-синие глаза адмирала быстро пробежали по лицам собравшихся, заметили, как загорелись взоры при словах «суда… груженные деньгами и сокровищами». — А позже, даст Бог, я нанесу визит колонии, основанной сэром Уолтером Ралеем на острове Роанок. В ответ на кое-какую информацию, чрезвычайно полезную для нашей нынешней экспедиции, я дал сэру Уолтеру обещание, что дойду туда, чтобы узнать, как там поживают его люди, и помочь им в чем можно. В памяти Уайэтта промелькнуло видение той неряшливой таверны в Лондоне, где Питер Хоптон так ярко расписывал ему обширную землю, становящуюся теперь известной англичанам как «Виргиния». Бедный Питер! Что с ним стало? Возвращаясь к себе на «Надежду», которая, как и остальные суда эскадры, угрюмо, монотонно переваливалась с бока на бок над наплывающими одна за другой маслянистыми волнами, Уайэтт бросил тревожный взгляд на тошнотворный оттенок неба и твердо решил, что, ступив на борт, он позаботится о том, чтобы все пушки и весь такелаж были крепко привязаны: возможно, придется выдержать еще одну бурю из тех грозных штормов, что испанцы называют «tornados» — торнадо.Книга третья ИНДЕЙЦЫ
Глава 1 НАСТАВНИЦА ГОСПОЖИ ДЕКСТЕР
Миссис Кэт Уайэтт казалось, что никогда в своей жизни она не чувствовала себя более слабой, изможденной и павшей духом, чем в тот момент, когда, поднявшись на вершину холма, она увидела башни и каминные трубы Лондона. Она опустилась на заросший травой камень, лежавший возле дороги, и попыталась найти утешение в мысли, что ей не придется шагать до города в собственном смысле этого слова. После длительного тяжелого испытания, сопровождающего рождение маленькой Генриетты одной очень холодной ночью месяца два назад, ей так и не удалось восстановить свои силы. И это ее тревожило. Первый ребенок, кудахтала повивальная бабка, всегда бывает самым тяжелым. И Кэт убедилась в этом на деле, ведь до сих пор ее передергивало при воспоминании о тех ужасных, жгучих, разрывающих тело болях, о миссис Фостер и ее очень старой и грязной подруге-акушерке, снующей вокруг и бормочущей бесполезные слова ободрения.. В конце концов последовал ряд кровотечений, едва не унесших ее навсегда из этого мира — и от Генри Уайэтта. Кэт глубоко вздохнула, с усилием поднялась на ноги и снова взялась за узел, в котором несла остатки со стола веселой и взбалмошной леди Декстер. Вскоре показалась соломенная крыша маленького дома, в котором она жила вместе с вдовой мастера Фостера. Выстроенный много лет назад, еще перед тем, как Лондон стал расширяться, поглощая поле за полем и рощу за рощей, этот старинный коттедж осел своими стенами, и в его замшелой соломенной крыше роились целые колонии мышей столь плодовитых, что даже длинношерстный турецкий кот не мог с ними справиться. «Господи! — задала она себе вопрос. — Неужели мне уже больше никогда не насладиться тишиной?» Всю неделю она трудилась, уча искусству игры на лютне и виолончели высокомерных и шумливых потомков лорда Энтони и леди Гвиневры Декстер. Казалось, они никогда не перестанут визжать, реветь или мучить друг друга. А теперь ей для разнообразия предстояло снова выносить шум уже новых детей — пяти сирот Джона Фостера, старшей из которых, девочке, еще не исполнилось и восьми лет. В этом двухкомнатном, продуваемом сквозняками дряхлом домишке негде было укрыться, чтобы обрести личный покой. Кэт со своей малюткой и двое самых младших Фостеров должны были жить в одной комнате, в то время как Полли Фостер со своей крохой и двое старших детей спали в разных углах той комнаты, что служила одновременно гостиной, столовой и кухней. Боже, как пронизывающе холодно было в этом коттедже, несмотря на то, что старшие дети терпеливо обшаривали берега Темзы и всевозможные запруды в поисках плавника. Пока не пришло известие, что могучий, энергичный Джон Фостер сражен в столкновении с французскими каперами у берегов Кале, Кэт и представления не имела, какой это страшный удар для женщины, когда у нее отнимают кормильца семьи. Всего за несколько недель скромное, но беззаботное житье Полли Фостер превратилось в жалкое существование, средства на которое она добывала стиркой и ремонтом одежды кое-кого из товарищей Джона по плаванию, которые, прослышав о ее бедственном положении, тащились за полторы мили из Биллингсгейта, чтобы дать ей работу. На этот раз, в виде чудесного исключения, дети Фостеров не носились вокруг, хоть во второй половине дня прояснилось после чуть ли не целой недели туманов и холодных гнетущих дождей. Кэт повеселела при мысли, что скоро ее малютка Генриетта, такая вся приятно розовая, ляжет ей на руки, нежно воркуя или похныкивая. Подарком судьбы явилось ей то, что вдова Джона Фостера все еще кормила грудью маленького Тимоти, в то время как собственные ее груди почти сразу же отказали: акушерка объясняла это чрезмерной потерей крови во время родов. Увы, и на Генриетте остался отпечаток их совместных родильных мук: на одной из ее ручонок краснело пятно, которое никак не хотело исчезать; а образовалось оно оттого, что повитуха слишком сильно тянула за крошечную ручку. К тому же у Кэт появился еще один страх: ей стало казаться — и она надеялась, что это только ее воображение, — будто одна из ножек малышки слегка повернута носочком внутрь. Когда бы она ни купала ребенка, она все надеялась, что ножка станет прямее, но правая ступня все так же упрямо, под тревожным углом смотрела носочком внутрь. «И только подумать, что я вся так ослабла и дрожу, хотя прошла всего-то четыре мили, — упрекала она себя, с трудом волоча ноги, зачастую по щиколотку в грязи. — Господи, а ведь раньше мне ничего не стоило за один день сходить пешком в Хантингдон и вернуться назад». Кэт остановилась, чтобы передохнуть и сорвать цветущую веточку яблони, которую она хотела было воткнуть в свои светлые волосы, но веточка оказалась слишком мокрой, и она сунула ее в узелок вместе с колокольчиками, кивавшими ей головками над семейством фиалок. После дождя они казались удивительно свежими и пахучими. Вздохнув, она в который уже раз просунула пальцы под узел, скрепляющий ее ношу. На этой неделе ей необычайно повезло: она приобрела большой кусок сахара, полкуска соленого бекона и две целых чуть залежалых булки ржаного хлеба, помимо обычных яиц и овощей, преподнесенных ей добрым садовником из поместья Декстеров. Маленькие Фостеры, несомненно, быстро разделаются с ними. Над заплесневелой, поросшей травой соломенной крышей коттеджа в небо поднималась извилистая струйка серовато-голубого дыма, а за домом смутно вырисовывались отталкивающие очертания Тауэра и менее суровые — башни обители Святой Катерины. По желтоватым водам Темзы два высокобортных военных галиона упорно продвигались против течения к своей якорной стоянке у Лайон-Ки — Львиной отмели. Разбирающаяся теперь в таких делах, Кэт узнала в них низкобортные удобные в управлении суда из тех, что сэр Джон Хоукинс проектировал специально для военных действий против испанцев и прочих врагов ее милостивейшего величества королевы Елизаветы. «Должно быть, что-то случилось, — забеспокоилась Кэт и заставила свои ноги идти быстрее. — Иначе бы ребятишки возились и играли во дворе, как двуногие щенята». Слегка вспотев, молодая женщина преодолела невысокий подъем по расползшейся от грязи коровьей тропе, ведущей к коттеджу. И тут ее сердце подскочило, как у оленя, раненного стрелой: она услышала низкий и плотный голос мужчины и сразу же узнала его. «Генри, Генри! — ударила в голову мысль. — Мой Генри вернулся!» Бросив узел, она пустилась бежать, все время выкрикивая его имя и сдерживая слезы охватившей ее радости. При звуке ее голоса появились одетые в лохмотья чумазые юные Фостеры, а с ними мужчина — темнобородый парень, нисколько не похожий на ее мужа. Кэт остановилась, закрыла лицо руками и от горького разочарования зарыдала. Она бы этого не сделала, не будь она такой измученной и расстроенной. Распрямясь, Кэт овладела собой, помахала детям рукой и, повернувшись, пошла назад, чтобы забрать свой узел. Вторично приближаясь к коттеджу, она уже почти не плакала. Сияя от гордости, к ней выскочила Полли, шлепками прогоняя со своего пути путающихся под ногами малышей. — Ой, голубушка, это мой брат, Гарольд. Вчера только прибыл в порт. Кэт попыталась прореагировать соответствующим образом на дородного черноглазого парня с чересчур большой черной бородой, внешность которого из-за отсутствия левого уха казалась несколько перекошенной. К ее удивлению, Гарольд Мэтсон ухмыльнулся, подошел и дружелюбно, словно тисками, сдавил ее пальцы, после чего освободил ее от узла. — Дядя Хэл был в Новом Свете, в Новом Свете, — пропел старший из мальчиков. — …в Новом Свете, в Новом Свете, — хором подхватил выводок миссис Фостер. — Он нам рассказывал о туземцах. Дядя Хэл говорит, что там, в Америке, все дети, даже девочки, ходят голые, голые, голые. — В Америке? — Кэт вызвала улыбку на губах, уже утративших свой темно-вишневый цвет, который так нравился Генри Уайэтту. — В испанских колониях, хотите вы сказать? — Нет, — вступил в разговор Мэтсон, ведя за собой стайку племянников и племянниц, — я говорю об острове Уоккокан, который я посетил, когда служил у сэра Ричарда Гренвилля. — Он пожал плечами и шлепнул сестру по обширному заду. — Уоккокан, в моем представлении, — всего лишь бедная земля, поэтому, поскольку мы не встретили ни одного испанского судна, Пол, я привез тебе только парочку маленьких жемчужин. Правда, блеск у них что надо. Эх, как бы хотелось привезти тебе их целый мешок, теперь, когда бедняги Джона уже нет с нами. — Жемчужины! — ахнула Полли Фостер. — Ты сказал «жемчужины»? — Ну да. Вот они. Обе женщины и четверо малышей с восхищением уставились на эти радужные кремового цвета шарики, одиноко лежащие на широкой мозолистой просмоленной ладони. — Как же красиво! — выдохнула Кэт, в то же самое время воображая себе, что, может, и ее Генри раздобыл теперь что-нибудь подобное, где бы он ни был. Похоже, никто не слыхал, куда направился Дрейк после того, как покинул острова Зеленого Мыса. По всему Лондону и по Гринвичу ходили слухи, и было их много. Вот Золотой адмирал нападает на богатые португальские колонии в Индийском океане. А вот он идет курсом на Молуккские острова, где лежат обширные богатства Португальской Ост-Индии. С такой же торжественностью распространялись слухи, что Дрейк идет к Магелланову проливу с намерением повторно добиться ослепительного успеха, сопутствовавшего ему при нападении на владения короля Филиппа в Западном океане. Многие уверенно провозглашали, что армада сэра Френсиса пошла в Карибское море. Определенно никто ничего не знал, заключил свой рассказ Гарольд Мэтсон. — Дай Бог тебе счастья, Хэл, — вздохнула Полли. — Эти жемчужины дадут мне огонь и еду на много недель вперед. Ты очень добр к своей бедной сестре. — Поцеловав смущенного брата в загорелую обветренную щеку, она заплакала слезами благодарности. Но, заметив удрученное лицо Кэт, засияла улыбкой. — Голубушка, гляди веселей. Скоро вернется твой Генри, до отказа нагруженный богатствами и украшениями. — Почему ты так уверена? — поневоле спросила Кэт. — Да что ты! Никто еще из плававших с сэром Френсисом не возвращался с пустыми руками, коль служил ему верно и хорошо. — Ей-богу, я бы лучше пошел с Дрейком вместо этого скряги сэра Ричарда Гренвилля, — проворчал Мэтсон, усаживаясь перед крошечным очагом, в котором горел сырой плавник, давая мало тепла, зато наполняя комнату едким голубоватым дымом. Моряк пошарил в кошельке, прикрепленном к поясу отрезком просмоленной веревки, и извлек крошечную серебряную монетку. Он жестом подозвал к себе самого старшего паренька, Джона, сопливого мальчугана лет семи. — А ну-ка сбегай вместе с Хелен на перекресток и купи мне на эти шесть пенсов нежную и сочную курочку. Погоди-ка! — придержал он мальчишку рукой. — И пусть трактирщик наполнит до краев — запомни, до краев — вон тот кувшин лучшим что ни на есть элем.Глава 2 И ДОМОЙ ВОЗВРАТИЛСЯ МОРЯК, ДОМОЙ С МОРЯ*["340]
В тот вечер в доме Фостеров пировали, и младшие вместе со старшими, вытаращив глаза, слушали рассказ Мэтсона о том, как он в качестве помощника капитана одного из семи судов, отправленных сэром Уолтером Ралеем к берегам Нового Света под командованием сэра Ричарда Гренвилля, совершил плавание к тому же участку побережья, где за год до этого некий капитан Амадас со своим экипажем встретил самый дружелюбный прием со стороны туземцев, населяющих остров Роанок. Пока этот чернобородый малый все дальше углублялся в свой рассказ, самый большой чугунок Полли Фостер мирно булькал на огне, и когда густой желтый жир от курицы всплыл на поверхность, она удалила его и всыпала в прозрачный бульон смесь бобов и гороха. — А вы откуда будете, мэм? — спросил Хэл Мэтсон Кэт, разрезавшую на бутерброды одну из принесенных ею булок. Кусочек сыра она, к счастью, тоже припасла еще заранее. — Я-то? Я из небольшой деревушки, о которой вы вряд ли слышали, она в Хантингдоншире. — В Хантингдоншире? — Да, из поселения Сент-Неотс. Дым, выбивавшийся в комнату из плохо сложенного очага, до слез разъедал ей глаза. Мэтсон поднес к заросшим усами и бородой губам наполненный элем коровий рог. — Сент-Неотс? Постойте-постойте! Где же я слышал это название? — Волосатый кадык Хэла трижды дернулся, прежде чем он опустил рог на стол. — Боже мой, теперь вспоминаю. От одного из колонистов, когда мы высадились на одной из скверных песчаных отмелей у берегов Виргинии. Он был родом из того же местечка. Может, припомните такого могучего светловолосого парня, вечно готового шутить и смеяться? — А имени его вы не припомните? — спросила Кэт, наморщив гладкий белый лоб. Она ведь если и не знала, то хотя бы слышала обо всех, кто жил в том уголке Хантингдона лет пятнадцать, а может, и больше. Хэл с надеждой глянул на чугунок, вытянул ноги — теперь уже босые, так как новые сапоги жали, — к камину, на котором сидел длинношерстный турецкий кот, взирая на них не слишком одобрительно. — Нет, хоть умри, не помню. Видите ли, мэм, их там было не меньше сотни. Поторговали с ними немного, высадили бедолаг на берег и помогли им в схватке с туземцами, а там уж поплыли домой. Кэт быстро перебирала в уме всех, кто мог бы действительно уехать из Сент-Неотса в Америку. И вдруг ее осенило. — Вы сказали, этот парень светловолос и необычайно силен? — Да, пожалуй, он самый сильный в новой колонии губернатора Лейна. — Тогда, — заявила она убежденно, — вы говорите о Питере Хоптоне. Моряк уставился на нее во все глаза, затем ощерился. — В самую точку, мэм. Именно о Хоптоне я и говорю. — Эх, был бы здесь Генри! — хлопнула в ладоши Кэт в сдержанном приливе энтузиазма. — Видите ли, мастер Мэтсон, этот Питер Хоптон, о котором вы говорите, приходится моему мужу двоюродным братом. Расскажите мне о нем. Здоров ли он? Женат ли? Взял ли он себе большой земельный надел, какие предлагают поселенцам? — Ну, женат он или нет, за это я не ручаюсь, но твердо знаю одно: ни он, ни кто другой на этой проклятой земле не стал еще помещиком, когда мы оттуда отплывали. Он жадно принюхался и задвигал волосатыми челюстями, заставив детишек так и взвизгнуть от смеха. — Ради глотки Господней, Пол, неужели эта несчастная курица все еще не готова? Я мог бы сейчас слопать целую лошадь, а потом уже гоняться за ее возницей. После ужина наступил самый волнующий момент этого памятного вечера, когда из небольшой матросской сумки, которую Хэл до этого хранил в своем сундучке в Лондоне, он извлек маленький кожаный мешочек, наполненный чем-то вроде мелко нарубленных коричневатых листьев, и странный белый предмет, вылепленный из глины. Набив коричневое вещество в шаровидный конец с одной стороны этой таинственной штуки, моряк пальцами с загрубелой кожей выхватил уголек из камина, подержал его над глиняным инструментом, пососав другой его узкий конец, затем глубоко затянулся и выпустил из ноздрей большущее облако серовато-белого дыма. Дети встревоженно завизжали. — Боже милостивый! — вскрикнула малютка Хелен. — Дядя Хэл загорелся! И прежде чем Кэт или ее мать смогли вмешаться, она выплеснула кувшин воды прямо в обветренное лицо своего дяди. Взревев, словно бык, он вскочил и влепил бы своей племяннице по голой попке, если бы сумел ее поймать, но та вылетела в открытую дверь со стремительностью кролика, преследуемого хорьками, и осмелилась вернуться только тогда, когда ярость дяди утихла и трубка его снова была зажжена. После заката солнца, когда брат Полли ушел, свернув на дорогу, ведущую в Лондон, Кэт приласкала свою малютку. Чуть скрученная ступня ее крошки показалась ей попрямее. Да, так ей подумалось в полумраке. — Теперь-то дела у тебя пойдут получше, по крайней мере до возвращения твоего мужа, — пообещала пышногрудая Полли Фостер. — Завтра, хоть это и будет воскресенье, я рискну съездить в Лондон. Там, в Блэкфрайэрс, есть один еврей — Джон о нем отзывался как о честном человеке. Я уверена, он не будет ждать, пока пройдет Святой день*["341], чтобы купить эти жемчужины, хотя это и риск. — О Полли, нет. Это принадлежит тебе и твоим детям. Из этих денег я не возьму ни фартинга. Вдова наградила свою подругу весьма раздраженным взглядом. — О, тело Господне, да кто ты такая, чтобы так хорохориться? Ты нищее бледное полупривидение. Нет уж, я не позволю ни тебе, ни твоему ребенку голодать, пока мы тут будем пиршествовать. — Своей тяжелой рукой она ласково обняла Кэт за хрупкое худенькое плечо. — Ну согласись, что твой Генри расплатится со мной, когда вернется домой, а уж вернется он, не иначе как сгибаясь под тяжестью богатств. Поэтому, — она весело подмигнула, — риск мой вполне оправдан. Ну а теперь как там твоя малютка? По-моему, за эту неделю она пополнела. Боже, пошли молока моим грудям еще на полгодика. Оно не должно иссякнуть, оно у меня может течь даже целых два года. Не переставая говорить, Полли развязала на себе корсет, принесла с кровати собственного ребенка и приложила сначала его, а потом и другого к большим в коричневых пятнышках соскам. Она уютно устроилась в единственном в доме кресле, заслуживающем такого названия. — Расскажи-ка мне теперь, как ты поживала в Декстер-холле эту последнюю неделю. Почтенный мастер Френсис все так же приставал к тебе, как и раньше? Кэт сердито бросила в огонь хворостину. — Конечно. Этот негодяй дважды залезал мне рукой под нижние юбки, прежде чем я успевала дать ему отпор. — Освещенное пламенем камина бледное лицо девушки потемнело. — Для семнадцатилетнего петушка он научился слишком многому — и чересчур охотно — от своего драгоценного батюшки и его второй женушки, леди Гвиневры. Эти двое — самые бесстыдные твари, что ходят по Божьей земле, — с горечью продолжала она. — Даже при дворе их поведение считается совершенно бессовестным. — Тогда почему бы тебе не бросить работу у милейшего лорда Декстера? — Если бы я могла! Но, Полли, дорогая, где мне еще заработать целых два шиллинга в неделю и пять дней на неделе иметь кров и пропитание? Где еще могла бы я находиться так близко от своей малышки, чтобы наведываться к ней пешком? Как и ожидалось, Полли не могла предложить ничего другого, так как, кроме Декстер-холла, в ближайшей округе не было ни одного поместья. С печальной улыбкой Кэт задрала верхнюю и три нижних юбки, обнажив изящное бедро, совершенство которого портили три лилово-бердовых пятна. — Этими щипками, — возмущенно пояснила она, — меня наградил сам хозяин, лорд Декстер, когда не видела его жена, хотя, по правде говоря, я не сомневаюсь, что он ущипнул бы меня даже в ее присутствии. Затем девушка засучила рукав ветхого серого платья и показала четыре коричневато-синих пятна от пальцев, запечатлевшихся на нежной коже. — А вот что случилось, когда мастер Френсис подстерег меня позавчера на лестнице в галерею сильно нуждающихся дворян. — Лучше тебе уйти от них, а то, не ровен час, случится что-нибудь и похуже, — посоветовала Полли, передавая крошечную, похожую на куколку Генриетту так, чтобы Кэт могла бы дать ей срыгнуть. Ту же процедуру проделала она и с собственным крепышом. Кэт погладила удивительно мягкую шейку малютки. — Видит Бог, я готова уйти тотчас же, как только что-нибудь подвернется.Глава 3 ДЕКСТЕР-ХОЛЛ
С кедров, двойным рядом ведущих к главному входу усадьбы Декстеров, сыпались дождевые капли. Эти кедры еще не успели вырасти достаточно высокими, ведь строительство нового дома лорда Энтони Декстеpa завершилось всего лишь два года назад. Строительство это стало возможным благодаря выгодным капиталовложениям в торговую компанию, проникшую за холодные воды Белого моря, чтобы покупать у русских варваров шкуры зверей — чрезвычайно прибыльное предприятие. Кэт Уайэтт чувствовала себя необъяснимо подавленной, когда проходила под главным входом с выведенной на нем цветастыми буквами надписью: «В эти Широко Распахнутые Ворота Никто не Входит Слишком Рано и Никто не Остается Здесь Слишком Поздно». Оказавшись внутри, она повернула к самому короткому крылу дома, выдававшемуся наподобие средней ветви буквы «Е». Такая планировка строящихся зданий пользовалась теперь самой большой популярностью, так как воспроизводила начальную букву имени королевы. Здесь домоправитель лорда Декстера и его управляющий имением имели свои конторы и вели дела. Только благодаря своей исключительной настойчивости Кэт завоевала право входить в Декстер-холл через главный вход. Другим же лицам со сравнительно высоким социальным статусом честь эта милостиво даровалась; к этим счастливчикам относились мистер Скипуорт — наставник младших детей, преподобный мистер Паркер — священник сего благородного семейства, а также различные обедневшие родственники, которых теперь насчитывалась целая дюжина. Это были все бедные робкие люди, страдавшие от постоянного напоминания, что живут они в сравнительном достатке только благодаря щедротам дородного, с ястребиным носом лорда Декстера и его пустоголовой и похотливой, но очень красивой молодой жены. Более мелкую сошку помпезный управляющий обязывал входить в дом через служебную дверь — вместе с садовниками, изготовителями свечей, рабочими, стригущими овец, лесничими и тому подобным людом. Состояние подавленности Кэт усугублялось еще и тем, что из-за скверной погоды юному отпрыску лорда Декстера придется сидеть дома, и это самым неблагоприятным образом скажется на его поведении. Еще хуже было то, что лорд Декстер и его фатоватый сынок от первого брака с неистовой смуглолицей леди норманнского происхождения не могли пойти на охоту. Кэт, разумеется, давно уже промокла насквозь, и подол ее лучшего платья был забрызган глиной и грязью. Не способствовало покою ее души и то обстоятельство, что, спеша вверх по лестнице, она услышала громкие, сердито о чем-то спорящие голоса. Видимо домоправитель Вултон и управляющий имением Грин заводили одну из своих бесконечных ссор. Она шла торопливой походкой по большой галерее, волоча свои ноги по толстому настилу из свежесрезанного камыша, который, слава Богу, больше не издавал зловония гниющих отбросов, привлекавших внимание многочисленных собак и кошек, свободно разгуливающих по дому. В этот момент большой холл с его длинными рядами голых деревянных столов и простых некрашеных лавок казался особенно угнетающим. Здесь принимала пищу вся домашняя челядь, за исключением близких членов семьи лорда Декстера. Каждый из домочадцев сидел, в соответствии со своим положением, «выше или ниже соли» — то есть на верхнем или нижнем конце стола. Почти никогда, за исключением праздничных дней, лорд Декстер с супругой не садились на стулья с красивой резьбой, расставленные вокруг стола, установленного на возвышении перед эркером в западном конце холла. Из-за облачности на небе почти невозможно было оценить окна из цветного стекла, ввезенные из Венеции за очень большую цену. Торопясь к лестнице, ведущей на господскую половину, Кэт машинально поискала глазами впечатляющий герб Декстера — три черных бычьих головы на серебристом поле, разделенном красной полосой. Она часто задавалась вопросом, не придуман ли их семейный девиз — Fortis Amor Est — Сила есть Любовь — каким-нибудь духовным лицом. Сардоническая усмешка скривила все еще синие от холода губы Кэт. Как удачно этот девиз характеризовал ту линию баронов, что тянулась от сэра Джеффри дю Дройта, одного из любимых палачей Бастарда.*["342] Fortis Amor Est. Кэт все еще повторяла девиз, когда наконец дошла до своей комнатушки, лишенной камина, но обставленной довольно удобной кроватью на колесиках и видавшим виды сундучком, где она хранила свою одежду, имевшуюся у нее в плачевно малом количестве. Кэт как следует растерла тряпкой свои онемевшие и ноющие ноги и переоделась в единственное, что у нее было помимо мокрой одежды, платье — жалкие обноски, которые менее года назад дочь франклина Ибботта отвергла бы с гордым презрением. Снова заплетя свои косы и убрав их под скромную белую шапочку, она собралась с мужеством и поспешила в детскую, где юная мисс Элоиза и мастер Гильберт Декстеры ждали ее прибытия без всякого заметного энтузиазма. Но все же приятно было иметь возможность согреть перед потрескивающим огнем камина окоченевшие руки и почувствовать, как уходит из тела этот пронизывающий холод. Наихудшие опасения Кэт Уайэтт оказались оправданными: ни леди Декстер, ни ее мужа дома не было, — они отбыли к королевскому двору, где лорд Декстер хотел заручиться поддержкой еще одного торгового плавания в Белое море. Дети в возрасте двенадцати и четырнадцати лет, разодетые в точные миниатюрные копии пышных нарядов их родителей, играли в чашу и шарик с Френсисом, их старшим единокровным братом. — Чума на такое везенье! — недовольным высоким голосом прокричал юный мастер Гильберт, завидев вошедшую в детскую Кэт. — Мы надеялись, что ты свалилась в болото и захлебнулась. Кэт попыталась вызвать на лице улыбку. — Вот не свалилась и не утонула, но в этом строители королевских дорог не виноваты. Мастер Френсис поднялся, как обычно таинственно красивый и апатичный. — Исправляй свои манеры, ты, бесенок. Вы тоже, юная леди. — Он хмуро посмотрел на свою единокровную сестру. — Уже сколько времени мы досаждаем миссис Уайэтт. Это так поразило Кэт, как если бы вдруг заговорил один из тех чопорных портретов на стене. Но особенно удивилась она, когда Френсис, изобразив на лице совершенно чарующую улыбку, вышел вперед, протянув унизанную драгоценными камнями руку. — Миссис Кэт, — зашепелявил он, — вчера мой сударь отец прочел мне нравоучение по поводу изысканных манер в обращении с благородными дамами. Клянусь, я раскаиваюсь в том, что досаждал вам на прошлой неделе, и надеюсь, что вы найдете для меня в своем сердце прощение. Открывая шкаф, где хранились виола и лютня, Кэт пустила в ход самые обезоруживающие манеры. — Прощение? О чем вы? Тут нечего и прощать. — Когда вы закончите с этими куклами, — Френсис улыбнулся, — я хочу показать вам итальянскую цитру. Это красивая вещь, она только что прибыла из Неаполя. — Цитра! — оживилась Кэт. — Я много раз слышала о таких инструментах. Это правда, что на ней можно брать ноты в полтона и три полные октавы? — Да. Это прекраснейший инструмент — из черного дерева и инкрустированный слоновой костью. Между прочим, вы могли бы объяснить мне азы, как им пользоваться? Элоиза проводит вас в мой кабинет. Кэт была совершенно ошарашена таким неожиданным интересом к музыке, в которой почтенный Френсис разбирался меньше, чем невзрачная птичка рябинник, хотя от юного джентльмена и светского человека прежде всего требовалось умение играть хотя бы на одноминструменте. Приятное тепло музыкальной комнаты вдобавок к доброму глотку эля, присланного ей надежным другом Катбертом, виночерпием в этом доме, во многом развеяли ее мрачное настроение, и Кэт уже являла собой воплощенное терпение, когда водила неряшливые пальцы мастера Гильберта по струнам его лютни и обучала пению юную мисс Элоизу. Двухчасовое занятие промчалось с поразительной быстротой, и вот наступил момент, когда мастер Гильберт мог забросить свою лютню в угол и, визжа как поросенок, застрявший под воротами, умчаться по коридору, чтобы вместе с другими ребятами поместья принять участие в шумной игре в «Сарацинов и Крестоносцев». С уходом брата Элоиза нежно улыбнулась и сделала глазки, копируя выражение лица своей матери при королевском дворе. Она объявила, что ей приятно будет показать учительнице музыки итальянскую цитру и, покачивая расшитыми парчой юбками и миниатюрными фижмами, хоть они и весили около десяти фунтов, побежала по невероятно длинной галерее, упирающейся в большой зал. Наконец она проникла на семейную половину лорда Декстера и подошла к покрытой красивой резьбой дубовой двери. Кэт, сопровождавшая Элоизу, стояла в нерешительности и стала говорить ей, что, мол, не следует ей туда входить, но Элоиза, недослушав, громко постучала по панелям, которые живо отворились внутрь. Кэт огляделась и успокоилась: это действительно был рабочий кабинет с десятками книг вдоль стены и с глобусами земли и неба по обеим сторонам от ярко пылающего камина. Да, комната казалась живой и веселой: в высоких позолоченных подсвечниках горели дорогостоящие белые свечи, а над каминной полкой яркими красками бросалась в глаза хоругвь с семейным гербом. И верно, на письменном столе лежала цитра, и корпус ее из черного дерева оказался роскошно выложен узорами из слоновой кости, жемчуга и серебра. Имея трапециевидную форму, этот удивительный инструмент был оснащен множеством металлических струн и маленькими молоточками, подбитыми на концах каракулем, чтобы извлекать из них нужные звуки. — О, какая красота, какая дивная красота! — вскричала она. Мастер Френсис подал ей молоточки со словами: — Держите, миссис Уайэтт, и попытайтесь этими штучками сыграть что-нибудь. Инструмент издал такие чистые мелодичные звуки, каких прежде Кэт никогда не слышала. Она моментально подобрала простенькую мелодию. Тем временем почтенный Френсис в благородном камзоле винно-красного цвета с ярко-желтыми полосами достал два дивных кубка венецианской работы — два изящнейших творения из стекла с ножками в виде разноцветных драконов. Взяв кувшин, тоже из венецианского стекла, наследник Декстер-холла наполнил оба кубка желтоватым с красно-бурым оттенком вином. — Выпейте немножко, — предложил он. — Вы, наверное, замучились держать себя в руках с этими юными бесенятами. Ей-богу, у вас просто потрясающее терпение. — Но я уже выпила эля. — Попробуйте это вино, — мягко настаивал он. — Оно очень слабое, привезено сюда из Испании, из Малаги. — Он непринужденно рассмеялся. — Может, эти паписты-испанцы и впрямь идолопоклонники, но вина они делают превосходные. Кэт поколебалась в нерешительности и, решив не отвергать в обидной форме это предложение дружбы, приняла у него кубок с вином. Мастер Френсис указал ей на большое кресло возле камина и, потягивая вино, пустился в пространный рассказ о придворной жизни, о войнах, которые ведутся сейчас в Нидерландах. — Вскоре хочу присоединиться к графу Лестеру, — заявил он, потрогав пальцами начинающие прорастать усики, — Но придется еще подождать, пока мой отец не соберет полувзвод кавалерии. Кэт вздохнула про себя с облегчением. Значит, почтенный Френсис вскоре уедет воевать? Может, тогда-то она избавится наконец от его назойливых взглядов, одним из которых в данный момент он созерцал ее груди, такие ужасно немодные в своей полноте и округлости, так как покупка корсета была ей не по карману. — Желаю вам успехов в военных делах. — Правда? Меня это радует, потому что, милая Кэт, вы мне кажетесь чертовски привлекательной и желанной, — говорил он, растягивая речь и сжимая пальцами подлокотники кресла, — Если вы целуетесь хотя бы наполовину так же хорошо, как играете на виоле, вы будете образцовой любовницей. Кэт вскочила на ноги, но недостаточно быстро. Он уже обнял ее и жадно прижался к ее лицу своим, с еле пробивающимся мягким пушком. Несмотря на ее отчаянные усилия, он все же ухитрился, одурманив ее крепким ароматом духов, залепить ей рот слюнявым поцелуем. Тут она вырвалась, размахнулась и влепила ему звонкую пощечину. Движение это было настолько бурным, что краем юбки она задела один из венецианских бокалов, и он, упав на пол, разбился. — Дайте мне уйти! — тяжело дыша, выкрикнула она и бросилась к двери. К ее удивлению, почтенный Френсис и не пытался ей помешать, только произнес с растяжкой: — Клянусь Богом, этого я не сделаю! Стоя над разлитым по полу вином, наследник лорда Декстера мрачно глядел на нее темными глазами на волевом, густо залитом краской гнева лице. — Только коснитесь меня еще раз — и я всполошу весь дом! — Лучше вам этого не делать, — предупредил он. — Только пикните — и сразу же окажетесь в долговой тюрьме. Она сдавленно засмеялась. — Ба! Что за дешевая угроза! Сверкая темно-синими глазами, он двинулся на нее. Кэт глубоко вдохнула, после чего он остановился, давая ей время немного собраться с силами. — Так вы считаете меня лжецом? — Да, в дополнение к другим вашим отвратительным качествам, — гневно бросила она ему, а сама бочком-бочком стала продвигаться к двери. Под взглядом ее проницательных глаз почтенный Френсис умерил свой пыл и спросил: — А вы помните некоего Николаса Спенсера, поставщика снаряжения для кораблей? — Разумеется. Мой муж снаряжал свое судно, пользуясь его складами. Что из того? — А вы помните, что заключали долговые обязательства на некоторые предметы снабжения? — Да, но… но… мастер Спенсер никогда не посадит меня в тюрьму за долговое обязательство, заключенное моим мужем, который к тому же является его другом. Высокий молодой человек непринужденно рассмеялся, трогая щеку, на которой остался алый отпечаток ее руки. — Может, старина Спенсер и не настаивал бы на возвращении долга. — Тогда о чем идет речь? — О пятнадцати фунтах. — Мастер Спенсер твердо обещал подождать с возвращением долга до возвращения моего мужа. Почтенный Френсис Декстер наклонился, поднял самый большой осколок разбитого кубка и, сердито разглядывая его, сказал: — Да, но это было до того, как испанцы захватили два его судна и тем самым толкнули его на грань долговой тюрьмы. Старина Спенсер с радостью продал мне подписанное вами долговое обязательство, особенно когда узнал о моей… моей глубокой к вам привязанности, милая моя Кэт. — И теперь… теперь вы настаиваете, чтобы я расплатилась? — Нет, не будьте такой прямолинейной. Скажем так: придите ко мне в объятия — и я забуду обо всем этом деле. Долговая тюрьма! Кэт захлестнули волны отчаяния. В Англии вряд ли нашлась бы тюрьма, в которой бы не томились эти бедняги, покинутые без гроша в кармане на произвол судьбы. Те из них, что не имели семьи и друзей, либо умирали от голода, либо злая тюремная лихорадка укорачивала их страдания. Сколько раз, делая свои покупки в Хантингдоне, она, милосердия ради, останавливалась возле тюрьмы, чтобы передать черствый хлеб и другие остатки пищи ее узникам, этим грязным и исхудавшим, заросшим длинными волосами созданиям, которые старались привлечь внимание, гремя своими цепями и предлагая купить свои трогательные ручные изделия. Узницы, особенно юные и миловидные, предлагали себя в обмен за еду и благорасположение грубым и неотесанным тюремщикам, не слишком-то привередливым в выборе своих постельных партнеров. — Вы не осмелитесь принуждать меня, — неуверенно заговорила она. — Муж вернется и убьет вас. — Сомневаюсь, — протянул он. — Уж скорей всего это я порешу его. Я же отлично владею шпагой. — Неужели нет у вас… нет у вас ни капли жалости? Его, должно быть, безмерно радовало, как слабеет ее сопротивление, слабеет оттого, что она опасалась за Генриетту. Она задрожала и обратила молящий взгляд на почтенного Френсиса Декстера, наполняющего вином уцелевший кубок. — Не такой уж я плохой человек, — заявил он. — Поэтому я позволю вам расплатиться с долгом на условиях легких и приятных для вас. — И… и на каких же? — У нее появилось такое ощущение, будто жаркие волны хлещут ей в груди и бедра. — До тех пор, пока я не отбуду на войну, ты будешь подчиняться моим желаниям, какими бы они ни были. У Кэт перехватило дыхание, лицо вспыхнуло до самых корней ее светлых волос, уложенных косами вокруг головы. — Вы не будете настаивать на такой недостойной сделке! — Не буду? Брось, моя милая Кэт, и будь же благоразумной. Неужели в вонючей тюрьме уютней, чем в моем кабинете? Казалось, сила вдруг покинула ее ноги. Она скорее рухнула, нежели села в неудобное дубовое кресло, модное в те времена, когда правил отец монаршествующей теперь королевы. Боже милостивый! Как мог такой юный и красивый мальчик вдруг оказаться таким порочным? В этом не было никаких сомнений. С крохой Генриеттой на руках — она, чисто лисица, оказалась в капкане и к помощи своего отца теперь, увы, взывать не имела права. — Ну как, согласна… согласна на эту сделку? Тупо, без всякого выражения в голосе, она спросила: — Какие у меня гарантии, что если… если я уступлю, вы откажетесь от требования исполнения долгового обязательства? — Слово джентльмена, — отвечал он со всем высокомерием, присущим самому лорду Декстеру, и пошел запереть дверь на засов. — А теперь, моя кошечка, позволь мне увидеть те славные прелести, что скрываются за этим невзрачным платьем. — Я принимаю ваши домогательства только потому, что у меня, видимо, нет никакого выбора, — проговорила она и дрожащими пальцами стала расшнуровывать свой корсет. — Но я вас снова предупреждаю, что мой муж убьет вас, когда вернется, — и это так же верно, как то, что солнце встает на востоке.Глава 4 ОСТРОВ РОАНОК
День 20 апреля 1586 года оказался таким превосходным, каким можно было бы только пожелать его себе в том уголке Виргинии, что известен теперь как Северная Каролина. В сверкающих водах узкого пролива Роанок Саунд было больше голубизны и значительно меньше мути, чем прежде. На острове Роанок, как и на континенте, березы, буки и клены стояли, обряженные в мягкую юную зелень блестящей весенней листвы. Однако поселение губернатора Ральфа Лейна мало выигрывало от этого солнечного великолепия. Солнце только еще резче обнажало убогость различных лачуг и хижин, приютивших под своими крышами маленькую колонию сэра Уолтера Ралея. Оно безжалостно выдавало то, как ненадежно стоят частоколы, поставленные, чтобы служить защитой этим жалким хибаркам, в которых почти на протяжении года подопечные губернатора Лейна старались выжить в сражениях, голоде и суровых трудах. Когда жиденько с дребезжащим тембром в колонии, зазвонил колокол, лежащие на крупном белом песке больные даже не потрудились повернуть свои головы. Не только совсем уж нелюбопытными стали эти бедняги: они чересчур ослабели, чтобы позволить себе такое усилие. Однако группа колонистов, занятая на берегу ремонтом пинассы, бросила любопытные взгляды через плечо. Так же поступили и несколько плохо одетых солдат, занятых забиванием в ил длинных стволов молодых березок: они строили не очень удачные имитации запруд, в которые индейцы ловили пузанку, морскую форель и другую лакомую рыбу. Рабочие бригады отложили свои инструменты и устало, неохотно стали возвращаться к частоколу, а из различных хижин начали появляться взлохмаченные, косматые, сильно заросшие бородами личности, многие из которых были облачены в обноски прежде когда-то богатых костюмов. Большинство из этих похожих на огородные пугала индивидов были одеты в плащи и штаны по колено из оленьих шкур, а также в странные куртки — смесь парусины и кожи. Сильно отощав от голода, колонисты двигались медленно. Питер Хоптон, благодаря доброте, проявленной им к Чабаку, молодому индейцу, захваченному им предыдущей зимой, а также благодаря умению индейцев-моноканов пользоваться ловушкой и рыболовным копьем, не выглядел таким доходягой, как его товарищи по колонии. «Но почему, о Господи, почему Лейн и Гренвилль выбрали именно это место? — ворчал про себя Питер. — В этой песчанистой почве ничего не растет и ходить-то по ней — сущая мука». Давно уже отложил он в сторону свой стальной шлем и кирасу, но неизменно носил при себе кинжал и тот длинный мощный лук, который сильно предпочитал аркебузе, выданной в июле прошлого года, когда Ричард Гренвилль высадил на берег шумливых и неистовых, но вдруг охваченных замешательством колонистов сэра Уолтера Ралея. Последнее время Питер стал понимать, что здесь, на острове Роанок, основана ни к черту не годная колония, хотя есть тут ученые, металлурги, кузнецы и искусные столяры. Единственные здесь фермеры попали сюда случайно — это были скромные парни, возившиеся когда-то в земле, прежде чем судьба или злая напасть превратила их в воинов. Нет, сэр Уолтер Ралей, должно быть, и впрямь неверно истолковал основную мысль трактата проповедника Ричарда Хаклуита «Рассуждения о заселении Запада». Выросший на ферме, Питер живо понял, отчего их колония потерпела неудачу, почему за частоколами среди дюн было столько могил. То, что прибывшие семь кораблей сэра Ричарда Гренвилля высадили на побережье, только по названию являлось колонией, а фактически это была военная экспедиция, сопровождаемая несколькими заблуждавшимися учеными и ремесленниками. Риф, на который вот-вот должно было напороться отважное предприятие сэра Уолтера, представлялся простым, как сама жизнь. Теперь-то Питеру стала ясна та искренняя ошибка, которую в 1584 году допустили капитаны Филипп Амадас и Артур Барлоу во время краткого посещения острова Уоккокан. Им случилось высадиться там летом, когда туземцы только что убрали урожай. Как всегда проницательные, верованы — или «вожди среди людей» — решили так: пищи у нас вдосталь и даже с избытком, поэтому нужно щедро одарить ею незнакомых пришельцев, ведь говорят же шаманы, что эти бледнолицые — вернувшиеся духи давно погибших воинов. Прошлая зима показала, что после осеннего сезона безудержного обжорства обитатели этой местности зимними месяцами просто-напросто голодали, скромно питаясь моллюсками, рыбой и дичью, которую удавалось добыть им грубыми копьями с наконечником из иглы хвоста ската и тростниковыми стрелами с каменными наконечниками. Вскоре стало ясно, что индейцы-секота не могли, даже если бы и хотели, поделиться своими скудными запасами пищи с этими дерзкими чужаками, явно намеревавшимися остаться здесь навсегда, чьи смертоносные «огненные палки» загоняли дичь далеко в глубь острова. В самом же начале туземцев ошарашили и возмутили суровые меры сэра Ричарда Гренвилля: он сжег их главную деревню на Роаноке, чтобы добиться возвращения небольшой серебряной чаши. Мера эта оказалась грубейшей ошибкой. Секоты — племя, населяющее остров Роанок, — от робкой дружбы перешли к такой откровенной враждебности, что заключили мир с моноканами, своими традиционными врагами, живущими на материке. Приближаясь к «Дому Совета», крупнейшей постройке на острове, Питер кивнул головой сочленам Совета, многие из которых тяжело опирались на посохи или двигались, волоча ноги. Грубая каркасная конструкция здания, известного как «Дом Совета», маячила уже в нескольких ярдах. Сходившиеся к нему люди все больше напоминали Питеру Хоптону исхудалых призраков. Питер близко знал почти всех. Те из них, кто был из хорошей семьи, — в основном младшие сыновья обедневших дворянских семей, — неизменно выглядели так, будто им жилось легче, чем их сотоварищам более скромного происхождения — возможно, благодаря интеллектуальному превосходству. Вот подошел Питер Ладлоу, все еще прихрамывающий от полученной раны и наконечника стрелы, который не удавалось извлечь из его бедра. Ему было всего лишь двадцать три года, но выглядел он после этой ужасной зимы вдвое старше. Подтягивался и Хьюберт Вульф, тощий как жердь, с кожей, ставшей похожей на желтый лимон. Он ковылял с явным пренебрежением к лихорадке, чуть ли не унесшей его на тот свет. Солдаты в целом казались на вид здоровее, чем невезучие ремесленники и ученые, оказавшиеся неспособными даже определить, какие фрукты и корешки съедобны, а какие нет. Дом Совета стоял на небольшом пригорке, с которого открывался вид на узкий пролив: над ним в этот самый момент кружило множество чаек, крачек и прочих морских птиц. На полпути к морю виднелись две черные точки, свидетельствуя о том, что кое-кто из гарнизона ушел ловить рыбу. В количестве пятнадцати человек члены губернаторского Совета гуськом вошли в дом, в котором жил и пытался управлять этой находящейся в отчаянном положении колонией губернатор Ральф Лейн. За полным отсутствием табуретов, не говоря уже о стульях, советники опустились на корточки, подражая туземцам этого материка. Некоторые из них кашляли и сплевывали на бревенчатый пол в ожидании губернатора. Со своего места около двери Питер Хоптон легко мог следить за происходящим. Недавно капитан Филипп Амадас назначил его полевым капралом, а сам же он носил звучный титул «Адмирал Американского побережья». Под его командованием не плавало ни одно судно, за исключением двух маленьких дряхлых пинасс. В колонии не так давно образовались две партии: одна состояла из джентльменов, поддерживавших политический курс губернатора Лейна; другая — из сторонников пылкого сэра Томаса Кавендиша, лидера оппозиции. В молчании две группы расположились по разные стороны палаты Совета и, устроившись на корточках, угрюмо поглядывали друг на друга. Только сэр Томас Кавендиш и эсквайр Хэмфри Болтон хоть сколько-нибудь позаботились о своем одеянии. Остальные члены Совета носили засаленные, с пятнами от еды рубахи и сильно потрепанные камзолы, которые никто даже и не пытался чинить. Почти вся обувь на ногах присутствующих безнадежно просила каши. Наконец заговорил сэр Томас Кавендиш. — Что произошло с нашим благородным, — прорычал он, вложив весь свой сарказм в этот титул, — губернатором? Будь я проклят, если снова стану полагаться на благоволение его превосходительства. Люди заворчали, зашевелились. И тут вошел губернатор. Его тонкий красный нос, как всегда, страдал от насморка, глаза слезились от навязчивого озноба, от которого он, похоже, никак не мог избавиться. Губернатор резко кивнул головой собравшимся и тут же перешел к делу. — Капитан Амадас, вы отвечаете за наши интендантские запасы. В каком они состоянии? — Да ни в каком, — ворвался хриплый голос Джона Уайта, — ни единой бочки муки. Губернатор резко постучал камнем-голышом по деревянному столу, стоявшему перед ним. — Я требую, джентльмены, чтобы вы испрашивали разрешения говорить, а иначе соблюдайте тишину. Мы должны работать в соответствии с регламентом… — Э, бросьте, ради Бога! — выкрикнул Филипп Эскью, грубый армейский офицер. — Что вы там трясете нам своей дурацкой раздвоенной бороденкой и болтаете о регламенте. Если бы прошлой зимой вы проявили ум полярной гагары и храбрость вши, мы бы теперь не оказались в таком бедственном положении. — А ну постойте! — проревел капитан Амадас, гигантского роста детина. — Я не больше радуюсь нашему жалкому положению, чем все остальные, но я требую уважительного отношения к губернатору Лейну. Следующий, кто вмешается, ответит передо мной. Нервно моргая, губернатор Лейн оглядел исхудалые, потрепанные лихорадкой лица, безжалостно освещенные ярким весенним солнцем. — Итак, я спросил вас, капитан Амадас, сколько времени то, что осталось у нас на складе, продержит нас на ногах? — Учитывая тот темп, с каким мрут наши люди, — с горечью заявил Амадас, — у нас достаточно полурационов, чтобы продержаться недели две — но лишь при условии, что в наши запруды заплывет несколько осетров. — Которые поставили не в тех местах, — включился Эндрю Госнолд. — Вы прислушались к… — Порядок! — потребовал Амадас. — Уверен, сэр Ричард Гренвилль должен скоро вернуться с кучей разных припасов, — продолжал губернатор. — Он дал мне честное благородное слово. — Он уже два месяца как запаздывает, — проворчал Томас Хэриот, историк и землемер экспедиции. Он выглядел таким хрупким, что, казалось, легкий порыв ветра мог бы покатить его по берегу, словно спутанный комок сухих водорослей. — Его честное благородное слово не стоит моей задницы, — вмешался Кавендиш и вскочил на ноги. — Гренвилль всегда был тираном, у него на уме только власть и собственная выгода. Я говорил вам раньше, Ральф Лейн, и говорю теперь, что он и сэр Уолтер хотят, чтобы мы здесь сгнили! В данный момент ваш драгоценный Гренвилль, скорее всего, грабит Карибские острова вместе со своим дружком сэром Френсисом Дрейком. — Да пропади они пропадом, эти Ралеи, Гренвилли и все остальные высокие шишки из Лондона! — густо прорычал еще один голос. Руки Питера сжались на рукоятке пики. Говорил Шон О'Даунс, свирепый смуглолицый ирландец, беглый главарь одного из тех пиратских кланов, какими кишело устье Шаннона в Ирландии. — С меня довольно этого голодания только из-за того, что наш губернатор нянчится с этими похожими на диких зверей туземцами, как старая баба. Лицо за лицом, люди поворачивались в сторону О'Даунса, в то время как губернатор Лейн понапрасну стучал камнем по столешнице, а капитан Амадас гремел, призывая к порядку. — Пусть говорит! Дайте Шону высказаться! — требовал хор голосов. Злобно выдвинув вперед подбородок, с горящими серыми глазами, ирландец вскочил на ноги. — Послушайте, покончим с этой пугливостью. Не хотят туземцы с нами торговать, так возьмем что нам нужно У меня есть верные сведения, что в Намонтаке, главном селении вождя Чапунки, навалом копченой рыбы, оленины и кукурузы. — Это не так, — вмешался член правительственной партии. — В это время года у туземцев еле хватает еды, чтобы самим прокормиться. Они всегда живут впроголодь, от новогодней луны и до следующего урожая. Вы, Шон, должны были бы осознавать эту истину, если б у вас хватало ума видеть дальше, чем стреляет ваша аркебуза. Спор, разгоревшийся с еще большей ожесточенностью, привлек внимание равнодушных ремесленников, которым нечего было делать, и солдат, слишком ослабших, чтобы принимать участие в непрестанных и в общем-то бесполезных поисках пищи. — Продолжай, О'Даунс, — поддержал Кавендиш. — Может, вы, Ральф Лейн, станете отрицать, что туземцы Намонтака носят множество украшений из меди настолько богатой золотом, что почти не нужна очистка? — Верно, не спорю, — устало согласился губернатор. — Но, джентльмены, нужно смотреть вдаль. Мы слабы, и количество нас сильно поубавилось, в то время как туземцы многочисленны, горды и свирепы, как голодные мастиффы. — Он поднял худые, давно не мытые руки. — Неужели вам непонятно, джентльмены, что ни в коем случае мы не должны больше вызывать вражды ни секотов на этом острове, ни паспегов и монокан на материке. Пока не появится наше судно снабжения, мы, по сути, зависим от их милосердия. И снова Ральф Лейн напомнил присутствующим о тяжелых последствиях глупости сэра Ричарда Гренвилля, когда колонисты только что высадились на берег. Во время пиршества какой-то туземец стянул небольшую серебряную чашу. Потеря была совсем незначительной, однако, когда требование разгневанного Гренвилля возвратить украденное осталось без ответа, он надел латы и шлем, отправился с войском к ближайшей деревне секотов, разграбил ее и затем сжег дотла. Потом он приказал своим воинам вырубить несколько полей зеленой кукурузы, которой впоследствии только что родившаяся колония могла бы кормиться многими голодными месяцами. — Да, слышали мы эту сказку — и много раз. Но теперь дело другое. — Кавендиш поднялся на ноги, и тут же его примеру последовали О'Даунс, эсквайр Болтон и еще несколько человек. — Говорю вам: Ральф Лейн, Гренвилль и Ралей бросили нас на произвол судьбы. Поэтому как генерал сухопутной армии я намерен повести всех способных к воинской службе людей на Чапунку, вождя монокан, и, даст Бог, мы силой вырвем еду, жемчуг, а возможно, и золото у этого несговорчивого старого дикаря и у его разрисованного народца. Напрасно губернатор стучал камнем по столу, взывал к Филиппу Амадасу и Томасу Хэриоту, а затем еще к двум-трем советникам, верным его политике мира, терпения и умеренности. Партия Кавендиша составляла подавляющее большинство, и оставалось только выслушивать их предложения. — Мы задумали план, — заявил О'Даунс, воинственно глядя на тощего, одетого в черное платье губернатора. — Вы все, конечно, слыхали о знаменитом Оуке, или идоле, которого так широко почитают моноканы Намонтака. Для туземцев Оук является более священным, чем щепка от истинного Святого Креста Спасителя, его плащаница и чаша Святого Грааля вместе взятые — для нас. — Высокий ирландец с высокомерным видом вышел вперед; жалкие обноски одежды свободно висели на его исхудалом теле, — Что до меня, я за внезапный штурм Намонтака, после чего мы захватим этого Оука и потребуем за него выкуп всем золотом и зерном, которые нам нужны. На вытянутом чувствительном лице Ральфа Лейна проступил откровенный ужас. — Нет! Запрещаю вам даже думать о подобной глупости! Такой поступок приведет к немедленной гибели этой колонии. Этот Оук, о котором вы говорите, является священным не только для монокан, но и для индейцев паманки, секотов, паспегов, кекутан и многих других племен. За осквернение их священного места они набросятся на нас как бешеные волки. — Губернатор в отчаянии огляделся вокруг. — Кроме того, могу вам поклясться, что, по донесениям моих разведчиков, амбары Намонтака почти так же пусты, как и наши. Питер наблюдал затаив дыхание за происходящим и почувствовал, что вот-вот наступит поворотный момент в судьбе первой американской колонии, колонии сэра Уолтера Ралея. Хоть и понятно ему было нежелание губернатора идти войной на Чапунку, он тем не менее жаждал еще раз наполнить желудок и иметь в своей сумке еще что-нибудь помимо четырех-пяти пресноводных жемчужин, уложенных на сохранение в гнездышко из пуха, нащипанного из грудки дикой утки. — Ба! — прогремел Кавендиш, агрессивно выставив большую коричневую бороду. — Вы верите всему, что может уберечь вас от драки. — Нет! Я губернатор этой колонии и говорю от имени королевы. Болтон потряс своей крупной продолговатой головой. — Бросьте! Вы годитесь в правители этой колонии не больше, чем деревенский школьный учитель. Пусть правит большинство — вот мое мнение. Ну, кто за то, чтобы сидеть, засунув в рот лапу, и голодать до тех пор, пока появится корабль — хотя, возможно, он не появится никогда? Руки подняли лишь губернатор, Хэриот, капитан Амадас и Эндрю Госнолд. — А теперь кто за то, чтобы заставить этих чертовых туземцев плясать под нашу дудку? Кто за то, чтобы вынудить их торговать? Кто за то, чтобы отомстить за убийство наших разведывательных партий? Крик, который прозвучал бы еще громче, если бы колонисты так не ослабли, эхом отразился от стен палаты Совета. Питер кричал так же громко, как и Шон О'Даунс — не то чтобы ему хоть сколько-нибудь нравился этот бойкий на язык темнолицый ирландец, нет. Просто он и О'Даунс, несомненно, оставались двумя самыми сильными из семидесяти трех колонистов, переживших эту зиму, и это обстоятельство бросало их в различные виды соперничества. В конце концов губернатор Лейн подчинился воле большинства. — Да поможет нам Бог, — с горечью прокричал он. — Я сделал все, что мог, и я не дам согласия на такое безумное предприятие, которое неминуемо окончится нашей смертью или нашими мучениями на пыточных столбах Чапунки. Но запрещать вам я не буду. Совет разразился коротким торжествующим криком, затем участники Совета для проведения дальнейшей консультации последовали за сэром Томасом Кавендишем в лачугу, где он обитал среди унылых серовато-белых песков острова Роанок.Глава 5 НАМОНТАК
Александр Портер, живший с Питером Хоптоном в одной хижине, усталый малорослый каменщик родом из Норвича, лихорадочным взором наблюдал за подготовкой юного блондина-великана к военной экспедиции сэра Томаса Кавендиша против селения Чапунки. В последнее время Портер чаще обыкновенного думал о родине, и за последний месяц силы его убывали с той же очевидностью, как вода в равноденственный отлив. — Отдыхай, дружище, — подбадривал его Питер, — а я вернусь и принесу тебе какой-нибудь настоящей жратвы — кукурузных лепешек и, может даже, молодой оленины или крольчатины, которые здорово восстановят твои силы. Кроме того, скоро и судно придет с провизией. Портер вздохнул и сердито повернулся на бок. — Но ведь уже два месяца, как наша провизия должна бы уже прибыть, а в море много опасностей — испанцы, ураганы. Ох, Питер, что бы я ни отдал, лишь бы посмотреть, как в Майский День, на празднике весны, девушки нашей деревни танцуют за венок, а парни стреляют из луков в лоскут. Больной все жаловался и жаловался, пока Питер проверял по отдельности каждую стрелу в водонепроницаемом колчане. Порой попадались такие, которые он отвергал. Нет, не для него неуклюжая аркебуза в этих серо-зеленых зарослях на материке. Пусть кому хочется, тот и потеет с кремневым ружьем и подставкой на узких извилистых охотничьих тропах, которые только и вели в Намонтак, находящийся в десяти милях от берега. — Прошу тебя, Питер, — говорил умирающий каменщик, — возьми себе мой лук, он короче твоего и потому удобнее в низком кустарнике. — Портер вздохнул глубоко и со свистом. — Это хороший лук, парень. С ним я однажды завоевал Серебряную стрелу на состязаниях в День Рождества у моего хозяина, лорда Говарда. — Да как же… как же… — Питер был искренне тронут. — Да мне бы и в голову не пришло… — Брось. Мне вот приходит в голову, что бедному Алексу Портеру больше он не понадобится. — И тут у него начались рвотные судороги, отнимавшие у бедняги остатки сил. Питер ласково похлопал его по плечу. — Ну что ж, Алекс, тогда я возьму его в дело, но только потому, что он поможет мне добыть хорошее пропитание и поставить тебя на ноги. Помяни мое слово, ты еще поживешь и построишь много отличных домов в этой стране, в этой богатой прекрасной стране, где в будущие времена вырастет великий народ. Больной харкнул кровью и слабо улыбнулся. — Ты помешался на этой теме, Питер. Теперь уходи и дай мне покой. Уверенный, что колония и окружающий ее частокол всегда под наблюдением, сэр Томас Кавендиш решил пойти на военную хитрость. Все больные и раненые, способные передвигаться, под громкий бой барабанов и пение труб были отправлены с эскортом на берег и посажены на пинассу побольше, которая подняла паруса и двинулась курсом на юг вдоль узкого пролива в направлении большой бухты, назвавшейся индейцами К'тчисипик, которая со временем станет известной как Чесапикский залив. Наблюдателям монокан такой поступок чужестранцев должен был показаться логичным. Им было известно, что белые люди гонялись за сокровищами, а у истоков Чесапикского залива, по слухам, имелись золотоносные прииски; к тому же там можно было найти жемчужины размером с редиску — так, во всяком случае, слышали сами индейцы. Несколько раз люди губернатора Лейна пытались исследовать эту сказочную водную территорию, но всегда что-нибудь мешало. Спрятавшись в домишках, тридцать пять человек англичан, самых крепких и сильных, наблюдали, как их пинасса постепенно тает вдали, и молились за то, чтобы их хилые сотоварищи смогли собраться с достаточными силами и с темнотой вернуться назад. Как только опустилась ночь, темная-претемная из-за низких облаков, наплывавших с мыса Хаттерас, маленький отряд построился на берегу, перед тем как сесть на свою протекающую пинассу размером поменьше. Кавендиш и Шон О'Даунс лично осмотрели все оружие и убедились, что у каждого человека есть горстка кукурузы и кусок плохо прокопченной осетрины, на которых ему предстояло держаться до захвата Намонтака или до чего-то еще, какая бы доля ему ни выпала на материке. Пара подкупленных индейцев-паспегов, соблазненных ослепительным блеском старинного фитильного ружья с колесцовым замком и кремневого пистолета, похоже, довольно охотно повели их сквозь мокрый от дождя лес звериной тропой в Намонтак. За ними трудно было поспевать — так легко эти туземцы наклонялись и огибали низко растущие дубовые ветви и призрачные ленты свисающего с них испанского бородатого мха. Отощавшие, ослабевшие от голода люди Кавендиша добрались до густого соснового леса, покрывающего холм за селением Намонтак, когда на верхушках самых высоких деревьев уже загорелся рассвет. Засвистели малиновки, забранились сойки и множество ярких маленьких певчих птиц с любопытством взирали блестящими черными глазками-бусинками на небольшую колонну бородатых, осунувшихся европейцев. Наконец генерал Кавендиш объявил привал. — Наши проводники, — сообщил он своим солдатам, — говорят мне, что за стены палисада Чапунки ведут только двое ворот; поэтому капитан О'Даунс с уже отобранным десятком солдат пойдет, и как можно быстрее, к восточным воротам. Остальные, за исключением шестерых, что останутся снаружи, чтобы не позволить улизнуть дикарям, с боем пробьются со мной в селение через другие ворота. Всегда темные и проницательные глаза сэра Томаса в этом полумраке казались ввалившимися. — Вам лучше вспомнить, что бьемся мы не только за собственную жизнь и за жизнь наших больных товарищей, но и за честь и славу нашей любезной королевы. Поэтому я призываю вас драться не жалея сил, никого не щадя, за исключением Чапунки и всей его семьи. — Извиняюсь, сэр Томас, — вмешался О'Даунс, — вам лучше напомнить этим ребятам, что любой ценой нужно захватить их Оука. После окончательного осмотра огнестрельного оружия марш возобновился. Питер смахнул со своей кирасы слой налипшей на нее мокрой листвы и про себя обругал свой стальной конический шлем, такой адской тяжестью давящий на его желтоволосую голову. Из-за непрерывного промозглого мелкого дождичка, не прекращающегося почти всю ночь, он не мог пока ни достать из футляра лук Алекса Портера, ни развязать устьице колчана. Вместо этого он взял наперевес полупику с тяжелым, в форме листа наконечником, под которым имелась тонкая поперечина, предназначенная для того, чтобы не дать острию в пылу битвы проникнуть слишком глубоко. Многие прекрасные пикинеры, утверждал его отец, погибали из-за того, что вовремя не могли освободить наконечник пики, крепко застрявший в теле или доспехе врага. На опушке соснового леса становилось все светлее, когда капитан О'Даунс повел легкой рысцой десяток своих людей на окружение грубого частокола, защищавшего столицу Чапунки. Они были уже на полпути к своей цели, когда сонная индианка, откашливаясь и отхаркиваясь, вышла наружу и поплелась к источнику, чтобы наполнить тыкву водой. Заметив чужих, она испуганно завопила и бросилась назад в Намонтак, визжа как свинья под ножом мясника. Кавендиш выскочил из кустов, и ранний утренний свет заиграл на его ржавой кольчуге. — Пора! Навалимся на идолопоклонников, бейте их беспощадно! — Его аркебузиры с шумом спустились с холма, волоча V-образные подставки для тяжелых ружей, и развернулись перед западными воротами в один рассыпанный фронт. В ворота толпой повалили воющие, почти голые индейские воины. По приказу Кавендиша прогремели аркебузы, сея опустошение среди индейцев: на небольшом расстоянии каждый из тяжелых свинцовых шариков весом в десять унций*["343] убивал или ранил не менее трех человек. Как только оглушительные звуки выстрелов этого первого залпа создали вполне понятный переполох и смятение среди едва проснувшихся туземцев, лучники Питера Хоптона воткнули горсть стрел в землю у ног, чтоб было удобней брать, затем натянули луки и начали без зазрения совести расстреливать всех монокан, осмелившихся показаться на виду. Затем, прямо по корчущимся телам раненых, сэр Томас повел своих аркебузиров через ворота в большое деревянное селение Чапунки. После второго смертоносного залпа по воющим индейцам те в полной панике безрассудно заметались по деревне. Совершенно голые женщины и дети съежились от страха в своих жилищах и визжали как черти в преисподней. В косматых оборванных дьяволов Кавендиша индейцы выпустили не более горстки стрел, да кое-кто из них осмелился напасть с копьем; затем неровным залпом с дальнего конца Намонтака отряд Шона О'Даунса заявил о том, что пошел в атаку. Когда аркебузиры перезарядились, Кавендиш издал свой родовой военный клич и повел остальных в глубь деревни меж покрытых корою хижин. Его длинная шпага сверкала, как летняя молния. Вернув в футляр лук Портера, Питер подтянул свой ремень, выдернул из земли полупику и убедился, что ножны с кинжалом расстегнуты. Что-то звякнуло по его нагруднику, и к ногам упала стрела с каменным наконечником и расщепленным древком. Следуя бегом или крупным шагом за сэром Томасом и молодым эсквайром Болтоном, Питер почувствовал, как всколыхнулась в нем отвага, когда он направил свое копье на орущего воина, выделявшегося голубой черепахой, нарисованной на груди. Он нанес свой удар прямо в центр рисунка, почувствовав, как заскрежетала кость, вогнал острие своей пики до поперечины, и в лицо ему брызнула кровь. Кто-то сильно ударил его по голове дубиной, но шлем защитил его голову, и, уложив противника, Питер двинулся дальше, раздавая удары копьем и кинжалом в этой воющей массе диковинно разрисованных демонов. Опять и опять звучал этот резкий скрежет при ударе каменных наконечников о кирасы и шлемы. Хриплая ругань и вырывающиеся с тяжелым дыханием крики англичан странным образом контрастировали с воинственными воплями, издаваемыми тонкими высокими голосами воинов Чапунки. Все дальше пробивались атакующие к тому храму, в котором индейцы молились Оуку. Питеру казалось, что он колет и режет уже много часов. Пика его стала скользкой от теплой и липкой крови, струящейся по древку, и ее трудно было удерживать в руке. На мгновение ему показалось, что он и его товарищи пробиваются сквозь сплошную стену из тел. Хоптон услышал чей-то крик: «О Боже! Я умираю!» В пылу наступления ему, вероятно, пришлось убивать не только мужчин, но и женщин. Сумятица рукопашной схватки была столь велика, что в последний момент отвести роковой удар стало уже невозможно. Внезапно моноканы подняли траурный вой, побросали оружие и побежали спасаться, прыгая через ограду или пытаясь протиснуться между остроконечными кольями. Многих из них поразили сзади, но значительно большему числу удалось безопасно укрыться в сосновом лесу. Только по причине своей усталости англичане не устроили бойню и не вырезали полностью всех оставшихся в этом селении женщин и детей, но без промедления и без угрызений совести они перерезали глотки раненым и сдавшимся в плен мужчинам. У Питера все завертелось в глазах, и он опустился на бревно, чтобы отдышаться. Усеянная оружием земля была буквально устлана ковром из разрисованных коричневых тел и спутанных черных волос, среди которых все шире растекались карминно-красные лужицы. Менее чем через полчаса с того момента, как гулко прозвучал выстрел первой аркебузы, деревня Намонтак оказалась в руках англичан, а любимая жена Чапунки и двое сыновей стали пленниками вместе с доброй половиной его гарема. Под веселые крики дюжина здоровенных парней выволокли Оука из его алтаря в круглом домике, сделанном из коры и служившем идолищу убежищем. — Только подумать, эти чертовы дикари поклоняются такому отвратительному существу! — проворчал Госнолд, стирая с лица окрашенный кровью пот. Оук оказался действительно странным идолом — с человеческим телом и лицом дикой кошки. Пара больших птичьих крыльев помещалась у него на спине. Ярко-синие, они явно прибыли издалека, откуда-то с юга. В окрестностях подобные птицы не водились. Один из парней, служивших когда-то у Хоукинса, заявил, что они принадлежат попугаю ара, птице, обитающей в Мексике и Гватемале. Ноги этого идола вместо ступней оканчивались рыбьими хвостами. К счастью, победители заметили, что чешуя на этих хвостах, по всей видимости, изготовлена из чистого золота. — По-моему, — заметил эсквайр Эскью, один из ученых, — этот идол кое-что значит. Их Оук выражает сущность Божьих творений — зверя, птицы и рыбы. — Чума на их гнусного идола! — прорычал капитан Хэмфри Болтон. — Давайте найдем их амбары и наполним свои желудки. Но когда обнаружилось всего лишь три сшитых из оленьей кожи мешка с существенно важным для них продуктом — кукурузной мукой, громко и горячо зазвучали проклятия. Единственным приложением к сему продукту явились богатый запас съедобных корней, связки сушеной рыбы и несколько копченых ляжек оленины. В разных хижинах тоже нашлись запасы, но в меньшем количестве, и в целом, с хозяйственной точки зрения, штурм Намунтака оказался почти бесполезным.Глава 6 ВЕРОВАН ЧАПУНКА
Три дня после возвращения сэра Томаса Кавендиша с его оборванными солдатами, заложниками, военной добычей и едой колония поселенцев испытывала редкий прилив оптимизма. Правда, смерть унесла еще пятерых больных, включая товарища Питера Хоптона по жилищу, хотя их и откармливали питательным бульоном. Случилось так, что как раз в это время сильный ветер загнал в запруды большое количество рыбы, а охотники на острове убили несколько самок оленя с их молодняком (к возмущению немногих оставшихся паспегов), поэтому впервые за многие месяцы в несчастной колонии сэра Уолтера Ралея люди ходили, урча туго набитыми животами. Только дальновидные — такие, как Ральф Лейн, Томас Хэриот и капитан Филипп Амадас, — отчетливо понимали, что этот сладкий период изобилия очень скоронеизбежно подойдет к концу. Снаружи за частоколом полыхали костры, возле которых безрассудно истощались оставшиеся скудные запасы пива и вина. «Почему бы не погулять на славу? — говорили Болтон и О'Даунс. — Разве колонисты не захватили в лесах множество сильных рабов? Кроме того, в общественном хранилище стоят полные корзины с продовольствием. Конечно, большая часть этой провизии — продукты скоропортящиеся, но что из того? На сегодня и на завтрашний день их хватает с избытком». Участвовавшие в разгроме индейского селения привели с собой каждый не менее чем по две коричневых девушки, съежившихся, испуганных до полусмерти, одетых в юбочки с бахромой из прекрасно выдубленных кож, наподобие фартуков прикрывавших их спереди и сзади. Бахрома, однако, не скрывала соблазнительных темных бедер, а эти темные дамы, носившие спереди свои блестящие волосы коротко постриженными челочками, а сзади — коротким пучком, словно хвостик у пони, выше талии не носили вообще ничего, кроме ожерелий из костей и семян. Верхние части их рук покрывали сложные выколотые узоры. Девочки моложе десяти лет ходили и вовсе нагишом, если не считать плетеного пояса, на котором меж бедрами держалась подушечка мягкого мха. Индианки оказались расторопными и веселыми созданиями, нисколько не беспокоящимися о будущем. На долю Питера Хоптона достались две гибкие стройные и сравнительно светлокожие девчонки лет пятнадцати-шестнадцати. Они, наверное, были дочками какого-нибудь вождя, иначе ни за что бы на свете не держались так гордо. Их гладкие молодые тела, девственно неприкрытые (на них были только ожерелья из жемчужных ракушек и юбочки с бахромой и с разрезами из хорошо продубленных шкур рыси), сияли медно-коричневым блеском в местах, не натертых мелом. По племенному обычаю, мелом они покрывали лбы, подбородки, щеки, руки и ноги. Пленницы поначалу вели себя несговорчиво и упрямо, плевались и царапались, как дикие кошки. Эх, жаль было Питеру, что слишком рано и далеко ушел бедняга Портер и не мог теперь развлечься с этими милыми девчонками, хотя кожа у них и была сальной и пахло от них какой-то тухлятиной. Ряд метких ударов кулаком и березовый прут, хлестко приложенный к голому задику той, что постарше, изящно и живо убедили Сейкананк и Кокушон смириться с уделом женщин, ставших добычей врага везде, где ведутся войны. У Питера, давно уже не пившего вина, от полуфляги рейнского из личных припасов сэра Томаса Кавендиша голова пошла кругом, и, когда победители отмечали свою победу у костра, он, как и остальные, заставил своих пленниц — для удобства переименованных в Джейн и Джилл — танцевать вокруг огня без всяких лишних украшений, кроме бус из сверкающих раковин медиолы и пучка из перьев кардинала и голубой сойки, воткнутого в их волосы цвета воронова крыла. Здорово! Питер улыбался в темноте, слушая замирающие под звездами последние пьяные вопли. «Это же просто ужасно здорово, что две опрятные любящие бабенки будут лежать у меня по бокам на постели, особенно когда завоют холодные ветры с Атлантики». Теперь, когда Александр Портер покоился с миром среди других истощенных трупов в неглубокой могиле, вырытой в дюнах, Хоптон стал единоличным хозяином хижины и радовался, что она стала просторней. Его поразило, как жизнерадостно и легко эти юные моноканки адаптировались к своему новому положению. Более того, они даже спорили за такую малость, как доброе слово, лишний кусочек пищи, ласковый шлепок по ягодицам. Да, наступило время для здорового, пусть и недолговечного, веселья, и вот по истечении недели к Роаноку с материка подошла на веслах одиночная военная пирога, выжженная из цельного дерева. На носу сидел молодой воин и размахивал зеленой веткой, а двое туземцев с меньшими, чем у него, заслугами налегали на весла. Воин был одет в лоснящийся мех куницы, а в мочках ушей красовались два чучела птички танагры. Он был красив, а его довольно светлокожее лицо с правильными чертами говорило о благородстве происхождения. Пока пирога стояла на месте вне досягаемости аркебуз, посланец кричал, что великий верован Чапунка просит разрешения поторговаться с большими белыми людьми из-за моря за своего бога и за семью. — Скажите этому щенку, чтобы приставал к берегу, — распорядился Шон О'Даунс, бывший в тот день дежурным офицером. — Иначе разговаривать не будем. Юноше позволили высадиться и, хотя воин и был безоружен, тут же надели на него наручники и оплевали лицо. Питер всю жизнь не мог позабыть, с какой отрешенной гордостью этот юный дикарь сносил оскорбления, которые сыпались на него до тех пор, пока наконец ирландец не привел его к губернатору Лейну, печальному и боязливо настороженному, несмотря на знаки власти — шляпу с белым плюмажем и алый роскошный плащ. Через Чабака, раба Питера, посланник говорил сжато и по существу. Своего дядю, верована — главного вождя, он охарактеризовал как могущественнейшего воина во всей стране Помейок; он властвовал над дюжиной младших вождей, которые назывались вероанами, и разговаривал непосредственно с Мачекомуком — Великим духом, правившим в Попогуссо — Небесном раю. Белые принцы, постановил Чапунка, могут делать что захотят со всеми пленниками, кроме его жен и детей. За их возвращение он готов заплатить большой выкуп и еще больший — за Оука. Для начала главный вождь монокан пошлет две пироги, груженные столь, видимо, полюбившимися англичанам медными украшениями, и три шкуры ласок, полные жемчуга, когда Оука вернут ему в целости и сохранности. Говорящий после этого разгорячился, предупредил, что все племена от следующего за Чесапикским залива на севере до Морских островов на юге объединяются в большие военные соединения для захвата Оука силой, если в этом возникнет необходимость. Принимая этого мускулистого юношу, настолько светлокожего, что он казался испанцем или итальянцем, Ральф Лейн медленно поглаживал свою косматую седую бороду и надеялся, что состояние его одежды, сильно порванной, с пятнами соли, останется незамеченным под великолепным серебристо-алым плащом. — Дяде твоему, великому веровану Чапунке, я шлю приветствия, — любезно сказал он. — Передай ему, что за возвращение его жен и детей я не приму никакого вознаграждения. — Дьявол вас побери, Ральф Лейн! — свирепо проревел капитан О'Даунс. — Вы не вернете этих дикарей без выкупа: старый дикарь сочтет вас еще более безмозглым, чем вы есть на самом деле… Губернатор Лейн продолжал говорить через переводчика, словно никто его и не прерывал. — Передайте своему дяде, великому и знаменитому воину Чапунке, что за идола его я не приму ни жемчуга, ни украшений, вместо этого, — он помедлил, словно делал мысленный подсчет, — пусть шлет двенадцать больших байдарок, по планширы нагруженных кукурузной мукой, орехами, водяными черепахами и прочей доброй едой. На этот раз вмешался Кавендиш: — Теперь, клянусь Господней глоткой, Лейн, вы заходите слишком далеко! Нам нужны сокровища. Еду мы отобьем у них силой. Я знаю три деревни, такие же, как Намонтак, или даже больше — до них меньше дня пути. Тут уж королевский губернатор не выдержал и вскочил на ноги, бледный от гнева. — Молчите, вы, несдержанный грубиян! — крикнул он срывающимся голосом. — Я выполняю поручение королевы и головой отвечаю за удачу или неудачу, которая постигнет эту колонию. Я отвечаю, а не вы. Поэтому я говорю: нам прежде всего нужна еда. Еда — а не жемчуг и украшения. Питер был поражен, когда этот обычно сдержанный и уравновешенный человек разразился такой тирадой: — Неужели у вас до такой степени затуманены глаза? Неужели вы не видите, что впредь никто из нас не осмелится ступить ногой на материк, пока светло, или выйти за пределы этого частокола, пока стоит ночная темнота? — Он указал дрожащим пальцем на загородку Роанока с грубо затесанными сверху кольями. — Мы должны достать — прямо здесь и прямо сейчас — достаточно провианта, чтобы дотянуть до прибытия судна из Англии. Без той пищи, что я у них требую, мы подохнем — все до последнего человека. Так что не распускайте язык, сэр Томас Кавендиш, а иначе я заточу вас в железо. Дрейк знал, как обращаться с Доути и людьми вашего сорта, знаю это и я! Видимо, сильно пораженные этой тирадой, Кавендиш и О'Даунс молчали, когда индейский посланец склонил голову в сторону Лейна и с полной серьезностью заявил: — Верь мне, мой Отец, у монокан и секотов в этом сезоне осталось не так уж много пищи: всего лишь на три пироги той самой еды, о которой ты говоришь. Но жемчуга, украшений и шкур ты будешь иметь в изобилии. Итак, дня через два гарнизон, подняв самых крепких из хворых, вооружился, чтобы принять впечатляющую флотилию с материка. В некоторых пирогах сидело по пятнадцать ужасно разрисованных и утыканных перьями воинов. Верован, должно быть, знал, что на него, когда он ступит на берег, будут направлены две полукулеврины и четыре фальконета — вся артиллерия, которой располагала колония, — и три дюжины аркебуз. Непроизвольно разведывательный отряд, уже высадившийся на побережье узкого пролива, взял на караул свои пики — таков был сан этого высокопоставленного дикаря, который, с одним пером цапли, уходящим со лба назад, и двумя другими, торчащими прямо вверх из-за ушей, ступил на берег, высоко держа ветку с подрагивающими на ней розовыми и белыми цветами. Поскольку у старого вождя левого глаза больше не существовало, веки его собрались на нем морщинами, словно губы вокруг беззубого рта. Десятки шрамов на животе и груди свидетельствовали о том, что ему во время болезни делались кровопускания. Плечи верована окутывала мантия из шкуры какого-то редкого серебристого зверя, Питеру Хоптону незнакомого. В проколотую мочку левого уха Чапунки было просунуто яркое ожерелье из овсянок цвета индиго, а к верхнему предплечью правой руки прикреплялась шкурка щегленка. Вблизи от берега в ожидании сигнала застыли десять-двенадцать байдарок, глубоко осевших в воду от груза переполнявшего их выкупа. Облизывая сухие потрескавшиеся от солнца губы, подталкивая друг друга локтями, солдаты гарнизона разглядывали четыре передовые пироги, груженные сияющими медными украшениями, и лодки за ними, заваленные высокими грудами золотистой муки, лоснящимися мехами выдры, бобра, дикой кошки и пумы. Губернатор Лейн выступил вперед, подняв в знак приветствия жезл из эбонитового дерева, увенчанный набалдашником из золота и слоновой кости. Он попытался, насколько возможно, привнести в свое приветствие дух дружелюбия, когда заявил через переводчика, что своим визитом Чапунка, величайший из всех индейских вождей в Виргинии, оказывает ему большую честь. Он сожалеет, заявлялось им далее, о необходимости перебить такое большое количество его подданных, но ведь моноканы отказались выполнять свои договорные обязательства по снабжению колонии кукурузой и олениной. Дважды лицо вождя, раскрашенное желтыми и красными вертикальными полосами, сжималось, будто он собирался заговорить, но вода все еще омывала его лодыжки, сложенные руки лежали на покрытой шрамами груди, и он продолжал хранить молчание. — Я пришел сюда как побежденный воин с выкупом за моего бога, моих жен и детей, — наконец заявил Чапунка. Солнце подчеркивало линию высоких скул и полосы краски на них; единственный его глаз ярко поблескивал, как у здорового бойцового петуха. — Где Оук? — нетерпеливо вопрошал он. — Он будет тебе возвращен, — выкатив грудь вперед, в торжественной позе объявил Лейн, — когда ты дашь великую клятву в том, что между нами и твоим народом будет царить мир до тех пор, пока будущей осенью не закружится первый снег. Верован помедлил в нерешительности, глянул на темную толпу воинов, манипулирующих лодками невдалеке от берега, но в конце концов склонил свою голову, и перо цапли при этом затрепетало. — Будет мир между нами, о принц среди Белых людей — Скажите старому пройдохе, чтобы подгонял свой выкуп к берегу, — проворчал О'Даунс. — Я этим шельмам не верю ни на грош. Когда, сделанный из оленьей кожи, последний мешок кукурузы (их было всего только шесть), последний мех и последнее украшение были свалены в кучу на берегу, парни Питера Хоптона препроводили жен верована с их отпрысками на холодный плотный песок. Пока они садились в лодки, воины-индейцы, соблюдая полную тишину, оставались ярдах в пятидесяти от берега, явно сознавая, что те аркебузы находятся в боевой готовности. Когда на импровизированных носилках индейцам вынесли их дорогого Оуна, над серебристо-серыми водами пролива прозвенел мощный клич, и пара колдунов, соскочив с лодки, пошли к берегу вброд, чтобы принять в свои руки этот священный предмет. А тем временем сам верован, его жена и дети молитвенно простерлись на влажном песке. Как только идола, моментально украшенного венками из свежих цветов, поместили на самую большую пирогу, верован Чапунка повернулся лицом к своим врагам. Он не спеша бросил в воду цветущую ветку и молча зашлепал по воде к своему каноэ, куда поднялся с помощью слуг. Тут же весла опустились на воду, и, развернув свои лодки носом к материку, индейцы быстро погребли прочь от проклятого острова.Глава 7 НА ОСАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Никто из колонистов, даже губернатор Лейн, не был настолько глуп, чтобы вообразить себе, будто Чапунка собирается соблюдать свое обещание не вести войну до выпадения первого снега. Да, первые две недели над маленькой бухтой Роанок господствовал мир, и этого было достаточно, чтобы усыпить бдительность колонистов. Но затем паспеги, секоты и моноканы напали на них с безжалостной яростью. Сначала их нападению подверглась партия из семи человек, разыскивающая черепашьи яйца на берегу: кого-то убили, других захватили в плен. В числе последних был капитан О'Даунс, хотя защищался он с отчаянной доблестью. Орды воинственно раскрашенных дикарей с воем преодолели дюны, но не стали забегать в простреливаемое пушками пространство, а остановились и наблюдали, как их товарищи сбежали вниз и захватили большую пинассу. Пронзительно жутко звучали предсмертные крики ее экипажа. К счастью, порывом ветра наполнился парус другой пинассы, и она понеслась по ветру быстрее, чем гребли разъяренные дикари. С того самого часа ни один англичанин не отваживался выйти за частокол без полного вооружения и сильной охраны. Ночь за ночью моноканы и их союзники привозили с собой пленников, чтобы мучить их в пределах досягаемости глаз и ушей осажденного и серьезно истощенного гарнизона. Они оставили О'Даунса напоследок, вероятно, из-за его могучей силы и несгибаемости. Жутки были вопли и крики ирландца, когда с помощью раковин туземные женщины Чапунки сустав за суставом отрубали ему пальцы на руках и ногах, затем рассекали ему ноздри и перед тем, как отрезать ему глазные веки, подносили горящие головешки к его половым органам. По меньшей мере полторы тысячи дикарей плясали, завывая и подбрасывая вверх оружие, когда в конце концов черноволосый ирландец безжизненно рухнул в своих оковах. Тогда они буквально разрезали его на мелкие кусочки. Секоты, моноканы и паспеги появлялись на острове в таком подавляющем большинстве, что гарнизон не мог ничего поделать, и никто не слушал сэра Томаса Кавендиша, когда он призывал добровольцев совершить вылазку. — Это чистое самоубийство, — заявил капитан Амадас, разбирая оружие с группой боеспособных солдат, которых осталось теперь слишком уж мало. Горькими были упреки, посыпавшиеся на партию Кавендиша, когда враг посменно продолжил осаду, постоянно подвозя новые силы с материка. Стало совершенно ясно, что число туземцев в дюнах приумножалось ежедневно. Часовые на частоколе видели, как с южной оконечности пролива прибывали пирога за пирогой; никто не сомневался, что вскоре последует нападение на гарнизон значительными силами. Гарнизон укрепил бы свой частокол, но совсем не осталось древесины, если не считать той, что давало снесение хижин и бараков. В тесноте своего огороженного лагеря колонисты не имели возможности уединяться для личных нужд, и от загаженной земли с каждым днем воняло все сильнее. Питер Хоптон уже совсем души не чаял в своих светло-коричневых служанках, Джилл и Джейн. Они оказались веселыми маленькими созданиями, всегда готовыми улыбаться и предупреждать малейшие его желания. С обожанием следили они за ним своими черными большими глазами, когда он занимался своими обязанностями, не отнимавшими теперь много времени, поскольку с рыбалкой и охотой было уже покончено. Спустя месяц с того дня, когда сэр Томас Кавендиш напал на селение Намонтак, продовольственный склад оказался таким же пустым, как и прежде. Колонисты, забыв о дисциплине, жадно насыщались на всем протяжении этого обманчивого двухнедельного мира и первых дней осады, и запасы продуктов, которые можно бы растянуть на полгода, были уничтожены за один месяц. Джилл, поблескивая шоколадными бедрами, склонилась над единственным железным котлом, в котором маленькая хозяйка Питера стряпала еду. Горестно вздыхая, она осмотрела крошечный кусочек сушеной оленины, который вместе с горсткой кукурузы и несколькими моллюсками должен был пойти на приготовление жидкой бурды — мешанины из того, что попалось под руку. Тем не менее она улыбнулась, похлопывая себя по животу, значительно утратившему свою округлость; то же самое произошло и с ее маленькими крепкими грудками. Питер благодарил Бога, что его гарем не последовал примеру некоторых рабынь-индианок, напяливших на себя нелепые костюмы — жалкую имитацию одежд европейских женщин, — выкроенные из старых материй или изношенной парусины. Рабыни Питера благоразумно отказались надеть на себя что-либо более существенное, чем украшенные бахромой передники из оленьих шкур, почти не скрывавшие их прелестей. В качестве своей доли из полученного ими выкупа Питер предусмотрительно выбрал браслеты, кольца для украшения ног и ожерелья из роскошной золотисто-красной меди. Первое время ему пришлось трудновато, так как невозможно было одарить служанок равными по ценности вещицами. Джилл набрасывалась на Джейн, вырывая у нее медную серьгу, которую ошибочно считала более ценной, нежели маленькая серебряная подвеска, оправленная в черепаший панцирь. В целом же, пока оставалась еда, они втроем поживали счастливо. Питер любил понежиться, возложив голову на колени Джейн, в то время как Джилл с упоением копалась в сальных и желтых его волосах, отыскивая каких-либо насекомых. С той поры, как отбыли они из Плимута, в колонии не оставалось, пожалуй, ни одного человека, кто не дал бы на теле своем пристанища всевозможным паразитам. Когда запасы провизии почти иссякли, Лейн — один из немногих среди колонистов хранивший обет безбрачия — произнес пространную речь, настаивая, чтобы все пленницы были отпущены на волю. Из-за этого возникла угроза открытого мятежа. — Какая разница? — прорычал Эндрю Госнолд. — Еще несколько дней — и все мы погибнем. А до этой поры давайте лучше хоть спать-то будем в тепле. — Но может прийти корабль. — Корабль? — Со всех сторон зазвучал издевательский смех. — Ни за что не отдам свою Сюзан — лучше сам ее съем. Губернатор, как обычно, накричал, пригрозил и, в конце концов, уступил. Дня через два Питер сказал своим красоткам: — Боюсь, что настала последняя ночка, после которой мне с вами уже не порезвиться. Они, не поняв ни слова из сказанного, но уловив такое знакомое им «порезвиться», весело закивали, заулыбались и обняли его за шею гладкими темными руками. В ту ночь дурные предчувствия Питера, похоже, оправдывались: в лагере среди дюн, разведя большие костры, воины Чапунки бесновались, колотя во все барабаны и завывая, как волки зимней порою. Ясно, что они настраивали себя на решительный штурм. Этот дикий концерт продолжался всю ночь, и всю ночь изможденные англичане шагали по брустверу и вспоминали предсмертные вопли О'Даунса. — Скорее всего, туземцы атакуют нас на рассвете, — шептал своим сонным сожительницам Питер. — Это в духе воинов-дикарей. Положение колонистов усугублялось еще и тем, что легкий туман, опустившийся перед рассветом, скрыл собою ландшафт — правда, звезды при этом, если смотреть на них прямо вверх, оставались видимыми. Питер протер лук Алекса Портера, приготовил колчан и затем вскрыл замок аркебузы. Запалив у пылающего рядом с хижиной костра медленно горящий фитиль, он сунул его в тот металлический рычажок, который при нажатии на собачку поднимал крышку полка и тем самым приводил огонь в соприкосновение с воспламеняющимся зарядом. Каким одиноким чувствовал он себя на бруствере, хотя все, кто имел еще силы носить оружие, стояли, согнувшись или присев, с ним рядом и напряженно всматривались в плывущий клубящийся туман. До сих пор сторожевые заставы, выставленные Кавендишем в сотне ярдов за воротами частокола, не подняли тревоги. Как бы ему хотелось вновь оказаться в хижине, где Джилл и Джейн лежали, уютно свернувшись и тесно прижавшись друг к другу, как пара щенят. Что ж, думал он, очень даже возможно, что на Земле это будет его последнее утро. Ни разу еще с того страшного дня, когда он оказался на рыночной площади города Хантингдона, не ощущал Питер с такой остротой, что смерть поджидает его где-то рядом. Хм. Что там могло случиться с Генри Уайэттом? Убит разъяренными пикинерами шерифа или же принял смерть от веревки? Он точно пришил того лучника у подножия виселицы. Бедняга! Вот тебе и вернулся на родину. Ужас! А если ведьмы действительно существуют? Питер пустился в долгие размышления, задаваясь вопросами. Неужто и впрямь такое возможно, чтобы дьявол мог взять да и превратиться в черного козла, собаку или кота, а потом разговаривать человеческим голосом? Он пошевелился, тщетно желая избавиться от холодного прикосновения кирасы к телу. Подслушал прерываемый приступами кашля разговор, доносившийся до него из-за двух полукулеврин. Там, нервничая, канониры туда-сюда перекладывали скудный запас пушечных ядер. Светало. Еще немного — и в сумерках прозвучит лающий клич приближающихся индейцев. Неожиданно туман приобрел розоватый оттенок — должно быть, солнце уже выглянуло из-за горизонта. — И чего это чертовы дикари не нападают? Скорей бы все кончилось, — пробормотал кто-то. — Теперь-то уж скоро, — отозвался капитан Амадас. — Туман быстро рассеивается. Но боевой клич все еще не звучал и по влажным пескам острова Роанок не шлепали глухо босые ноги. Напряжение стало просто невыносимым. Но вот туман взлетел над землей, как занавес, и раздался чей-то взволнованный крик: — Бог мой! Смотрите! Смотрите на море! Сквозь обрывки тумана Атлантика явила усталым глазам осажденных свечение белого паруса. — Корабль! Корабль! Нет, клянусь славой Бога, их два… три… да нет же — их по крайней мере дюжина! Питер провел дрожащей рукой по своим запавшим глазам. — Это всего лишь колдовское наваждение, — предупредил он себя. — Не может тут быть так много кораблей сразу. Но они были. Прошло больше часа, а корабли все входили и входили в узкий залив Роанок и являли вконец ошарашенным колонистам кресты Святого Георгия на стеньгах. — Ей-богу, это же Дрейк! — воскликнул капитан Амадас. — Это же его собственные флаги развеваются на бизани самого крупного галиона!Глава 8 ЗАЛИВ РОАНОК
«Надежда», благодаря очень малому водоизмещению, смогла подойти так близко к острову Роанок, что всплеск от ее якоря поднял в воздух плотные стаи перепуганных желтоногих птиц, обитающих на берегу. Генри Уайэтту было приятно смотреть, как ловко и слаженно управляется экипаж, выполняя свои обязанности. Португальцы и генуэзцы, растянувшись на реях, брали грот и марсель на гитовы так же ловко и аккуратно, как марсовые на «Подспорье»и «Бонавентуре». Уилл Томпкинс и его канониры уже извлекали заряды из пушек. Корабельный кок принялся разжигать огонь в песчаном ящике у основания грот-мачты, распекая двух негритят капитана, отчего те съежились и согнулись, напоминая собой рыболовные крючки. С юта «Надежды» Уайэтт разглядывал ветхий частокол, окружающий пестрое собрание хижин и построенных кое-как, на скорую руку, бараков. Стало быть, вот она, эта земля обетованная, с ее белыми песками и темно-зелеными лесами, о которой так восторженно отзывался Питер Хоптон в Англии? Во всяком случае, в одном отношении его кузен не врал: Америка действительно огромна. Покинув Флориду, армада почти две недели шла параллельным берегу курсом, следуя вдоль постоянно изменяющейся но непрерывной береговой линии. Усмирение Сент-Августина стоило бравому старшему сержанту Пауэллу жизни, которую ему удавалось сохранить и в кругосветном плавании, и чуть ли не в сотне горячих сражений. Теперь его кости медленно истлевали в зловонном флоридском болоте. Пока срывали форты Сент-Августина, снимая с них артиллерию, Уайэтт воспользовался предоставившимся ему случаем исследовать материк в поисках Золотых городов Сиболы. Разумеется, такой страны или местности он не нашел, как и самих городов, подвергшись по возвращении безжалостным насмешкам других капитанов армады. Однако, как и утверждал Питер, эта земля оказалась невероятно плодородной. Покрытая частыми лесными массивами, она могла обеспечить кораблестроение прекраснейшей древесиной. Дичь и птица водились там в таком изобилии, что даже самый неопытный охотник мог без всякого труда обеспечить себе хорошее пропитание. В общем, Питер сказал правду — для серьезных слушателей. Капитан «Надежды» заботливо убрал свои навигационные инструменты в футляры. Значит, этот унылый остров и есть тот самый рай, в котором побывал Питер года три назад — или это был Уоккокан? Уайэтт критически пригляделся к острову Роанок. Да, смотрелась эта земелька неказисто: чахлые сосны да унылые дюны с торчащими кое-где травяными кочками. Напротив через пролив и значительно ниже того места в заливе, где бросила якорь армада, видны были целые стаи пирог, уплывающих к материку. Видимо, прибытие Золотого адмирала обратило в бегство весьма значительную армию туземцев. Переведя свое внимание на форт, Уайэтт заметил, что его ворота приоткрылись. Из них выходили люди и в беспорядке устремлялись к воде, что-то крича. Приложив руку к ушной раковине, он расслышал: «Еды! Ради Бога, принесите нам еды!» Следуя примеру молодого Томаса Дрейка с «Френсиса», Уайэтт распорядился, чтобы выделили короб морских сухарей, немного батата и ящик копченой говядины. В порыве щедрости он даже пожертвовал кувшин «Амонтилладо» из личных своих припасов. Шлюпки десятками стали отчаливать от кораблей эскадры, направляясь к жалкой кучке людей на берегу у самой воды, пытавшейся радостно пританцовывать на ослабевших ногах. Широкая улыбка расползлась по румяному лицу Томпкинса, как только шлюпка «Надежды» подошла достаточно близко к отлогому серебристо-серому берегу острова — Боже! Да у этих чертей есть бабы. Гляньте, капитан. Или это туземки, или я обезьяна. Уайэтт, покачиваясь в ритме ударов весел, прищурился на солнечный свет. То, что сказал Томпкинс, было правдой. У воды их поджидало почти столько же полунагих темнокожих созданий, сколько было оборванных пугал. Колонисты, не дожидаясь, пока лодки подойдут к берегу, шатаясь, входили в море и встречали их по пояс в воде. Вскоре берег кишел англичанами, хлопающими друг друга по спине, хохочущими и с жадностью заглатывающими вино или пиво. Пленницы робко сбились в стороне в отдельную кучку, хихикая, указывая пальцами и с удивлением разглядывая этих крепких краснолицых парней, столь мало похожих на их истощенных и бледных хозяев. Воздух наполнился новостями, вопросами о родной Англии и похвальбой новоприбывших. Была ли война с Испанией уже свершившимся фактом? Как только киль его шлюпки зашуршал по песку, Уайэтт выпрыгнул и с недоверчивым изумлением уставился на эти худые вороньи пугала. Уж этим-то людям Виргиния никак не могла бы стать раем, расписанным Питером Хоптоном. Вдруг он замер. Эта высокая крупная фигура, эта рыжая, цвета дубленой кожи, грива волос, эта желтая борода! Его кузен так отощал, что Генри не был уверен, что там действительно стоит Питер Хоптон, пока тот не издал восторженный крик и не бросился к нему со всех ног. И вот уже эти двое крепко обнимали друг друга и засыпали вопросами, не ожидая на них ответов. Позже, когда Джейн и Джилл, явно под сильным впечатлением от красновато-медного лица Уайэтта, его темно-рыжих волос и короткой бороды того же цвета, хихикали над кастрюлей, на этот раз полной до краев, Питер выдавил из себя печальную усмешку. — Ей-богу, Генри, ты родился под счастливой звездой, — заявил он. — После всего, что ты перенес на родине, тебе вполне подобает иметь такой прекрасный маленький — Им удобно управлять, — признался Уайэтт, — и я бы не променял его, даже если бы мне предложили судно на двадцать тонн больше. Но для моей цели он все же чересчур маловат. — И он стал рассказывать о своем грузе пушек, торговых товаров и мебели. Еще чуть позже, когда «Амонтилладо» развязало ему язык, он даже упомянул о маленьком коффре драгоценных камней и золотых монет, спрятанном у него под койкой. — Несмотря ни на что, не буду я проникаться к тебе полной завистью, — засмеялся Питер. — Не буду, пока со мной мои маленькие партнерши по играм в постели. — Он шлепнул Джейн, потом Джилл по ягодицам и подмигнул, — Генри, готов поделиться либо с тобой, либо с любым хорошим другом. Тебе еще предстоит долгое воздержание, я думаю. Уайэтт бросил быстрый взгляд на «Бонавентур», зеркально отраженный безмятежными водами пролива. — Хотелось бы мне, чтобы мой хороший друг Хьюберт Коффин, сквайр из Девоншира, мог сойти на берег. Тебе, Питер, он бы понравился. — А что у него? Получил бубон в Картахене? Рыжеголовый капитан «Надежды» отрицательно покачал головой. — Нет. Беднягу снова одолела лихорадка, которая здорово нас потрепала с тех пор, как мы сделали остановку на островах Зеленого Мыса. Странная это болезнь: вроде бы оставит тебя в покое, а потом снова возвращается. Многие из наших, кто ею переболел, лишились рассудка, но Хьюберт, слава Богу, остался в здравом уме. — Какая досада, — засмеялся Питер, — ведь он бы, возможно, с удовольствием повеселился в компании моих темных служаночек. Уайэтт колебался в нерешительности. Во время осад и после захвата городов было слишком трудно не поступать в согласии с почти универсальной практикой и не переспать с одной-двумя хорошенькими бабенками. Но он не поддавался искушениям, несмотря на то, что доводы рассудка грубо играли его воображением. У него была Кэт — Кэт, к которой он хотел вернуться без испанского сифилиса или, возможно, побочного брата или сестры для уже родившегося малыша. Если все сложилось благополучно, их ребенку сейчас, подсчитал Уайэтт, уже где-то месяца три. Его охватило неистовое нетерпение, ведь теперь уже стало точно известно, что, осуществив свое обещание навестить колонию сэра Уолтера Ралея, сэр Френсис Дрейк намерен взять курс на Англию. С пинассами и шлюпками на привязи за кормой кораблей (даже в открытом море их редко поднимали на борт) эскадра три дня стояла на рейде в бухте Роанок. Ни эта якорная стоянка, ни место, выбранное Гренвиллем, чтобы основать для Ралея колонию, не нравились Дрейку. Слишком много илистых и песчаных отмелей преграждало путь для входа в узкий залив, и если бы на них обрушился штормовой ветер с юга, его кораблям пришлось бы или садиться на прибрежные мели, или через очень узкий проход выбираться в открытое море — совсем не простая задача для судов, оснащенных таким такелажем, как у него. Погода, однако, продолжала оставаться хорошей, колонисты набирали жирок, а их предводители снова накопили достаточно сил, чтобы вести горячие споры о двух путях, предложенных им Дрейком. Золотой адмирал заявил, что обеспечит людей губернатора Лейна всевозможными припасами, амуницией и достаточным количеством пушек, чтобы построить подходящий форт. Далее, он выделит для них пару небольших судов, в которых колонисты Лейна могли бы вести дальнейшее исследование побережья. С другой стороны, колонистам было предложено покинуть это неудачное поселение на кораблях эскадры. Лучше начать все заново в каком-нибудь более подходящем месте, заметил Дрейк. В Совете снова стали разыгрываться обычные бурные сцены, но на этот раз доминировало мнение губернатора Лейна — возможно, потому, что на Совете часто присутствовал и Дрейк, готовый употребить свою власть, дарованную ему королевой. В конце концов колонисты проголосовали и приняли решение остаться на прежнем месте, если они получат подкрепление из добровольцев. Поэтому до появления в бухте обещанного Гренвиллем судна снабжения колонистам передали «Френсиса»и «Надежду» Уайэтта. Пушки, хранящиеся в носовом трюме «Надежды», заметил Дрейк, должны послужить для обороны острова. Он также согласился оставить для их обслуживания несколько обученных канониров. С тяжелым сердцем подчинился Генри Уайэтт приказу, отдающему его вместе с кораблем в распоряжение этого сварливого губернатора, который пока что проявил себя не с лучшей стороны. Теперь вряд ли он мог надеяться снова увидеть Кэт до середины осени. Последнее время он все переживал, чем она там живет. Уж конечно, те скудные деньги, что он оставил ей, давно истощились. А вдруг его кредиторам надоело ждать? И наверняка они встревожатся, когда Дрейк вернется в Англию без него. А если Ник Спенсер потребует вернуть свои деньги — что тогда будет? В ответ мурашки пробежали у него по спине — долговая тюрьма. Ничего, однако, не оставалось, как только подчиниться приказу Дрейка, поэтому «Надежду»и «Френсиса» подвели на буксире поближе к берегу с отдраенными люками, чтобы утром можно было начать их разгрузку. Чтобы отпраздновать решение колонистов, в Доме Совета адмиралу флотилии закатили почти настоящий пир. Вкусив многочисленных даров Флориды, англичане загорланили одну балладу за другой и опрокинули в глотки такое количество жидкой добычи из Сантьяго и городов побережья Карибского моря, что многие капитаны на берег шли, качаясь, поддерживаемые и просто несомые на руках. Капитан Роберт Кросс с «Новогоднего подарка» поклялся, что проведет ночь на берегу, а капитан Джоунас с «Первоцвета» по ошибке отослал собственную лодку на судно, так и не сев в нее. Потом он в ярости реквизировал шлюпку Уайэтта, пока тот все еще обменивался сплетнями со своим кузеном. Какие приказы этот Джоунас, очень высокопоставленный капитан армады, отдал экипажу его судовой шлюпки, Уайэтт мог только предполагать, но когда по истечении битого часа шлюпка так и не вернулась, он уступил Питеру Хоптону, уговаривающему его с пьяной настойчивостью переночевать у него в хижине. Правда, согласился он на это с большой неохотой, слишком хорошо понимая, какие искушения его ожидают со стороны этих шустрых медно-коричневых тел, находящихся в такой тесной близости — особенно при том, что в его животе тепло и уютно покоилась вся эта выпитая «Малага»и «Амонтилладо». К рассвету внезапно поднялся сильный ветер, он рвал горбыли на крышах хижин, свистел в щелях между бревнами, и поднятый им мелкий песок вихрями кружился по берегу. Скорость ветра быстро возрастала. Дуя порывами с материка, он с визгом проносился над водами пролива, и корабли армады, стоящие незащищенными на открытом рейде, стали раскачиваться, как свиньи, неохотно пробуждающиеся после спячки. Спустя минут двадцать после того, как эти первые налетавшие шквалы погнали низко летящие облака над топами мачт, ветер достиг полной силы и грозил перерасти в ураган. На сигнальном фале «Бонавентура» появился приказ «поднять якоря». В неистовом беспокойстве Генри Уайэтт босиком заметался по берегу, крича и махая руками «Надежде», но при этом понимая, что не сможет докричаться до экипажа на ее борту. На всех кораблях эскадры со страшной поспешностью поднимались штормовые паруса, и практически каждый матрос понимал, что бабушка надвое сказала, удастся ли их высокобортным судам выйти теперь из этого узенького пролива. С замирающим сердцем стоял Генри Уайэтт в пене прибоя и сквозь летящие брызги смотрел, как его матросы распластались на реях барка. Он различал худую треплемую ветром фигуру Хендерсона, цепляющегося за ванты бизани, пытающегося уравновесить барк. Поскольку «Надежда» стояла слишком близко к берегу, Уайэтт надеялся, что его помощник сообразит, что некогда поднимать якорь. Хендерсон это понял и, к огромному облегчению Генри, поставил буй и вытравил канат. В диком беспокойстве следил капитан «Надежды» за тем, как с треском раскрылся латинский парус и как, постепенно набирая скорость, барк пошел параллельно береговой линии. Прибежал Питер с развевающимися на ветру желтыми волосами, застегивая на ходу куртку. — Боже Всевышний! — заорал он, стараясь перекричать шум ветра и волн и заслоняя глаза от летящего в них песка. — Раньше мы такого никогда не видели. — Боже, что-то будет, что-то будет. — Почти ослепленный вызванными ветром слезами, Уайэтт напрягал зрение, чтобы оценить, какой снос под ветер делает его судно. Сможет ли оно преодолеть ту предательскую намывную песчаную косу, лежащую, как он знал, всего лишь в четверти мили. Если «Надежда» сядет на мель, то, считай, что ей каюк. Теперь уже все корабли, малые и большие, с жестко трепещущимися, словно накрахмаленными флагами и туго налившимися ветром парусами, пробирались по заливу. Высоко над их поручнями взлетали морские брызги, когда мелкие воды пролива взбивались порывистым ветром в короткие мутные волны с пенистыми гребешками. Сквозь брызги и вздымавшуюся пену малые суда уже едва различались, а когда вдруг хлынул сплошным водопадом слепящий дождь, эта стена и вовсе почти поглотила английскую эскадру. Уайэтт и Питер лишь смогли разглядеть, что большинство кораблей армады преодолело песчаную отмель и теперь, кренясь, уносилось в Атлантику. С ушедшим в пятки сердцем Уайэтт носился по берегу, приставив ладонь ко лбу и следя за тем, как его маленький барк борется изо всех сил, чтобы остаться на плаву и уйти от бушующих, плюющихся пеной отмелей. Генри издал звонкий крик радости, когда «Надежда» преодолела грязно-серую сумятицу волн, отмечающую последнюю опасную преграду, и под туго надувшимися марселями вышла в открытое море. От судьбы корабля зависело, вернется ли он к покорной бедности или заложит фундамент скромного состояния. Жалким, ужасно маленьким выглядит его барк в этой бушующей ярости ветра и волн, думал Уайэтт, но конечно же Хендерсон, как только утихнет шторм, доставит его благополучно назад.Глава 9 ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЛАГАЕТ…
Колонисты и те из армады, кто остался на берегу, поставили наблюдателей, которые три полных дня и ночи напряженно вглядывались в морскую даль. Только к закату 13 июня над океаном, снова улыбающимся и ярко-голубым, над сероватой полоской горизонта засиял вдалеке марсель. Один за другим потрепанные корабли возвращались назад: у «Тигра» не было фок-мачты, у галиона «Лестер» над фальшбортами виднелся только зазубренный обломок бизани. Не осталось ни одного судна в эскадре, которое так или иначе не пострадало бы от перенесенных испытаний. На пятый день все корабли были в сборе, за исключением «Френсиса», «Белого льва» капитана Джеймса Эрайзо и «Надежды». Словно невидимая повязка стянула Уайэтту грудную клетку и с прохождением долгих тяжких часов затягивалась все туже и туже. Вместе с кузеном Генри терпеливо патрулировал берег, подгребал ко всем вновь прибывшим на лодке в надежде узнать, что случилось с пропавшим барком. Никто ничего не знал, и это было неудивительно, поскольку поднявшийся сильный ветер разметал корабли эскадры далеко по всему побережью этой земли, названной в честь королевы-девственницы. — Она обязательно вернется, — утешал его Питер. — Скажи, а этот твой Хендерсон — парень умелый? — Лучше не сыщешь. Он командовал собственным судном перед тем, как корабль отобрали испанцы. — Тогда не теряй надежды, Генри. «Надежда» вернется. Теперь давай-ка посмотрим, что там сварганили нам на ужин Джейн и Джилл. Сегодня вечером я настроен весело покувыркаться. Как только он умолк, с наблюдательной башни раздался крик: «Парус!»И точно, в лучах заходящего солнца появилась крохотная белая точка, приближающаяся к заливу Роанок. Немного погодя выяснилось, что это не «Надежда», а «Белый лев». Маленький галион шел с трудом под временно установленными мачтами и управлялся длинным веслом, потому что напрочь лишился руля. Капитан Эрайзо, хоть и держал сломанную руку на перевязи, сам спустился в шлюпку и направился к флагманскому кораблю, на борту которого Дрейк вышагивал, как разъяренный терьер. Совсем немаловажен был для него тот факт, что «Френсис» — его личное судно, управляемое родным братом, — все еще отсутствовал. Мучимый неизвестностью, Уайэтт постоял у трапа, наблюдая, как капитана Эрайзо поднимают в боцманской люльке на борт: из-за поврежденной руки тот не мог пользоваться, как обычно, веревочной лестницей «Бонавентура». Когда он ступил на корму, каждый заметил, какие у него запавшие и покрасневшие глаза и что на лбу капитана красовался большущий синяк. Уайэтт шагнул к нему и дернул его за рукав, капитан «Белого льва» повернулся к нему изможденным лицом. — Ради Бога, что с моим барком? — Новость плохая, Уайэтт, — отвечал тот. — «Надежда» шла курсом на север и сопротивлялась изо всех сил, когда на нее обрушилась огромнейшая волна. Она опрокинулась, черпнула воды и камнем пошла на дно. Хотя другие капитаны столпились вокруг, бормоча слова утешения и ободрения, Уайэтт мог только стоять, ошеломленно схватившись за ванты и слепо глядя на залив Роанок. — «Надежда» погибла, — процедил он сквозь зубы. — Большие пушки, все мои товары. О Питер, что я сделал, чтобы заслужить такое?! Бедная Кэт! Бедняжка ребенок! Что мне теперь делать? Он позволил Питеру сесть за весла и отвезти себя на берег, оставаясь при этом мрачно молчаливым. Его синие отчаявшиеся глаза тупо смотрели на грязную воду, бьющуюся о борт их гички. Потеря судов снабжения «Надежды»и «Френсиса» оказалась даже для самых решительных поселенцев испытанием чересчур тяжелым. Поэтому в должныйсрок Ральф Лейн сжал зубы и подписал указ, обязывающий колонистов Ралея разрушить огнем поселение и с кораблями Золотого адмирала отплыть на родину.Книга четвертая ПРЕДПРИЯТИЕ
Глава 1 ПОРТСМУТ
Хотя флаги Святого Георгия, вымпелы и личные знамена браво развевались со всех топов мачт армады Дрейка, а его пушка гремела салютами крепости Портсмут, хотя множество небольших судов выплыло навстречу, чтобы приветствовать победителей, продубленное лицо адмирала не выказывало никаких признаков приподнятого настроения. Собственно говоря, этот храбрец не имел ни малейшего предположения о том, что неизбежно должна состояться некая встреча с лордом Беркли и сэром Френсисом Уолсингемом. Разумеется, он более чем в лучшем виде выполнил свои инструкции «побеспокоить короля Испании», временно разрушил колониальную экономику католического королевства и навеки покончил с мифом о ее непобедимости. Но все же оставался один неприятный факт: с финансовой точки зрения, это плавание оказалось самым разочаровывающим из всех, что предпринимались Дрейком с самых первых дней его морской карьеры. Дрейк подсчитал, что он и его компаньоны в снаряжении кораблей теряют по меньшей мере три шиллинга на каждый вложенный фунт, несмотря на те тщательно охраняемые золотые слитки, какие он вез на борту кораблей ее королевского величества «Подспорье»и «Бонавентур». Сегодня Дрейк облачился в свой излюбленный сине-золотой дублет и защелкнул вокруг толстой короткой шеи великолепный воротник, украшенный рубинами, бриллиантами и изумрудами; в ушах сверкали рубины в форме слезы, а на рукоятке эфеса рапиры горели живые зеленые огоньки массивного изумруда. Да, он должен взять себя в руки и подготовиться к бурным обсуждениям и едким комментариям в Уайтхолле. Например, почему это он не завершил свое предприятие захватом города Панама и его баснословных богатств? Еще более вероятный вопрос: почему не напали на Гавану, эту крепость казначейского флота Испании, лежащую прямо на пути домой? И разве Номбре-де-Дьос все еще не принимает эти денежно-звонкие караваны мулов с сокровищами, которые дважды в году, пересекая перешеек, прибывают из Панамы? По каким таким причинам не удержали или хотя бы не укрепили Картахену? Возможно ли объяснить королеве и ее советникам, что острие его оружия безнадежно затупила лихорадка, подхваченная на островах Зеленого Мыса? Он обязан вдолбить им, что к тому времени, когда армада завоевала Картахену, в живых оставалось менее половины солдат Карлейля и его собственных моряков, и многие из них не годились ни для работ с парусами, ни для сражений с противником. Дрейк машинально следил за тем, как украшенная флагами пинасса мэра Портсмута отчалила от мола и направилась к «Бонавентуру», свертывающему паруса и становящемуся на якорь. В справедливости Уолсингема Дрейк не сомневался. Наверняка этот проницательный политик поймет, что в некоммерческом отношении его экспедиция вовсе не является неудачной. В конце концов, разве он не захватил и не разграбил четыре испанских города и, что еще важней, разве не лишил два главных города Новой Испании всех средств обороны? Разве не победил он регулярную испанскую пехоту, посмеявшись над королем Испании в его собственной державе? Несмотря на потерю барка «Надежда», он везет в Англию двести сорок тяжелых пушек, и большинство из них — из латуни. Эта трофейная артиллерия должна оказаться самой полезной при вооружении тех быстрых военных галионов, сконструированных сэром Джоном Хоукинсом, которые теперь строятся на верфях таких мастеров кораблестроения, как Питер Петт из Дептфорда, Джон Эпслин, Ричард Меррит и другие. Он не знал, что удар, нанесенный им Испании, обсуждается далеко за ее пределами, от ледовых просторов Белого моря до дышащих влажными испарениями джунглей Африки и островов Пряностей, и что теперь имя Френсиса Дрейка звучит как зов трубы по всему известному миру. Дрейк не мог даже оценить в полной мере тот ужас, который наводило одно лишь упоминание его имени на моряков Филиппа. Поступали сообщения такого рода: когда становилось известно, что где-то поблизости находится «эль Драго», с кораблей его католического величества дезертировали целые экипажи. Заносчивые доны всерьез утверждали, что, поскольку испанские военные силы не может одолеть ни один истинный христианин, значит, «эль Драго», несомненно, запродал свою душу дьяволу. Поговаривали, что в каюте у него хранится магическое зеркало, выявляющее местонахождение испанских кораблей, численность их экипажей и все, что на них происходит; помимо этого он получил власть выпускать на волю шторма и заказывать штили, когда это отвечает его интересам. Как справедливо писал лорд Беркли: «Поистине страшным человеком является сэр Френсис Дрейк для короля Испании». И тем не менее в каком свете предстанет он сейчас перед этими беспристрастно холодными купцами в Лондонском Сити и перед чиновниками казначейства ее величества? Разумеется, то обстоятельство, что он и другие предводители экспедиции не взяли ничего из общего фонда, должно говорить в их пользу и склонить ее величество к меньшему выражению недовольства по поводу сравнительно скудных трофеев, привезенных им в этом году, но нет никаких гарантий, что его постоянно капризная королева не прикажет тотчас заточить его в Тауэр. Поэтому, предчувствуя недоброе, молча и с натянутой улыбкой на лице приветствовал Золотой адмирал его милость лорд-мэра Портсмута. Этот достопочтенный сановник предстал перед ним вспотевшим, с красным лицом; на шее его висела тяжелая золотая цепь, соответствующая его должности, а на плечах красовался отороченный соболем черный плащ. Внезапно лицо Дрейка осветилось неподдельной улыбкой. В его проворном мозгу возник новый чудесный — и при этом вполне созревший — план, который, он был уверен, на этот раз поможет пролиться обильным богатствам в вечно зияющую казну ее милостивого величества. Этот план был куда смелее, чем тот, что он только что провернул. Но при этом он казался вполне осуществимым. Вопрос заключался в том, дадут ли Дрейку его осуществить.Глава 2 СЕМЕЙНОЕ ВОССОЕДИНЕНИЕ
За этот последний 1586 год город Лондон разрастался быстрее, чем за любые предыдущие пятилетия. Успех различных торговых дел с портами России, Африки, Леванта и Германии позволил удачливым или преуспевающим негоциантам, навигаторам и спекуляторам построить множество новых домов, отвечающих их вкусам. Поэтому ветхий маленький коттедж вдовы Фостер теперь уже больше не был в получасе бодрой ходьбы за пределы нового фешенебельного района Святой Катерины и не был ближайшим домом. Новые дома, конечно же скромные, стояли теперь менее чем в ста ярдах от него. Им открывался прекрасный вид на илистые отмели со стоящими над ними испарениями и разнообразие гниющих корпусов всевозможных судов, шпангоуты которых на закате горели так же пугающе, как тела преступников, окоченевшие и высушенные солнцем, свисающие с виселиц в Доке экзекуций. День после полудня был жарким и влажным, и дым от лондонских труб, ставший гуще благодаря ввозимому из Ньюкасла новому топливу, называемому «морской уголь», низко стелился над зеркальной гладью желто-коричневой Темзы, поэтому маленькая Генриетта непрестанно капризничала. Наконец Кэт Уайэтт прервала стирку, отряхнула пальцы от мыльной пены и подняла малютку на руки. Снова мокра-мокрехонька. Кэт вздохнула и стала привычно менять ребенку застиранные рваные пеленки. Из-за этой влажной жары те из детишек Фостеров, кто оставался дома, сидели тихонько, за что Кэт была бесконечно им благодарна. Час назад вдова Фостер с бесформенной корзиной из стружек, свисающей с могучей красной руки, утопала на базар. — Ох, ну будь же умницей, — умоляюще попросила Кэт свою хнычущую малышку. — Знаю не хуже тебя, а даже лучше, моя бедная овечка, что жарко. Тыльной стороной руки она отвела со вспотевшего лба мягкую прядку своих светло-золотистых волос. Несомненно, ее уже далеко зашедшая беременность заставляла Кэт чересчур обостренно реагировать на влажность. Как ей хотелось просто спокойно прилечь на соломенную постель, купленную вскоре после того, как бравый красавец почтенный Френсис Декстер наконец-то уехал на войну. Она полагала, что наследник Декстер-холла, соответственно имеющейся у него информации, поступил с полагающимися приличием и заботливостью. За день до того, как его полувзвод кавалерии собрался на зеленой лужайке за господским домом, он весело пожаловал любовнице, которую собирался покинуть, кошелек, содержащий целых пять фунтов в монетах различного достоинства и чеканки. Но кроме того, он отдал ей нечто гораздо более ценное — тот лист бумаги форматом 13 на 17 дюймов, называвшийся «шутовским колпаком», на котором был записан тот факт, что Генри Уайэтт и его жена Кэтрин признали себя должниками Николаса Спенсера, который в присутствии нотариуса передал данное свидетельство о долге почтенному Френсису Декстеру. На этот раз неподдельная нежность сменила в улыбке Френсиса Декстера плохо скрытую похоть. — Призываю в свидетели всех сияющих ангелов Бога, Кэт Уайэтт, ты редкая, прекрасная бабонька, — сказал он. — Мне приятно, что у моего внебрачного ребенка будет такая чудесная красивая мать. — Он вскочил в седло, покрытое желтым бархатом. — Заходи ко мне, когда ему или ей что-нибудь понадобится — если пожелаешь. Клянусь, я не буду отрицать, что побочный ребенок — мой. Кэт снизу вверх посмотрела на него — молодого, красивого, темноволосого, верхом на серой выезженной кавалерийской лошади, которая могла подняться на задних ногах и ударить передними копытами так же хитро, как боксер. — Езжай, — сказала она низким голосом, окрашенным горечью и ненавистью слишком острыми, чтобы их можно было выразить. — Езжай и, когда окружат тебя враги, когда откажет тебе оружие и смерть заглянет тебе в лицо, вспомни, что мое проклятие тяжело лежит на твоей голове. Если же останешься цел на войне, тогда помни, что когда-нибудь Генри Уайэтт собьет с тебя спесь. Почтенный сэр Френсис слегка побледнел, но, подбирая вожжи, все же рассмеялся резким скрипучим смехом. — Гран мерси за такое прекрасное пожелание на дорогу, миссис Уайэтт! — прокричал он, дал шпоры коню и ускакал галопом, оставив ее стоять, совсем как беременную нежеланную шлюху, сжимающую его кошелек и бумагу о долговом обязательстве Генри. Все это вспомнилось, пока Кэт завертывала крошечное тельце Генриетты в чистые пеленки. Она с беспокойством осмотрела плохо сформированную ножку ребенка. Слава Богу, та выглядела немного прямей. Может, терпеливые растирания и поглаживания вернут ее в нормальное положение? — Иди-ка сюда, моя сладкая маленькая разбойница, — ласково проговорила она и, взяв ребенка на руки, перенесла его в тень груши, где ветерок с Темзы, возможно, сумеет уменьшить сыпь, покрывающую эти нежные шейку и ручки. Когда она укладывала малютку в камышовую корзину, служащую колыбелью, тень, упавшая на траву рядом с ней, заставила Кэт испуганно обернуться и встревоженно посмотреть вверх — в нынешние времена Лондонский Пул так оживился, что в город потянулись всевозможные люди в поисках работы на кораблях ее величества или на судостроительных и судоремонтных верфях на берегу Темзы. Кэт инстинктивно прижала к себе Генриетту, и ребенок завизжал. — Гарри! — Он стоял перед ней, худой и мускулистый, совсем не такой, каким она его запомнила, но в синих глазах сиял все тот же спокойный свет, волосы оставались того же густого каштаново-рыжего цвета, так возбуждавшего ее в Сент-Неотсе. — Кэт! Родная моя, милая! — вскричал он и широко раскинул руки. Но сияние на его лице поблекло, когда Кэт, избегая объятий, отшатнулась от него, словно от нищего, пораженного какой-то отвратительной болезнью. — О Гарри, Гарри! — запричитала она. — Неужели это действительно ты? — Конечно, я. Почему ты пятишься от меня? Разве малютка, которую ты держишь, не наша? — Да, она наша, но… но… Его радостный взгляд погас, когда он заметил, как задирается вверх на ее вздувшемся животе коричневый залатанный передник из грубой шерстяной материи. Он снова шагнул к ней. — Поцелуй меня, милая, ведь жуть как давно… — «Конечно, она просто прибавила в весе», — подумал Уайэтт. Но Кэт опять отшатнулась и пятилась до тех пор, пока ветви груши не преградили ей путь к дальнейшему отступлению. — Кэт, — в голосе его появились натянутость и резкость. — Кэт, почему ты так странно глядишь на меня? Почему ты пятишься? — О Г-гарри! Мне больше не… не подобает быть у тебя в объятиях или чувствовать, как ты целуешь меня своими д-дорогими губами. Он выронил из руки обтянутый вощеной бумагой сундучок и заключил мать с кричащим ребенком в свои объятия. — Посмотри на меня, Кэт, — потребовал он и крепко держал ее до тех пор, пока наконец ясные серые глаза жены не затрепетали, робко поднявшись, чтобы встретиться с его взглядом. — Прежде чем ты произнесешь хотя бы слово, знай: сейчас я так же уверен, как тогда, когда мы будем стоять пред Божьим престолом, в том, что, от какой бы напасти это ни случилось, это было не по твоей воле и не ради твоего удовольствия. Почти грубо он взял у нее плачущего ребенка, восхищенно посмотрел на это крошечное, залитое слезами личико и спросил низким голосом: — Как ты ее назвала? — Твою д-дочку зовут Г-генриетта. Уайэтт положил ребенка в корзину, затем, не обращая внимания на непристойные замечания компании моряков, идущих к реке, крепко, очень крепко прижал к себе жену. Наконец он отпустил ее, бездыханную, сияющую и в то же время очень несчастную, и, кивнув в сторону старой развалюхи, спросил: — Значит, здесь вы живете? — Да, Гарри. Уже больше года. Но не будем туда входить — проснутся дети Полли Фостер. О Гарри, Гарри, каким же ты стал сильным! — А ты такой красивой, какой мне и во сне не снилась. Они уселись на заросшую травой насыпь, и Кэт, отводя глаза в сторону и запинаясь, поведала ему печальную историю о том, как оказалась в отчаянном положении и как почтенный Френсис Декстер воспользовался ее несчастьем. От Генри она не услышала клятв отомстить и подумала, что это так на него похоже, однако заметила появившиеся по углам его рта незнакомые ей жестокие складки. Наконец он сказал: — Кэт, родная моя, верная моя супруга, пожалуйста, опиши мне этого парня как можно подробней. Не хотелось бы мне убить не того человека. — Нет, обещай, что не будешь нападать на него, — взмолилась она, охваченная дурными предчувствиями. — Что было, то было. Мастер Френсис ловко владеет и шпагой и пистолетом, а его папаша, лорд Энтони Декстер, придворный фаворит. Если он догадается о твоих намерениях, то убьет тебя в один миг. Румяное лицо Уайэтта потемнело пуще прежнего. Следующие слова он отчеканил так резко, словно выплюнул изо рта: — Не бойся. Я научился, как избегать ловушек, и больше не суну слепо свою голову в петлю. Когда этот гнусный пес Декстер издохнет, только один он узнает, что это я отправил его в ад, где он получит свое вознаграждение. Постепенно, радуясь тому, что они снова вместе, влюбленные забыли о своем несчастье, и, оставаясь под грушевым деревом, Уайэтт наглядеться не мог на крохотное личико своей дочери. «Спасибо судьбе, — мысленно успокаивала себя Кэт, — он так мало смыслит в грудных детях, что даже не заметит ее искривленную ножку». Солнце опустилось ниже, и вот по тропинкам, исчертившим узорами сельскую местность, побрели с пастбищ красно-белые коровы. А он описывал плавание, восхищался хитростью Золотого адмирала, его очарованием и оригинальными приемами ведения штурма Яркими, живыми красками он написал ей портрет своего друга Хьюберта Коффина и то, как обнаружил Питера среди колонистов на Роаноке. Он позволил ей живо представить себе разграбление Санто-Доминго и Картахены, захват Сент-Августина и, наконец, спасение тех умирающих от голода бедолаг на острове Роанок. Когда же Уайэтт дошел до рассказа о страшном шторме, его потемневшее от загара лицо сморщилось и голос стал резким. Слова сходили с языка медленно и неловко, когда он поведал о гибели «Надежды» со всеми матросами и о потере добытого таким тяжким трудом состояния. — Ты в этом нисколько не виноват, мой милый. Что бы там ни ожидало нас впереди, мы выкрутимся. — Кэт стиснула его руку и твердо посмотрела в темные, широко расставленные глаза. Он поцеловал ее с благодарностью, граничащей с благоговением. — И все же, моя голубка, не так, совсем не так представлял я себе свое возвращение. Нет у меня ни ожерелья, чтобы украсить твою чудесную шейку, ни отрезов шелка или парчи, чтобы сшить тебе новое платье. Должно пройти еще какое-то время, прежде чем я смогу все это дать тебе и позвать строителей для закладки нашего дома. — Нет, Гарри, ты принес домой сокровище, которое дороже всего, что есть в Мексике или Перу, — тихо проговорила Кэт, приблизив губы к его уху. — Для меня во всем мире единственная ценность — это ты сам, стойкий, упрямый и любимый муж. И я уверена, что ты всего добьешься и счастье улыбнется нам. Они немного помолчали, глядя на поднимающийся вверх по Темзе большой галеас, окруженный стаей голодных чаек. — Возможно, милая Кэт, я преувеличил свое невезенье, — улыбнулся он. — В общем-то мы с тобой не такие уж бедные и даже можем купить небольшой коттедж. — На ее вопросительный взгляд он добавил: — Благодаря сэру Френсису. И немудрено, что его всегда любили подчиненные. — И почему же? — Это он первый подал пример, отказавшись от своей доли сокровищ, что были завоеваны нашей эскадрой. У меня в этом сундучке около двадцати пяти фунтов чистейшего золота. Как я уже говорил, нам хватит, по крайней мере, на собственную крышу. — Собственный дом… — Глаза у Кэт заблестели. — О Генри, это было бы раем! — Но тут же она поспешила виновато добавить: — Нет, конечно, от Полли Фостер я не видела ничего, кроме невероятной щедрости и доброты. — Вдова Фостер будет вознаграждена в первую очередь, поскольку Николас Спенсер… — Он вспыхнул и, к несчастью своему, осознал, что ищет глазами позорное вздутие под фартуком Кэт. — Ты говоришь, что для бедного Ника наступили тяжелые времена? — Да. Полли говорит, что Ник Спенсер устроился работать простым изготовителем парусов — на верфи мастера Петтса, что на другом берегу реки. — В самом деле? — Уайэтт оживился. — Тогда уж точно у нас будет о чем поговорить. Кэт взглянула на него, как певчая птичка, испуганная неожиданным движением. — Разве из-за меня ты не бросишь море? Он коротко рассмеялся. — Да нет же, Кэт, нет. Во время нашего плавания я познакомился с некоторыми особенностями, касающимися строительства кораблей, которые должны ходить в длительные плавания и сражаться далеко от Англии. Я даже выслушивал специальные мнения нашего адмирала насчет того, как следует вооружать боевой корабль и рассчитывать его нагрузку. — О Гарри, Гарри! Как было бы замечательно видеть тебя каждый день. Хотя бы какое-то время. — Блеснули в лучах заката ее светлые волосы, и она теснее прижалась к этому поджарому телу, о котором так долго могла только мечтать. — И вот что, давай переселимся на другой берег. Там, в Хорсей-даун или в Соутуарке, никто никогда не узнает, что это, — она презрительно щелкнула себя по животу, — сорняк, а вовсе не твое доброе семя.Глава 3 В ЗАМКЕ ФОТЕРИНГЕЙ
Зловещие тучи выросли над горизонтом для Елизаветы и ее английского королевства осенью 1586 года. Повсюду на континенте, за исключением Нидерландов, ходили разговоры о большом крестовом походе, который замышляли главные фигуры контрреформации. В Испании, Португалии и на двух сицилийских островах заканчивалось строительство военных кораблей — и все потому, что на сей раз магическое зеркало сэра Френсиса Дрейка изменило ему и он каким-то образом упустил возможность перехватить в том году испанскую флотилию у берегов Кубы, когда уходил обратным курсом с Матанзас в Кабо Антонио. Хуже того, поступили неопровержимые сведения о том, что Филипп Испанский и католические власти державы своим декретом приговорили Елизавету к смерти. С их стороны это было вполне логично, поскольку дочь Анны Болейн являлась главной опорой протестантского движения и ее королевство стало точкой сплочения сил для безжалостно преследуемых голландских и французских гугенотов. В тавернах, особенно вдоль побережья, даже люди простого сословия глухо ворчали, что, мол, с этой Марией Шотландской нужно наконец что-то делать, поскольку она непременно присвоит себе корону Англии, если восстановится власть католиков. Какого черта эта наглая потаскушка, у которой было по меньшей мере два мужа и Бог знает сколько любовников, продолжает жить-поживать в приятном тюремном заключении в Чартли? После раскрытия заговора Энтони Бабингтона, когда было доказано, что не только король Филипп, но и сам Папа предлагали вознаграждение за убийство королевы, вспыхнуло всенародное возмущение. Несмотря на все, сама Елизавета продолжала смотреть сквозь пальцы на грозящую ей опасность и упорно отказывалась даже рассматривать вопрос о подписании смертного приговора неисправимой интриганке — своей кузине Марии. По своему обыкновению, королева колебалась между сверхосторожностью Беркли и раздраженной воинственностью Уолсингема. Хуже того, Елизавета внезапно прекратила платить своим войскам, стоявшим на защите протестантского дела в Нидерландах. Ни единого шиллинга не желала она вкладывать и в завершение строительства новых военных судов в Дептфорде и Гринвиче. Напрасно ее новый Верховный адмирал лорд Хоуард Эффингемский дружески пенял ей на то, что это равносильно согласию лишиться трона. Не способствовало общественному успокоению и то, что Дрейка считали слишком неродовитым для присвоения ему звания главнокомандующего военно-морским флотом королевы — хотя из десяти тысяч человек, знающих о ратных трудах Золотого адмирала, одному только было хоть что-то известно о лорде Хоуарде Эффингемском. Слава его была еще впереди — и, впрочем, не за горами. Возвращающиеся из плаваний морские капитаны с беспокойством передавали многочисленные слухи о бурной активности в Лиссабоне, Кадисе, Байоне и других испанских портах. На их верфях тысячи рабов — маронов, турок, европейцев-протестантов — трудились и выматывались настолько, что с ног валились от усталости. Сознанием англичан правила мрачная неопределенность. Почему Глориана не желает повернуться лицом к назревающей опасности? Всем, кроме совсем уж безнадежных дураков, было ясно как Божий день, что ей и Англии скоро придется сражаться за само свое существование против подавляющей мощи Филиппа и его союзников. Теперь, когда не стало больше друга Англии Анжу*["344], герцог Гиз отдавал, хоть и скрытно, богатство и мощь франции на подкрепление сил контрреформации. Вдоль всего южного и восточного побережий Англии дворяне за свой счет стали строить наблюдательные вышки, проводить строевые учения с отрядами самообороны и обучать своих неуклюжих деревенских парней тому, как, помимо навозных вил, нужно пользоваться пикой. Снова зазвенели луки и стрелы полетели в вековые дубы-мишени, и одновременно повсюду возникали полигоны для пристрелки кремневых ружей. Если бы было даровано время, заявляли простые англичане, они смогли бы сдержать неприятеля. Но будет ли это время даровано? Похоже, не оставалось никаких сомнений в том, что «Английское предприятие» — так испанцы называли свое запланированное вторжение в Англию — непременно начнется к середине лета, прежде чем строительство новых кораблей королевы, хотя бы в половинном количестве, будет закончено. Однако оптимисты находили некоторое утешение в существовании горстки удобных в обращении военных кораблей с наклонными мачтами, которые теперь поднимали на борт свою артиллерию. Недавно законченные на военно-морских верфях, стояли большие корабли «Лев», «Дредноут»и «Радуга», полностью загруженные и экипированные, но еще окруженные рабочими лесами и клетями. В других местах четыре галиона, новой постройки, с одноуровневыми палубами, «Роубак», «Золотая монета», «Королевский купец»и барк «Хоупвелл», построенные на деньги Лондонского Сити, ставили мачты в степсы и натягивали ванты. — Это превосходные корабли, — сообщил Генри Уайэтт своей жене, когда они двигались по дороге, ведущей с судостроительной верфи Джона Эйди в Эрите, — но, увы, их слишком мало. — Как идет работа на «Мести»? — Медленно, чертовски медленно, — проворчал Уайэтт и, обняв Кэт рукой за плечи — она чрезвычайно раздалась в талии, — помог ей преодолеть некрутой подъем, ведущий к их прочному, заросшему плющом каменному коттеджу, расположенному возле Бэтл-бридж. — Но почему строительство так хромает? — с трудом дыша, проговорила Кэт и стерла капли пота с короткой верхней губы. — Из-за нехватки денег. Не хватает половины хороших корабельных или даже обычных плотников и прочих квалифицированных строителей, — с горячностью объяснил он. — Но все же когда «Месть» сойдет на воду и поплывет, моя куколка, он будет загляденьем. Больше нигде я не видел подобной мощи, столь удачно сочетающейся с высокими скоростными качествами. Кэт улыбалась про себя, пока Уайэтт болтал без умолку, вставляя в свой рассказ какие-то замысловатые словечки из морского жаргона, столько же мало ей понятные, как турецкая молитва. Но это было совсем не важно. Гарри был счастлив. В конце концов он победил в себе чувство горечи, порожденное потерей двух его судов с командами. Она надеялась также, что ему удастся забыть о ребенке, который вскоре должен родиться и стать лишь кукушкой в семейном гнезде Уайэттов. Кэт пыталась даже молиться о том, чтобы приблудный ребенок Френсиса Декстера родился мертвым или погиб в борьбе с ее организмом за вхождение в этот мир; но напрасно: ей это как-то не удавалось. По иронии судьбы, он все рос в ее животе и оказался гораздо активней, чем в той же стадии Генриетта. — Это правда, — наконец поинтересовалась она, — что раскрыт еще один заговор против ее величества? — Ей-богу, это так! Всего два дня назад схватили вооруженного убийцу — он стоял за шпалерами. На допросе он признался, что ему заплатили флорентийскими дукатами. — Уж теперь-то, наверное, Гарри, королева наконец обезвредит эту красивую французскую гадюку, которую она так долго пригревала на своей груди? — Наверное — ведь под угрозой оказалась безопасность Англии. Перед тем как скрыться за рядом лохматых кустов бирючины напротив их коттеджа, Уайэтт не удержался и бросил прощальный взгляд через плечо на далекие стапели, на которых с такой удручающей медлительностью обретал свою форму большущий галион «Ковчег Ралея». Со спуском на воду этот прекрасный корабль будет самым высокобортным военным судном из всех, что строились до сей поры для нового военно-морского флота. За ним виднелись силуэты килей и шпангоутов «Элизабет Дрейк»и «Элизабет Джоунас». Закончат ли их строительство вовремя, чтобы они смогли участвовать в нападении на высокие каракки испанского адмирала маркиза Санта-Крус? Это кажется маловероятным, размышлял рыжеволосый подмастерье корабельного плотника. В тот самый день, когда Кэт Уайэтт, корчась от боли и стыда, родила здорового черноволосого младенца, из ворот дворца Уайтхолл на пришпоренной лошади так стремительно вылетел всадник, словно сам дьявол гнался за ним по пятам. Он летел все быстрее, и вскоре эскорт его стал отставать в этой бешеной скачке по дороге к замку Фотерингей, куда 14 октября перевезли государственную преступницу Марию Шотландскую. Там ее дело разобрала королевская комиссия, которая без тени сомнений признала Марию Стюарт виновной в заговоре против жизни ее царствующей кузины. Этим всадником был секретарь мастер Биэйл, и шпоры свои он кровавил из страха, что ее величество королева может в последнюю минуту почувствовать угрызения совести — как это, впрочем, и произошло — и послать нарочного с приказом отменить смертный приговор королеве Шотландии, несмотря на то, что он должным образом подписан и скреплен печатью. Углубившись в сельскую местность достаточно далеко и скача по красивым холмам и долинам Бедфордшира и Хантингдоншира, мастер Биэйл поехал потише, чтобы его мог догнать эскорт. И только тогда ему стала очевидной чрезвычайно досадная и критически серьезная оплошность. Кто-то забыл включить в их число королевского палача. Не смея возвращаться, мастер Биэйл волей-неволей обшаривал округу, ища человека, искушенного в подобных делах. И вот изможденный до предела, с глубоко ввалившимися глазами мастер Биэйл передал этот коротенький лист пергамента, которому суждено было на столетия вперед определить судьбы Европы и мира, в руки человека, наделенного продолговатым лицом с острыми чертами, — в руки сэра Энгюса Поулета. Начальник тюрьмы замка Фотерингей приступил к выполнению своих обязанностей с той же поспешностью, что и мастер Биэйл. К приговоренной для последней исповеди послали священника, а в Хантингдон отправился конный отряд, вернувшийся тем же вечером с дюжим чернобородым детиной, в ужасе лепетавшим, что у него в подобного рода делах нет никакой сноровки. Когда на следующее утро жизнелюбивая, легкомысленная и трогательная Мария, бывшая королева Франции и все еще королева Шотландии, склонилась над плахой, городской мясник Хантингдона срубил с ее плеч красивую, но уже чуть седеющую головку, причем сделал это так неумело, что одним ударом не обошлось: раз шесть опускался его топор, чтобы закончить это кровавое дело. После этих шести ударов война с Испанией и сторонниками контрреформации стала делом решенным. Обо всех этих важных делах Кэт и Генри Уайэтт какое-то время оставались в полном неведении — их слишком занимали собственные проблемы. Посещающей Кэт повитухе показалось довольно странным то, что молодая чета может вглядываться в их прекрасного, крепкого сына-малютку с таким незначительным удовлетворением.Глава 4 ПОМЕСТЬЕ ПОРТЛЕДЖ
Хьюберт Коффин помедлил перед тяжелой, усеянной гвоздями дверью, ведущей в бывший поистине впечатляющий арсенал поместья. За ней он распознал низкий глубокий голос Питера Хоптона. Питер рассказывал: — Вы никогда не найдете другой такой прекрасной земли, как Америка. Ну, ребята, скажу я вам, эти жемчужины там во всех устрицах, и даже самые ленивые туземцы ходят в ночные горшки из чистейшего золота и спят на мехах, которые потоньше, чем на капюшонах олдерменов!*["345] Широко улыбаясь, Хьюберт замер на пороге, не решаясь войти, когда услышал привычный хор охов и ахов — в большом холле собрались вольные йомены, арендаторы и независимые фермеры, чтобы учиться военному делу у обученной рати сэра Роберта Коффина, и теперь они с удовольствием прохлаждались, упиваясь байками Питера о богатой стране Виргинии. — А если вы желаете иметь тепленьких покорных и послушных девчонок, — рассказчик смачно подмигнул, — тогда, мужики, там вам на выбор дочки вождя дикарей. На мордочку эти бабенки вполне смазливые, и сложенье у них недурное, в чем сами легко можете убедиться, потому что вся их одежда — это лоскут, обернутый вокруг бедер, и редко что-нибудь больше. — Брось, парень, — вмешался голос с резким девонширским акцентом, — дуришь нас, что ли? — Бог мне судья, — прогремел Питер, — я бы ни на волос вам не соврал. Тут громко заговорил неглупого вида парень, в котором было что-то от клерка. — Но где же все эти богатства, добытые вами, мастер Хоптон? Вы ведь сейчас всего лишь простой канонир. Через полуоткрытую дверь Хьюберт заметил, как Питер в сердцах покачал своей желтоволосой головой. — Эх, парень, душу ты мне терзаешь такими сомнениями. Добыча моя, взятая в Санто-Доминго и Картахене, а также богатства, которые мне принес штурм крепости вождя Чапунки, все это я потерял, когда барк «Надежду» накрыло огромной волной у побережья Виргинии. С ней затонуло еще большее состояние, завоеванное моим добрым другом и кузеном Генри Уайэттом. Питер случайно глянул вверх, увидел Коффина и нахально ухмыльнулся. — Вот, сквайр Коффин подтвердит мои слова. Разве «Надежда» не затонула возле острова Роанок? Хьюберт кивнул, но воздержался, не стал говорить о том, что Питер все накопленные им ценности благополучно привез домой — хотя до сих пор все жаловался на свою планиду за то, что пришлось ему все же расстаться с угодливыми служаночками из племени монокан. — Хорошо, что все вы собрались, — заговорил молодой Коффин, окинув взором спокойных светло-карих глаз головы и широкие красноватые лица сельчан, в неловкости застывших в увешанном оружием зале. С первого же взгляда бросалось в глаза, что почти развалившиеся окна старинного арсенала поместья Портледж стояли без стекол — как и почти четверть века до этого. Тут и там сквозь крышу залы пробивался дневной свет — вот до чего обеднел сэр Роберт. — У меня новость. Только что из Байдфорда, — объявил он звенящим голосом, — отправляется экспедиция против испанских папистов. — Кто будет командовать? Гренвилль? Хоуард? Фробишер? — раздался хор голосов. — Нет. Кто же еще, как не наш девонширец, наш славный сэр Френсис Дрейк. Даже Питера Хоптона поразило, с каким жаром люди восприняли это сообщение. После взрыва ликования сельчане сгрудились вокруг Хьюберта, почтительно желая узнать об условиях найма добровольцев. Какова будет доля простого солдата или йонкера? Какую можно ожидать компенсацию в случае потери зрения или конечностей? — Что касается последнего, — заявил им Коффин, — вы не получите никакой компенсации — ни фартинга. Я считаю делом чести предупредить вас, что все морские порты в Англии просто кишат безрукими и безногими попрошайками, которые когда-то служили на кораблях королевы. — Моряки — это ладно, — выкрикнул щербатый деревенский парень, — но я-то, я-то ведь пойду в солдаты. Их-то судьба неужто не лучше матросской, ваша честь? — Нисколько не лучше! — живо отвечал Хоптон. — И в придачу ты будешь выполнять какую-то долю матросской работы. На руке молодого Коффина блеснуло кольцо с печатью, и разворачиваемый им документ мягко потрескивал. — Королевская эскадра, — объявил он, — должна собраться в Плимуте в течение месяца марта этого, тысяча пятьсот восемьдесят седьмого года от Рождества Христова. В составе ее будут три наших новых военных галиона: «Лев», «Дредноут», «Радуга»и старина «Бонавентур», который некоторые из вас видели, а кое-кто даже на нем служил. Инспектор кораблей оказал ему честь, прибавив к его названию имя королевы, так что наш старый флагман теперь известен как «Елизавета Бонавентур». Плотный туман с Ирландского моря начал заволакивать девонширский ландшафт, и вот его щупальца стали пролезать в разбитые окна старинного здания. Печальные вздохи ветра, раздававшиеся в сосновом лесу, что раскинулся за норманнской башней поместного замка, отчетливо зазвучали и в арсенале, когда люди вдруг замолчали, захваченные жгучим интересом. — Помимо этих, будут четыре больших военных корабля, принадлежащих Лондон-Сити, и четыре корабля, принадлежащих нашему адмиралу! Снова поднялось ликование, как, впрочем, поднималось оно по всей Англии, когда народ с тревогой и надеждой смотрел на единственного человека, который мог бы держать католические державы на почтительном расстоянии, ибо с тех пор, как стало известно о казни Марии Шотландской, по всему разъяренному Европейскому континенту стали сколачиваться армии. Летом непременно будет сделана попытка вторжения — в этом были уверены все. Молодой сквайр оглядел собравшихся и твердо спросил: — Кто из вас хочет участвовать в этой экспедиции? Все, за исключением нескольких престарелых йоменов, которые, видимо, не могли покинуть свои фермы, подняли руки, после чего послали за викарием Джефферсом, чтобы он записал их имена и пожелал им как следует отличиться. — Через день на восходе солнца вы соберетесь здесь, — уведомил добровольцев Коффин-младший. — Я поведу вас строем в Байдфорд, где мы погрузимся на корабль, идущий в Плимут. А теперь ступайте и займитесь своими делами. — А вы, ваша честь? — спросил кузнец. — Мы не пойдем воевать, если кто-нибудь из Коффинов не поведет нас. Худое лицо Коффина застыло в напряженной маске. Недавно у него случился рецидив, хотя и в более мягкой форме, той мучительной лихорадки, что скрутила его у островов Зеленого Мыса. — Я иду с вами. Так же, как сэр Роберт вел ваших отцов, а сэр Джеффри — ваших дедов. Они грянули здравицу в честь молодого сквайра, и, как подобало свободным людям, каждый из этих парней с мозолистыми ладонями вышел вперед, глянул ему в глаза и крепко пожал руку. Оставив Питера Хоптона производить инвентаризацию немногочисленного годного к бранной службе оружия и доспехов, оставшихся в собственности сэра Роберта, он зашагал назад к сырому, продуваемому сквозняками помещичьему дому, не замечая резких скрипучих криков бесчисленных грачей и галок, кружащихся над его замшелой и древней главной башней. На средства, привезенные им из Картахены, многое уже было сделано для реставрации большого холла в его былом великолепии. Он удовлетворенно улыбнулся: в оконных рамах виднелись новые ромбовидные стекла и полоски свинца. Новые дубовые ступеньки появились тут и там вдоль большущей лестницы, ведущей наверх в типично норманнскую галерею, где теперь яркими красками горели гобелены, что когда-то украшали дворец алькальда Картахены. Эти и другие украшения, такие, как захваченные у врага военные флаги, церковные мантии и накидки с капюшонами, висели, бросаясь в глаза богатством живых красок, среди изъеденных мышами и молью трофеев, накопленных прошлыми поколениями. С большим удовольствием заметил он сияющие на видавшем виды буфете два высоких серебряных канделябра с изысканной гравировкой, чеканный поднос и кувшин из того же металла. Наверху новые льняные простыни и покрывала, сделанные из меха молоденьких лам, придавали больше уюта той постели, в которой престарелый сэр Роберт проводил теперь почти все свое время по причине серьезного ранения, полученного в 1580 году, во время кровопролитной жестокой осады Смервика, когда лорд Грей разбил и уничтожил тех папских добровольцев, что вторглись в Ирландию под бездарным руководством бывшего эскулапа Николаса Сандерса. О том, что реставрация родового имения в Портледже находилась только в начале, со всей очевидностью говорила все еще протекающая над галереей крыша и его почти развалившиеся конюшни. Засунув руку в сумку, притороченную к поясу, Коффин-младший извлек оттуда еще одно послание, прибывшее вместе с депешей, сообщавшей о предстоящем сборе сил Дрейка в Плимуте. Почерк был изящным, незнакомым, в нем было что-то иностранное, но его содержание излагалось на хорошем, чистом английском языке. Это письмо, видимо, пришло из Испании в Байдфорд удивительно скоро — всего за три месяца. В нем содержались те слова, которые Хьюберт и предполагал увидеть, когда медленно тянулись неделя за неделей и никаких сообщений не приходило от Розмари Кэткарт и сама она не появлялась. В своем личном кабинете, мрачной сыроватой комнатушке, лишенной того предмета современного комфорта — камина, Хьюберт прочел ее послание. «Кадис, 18 декабря. Милый мой возлюбленный, только после долгого спора в моей душе между страстным желанием и чувством долга я берусь за перо и сообщаю тебе, что, как бы я ни обожала тебя, я не могу оставить отца, поскольку я теперь у него единственное дитя — мои единокровные брат и сестра погибли от мора после того, как ушел ваш флот. Отец сильно сломлен духом и мучительно разрывается между требованиями его религии и любовью к стране, где он родился и вырос. Ты должен понять и простить меня, мой милый Хьюберт, ведь я не могу приехать к тебе, хоть и отчаянно этого желаю. Дорогой, помни, что пути Господни неисповедимы, и все мы должны покорно склоняться перед его всевышней волей. Но помни обо мне только одно: я никогда не выйду замуж, никогда не забуду величие твоей души и благородство твоих поступков. Верь мне всегда. Обожающая тебя Розмари». Немного дрожа от озноба, Хьюберт встал, подошел к окну и стал смотреть на мокрый двор, где между кочками длинной ярко-зеленой травы тускло поблескивали булыжники. — Это недопустимо, — пробормотал он. — Видит Бог, я привезу ее в Портледж во что бы то ни стало, даже если мне придется в придачу привезти сюда и старого Кэткарта. Он распрямился и пошел в комнату больного, чтобы сообщить сэру Роберту о своем решении снова послужить под началом Золотого адмирала. К своему большому огорчению, Хьюберт Коффин не был, как прежде, назначен в команду корабля «Елизавета Бонавентур», а оказался на том самом маленьком «Френсисе», который он в последний раз видел выбирающимся из залива Роанок. Вместо того чтобы пойти ко дну возле побережья Виргинии, судно, гонимое сильнейшим ветром, унеслось так далеко в Атлантику, что его командир, сильно нуждаясь в запасах воды и пищи, остался с одним лишь выбором — идти на родину, и потому «Френсис» стал первым из кораблей армады, достигшим берегов Англии. Тем не менее Хьюберту было оказано особое уважение как джентльмену, прежде плававшему с адмиралом. С теми, кого он привел из западной части Девона, его назначили капитаном на борт «Френсиса» — собственности Дрейка. На этот раз разрастающийся порт Плимута не стал свидетелем поспешных беспорядочных приготовлений, которые предшествовали походу на Байону. Выведенные Дрейком из Плимута тридцать кораблей были прекрасно снабжены всем необходимым, вооружены и укомплектованы личным составом. В уединении своей заново отделанной в ярких тонах каюты сэр Френсис Дрейк с глубоким удовлетворением перечел полученное им поручение и инструкции, подготовленные верным его другом Уолсингемом и подписанные самой королевой. Он провел рукой по желтовато-светлым волосам, в которых тут и там пробивались серебристые пряди. Он одарил вице-адмирала Роберта Флика, стойкого и бравого солдата,командующего лондонскими галионами, той своей особенно очаровывающей улыбкой. — Послушай вот это, — сказал он Флику, перекрывая своим голосом ленивое поскрипывание рей и ритмичное шипение волн, трущихся о борт флагманского корабля. — Это та часть моего задания, которая отвечает моим самым сокровенным желаниям. «Вам надлежит помешать соединению в единую силу кораблей короля Испании, вышедших из разных портов, не давать им запасаться провизией, преследовать их в том случае, если они направятся к Англии и Ирландии, как можно большее их число отрезать от берега и помешать их высадке, а также нападать на те, что пойдут к Испании из Вест — или Ост-Индии или же выйдут из портов Испании; особо же вам надлежит тревожить их корабли в самих гаванях». — Заметил? — улыбнулся Дрейк в отличном расположении духа. — «Тревожить их корабли в самих гаванях». — И, поигрывая изумрудной подвеской, которую он сегодня выбрал, чтобы носить в левом ухе, продолжал: — А не лучше ли разбить весь флот в гавани вместо того, чтобы гоняться за ним по частям? Да, дружище Флик, думаю, мне нужно уделить особое внимание этому месту в инструкциях. Дрейк вдруг вскочил, откинул голову назад и звонким голосом провозгласил: — Я так подпалю бороду королю Испании, что вонь от ее тления разнесется за моря и океаны и объемлет сушу!Глава 5 ВЫСЕЧЕННАЯ ИСКРА
Из-за необычайно сильного шторма, застигшего английскую эскадру у мыса Финистерре, только 15 апреля 1587 года последний корабль Дрейка появился в заранее установленном месте встречи у Кабо-Рока, мыса, лежащего несколько севернее устья реки Тахо. Хьюберт Коффин записал в своем журнале: «Как если бы искупить свои злодеяния, боги моря отдали в наши руки два крепких торговых судна из Миддельбурга, только что вышедшие из Кадиса. Их капитаны, когда им было обещано, что их жизнь и суда останутся неприкосновенными, сообщили, что в просторной гавани Кадиса стоит большое количество крупных судов с запасами, а также много галионов и галеасов, которые испанский король заказал построить для себя в Италии. Эти пленники далее свидетельствовали, что гавань Кадиса так переполнена судами, что свободной остается примерно три кабельтовых открытой воды. Сегодня утром, 19-го числа, все капитаны сигналом были приглашены на борт флагманского корабля. Как капитан «Френсиса»я прихватил с собой старшего канонира Питера Хоптона. Когда собрался совет, сэр Френсис изложил свои планы, против которых гневно возражал вице-адмирал Уильям Бароу. В сильном раздражении вице-адмирал заявлял, что всякое нападение на Кадис будет чистейшей глупостью, поскольку город мощно укреплен; кроме того, в гавани стоит Бог знает сколько вражеских военных кораблей. С горячностью, какой я никогда прежде не замечал в его характере, сэр Френсис Дрейк перебил Уильяма Бароу, громко крича: «Вам приказывается следующее: следовать за моим флагманом и подчиняться моим сигналам». По-моему, в возражениях вице-адмирала было много справедливого, однако он слишком долго служил в военно-морском флоте и, наверное, к старости стал боязливым. В заключение сэр Френсис указал, что, в конце концов, некоторые моменты нужно оставить на произвол судьбы и что в морской войне нет ничего определенного «. Под жарким солнцем у сквайра Хьюберта Коффина разболелась голова, и он закрыл свой письменный стол как раз в тот момент, когда его штурман, перевалившись через борт, ступил на крошечный ют «Френсиса». — Видна земля, сэр. Наш разведчик только что подал сигнал. Вскоре и сам Хьюберт сумел различить берег Испании: за вздымающимся синим простором тянулась простая желто-коричневая полоска земли. Как бы ему хотелось иметь сейчас при себе эти магические стекла, которые постепенно входили в практику. С помощью такого инструмента далекие предметы выглядели так, будто каким-то чудом они оказывались под рукой. Поскольку собственное судно Дрейка являлось одним из самых малых кораблей, то и шло оно далеко позади за кормой тех восьми галионов и больших кораблей, что теперь составляли основную ударную силу его эскадры. Между ними и маленьким «Френсисом» шли другие частные суда: два принадлежали Хоукинсам и одно — старому сварливому Мартину Фробишеру, хоть он и ненавидел Дрейка до мозга костей и неоднократно в этом признавался. Там были также частные корабли из Гулля, Плимута и с острова Уайт, имеющие на борту лишь по две пушки, но битком набитые полными страстного желания, крепкими и энергичными юношами и мужчинами. На палубе «Френсиса» пушкари и солдаты заботились о своем вооружении и снаряжении, а новички шумно хорохорились, чтобы только не показаться трусами перед лицом того, что их ожидает впереди. К четырем часам пополудни английская эскадра, ведомая четырьмя галионами королевского военно-морского флота и четырьмя кораблями Лондонского Сити, смело вошла в проход, ведущий во внешнюю гавань. Коффин с полыхающей на ярком свету соломенно-золотистой бородой подозвал к себе моряка, утверждавшего, что лет пять назад уже заходил в гавань Кадиса. Новый рулевой говорил о Лас-Пуэркасе, о двух обширных отмелях, преграждающих путь в гавань при входе и вынуждающих суда идти фарватером и проходить рядом с сильно вооруженным фортом. За этим замком-фортом располагался город, а внизу под ним лежала вторая, или внутренняя, гавань; еще дальше вверх по реке находился городок второстепенного значения под названием Пуэрто-Реаль. Рассказывая, рулевой навалился на румпель и взял слегка влево, чтобы использовать всю силу шквального ветра, налетевшего с северо-западной стороны. Этот ветер оказал «Френсису» такую хорошую услугу, что судно резво понеслось вслед за «Львом» вице-адмирала Бароу. На английских судах у солдат и матросов постепенно сжимались челюсти и сужались глаза, по мере того как неумолимо приближалась мощная батарея, стоящая ниже ориентира под названием Геркулесовы Столбы. Вот уже стали различаться красные крыши старинного города Кадиса, сверкающие на вершине высокого берегового утеса, потрепанный бурями замок Мата-Хорда и другие более мощные стены, возведенные с целью защиты гавани от атаки с моря. — Бог ты мой! — неожиданно выпалил Питер Хоптон. — Только взгляните на это! Корабли авангарда эскадры теперь поворачивали право руля, тем самым открывая вид на порт для тех, кто шел позади. Никто еще на «Френсисе» не видел такой плотной массы судов, что сгрудилась впереди. Моряки узнавали большие каракки, аккуратные военные галионы, скромные транспорты, круглоносые голландские хольки, когги (неповоротливые, неуклюжие тихоходы), а также галеры и галеасы любого мыслимого тоннажа и конструкции. Хьюберт, как обычно в глубоком волнении, медленно заработал челюстями, как бы прожевывая что-то невидимое. Где-то в одном из тех миленьких городков и селений, усеявших берега залива, Розмари Кэткарт, верно, мучается от ужасных воспоминаний, наблюдая за приближением вот уже второй английской флотилии — хотя в тот момент не было видно ни единого флага с крестом Святого Георгия — и ни один не взвился на мачте до тех пор, пока пара больших испанских галер, несущих службу охраны, не вышла навстречу неизвестным гостям, чтобы осведомиться о цели их прибытия. Дрейк подпустил галеры на расстояние выстрела из длинноствольных пушек и только тогда поднял знамя королевы и несколько Георгиевских флагов. Затем он дал по ним бортовой залп, заставивший изумленных испанцев неуклюже улепетывать в порт Санта-Мария, лежавший вместе с портом Санта-Катерина в той же гавани на другой стороне от Кадиса. Через десять минут английские корабли поравнялись с фортами и открыли огонь по массе испанских судов, не готовых к плаванию и сбившихся в одну кучу, как овцы в загоне. Многие корабли оказались совсем неспособны к навигации по той причине, что испанский адмирал, маркиз Санта-Крус, чтобы отбить у них охоту к дезертирству, приказал им снять паруса и оставить их на берегу. Другие — и таких было много — все еще не получили свою артиллерию, и их пушечные порты зияли пустыми и черными прогалами, словно в челюсти человека отсутствовали некоторые зубы. — Итак, попляшите-ка под нашу дудку, — ликовал Питер Хоптон, стоя на своем посту среди пушек «Френсиса». — Смотрите, как жахнул «Бонавентур» по тому здоровенному кораблю из Рагузы. Один за другим, подходя на расстояние выстрела, корабли Дрейка открывали массированный разрушительный огонь по сгрудившемуся флоту испанцев. Поскольку английские канониры просто никак не могли промахнуться, каждый их выстрел производил страшный беспорядок. Залп за залпом заставляли сотрясаться воды гавани, и грохот, отражаясь от крепостных стен Кадиса, уносился с глухим урчанием по окружающим город холмам. Поодиночке, по двое, по трое высокие английские корабли проникали в гавань и давали залп из всех своих крупных пушек и кулеврин по безнадежно застигнутым врасплох и охваченным паникой береговым батареям. Когда пришла очередь «Френсиса» присоединиться к этой сокрушительной канонаде, Хьюберт Коффин приказал поднять свой личный золотисто-зеленый флаг с изображением семейного герба, надел шлем и звенящим голосом отдал приказ своему старшему канониру открыть огонь. Рулевому он приказал направить корабль к небольшому голландскому кромстеру, которому удалось выпутаться из чудовищного сумбура, и теперь он пытался улизнуть из гавани. «Голландец» все приближался, под порывистым ветром трепетал его коричневый грот. Первый бортовой залп «Френсиса» оказался хоть и с небольшим, но недолетом, и Питер, ругаясь, как дьявол, приказал еще дальше загнать подъемные клинья под казенную часть его ярко-бронзовых полукулеврин и сам прочистил щеткой банника зловонный канал ствола третьей бортовой пушки. «Голландец» шел теперь так близко, что Питеру были видны испуганные физиономии, выглядывающие над поручнями. Рявкнули две его пушки: одно ядро со свистом промчалось сквозь снасти «Френсиса», другое проделало рваную брешь в его треугольном парусе. Во второй раз содрогнулся маленький «Френсис», накренился от собственного залпа, и на какой-то момент «голландец» исчез за большими клубами зловонного серого дыма. Перезаряжая пушки, канониры на «Френсисе» слышали оглушительные взрывы во всех направлениях, треск расщепляемых досок и вопли людей, гибнущих в страшных смертельных муках. Когда порыв ветра отнес этот дым в сторонку, на «Френсисе» сначала прогремело «ура», а потом разразились горячей бранью. «Голландец» потерял единственную свою высокую мачту, а вдоль его ватерлинии зияли такие пробоины, что ему, очевидно, оставалось только затонуть, унеся свой груз на дно. Члены его экипажа прыгали в воду и отчаянно пытались уцепиться за плавающие обломки. Адский грохот все возрастал, а с ним — и смятение испанцев. Некоторые вражеские корабли уже загорелись, и плывущий серовато-белый дым орудий смешался с густым едко-синим дымом пожаров, стелющимся над гаванью. — Давай к тому галиоту! — крикнул Коффин в сложенные рупором ладони, потом шпагой указал на длинное низкое судно, которое шло на веслах и старалось укрыться под защитой орудий батареи близ Санта-Катерины. За этим судном готовились двинуться десять военных галер. Командовал ими адмирал дон Педро де Асуна. Когда «Френсис» погнался за галиотом, сквайр Коффин нашел возможность оглядеться и увидел, что, подчиняясь сигналам с «Елизаветы Бонавентур», три королевских корабля — «Лев», «Дредноут»и «Радуга» вместе с флагманом — сворачивают в сторону, чтобы встретить угрозу, представляемую галерами дона Педро, оставляя галионы Лондонского Сити и частные военные корабли продолжать вносить хаос в путаницу судов, что стояли на якоре в центре гавани. Де Асуна решил вести галеры вперед, развернув строем фронта, с тем чтобы каждый корабль его флотилии мог бы стрелять из своих погонных орудий на носу до тех пор, пока не придет момент идти на таран. Всем на «Френсисе» было видно, что на баке и корме вражеских кораблей столпилось множество облаченных в доспехи солдат — в то время считавшихся самыми лучшими и отважными в Европе. Дрейк, как живо сообразил Коффин, вовсе не намеревался позволять грозным военным машинам Асуны подходить к себе на таранную или абордажную дистанцию, поэтому, ведя четыре королевских галиона кильватерным строем, он прошел прямо перед носом врага и дал по нему несколько сокрушительных бортовых залпов. В сущности, Дрейк впервые в истории применил военно-морской маневр, известный теперь под названием «Пересечение Т». Теперь, когда «Френсис» быстро догонял свою жертву, Коффин мог только увидеть, как бортовым залпом с «Дредноута» разнесло тройной ряд весел ведущей галеры. Десятки лопастей взлетели высоко в воздух, и, когда галеру повело вбок, сломанные черенки усеяли воду гавани, подобно увядшему рогозу в пруду. Лишенная движущей силы с поврежденного борта, кричаще яркая желто-голубая галера де Асуны резко сбилась с прямого курса и чуть не протаранила соседний в ряду корабль. Тут же за этим галиот — по флагам венецианский — оказался в зоне досягаемости для артиллерийского огня и пошел палить по «Френсису» из двух маленьких пушек, чьи шестнадцатифунтовые снаряды нисколько не повредили судну Хьюберта Коффина. Резко положив руль вправо, он предоставил Питеру Хоптону возможность произвести сокрушительный бортовой залп по шкафуту противника, который, должно быть, прикончил многих несчастных, прикованных к веслам галиота. Видимо, крепко досталось и воинам, ибо итальянец закричал, предлагая сдаться, и спустил яркий флаг своего города — золотистый крылатый лев Святого Марка на алом гербовом поле.Глава 6 ПРИЗ
К наступлению темноты вся эскадра Дрейка была охвачена бурным ликованием. О том, что очередной испанский корабль потоплен, загорелся или захвачен, Дрейк, меряющий шагами палубу юта «Елизаветы Бонавентур», узнавал по оглушительным радостным воплям. Вскоре пришло подтверждение: в руки англичан попало тридцать три вражеских судна, помимо сожженных и потопленных кораблей. Из них — пятерка высокобортных больших кораблей из всех портов Испании и Португалии. Радовало еще и то, что эти высокобортные корабли оказались под завязку загруженными всевозможными морскими припасами, артиллерией и порохом. Через какие-то считанные часы англичане с жадностью взирали на обилие сухарей, оливкового масла, сушеной рыбы, солонины и фруктов. Но больше всего их радовал широкий выбор изысканных вин. Эту провизию испанцам было бы нелегко восстановить. Съестные припасы оказались особенно желанны английской эскадре еще и потому, что на судах королевы провизии хватало всего на три месяца, а на судах Лондон-Сити — на шесть. Хьюберт Коффин и его команда не спали всю ночь, чересчур поглощенные очень приятным делом: они принимали к себе на борт груз с венецианского галиота. С восторженными возгласами в трюме захваченного судна они обнаружили два железных сундука, да таких тяжелых, что с ними едва могли справиться четыре здоровых матроса. Тяжелым молотком быстрехонько посбивали с них огромные висячие замки, и когда с треском подняли крышки, там лежали мешок на мешке, а в них очумелым глазам победителей предстали монеты — серебряные, но с примесью золота. Были еще обнаружены шесть мелкокалиберных пушек из бронзы с прекрасными орнаментами и много кирас, шишаков и шлемов, в большинстве своем чудно украшенных инкрустациями из золота и серебра. Далее средь изысканных трофеев оказалось много хрупких и красивых предметов из стекла, которые владельцы галиота «Три Святителя» наверняка продавали, если попадался подходящий покупатель, как и рулоны шелковой материи, настолько тонкой, что сквозь нее можно было читать Библию. Хоптон радостно похлопал по сундукам с сокровищами. — Клянусь дымящимся хвостом Сатаны, это целое состояние, сэр, и ошибки быть не может. — Сущая правда, — ухмыльнулся Коффин. — Нам с лихвой хватит на всех даже после того, как адмирал и счетоводы ее величества потребуют свою долю. Само собой разумелось, что Золотой адмирал со своей знаменитой щедростью проникнется особым расположением к команде «Френсиса», поскольку этот жирный кусок достался его собственному кораблю и от этого выгода ему будет куда как больше. К утру всех пленных, взятых во время военных действий, интернировали на одном из захваченных галионов. Дрейк предвидел, что эти несчастные сукины дети отлично могут пойти в обмен за англичан, которые, возможно, гнут спины среди галерных рабов дона Педро де Асуны. Сгорая желанием поскорей информировать сэра Френсиса о прекрасной добыче, доставшейся его личному судну, Хьюберт приказал спустить на воду шлюпку и в теплящихся лучах рассвета поплыл к тому месту, где в последний раз видел флагманский корабль на приколе. К его сильному удивлению, тот исчез, хотя «Дредноут», «Лев»и «Радуга», как и прежде, оставались на своих местах. Потом Хьюберт обнаружил адмиральский корабль на новой якорной стоянке близ Пойнт-Пунтал, и от борта «Елизаветы Бонавентур» отваливало судно, в котором он узнал «Королевского купца». В его кильватере шли на веслах, словно утята за матерью, несколько пинасс. Несомненно, их целью была та внутренняя гавань, в которой находился большой галион — собственность адмирала Санта-Крус. Внушительных размеров (свыше 1200 тонн водоизмещения) и совершенно новенький, он красовался великолепной отделкой. Над легкой дымкой тумана верхние летучие реи и паруса нависали величественно, словно венчаюшая горку сосна. В прибывающем свете утра те, кто служил на кораблях королевы, могли теперь созерцать один из высших актов бесстрашия их адмирала. Гремя бортовыми пушками по тем батареям, что дерзко осмеливались открывать по нему огонь, он вошел прямым ходом во внутреннюю большую гавань и напал на корабль испанского адмирала, словно атакующий молодой бычок. Затаившим дыхание встревоженным зрителям очень скоро стало ясно, что либо офицеры громадного галиона совершенно глупы и бездарны, либо на нем нет его регулярной команды, ибо из его позолоченных орудийных портов полыхнуло пламенем всего лишь раз пять или шесть, прежде чем «Королевский купец» пристал к его борту. Затем английские стрелы и мушкеты покосили тех, кто отважился стать на пути, и хорошо расчистили путь для тех, кто шел на абордаж, вооруженный шпагами и пиками. Чуть ли не сразу же замерли звуки сражения; это служило аргументом в пользу того, что флагманский корабль маркиза дона Альвареса Басан де Санта-Крус пополнил список трофеев Дрейка. Увы, его паруса находились на берегу, и хотя галион можно было бы провести на буксире мимо Пойнт-Пунтал в наружную гавань, далее пройти мимо усиленных батарей, охраняющих выходы из гавани в Атлантику, никак не получалось. Поэтому Дрейк приказал снять всю добычу с флагмана, а затем уничтожить его огнем. Страшно уязвленные этим жутким, немыслимым унижением способнейшего и знаменитейшего адмирала испанского короля Филиппа, испанские батареи осыпали вторгшийся флот сотнями ядер, которые почти неизменно не долетали до цели. Весь день продолжалась перевозка добычи на те захваченные суда, которые англичане решили увести с собой. Тонны припасов, жизненно важных для организации «Английского предприятия», были свалены в трюмы судов Золотого адмирала. Из-за множества неотложных дел Дрейк только к вечеру нашел возможность принять и поздравить своих капитанов. Несмотря на то, что почти двое суток адмирал не мог сомкнуть глаз, он бодро расхаживал, как всегда сияя улыбкой, похлопывая кого-нибудь по спине или с кем-то еще обмениваясь шутками. В любезном настроении, несмотря на недавнюю бурную стычку с вице-адмиралом Бароу, который уже намылился поднять паруса и убраться, пока не поздно, Дрейк всех без исключения одаривал подарками и комплиментами. Услышав о том, как Коффин захватил галиот «Три святителя»и произвел подсчет добычи, он крепко пожал ему руку и позволил себе удовольствие произнести одну из своих очень редких клятв: — Клянусь зеницами Господа, Хьюберт Коффин, ты истинный девонширец, если я такового встречал вообще. Ступай-ка теперь и скажи своим людям, что я дарую тебе и твоей команде половину той доли, которую я имею в добыче «Френсиса». Коффин воспарил духом: наконец-то он наверняка восстановит Портледж в его прежнем великолепии! Старый сэр Роберт сможет теперь на закате лет провести свои дни в том комфорте, который можно купить за такие деньги. Когда Хьюберт спустился на шкафут «Елизаветы Бонавентур», чтобы вернуться на свое судно, было замечено, что из порта Санта-Катерина, расположенного против Кадиса на берегу внешней гавани, вышло купеческое судно. Немедленный интерес вызвал тот факт, что, хотя по конструкции судно выглядело чисто испанским, оно шло под большим белым флагом, развевающимся с грот-марса, и с крестом Святого Георгия, видимо спешно сооруженным, — на бизани. Этот вражеский барк очень смело пробирался меж кораблей и обломков, усеявших воды гавани. Видно было, как его капитан окликает то этот корабль, то другой, пока наконец он не вошел в бейдевинд на расстоянии одного кабельтова от кормы «Елизаветы Бонавентур»и не отдал салюта своими флагами. Тут же с барка спустили шлюпку, и человек в черном плаще и камзоле спустился на ее кормовой настил. Когда шлюпка подплыла поближе, Коффин смог различить незнакомца: седобородый, лицо покрыто густым загаром и для своих довольно преклонных лет держится удивительно прямо. — Эй, на борту! — прокричал незнакомец. — Прошу разрешения подняться на флагман. Хотя его платье было типично испанским, а экипаж не говорил по-английски, в этом оклике явно прозвучали модуляции выходца из восточного Райдинга. Поднявшись на борт, незнакомец прошествовал мимо кучки капитанов, ожидающих свои шлюпки, что позволило Коффину увидеть его вблизи и решить, что более грустных глаз он еще не встречал, что тонкое продолговатое лицо незнакомца все в жестких морщинах. Дрейк, спустившийся на палубу из своей каюты, чтобы осмотреть особенно редкостный ящик с серебром, ответил на низкий поклон старика любезным взмахом руки, а потом справился о его деле. — Цель моего визита, сэр Френсис, двоякая. Во-первых, я хочу предложить нашей милостивой королеве свои услуги и судно со всеми его припасами. Соломенно-желтая бровь адмирала озадаченно приподнялась. — Нашей королеве? По-моему, вы только что прибыли с берега. И уж конечно во всей Испании нет истинных англичан, пребывающих на свободе. Будто высеченное из камня лицо старика с пергаментным оттенком кожи чуть залилось румянцем. — Меня не преследовали, ваше превосходительство. Я католик. От сердечной улыбки Дрейка не осталось и следа. — Католик! Тогда, приятель, что вам тут надо? Незнакомец гордо вскинул седую голову. — Я здесь, чтобы бороться против самого греховного, самого безжалостного правителя со времен царя Ирода. — Кого вы имеете в виду? Короля Филиппа Испанского? — Враждебность Золотого адмирала пошла на убыль. — Да. Всего лишь три дня назад я своими собственными глазами видел приказ, написанный в Эскуриале, в котором говорилось, что, когда поход на Англию закончится ее завоеванием, ни один протестант мужского пола в возрасте свыше семи лет не должен избежать казни. По заваленной трофеями палубе пронесся сердитый гул голосов. Губы Дрейка сложились в узкую жесткую полоску. — Вы в этом уверены? Человек в черном плаще учтиво поклонился. — Иначе меня бы здесь не было. До той минуты я мыслил себя прежде всего католиком, затем уже англичанином. Но после прочтения того приказа, сэр, я изменил свое мнение на противоположное. Я прошу только об одном: позвольте мне, моему кораблю и моим домочадцам идти вместе с вами. Поверьте, я послужу вам всеми своими силами и способностями, если вы одолжите людей для управления моим «Сан-Марко». Пожалуйста, я готов изменить его название на любое, которое вы предложите. Дрейк пристально вгляделся в своего посетителя, не переставая подергивать себя за остроконечную маленькую бородку. — Что ж, сэр, я над этим подумаю. Ваше имя и положение? — До сего дня я был купцом в Санта-Катерине и Кадисе, торговал по лицензии с испанскими владениями в Карибском море, большей частью с городом, — тут губы незнакомца тронула невеселая улыбка, — который в прошлом году стал и вам очень хорошо известен. — С Картахеной? — Нет, ваше превосходительство. Я имею в виду Санто-Доминго. Там ваш набег ополовинил мои богатства и стоил жизни многих близких и дорогих мне людей. — Вот как? — Дрейк прикрыл свои небольшие ярко-голубые глаза. — От войны всегда кто-нибудь да страдает. Ваше имя? — Ричард Кэткарт, — отвечал человек в темном дублете, и Хьюберту Коффину показалось, что палуба закачалась у него под ногами. — Я должен бы сообщить вашему превосходительству кое-какие сведения наедине, — продолжал этот грустный, с чувством собственного достоинства человек. Хьюберт подался было вперед, но Дрейк уже ступил ногой на лестницу юта со словами: — Ну что ж, дорогой мастер Кэткарт, посмотрим, что за сведения вы мне сообщите по секрету. Впоследствии, и довольно скоро, офицер и простые матросы эскадры Дрейка узнали, что только благодаря доброй воле Ричарда Кэткарта стал возможным захват большого португальского судна «Сан-Фелипе»с сокровищами на борту. Когда месяца два спустя его доставили в английский порт, в сейфах его оказалось состояние ценностью около миллиона фунтов!*["346] Сгорая от нетерпения, Хьюберт походил по палубе, затем, пытаясь узнать, что происходит, окликнул «Сан-Марко», но не получил никакого удовлетворительного разъяснения. Темнолицые матросы на барке Кэткарта только глазели в испуге с вытаращенными глазами на эти мрачные военные корабли англичан, стоявшие повсюду, и на бесполезные призовые суда, которые либо пускали на дно, либо поджигали, чтобы они, дрейфуя, уткнулись в берег около эль-Диаман или сели на рифы, называвшиеся Лас-Пуэркас.Глава 7 ВОССОЕДИНЕНИЕ
Свет от полыхавшего галиона маркиза Санта-Крус и прочих пылающих остатков, отнесенных приливом к полуразрушенному второстепенному порту Санта-Мария, окрашивал снизу в оранжево-красный цвет висящие над гаванью Кадиса клубы дыма. На баке барка с прежним названием «Сан-Марко», которому теперь предстояло именоваться «Розмари», английские матросы и йонкеры, временно командированные для управления им, пили, плясали, громко распевали непристойные баллады, празднуя перевод из тесных и зловонных жилищ на борту военного корабля на это просторное и относительно чистенькое купеческое судно. Огни горели на всех кораблях английской эскадры: нужно было еще наложить доски на проломленные деревянные борта, залатать пробоины и кое-где пропустить новые канаты в такелаже. Более чем на дюжине судов, оставленных для пользы Англии, замечалась особенно бурная активность: их новые экипажи усердно трудились, знакомясь с непривычной для них оснасткой. На сиденье, установленном с подветренной стороны треугольной бизани барка, Розмари Кэткарт прислонилась спиной к сложенному парусу, и ее нежный профиль в свете трескучих пожаров окрашивался попеременно то в желтый, то в красный, то в розовый цвет. Ее пальчики, скрюченные в загорелой руке молодого Коффина, наконец расслабились. Она говорила довольно низким глубоким и мягким голосом: — Да, Хьюберт, просто в голове не укладывается, что столько всего могло произойти за одну неделю. Каких-то семь дней назад папа из кожи вон лез, оснащая флотилию маркиза Санта-Крус… — Она не договорила, обратив к нему свои губы еще за одним поцелуем. — Никогда не забуду той ночи, когда папа вернулся домой после оглашения того позорного приказа, когда он услышал, что его одобрил и похвалил сам архиепископ. — Значит, ты готова была плыть в любом случае? — поинтересовался Хьюберт. — Даже если бы наш флот не напал на гавань? — Да. Папа решил плыть в Голландию с припасами для армии герцога Пармского. Мы бы отплыли на будущей неделе, но… о, Хьюберт, ни он, ни я — мы никогда не забудем этого зрелища: как ваши высокие галионы плещут крестами Святого Георгия в лицо этой крепости Матагорда и всех этих жутких батарей. — Мы застали порт совершенно врасплох? Густые цвета — отраженья огней — заиграли на ее темных волосах, и она еще раз кивнула. — Все как громом были поражены, а когда зазвучало ужасное имя «эль Драго», о, ты бы видел, как все запаниковали. В Кадисе за сотню реалов нанимали простую телегу с ослом, и ты, наверное, заметил, что несколько судов село на рифы — так перепугались их капитаны. Ее изящная и худенькая фигурка была затянута в желтое бархатное платье, лишенное искажающей формы юбки с фижмами, и поэтому довольно точно повторявшее очертания тела. Коффин обнял девушку и, целуя крепко, прижал к себе. Ответив на поцелуй, она поинтересовалась тем, как закончилось плавание английской армады в прошлом году, и выразила сочувствие по поводу потери Генри Уайэттом его «Надежды». Она даже нашла что-то забавное, услышав правду о баснословных и несуществующих богатствах, которые в Северной Америке нужно просто поднять с земли. Наконец, снова обняв ее гибкое и трепетное тело, Хьюберт вздохнул и сказал: — Ну, мне пора, но, прежде чем уйти, я хотел бы попрощаться с твоим отцом. Розмари тихонько покачала головой. — Нет, бедный папа все еще стоит на коленях на своей prie-Dieu*["347], молясь со своими четками и умоляя Божественное откровение понять, что он не сделал ничего дурного. Дорогой мой, когда и где мы увидимся в следующий раз? — В Портсмуте скорее всего или, может, в Плимуте. Бог знает, что теперь намерен делать сэр Френсис. Он был прав. «Френсис» вместе с рядом других небольших частных военных кораблей был отряжен конвоировать захваченные трофеи назад в Англию, чтобы Дрейку ничего не мешало и далее «подпаливать бороду» Филиппу II. С собой он намерен был взять только самые мощные свои корабли и самый быстроходный транспорт с продовольствием. Где «эль Драго» нанесет свой новый удар? На этот счет испанские власти пребывали в мучительном сомнении, поэтому нарочные загоняли лошадей, скача на юг в Лиссабон, на север в Виго или южнее в Малагу. С бешеной поспешностью слались депеши даже в такую даль, как Старая Картахена, Валенсия и Барселона; кто знал, не захочет ли этот вечно непредсказуемый «эль Драго» вторгнуться в Средиземное море? Или, может, он снова идет в Вест-Индию? Теперь, когда он разжился небольшим состоянием, Хьюберт Коффин поздравил себя с назначением в конвой, и в этом он был не одинок. Самое важное было теперь — доставить трофеи Дрейка в английский порт и позаботиться о Розмари Кэткарт.Глава 8 НЕЛЕГКАЯ ЗИМА
Снова засвистели ястребы в давно пустовавших клетках поместного дома в Портледже, а несколько дюжих широкозадых племенных кобыл и высокогривых буйных жеребцов топтались в перестроенных конюшнях. Сегодня редкий снежный буран оставил такое впечатление, словно селедочная чешуя запорошила новые шиферные плиты на крыше поместного дома сэра Роберта Коффина. Мебель, выдержанная в изящном французском или итальянском стиле, заменила те неуклюжие и неудобные стулья с прямыми спинками, которые пару веков прослужили в личных жилых покоях семейства Коффинов. С осени восстанавливались обваливающиеся стены, и в свинцовое небо торчали две новые печные трубы, свидетельствуя о том, что в главной зале для гостей и в комнате сквайра Хьюберта можно теперь наслаждаться каминным теплом. Бравые молодые всадники, сопровождаемые дамами в плащах и с платками на головах, восседающими на седельных подушках у них за спиной, все чаще теперь проезжали в каменные ворота, новенькие и красивые, с гербом семейства Коффинов: на зеленом поле четыре черные византийские монеты, разделенные пятью крестиками. Семейный девиз «Omnia Recte Factis Proemia»*["348] был выгравирован так отчетливо, чтобы читали все. К крайнему удивлению Розмари Коффин, она сразу же стала в округе чудовищно популярной, несмотря на ее чужеземное воспитание, иностранный акцент и странную пищу, заказываемую к столу. На большом балу, устроенном для того, чтоб отпраздновать окончание ремонта большого зала, съехались все более или менее важные джентльмены в радиусе двадцати миль, чтобы восхищаться, если попросту не завидовать, серебряным столовым сервизом Хьюберта Коффина, его роскошными фламандскими гобеленами и, наконец, что не менее важно, его черноволосой молодой красавицей супругой. Живость ее ума и неподдельное, не выпячиваемое напоказ знакомство с изящной беллетристикой, искусством живописи и музыкой — почти редкостное для женщины того времени — привели их в восторг, чего не скажешь об их женах. Старый сэр Роберт теперь, когда обновили его продуваемую всеми ветрами комнату и страдающее тело лежало под теплыми легкими одеялами, а тяжелые бархатные портьеры преграждали путь сквознякам к его четырехстоечной кровати, ставшей ему тюрьмой, — почувствовал себя лучше. Старый вояка поправился настолько, что позволял сносить себя в кресле вниз, чтобы полюбоваться старинным испанским танцем павана. И всем стало казаться вероятным, что старший его сын еще долго останется просто Хьюбертом Коффином, сквайром. Конечно же младшие братья и сестры морского капитана ходили за ним по пятам и смотрели на него с обожанием, готовые подчиниться любому его капризу. Все это возникло лишь потому, что звонкая монета, обнаруженная в тех сундуках, захваченных на венецианском галиоте, была оценена в сорок тысяч фунтов — шесть тысяч из которых достались Хьюберту в качестве его доли как капитана и благодаря щедрости сэра Френсиса Дрейка. По Девонширу ходили слухи, что в результате захвата Сан-Фелипе» доля Дрейка в походе 1587 года равнялась семнадцати тысячам фунтов, а его вечно капризной владычицы Англии — кругленьким сорока тысячам. Из-за сильного северо-западного ветра, с воем несущегося над меловыми утесами, вечер выдался холодным и сырым. Перед сном Хьюберт со своей молодой женой поднялись в спальню сэра Роберта после того, как, исполненные сознанием долга, «председательствовали» за вечерним застольем в большом обеденном зале Портледжа. Там не менее двадцати трех слуг — от управляющего имением до посудомойки — приняли с ними участие в солидной трапезе: говядину, лук и капусту запили обилием кремово-коричневого эля. Старый дворянин с аккуратно подстриженной коротким клинышком бородкой прилежно читал срочное послание, полученное им в тот день от верного давнишнего друга, лорда Хоуарда Эффингемского. От жарко потрескивающего огня новые темно-зеленые драпировки его постели приобрели сочный, богатый оттенок. В канделябре горело не менее четырех высоких сальных свечей, нитяные фитили которых издавали ровное и чистое свечение — большой шаг вперед по сравнению с той единственной вонючей свечой из коровьего жира с ее камышовым фитилем, которая до той поры подчеркивала унылость обстановки, окружавшей ни на что не жалующегося ветерана. Розмари мило раздвинула веером широкие юбки, сделав низкий реверанс, принятый при дворе, потом подошла и поцеловала старого джентльмена в пергаментно-бледный лоб. — Добрый вечер, моя хорошая, — воскликнул сэр Роберт и зашуршал бумагами. — Садитесь с Хьюбертом у огня, и он нальет вам португальского вина. Редкая штучка, — он довольно хихикнул, — и уж коли оно греет мою стариковскую кровь, то вам-то, миссис Розмари, видит Бог, оно доставит редкое удовольствие и прекрасно встряхнет вас перед тем, как вы удалитесь к себе. — Сэр… тогда я налью Розмари полный бокал. — Хьюберт поспешил к камину, ибо снова небольшой рецидив лихорадки Зеленого Мыса, к ужасу его молодой жены, бросал его попеременно то в дрожь, то в жар — и так весь день напролет. Теперь ему холодило ноги. Тонкие, с голубыми прожилками руки сэра Роберта подняли и привели в порядок с дюжину листков плотно исписанной бумаги. — Эта новость, — сообщил он, — как ни странно, касается вас, Розмари. Лорд Хоуард, Верховный адмирал военно-морского флота королевы и убежденный католик, но лояльный до мозга костей, уверяет меня, что он принял вашего батюшку под свое покровительство и назначил его отбирать припасы для кораблей королевы. С темно-красных губок девушки сорвалось короткое радостное восклицание. Гораздо больше, чем кто-либо догадывался, она жила в мучительном страхе за отца, опасаясь, что фанатическая набожность протестантов, теперь разгоревшаяся с невиданной силой, поскольку позорный приказ Филиппа получил широкую огласку, может погубить Ричарда Кэткарта. — Я буду поминать лорда Хоуарда в своих молитвах каждый вечер и каждое утро в течение месяца, — пообещала она. — Я так благодарна вам, сэр Ричард, за то, что вы написали милорду Эффингему насчет моего отца. Гордая серебристая голова приподнялась, и серо-стальные глаза остановились на девушке. — Мог ли я сделать меньше для члена моей семьи? Было ясно, что старый вдовец получал глубокое удовлетворение от того, с каким умением его невестка вела домашнее хозяйство. Естественно, Розмари привыкла командовать всю свою жизнь десятками слуг и потому никогда не переступала за черту, отделяющую понимание от фамильярности со служивым народом в имении. — Для тебя мои новости, Хьюберт, — еще не утратившие своей свирепости глаза сэра Роберта глянули на сына из-под косматых седых бровей, — не совсем хороши. Увы, этот лорд Беркли со своими любителями испанцев, несмотря ни на что, заставили поверить ее величество, что не нужно оставлять надежды на мир с Испанией. — Господи! — вырвалось у Хьюберта. — Неужели королева не может понять, что король Испании ни за что на свете не забудет и не простит — особенно теперь, когда Дрейк посрамил его в Байоне, Вест-Индии, Кадисе и в форте Сагре на юге Испании? — Очевидно, ее королевское величество снова заблуждается. — Он насмешливо вскинул бровь, глядя на сына. — Знаешь ли ты, Хьюберт, что в этот самый момент твой адмирал является при дворе персоной нон грата? Что королева глуха к увещеваниям сэра Френсиса и игнорирует его клятвенные заверения, что Католическая Лига одержима страстной решимостью взять реванш? Слышал ли ты, что Филипп принял торжественную клятву добиться сожжения ее величества как еретички перед воротами собственного дворца? Разбуженная горячностью слов старого дворянина, дремавшая в углу гончая подошла к Хьюберту и положила голову ему на колени, затянутые узорчатыми черно-красными шелковыми чулками. — Лорд Хоуард свидетельствует, что не ранее как в прошлом месяце ее величество отказалась принять корону Нидерландов, боясь спровоцировать его кровавость Испании! Даже теперь, когда мы разговариваем, королева прислушивается к таким личностям из партии сочувствующих Испании, как сэр Джеймс Крофт, управляющий королевской резиденции, который обвиняет нашего адмирала в том, что он обманом лишил королеву ее истинной доли в сокровищах «Сан-Фелипе». Распространяются даже слухи, что сэр Френсис использует это краденое золото, чтобы сбивать с толку высших офицеров ее флота. Каково! Этот трясущийся старикашка, Уилл Бароу, обвиняет Дрейка в том, что он преступил свои полномочия, атакуя испанцев в их собственных портах. — Но… но, сэр, ведь известно, что сэр Френсис Уолсингем наделил нашего адмирала такими полномочиями — и за личной подписью королевы. Хрупкая дрожащая рука поползла вверх, чтобы погладить тонкую, как кружева, бороду. — А, ну конечно. Опять этот Френсис Уолсингем. Узнаю его почерк во всем этом деле по свойственной ему хитрости. Это похоже на него, ведь он жаждет войны с Испанией. Взять да и вставить такое вот предписание, настаивая на атаке, которая посрамила бы короля Филиппа в его собственных гаванях. — Ты хочешь сказать, что Уолсингем сыграл роль мартышки из старой басни и заставил сэра Френсиса играть роль кота, вытаскивающего из огня этот жареный горячий каштан, Кадис, вопреки желаниям королевы? — Мое мнение, что так оно и случилось. Однако, — он поднял лупу для чтения и провел ею дрожащей рукой над шелестящим пергаментом, — ты еще не слышал самого скверного. Ветеранов сэра Френсиса должны рассчитать, а его корабли отвести в резерв. И еще: ему запрещено посылать подкрепления тому гарнизону, что он оставил удерживать мыс Сент-Винсент. Фактически вся экспедиция Дрейка должна будет подвергнуться дискредитации, а сам он — лишиться поста командующего! Голос сэра Роберта ломался от возмущения. — Особенно лорд Беркли осуждает вашего адмирала за то, что он насмехался над маркизом Санта-Крус у берегов Лиссабона и дерзко требовал, чтобы дон маркиз вышел и дрался, как подобает мужчине. И вот что еще: вице-адмирал Бароу, который так подло сбежал от твоего адмирала на «Льве», уговорив свою команду восстать и изменить клятве верности, так-таки и не будет казнен. Даже наоборот, «Робкого Вилли» восстановят, и с новыми почестями! — Но… но, сэр, это же… это же невозможно! — выпалил Хьюберт, и его худое лицо залила краска гнева. — Ведь это был чистейшей воды мятеж. — Молодой сквайр нахмурился, долго смотрел на пальцы жены, порхающие над вышивкой на круглых пяльцах, словно ласточки над закатным прудом. — Ей-богу, сэр, просто не верится в такую несправедливость. Отправить флот в резерв, дискредитировать сэра Френсиса, а врага его, Бароу, превознести — это же уму непостижимо! — Мало из того, что происходит в Уайтхолле, можно постичь умом, — проворчал старик. — Это невероятное чудо, сынок, что слабости королевы пока еще не привели Англию к гибели — хотя через год-другой это может случиться. — Он, сидя на постели, подался вперед, и голос его внезапно преисполнился силы. — Запомни, Хьюберт, если половина из того, что сообщают шпионы моего друга, лорда Хоуарда, правда, тогда пройдет еще зима — и мы будем лежать раздавленными и побежденными могущественнейшими армией и флотом, которые когда-либо знал мир. Впервые за долгое время молчания заговорила Розмари: — За исключением того случая, если Бог и «эль Драго» будут воевать на нашей стороне! Старик удивленно раскрылглаза — в знак одобрения сделал глубокий глоток португальского вина из потира, который когда-то украшал алтарь в Санто-Доминго, и сказал: — Боюсь, что о Боге известно мне слишком мало, но что касается сэра Френсиса — Боже мой, Хьюберт! Видел бы ты его во время атаки на замок Рэтлин у побережья Антрим. Именно там, в Ирландии, я получил эту скверную рану, ты знаешь. Хозяин имения Портледж говорил очень редко о той экспедиции, в которой предводительствуемые им в 1580 году войска переправлялись по морю кораблями желтобородого, молодого, невысокого ростом вице-адмирала по имени Френсис Дрейк, Только совсем недавно стало известно Хьюберту, отчего сэр Роберт редко упоминал о захвате замка Рэтлин. А было сие потому, что весь его гарнизон вместе с женами и детьми ирландских вождей, отправленных туда ради их безопасности, был вырезан — и с такой жестокостью, что никого не осталось в живых. И тогда позорная черная тень легла на протестантское дело на многие поколения вперед, и католикам было на чем стоять, поддерживая жестокости инквизиции. — Значит, сэр Френсис помнит то бедное старое судно, большое и неповоротливое, а? — Сэр Роберт осушил свой потир до дна и со стуком поставил его на столик. — Видит Бог, я доволен, что он поставил моего сына командовать «Френсисом». Трое присутствующих в этой приятно освещенной огнем почивальне вздрогнули и повернулись лицом к двери: сквозь ленивое потрескивание пахучих березовых дров раздался резкий стук в дверь. — Зэр Роберт, зэр Роберт! — пыхтя, говорил деревенский мальчишка-паж. — Во дворе посыльный с депешей. — Говори, деревенщина. Какие у него новости? — Не знаю, зэр Роберт. — Веди его наверх, болван, а потом пусть его угостят на кухне. Ввалился посыльный, сверкая снежинками, осыпавшими его длинную серую накидку с капюшоном, одеваемую для верховой езды. Он низко поклонился — сначала сэру Роберту, затем Хьюберту. С тревожно округлившимися глазами Розмари поднялась на ноги. День за днем напролет она ожидала, предчувствовала прибытие такого вот нарочного — того, кто оторвет, уведет у нее Хьюберта на новые войны. Сэр Роберт, сгорбившись, поднялся повыше над валиком и впился в посланника сильно ввалившимися глазами. — Ну, добрый мой человек, какие же у тебя будут новости? — Я от сэра Френсиса Дрейка, ваша честь, — отвечал курьер. — Адмирал со своей женой сегодня вечером в Байдфорде. Сэр Френсис желает узнать, не примете ли вы его вместе с нею здесь завтра вечером. Еще адмирал передает вам самый горячий привет, сэр, и надеется, что в эти сырые дни вас не слишком сильно мучают раны. — Видимо, этот посыльный цитировал нечто заученное назубок. — А еще сэр Френсис шлет вам вот этот маленький знак своей любви и уважения. Посыльный пошарил в кожаном кошельке, пока не нашел изящную золотую цепочку, на которой висел медальон, прекрасно исполненный в золоте и эмали; на нем было изображение Святого Георгия, налетающего на очень свирепого змея.Глава 9 ПРАЗДНИЧНАЯ ДОРОГА
За целый час до без четверти шести, обычного времени подъема для семьи Коффинов в зимнее время, миссис Розмари была уже на ногах и при свете множества факелов, дымно пылающих в старинных норманнских канделябрах, отдавала указания своим слугам возобновить приготовления, прерванные поздним вечером накануне. Редко этот старинный господский дом подвергался такой чистке и уборке или видел такие хлопоты на кухне. На рассвете за хлев завели жирную молодую телку, где она удивленно вращала глазами до тех пор, пока на ее лоб не обрушился тяжелый молот, чтоб покончить с ее любопытством к мирским делам. Куры, утки и гуси десятками издавали последний крик, а из подвалов извлекали и приносили в изобилии капусту; репу и яблоки. Когда совсем рассвело, слуг с конюхами послали в хвойную рощицу в задней части Портледжа, чтобы там они нарубили хороший запас еловых веток и падуба. С чердака принесли связки свежего камыша и обильно застелили ими все полы. Чтобы разместить ожидаемых гостей — было установлено, что свита сэра Френсиса Дрейка насчитывает не менее тридцати семи душ, не включая леди Элизабет, ее швеи и четырех служанок, которые ее одевали, — всех домашних слуг временно лишили их жилых покоев и отправили на постой в ближайшие фермерские дома. Хотя бейлиф и управляющий имением сэра Роберта пребывал в разгоряченном состоянии и изрыгал чудовищные девонширские ругательства, а служанки суетились вокруг, зачастую бесцельно, Розмари удавалось, не награждая их тростью по спинам, сотворить порядок из хаоса. Она предвидела необходимость то в том, то в этом и даже выкроила минутку, чтобы спуститься во двор и поцеловать на прощание мужа перед тем, как он во главе шести хорошо сидящих в седле мускулистых слуг отправился в Байдфорд, миль за девять от имения, чтобы эскортировать знатного гостя. — Ты удивительно способная хозяйка, — высказался Хьюберт, приподняв ее с земли в крепком порывистом объятии. — Ни разу даже голоса не повысила, не ударила даже самую тупую из наших горничных. Если все будет гладко, мы вернемся с адмиралом около полудня. «Каким же он выглядит франтоватым в этом красном плаще, вытканном сверху донизу серебром», — подумала Розмари, когда с необычайной легкостью молодой Коффин вскочил в седло. Он весело сорвал перед ней плоскую бархатную ярко-желтую шляпу, украшенную черным загибающимся пером страуса, а Розмари с гордостью смотрела, поскольку руководила их изготовлением, на опрятные темно-зеленые плащи с семейным гербом, красовавшиеся на сопровождавших Хьюберта слугах. Розмари задержалась на широких каменных, чисто выметенных от снега ступенях и смотрела, как маленькая кавалькада поскакала прочь по дороге, ведущей от дома, под голыми ветками вязов, черным филигранным узором вырисовывающихся на небе. Подбежала служанка, круглолицая девушка. — Зэр Роберт просит вас прийти поскорей. Розмари слегка вздохнула и вернулась в дом. С самого завтрака старикан пребывал в суматошном состоянии, напоминая ей о том или этом, о чем она уже позаботилась. Наверное, теперь ему желательно было решить с ней, какой ему выбрать камзол для этого памятного случая. До того момента Хьюберт не представлял себе, до чего популярным стал покоритель Кадиса и завоеватель «Сан-Фелипе», особенно здесь, в Девоншире, в том графстве, откуда он был выходцем и которое обожал до безумия. Даже присутствие в Байдфорде королевы не могло бы вызвать такой искренний, такой шумный фурор встречающих. Яркие многоцветные флаги и знамена профессиональных гильдий трепетали с торчащих из окон шестов, купцы разворачивали рулоны драгоценных, роскошной расцветки шелков и парчи, вывешивая их над узкими и грязными улицами маленького порта. Утром толпа вокруг резиденции мэра, где остановился адмирал, стала настолько плотной, что главный констебль был вынужден вызвать пару подразделений, чтобы восстановить хоть какое-то подобие порядка. Когда появился сэр Френсис Дрейк, чтобы отправиться в Портледж, женщины визгом выражали ему свой восторг и высоко поднимали над головами детей, чтобы они могли когда-нибудь потом похвастаться тем, что им выпало счастье увидеть того, кто заставил трепетать окружающий мир, если слышалось имя — Англия. Мальчишки и взрослые мужики орали до хрипоты и рвались вперед, лишь бы только коснуться лазурно-голубого седла адмирала или хотя бы кожаного стремени. Миловидные девочки робко подбегали к нему с букетами, сделанными из лент, поскольку сезон для живых цветов уже окончился. Небольшая толпа орущих, потных и до крайности возбужденных горожан сопровождала кавалькаду далеко за пределы Байдфорда, пугая изящную серую верховую лошадь с дамским седлом, на которой восседала красивая леди, урожденная Элизабет Сайденхэм, чей отец, сэр Джордж Сайденхэм, был влиятельной фигурой при королевском дворе. Привыкший к публичному восхвалению, сэр Френсис явно получал огромное удовольствие от теплоты и сердечной искренности этих почестей. Черпая из своей невероятной памяти, он тут и там узнавал человека, служившего у него на кораблях, и, указывая на него, называл счастливца по имени. Когда наконец самые выносливые из его поклонников отстали, ограничиваясь маханием ему на прощанье рукой, Дрейк устало улыбнулся и сказал: — Боже, нам с леди Элизабет и моргнуть не позволили с тех пор, как мы в Байдфорде. Умоляю вас, капитан Коффин, никаких таких демонстраций хотя бы у вас в Портледже. Но куда там! На всем протяжении аллеи вязов, ведущей от новых ворот к отстроенному особняку, плотной толпой стояли дюжие краснолицые фермеры, их большегрудые жены и лохматые дети. Их встреча оказалась не менее восторженной, чем та, которую устроили герою в Байдфорде. Сэр Роберт Коффин попросил, чтобы его отнесли в кресле вниз и поместили напротив солидной центральной двери. Эта дубовая дверь когда-то давно, по замыслу строителей, предназначалась для того, чтобы выдерживать удары тарана. Под теплым халатом из малиновой шерстяной ткани, отороченной горностаевым мехом, он носил превосходный камзол из атласа, пылающего, как пламя, который надежно скрывал ту зияющую рану, что уже годами не хотела заживать и продолжала гноиться, несмотря на все старания лечащих его врачей. Его белесой бороде недолгое зимнее солнце придавало обманчиво яркую живость. На коленях старого баронета лежала связка рыжих лисьих шкур, а на шее поблескивал дар сэра Френсиса — красивый флорентийский медальон на золотой цепи, — который был ему доставлен прошлым вечером. За спиной хозяина Портледжа стояли главные лица имения: священник, учитель, бейлиф и управляющий. Слева от сэра Роберта стояла Розмари Кэткарт-Коффин, прямая, безмятежно спокойная и безмерно прекрасная в бледно-синем камлотовом платье и стоячем кружевном воротнике, которые придавали неизъяснимую прелесть ее черноволосой сияющей красоте. Юбки на широких фижмах отставали на добрый фут от ее бедер, а на ленте, охватывающей голову, сияла слезинка-жемчужина, висящая меж двумя изумрудами. Она грациозно сделала реверанс, когда сэр Френсис Дрейк в своей дорожной одежде монотонного синего цвета поднялся на три ступеньки, ведущие к главному входу. — Сэр Роберт, боевой вы мой старый товарищ! Адмирал бросился вперед, оставив свою супругу на верхней ступени. Всех тронуло до глубины души то, с какой нежностью этот прославленный человек обнял старого инвалида, обнял с такой теплотой, что слезы выступили на глазах у обоих. Сэр Френсис повернулся назад и протянул руку в сторону леди Элизабет. — Подойди, моя дорогая. Я хочу, чтобы ты поздоровалась с одним из ценнейших моих друзей, храбрейшим из храбрых. Леди Элизабет сделала реверанс, грациозно склонив свою гордую шею. Сэр Роберт сделал попытку встать, но вынужден был со сдавленным стоном снова плюхнуться в кресло. — Я ваш слуга, миледи. Не обессудьте, ноги мои взбунтовались. Могу я представить вам свою невестку, которая в этом доме стала моей хозяйкой и сладостным утешением в моей беспомощной старости? В тот вечер, пока застенчивые деревенские парни и молочницы от всей души старались пополнить изобилие на столе дымящимися горами говядины, баранины и птицы, Розмари Коффин получила возможность как следует рассмотреть этого знаменитого человека, впервые увиденного ею ровно два года назад. Стало быть, этот обаятельный словоохотливый и зачастую хвастливый джентльмен — именно тот человек, которому смелость, решительность и флотоводческое мастерство позволили опоясать весь земной шар. Это тот человек, который, командуя всегда незначительными силами, заставлял трепетать принцев, королей и даже самого Папу Римского; который мог вдохновить тупейшего олуха в Англии с криками ликования вскочить на ноги. Изящно поднося ножку каплуна ко рту, за столом сидит также и тот, кто ответственен за гибель ее семейного состояния, за жестокое разграбление Санто-Доминго, за насильственную утрату ею девственности и за смерть всех членов ее семьи, за исключением отца и ее самой. Во время трапезы хор сладкоголосых деревенских парней спел такие известные старые песни, как «Нат-Браун Мейд», «Бэлоу»и «Блади Сэрк». Потом музыка виол да гамба, старинных флейт и лютней напрасно пыталась победить оживленную болтовню за обильно уставленным яствами и винами длинным столом. Больше всего шума исходило от мест, расположенных к концу стола от великой солонки из позолоченного серебра, привезенной сэром Филиппом де Коффином из Второго крестового похода — или такое, во всяком случае, существовало поверье. Розмари разговор с леди Элизабет Дрейк показался делом несложным. Всего лишь на год-другой старше ее, жена адмирала выглядела сияюще прекрасной в своем платье из зеленой парчи и гофрированном воротнике, поднимавшемся чуть ли не на два фута над ее мраморно-белыми плечами и спускавшемся к верхней линии платья, которая проходила так низко, что при случае можно было мельком заметить верхний периметр пленительно розовых сосков. При виде сэра Френсиса, наслаждающегося этой трапезой, никому бы и в голову не пришло, что именно в этот самый момент он в глубочайшей немилости в Уайтхолле, что эту светловолосую голову осаждают тысячи беспокойных мыслей. У него сохранилась большая часть зубов, и он звучно разжевывал ими мясо от заячьего седла. Когда возникала необходимость, он довольно элегантно пользовался ножом и вилкой, которые носил у себя на поясе в кожаном синем футлярчике. Само собой разумеется, юные сестры и братья Хьюберта на этот раз почти совсем ничего не ели, а лишь смотрели во все глаза на это редкое блестящее собрание индивидуумов. — Да, сэр Роберт, похоже, вы воспитали себе в наследники настоящего морского сокола. У Хьюберта проявились задатки отличного моряка. Господи! Вы бы видели его в бухте Кадиса! Он не разменивался по мелочам, а кинулся на самую крупную добычу, которую мы захватили в тот славный денек. Он поднял изящный серебряный кубок из Картахены и, разглядывая его с рассеянным видом, продолжал: — Я предвижу, что он займет высокое положение на службе у королевы и у тех, кто когда-нибудь будет править после нее. Дай Бог, чтобы такое время наступило не скоро. Позже, в изолированном покое той опочивальни, в которой посланец Дрейка объявил о его предстоящем визите, сэр Роберт догадался, в чем состоит основная цель приезда Дрейка из Яркомба — его роскошного имения, находящегося недалеко от Плимута. Вытянув ноги к камину, крепко сжав маленькие, но сильные загорелые руки на львиных головках, вырезанных на ручках кресла, Дрейк неотрывно глядел на огонь. — По правде говоря, сэр Роберт, — признавался он старику, — дела в королевстве находятся в серьезной опасности. Наш малодушный друг Беркли слишком долго позволял себе делать, что хочет. Хитростью и обманом мне удалось ускользнуть из лап этого трусливого зайца с его дурацкой идеей поставить военные корабли королевы в резерв в порт Гиллингэм-Рич. Он понизил голос и бросил на Хьюберта предупредительный взгляд. — В Плимуте, друг мой, я сохранил тринадцать высокобортных отличных кораблей, и все за собственный счет, потому как пройдет не день, не другой, но все же мы услышим, что Испания строит в портах Ла-Манша и Нидерландов большое количество плоскодонных судов. И уже следующим летом они будут готовы переправить через Английский канал в Харидж ветеранов герцога Пармского с аркебузами и алебардами. — Только тринадцать судов! — слабо прозвучал голос сэра Роберта с большой под зеленым пологом кровати. Было ясно, что переживания этого дня сильно его утомили. — Это все корабли, готовые к плаванию, которые имеются сейчас у Англии, не считая девяти небольших военных судов под командованием сэра Генри Палмера, что находятся в Хамбере и на Темзе. — Ряд джентльменов, имена которых я оставлю в секрете, — чуть улыбнулся Дрейк, продолжив после паузы говорить, — и я в том числе, сочли своим долгом в частном порядке конфиденциально завербовать на военную службу корабли, артиллеристов и моряков на весь следующий год. Пока мне удалось привлечь своих друзей, всегда доверяющих мне, так что в данный момент для плавания снаряжаются барки «Тальбот», «Спарк»и «Боннер». Также готовятся мои «Элизабет Фаунз», «Элизабет Дрейк»и барк Джона Хоукинса, носящий его имя. Наша партия попыталась расшевелить дона Антонио, этого жалкого незаконнорожденного претендента на португальскую корону, снова попытаться захватить трон. Капитан Уайт, один из помощников Дрейка, счел необходимым вступить в разговор и добавил: — Что за жалкий проходимец этот Антонио! Но нужда заставляет, когда черт погоняет. Сырой декабрьский ветер дунул в трубу, шевельнув на каминной решетке огонь и пепел. Сэр Роберт отхлебнул из чаши подогретого с пряностями вина, внимательно оглядел своих именитых гостей и бросил на Хьюберта проницательный взгляд. — Я так понимаю, сэр Френсис, вам хочется, чтобы и я решил, смогу ли что сделать ради осуществления ваших планов — что-нибудь вроде оснащения судна? — Вы, как всегда, попали не в бровь, а в глаз, дружище Роберт, — хохотнул Дрейк. — Откуда еще в Англии я бы предпочел получить крепко сбитое, хорошо оснащенное судно, как не из Байдфорда в Девоншире. — Следующий свой вопрос Дрейк адресовал скорее Хьюберту, нежели его отцу: — Какого размера судно вы, по вашему мнению, могли бы полностью взять на себя? Молодой человек подумал и сказал: — Прошу понять меня, сэр Френсис, но, по правде говоря, я слишком был занят реставрацией нашего имения, чтобы ответить сразу. Но, клянусь честью этого дома, я найду людей и провизии на галион водоизмещением, — он помедлил и покусал губу, — скажем, тонн в триста. — Галион в триста тонн водоизмещением? Вы не преувеличиваете свои возможности? Разогретый вином и с туго набитым желудком, Хьюберт отвечал с непривычной быстротой: — Нет, сэр Френсис. В Лондоне у меня есть друг, он плавал с нами в Санто-Доминго, Картахену и Виргинию. В прошлом году он учился в Дептфорде искусству кораблестроения. Дрейк быстро поднял голову, и его желтые волосы сверкнули отраженным огнем камина. — Может, вы имеете в виду того рослого рыжеволосого капитана торгового флота по имени Генри Уайэтт? Хьюберт очень удивился тому, что из всех сотен, а то и тысяч человек, с которыми, должно быть, встречался в своей жизни адмирал, он мысленным пальцем ткнул прямо в нужное имя. Вкратце Дрейк затем описал свою первую встречу с помощником капитана «Первоцвета». — Если вы оснастите такое прекрасное судно, — серьезно пообещал адмирал, — я позволю вам выбрать лучшие из артиллерийских орудий, которые я собрал в Плимуте. — Он вскочил на ноги, перешел к камину, чтобы погреть себе спину, и скупо сказал: — Буду надеяться, ваш галион прибудет туда первого апреля. Ну вот и попался! С потяжелевшим сердцем Хьюберт вдруг отдал себе отчет, какое тяжелое обязательство он так легко взвалил на себя. Придется еще раз продавать многие акры лучшего леса, а Розмари — ей придется вести хозяйство с гораздо меньшим количеством слуг: даже половины не останется из тех, кто есть сейчас в ее распоряжении. Дрейк, должно быть, учуял, что юного джентльмена что-то гнетет. Он сказал: — Не думайте, Хьюберт, что я с легким сердцем принимаю ваше предложение, что я недооцениваю, чего оно вам стоит. Я б и не думал просить об этой поддержке, не будь я в ужасе перед тем, что нынешние советники королевы оставили нас почти столь же беспомощными, как желток в разбитом яйце. Но именно мы, из Девона и остальная Англия должны спасти ее величество и эту страну — во что бы то ни стало.Глава 10 ЭСКВАЙР ЭНДРЮ ТАРСТОН
Теперь, когда галион «Центурион», принадлежащий ее величеству, был спущен на воду и ожидал, когда его отбуксируют в канатно-мачтовый бассейн в Вулидже, Генри Уайэтт оказался в полосе немного непривычного безделья. Умышленно избежав несколько возможностей наняться в экспедицию против Кадиса, столь заметно обогатившую Хьюберта Коффина и кузена Питера, Уайэтт, однако, приобрел бесценное понимание, отчего корабль становится валким, тихоходным и непригодным для морских плаваний или, напротив, прочным и быстрым. Кроме того, он завел себе друзей среди высокородных и влиятельных дворян — в частности, таких, как сэр Джон Хоукинс, теперь казначей королевского военно-морского флота, старый Мартин Фробишер и, главное, тот обходительный и дипломатичный, но в то же время решительный и дальновидный джентльмен — лорд Хоуард Эффингемский. Снова флюгер настроений и желаний королевы описал почти полный круг, и снова она склонялась к тому, чтобы идти на Испанию. Это стало очевидно из заявления, что ее добрый верный вассал лорд Хоуард Эффингемский 21 декабря 1587 года должен стать «нашим генерал-лейтенантом, главнокомандующим и предводителем на море всего английского флота и армии, теперь снаряженных для выступления против испанцев и их союзников». По тавернам, парусным и свечным складам и веревочным мануфактурам распространялся слух, будто ее величество королева Елизавета все-таки приказала закупать провизию и поскорее заканчивать те корабли, что все еще стояли на стапелях. Бережливо откладывая из жалованья, получаемого на верфи и требуя от Кэт строжайшей экономии расходов на домашнее хозяйство, Уайэтт скопил достаточно средств, чтобы подумывать вместе с кузеном о покупке трофейного барка, достаточно быстроходного, вместительного и удобного в управлении. Нынче вечером он решил разыскать своего кузена, прежде чем Питер разбазарит все свое состояние: этот белокурый гигант снял себе жилье в шумной таверне, недавно переименованной в «Дрейк и якорь». Немедленно какой-то шутник со склонностью к каламбурам на ее вывеске нарисовал масляными красками дикого селезня, уютно, хоть и не очень естественно, устроившегося на якоре*["349]. Здесь вечер за вечером Питер Хоптон царствовал в пивной, бесплатно угощая выпивкой и закуской любого разорившегося морского волка, который мог утверждать, что когда-либо плавал под флагом любимицы нации. Разумеется, щедростью Питера пользовались стайки юных и миловидных девчонок, но они любили его также за добродушие, удивительную силу и терпимость. Его доблестные подвиги в кровати быстро завоевали ему легендарную славу вдоль и поперек Холодной Гавани, этой беззаконной трущобы. Порой старшему артиллеристу доставляло удовольствие затаскивать к себе в постель трех хихикающих шлюшек одновременно, и часто он поддерживал дух в таверне своими веселыми шутками до первых петухов. Понятно, что вскоре перед Новым годом у Питера на причинном месте появился бубон, положивший хоть и временный, но мучительный конец его беспутству. Когда Уайэтт застал его в кабаке, здоровенный детина сидел в изолированной комнатушке, которая впоследствии будет называться «салон бара», в компании с нездоровым на вид желтолицым парнем и крупным носатым голландцем. Что-то побудило Генри задержаться в большой комнате пивной и подслушать разговор, который велся внутри, в маленькой. Двое незнакомцев слушали словно завороженные сильно детализированный красочный рассказ Питера о любовных утехах со своими служаночками из племени монокан. Человек с желтоватым лицом, когда появился Уайэтт, опустил свою кружку на стол. — Отчего бы тебе не стремиться вернуться в эту Америку, о которой ты говоришь, — мрачно проговорил он. — Следующей весной хорошо будет тому, кто переберется туда. — Это почему же? — Хочу, чтобы ты знал, приятель, что в этот самый час в Лиссабоне стоит больше четырехсот пятидесяти военных кораблей. Голландец посмотрел на него с тупым изумлением, — Но это же невозможно. Такого количества кораблей не найдется во всей Испании. — Я что, вру? — прорычал желтолицый, порываясь встать. — А ты их считал? — спросил Питер. — Лопни мои глаза, считал, хотя и не полностью, — признался желтолицый. — Я бросил счет на двухстах шестидесяти, но там явно было много больше, и одному Богу известно, сколько еще стоит в Кадисе и сколько находится на пути из Средиземного моря. — Йа, — кивнул голландец. — Об этом я ничего не знаю, но слышал, что герцог Пармский собирает двадцать две тысячи пехотинцев и скоро поведет их через Фландрию. Желтолицый позволил себе успокоиться. — Вполне похоже на правду. Вчера я слышал от одного матроса с корабля капитана Феннера, что на западных границах Испании и Португалии скопилось сорок девять тысяч пехоты, двадцать шесть сотен кавалерии, двенадцать сотен хорошо обученных канониров и около десяти тысяч моряков. В том, что эти цифры преувеличены, Уайэт не сомневался, и тем не менее… тем не менее, не проходило и дня, чтобы не поступали с континента пугающие новости, которые быстро распространялись в припортовом Лондоне. Мимо Уайэтта пролезла с виду слегка набравшаяся, отдающая потом бабенка с завитыми, окрашенными в оранжевый цвет волосами — по моде, введенной ее величеством и двором. — Э, да тут Питер Игривый. Как поживаешь, козленочек? — Убирайся, пьяная шлюшка, — прорычал Хоптон. — С тобой и тебе подобными я дел не имею. Девка рассмеялась и показала ему язык, но все же удалилась, явно разочарованная. Только тогда Питер, который до этого сидел спиной к Уайэтту, заметил своего кузена. Он шумно и радостно расхохотался и тяжело подошел к нему, раскрывая объятия. Затем заказал холодную птицу, вареную капусту и кружку лучшего эля. — Как поживает твоя милая женушка? — наконец осведомился он. — И твоя малышка? Уайэтт улыбнулся, он знал, что Питер с необычным теплом относится к детям. — В целом хорошо. Вот только Генриетта засопливилась. — Тогда повесь ей на шейку срезанную дольку свежего чеснока — лучшее средство от этой напасти, — посоветовал Питер, глубоко затягиваясь из почерневшей глиняной трубки и выпуская такое количество дыма, что желтолицый зашелся в кашле. — Между прочим, кузен, говорил я с одним из Сент-Неотса. Вспомни: Джо Элвин, который жил рядом с мельницей Диддингтона. Как обычно, при упоминании Сент-Неотса Уайэтт напрягся, насторожился. — Да, помню. И что там интересного? Мой уважаемый тесть все еще торгует тканями? — Да, но Джо сказал, что старик стал частенько прихварывать. Говорят, он мечтает поцеловать свою любимицу-дочку еще хоть разок перед тем, как его отнесут на кладбище. — Я бы рад свозить ее домой, — ответил Уайэтт, — да не осмеливаюсь. Причину ты знаешь прекрасно. Он снова увидел себя вылезающим из тюремного окна в Хантингдоне и бегущим со всех ног по лесу в родное селение. Странно, как часто он совсем забывал, что в глазах закона они с Питером — убийцы, сбежавшие от королевского правосудия. Он радовался, что Сент-Неотс — такая крошечная деревушка и что до ухода на службу к капитану Фостеру он совсем не выезжал за пределы Хантингдона ни на юг, ни на север. — Возьми свой плащ, Питер. У меня есть сведения о фрегате, захваченном у итальянцев, который, возможно, нам подойдет. Давай хоть поглядим на него. Питер снова появился через минуту в темно-синем плаще и конической кожаной шляпе с плоским верхом, из-за очень низких полей напоминающей сахарную головку. Опытным глазом Уайэтт установил, что этот построенный французами фрегат будет получше изношенной старой «Катрины»и крепкой, но тихоходной «Надежды». К тому же фрегат был крупнее — водоизмещением в сто восемьдесят тонн, как сказали его продавцы, — и потому достаточно тяжеловесным, чтобы справиться с предатедьской зыбью и теми поперечными течениями, из-за которых Узкое море имело дурную репутацию. Хозяин трофейного судна, видя на лицах Питера и Генри глубокое удовлетворение, заломил астрономическую цену. И прошло целых три дня в торгах, — на всякое предложение следовало контрпредложение, — пока наконец Уайэтт и продавец не ударили по рукам, сойдясь на цене в 987 фунтов. Питер взял на себя львиную долю, но взбесился, как бык на покрытии коров, когда Уайэтт сказал, что имеет право менее чем на пятидесятипроцентный доход с их фрегата, который они решили назвать «Морской купец». Для Уайэтта теперь начинался один из счастливейших периодов его жизни. Он переправил свой быстроходный, с низкими надстройками фрегат в Львиный док и там внимательно осмотрел его парус за парусом, брус за брусом, вникая во все даже самые мелкие детали его рангоута и бегучего такелажа. Все, что не было в лучшем состоянии, он немедленно продавал за любую предлагаемую цену. Вот когда опыт продолжительной службы Уайэтта на королевской верфи ему пригодился. Он безошибочно выбирал самые выгодные позиции для орудийных портов. Фрегат, как решил Генри, может вместить десяток орудий, ведущих огонь по борту, и столько же кулеврин и фальконетов, установленных в вертлюгах вдоль поручней, для стрельбы в настил по палубам вражеских кораблей или для отражения идущих на абордаж. Однажды вечером Кэт покинула свой хотя и приятный на вид, но, однако, холодный и темный каменный коттедж у Бэтл-бридж, чтоб взглянуть на «Морского купца». Проникшись интересами супруга, она близко познакомилась со всеми вариантами корпусов, какие видела проплывающими по Темзе. Более того, она могла по обводам корпуса угадать, какую скорость способно развить судно, могла оценить, правильно или неправильно расставлены его мачты. — Он действительно красавчик, — очарованно пробормотала Кэт, сжимая руку супруга, — и, похоже, славно будет сражаться, когда на нас пойдут испанцы. А как насчет команды? Обеспокоенное выражение проползло по широкому с медным оттенком лицу Уайэтта. Было прекрасно известно, что отряды вербовщиков и пьянящие обещания высокого жалованья поглотили почти всех дееспособных мужчин в Лондоне, Гринвиче и в деревушках, усеявших устье Темзы. А тюрьмы, обыкновенно главный источник непрофессиональных матросов, освобождались от должников и правонарушителей, которые отправлялись на службу в Нидерланды, где граф Лестер все еще вел томительную перемежающуюся войну против французов и испанцев. Как раз сейчас транспорт принимал длинную шеренгу закованных в цепи истощенных бедолаг, одетых в безобразное, скверно пахнущее рванье. Понукаемые ударами, угрозами и руганью, эти несчастные наемники сгонялись в темные трюмы корабля, где им долго предстояло пребывать в душной тесноте. То, что он отбудет только на следующий день, Уайэтт вскоре узнал у проходившего мимо моряка: транспорту надлежало еще принять колонну заключенных, шедшую из таких далеких графств, как Хартфорд, Бэкингем и Суррей. Уайэтт с женой взошли на борт фрегата, переступая через небольшие кучки опилок, щепок и кусочков древесных отходов. В дальнем конце палубы все еще лениво дымился котел со смолой. Кэт читала на горячо любимом лице супруга энтузиазм, решимость, радостную надежду, и это ее ободряло, но в то же самое время воображение настойчиво рисовало ей, как «Морской купец» обменивается залпами с большими плавучими замками испанского короля — кораблями, вооруженными шестьюдесятью или семьюдесятью орудиями. Как мог маленький фрегат противостоять им со своим десятком пушек? По всей Англии шли споры по тем же самым вопросам. Сквозь косые нити дождя, вздувавшего похожие на жемчужины пузырьки на мутной воде Лондонского Пула, Генри Уайэтта, по его просьбе, повезли в док Экзекуций, где вершилось королевское правосудие в отношении моряков. Легкий туман скрывал корпуса кораблей, стоявших в порту, ветер стих, и удары о воду весел нанятой им гребной баржи казались чем-то необычайно значительным. Уайэтт давно уже установил местонахождение транспорта и, несмотря на этот мешающий видимости туман, мог догадаться, где он находится, по скверному запаху, плывущему над водой. Разговор с Питером подтолкнул его к покупке полудюжины подходящих голубчиков из среды должников. Ни за что на свете Уайэтт не решился бы подумать о том, чтобы взять к себе на борт настоящего уголовника. С каменного мола капитан «Морского купца» поднялся по ряду грязных ступенек. И вот перед ним предстала виселица, на которой раскачивалось аж двенадцать трупов в разных стадиях разложения. Некоторые, должно быть, висели здесь очень давно: тут и там виднелись иссушенные солнцем отвалившиеся от тела руки или ноги. На дальнем от воды конце дока длинной шеренгой выстроились заключенные в цепях, ожидая своей очереди в переправе на судно. Потупив головы и сгорбившись, эти несчастные стояли или сидели, не обращая внимания на хлещущий дождь. Некоторые плакали, другие упрямо и монотонно кляли королевское правосудие и свою злую судьбу, большинство же, покорное выпавшей им доле, ожидало в смиренном молчании. Было ясно, что мало кто из этих несчастных доживет до высадки на чужом берегу, чтобы там послужить своей королеве. Сколько же их, непрестанно кашляющих и харкающих кровью! Уайэтт высказал свое намерение низкорослому чернобородому сержанту. — Разумеется, сэр. Можете накупить этих доходяг столько, на сколько кошелька хватит. Это новая партия. Только что прибыли в док. На вашем месте, сэр, я бы их осмотрел, — добродушно посоветовал он. — Может, и найдется среди них несколько крепких батраков, кузнецов или гуртовщиков. Размышляя, много ли можно купить на пятнадцать фунтов, которые им с Питером удалось наскрести, Уайэтт, пригнувшись, чтобы хоть как-то защититься от ливня, пошел к хибарке, где тщательно регистрировались имя, общественное положение и место рождения каждого арестанта. Квитанции на этих жалких существ подписывал офицер, которому Уайэтт объяснил свою нужду в сильных и покладистых работниках. Он понимал, что следует проявить осторожность в этой торговой сделке, поэтому спросил: — Сколько этих чертей мне удалось бы купить на десять фунтов? — Четверых, а может, и пяток, — отвечал офицер, склонив голову чуть вбок, чтобы капли дождя стекали с козырька шлема. — Это зависит от вашей разборчивости. — С кем мне поговорить? — Да есть тут шериф, отвечающий за эту партию, — отвечал офицер. — Найдете его вон в той палатке. Спросите шерифа… — Он щелкнул пальцами. — Черт! Вечно это имя выскакивает из головы. Мрачно забряцали цепи, и босые ноги зачавкали по грязи, скопившейся в доке Экзекуций — это новая шеренга арестантов, в тумане похожих на привидения, прошаркала мимо маленькой палатки. Уайэтт убедился, что чернобородый сержант оказался прав: эти люди из северных графств, выросшие далеко от моря, прежде были здоровыми парнями. Радуясь, что можно укрыться от дождя, Уайэтт, пригнув голову, вошел в палатку. Позади фонаря, стоящего на узком столе, высокий седобородый чиновник сидел между чрезвычайно тучным армейским офицером и постоянно шмыгающим носом клерком, почему-то не желающим избавиться от прозрачной капли, повисшей на кончике его острого землянично-красного носа. — Вильям Джонас, — читал клерк. — Осужден за долг в семь шиллингов и шесть пенсов. Профессия — плотник. Армейский офицер что-то записал в лежащей перед ним книге и кивнул. Осужденный, звеня цепями и пятясь, вышел под дождь. — Меня интересует, — заговорил Уайэтт, — не согласятся ли джентльмены на мое предложение выкупить нескольких должников? — Да с радостью, — оживился высокий седоголовый чиновник. — Будь я проклят, если мне нравится отправлять этих бедолаг под пули папистов. Он обернулся — и словно одеревенел. Уайэтт же и вовсе стоял как громом пораженный. Он мгновенно узнал и худощавый ястребиный профиль, и эти пронзительные серые глаза, вперившиеся в него сквозь полумрак. Сквайр Эндрю Тарстон! — Глядите-ка, кто к нам пожаловал выкупать своих дружков-арестантов! Клянусь Богом, это Генри Уайэтт! — Шериф из Хантингдона возбужденно вскочил и заорал что есть мочи: — Схватить этого человека! Находившиеся в палатке были так удивлены столь неожиданным поворотом событий, что не сумели немедленно среагировать на приказ. Уайэтт же — отчаяние придало ему силы — бросился на стенку палатки с таким остервенением, что единственная стойка, на которой крепилась парусина, переломилась, и палатка накрыла собой всех, кто находился внутри. Уайэтт пробрался вбок, нащупал нижний край парусины и, выскользнув из палатки, встал на ноги. Все еще не веря в свое спасение, он замешкался на секунду, очумело уставившись сквозь пелену дождя на судорожно шевелящуюся гору парусины. Но медлил он лишь мгновение — ведь уже сбегались, поблескивая шлемами и пиками, часовые. — Какой-то арестант напал на офицеров, — тяжело дыша, вдохновенно соврал Уайэтт. Когда пикинеры склонились над палаткой, чтобы помочь людям высвободиться из-под нее, он повернулся и, изо всех сил стараясь не бежать, быстро прошел мимо шеренги осунувшихся бедолаг, ожидающих своей очереди, чтобы отметиться. Пройдя полпути, Уайэтт, подгоняемый сзади окриками «лови!», «держи!», со всех ног припустился прочь от дока Экзекуций.Глава 11 ОТЛИВ
Погоня довольно быстро сбилась со следа. В Смартс-Ки, в районе рыбного рынка, который, несмотря на проливной дождь, как всегда, был забит народом, Генри Уайэтту запросто удалось избавиться от преследователей, но от мучительного осознания нависшей над ним угрозы так же просто отделаться он не мог. Вскоре всем в Лондонском порту станет известно, что некий уважаемый корабельный плотник и капитан торгового судна — в глазах закона всего лишь беглый преступник и убийца. Торопливо шагая под дождем, горько напоминал он себе о том, что следовало бы ему предвидеть, что из Хантингдона кто-то непременно прибудет в Лондон и опознает его. Разумеется, он рассчитывал на защиту городских многолюдных улиц, на которых проживало около двухсот тысяч человек. И все же почему, ну почему они с Кэт не изменили фамилию? Нет сомнений, что шериф Эндрю Тарстон тотчас же направится к старшему констеблю города и оставит у него заявление. Увы, за последнее время он стал чересчур известным, печально размышлял Уайэтт, чтобы надеяться избежать задержания и ареста, за коими, по всей вероятности, последует казнь. Он торопливо обогнал попавшуюся ему на пути похоронную процессию, уныло шагающую по щиколотку в грязи. Весь дрожа, он продолжил свой путь, стараясь идти как можно скорее в направлении «Дрейка и якоря». Как назло, Питера Хоптона в таверне не оказалось, и беглецу пришлось потерять два драгоценных часа, дожидаясь его возвращения, а когда тот явился, выяснилось, что он чересчур перебрал в слишком уж многочисленных пивных, стараясь «избавиться от сырости». — Ради Бога, Питер, соберись с умом, — умолял его Уайэтт. В неожиданном приступе ярости он выплеснул кувшин воды прямо в красное, разгоряченное лицо кузена. — Неужели до тебя не доходит, пьяный дурак, что твоя шея в такой же опасности, как и моя?! — Во дает! Так, брат, делать не надо. Чо гришь? Чья шея? — Твоя шея. Твоя. Сегодня утром я ходил в док Экзекуций, чтобы завербовать людей, и узнал, что будет, если нас схватит стража. С большой неохотой Питер сделал попытку протрезветь с помощью миски бараньего бульона и высокой кружки пива. Когда в голове чуть просветлело, он уставился на своего кузена тревожными, налитыми кровью глазами и хрипло, приглушенно спросил: — Так говоришь, нас разыскивают? — Вот именно. Шериф Эндрю Тарстон — чтоб ему провалиться навеки! — узнал меня, даже окликнул по имени. — И меня узнает, это уж точно. Ладно, кузен, что делать-то будем? В уединенности пока еще пустого бара Уайэтт передал ему кошелек, в котором лежали деньги на покупку арестантов. — Выход только один: дожидаемся отлива и немедленно смываемся отсюда. Уставившись на него, Питер провел ладонью по мокрой физиономии и попытался возразить: — Ты спятил? «Морской купец» не оснащен даже наполовину, на борту только часть парусов, а остальные и за неделю не будут готовы. Кроме того, требуется основательная переоснастка стоячего такелажа. — Не трудись напоминать мне об этом, — нетерпеливо взорвался Уайэтт. — Не забывай, что уже завтра Эндрю Тарстону станет известно, кто мы такие, — и тогда мы у него в руках. Он ведь весь из себя такой честный да суровый, этот старший шериф Хантингдоншира. А об его черствости свидетельствует уже то бессчетное число несчастных бедолаг, что томятся ежедневно в доке Экзекуций в ожидании своей участи. — Генри подался вперед и положил руку Питеру на плечо. — Нет, дружище, бегство — наше единственное спасение, наш шанс. Найди хоть кого-то кто вошел бы в нашу команду. Это недорого будет стоить. А я приведу Кэт с детьми на судно, а заодно захвачу кое-что из имущества и еду — все, что удастся взять из дома. Наши запасы мы можем пополнить в Маргите. — Ты спятил? — снова уперся желтоволосый артиллерист. — Нынче вечером — я точно знаю — на Темзе будет сплошной туман, а ты предлагаешь идти вниз по реке в кромешной тьме. Ты это серьезно? — Да, — последовал твердый ответ. — Лучше уж так рискнуть, чем искать милости у сквайра Эндрю. Питер подошел к деревянному кувшину и плеснул из него воду себе на голову. — Ты меня здорово напугал, — признался он, — но что можно сделать с несколькими помощниками, даже если я их найду? Разве справимся мы с оснащенным только наполовину двухсоттонным судном? — Видит Бог, скоро мы это выясним. Не забудь только, рыжий клоун, что ты должен привести четверых здоровенных парней, не меньше. — И где же, интересно, я таких отыщу? Ты ведь знаешь, что всех мало-мальски крепких ребят из Лондона давно выгребли. — Знаю. — Уайэтт кивнул и, словно бы желая подбодрить себя, осушил до дна кружку Питера с остатками эля. — Но нужда заставляет, когда закон кусает за пятки. Не забывай: все, что нам с тобой принадлежит, поставлено сейчас на карту, и вся наша надежда — лишь на корабль. — Генри выпрямился и застегнул плащ. — У тебя, Питер, до возвращения в Львиный док есть четыре часа. И запомни: с первым же отливом мы должны убраться отсюда. Обязательно. Тоскливо шагал он, с головой завернувшись в плащ, по Лондонскому мосту мимо стоящих на нем домов и лавок. Кэт Уайэтт, занятую приготовлением ужина, сперва озадачила, затем обеспокоила его задержка. Это так не похоже было на Генри. Дважды открывала она дверь и вглядывалась в аллею, ведущую через Хорсей-даунс к реке, но, кроме пары бездомных псов ибродячего попрошайки, не увидела никого. Наконец в заднее оконце тихонько постучали — как и в большинстве домов в то время, в их коттедже имелась только одна дверь. Кэт быстро наклонилась, выхватила из огня горящую головню и вгляделась в сгущающиеся сумерки. Узнав мужа, она отперла тяжелые деревянные ставни. — Господи, Генри! С каких это пор ты приходишь домой тайком? Не иначе как снова опрокидывал кружки со своим беспутным кузеном? Очень коротко он рассказал о грозящей им всем беде и сообщил о том, что на сборы теперь остается менее двух часов. За это время следовало упаковать самые ценные вещи и, погрузив их на тачку, переправить к реке, где, по счастью, как раз стоял вытащенный на берег ялик с «Морского купца». Кэт не привыкла ни разражаться жалобами, ни обсуждать решения своего мужа. Она только крепко поцеловала его, прежде чем выложить на тарелку гору тушеных овощей. Позже, когда он стоял у окна, вглядываясь в щель между ставнями и опасаясь увидеть приближающихся полицейских, она свалила всю их одежду на одеяло и завязала его узлом. Скудные столовые принадлежности были втиснуты в один ящик, а вся до последней корки еда, какая нашлась в доме, — в другой. Малышка Генриетта проснулась, огляделась и захныкала, но грудной младенец — в честь своего деда Кэт назвала его Энтони — спал, слава Богу, крепким сном. Даже когда его пеленали, закутывали в теплое одеяльце и укладывали в тачке на крышку ящика, мальчик продолжал спать. Было уже совсем темно, когда Генри, толкая перед собой скрипучую тележку, вышел под моросящий дождь. Кэт несла девочку и узел с одеждой. Прежде всего Уайэтта беспокоило, будет ли Питер на высоте и приведет ли на борт не полностью оснащенного для плавания фрегата людей достаточно опытных, чтобы привязать несколько важных парусов к реям. Еще когда ялик тащился на конце фалиня под свежевыкрашенным подзором «Морского купца», бурление течения значительно уменьшилось, указывая на то, что время между приливом и отливом подошло к концу. Оказалось совсем не просто взобраться на борт, используя лишь болтающийся канат от главных вант, а затем поднять туда и детей с помощью дополнительно спущенного линя. Если Генри раньше думал, что знает границы хладнокровия своей супруги, то ошибался. Совершенно спокойно она осталась в этом скачущем, крутящемся ялике, чтобы обвязать ящики концом веревки, и следовала его инструкциям споро и расторопно. Когда наконец он поднял ее через поручни, то не смог устоять и коротко наградил ее страстным поцелуем, чтобы выразить свое безмерное восхищение. — Снеси малышей вниз, — распорядился он. — Вон по тому трапу. Готовых коек там нет, но они могут поспать на твоем узелке, пока мы не отплывем. — Он чуть было не добавил: «Если поплывем». Затем последовал томительный период ожидания. Уайэтт вскарабкался на топ фок-мачты и стал больше на ощупь, чем как-то иначе, привязывать марсель, затем он наскоро соорудил штаги, брасы и фалы. С гротом такого не получилось: тот был слишком тяжел, чтобы Генри сумел с ним справиться, даже прилагая отчаянные усилия. Обрывки песен доносились из борделей на береговой стороне пристани Лайон-Ки — Львиной отмели. Напротив нее голые мачты судна, лишенного всей оснастки, маячили в темноте, словно гигантские копья. Медленно протянулся час, и все это время Уайэтт ругал на чем свет стоит своего неугомонного, безответственного кузена. Часы с низким тоном на различных церковных башнях начали отбивать девять часов, и Генри, опасно балансируя на бушприте и измученными, в ссадинах пальцами пытавшийся приладить блинд — этот носовой парус, без которого судно стало бы почти неуправляемым, вдруг услышал яростный ор на дальнем конце пристани. Дрожащим голосом Кэт сообщила из темноты: — Люди приближаются. Дай Бог, чтобы это была не стража. Если бы это и впрямь оказалась стража, чего Уайэтт, по правде говоря, не думал, он бы с этим ничего не мог поделать, поэтому поспешил закончить с блиндом и снова слез на палубу. Раздалось хриплое пение баллады, и Генри послышались шаги чьих-то ног, идущих нетвердой походкой вдоль пристани. К бесконечному его облегчению, оказалось, что это Питер и с ним еще четверо, причем двое из них были так сильно пьяны, что раскачивались из стороны в сторону. Все рекруты оказались чахлыми мужичками, коими кишели вонючие трущобы района Холодной Гавани, но с чьей помощью — и с милостью Божьей — «Морской купец» мог бы выбраться к морю. Неверно расставленные и совершенно неподходящие блоки шумно возражали против подъема старого латаного-перелатаного грота, но наконец фрегат отвалил и под блиндом, фоком и гротом плавно заскользил прочь от пристани. Плавание вниз по реке неукомплектованного и недооснащенного корабля стало бы просто кошмаром, если бы не два счастливых обстоятельства: во-первых, ветер был легкий и дул почти прямо в корму — и весьма кстати, поскольку под временным парусным вооружением фрегат, чтобы поймать ветер, мог бы с таким же успехом сделать поворот на другой галс, как проплыть по улице Пикадилли, названной так в честь одного сообразительного портного, придумавшего новый оригинальный способ сооружения брыжей. Во-вторых, из мрачных глубин полубака кое-как, на ощупь выбралась парочка сторожей, все еще не очухавшихся от хмеля и очень расстроившихся, когда до их пропитых мозгов дошло, что «Морской купец» уже плывет. Питер веселыми оплеухами и руганью привел их в полезное состояние, что тоже было кстати, поскольку двое портовых шаромыг, которых он притащил с собой, уже завалились спать и, храпя, упрямо отказывались просыпаться, несмотря на пинки и ведра грязной речной воды, выплескиваемые им в лица. Кэт, устроив своих малышек как можно удобней на узле с постельным бельем и одеждой, вернулась на палубу и спокойно осведомилась, не может ли она чем-то помочь. — У тебя глаза необычайно острые, — сказал Генри. — Иди-ка на нос с левого борта и, ради Бога, дай знать, когда что-то увидишь. Там темней, чем во внутренностях черного кота, поэтому будь повнимательней. Теперь уже фрегат заскользил по воде быстрее. Наблюдатель, поставленный на носу с правого борта, сильно подался за борт, напрягая зрение, а Кэт сжимала фокштаг и от всей души молила Бога, чтобы он дал ей вовремя различить препятствие. Один из матросов, что был потрезвей, стоял от нее в нескольких ярдах ближе к грот-мачте, готовый передать сигнал тревоги Питеру и через него — застывшему у румпеля Генри Уайэтту. Дрожа от волнения и речной промозглой сырости, Кэт дважды примечала на фоне звездного неба чертовски слабый рисунок мачт и рей, проступающий над речным туманом, и выкрикивала предостережения. В одном случае Уайэтт едва успел повернуть румпель, чтобы не поцарапать борт судна, в котором он узнал незаконченный «Центурион», Боже, не он ли, Генри Уайэтт, столько месяцев проплотничал на нем? В другом, желая обойти поздновато замеченный крупный хольк, он врезался в корму пинассы нового быстроходного класса, сохранившей свое старое название. Эти маленькие суда предназначались для сопровождения галионов. Вслед за громким ударом послышался шум падающих мачт, и из тьмы зазвучали залпы проклятий перепуганных матросов: — Эй вы, чертовы ублюдки! Вы ответите за это перед королевским контролером! Вы же нас чуть не потопили! Уайэтт в безумной тревоге глянул вверх и увидел, что его грот-рей запутался среди вант, которыми крепилась мачта пинассы. Питер, однако, хмыкнул и мощно рубанул по рее чужака, которая повредила блинд. — Что за судно? — проревел из темноты злой голос. — Чтоб душа твоя горела в аду, отвечай мне! — «Буревестник» из Дувра, — прокричал в ответ сообразительный Питер. — Становитесь на якорь по нашему борту, вы, недотепы. Как рассветет, мы это дело уладим. Слава Богу, течение оказалось достаточно сильным, поэтому постепенно «Морской купец» развернулся бортом к потоку и выпутал свой грот-рей. — Стойте, черт вас побери! — заорал кто-то на борту маленького военного судна. — Не надейтесь улизнуть в темноте, не выйдет! Стой! Джон, давай к ним на борт! Парень покорно прыгнул, но не рассчитал и свалился в темную воду, разделяющую два судна. Он сразу же отчаянно завопил, чтобы ему бросили веревку. Со скрежетом пройдя вдоль борта пинассы, судно Уйэтта вырвалось и возобновило свое неторопливое плавание вниз по реке. В какой степени пострадал «Морской купец», Уайэтт мог только догадываться. Уверен сейчас он был лишь в том, что это совсем некстати приключившееся столкновение помешает ему остановиться в Маргите, где он надеялся пополнить свою импровизированную оснастку и закупить достаточное количество припасов для плавания вдоль берега.Глава 12 ГАЛИОН «КОФФИН»
Ценой многих кабельтовых, пройденных взад и вперед вдоль западного побережья Корнуолла и Девона, Хьюберт Коффин наконец-то нашел в Пензансе то, что ему было нужно и по карману: двухсоттонный галион старой конструкции. Как и предвидела его семья, из Портледжа исчезли столовое серебро, подсвечники и кое-какие серебряные подносы, а несколько акров отборных лесных угодий были сданы в аренду. Вскоре галерея и большой холл лишились той суматохи, что оживляла их в предыдущем году, — но только потому, что почтенного Чарльза Коффина, дальнего родственника, обитающего в Ильфракуме, убедили купить четверть процентной доли в перестроенном военном корабле, с тем чтобы это рискованное предприятие осталось в кругу семьи. Был конец апреля, когда Розмари Коффин, чей внешний вид безошибочно свидетельствовал о том, что скоро она принесет сэру Роберту внука, попрощалась со своим мужем. С наступлением весны старый баронет стал раздражительным и ворчливым и вовсю проклинал свою физическую немощь, не позволявшую ему пуститься из Байдфорда в плавание вместе со своим сыном, почтенным Чарльзом и многими крепкими арендаторами, йоменами и франклинами. И потому Розмари ужасно обрадовалась, когда спустя две недели после отплытия галиона «Коффин» небольшое быстроходное судно, одно из тех многих, что служили Дрейку связными и доставляли почту на месте сбора могучей эскадры в Плимуте, привезло ей письмо от мужа и хозяина. В нем Хьюберт просил, чтоб она приютила у себя миссис Кэт Уайэтт с маленькими детьми и отнеслась к ней с добротой. Она тут же вспомнила, и не без удовольствия, того рыжего, трезвого и рассудительного капитана торгового судна, который там, в Санто-Доминго, так дружен был с Хьюбертом. Вот и прекрасно, решила она, со мной будет еще одна женщина, которая поможет мне управляться с имением и хоть как-то держать под контролем этих резвых младших детей сэра Роберта. Две женщины впервые встретились в бесподобный майский денек, когда воздух был насыщен нежным ароматом цветущих яблонь и свежескошенного сена. Внешне они разительно отличались друг от друга: Розмари — маленькая, стройная, с иссиня-черными волосами, темными глазами, с крошечными ручками и ножками; и Кэт — все еще в стройной форме, несмотря на две беременности, которые несколько испортили ее великолепно пропорциональную фигуру. Ее серо-голубые глаза сохранялись все такими же прекрасными и сияющими, как прежде, а волосы, не подкрашенные в рыжий цвет по глупой моде того времени, отливали серебристо-золотым блеском, не сравнимым с теми дукатами, которых так мало осталось в Портледже. Розмари очень понравилась Генриетта, чья неправильно сформированная ступня почти выправилась, но не совсем. Но больше всего обожания она излила на маленького Энтони — возможно, оттого, что и у него были темные волосы и глаза. — Кажется чудом, — сказала она шутливо, — что твои детки — один такой темный, а другая такая светленькая — могли произойти от одних и тех же родителей. — Сосредоточившись на расчесывании длинных и пышных волос мальчика, она не заметила болезненную гримасу и на мгновение окаменевшие губы Кэт. — Надеюсь, у Энтони волосы станут рыжими, — медленно проговорила Кэт, — когда он подрастет. Если же нет, то тогда, может, третий ребенок будет больше похожим на своего отца. — Третий… — Женщины встретились взглядами. — Я… я не подозревала. — Я тоже… до прошлой недели. — Как я рада, что вы будете со мной, — пробормотала Розмари, возвращая Энтони на его подушку. — Я… я… ну, в общем, несколько неопытна, что касается вынашивания детей. Позже, рассказывая о своем житье-бытье, Кэт заговорила о шумных верфях Плимута, о постоянном прибытии небольших частных военных кораблей, подобных галиону «Коффин». — По совету Генри, — сообщила она, — твой муж срезал на шесть футов полуют и полубак и увеличил галион в длину на двадцать футов. Генри клянется, что это сделает судно более управляемым и позволит поставить на нем четыре дополнительных пушки. Пока они сидели в просторной личной комнате Розмари, украшая вышивкой напрестольную пелену, Кэт подробно рассказывала о кипучей деятельности, развернувшейся после поступления новостей о том, что «Английское предприятие», несмотря на усилия Дрейка помешать ему, приближается наконец к стадии готовности. Стало достоверно известно, что все испанские корабли, под угрозой смертной казни капитанам и экипажам, должны быть готовы покинуть свои стоянки 25 марта 1588 года. Сэр Френсис Дрейк, говорила Кэт, настаивает на немедленном нападении, чтобы уничтожить то, что паписты окрестили «Непобедимой армадой», либо в их же портах, либо у побережья Испании. Но королева, увы, снова оробела и упрямо запрещает наносить такой хитрый удар. — Розмари, это так замечательно — плавать по гавани в Плимуте на пинассе, как плавала я, и видеть такое множество больших и статных кораблей и пересчитывать их. В прошлом месяце у нашего великого адмирала там уже собралось их около тридцати. — Она принялась перечислять их по названиям и среди прочих назвала «Елизавету Бонавентур», «Роубак», галион «Феннер»и шесть высокобортных кораблей, принадлежащих Лондонскому Сити. — Ты меня изумляешь, — восхитилась Розмари. — Ты разбираешься в кораблях и навигации не хуже, чем капитан торгового судна. — Ты забываешь, — отвечала Кэт, орудуя иголкой, поблескивающей над рамкой, — что Генри больше года работал на королевской верфи в Дептфорде и что из нашего коттеджа я могла видеть все суда, проплывающие по Темзе. Потом еще у меня была возможность побольше узнать о разных канатах, реях и рангоутных брусьях, когда мы заканчивали оснащение нашего фрегата в Дувре. — Кэт тянуло рассказать о причине их внезапного бегства из Лондона, но она решила этого не делать, хотя и была уверена, что Розмари, сама уже настрадавшись, выслушала бы ее с интересом и сочувствием. Она продолжала: — В тот день, когда я отбывала в Байдфорд, на «Морского купца» поднимали артиллерию и загружали его пороховой погреб. — Это хорошо, что Дрейк и наш народ так насторожены, — задумчиво заметила Розмари. — И почему же? — В гавани Кадиса я видела, какие корабли собираются под знаменем короля Филиппа. О, эти португальские каракки — самые большие корабли королевы кажутся простыми пинассами по сравнению с ними. Ты бы задрожала от страха перед тем, что будет впереди, если бы видела их, как я, во всей их гордости и великолепии. Они просто щетинятся пушками. Вот, галион «Флоренция» — он, говорят, один несет на себе пятьдесят два больших орудия; а нос у них и особенно корма так изумительно украшены резьбой, что просто загляденье. Эти скульптуры всегда религиозного характера и покрываются листовым золотом; на галионе «Сан-Хуан»у Богоматери и Ее Сына вместо глаз — большие жемчужины. А какой из наших кораблей лучше всего вооружен артиллерией? — «Ковчег», — быстро ответила Кэт. — На нем только тридцать четыре пушки, но большинство — длинноствольные. — А как остальные? — Не многие из них имеют больше двадцати. Меж гладких черных бровей супруги Хьюберта Коффина появилась V-образная складка тревоги. — О, дорогая моя, да ведь галионы провинции Гипускоа имеют по меньшей мере сорок, а большие каракки Лиссабона — до восьмидесяти восьми пушек. Так говорит отец. — Ты слышала, — наконец поинтересовалась Кэт, — что их знаменитый адмирал Санта-Крус мертв? Розмари вздрогнула, и с коленей ее упала катушка шелковых зеленых ниток. — Такой великий победитель турок при Лепанто, да упокоит Господь его душу — и мертв. Если бы не он, турки могли бы захватить всю Италию. И все же в наших молитвах мы можем только благодарить Бога, что это так, потому что он и Педро де Авилес де Менендес были главной надеждой Католической Лиги. А ты не знаешь, кто теперь вместо него? — По одним слухам, сухопутный генерал по имени Алонсо де Лейва. — Я о нем слышала как о храбром и безрассудном вояке. — Но в Плимуте ходят и другие слухи, будто король Испании приказал принять на себя командование герцогу де Медина-Сидония. — Еще один генерал. Я-то думала, что он ушел в отставку и живет в своих владениях около Кадиса. Я часто слышала, как отец говорил о доне Пересе де Гусмане как об очень талантливом офицере. Гончая Хьюберта, с отъездом своего хозяина ставшая более беспокойной и печальной, подбежала с бараньей костью в зубах, найденной ею в камышовом настиле, покрывающем пол в большом холле, положила свою находку у ног Розмари и затем возложила голову ей на колени. — Но теперь-то у нас больше кораблей в кампании, чем те тридцать, что мы имели прошлой зимой? — Розмари рассеянно оттолкнула предложенную ей косточку и потрепала пса по загривку. — О, конечно! Гарри мне говорил, что около шестнадцати парусников под началом сэра Генри Палмера патрулируют Узкое море, и они готовы отбросить герцога Пармского, если попутный ветер соблазнит его перебросить через пролив свою армию на плоскодонных судах. Еще шестнадцать кораблей курсируют под началом лорда Хоуарда Эффингемского, и под началом вице-адмирала Мартина Фробишера служат одиннадцать небольших малозначительных военных кораблей. Кэт взяла ножницы, привязанные на ленте к ее поясу, и отстригла кончики нескольких ниток. — Гарри, как и многие другие, считает, что лорд Хоуард приведет свои корабли в Плимут, как просил и советовал сделать сэр Френсис, чтобы самые крупные силы Англии были готовы напасть на врага, лишь только он приблизится к нашему берегу.Глава 13 ЛОРД ХОУАРД ЭФФИНГЕМСКИЙ
Питер Хоптон бесился в отчаянии: как ни хлестал он грубой бранью и линьком негодяев, завербовавшихся в команду «Морского купца», они неумело и с явной прохладцей готовили корабль к отплытию. В этот прекрасный день 21 мая 1588 года, не менее обеспокоенный, капитан Генри Уайэтт со своей кормовой палубы оплакивал вялость и нерадивость, с какой его матросы, распластавшиеся на реях, совсем уж неуклюже ставили паруса. Он нервно покусывал губу, боясь, что адмирал Дрейк заметит это безобразие, и слабым утешением служило ему то, что на нескольких других кораблях наблюдалась подобная же неприглядная картина. О, как обидно было это теперь, когда наконец «Морской купец» прекрасно вооружился, полностью экипировался да и в других отношениях подготовился к плаванию так, как можно было только желать. Как уязвляло, что с экипажем ему так печально не повезло. Он вынужден был брать в команду любого, кто бы ни подвернулся. Так соблазнительны были приманки, предлагаемые владельцами побогаче, что, если ему и удавалось-таки найти здорового первостатейного матроса, этот парень либо исчезал ночью за бортом, либо дезертировал, когда его посылали на берег по какому-нибудь поручению. Первоначальная команда фрегата, привезенная из Лондона, растаяла, как туман под солнечными лучами, и некем было ее заменить, кроме ряда недоумков, пьяниц и безответственных проходимцев, которые появлялись на борту лишь для того, чтобы после исчезнуть. Горькая зависть одолела Уайэтта, когда он понаблюдал за точными действиями команды галиона «Коффин». Из привезенных им из Байдфорда матросов только очень немногие клюнули на лесть и посулы других капитанов. Было чистым восторгом смотреть, как быстро один за другим распускались его паруса, когда галион разворачивался, чтобы занять свое место в кильватере одного из судов, плывущих по трое в строю фронта вслед за «Местью», ставшим теперь флагманским кораблем Золотого адмирала. Тяжелое пятисоттонное судно, оно тем не менее оставалось легким в управлении, как молодая строевая офицерская лошадь. Пока «Морской купец» набирал скорость, Уайэтт крикнул, чтобы ставили еще паруса, и приказал рулевому ввести фрегат в строй. Сэр Френсис Дрейк с развевающимся адмиральским вымпелом выходил из гавани Плимута, красиво приветствуя лорда Хоуарда Эффингема, нового Верховного адмирала военно-морского флота ее величества королевы. Естественно, Френсиса Дрейка сильно раздражало то обстоятельство, что этому джентльмену знатного происхождения, пусть даже столь деятельному, отдали командование в самый критический час правления Елизаветы. Однако Дрейк понимал причину такого предпочтения. Ведь он сам принадлежал к тому новому дворянству, которое начинало медленно, но уверенно диктовать решения, определяющие судьбу Англии. Как сын простого морского священника, хоть и благородного происхождения, мог надеяться стать выше рангом Хоуарда Эффингема, потомка одного из древнейших прославленных аристократических родов в королевстве? Но какой парадокс: этот лорд, благоверный католик, должен был управлять обороной единственной протестантской державы, способной бросить вызов Филиппу Испанскому. Наступавший день был действительно превосходным, и это тем более радовало сердце, что он сменил три других, предшествующих, с затянувшимся утомительным дождем. С полощущимися на ветру флагами и большими латинскими крестами на главных прямых парусах, ярко алеющими в лучах весеннего солнца, тридцать кораблей флотилии Дрейка вышли в пролив Плимут-саунд. Всякий обладающий острым зрением мог увидеть темную толпу горожан, собравшихся на молу Хоу, чтобы посмотреть на впечатляющее зрелище приближения эскадры лорда Хоуарда Эффингема. Покрытые рябью голубые воды разрезали один за другим пятьдесят четыре парусника. Знатоки насчитали одиннадцать больших кораблей, принадлежащих флоту ее величества; шестнадцать с высокими надстройками, поставленных Лондонским Сити; семь — собственность самого лорда Хоуарда и двадцать, размером поменьше — из различных портов Ла-Манша. За всеми тянулись шлюпки, и каждый корабль имел охранение из маленьких крепких пинасс. Далеко оторвавшись от своего сопровождения; шел «Королевский ковчег». Построил его сэр Уолтер Ралей, назвав сначала «Ковчег Ралея», но потом подарил корабль королеве — более чем просто галантный жест. Все узнали великолепное королевское трехцветное красно-сине-золотое знамя, развевающееся с марса фок-мачты, вице-адмиральский вымпел, полощущийся на гроте, и знамя с крестом Святого Георгия — на бизани. С обрасопленными наконец парусами «Морской купец», к удовлетворению Уайэтта, показал, на какую способен скорость, и быстро занял свое положение в кильватере судна, идущего за вымпелом Дрейка. Видимо, оттого, что командовали кораблями многие его старые капитаны и компаньоны, эскадра сэра Френсиса шла ровнее и лучше держала позицию, чем эскадра лорда Хоуарда. Те, кто видел это зрелище, не уставали рассказывать о том, как эти высокие синие, желтые и красные корабли маневрировали под надувшимися белыми парусами. Как раз в тот самый момент, когда «Месть» оказался на траверзе «Королевского ковчега», был спущен вице-адмиральский вымпел Дрейка, а минутой позже и адмиральский вымпел лорда Хоуарда, трепеща, опустился на палубу «Королевского ковчега». Совершенное искусство мореплавания позволило двум эскадрам одновременно оседлать свой ветер: Дрейк, поскольку заново стал подчиненным, ушел под ветер, Хоуард Эффингемский привел свои корабли к ветру. Весь узкий пролив заполнили суда всевозможных тоннажей. От бортов «Мести»и «Королевского ковчега» отвалили адмиральские шлюпки и салютовали друг другу дружным выбросом весел на валек. На «Мести» бывший вымпел Хоуарда был теперь привязан узлом к фалам, а вымпел Дрейка — к фалам «Королевского ковчега». Один, за ним другой бортовой залп прогремели салютами при появлении на носу «Королевского ковчега» адмиральского флага. И снова ухнули залпы, многократным эхом прокатываясь среди холмов, когда развернулся и поплыл над «Местью» флаг Верховного главнокомандующего. Как писал Хьюберт Коффин своей жене, «это была впечатляющая, точная и изящная церемония в честь создания могущественнейшей армады, когда-либо появлявшейся под крестом Святого Георгия». В порту в тот же самый день пополудни можно было видеть судовую шлюпку «Морского купца», медлительно подплывающую, к галиону «Коффин». На кормовой банке сидел Генри Уайэтт, и озабоченность на его лице объяснялась двумя серьезными обстоятельствами. Когда Хьюберт Коффин радушно принял капитана Уайэтта у себя в каюте, последний высказал то, что лежало у него на душе: он остро нуждается в честных, отважных матросах. Никуда не годится командовать хорошо оснащенным для плавания кораблем, когда у него такая ненадежная и плохо обученная команда олухов, которым нельзя довериться, чтобы переплыть даже узкий пролив; не может ли его старый друг и товарищ по плаванию поделиться с ним, дать ему хоть немного надежных парней из Северного Девона? — Мне очень печально, — отвечал хозяин галиона и сочувственно положил руку на плечо Уайэтту, — отказывать тебе, Генри, ведь я знаю, как велика твоя нужда. Но на прошедшей неделе я потерял шесть хороших матросов, заболевших оспой у меня на борту. А пару дней назад еще два хороших парня из Ильфракума сильно пострадали в кабацкой драке. Поверь мне, Генри, я действительно в затруднении насчет укомплектования моей команды. — Тогда, ради Бога, Хьюберт, скажи, что мне делать? В лучшем случае у меня только половина экипажа. — В таком же положении большинство частников. Не выпьешь со мной чарочку мальвазии? Они посидели немного в темноватой прохладной каюте галиона, просторной по сравнению с каютой капитана фрегата, однако лишенной дорогостоящих драпировок, портьер и тех витиеватых резных украшений, обычно встречающихся на судах его класса и тоннажа. Наконец Коффин упомянул о благополучном приезде Кэт в Портледж и о том, что в этом году весенние посадки обещают большой урожай. И вот после глубокого вздоха он сообщил: — Я разговаривал с сэром Френсисом по вопросу королевского прощения для тебя и старшего артиллериста Хоптона. — И что сказал адмирал? Морщина пробороздила лоб сквайра Коффина. — Признаться, довольно немного — его занимали планы приветствия милорда Хоуарда, но, мне кажется, он отнесся серьезно к вашим прошениям. Буду честным с тобой, Генри, трудно быть уверенным насчет того, насколько внимательно он выслушал мой рассказ о злой и несправедливой судьбе, что выпала на долю твоих родителей. — Ответь мне правду: думаешь ли ты, что сэр Френсис будет ходатайствовать за нас перед ее величеством? Молю Бога, Хьюберт, чтобы ты никогда не узнал, что такое жить в тени своей собственной виселицы! — В любое другое время я бы честью поклялся, что сэр Френсис похадатайствует за вас перед королевой. — Его большой рот расплылся в утешающей улыбке. — Наш адмирал дорожит тобой, он никогда не забывал, кто принес ему новости о предательстве в Бильбао и тем самым «спустил на воду» его армаду тысяча пятьсот восемьдесят шестого года. Уайэтт быстро прошелся по каюте, громко топая грубыми кожаными сапогами. Чего надеяться на что-то лучшее? Да, верность Дрейка тем, кто с ним плавал и воевал, легендарна, но вправе ли ожидать, что он, когда все стоит под угрозой, займется проблемами одного из самых незначительных своих капитанов? Уайэтт переломил черствый сухарь и окунул его в кубок с мальвазией, который носил в руке, пока нервно вышагивал по каюте. — Интересно, дружище Хьюберт, почему это до сих пор у Лизарда не видно вражеских парусов? Радуясь, что разговор перешел на менее трудную тему, Коффин рассказал, как у мыса Ортегаль в Бискайском заливе «Непобедимую армаду» трепали встречные ветры до тех пор, пока ее главнокомандующий герцог Медина-Сидония, видя, что вода на исходе, а пищевые припасы портятся, пошел назад в Ла-Корунью с двумя третями флота. Остальные, не зная о его поступке, поплыли дальше к месту встречи у островов Силли. — Значит, снова Бог смилостивился над нами, — заключил Коффин-младший. — Иначе еще в прошлом месяце нам бы пришлось стоять против герцога с тем, что у нас было в Плимуте. Они поговорили еще немного — теперь уже о системе маяков, которая за несколько часов должна оповестить всю Англию о неминуемости вторжения. Затем, нисколько не ободренный, Генри Уайэтт вернулся к себе на корабль и, взглянув на судно друга, обнаружил, что стояночные огни галиона «Коффин» окружены ободком от затянувшего их тумана.Глава 14 КОМАНДА ДЛЯ «МОРСКОГО КУПЦА»
Все первые две недели июня большая флотилия лорда Хоуарда Эффингема стояла на якорях в беспокойном ожидании десяти судов снабжения, обещанных королевским контролером по продовольственным поставкам. С каботажных и рыболовецких судов неоднократно поступали ложные сигналы тревоги, будто бы у островов Силли были замечены чужие суда, и на проверку их уходило много времени и сил. Но со временем ветер задул прямо в Плимутскую бухту, не позволяя английским кораблям обрыскивать море, команды стали болеть, а запасы провизии подходить к концу, и как бы снабженцы Дрейка ни старались подкупать, обхаживать и угрожать местным купцам, Плимут и Южный Девоншир просто-напросто были не в состоянии наскрести им какое-то продовольствие. Только такие суда, как галион «Феннер»и галион «Коффин», чьи команды были связаны крепкими общинными узами верности, избежали общего дезертирства. Однажды утром в середине июня Генри Уайэтт с ужасом обнаружил, что снова его жиденькая команда из восьмидесяти матросов сократилась более чем на четверть из-за болезней и дезертирства. Даже проверенные сообщения о превосходящих силах противника не могли побудить их оставаться верными своему долгу. На «Королевском ковчеге» стали поговаривать о том, чтобы суда поменьше отправить в резерв, а их команды добавить к спискам лучше оснащенных кораблей. — Господи, Питер, что же мне делать? — с отчаянием спрашивал Уайэтт в уединении своей каюты. — Если сейчас лорд Хоуард дал бы сигнал «поднять якоря», «Морской купец»и паруса бы не смог как следует поставить. Питер задумчиво почесал свою желтоволосую голову, потом, приноравливаясь к ленивому покачиванию фрегата, приник губами к кожаной кружке эля. — Вот что, Генри, — сказал он, отирая рот рукавом, — поскольку ты занимался всем оснащением корабля и достал нам отличные пушки из королевского арсенала, то уж теперь моя очередь: я съезжу на берег и найду нам — дай Бог, чтобы успеть — здоровых ребят. Уайэтт поднял плечи и горько вздохнул: — Брось, Питер. Ты же знаешь, что этот берег давно уже прочесали слуги королевы и адмирала и здесь нам не найти замену сбежавшим и умершим. И у нас нет ни золота, ни власти, чтобы предложить морякам хорошие условия. Питер широко зевнул и поднялся — его голова коснулась палубного бимса наверху. — Ты можешь считать меня пропойцей и бабником — такой я и есть, — признался он с подкупающей простотой. — Однако, клянусь Богом, Генри, ручаюсь тебе, что за неделю я найду людей достаточно, чтобы хватило на один борт. — Пиво размягчило тебе мозги, — проворчал Уайэтт. — Где ты найдешь пятнадцать здоровых парней? — Это только Богу известно, — засмеялся Питер. — Но я обещаю, что они у тебя будут, а иначе я отдам тебе свою долю в этом корабле. Он покинул корабль, прихватив с собой некоего Арнольда, боцмана, и двух здоровенных йонкеров из Корнуолла, черноволосых и пройдошистых, но по какой-то причине всем сердцем преданных Питеру. Пятым членом партии вербовщиков был веселый голубоглазый ирландец-великан по имени Брайан О'Брайан. Три дня спустя один из йонкеров приплыл на красной барке, сопровождаемый двумя здоровенными костлявыми деревенскими парнями, лежащими связанными по рукам и ногам, и тремя карманниками, все еще проклинавшими жестокие порядки в тюрьме Лискеда. А на следующий же день появился Брайан О'Брайан с партией из четырех истощенных соотечественников, которых постигла неудача: их унесло тем же штормовым ветром, что удерживал флотилию лорда Хоуарда в плену пролива. Этим простым «обитателям болот», как в шутку называли ирландцев, Брайан описал свой фрегат как большую плавучую крепость, где они будут пировать и лежать на мягких постелях. Эту словесную отраву ирландец приправил убедительным количеством крепкой жидкости — и вот, ревя как целое стадо быков, они перевалились через поручень фрегата на палубу и были живехонько засажены в носовой трюм. Только тогда обратился Уайэтт к Дрейку за разрешением (он все еще получал свои распоряжения от Френсиса Дрейка, и так будет многие месяцы) переместить свою якорную стоянку подальше от берега, чтобы вплавь до него добираться стало очень опасно. Когда ирландцы протрезвели, они разразились чудовищными гэльскими проклятиями и обещали потопить «Морского купца» при первой же возможности — чем конечно же не добились удаления тех решеток, что держали их в заключении в трюме фрегата. Двое суток спустя вернулся другой корнуоллец, поглаживая ножевую рану, но ведя троих цыган — скрытных смуглолицых парней, которых он захватил, пока они кемарили возле костра. Прошло уже пять дней, но ни Питер, ни Арнольд не возвращались. Уайэтт не мог этого знать, но худшая из неудач постигла их вербовочные старания. Хотя они и проникли в глубину Сомерсетшира, в старинном городке Йовиле им не удалось убедить кузнеца бросить свою наковальню, а его подмастерья — сбежать от него. Но неподалеку, в уютном фермерском доме, красочные байки Питера о жизни в Виргинии, о победах Дрейка и о богатстве венецианского галиота, захваченного в гавани Кадиса, распалили воображение второго сына фермера и придурковатого кузена, который как раз у него работал. Они поднялись в три часа утра и ушли с Арнольдом, чтобы служить на «Морском купце». Чтобы вернуться вовремя в Плимут, прикинул Питер, ему уже пора собираться в обратный путь. Поэтому он повернул свою лошадь — костлявую клячу, присвоенную им на безлюдном поле, — в сторону Тивертона и Эксетера. Очень расстроенный, Питер в приятной маленькой деревеньке зашел в таверну. Там он узнал, что отряды вербовщиков вымели из округи все подчистую. Хозяин пивной заверил его, что в этих краях многие посланники Дрейка заливались сиренами и обещали легкую и богатую добычу. Теперь тут остались только разумные, проницательные и флегматичные мужики. — Но, ей-богу, дружище, — откровенно признался он хозяину, — я должен вернуться назад хотя бы с тремя здоровыми подлецами. Неужели нет таких здесь в округе? — Есть, — отвечал трактирщик, вытирая руки о запачканный кожаный фартук. — Если ты проедешь с половину лиги по дороге в Ныотонское аббатство, то увидишь ферму франклина Доусона. У него большой участок прекрасной земли, которую он обрабатывает вместе с тремя рослыми сыновьями, но их не заманишь на корабли, потому что один из них служил у Мартина Фробишера и на собственной шкуре испытал, что такое матросская доля. Постанывая от разных одолевших его болячек, Питер расплатился по счету и на закате отправился в путь. Однако было еще светло, когда он заметил огоньки дома франклина Доусона, мягко светящиеся в глубине богатой долины, разделенной на множество небольших зеленых полей и лугов. Когда он подъехал к воротам, прием, который ему оказали, был далеко не сердечным. Возле его ног заметались, рыча и скалясь, злющие псы, и, крупно шагая, вышел справиться, что ему нужно, чернобровый детина лет под тридцать, с дубиной, усеянной железными остриями. Он, заявил Питер, отряхивая рукой штаны от дорожной пыли, бедный путник, бегущий от суровой службы на кораблях ее величества. Черноволосый детина осмотрел его подозрительно, но все-таки отворил тяжелые ворота. — Проходи, коли так. Я-то сначала подумал, что ты один из тех вербовщиков, которые все время осаждают эту ферму и пытаются заманить нас красивыми разговорами и обещаниями. Франклин Доусон был, видимо, фермером более чем средней руки и способностей, ибо его жилище оказалось восхитительно опрятным, с крепкой тростниковой крышей, высокими стенами, должно быть воздвигнутыми еще в те дни, когда на Англию совершали свои набеги сарацины и норманны, добираясь даже сюда. Франклин, то бишь свободный землевладелец недворянского происхождения, оказался проницательным остроносым мужиком, а его жена — худым поблекшим созданием. Семья сидела за обильным ужином, включающим чашки жирного молока, толстые ломти ветчины и еще более толстые куски нарезанного ржаного хлеба, намазанные тем превосходным сливочным маслом, которым до сих пор славится Девоншир. Они поставили перед Питером деревянное блюдо и пригласили его начинать. Веселое открытое лицо Питера и его живые манеры постепенно прогнали окаменелые выражения с физиономий трех старших сыновей фермера. Джайлз, тот черноволосый, который впустил его в дом, оказался самым старшим; за ним по возрасту шли близнецы Герберт и Джордж. Им было около двадцати, и они смотрелись как медлительные и дюжие молодые бычки. Единственно, кто еще присутствовал в доме из членов семьи, помогая хозяйке обслуживать мужчин, была хорошенькая, с отсутствующим взглядом, полнотелая дочка по имени Пегги. Ей было без малого восемнадцать; с густыми каштановыми волосами и изумительно правильными белыми зубками, которые она обнажала, то и дело заливаясь веселым смехом. Питеру не потребовалось много времени, чтобы убедиться в глупости Пег: родители и братья за ней всегда зорко приглядывали. Видимо, до той поры Пег не встречался никто, хотя бы отдаленно похожий на этого веселого желтоволосого великана. Девчушка сразу увлеклась моряком. После ужина члены семьи и их гость вышли посидеть и порыгать под раскидистой яблоней, цветущей посреди их огороженного стеной двора. Как только Питеру стало ясно, что Джайлз плавал с Фробишером только к Белому морю, он совершенно их очаровал своими избитыми рассказами о приключениях в Америке. — Вот теперь ты дело говоришь, — заметил франклин Доусон. — Когда ты говоришь о жирной земле, высоких лесах и множестве чистой воды, ты поступаешь разумно. К черту всю эту пустую болтовню о драгоценных камнях, жемчугах и испанском золоте. Когда Питер начал довольно толково описывать практические методы ведения сельского хозяйства, бытующие у туземцев, Доусоны, отец и сыновья, слушали как завороженные. Питер все время ощущал на себе взгляд больших широко расставленных карих глаз Пег. Боже! Мягкие алые губы девчонки были так соблазнительны. Один из братьев, заметив зачарованное выражение на лице сестры, что-то буркнул ей, отчего она скривила гримасу и покорно опустила глаза на сильные, загрубевшие от работы руки. Питер все время подыскивал аргумент, который мог бы оказаться достаточно красноречивым, чтобы увлечь этих дюжих молодцов на «Морского купца» обслуживать кулеврины. — Туземцы, — продолжал он, — сажают свою кукурузу рядами — в Виргинии мы называли ее «маис». Старый Доусон задумчиво потеребил косматую голову. — Ты хорошо рассмотрел, как они это делают? — Вполне. — Питер с трудом старался не глазеть на пышные округлости, распирающие грубый шерстяной лиф под платьем Пег. — Не только рассмотрел, но даже сам посадил несколько рядов маиса для себя — правда, он не успел созреть до того, как нас оттуда увез Френсис Дрейк. — Думаешь, этот маис годится для откорма свиней? — Конечно. В Америке им откармливаются олени. — А как его сажают? — Джайлз нагнулся вперед, сомкнув руки под коленями, и одновременно бросил на отца вопросительный взгляд. Уголком глаза Питер заметил, что тот наклонил голову. В общем, оказалось, что прошлой зимой у них переночевал моряк, расплатившийся за ночлег небольшой сумкой с маисовыми зернами. К сожалению, незнакомец не знал, как нужно сажать эти зерна и ухаживать за ними. Может, дружище Хоптон не откажется проконтролировать их работу? В полутьме Питер ощущал настойчивое желание Пег, чтобы он остался, и тогда в его воображении моментально созрел полноценный план. Что ж, решил он, время еще есть, поскольку можно вернуться в Плимут только к самому выходу Дрейка и Хоуарда в море; и, возможно, его морской сундучок еще побудет в достаточной безопасности у хозяина таверны «Голова Черного быка». Как бы совершенно случайно он упомянул название гостиницы — раз, потом и второй, перед тем как подавить зевок. — Завтра утром косить, поэтому пора на боковую, — объявил старый Доусон. — Может, дружище Хоптон не откажется от глоточка сидра? — Сейчас принесу. — Пег вскочила и поспешила прочь, прежде чем кто-нибудь мог ей воспрепятствовать. Ухаживая за гостем, она пару раз скользнула бедром по плечу Питера, и он под покровом темноты игриво ущипнул ее, почувствовав соблазнительную упругость и вместе с тем мягкость девичьей плоти. Он полагал, что эта вольность осталась незамеченной, но, видимо, ошибался. Когда поздно ночью он совершенно серьезно отправился по нужде, то увидел Джорджа Доусона, клюющего носом в кресле, поставленном прямо перед дверью в ту комнату, где спали Пег и ее младшие сестры. Парень проснулся, но любезно кивнул головой, когда Питер проследовал по своим делам дальше.Глава 15 ТАВЕРНА «ГОЛОВА ЧЕРНОГО БЫКА»
Как обычно, Доусоны встали и занялись делами задолго до того, как над ярко-зелеными холмами Центрального Девона взошло солнце. Сгорая желанием узнать, как сажают маис — что было для них равносильно замечательному приключению, — Доусон и его рослые дюжие сыновья горько разочаровались, когда Питер после сытного завтрака, состоящего из говядины, сыра, яиц, салата и ржаного хлеба, запиваемого большими глотками молока, объявил, что ему необходимо достать хотя бы дюжину несоленых рыбин. У туземцев всегда было принято зарывать по одной рыбине в каждую лунку. Сойдет карп, форель или кое-какие другиеобитатели пресной воды, поскольку тот незнакомец дал им ровно три дюжины коричневых, желтых или красных зерен. Питер задавался вопросом, а не был ли этот даритель каким-нибудь колонистом, с которым он делил суровость и ужасы жизни на острове Роанок, но, поскольку путник не сообщил свое имя, как утверждали Доусоны, то и ответа не было никакого. Питеру рассказали о мяснике, у которого на противоположном конце деревни, называвшейся Чадли, имелся пруд, где он разводил карпа, и Питер вызвался сам съездить к нему за этой необходимой покупкой. Старый Доусон понюхал холодный утренний ветерок и довольно легко согласился: иначе это бы означало, что ему или кому-то из его сыновей пришлось бы терять драгоценное время, важное для сенокоса. Итак, Питера провели в конюшню, где он, к своему изумлению, обнаружил тройку лоснящихся стройных животных, по сравнению с которыми его жалкая кляча выглядела просто тем, чем была. Собралась кучка младших детишек Доусона, они таращились, разинув рты, пока Питер искал седло, достаточно большое, чтобы в него могла вместиться его солидная задница. Тут робко вошла Пег, загнала своих младших обратно в дом, потом застенчиво, бочком подошла к тому месту, где он застегивал свой пояс. Оглянувшись вокруг себя, она вдруг бросилась в его объятия и жадно, горячо впилась своим влажным и теплым ртом в его губы. Он с охотой и очень крепко поцеловал ее, чувствуя, что в охапке у него — о Боже! — была сама теплота и нежность. От Пег исходил сладкий, свежий аромат — как от хорошо ухоженной телки. — О Питер! Питер! Увези меня отсюда, — задыхаясь, говорила она, и ее круглые коровьи глаза туманились — Они держат меня здесь как в тюрьме. Никаких развлечений. Вот прошлой осенью — они даже не взяли меня на ярмарку. — Ну, насчет этого, голубка, — смеясь, он просунул руку ей за лиф, облапив ладонью твердую и довольно полную грудь и оценивающе качнув ее из стороны в сторону, — посмотрим, когда я вернусь из Чадли. А тем временем тебе бы лучше увязать свое воскресное платье и юбку и еще какие-нибудь вещички в небольшой узелок. Но делай все по-хитрому. Я не жажду драться с твоими братьями на кулаках. — Он говорил быстро, так как во дворе появилась высокая неуклюжая фигура Джайлза. — Которая из этих лошадей самая лучшая? — Вот эта, по кличке Бен. Отец держит жеребца, чтобы на скачках он состязался с Белым Облаком сквайра Типтона. — Славно. А теперь будь хорошей девочкой, уходи, — настойчиво попросил Питер, — и, ради Бога, перестань все время таращиться на меня. Ты насторожишь своих родичей. В Чадли Питер осуществил два своих дела. От хозяина рыбного пруда он получил мешочек, полный шести — и восьмидюймовых рыбешек. Затем в той же таверне, где он впервые узнал о франклине Доусоне, старший артиллерист отвел хозяина в сторонку, извлек свой последний золотой и вместе с ним сунул ему под нос тщательно запечатанный квадрат бумаги, на котором были имена капитана Генри Уайэтта и его фрегата. Внутри содержался такой текст: «Будь в таверне „Черный бык“ сегодня в шесть часов вечера, обязательно. Приведи с собой одного из наших самых надежных матросов. П. Хоптон «. Трактирщик осмотрел золотой, попробовал его на зуб, заметил, что монета с обрезанным краем и потертая, но тем не менее оседлал костлявого серого жеребца и отправился дорогой в Плимут. Вернувшись на ферму Доусонов, Питер не торопясь проследил за выкапыванием двойного ряда с правильным интервалом лунок на хорошо просушенной солнечной стороне холма. Затем он объяснил, что кукурузные зерна никогда не сажаются глубже шести дюймов, что нужно их три штуки на каждую лунку, затем бросил в вырытые ямки по карпу, засыпал их и хорошенько притоптал землю, предупредив, что тут не должно быть ворон, голодной домашней птицы и сорняков. — А теперь, — объявил он, — я пойду попрощаюсь с миссис Доусон — и в путь. — Я пойду с тобой, — вызвался Джайлз. — Не нужно, дружок, — широко улыбнулся Питер. — Полосу свою не успеешь докосить. Уже совсем рассвело, поэтому фермер и его сыновья попрощались с ним за руку и вернулись к своей работе, а Питер отшагал четверть мили к уютному жилью под опрятно уложенной тростниковой крышей и окруженному стеной. Он был уверен, что на широких красно-коричневых лицах Доусонов не проступило никаких следов подозрения. Круглоглазая Пег, должно быть, заметила его приближение, поскольку уже, притаившись, ждала его в темном углу конюшни, одетая в плащ с капюшоном и держа в руках невозможно объемистый узел. Он велел ей сократить его наполовину, и, пока она это делала со слезами на глазах, он перенес свое седло на спину высокому золотисто-гнедому Бену, а позади седла приладил седельную подушку, которой пользовалась миссис Доусон, когда выезжала куда-нибудь с мужем. — Ездить верхом умеешь? — Совсем немножко, — призналась она. — Ведь я говорила тебе, дорогой, что папа и брательники никогда меня с собой не берут. О Боже, мастер Хоптон, я в тебя влюбилась по уши, правда-правда; я так благодарна, что буду тебе трудолюбивой и прилежной женой. К счастью, их коняга оказался, несмотря на свою благородную кровь, необычайно сильным — что было весьма кстати, ибо и Питер весил изрядно, и Пег Доусон тянула стоунов на одиннадцать*["350]. По глупой случайности, мамаша Доусон вышла из дому, чтобы бросить остатки еды курам: взглянула на дверь конюшни и увидела Питера как раз в тот момент, когда он подсаживал ее пухлую дочку на подушку. Она издала такой пронзительный вопль, что, как прикинул Питер, его, верно, отчетливо услышали и в соседнем графстве, и побежала, размахивая руками, как связанная квочка крыльями, чтобы преградить ему путь к бегству. С трудом стараясь подчинить своей власти резвое животное, он едва не наехал на старую фермершу. С Пег, обхватившей его за талию сзади наподобие голодной медведицы, он поскакал по аллее, чувствуя, как нервничает жеребец, все еще пугающийся дамского седла, шлепающего его по спине. Он мельком заметил Доусона с тремя сыновьями, тяжело бегущих по свежевспаханному полю, потрясающих кулаками и орущих в четыре глотки, чтобы он остановился. — Езжайте быстрей, мастер Хоптон, — умоляла Пег, когда ее похититель перевел скакуна на легкий галоп. — Они убьют тебя, если поймают, а меня засекут до смерти В планы Питера, однако, не входило далеко отрываться от преследователей, он намеревался просто оставаться перед ними на безопасном расстоянии. И еще, он решил не ехать по прямому маршруту в Плимут, чтобы его посланник смог вовремя добраться до «Морского купца»и предупредить Уайэтта. Поэтому на вершине пологого холма он придержал коня, оглянулся и тут же почувствовал, как Пег с силой прильнула к его рту своими губами. — Ха, ха, ха, мастер Хоптон, — захихикала она, еще крепче обхватывая его руками, — мы так романтичны. Но смотрите, смотрите! Со двора фермы Доусонов вылетели галопом три всадника. Один из них — Питеру показалось, что он узнал в нем Джайлза, — сидел на ломовой с тяжелыми копытами лошади, но близнецы скакали на лошадях, похоже, обладавших хорошими скоростными качествами. Он помешкал ровно настолько, чтобы убедиться в том, что они его заметили, и пустил своего гнедого в приятный легкий галоп, взбивший на большаке неторопливый хвост красноватой пыли, и на вершине следующего пригорка убедился, что расстояние между ним и погоней значительно сократилось. Братья наверняка полагали, что золотистый гнедой вскоре устанет под двойной ношей; на самом же деле этот могучий конь не выказывал ни малейших признаков утомления. Они проехали Картленд Бикон, Хай Уиллингз и Тэйвисток, но в Уоллингтоне остановились: Пег клялась, что у нее разрывается мочевой пузырь. Ближе к вечеру они свернули на тот большак, который тянется между Эксетером и Плимутом, и наконец Питер различил маячивший вдалеке плимутский мол Хоу. Далеко в море можно было разглядеть стоящие носом к Мьюстоуну суда снабжения, охраняемые двумя галионами Лондон-Сити. Еще один взгляд через плечо — и Питер увидел своих преследователей, скачущих сзади, теперь уже примерно в миле от беглецов. Питер рассудил, что въедет в Плимут значительно раньше шести часов, но в его расчеты вовсе не входило, чтобы мстители застали его в «Черном быке» одного, без поддержки товарищей: он хранил глубокое уважение к мускулам и кулакам сыновей франклина Доусона. Поэтому Хоптон перевел скакуна на прохладную рысцу и слушал вполуха, что там болтает Пег, делясь с ним событиями своей интимной жизни, до этого остававшимися взаперти в ее нехитром умишке. Все беды Пегги начались где-то года три назад, когда проходящий странствующий торговец за хлевом Доусона лишил ее девственности. Видимо, большие голубые глаза девушки, яркие губки и живость лица так разжигали аппетиты местных юнцов, что с тех самых пор семья практически держала ее в доме, как в тюрьме. — А ты вправду купишь мне платье из красного шелка и юбку с фижмами — такую же большую, как у леди Элеонор Микер? И возьмешь меня посмотреть жонглеров и танцующих медведей? — В теплом предвечернем солнце Пег Доусон казалась необычайно хорошенькой — и нетерпеливой. — Разумеется, — ухмыльнулся он. — Даже больше: я подарю тебе жемчужину, которую привез из Америки. Близнецы Джордж и Герберт приблизились уже почти на расстояние слышимости голоса, когда копыта золотогривого гнедого зацокали по булыжникам предместья Плимута. Однако Джайлз на своей ломовой лошади остался далеко позади. Питер прямиком въехал в город, потеряв наконец своих преследователей и надеясь, что они замешкались, выясняя, где находится «Черный бык». Вскоре он спешился на постоялом дворе таверны, ссадил сильно взбудораженную Пег, подмигнув кучке бездельничающих там конюхов. Те в ответ ощерились, зная, что Питер большой бабник. Торгуясь с трактирщиком насчет комнаты, он пришел к тревожному выводу, что Генри Уайэтт еще не появлялся, хотя ржавые стрелки церковных часов показывали четверть седьмого. — И ты требуешь отдельную комнату! — вскричал трактирщик. — С ума ты, видно, спятил. В гавани стоит флот лорда Хоуарда и город просто трещит по швам. Беспокойство Питера все росло, и он уже стал обливаться потом. Зорко следя за дверью и прислушиваясь, не раздастся ли цоканье копыт, он отвел трактирщика в сторону. — Успокойся, друг Джарвис, мне комната нужна ненадолго — только чтобы переспать с этой деревенской милашкой. К тому же я тебе хорошо заплачу. Обещание серебряных шиллингов заставило трактирщика посмотреть на вещи в другом свете, и вот, позвякивая ключами, он повел запыленную парочку в собственное жилище, из которого выпроводил свою толстуху, несмотря на визгливые возражения, разносящиеся на всю улицу. О Господи, ну что там могло задержать Генри? Небось этот подлец кабатчик из Чадли завернул в первый попавшийся удобный переулочек, чтобы там вздремнуть до тех пор, пока не придет время сделать вид, что он якобы возвращается из Плимута. Когда на постоялом дворе вдруг зазвучали громкие голоса, Пег пискнула, словно попавшаяся в ловушку мышь: — О Боже, спаси меня. Это мои братья. Питер слышал их довольно отчетливо: они чертыхались и, запыхавшись, спрашивали, появлялись ли здесь беглецы. Трактирщик отважно клялся, что никакая такая пара, которую они описали, не останавливалась под крышей его гостиницы, но один подвыпивший посетитель испортил все дело, описав Пег так подробно, что красная мозолистая рука Джайлза взяла хозяина за воротник. Пег испуганно захныкала и, словно моллюск, прилипла к своему похитителю. Бежать ли ему через черный ход или рискнуть и попытаться выдержать осаду в надежде, что подоспеют люди с «Морского купца»? Решив, что осторожность доблести не помешает, он уже направился к черному ходу, как вдруг увидел в маленькое окошко, выходящее на улицу, Арнольда, боцмана фрегата, подходящего в сопровождении Уайэтта и четырех дюжих йонкеров. — Спаси меня! Они меня убьют! — визжала Пег жалобно приникла к его руке. — Тихо, ты, горластая телка, и отпусти мою руку, — резко огрызнулся он. Она еще крепче ухватилась за него, но Питер отшвырнул ее от себя. Девушка упала на кровать и завизжала от страха. Щерясь от приятного предвкушения предстоящей драки, Питер отпер дверь и крикнул наружу: — Заходите, дорогие мои друзья, и полюбуйтесь на наши шалости. Как только Доусоны (их было трое), раскрасневшиеся и вспотевшие от долгой верховой езды, увидели свою жертву в дверном проеме, они яростно выругались и пошли в атаку. Крикнув: «Сюда, Генри, сюда!» — Питер отступил назад, поднял крепкий стул и приготовился к штурму. Шумный скандал длился дольше, чем предполагалось, так как братья Доусоны в гневе своем оказались невообразимо могучими драчунами. Хозяин гостиницы и его супруга громко призывали на помощь городскую стражу, видя, как разбивают их мебель и окна и как летают по комнате различные предметы, подвернувшиеся под руку дерущимся. Все это время Пег визжала не унимаясь, и слышать эти вопли было невыносимо. Когда запоздало явились блюстители порядка, трое Доусонов лежали, связанные по рукам и ногам — все в крови, а чернобородый великан Джайлз был без сознания. Питер в рубахе, изодранной в клочья, прикладывал тряпку к кровоточащему носу, Брайан О'Брайан посасывал разбитую губу, а Арнольд ощупывал на лысине здоровенную шишку размером с куриное яйцо. Сунутые Уайэттом в руки стражников серебряные монеты убедили этих достопочтенных слуг ее величества взглянуть на происшествие как на нечто пустое, не стоящее и выеденного яйца. В конце концов, разве подобные действия со стороны партий вербовщиков не являлись теперь в порядке вещей?!Глава 16 КРАСНЫЕ КРЕСТЫ У МЫСА ЛИЗАРД
Отданный в распоряжение вице-адмирала сэра Френсиса Дрейка, расписанный красной и черной красками галион «Коффин» стоял на якоре в составе большой флотилии лорда Хоуарда, неподалеку от «Мэйфлауэра» — небольшого частного судна, которому по истечении нескольких лет предстояло стать одним из самых знаменитых кораблей в истории. На палубе полуюта сквайр Хьюберт Коффин тихонько вел беседу с дальним кузеном, почтенным Чарльзом Коффином из Ильфракума. — Ясно как день, если мы не выйдем завтра в море, флотилии придется снова запасаться водой и продовольствием, — мрачно констатировал почтенный Чарльз. Примерно на год моложе своего кузена, он унаследовал от своей матери из Корнуолла смуглый цвет лица. — Черт бы побрал эту вечную волокиту, — взорвался Хьюберт. — Дважды мы снимались с якоря, чтобы идти на Испанию, и дважды проклятый ветер препятствовал нам, как и теперь. Интересно… — Он пресекся, потому что вахтенный у якоря вдруг насторожился, заглянул за поручень, после чего приложил ладонь к уху. К нему подбежали двое-трое юнг, которым нечего было делать. Хьюберт махнул на это рукой: наверное, с ближайшего корабля какой-нибудь олух свалился за борт или с нок-реи окунали в воду какого-нибудь не подчиняющегося дисциплине парня, но затем он увидел, что кто-то указывает пальцем в сторону моря. Дозорное судно, пинасса «Золотая лань», названное в честь знаменитого корабля Дрейка, входило в Плимут-саунд, гонимое тем же сильным ветром, который удерживал в плену армаду Хоуарда. Капитан пинассы Томас Флеминг переложил руля, прошел под сине-золотой кормой «Мести»и через кожаную вещательную трубу прокричал что-то вахтенному командиру галиона. Получив ответ, он обошел судно и зигзагом пробороздил залив между более солидными военными кораблями. Скользя под ветром мимо «Коффина», Флеминг направил свою трубу на ют галиона и прокричал хриплым от волнения голосом: — Испанцы… их сотни… у Лизарда… вот в той стороне! «Золотая лань» понеслась, держа направление на большой, сияющий алой краской «Королевский ковчег». На «Мести» артиллерийский офицер распорядился произвести выстрел из сигнальной пушки, и этому примеру последовали один за другим стоящие с ним корабли. Генри Уайэтт в это время с дубинкой в руке проводил орудийные учения со своей угрюмой и склонной к откровенному мятежу командой. Ему трудно было понять, что происходит, когда мимо его «Морского купца» прошло дозорное судно. Питер Хоптон понял наконец, что кричат с кормы. Он повернулся к своей артиллерийской команде: — Слушайте меня внимательно, вы, безродные поросята. Наконец-то пришли испанцы, и скоро мы будем драться за свои грязные шеи. С тяжеловесного лица Джайлза Доусона исчезло его постоянное хмурое выражение: — Что? На нас и вправду идут паписты? — Да, получено такое сообщение. Уайэтт воспользовался этой возможностью обратиться с краткой речью к своей команде и, хотя не умел говорить складно, так растрогал сердца матросов, что все, за исключением трех Доусонов, разразились мощным ликованием и согласились подписаться под судовой ведомостью, дающей им право на долю трофеев, отвоеванных у испанцев. Потом и Джордж Доусон уговорил-таки братьев поставить значки, заметив, что, коль скоро им придется подвергать опасности свои жизни, лучше поиметь какую-то выгоду с этого риска. — Все равно, — прорычал Джайлз, обращаясь к Питеру Хоптону, — я убью тебя при первом удобном случае. — Давай, попытайся, дружок, — ощерился Питер. Затем, почти извиняясь, прибавил: — Только знай, что я нисколько не нарушил девственности бедняжки Пег и даже подарил ей жемчужину, перед тем как трактирщик из Чадли увез ее обратно домой. Тем временем с кораблей прозвучало столько сигнальных выстрелов, что эта канонада уже сама по себе напоминала завязавшееся небольшое сражение. По всему Плимут-саунду, словно потревоженные водяные жуки, торопливо заскользили пинассы, судовые шлюпки и маленькие гребные галеры, а суда, поставлявшие питьевую воду и продовольствие, бросив перегрузку, поспешили поскорее отвалить, увозя припасы, наваленные беспорядочными кучами на палубе. Наконец-то появилась долгожданная великая испанская флотилия — «Непобедимая Армада»! «Английское предприятие» короля Филиппа близилось к завершению. Коффин, занятый сбором своей команды, наблюдал за галерой Золотого адмирала, проходящей мимо: сгибались крепкие ясеневые весла под сильными ритмическими ударами гребцов. Дрейк, как сообщали позже, находился на берегу, когда прибыла эта важная новость, и занимался игрой в шары с несколькими капитанами из своей эскадры. С характерной для него склонностью к циркачеству он настоял на том, чтобы доиграть партию до конца — уж такой-то опытный моряк, конечно, должен был знать, что пройдет много часов, прежде чем на горизонте замаячат первые парусники противника: к тому же дул противный ветер. Теперь он стоял на корме гребного суденышка и окликал те шесть высоких галионов, принадлежащих Лондонскому Сити и составляющих лучшие и самые мощные части его эскадры. Помимо них под его командованием находились «Елизавета Бонавентур», «Роубак», галион «Коффин», «Хоупвел», галион «Феннер»и старый «Королевский купец». Его второе подразделение кораблей обладало значительно меньшей огневой мощью, хотя сюда включались такие хорошо вооруженные артиллерией корабли, как «Элизабет Дрейк», и барки «Хоукинс», «Тальбот», «Бонд»и «Боннер». С южного побережья Англии медленно приползли и другие добротные частнособственнические суда, и поначалу у Дрейка оказалось пять таких тихоходов для подвоза припасов — из которых, увы, теперь не осталось почти ни одного. Наверху, на Хоу, тонкий столбик дыма заструился спиралью в ярко-лазурное июньское небо. К тому времени, как он превратился в толстый густой серовато-белый столб, зажегся еще один сигнальный маяк — в десяти милях в глубь материка, а за ним другой. За несколько часов всей Англии предстояло узнать, что у берега появились испанцы и что их вторжение, которого так долго страшились англичане, неминуемо. Далее, ближе к берегу, на кораблях эскадры Хоуарда, составлявшей главные силы флотилии, наблюдалась бешеная активность. Длинный адмиральский вымпел, развевающийся с фор-брам-стеньги «Королевского ковчега», был виден всем морякам. Рядом стояли «Золотой лев», «Дредноут», «Форсайт»и «Мэри Роуз». Хмурый штурман на борту галиона «Коффин» попробовал на слюнявый палец ветер. — Если испанцы подойдут к нам от Лизарда, что они и делают, они обязательно будут иметь преимущество перед нами, — возвестил Линвуд Клоуг. — Одному Богу известно, как мы сможем выйти против ветра и пройти мимо Мьюстоуна. — Боже правый, почему это наш адмирал не дает сигнала поднять якоря? — проворчал почтенный Чарльз Коффин после томительного почти часового ожидания. — Видишь ли, Чарльз, — объяснил Хьюберт, — это, конечно, из-за сильного ветра, который сейчас дует в сторону запада. Если бы ветер ослаб, нас бы снесло еще дальше в подветренную сторону испанцев, что позволило бы им плыть за нами и спокойно высадиться на берегу, прежде чем мы смогли бы развернуться. Мыс Лизард, как тебе хорошо известно, лежит всего лишь в каких-то сорока пяти милях к юго-западу от нашей стоянки. Хотя солнце опустилось и наконец совсем исчезло за горизонтом, английская флотилия оставалась на внешнем рейде Плимутского залива по той вполне уважительной причине, что и ветер стал спадать, и начался сильный прилив. Положение усугубилось зарядившим надолго моросящим дождем, сопровождающимся завесным туманом. Так что до отлива не было никакой надежды вывести в море большие королевские корабли и галионы Лондонского Сити. Да и то их пришлось бы верповать*["351]. Однако вынужденная задержка оказалась небесполезной и позволила собраться на кораблях всем здоровым матросам. Теперь, когда враг подошел к английским берегам, многие скрывающиеся пришли наниматься добровольно: возвращались на службу и солдаты, списанные на берег для поправки здоровья. Вдобавок к сигнальным маякам над водой запылало столько фонарей и факелов, что гавань Плимута стала похожей на горящее озеро. Незадолго до заката солнца к флагманским кораблям «Месть»и «Королевский ковчег» примчалось гонимое попутным ветром еще одно разведывательное судно с успокоительными сведениями: герцог Медина-Сидония положил свою огромную армаду в дрейф в четырех милях от берега против Утесов Додмена и чуть к западу от Фои. Позже один матрос из команды разведчика, соблазненный щедрыми предложениями отведать крепкого пива, перелез через поручень на палубу «Морского купца». Все, кто был на корабле, сгрудились вокруг этого невысокого, сильно загорелого одноглазого рыбака, который клялся и божился, что они насчитали свыше двухсот парусников, и суда все продолжают подходить из просторов Атлантики. — Опознать их очень легко, — говорил он, запрокидывая голову и вливая эль себе в горло без всяких глотков. — Как так? — потребовал пояснений Джордж Доусон. — А так: у каждого их корабля на гроте нарисован большой красный крест, а на марселях и брамселях у них святые и ангелы и всякий прочий католический вздор — А красные кресты у них такие же, как и у нас? — Нет. Ихние выглядят так, — По выступившей на поручне росе рыбак начертал прямоугольный католический крест, или, как его еще называли, мальтийский, и еще один такой же, но с раздвоеными косицами — иерусалимский. — А наши проще и серьезней, как вот такой простой латинский крест. Скажу вам, братва, — он страшно повращал своим единственным глазом, — вы и представления не имеете, какие у них здоровенные корабли, а борта щетинятся пушками, как дикобразы иголками. Они привели с собой огромные высоченные каракки из Леванта, а галеры и галеасы из Генуи и других итальянских государств могут плавать независимо от ветра. — А у нас таких нет? — спросил высоким голосом маленький юнга. — Нет, — ответил ему хор голосов. — А на каком из кораблей вымпел адмирала? — спросил Генри Уайэтт. — Слышал, что на «Святом Мартине», но я в этом не уверен. — Над своей кружкой эля гость хмуро всмотрелся в напряженные, озабоченные лица сгрудившихся под факелами людей. — Трудненько нам будет отбивать этих проклятых папистов от наших берегов. Да храни нас Бог, если испанцы войдут в Портленд-саунд или окажутся позади острова Уайт. После кажущегося фатальным промедления поступил приказ, чтобы крупные корабли и галионы верповались из Плимут-саунда. Это осуществляли следующим образом: в малой шлюпке на веслах перевозили в сторону моря один якорь и затем, пользуясь лебедкой, подтягивали корабль на якорной цепи; второй якорь, в свою очередь, тоже перемещали вперед. Проще обстояло дело с небольшими военными кораблями, такими, как частные галионы, фрегаты и барки: собственные пинассы брали их на буксир и тащили до тех пор, пока паруса их не наполнялись слабеньким бризом, слава Богу, подувшим с северо-запада. Хьюберт Коффин, Генри Уайэтт и другие капитаны Дрейка почти не спускали глаз с большого фонаря, сияющего желтоватым огнем над искусно отделанной кормовой галереей флагмана, медленно, но верно плывущего в сторону моря: из-за косого дождя и клубящегося тумана было очень непросто не потерять его из виду. Рассвет застал эскадру Дрейка у Эддистоун-Рок на безопасном расстоянии от берега. За Дрейком далее по порядку шли лорд Хоуард Эффингем с главной боевой силой эскадры, затем, в опасной близости к берегу, те отряды, которым судьба предназначила драться под началом сэра Джона Хоукинса и Фробишера. Ни одного корабля этих двух последних отрядов еще не было видно наблюдателям Дрейка, когда перед самым рассветом флагманский корабль просигналил всем свернуть паруса. Наступившее утро выявило численность англичан: пятьдесят четыре разнотоннажных судна. С них еще не заметили ни одного корабля с красным мальтийским или иерусалимским крестом на марселе. Субботний день 20 июля 1588 года оказался почти безветренным, поэтому две эскадры стояли у берега, тяжело покачиваясь из стороны в сторону меж гладких валов, накатывающихся из Атлантики. Наступил полдень, но горизонт еще оставался чистым, не усеянным парусами, лишь проскользнуло несколько каботажных и рыболовных судов. Перепуганные рыбаки и торговцы старались поскорее убраться в гавани. Куда-то запропастились и отряды, которыми командовали сэр Джон Хоукинс на «Елизавете Бонавентур»и Мартин Фробишер. Моряки начинали злиться и нервничать: ведь долго тянущийся день уже клонился к вечеру, смеркалось, а все еще не появилось ни одного красного креста, чтобы предложить им сражение. Дрейк и его старшие офицеры придерживались того мнения, что, должно быть, испанцы очень медленно продвигаются вперед параллельно корнуоллскому берегу, дожидаясь отставших кораблей, которые должны занять свое место в широком подковообразном строю эскадры испанского главнокомандующего. Снова и снова артиллеристов призывали на их посты для тренировочных упражнений по зарядке и чистке пыжами орудий, пока наконец с крепкими ругательствами они не отказались от дальнейших учений. А не могло бы так случиться, что доны повернули назад? Некоторые капитаны не отрицали такой возможности, ибо слишком уж медленно продвигалась армада, выйдя из Ла-Коруньи, рискуя остаться без достаточных запасов воды и провизии, особенно на этих своих мореходных крепостях, немилосердно забитых сухопутными войсками. Солнце совсем уже скатилось на запад, медленно опускаясь в воды Атлантики, и лишь тогда наблюдатели англичан, сидящие на топах самых высоких мачт, смогли различить бледную черную полосу, выделяющуюся на горизонте и согласно поспешным прикидкам отстоящую милях в двенадцати от берега Корнуолла. Так вот где стоял их враг! Зловещая длина и плотность этой темной линии вдалеке породила дурные предчувствия и тревогу, достаточные, чтобы утихли самые шумные хвастуны и на время приумолкли самые яростные оптимисты. Однако опытные моряки нашли в этой ситуации много удовлетворительных сторон. Армада Медины-Сидонии, видимо, еще не знала, что этой ночью Дрейк и Хоуард прошли поперек фронта их кораблей и стояли теперь под попутным ветром, имея перед ними преимущество и потому способные наброситься на них с тыла с яростью волков. Когда наступил рассвет с благоприятным северо-западным ветром, галион «Коффин», вероятно, ввиду его малых размеров и прекрасных скоростных качеств, — нужно снова отдать должное строительному мастерству Генри Уайэтта, заставившего Хьюберта убрать с корабля лишние надстройки, — отправили на разведку, пытаясь установить курс противника. Сердце капитана Коффина затрепетало от волнения, когда Клоуг, его штурман, приказал развернуть все паруса. И вот под своим личным зелено-золотым знаменем, затрепетавшим на марсе фок-мачты, он устремился к отдаленной массе вражеских кораблей. Поднявшись на грот-рей, Хьюберт всмотрелся в строй противника и понял, что Медина-Сидония, сухопутный генерал, расположил свои корабли в таком порядке, словно вел в сражение армию. В общих чертах, строй испанцев напоминал широкую подкову, с наружного края которой стояли главные силы, а центр занимали огромные, захватывающие дух каракки Испании и Португалии. На каждом шипе подковы тоже стояли крупные корабли. Перед строем армады курсировали два больших галеаса: Хьюберт даже издалека мог различить взмахи их весел. Внутри, под защитой стенок этой подковы, находилось внушительное число транспортов с запасами продовольствия, военного снаряжения и прочих необходимых в длительной военной экспедиции запасов. Подсчитать точное количество всех кораблей, усеявших темно-синие воды у Эддистоуна, оказалось совершенно невыполнимой задачей, и потому, верный своим инструкциям, галион «Коффин» приблизился лишь настолько, чтобы убедиться в маршруте армады — а шла она медленно к берегу, как если бы собиралась ударить по Плимуту. Как только галион «Коффин» доставил эту информацию на галион «Месть»и Дрейк, в свою очередь, поднялся на палубу «Королевского ковчега», оттуда поступил общий сигнал: преследовать противника. Верховный адмирал лорд Хоуард шел в авангарде, а Дрейк растянул эскадру как можно дальше в сторону моря — избрав свою излюбленную позицию, дающую ему уйму свободного пространства для тех стремительных маневров, которыми он и славился. Увы, до сих пор не появились отряды Хоукинса и Фробишера, шедшие вдоль берега. Куда же они могли запропаститься?Глава 17 ПЕРВАЯ КРОВЬ
В данный момент фрегат «Морской купец» оказался почти последним в ряду кораблей Дрейка, так как вице-адмирал решил пустить в дело сначала самые мощные свои корабли, оставив, как он надеялся, покалеченных или выведенных из строя испанцев в жертву для своих менее мощных судов. Бой завязался около 9 часов утра, когда лорд Хоуард стремительно подошел из Атлантики, стреляя из пушек по сравнительно беззащитному арьергарду. После нескольких рассеянных пристрелочных выстрелов пушки заворчали все громче и громче, пока не стало казаться, что непрерывно бушует гроза под завесой порохового дыма, постепенно заволакивающего один корабль за другим. — Ей-богу, — с разгоревшимися ярко-голубыми глазами прокричал Питер, — может показаться, что перед нами плывет целый город. Темный серовато-коричневый дым низко стлался над морем, и потому с «Морского купца» видны были лишь стеньги и марсели — вторые, над фоком и гротом паруса — с красными иерусалимскими крестами. Теперь, когда фрегат приближался к месту боя, они различили несколько английских кораблей, ведущих сильный обстрел двух гигантских каракк, — позже выяснилось, что это были «Сан-Хуан»и португальский флагман «Гран-Грин», 1100-тонное, крупнейшее в бискайской эскадре судно, развернувшее флаг дона Мартинеса де Рекальдо, второго флагмана главнокомандующего «Непобедимой армады» герцога Медина-Сидония. Оба судна мужественно сопротивлялись частому смертоносному огню, ведущемуся с английских галионов. Один за другим, в кильватерном строе, корабли Хоуарда и Дрейка проплывали мимо этих чудовищ и с дальней дистанции поливали их бортовыми залпами, пробивавшими здоровенные зияющие дыры в фальшбортах. Попадая в корабли, ядра крушили все подряд, и от этих ударов, бешено кружась, в небо взлетали даже рангоутные брусья. Кроме того, английские тридцати — и сорокафунтовые ядра превращали в кровавое месиво обряженных в доспехи испанских солдат, набившихся в эти плавучие крепости. С каракк доносился оглушительный рев: солдаты жаждали получить возможность взять на абордаж проклятых еретиков. Напрасно капитаны кораблей объясняли разъяренным полковникам и генералам, что вражеские корабли чересчур проворны, особенно потому, что у них выгодное положение относительно ветра. Военные могли разоряться как хотели, но вести громоздкие плавучие крепости на абордаж было решительно невозможно. Неожиданно из пелены порохового дыма вынырнул небольшой испанский галион арьергарда и устремился прямо на «Морского купца». — К нему на сближение! — прокричал Уайэтт, стараясь перекрыть весь этот грохот орудий. Несмотря на то что вражеское судно размерами казалось вдвое больше английского корабля, он повел на него свой фрегат. Каким-то краешком глаза он заметил волочащуюся рядом с галионом часть сломанной мачты, его порванные в клочья и напоминающие морские водоросли паруса. За обломок мачты цеплялись с полдюжины смуглолицых матросов, напрасно призывающих на помощь. Питер обошел пять орудий, составляющих батарею правого борта фрегата, тут и там сказал ободряющие слова, а потом возложил свою руку на плечо одного из бывших узников долговой тюрьмы, начинавшего всхлипывать. — Не бойся, браток, — внушительно проговорил Питер, — мы раздолбаем этот галион. Парень повернулся к нему и зашмыгал носом. — Да я и не боюсь, — выдохнул он возмущенно-сдавленным голосом, — просто волнуюсь — вот и все. — Тогда раздуй фитиль, братишка, и жди моего приказа. С азартно горящим взглядом Питер подождал, пока «испанец» не замаячил менее чем в сотне ярдов. Несколько ярких вспышек — и четыре ядра просвистели над «Морским купцом», но не причинили ему вреда — лишь дырка осталась в его грот-марселе. — Огонь! Ради Бога, огонь! — кричал Уайэтт. Ему казалось, что «Морской купец» вот-вот столкнется с «испанцем». Джайлз Доусон, ожидая у казенной части ствола своей пушки, завидел ряд голов в сверкающих шлемах. Высоко на корме галиона стояли в своих разукрашенных золотом кирасах и латных набедренниках офицеры. Он мог даже видеть, как развеваются на ветру на шлемах их разноцветные перья. — Готовы? — прозвучал, как труба, сильный голос Питера Хоптона. — Огонь! Джайлз Доусон всунул конец горящего фитиля в запальное отверстие и отскочил в сторону с пути отката орудия. Лафеты на неуклюжих деревянных колесах один за другим дернулись назад, и пушки казенными частями уперлись в натянувшиеся сдерживающие канаты. Под воздействием орудийной отдачи фрегат накренился на левый борт. — Заряжай! — проревел командир батареи и поднял восемнадцатифунтовое ядро для одной из своих кулеврин — мощнейшей пушки на борту «Морского купца». Мокрые щетки банника тем временем прочищали жерла орудий на правом борту. В удушливом зловонном дыму слышались мощные удары, словно какой-то великан колол дрова. Сквозь эту мутную завесу порохового дыма доносились истошные крики на нескольких языках. Орудийные расчеты фрегата уже забивали в пушки новые заряды, когда этот адский шум прорезал звонкий голос Уайэтта: — Рулевой! Право руля! — Боже Всевышний! — заорал один из корнуоллцев. — Почему бы нам его не прикончить? Еще два бортовых залпа — и мы все разбогатеем. — Нет! Смотри, смотри вон туда! — Один из цыган указывал тощим коричневым пальцем в прореху, открывшуюся в дымовой стене. В разрыве этой завесы был виден большой генуэзский галеас, спешащий на веслах на помощь подбитому галиону. Не было никаких сомнений: если бы его капитан захотел, он мог бы догнать «Морского купца», взять на абордаж и подавить его сопротивление. Уайэтту оставалось лишь время для бортового залпа с дальней дистанции, разворота и ухода на самой высокой скорости под защиту других кораблей. Жестокое разочарование звучало в громких проклятиях команды Уайэтта, когда фрегат пустился наутек. Матросы видели, как у испанского галиона закачалась, словно пьяный танцор, мачта с треугольным парусом и с треском рухнула за борт. Артиллерия Питера Хоптона со всей неизбежностью Должна была причинить ужасно большие потери среди пехотинцев, набившихся почти до отказа на шкафут галиона; сквозь его пробоины по выкрашенным в желтую краску бортам побежали ручейки крови и кое-где, похоже, вспыхнул пожар. Тем не менее враг кое-как отошел под защиту галеаса. Благодаря Бога за то, что «генуэзец» не стал его преследовать, Уайэтт направил фрегат в строй своей эскадры, теперь готовящейся к атаке на большое скопление вражеских кораблей, ползущих с черепашьей скоростью — два узла в час — в направлении остроконечно выступающей морской косы Пройл-Пойнт. Несмотря на ряд умоляющих сигналов, поднятых Дрейком на «Мести», лорд Хоуард продолжал идти вперед, больше не атакуя испанцев. Для Верховного адмирала значило многое получить подкрепление, поскольку он еще не собрал воедино и половины имеющихся у него сил, тогда как герцог Медина-Сидония имел очень опасное преимущество в кораблях и орудиях. Позже ходили слухи, что Золотой адмирал рвал и метал как безумный, когда вынужден был тем самым отказаться от богатой добычи, коей вполне могли стать оказавшиеся в бедственном положении корабли «Санта-Анна»и «Гран-Грин». Тем не менее Плимут и оставшиеся там из-за нехватки команд корабли пребывали в безопасности. Было далеко за полдень, когда английский флот прекратил свое продвижение к берегу и объединился с эскадрами сэра Джона Хоукинса и Мартина Фробишера. Вскоре команды английских кораблей явились свидетелями успеха тактики Дрейка — тактики отрезания нескольких вражеских судов и расстрела их с борта всеми имеющимися в его распоряжении кораблями. Подтверждение тому явилось в форме десятков трупов — то ужасно обезображенных, то кажущихся целыми, — плавающих у побережья среди лошадиных туш и проломленных пинасс. Видимо, канониры эскадры Дрейка произвели гораздо больше беспорядка в стане противника, чем подозревали разочарованные англичане. Команде «Морского купца» пришлось претерпеть насмешки от команды маленького барка «Элизабет Дрейк», когда он не спеша догнал этот шестидесятитонный корабль, подчиняясь сигналу выдвинуться вперед. — Ну что, убедились, что испанские каштаны слишком горячие, а? — подтрунивал капитан Томас Сили, как если бы сыпал соль на душевные раны расстроенных матросов фрегата. — Чего ты не сцепился с ним, Уайэтт? Боялся, что тебя покропят папистской святой водичкой? Пока два судна оставались в пределах слышимости человеческой речи, издевательские насмешки упорно продолжались, но потом крупный барк «Богоматерь» подошел к ним так близко, что тени от топов мачт легли на большой грот фрегата. — Эй, не поделитесь с нами зернистым порохом? — прокричал его капитан в сложенные рупором ладони. — Нам пришлось выйти с малым запасом. С этой же просьбой к ним обратился и «Нонпарель» Уильяма Феннера — того самого, что служил капитаном на флагмане Дрейка во время его похода на Санто-Доминго и Картахену. Таким запросам насчет амуниции предстояло звучать все чаще на протяжении уже начавшегося затяжного боя на параллельных курсах. Тихая скорость испанской армады, несомненно, имела свои недостатки, и все же из-за той же самой медлительности англичанам было трудно атаковать, потому что каким-то чудом испанцам удавалось сохранять свой прежний порядок в форме подковы. Более того, герцог Meдина-Сидония укрепил свой арьергард с высокими каракками из Лиссабона небольшими, удобными в управлении галионами, предназначенными Менендесом для конвоирования караванов с сокровищами из Америки на родину: эти корабли назывались галибразос. Суда этого класса были известны также под названием «Индийский страж»и могли очень удачно соперничать с низкобортными и скоростными детищами строительного искусства сэра Джона Хоукинса. Команда «Морского купца» поглощала торопливо состряпанную еду, запивая ее кружками горького пива, когда в тылу у того обширного скопления белых парусов и красных крестов прозвучал взрыв такой мощной силы, что затрепетали паруса фрегата. Все подбежали к поручню — и как раз вовремя, чтобы увидеть, как огромный грибообразный столб дыма взметнулся над галионом, в котором некоторые узнали «Сан-Сальвадор». Словно волки, учуявшие раненого лося, ближайшие английские корабли изменили свой курс и поплыли в сторону галиона, ибо, должно быть, действительно окрашенный в желтую и зеленую краски «Сан-Сальвадор» получил очень серьезное повреждение, судя по тому, что две верхних палубы высокой кормы снесло и они дрейфовали в его кильватере, а языки пламени рвались в вечернее небо. К сожалению, ветер оказался таким слабым, что «Месть», «Елизавета Бонавентур»и два лондонских высокобортных корабля с поспешающим вслед за ними галионом «Коффин» не успели сойтись к подбитому судну до того, как эти проклятые неаполитанские галеасы смогли прийти к нему на выручку. Флагманский корабль Медины-Сидонии — тысячетонный «Сан-Мартин» — оказался поблизости и, довольно тяжело развернувшись, тоже направился к пылающему судну для оказания срочной помощи. И снова Дрейк и его бывалые капитаны кипели от злости, завидев сигнал к возвращению, ползущий вверх на сигнальную рею «Королевского ковчега», так что оставалось лишь свернуть в сторону и смотреть, как команда «Сан-Сальвадора» тушит пожар и начинает починку. Став совсем неуправляемым из-за полного разрушения рулевого устройства и взятый поэтому на буксир, «Сан-Сальвадор» вскоре скрылся в темной массе других кораблей испанской армады. Во второй раз эскадре короля Филиппа не повезло, когда в первые часы вечера парусник «Нуэстра Сеньора де ла Роза» каким-то образом столкнулся с двумя галионами Бискайской эскадры и так запутался снастями в оснастке бискайцев, что, прежде чем корабли расцепились, дон Педро дель Вальдес — один из трех контр-адмиралов Медины-Сидонии, потерял сначала свои фок-реи, а затем и бушприт. И едва пострадавшее судно взялось за устранение этих поломок, каканглийские наблюдатели на разных судах закричали стоявшим на палубе, что «Роза» потеряла фок-мачту — она рухнула за борт. Над фальшбортом виднелся только обломок ее основания. Услышав это, сэр Френсис Дрейк облизал потрескавшиеся от солнца губы. — Клянусь славой Бога, — тихонько прошипел он, — этот будет мой, и никто мне не запретит. — Он произнес свою клятву едва слышно, чтоб не могли подслушать ни его флаг-капитан Джоунас Боденхэм, ни его боцман. Неохотно корабли королевы снова вернулись в свою флотилию, идущую теперь в четыре ряда кильватерного строя. Этот порядок, по мысли лорда Хоуарда, обеспечивал наибольшую приспособляемость и легкость сосредоточения. Хьюберт Коффин и его кузен с крепко стиснутыми от разочарования челюстями вглядывались в густеющую темноту и видели, как покалеченную «Розу» взяли на буксирный трос, но лица их оживились, когда почти сразу же буксир этот лопнул и галион-великан стал мало-помалу отставать за кормой испанской флотилии. Когда «Роза» стала стрелять из пушек, чтобы привлечь внимание к своей беде, сигнальные флажки на «Сан-Мартине» поползли вверх, вниз и снова вверх — и вот галионы «Сан-Франциско»и «Сан-Кристобаль» вместе со своими пинассами остались позади, чтобы обеспечить защиту парализованному судну до подхода обязательных итальянских галеасов, способных взять его на буксир. С вест-зюйд-веста*["352] задул легкий бриз, и вскоре он так разыгрался вместе с волнами, что, памятуя об опасностях, поджидающих у Стар-Пойнта, английские эскадры, пройдя еще немного, легли по приказу лорда Хоуарда в дрейф между Пройл-Пойнтом и Сэлкомбом. Одно купеческое судно, переоснащенное в военное и принадлежащее лондонской компании «Левант», видимо, отбилось в темноте от своих и случайно наткнулось на беспомощную «Розу». К полному изумлению и восторгу капитана Джона Фишера — ведь его «Маргарет и Джон» имело тоннаж всего лишь 250 тонн, — на галеасе немедленно перерубили буксирный трос и удрали, а прикрывающие его галионы с пинассами бросили тяжело качающуюся «Розу»и тоже скрылись в темноте. Кораблик Фишера был слишком слаб, чтобы напасть на «Розу», и мастер помчался к берегу: там везде, насколько хватало глаз, на каждом мысу бились и плясали огни предупредительных сигнальных маяков. Незадолго до полуночи набором разноцветных фонарей на «Королевском ковчеге» английским эскадрам был отдан приказ развернуть паруса и возобновить плавание в строевом порядке. Среди моряков сразу же пошли слухи: поскольку лорд Хоуард подозревает, что испанцы намерены захватить остров Уайт и сделать его своей базой, он решил атаковать армаду короля Филиппа еще до того, как она подойдет к Нидлс. Еще говорили, что он написал береговым властям следующее: «Ради любви к Богу и к нашей стране пришлите нам пушечные ядра любой величины и с ними — пороху, ибо это дело продлится долго». Природа улыбнулась защитникам, разведя дождевые облака и позволив просиять луне, а тем самым дав им возможность с минимальными беспорядками организоваться и снова продолжить путь. Снова эскадры потянулись вслед за светом больших фонарей на кормах их флагманских кораблей. На этот раз «Морской купец» следовал в непосредственной близости за «Местью». Широкий размах парусов галиона и его превосходная конструкция позволяли ему лететь сквозь ночь гораздо быстрее других кораблей эскадры, и вот постепенно большой фонарь флагмана, удаляясь, утрачивал свою яркость, и, хотя остальные суда подняли все свои паруса, «Месть» уходил все дальше и дальше в море, весь серебрясь от лунного света — величественное и незабываемое зрелище. Но вот луна снова скрылась за грядой облаков, а затем, к ужасу капитанов эскадры Дрейка, «Месть», мигнув на прощание кормовым огоньком, затерялась в темноте этой ветреной ночи. — Проклятье! Что нам теперь делать? — воскликнул Уайэтт, мучась неопределенностью. В свете своих фонарей он мог различить, что одни корабли продолжают идти тем курсом, которым, как им казалось, идет и сам Дрейк; другие легли в дрейф. Но были еще и третьи: они увязались за кораблями другой эскадры, которых в той же мере озадачило и поставило в тупик внезапное и необъяснимое исчезновение их флагмана — «Мести». Зная характер вице-адмирала, Хьюберт Коффин оказался среди тех, кто шел в открытое море, горячо молясь, чтобы рассвет явил им в первых своих лучах марсели сэра Френсиса. К тому же, рассуждал он, удаляясь в море, он в меньшей степени рискует тем, что его протаранят, — а тогда прощай его судно, это капиталовложение, которое много для него значит.Глава 18 У МЫСА ПОРТЛЕНД-БИЛЛ
Различные суда английского флота так сильно рассеялись по морю, что только под вечер в понедельник 22 июля военно-морские силы лорда Хоуарда Эффингема смогли восстановить свой порядок. Теперь они насчитывали свыше ста парусных судов вследствие того, что к ним присоединилось множество переделанных купеческих транспортов, пришедших почти из каждого маленького порта южного побережья. О сэре Френсисе Дрейке все еще не было ни слуху ни духу. Стало казаться, что его корабль одним мощным глотком проглотила морская стихия — и его вместе с ним. Резкими в определенной степени обвинениями осыпали пропавшего без вести вице-адмирала вечный его враг Фробишер, сэр Уильям Винтер и даже его родственник и благодетель сэр Джон Хоукинс: «Почему погасил он свой кормовой фонарь без каких-либо объяснений и указаний другим кораблям эскадры? Почему покинул свой авангард в исключительно важный момент?» Особенно бушевал Мартин Фробишер. Его нынешнее поведение, своей непредсказуемостью вполне сходно с тем, напоминал он другим адмиралам, когда Дрейк бросился как безумный во внутреннюю гавань Кадиса, чтобы захватить галион адмирала Санта-Крус. Лорд Хоуард выслушивал все эти жалобы, но делал это с терпением, не допускавшим и намека на его собственную реакцию. Однако он почувствовал огромное облегчение, когда на закате солнца над горизонтом показались марсели «Мести». Прошло какое-то время — и бесследно было исчезнувший вице-адмирал появился на борту «Королевского ковчега», все такой же дерзкий и самоуверенный и в компании высокого смуглолицего человека, который вел себя с пренебрежительным, если не сказать больше — со спесивым самообладанием. Те, кому случилось оказаться тогда на борту, всю жизнь помнили этот небрежно-развязный размашистый жест, с каким Дрейк бросил на палубу под ноги Хоуарда связку цветистых знамен, а затем, ярко сверкая голубыми глазами, сорвал с себя головной убор и отвесил поклон своему молчаливому командиру. — Милорд, — энергично проговорил он, — имею часть представить вам его превосходительство дона Педро дель Вальдеса, контр-адмирала противника. Испанец сделал глубокий поклон и на беглом французском выразил сожаление, что не смог лучше защищать свой прекрасный корабль. Впрочем, разве у кого-нибудь есть надежды выстоять против ужасного «эль Драго»? Оказалось, что, как и предсказывал Фробишер, Дрейк умчался в одиночестве, уверенный, что обнаружит лишенную способности управляться «Розу», возьмет ее приступом и таким образом завоюет себе ее сокровища. При этом у сэра Френсиса имелось про запас правдоподобное объяснение своего поступка — и тут к нему было не подкопаться. Дрейк заявил, что прошлой ночью, ведя эскадру с ее якорной стоянки, он заметил группу больших кораблей, плывущих на запад. — Я пришел к выводу, — заявил он голосом, всегда казавшимся слишком мощным для его малорослого тела, — что это, должно быть, вражеское подразделение, стремящееся лишить нас нашего преимущества. Я погнался за ним, думая, что эскадра последует за мной. — Последует? Боже Всевышний! Каким образом? — прогремел Джон Хоукинс, багровый от возмущения. — Почему вы потушили фонарь? — Я полагал, — улыбнулся Дрейк, который смотрелся еще более полным и коренастым в своей инкрустированной золотом кирасе и латных набедренниках, — что «Месть» легко различить в лунном свете и что мой фонарь лишь послужит на руку противнику, предупредив его о моем приближении. Присутствовавшие обменялись между собой недоверчивыми взглядами. Лорд Хоуард Эффингем посмотрел своему подчиненному прямо в глаза. — И что же это были за суда, сэр Френсис, за которыми вы погнались, оставив свою эскадру? — Нейтралы, милорд, всего лишь жалкие подданные Германии на пути в Ирландию. Хоуард задумался, не зная, что сказать. Как-никак, контр-адмирал армады короля Филиппа захвачен в плен и флаг его брошен на палубу флагмана собственноручно Дрейком! Мало-помалу хмурые выражения исчезли со многих лиц, кроме нескольких вытянутых бородатых и обветренных физиономий, что собрались на высокой кормовой палубе «Королевского ковчега». Подобно всем кораблям конструкции Хоукинса, флагман построили очень высоким в корме и низким в носовой части, полубак и слова того не стоил, а фок-мачта, чтоб улучшить управляемость кораблем, была установлена с небольшим наклоном вперед. Наконец заулыбался даже лорд Хоуард, когда узнал, что «Нуэстра Сеньора де ла Роза» захвачена с двадцатью шестью батарейными пушками и, что гораздо ценнее, с удивительно щедрым количеством боевых запасов. Когда закончился военный совет и Дрейк удалился, вежливо присматривая за своим именитым пленником, Фробишер сплюнул за борт и с раскрасневшимся лицом, обрамленным волосами, тронутыми изморозью седины, прорычал: — Если этот исправившийся пират хочет меня надуть и присвоить себе мою долю, я ему много крови попорчу! Утром 23 июля предательски подул северо-восточный ветер, сделав герцогу Медина-Сидония прекрасный подарок: предоставив ему столь желанное погодное преимущество и заставив флот лорда Хоуарда отойти на большое расстояние в сторону северо-запада. Медина-Сидония последовал за ним, его неаполитанские галеасы шли значительно впереди его огромной флотилии, которая теперь растянулась на несколько миль. По несчастной случайности, основная масса английских кораблей держалась своего галса дольше, чем предвидели Хоукинс, перешедший на «Победу», и около дюжины других капитанов английских судов. По этой причине он и оказался в трудном положении, обнаружив, что арьергард армады движется на него в подавляющем численном превосходстве. Поскольку англичане не могли выйти на ветер от него, враг наконец-то почувствовал возможность применить ту тактику, в которой он проявлял свое превосходство: вступить в схватку, взять на абордаж и вымести палубы противника испытанными в боях пехотинцами. Галион «Коффин» оказался в первом ряду и казался таким маленьким, когда с раскрашенными раздувшимися парусами и огромными алыми мальтийскими крестами, горящими на их гротах и марселях, шестнадцать кораблей маркиза Оквендо из эскадры провинции Гипускоа пошли на них в атаку. На этот раз канонада стала поистине оглушительной по мере втягивания в бой все большего и большего числа кораблей. И снова частый смертоносный огонь английских орудий превращал в щепки и дым ярко выкрашенные борта испанских парусников, по которым струилась кровь. Кашляя в клубах порохового дыма, Хьюберт Коффин вдруг осознал, что смотрит чуть вверх на шканцы неизвестного галиона. Он приставил к плечу кремневый пистолет и сделал удачный выстрел, свалив толстого испанского офицера, что-то кричавшего своему штурвальному. Шлем соскочил с головы офицера и катался по палубе в такт тяжелым покачиваниям галиона. Оба корабля сходились все ближе, причем англичанин все еще старался держаться наветренной стороны от своего врага. — Maria у el Rey!*["353] — кричали на галионе и размахивали оружием. В воздухе пролетели два абордажных якоря и застряли в вантах фок-мачты английского галиона. Но только толпа орущих испанских солдат в черных доспехах собралась перепрыгнуть на палубу «Коффина», как почтенный Чарльз собственноручно перерубил лини абордажных якорей, а штурман Клоуг живо переложил свой румпель и стал отводить корабль, позволив ему избежать взятия на абордаж. Грохот орудийных лафетов, накатываемых вперед, теперь усилился, потому что продымленные артиллеристы из Девоншира стремились выпустить с близкой дистанции как можно больше ядер по врагу. Благодаря резким порывам ветра, видимость в данном случае была намного лучше, чем в бою при Утесах Додмена, и вскоре галион «Коффин» выплыл из дыма сражения всего лишь с двумя пробоинами в фальшборту и тремя ранеными, тогда как его соперник беспомощно качался меж набегавшими морскими валами, зловеще дымя. Казалось, везде, куда ни посмотри, группы кораблей поливали друг друга огнем. Теперь рев орудий разносился на мили окрест, поскольку у мыса Портленд-билл Фробишера атаковали сам Медина-Сидония и четыре неаполитанских галеаса. На Мартина Фробишера надвигалась серьезная угроза, ведь за исключением его «Триумфа» он не располагал регулярными боевыми кораблями — только купеческими, переделанными в военные. Тем не менее этот отважный старый ветеран вовсе и не пытался увернуться от сражения, он построил свои корабли «Королевский купец», «Золотой лев», «Центурион», «Мэри Роуз»и «Маргарет и Джон»в четкий кильватерный строй и приготовился к бою с гораздо более тяжелыми галеасами и высоким «Сан-Мартином» герцога. Получив две пробоины в корпусе, «Морской купец» бился не на жизнь, а на смерть с каравеллой эскадры Андалузии. Построенный не таким высоким, как основная масса сопровождающих судов эскадры, андалузец по этой причине мог придавать своим орудиям достаточно точный угол наклона, и единственным ядром разнес второй орудийный расчет на правом борту Уайэтта в кровавые лоскуты. Среди них погиб Герберт, один из близнецов Доусонов, обнаженный по пояс и потому почерневший от пороха так, что его тело стало похоже на тело негра. — Отходи, ради Бога! — крикнул Питер Хоптон. — Нашим пушкам с ними не сравниться! Ничего не оставалось делать, как переложить руль фрегата. Уайэтт медленно отступил, и как раз вовремя, так как его блинд, пробитый во многих местах, превратился в лохмотья. «Морской купец» захромал прочь с рваными пробоинами в фальшбортах, с несколькими перебитыми и болтающимися штагами и фалами, уступая свое место в строю другому переделанному «купцу». Когда ветер, всегда капризный в это время года, снова ослаб, над морем повисла густая дымная пелена, сквозь которую корабли пробирались вслепую, как привидения. Генри Уайэтт — в ушах у него все еще пульсировало от нескончаемого грохота, а нервы нестройно звенели от близости, казалось, неминуемой катастрофы, которой чудом удалось избежать, — старался не думать о воплях раненых, собранных у основания грот-мачты, где они выживали или умирали без помощи со стороны, если не считать заботы о них пары неловких юнг. Он оставался в неизбежной неопределенности относительно того, что их ждет в будущем, — особенно теперь, когда потянуло ветром, таким исключительно важным, непостоянным и победоносным ветром. За двадцать минут он сместился с зюйд-веста к зюйд-зюйд-весту. Плотники фрегата, сурово подгоняемые боцманом Арнольдом, застучали молотками, а сквозь пробоины в фальшбортах трупы и части тел бесцеремонно сбрасывались в море. Джайлз Доусон и Джордж — оставшийся в живых близнец — все-таки склонили головы и пробормотали молитву, когда за борт сбрасывали окровавленные останки их брата. Затем они угрюмо вернулись к своим постам у полукулеврины номер один. На корму к Питеру Хоптону прибежал один из цыган, у которого слегка кровоточила осколочная рана на боку. На его худом и смуглом лице отражалось беспокойство, когда он прокричал: — Осталось только два ящика зернистого пороха! Здоровенный желтоволосый старший артиллерист корабля гневно глянул на него, не веря своим ушам. — Спустись вниз, дубина неотесанная, и разуй глаза. Там должно быть гораздо больше. — Но Питер ошибался. В таком же положении оказалась и вся остальная ведущая тяжелый бой эскадра Дрейка. «Морской купец», пользуясь преимуществом свежего благоприятного ветра, напал на большой изолированный корабль с вымпелом вице-адмирала. Выкрашенный в синий и алый цвета, он тяжело ворочался средь белых гребешков волн, но Уайэтт подвел «Морского купца» прямо под корму испанца так близко, что мог видеть позолоченного деревянного ангела с наполовину отстреленной нижней частью и позолоченного Иоанна Крестителя, сквозь которого прошло небольшое ядро. Эта внушительных размеров каракка представляла собой не что иное, как величественный флагманский корабль «Сан-Хуан» вице-адмирала Мартинеса де Рекальдо. Пороху оставалось только на то, чтобы произвести с полдюжины бортовых залпов. — Цельтесь в ватерлинию этого паписта! — проорал Питер. — Там у него самое чувствительное место. Но прежде чем они успели разрядить свои орудия, Дрейк просигналил приказ отойти и атаковать группу каравелл, направленных Мединой-Сидонией на выручку крепко прижатому вице-адмиралу. Тем самым испанский главнокомандующий лишил себя поддержки и «Сан-Мартин» один остался защищать стаю беспомощных транспортных судов и судов снабжения. Лорд Хоуард, оценив представившийся случай, проворно сменил галс, пока ветер не подул над раковиной его правого борта, а «Сан-Мартин» не оказался прямо под ветром. С дон-кихотской спесивостью герцог приказал развернуть здоровенный красно-золотой галион и стать прямо против ветра, чтобы так же демонстративно показать священное знамя Папы Римского и королевские флаги Испании, развевающиеся на топах мачт. С корабля Хоуарда намеченную жертву можно было видеть теперь лишь изредка, потому что ее то и дело заволакивало клубами дыма, гонимого ветром с мест десятка сражений второстепенного масштаба. Ведь на самом деле эта битва у мыса Портленд-билл не была единой: она распалась на целый ряд полусамостоятельных стычек со своими собственными индивидуальными проблемами. Сначала «Королевский ковчег» обрезал нос «Сан-Мартина»и дал по нему не менее трех бортовых залпов: Питер Хоптон точно сосчитал, что на три залпа англичан пришелся лишь один залп испанцев. Должно быть, вражескому флагману здорово досталось, однако он поддерживал яростный огонь, даже когда «Королевский ковчег» обошел вокруг него и повторил губительный маневр. Затем подошли высокие корабли Хоуарда: «Радуга», «Авангард», «Белый медведь»и другие — и присоединились к избиению «испанца». Раздался мощный крик ликования, когда священное бело-золотистое знамя Папы с перебитыми залпом фалами рухнуло в усеянную обломками воду. Наблюдая издали, Хьюберт Коффин ждал, что сейчас испанский королевский корабль спустит флаги и сдастся, но постепенно огонь англичан ослаб и совсем прекратился, и «Сан-Мартину», изрешеченному залпами, но все еще остающемуся на плаву, было позволено медленно, дергаясь из стороны в сторону, уйти с места боя. — Чего, Бога ради, церемониться с ним теперь? — тяжело дыша, прокричал Чарльз Коффин, прибежав на корму с полубака и видевший эту картину. — Он же был у них в руках. — Пороха больше не осталось, — лаконично пояснил Хьюберт. Тот факт, что ни одно судно с той и другой стороны не затонуло, пробитое артиллерийским огнем в тот знаменательный вторник, дал главному кораблестроителю Джону Хоукинсу и его артиллерийским офицерам пищу для глубоких размышлений. Почему? Их самих немало потрепало сверху, но тем не менее ни одно английское судно не было в критически бедственном положении. У испанцев, несмотря на то, что и им крепко досталось от пушек, на дно не пошел ни один корабль. Может, ядра обоих противников оказались чересчур тяжелыми, чтобы пробить насквозь мощный корпус типичного галиона? С другой стороны, различные командиры артиллерии клятвенно утверждали, что если бы в самый неподходящий момент не кончился порох, то уж наверняка и герцог Медина-Сидония, и Яго Флорес дель Вальдес — дальний родственник сдавшегося сэру Френсису Дрейку адмирала — отправились бы на дно морское добывать себе на пропитание морских угрей, каракатиц и палтуса у входа в гавань Уэст-бей. Злясь на пустые пороховые ящики, англичане отошли к берегу, оставив «Непобедимую армаду» короля Филиппа медленно двигаться дальше. За два дня сражения они сильно потрепали ее, но затопили лишь два корабля — «Розу»и «Сан-Сальвадор», — у которых взорвались пороховые погреба. Английской эскадрой «Непобедимой армаде» был нанесен ущерб, но, несмотря на это, она продолжала оставаться такой же смертельной угрозой для Англии, как и в тот час, когда ее впервые заметили у мыса Лизард.Глава 19 ПОРОХ!
Никогда в своей истории Уэймут, крошечный рыболовецкий порт на южном берегу Англии, не видел такого количества морских перевозок, которые заполнили его пристань и обе набережные. Начиная с предыдущего дня, подготовленные к военным действиям отряды, сзываемые сигнальными кострами, маршевым строем все подходили к берегу, готовые убивать любого врага-иностранца, осмелившегося ступить на их землю недружественной ногой. Опытные старые дворяне, носившие гордое звание рыцаря, закаленные в боях ветераны, участвовавшие во многих набегах вдоль шотландской границы или в ирландских кампаниях, готовились к боям спокойно, сожалея, что видят такое большое количество рьяной «молодежи», слишком громко кричащей в защиту своей королевы. Сами же они горели желанием сражаться и хотели доказать свою доблесть оружием на испанских ублюдках. На окраине Уэймута расположились лагерем сотни флегматичных лучников, потомков воинов-лучников, сражавшихся при Кресси и Азенкуре*["354]. Большинство местных складов уже очистили от запасов, чтобы они не попали в руки папистов. Достать продовольствие было почти невозможно. Однако больше всего маленький порт заинтересовали два небольших тихоходных торговых судна, только что прибывших из Дартмута. Как раз в ту сторону и тащился Генри Уайэтт во главе отряда хорошо вооруженных матросов с «Морского купца». В кулаке он сжимал требование на порох с неразборчивой подписью Золотого адмирала, которая в этих краях имела гораздо большее значение, чем четкая подпись Хоуарда Эффингема. Еще задолго до этого проницательный Дрейк распорядился перевезти на каботажном судне из Дартмута захваченный им на «Розе» порох в Уэймут, что лежал приблизительно милях в пятидесяти к западу от места дислоцирования эскадры. По этой причине Уайэтт имел большое преимущество над охотниками за порохом с других эскадр. И вскоре драгоценное «зерно», ящик за ящиком, перекочевало через грубо заделанные фальшборта «Морского купца» и улеглось на палубе. После более чем двух бессонных суток Уайэтт чувствовал себя таким усталым, что его пошатывало и голос слегка охрип. Он мог бы свалиться с ног, если бы не одна добрая хозяйка, сунувшая ему в руки кувшин молока, буханку хлеба и сыр, с горячей просьбой, в которой слышались слезы: «Да благословит вас Бог, сэр. Молю вас отбейте этих кровавых папистов от наших берегов». С кораблей большого флота все прибывали шлюпки, сильно осев в воде под грузом больных и раненых. Их место быстро занимали добровольцы из среды сухопутных ополченцев и рыбаков. Уайэтт плюхнулся на большую бочку и принялся механически жевать хлеб с сыром и размышлять, надолго ли хватит этого нового запаса пороха при таком ненасытном спросе на него со стороны артиллеристов Дрейка. Один из офицеров, отряженных за порохом Мартином Фробишером, разразился святотатственной бранью возмущения, когда узнал, что около половины запаса, имеющегося в Уэймуте, уже ушло на «Морской купец». Начальник порохового запаса сэра Джона Хоукинса также изрыгал проклятия и прямые угрозы до тех пор, пока не поднял парус своей пинассы и не взял курс на Лайм-Регис, где, по слухам, имелись значительные запасы этого драгоценного вещества. Уходили с пустыми руками и другие запоздавшие капитаны кораблей и потом стремились удовлетворить свои потребности в Пуле и Борнмуте, вдоль берегов которых армада короля Филиппа потихоньку ползла со своею обычной скоростью — два узла в час. Женщин в Уэймуте осталось совсем мало: как и в других подобных местах, подавляющее большинство их вместе с детьми было отправлено подальше от берега. К ужасу Уайэтта, Дрейк пришел в настоящее бешенство оттого, что Генри позволил даже небольшой доле пороха с «Розы» уплыть в чужие руки. Оно и понятно: Золотой адмирал горел желанием силами лишь одной его эскадры нанести сокрушительный удар по армаде герцога Медины-Сидонии и тем самым вписать свое имя большими буквами в новую страницу истории Англии. На тускло освещенной палубе полуюта «Мести» Золотой адмирал топал ногами и гневно испепелял взглядом несчастного капитана «Морского купца». — Вон отсюда, жалкий пес! Плавай вдоль берега и кради, проси, одалживай, — меня это не касается, — но чтобы добыл полное судно пороха. Встретимся у берега Брайтона, и если у тебя ничего не выйдет, то, клянусь бородой святого Петра, ты у меня полетишь со службы у королевы! Из впалых усталых глаз Уайэтта брызнули слезы и потекли по опаленным солнцем щекам. Он хорошо уже знал своего командира и понимал, что совершенно не готов к тому, чтобы справиться с низостью и несправедливостью такого отношения к нему со стороны сэра Френсиса. То, что он из чисто амбициозного эгоизма отказывается поделиться боевым запасом с остальным флотом лорда Хоуарда, никак не укладывалось в его сознании. Он вернулся на «Морского купца», растолкал спящего Питера Хоптона и отрывисто рассказал ему, что случилось. — Ясно, наш адмирал переутомился, — просто объяснил это Хоптон. — А теперь, Генри, отдохни-ка немного, а я проложу наш будущий курс до Борнмута. — Нет, Питер, Борнмут не подойдет, — возразил Уайэтт, валясь на истрепанный в клочья парус, — слишком много других искателей пороха уже отправились туда. Лучше попытаем счастья в Госпорте или Саутгемптоне. Он уже спал, когда по трапу полуюта зазвучали удаляющиеся шаги его кузена. Решение Генри Уайэтта искать боевой запас в портах, лежащих по носу от нынешней позиции врага, оказалось мудрым. Экспедиции за порохом из других отрядов, зачастую угрожая оружием, позаботились о том, чтобы вычистить из пороховых погребов ближайших портов все, что еще не отправили в море на местных судах, ушедших служить лорду Хоуарду с молодыми, жаждущими драки сорвиголовами и старыми морскими волками на борту. Достигнув Брайтона, «Морской купец» был вынужден держаться очень близко к берегу, потому что плавучие крепости армады четко просматривались по носу с правого борта, и, таким образом, команде впервые представилась возможность спокойно рассмотреть необычайно пестрое собрание плавучих средств, составляющих эскадру снабжения армады. Там были такие диковинные чужестранные суда, как средиземноморские тартаны, фелюги и дхау — одномачтовые арабские суда, а также нефы и несчетное количество каравелл и контеров. Они приметили там десятки круглоносых голландских судов: это были хольки, тихоходные, трудноуправляемые, и хои — небольшие береговые суда; их расписанные красными крестами паруса наполнялись лишь настолько, чтобы поддерживать минимальную скорость, так как ветер снова ослабевал. К счастью, береговой бриз гнал «Морского купца» достаточно быстро, чтобы отбить охоту преследовать его даже у быстроходных каталонских галер, играющих роль охранения во вражеском флоте. До предела измотанная команда фрегата совершенно отчетливо слышала стук молотка и видела, как вражеские моряки усердно занимаются починкой повреждений, нанесенных последним боем. Попадалось все больше лошадиных трупов, несомых приливом вместе с трупами скончавшихся за ночь раненых. Над ними с резкими криками кружились белые чайки, потом наконец усаживались и питались этой ужасной манной из далекой Испании. В Брайтоне они обнаружили то же, что было сейчас типично для всего южного побережья. На вершинах холмов еще дымили сигнальные костры, вдоль берега, параллельно медленно продвигающемуся по морю врагу, проезжали конные отряды, а за ними тащились только что набранные из крестьян и ремесленников отряды пехотных ополченцев, которые по-своему, не мудрствуя лукаво, верили, что смогут уничтожить всех этих испанцев, если они осмелятся ступить на английскую землю. Скорее всего, думал, но не выражал свои мысли вслух Генри Уайэтт, ветераны Медины-Сидонии изрубили бы эти неповоротливые массы народной милиции в куски для кошачьего корма. Самые крупные концентрации этих войск замечались возле Портсмута, поскольку сухопутные генералы твердо полагали, что испанцы обойдут Спитхед, захватят остров Уайт и устроят там свою базу. Ведь в таком случае герцог окажется менее чем в сотне миль от Лондона, а что для герцога Пармы и его отличных, вымуштрованных в Нидерландах регулярных частей могло бы быть разумнее решения воспользоваться этим моментом и двинуться через пролив в Дувр? А ведь, чтобы не допустить такой катастрофы, в Узком море находится лишь слабенькая флотилия лорда Генри Сеймура — всего 18 кораблей. И никто, похоже, не знал, какие военно-морские силы может выставить против них герцог Парма. Как только «Морской купец» причалил к доку в Брайтонской гавани, явилась группа добровольцев — отличных крепких деревенских парней из графств, находящихся в глубине страны: многие из них были отлично экипированы, даже взятки предлагали, лишь бы им разрешили сражаться на борту фрегата. К величайшему удивлению Уайэтта, когда он собрал на палубе свою пристыженную команду и сообщил ей, что каждый волен покинуть корабль, никто и шагу не ступил к трапу. После этого Джайлз Доусон был назначен младшим канониром вместо прежнего, получившего перелом руки во время битвы при Портленд-билле, а Джордж — помощником боцмана. Капитан «Морского купца» завершил свой визит в порт, позволив дюжине крепких фермеров и такому же числу горячих молодых джентльменов завербоваться к нему в команду. Один из этих веселых парней спустился вниз и по своей наивности хотел оставить свою одежду в собственной каюте Уайэтта; наконец он вернулся на палубу, покрасневший, все еще подыскивая местечко для своих вещей. Когда другой привередливый джентльмен решительно отказался помочь при подъеме на борт некоторых припасов, Уайэтт приказал ему немедленно убираться на берег и обратился к остальным добровольцам: — На борту моего фрегата, как и на любом другом корабле, находящемся под командованием сэра Френсиса Дрейка, все джентльмены, — затем он воспользовался фразой самого Золотого адмирала, — должны тянуть и тащить вместе с матросами. Ради блага почти отчаявшихся искателей пороха начальник над этими разваливающимися крепостными замками, обороняющими порт, щедро поделился половиной своего порохового запаса, тем самым смягчив язвительное беспокойство лорда Хоуарда. Замечательная новость о захвате Дрейком в одиночку великого корабля «Нуэстра Сеньора де ла Роза» распространилась уже по всему побережью со всеми мельчайшими подробностями. Большое значение придавали также тому, как здорово потрепала испанцев буря на их пути к Ла-Маншу. Ходили и менее утешительные слухи о том, что испанцы вот-вот готовы высадиться на берег. К ночи в среду 24 июля армада, все столь же огромная и зловещая с виду, поравнялась с островом Уайт и двинулась к берегу. Той же ночью «Морской купец» перегружал из своего трюма в пороховые погреба «Мести» достаточное количество пороха, чтобы удовлетворить ненасытные потребности даже Золотого адмирала.Глава 20 ВЕСТИ С ФЛОТА
Однажды теплым июльским днем пополудни к той величественной аллее из вязов, ведущей к Портледжу, прискакал запыленный верховой. Из своего окна Кэт Уайэтт заметила сначала, что ехал он жестко держась в седле, потому как держал одну руку на перевязи, а затем что он оглядывается вокруг, будто эти места ему совершенно незнакомы. Вестовой! Она поспешно закончила пеленать маленького Тони и, быстро сбежав по лестнице, вышла наружу как раз в тот момент, когда один из конюхов помогал незнакомцу спешиться. — Я привез письма для сэра Роберта Коффина и его невестки, — сказал человек, поморщившись от боли, когда поправлял свою раненую руку в петле кожаного ремня, захлестнутого на одном плече. — Я служил на галионе «Коффин» до той поры, пока проклятый осколок не перебил мне руку. — Они здесь. Вы… вы слышали что-нибудь о фрегате «Морской купец»? — выпалила Кэт. — Он в порядке? — Да, — ответил высокий вестовой, отирая от пыли большую бороду в форме лопаты. — Ему немного всыпали у Портленд-билла, но меньше недели назад я видел его: он выходил из Брайтона с порохом для кораблей Дрейка. — Заходите! Заходите! — крикнула ему Кэт, вся сияя своим заостренным личиком. — Бетти! Сбегай наверх к миссис Коффин и передай ей, что этот добрый человек привез для нее письма. Весь старый дворянский дом встрепенулся и ожил, словно от удара в набат. Сэр Роберт крикнул лакеям, чтоб принесли подушки и лупу для чтения, а Розмари, трепеща от радости, скрылась в своей комнате, чтобы внимательно прочитать послание, которое она судорожно прижимала к груди. Это событие было почти таким же волнующим, как если бы снова она увидела Хьюберта, вернувшегося домой, ибо писал он всегда ясно и точно. «Радость моя, если бы я мог, я бы вложил в эти страницы самого себя. Как живется тебе с нашим ребенком? Часто тебе приходится вставать по утрам? Передай мой самый горячий привет миссис Уайэтт и скажи ей, что вся наша эскадра расточает похвалы ее мужу. Он дважды доблестно нападал на корабли почти в три раза большие по размеру, чем его фрегат, вот только не удается ему пока захватить хотя бы один из них. Что же до галиона «Коффин», нас однажды здорово обстрелял настильным огнем «Сан-Мартин» — адмиральский галион, или, как говорят испанцы, — capitana, флагманский корабль, и мы потеряли несколько крепких девонширцев. Ты должна знать, что у острова Уайт в прошлый четверг произошло еще одно большое сражение. Два крупнейших «испанца» (один — галион «Санта-Анна», а другой — португальская каракка «Сан-Луис») попали в штиль и отстали от главных сил врага, после чего контрадмирал Хоукинс приказал спустить на воду пинассы и шлюпки и подтащить судно на буксире к врагу на такое расстояние, чтобы обстрелять его из пушек. Вместе с ним то же самое сделали и другие мощнейшие его корабли, их было около дюжины. Затем в бой вступил милорд Хоуард на своем «Королевском ковчеге»и «Золотой лев», принадлежащий лорду Томасу Хоуарду, его кузену. Тогда их адмирал бросил на нас эти проклятые неаполитанские галеасы, которые все это время были у нас как бельмо в глазу «. Розмари оторвалась от письма, заслышав, как сэр Роберт, взволнованный адресованным лично ему письмом, разразился проклятиями. Она подумала, не позвать ли Кэт, но тут услышала, что молодая ее подруга с большим пристрастием допрашивает бывшего младшего канонира галиона «Коффин», и продолжила чтение. «Эти наши корабли дали несколько отличных бортовых залпов и так повредили „Санта-Анну“, что она для боя уже не годилась, а когда наступил рассвет, ее нигде не было видно. Испанцы показали себя храбрыми, хоть и ошибающимися воинами. Один из галеасов потерял бушприт, а другой — грот-рей. Если бы не поднялся южный ветер, что позволило врагу послать подкрепление своему арьергарду, ничто не помешало бы нам уничтожить эти ужасные боевые машины. Чтобы остановить это подкрепление, почтенный Mapтин Фробишер со своей эскадрой подошел к нему и стал молотить испанский строй, как целая куча кузнецов по своим наковальням. Да, моя отрада, испанцы действительно становятся искусными воинами: как они быстро напали на «Триумф» своими кораблями «Гран-Грин»и «Сан-Хуан де Сицилия». Вместе с эскадрой Хоукинса мы тем временем собрались вокруг их наветренных кораблей и дружно напали на «Сан-Матео». Уже к нам в руки шла решительная победа, когда вдруг все сорвалось — опять из-за нехватки пороха. Радость моя дорогая, было ужасно смотреть, как бушует сэр Френсис — ведь он давно уже просил увеличить его резервный боевой запас. В итоге, после целой недели стычек и боев мы еще не знаем, как закончится это сражение, а мы уже измотались, как старые пехотинцы после долгого-долгого марша. К нашему смущению, армада папистов остается почти все такой же сильной, как раньше, хотя и крепко наказанной. Должно быть, у них на исходе вода и провизия — надеемся, это так. Теперь, похоже, уж точно их адмирал нападет на Дувр. Только что получили дурные вести, что герцог Парма готов идти на соединение с Мединой-Сидонией. Одному Богу известно, где мы сможем этому помешать. Любимая Розмари, могу тебе только сказать, что до сих пор на галионе «Коффин» мы старались как можно лучше делать свое дело и потеряли убитыми всего лишь четырех матросов. Четырнадцать получили ранения, и среди них наш младший канонир Эдвард Сикстон, который передаст тебе это письмо с моей негасимой любовью и уважением. Коль не вернусь я, помни всегда, что первая и последняя моя мысль — о тебе. Итак, моя милая Розмари, поминай меня в своих молитвах и верь мне, преданному и всегда тебе верному мужу «. Весь вечер Эдвард Сикстон угощал тех, кто приходил в Портледж, рассказами, конечно же сильно приукрашенными, о доблестной роли в долгой войне галиона «Коффин». — Но он не захватил ни одного судна? — ворчливо вопрошал сэр Роберт, постукивая по ручкам своего кресла длинными бледными пальцами. — Даже маленькое береговое суденышко? Проклятье! Как мы будем расплачиваться с нашими кредиторами? — Увы, сэр Роберт пока не захватил ни одного парусника, — признался Сикстон. — Но то же самое можно сказать о любом другом корабле, кроме «Мести», когда «Роза» сдалась нашему победоносному адмиралу. Но веселей, друзья, ведь ясно, что с каждым днем наш враг все больше устает и пороха у него остается все меньше и меньше. Не беспокойтесь, непременно настанет тот день, когда мы перелезем к ним через борта. Тогда у нас будет и куча сокровищ, и множество пленных на выкуп. Той ночью Кэт Уайэтт лежала в своей постели, тихонько проливая горькие слезы в мокрую подушку. Перед этим они вдвоем с Розмари свыше часа стояли на коленях, вознося молитвы в отвратительной норманнской часовне старого барского дома. — Защити его, — горячо шептала она. — Защити моего мужа, о милосерднейший Боже, потому что жить без него у меня нет никакого желания.Глава 21 ГРАВЕЛИН
Мимо крупных, поросших сверху травой мысов Данженесса плыли два флота курсом на Дувр. Английский, держась ближе к берегу, имел значительное преимущество. То и дело к нему подходили небольшие, спешно вооруженные купеческие суда на замену аналогичных по прочности и готовых вернуться в порт, передав им свою огневую мощь. Западней, ближе к Дуврскому проливу, где, как обычно, можно было увидеть сигнальные костры и разбросанные тут и там отряды подготовленных ополченцев, маневрирующих вдоль знаменитых меловых утесов, противники вступали в короткие схватки с перестрелкой. Хотя англичане в любое время могли бы нагнать корабли короля Филиппа, лорд Хоуард укорачивал паруса и удовлетворялся тем, что тревожил армаду на ее же собственной скорости. На «Мести»и других эскадренных флагманах воцарился дух ликования, когда стало очевидно, что герцог Медина-Сидония скорее всего не намерен высаживаться в Гастингсе — где в недавнем историческом прошлом слишком успешно уже осуществилось одно такое вторжение. Вместо этого испанцы, умело сохраняя строй, взяли курс на Кале — что вызвало на губах сэра Френсиса Дрейка улыбку свирепого предвкушения. — Если ветер останется таким, как сейчас, — предсказал он нескольким капитанам, собравшимся у него на борту на совет в этот свободный от драки день, — что ж, тогда преимущество наше, это уж точно. Заулыбались и другие — Ланкастер, Уидден, Мерчант, Адам Сигер и остальные. Все присутствовавшие понимали, что в Кале гавань не стоит названия «убежище». Поэтому обширной армаде придется стоять на открытом рейде, где корабли будут трепать приливы и отливы и, что самое важное, доминирующие шквалистые западные ветры. На галионе «Коффин» не меньше понимали, какой риск берет на себя генерал-адмирал короля Филиппа, и весь день напролет там жужжал красно-черный точильный камень, придавая свежую остроту наконечникам пик и шпаг и широким лезвиям палашей. Внимательно оглядев корабль, Хьюберт Коффин остался вполне доволен. Да, его люди здорово измотались за последнюю долгую неделю: волосы и бороды не ухожены, одежда порвана. Однако они оставались проворными и полными желания пожать золотой урожай, который, похоже, наконец-то созрел. Прорехи от ядер в парусах галиона из Девона аккуратно были залатаны и две прекрасные новенькие бронзовые полукулеврины поставлены вместо пары таких, что грозили вот-вот разорваться от первого выстрела, — а таких было много на кораблях англичан. Все пополнения, взятые на борт в Истбурне, за исключением нескольких человек, были родом из местных краев и говорили с заметным знакомым акцентом, созерцая развертывание боевых порядков английского флота у берегов Кале. К наступлению ночи противник, за исключением сторожевых кораблей, убрал паруса и стал на якорь — и вскоре его примеру последовал и лорд Хоуард. С «Морского купца» наблюдали за прибытием желанного подкрепления в виде эскадры лорда Генри Сеймура — флотилии Английского канала*["355], только что закончившей свою долгую караульную службу у берегов Дувра. Эскадра насчитывала в целом двадцать пять кораблей и принадлежала королеве. Все они, за исключением «Антилопы»и «Ахата», были невелики размером. Уайэтту, почерневшему от солнца, с ввалившимися от недосыпания щеками, это зрелище подняло настроение, однако с большим облегчением он приказал бросить якорь фрегата. Слава Богу, армада теперь находилась там, где, очень вероятно, может случиться нечто такое, что и слепому могло быть ясно. С посыльного судна, проходившего мимо вместе с новоприбывшей эскадрой, на «Королевский ковчег» прокричали, что скоро испанцы отведают образчик такого огня, который их ожидает в «мире ином». Другими словами, его капитан сэр УильямВинтер предвидел то обстоятельство, что как только враг войдет в Английский канал, брандеры могут принести неоценимую услугу в том районе, где ветер обычно дует с запада на восток, и потому собрал, что удалось, в Дувре и его окрестностях — девятнадцать старых и изношенных коггов и хольков, загрузив их по планширы всевозможным горючим материалом. К сожалению, эти брандеры в тот момент стояли близ Дувра и потребовалось бы не менее суток, чтоб привести их в Кале, где их ждало короткое, но яркое приключение. Весь день английский флот качался и мотался на якорях, опасаясь, что испанцы подхватят попутный южный ветер или редкий здесь западный бриз и смогут отправиться вверх вдоль голландского побережья, мимо опасных отмелей Уорделира, Сандеттиа и мелководий у берега Зеландии. В течение дня среди англичан кипела работа. Дрейк был занят как никогда — ведь предстоящей ночью он пустит в атаку брандеры. Для этого дела сэр Френсис пожертвовал двухсоттонным «Томасом» — далеко не малозначительным судном. Обречен был и стопятидесятитонный старый барк, со смешным названием «Швабра юнги». Поскольку ожидалось, что подготовленные в Дувре брандеры прибудут слишком поздно, из ста сорока парусников, теперь более или менее подчиненных лорду Хоуарду Эффингему, отобрали восемь. С «Морского купца» послали бочонок дегтя, с других кораблей — рангоутное дерево, обломки фальшборта, разбитые шлюпки — все, что горит, и горит хорошо. Кликнули добровольцев, и чернобородый Джайлс Доусон отправился к тем, кого приставили к «Швабре». С тех пор, как погиб их Герберт, они с Джорджем перенесли свою ненависть с Хоптона на врага, и трудно было сыскать где-нибудь более послушных и способных матросов. Те из команд англичан, что не свалились и не заснули от полного изнеможения, видели, как глубокой ночью снялись с якоря восемь судов с заряженными пушками торчащими из орудийных портов, буксирующие брандеры. При свете звезд они поставили паруса и, словно ожившие привидения, поплыли по направлению к огромной, сбившейся в кучу темной громаде испанских кораблей, стоящих на якоре у Кале. Почтенный Чарльз Коффин, несший вахту на галионе «Коффин», видел, как они совсем бесшумно проплывали мимо — лишь только журчала вода вдоль бортов. Это были не просто суда, пущенные дрейфовать на авось и брошенные на милость свирепых течений, господствующих в этих водах: нет, пусть даже и обреченные, они оставались еще кораблями живыми, управляемыми умными и ловкими людьми. Сэр Френсис Дрейк спустился на полубак «Мести», чтобы посмотреть, как проплывает мимо его собственный корабль «Томас», бледно мерцая во тьме парусами. Скоро он будет утерян для его личной сокровищницы. Прямо к самому центру этой темной путаницы вражеских кораблей плыли буксируемые сзади брандеры. Уже менее четверти мили отделяли их от крайних судов армады, когда сторожевое судно заметило их движение и выстрелило из сигнальной пушки, после чего зазвенели цимбалы, загрохотали барабаны и заблеяли дюжины труб. Ухнуло еще несколько сигнальных пушек, и вдруг на «Томасе» вспыхнуло пламя — первый огонь, зажженный атакующими суденышками, больше похожими на призраки, чем на боевые корабли эскадры. Противник и прежде встречался с брандерами, но только не управляемыми людьми и не плывущими точно по заданному курсу. Наверняка «эль Драго» снова взялся за свое магическое зеркало и призвал к себе всех семерых дьяволов: Аполлиона, Велиала, Люцифера, Вельзевула, Асмодея, Мефистофеля и Сатану, чтоб они управляли его адской эскадрой. Для нервов испанцев, измученных до смерти пятью долгими неделями в море, болезнями, ранами, вид этих судов, изрыгающих пламя и надвигающихся прямо на них, оказался слишком большим испытанием. Флот короля Филиппа охватила дикая, неуправляемая паника — впрочем, вполне понятная в случае тех, кто оказался в их положении. Они даже так и не заметили действительные команды брандеров, попрыгавшие кое-как в свои длинные лодки и гребущие назад, где их ждал исступленно ликующий флот лорда Хоуарда. Жертвенные суда неизбежно врезались в корабли панически мечущегося, изрыгающего проклятья перепуганного врага. Но вот у брандеров загорелись паруса и просмоленные снасти, пламя метнулось на сотни ярдов ввысь и в его розоватом пульсирующем отсвете взорам тех, кто был на море, открылся Кале. А когда заряженные пушки брандеров от сильного жара самопроизвольно разрядились, наугад посылая ядра с бортов в копошащуюся путаницу кораблей, капитанов испанского короля покинули последние остатки самообладания. Одни приказывали рубить якорные тросы и тем самым обрекали себя на беспомощное мотание по морю, когда нет возможности снова стать на якорь до тех пор, пока судно не побывает на верфи. Другие сталкивались, снасти их безнадежно запутывались, и по мере того, как мощные течения разворачивали и закручивали дрейфующие суда, они дюжинами теряли и реи и мачты. Некоторые капитаны, в ужасе полагая, что эти брандеры и в самом деле управляются дьявольскими сообщниками Дрейка, приказали стрелять бортовыми залпами и потопили немало своих собственных судов снабжения. Находились еще и такие, кто подгонял свои суда близко к берегу, получал пробоины в днище и сотнями топил своих беспомощных солдат. Многие лучшие галионы генерал-адмирала Медины-Сидонии загорелись, стремительное течение Английского канала понесло их, и подхваченный ими огонь перекинулся на те незадачливые суда, что попались им на пути. Пораженная до глубины души, взирала команда «Морского купца»в эту памятную воскресную ночь на огромные вымпелы оранжевого и алого пламени, увенчанного столбами мерцающих искр, взметающихся в небеса. Уайэтт не позволял своим людям уходить с постов, всем сердцем желая, чтобы поскорей рассвело, ибо теперь выпутавшиеся из огненного ада корабли испанцев подняли паруса или то, что от них осталось, и подались на север. Вскоре загремели залпы англичан, метивших в те португальские или испанские корабли, которым случилось пройти мимо них на расстоянии выстрела. — Ну что, хороший костерчик мы им разожгли, чтобы поджарить пятки Папе Сиксту? — восторгался Дрейк, и его заостренная желтая борода отражала пламя пожара. — Боже, дай их кровожадным священникам самим отведать те пытки огнем, которым они подвергали многих наших соотечественников. Рассвет понедельника 29 июля явил глазам англичан поистине ужасающее зрелище. Весь восточный берег Узкого моря под теми фортами, что несли оборону Кале, был усеян тлеющими и дымящимися, полностью сгоревшими или севшими на рифы кораблями, и обгоревшие трупы сотнями покачивались на маслянистых волнах, катящихся к берегу из далекой Атлантики. Тут и там торчали над водой стеньги потопленных кораблей с цепляющимися за них людьми. Уступая личному честолюбию — почти как Дрейк в случае с «Розой», — лорд Хоуард Эффингем покинул свой флот и, увлекая с собой крупнейшие галионы, стал приближаться к берегу, чтобы захватить «Сан-Доминго», флагман неаполитанских галеасов. Намеченная им добыча, крепко доселе мешавшая претворению его тактики, сидела теперь на мели под дулами пушек Кале. После ожесточенной рукопашной схватки галеас вынесло так далеко на берег, что большая часть его корпуса оказалась над водой. Кто мог из его команды попрыгали за борт и тащились вброд к берегу, тем самым хитро лишая победителей стольких прекрасных выкупов, ведь в походе на Англию принимали участие представители чуть ли не всех богатых и знатных семейств Испании и Португалии. Пока Хоуард гонялся за своей добычей, пренебрегая своими прямыми обязанностями, Дрейк весело возглавил преследование противника. Его и Хоукинса корабли видели массу кандидатов в пленники: богатых флагманских «купцов», быстроходных левантских фелюг, голландских судов снабжения, каравелл и галионов категорией помельче. Уайэтт, идя в кильватере флагмана, крикнул вниз канонирам, печально обозревающим почти опустевшие пороховые ящики: — Теперь, Божьей милостью, мы захватим кораблик, да пожирнее! Когда он выбрал небольшой галион, пышно и ярко раскрашенный в синий и красный цвета, команда так грянула «ура!»в честь капитана, что крик этот отозвался эхом. С полубака галиона вился дымок — видимо, бедолага ночью «поцеловался»с брандером. Но моряки быстро сменили триумфальный настрой, когда вдруг заметили маленький барк из эскадры лорда Генри Сеймура, также нацелившийся на их галион. Будучи ближе к нему, барк первым напал на жертву и притерся к галиону бортом. Команда фрегата следила, как их соотечественники лезут вверх и переваливаются через поручень галиона. В лучах восходящего солнца яростно засверкали на палубе мельницами завертевшиеся клинки, вспыхивали то и дело кончики копий и алебард, но испанцы оказались крепким орешком, к тому же с рассветом они как бы пришли в себя. Уайэтт уж было собрался менять свой курс, чтобы погнаться за другим галионом, который, похоже, клевал носом и скорее полз, чем плыл, как Питер рявкнул ему: — Подожди, Генри, смотри! Парней-то наших вышибают. Да, это было так. Наконец-то сражаясь в рукопашном бою, который им был по душе, солдаты «Сан-Пабло» выбивали англичан за поручни и фальшборты и полезли бы за ними на их отчаянно смелый маленький барк, если бы он вовремя не отвалил от галиона. Жаркий прилив возбуждения захлестнул все существо Уайэтта: там, недалеко, тяжело качаясь на подошве волны, доступный, лежал «Сан-Пабло», без марселей, и, видимо, шкоты его грота тоже были перебиты во время боя, потому что этот просто бесценный парус болтался и хлопал, как у домашней хозяйки белье на веревке. Уайэтт сам взялся за румпель, а Хоптон. спрыгнул вниз как раз вовремя, чтобы успокоить уж слишком разволновавшихся артиллеристов. На этот раз, утешил он их, «Морской купец» должен стрелять кусками буксирной цепи, коль на борту у него не осталось ни одного ядра. Наконец заработала батарея правого борта, да еще так успешно, что сильно поколебала уверенность в себе испанцев, только что отбившихся от одного неприятеля, чтобы увидеть наседающего на них другого. Фрегат успел дать еще один бортовой залп — так здорово поднаторели в своем деле артиллеристы Хоптона, — а затем «Морской купец» заскрежетал по борту «Сан-Пабло» своим бортом. Почерневшие от пороха канониры фрегата живо побросали пробойники и гандшпуги и схватились за пики, дубинки и топоры. С криком «Смерть папистам!» они вскарабкались вверх по красно-синему изрешеченному выстрелами борту, перемахнули через фальшборт и спрыгнули на палубу, чтобы драться теперь не на жизнь, а на смерть.Глава 22 «САН-ПАБЛО»
Хотя «Сан-Пабло», несомненно, не принадлежал к числу крупнейших галионов короля Филиппа, мужество его защитников стояло на высоком уровне. Офицеры, большей частью в черных доспехах, солдаты в шишаках и нагрудниках и волосатые, не защищенные доспехами матросы сконцентрировались на баке и юте и осыпали идущих на абордаж пулями, дротиками и стрелами арбалетов. То, что этот галион, который спереди еще горел, подвергся сильной бомбардировке, Генри Уайэтт понял в тот самый момент, когда нога его ступила на поручень, ибо на палубе, среди обезображенных трупов команды, валялось несколько каменных ядер. Под рухнувшими снастями и кусками рангоутного дерева скопились темные коричневато-красные лужицы крови. Кровью же пропитались и обожженные куски обрушившихся парусов. Голова его закружилась от бешеного грохота выстрелов, воплей и звенящего бряцанья стали. В завихрениях древесного и порохового дыма щипало глаза, разъедало горло, пока он, вцепившись в гротовый вант, стоял и пытался оценить обстановку. Незадачливые налетчики из эскадры Сеймура валялись убитыми или, как раненые животные, напрягали, корчась, оставшиеся силы, чтобы уползти куда-нибудь в сравнительно безопасный угол. Он услышал свой собственный крик — впоследствии Генри так никогда и не смог вполне поручиться за то, что же он такое кричал: вполне вероятно, что-то вроде «Вперед за Святого Георгия и нашу королеву! Вперед, „Морской купец“!?» И тут сеймуровский барк «Ахат» вернулся, чтоб снова атаковать, и пристал к другому борту галиона. На забрызганную кровью палубу спрыгнуло несколько блестяще одетых джентльменов во главе с неким Эмиасом Декстером. Некоторые из них задержались, чтобы пальнуть из кремниевых пистолей и ружей по скоплению орущего на полубаке врага. — Давай, Генри! Чего тянуть?! Питер Хоптон спрыгнул на палубу, схватил в обе руки свое излюбленное оружие рукопашного боя — обоюдоострый топор, какими обычно пользовались дровосеки в лесах Сент-Неотса. Его зычный возглас: «Бей их! Бей проклятых папистов!» — перекрыл внезапно зазвучавшие резкие звуки труб. Испанцы под предводительством горстки сверкающих доспехами офицеров атаковали с юта. Теперь очень редко звучали выстрелы — перезаряжаться времени не оставалось. Воздух наполнился только одними криками, руганью, скрежещущим лязгом стали о сталь и глухими звуками с размаху наносимых ударов. Нападавшие и защитники бились с переменным успехом, пока «Сан-Пабло» ворочался в маслянистых волнах. — Бей мучителей истинных христиан! Арнольд, Брайан О'Брайан и Джайлс Доусон с братом, вооруженные пиками, пошли в атаку во главе остальных матросов «Морского купца» на группу испанцев, встретивших их на корме, а молодой Декстер со своими товарищами сдерживал подобный же натиск с бака — кончики их шпаг мелькали, сверкая как летние молнии на темном вечернем небе. «San Pablo! San Pablo! Viva el Rey!» — кричали защитники галиона. Уайэтт, запыхавшийся и вспотевший, вступил в схватку с рыжебородым громадиной офицером родом, наверное, с севера Испании. Противник атаковал, нанеся режущий свистящий удар, от которого Уайэтт, низко пригнув голову, едва успел увернуться. Затем своим испанским клинком, захваченным в Санто-Доминго, Генри сделал выпад, целясь острием в спутанную бороду врага, и скорее увидел, чем услышал, как тот заорал, когда кончик палаша вошел ему прямо в рот, отчего его голова откинулась резко назад. Шлем офицера, когда тот свалился навзничь, громко стукнулся о палубу, и алой струей сильно забила кровь, промочив его бороду и кирасу. И тут в паре футов от уха Уайэтта грохнула аркебуза, почти оглушив его. Вдруг с болью в сердце Уайэтт осознал тот факт, что испанцы неумолимо оттесняют его с товарищами к борту. Судорожно глотая воздух, он попытался в этой обезумевшей куче дерущихся найти свою цель, но враг его исчезал всякий раз, как он намеревался нанести удар. Ныла рука, подкашивались ноги, и дважды он оступился — под ним ведь была палуба качающегося галиона, обильно политая кровью. — Ну держись у меня, бессердечные дьяволы! — услышал он восклицание Питера Хоптона, когда этот гигант, сжимая в обеих руках топор, врезался прямо в ряды испанцев — если таким столь достойным словом можно было назвать беспорядочный строй сражающихся. И снова Уайэтт оказался лицом к лицу с чернобровым офицером, перебитая пулей левая рука которого бесполезно болталась. Но он тем не менее сохранил достаточно силы, чтоб обрушить такой удар, который пробил оборону Уайэтта и непременно рассек бы его от макушки до хребта, если бы не тот тяжелый шишак, выбранный им среди трофеев из Картахены, который случилось ему носить на острове Роанок. Генри упал на оба колена, наполовину оглушенный ударом, и скорее инстинктивно поднял клинок, защищаясь, хотя и понимал, что это бесполезно — тело и руки отказывались повиноваться. Беспомощно он наблюдал, как взвился вверх клинок чернобородого офицера. Ужасающее ощущение надвигающейся на него смерти не помешало Уайэтту слегка отклониться вбок. В голове от этого движения все закружилось и во рту появился кислый и едкий привкус. Но что это? Чернобородый куда-то исчез. И вот уже другой испанец готовился занести над ним свой палаш, испанец с каштановой бородой, — там много было таких — свидетельство прохождения вандалов по Испании где-то около тысячи лет назад. Новый враг замахнулся, но как раз в тот момент «Сан-Пабло» качнуло волной, и удар прошел мимо. Испанец восстановил равновесие и снова взмахнул клинком, чтобы исправить свою оплошность, но вдруг его ноги словно бы выскользнули из-под него. В один из тех редких моментов, когда посреди суматохи у человека вдруг прорезается удивительно ясное зрение, Уайэтт понял, что один из англичан с «Ахата», который, должно быть, упал раненный во время неудачной атаки барка, дернул врага за лодыжку. На это усилие, похоже, ушли последние его силы, ибо он снова рухнул от слабости, распластавшись по палубе в запачканном кровью доспехе, который носил поверх яркого красно-желтого камзола. Сейчас он лежа беспомощно наблюдал за схваткой, что велась над его обессилевшим телом. — Hola! Para la Virgen y el Rey!*["356] Испанцы, тяжело дыша, выкрикнули свой вызов, выставили пики и, умело орудуя ими, выбили бы атакующих за борт, если бы Питер Хоптон, истекая кровью от страшной раны в плече, не запустил в них сначала топором, а потом, подавшись вперед, не захватил в двойную охапку их пики, прижав острия к своей груди. В открывшуюся брешь и ринулись его товарищи по судну. Словно в кошмарном сне, Уайэтт увидел, как два окровавленных наконечника прорвались сквозь изношенную кожаную куртку, покрывающую широкую спину его кузена, как Питер свалился, ломая в падении древки нескольких пик. Пронзенный не менее чем десятью остриями, он умер, и дух его отлетел ради вечной награды, которую понимающий Отче наш приберегает для тех, кто жертвует жизнью своей, защищая свободу. Совсем неожиданно бой прекратился. Увидев, что строй их расколот, враги побросали оружие и, пав на колени, умоляюще подняли соединенные руки, прося о том милосердии, которое сами ни за что бы не даровали захваченным ими пленникам. Тут и там некоторые разгоряченные битвой англичане продолжали наносить удары своим врагам, потому что кое-кто из офицеров, не желая сдаваться, в полных доспехах прыгал через поручень, взывая к Богу и Деве свидетельствовать, что погибают они ради защиты их веры. Медленно развевалось над галионом полотнище с красным иерусалимским крестом и без дела дребезжали блоки над частично лишенными трудоспособности матросами с «Морского купца», взобравшимися теперь на «Сан-Пабло», чтобы помочь сохранить добычу. Сцена резни и разрушения на палубе галиона заставила их вытаращить глаза. Испанские офицеры неохотно подходили сдавать оружие Уайэтту и завербовавшимся к нему джентльменам как к единственным лицам, достойным принять их капитуляцию. Рыжеволосый командир «Морского купца» словно в каком-то сне принял красивую шпагу старшего лейтенанта и голосом, хриплым и глухим, спросил его имя. — Диего Суарес, сеньор капитано, — сдавленно отвечал последний, и горькие слезы печали струились по его худому вытянутому лицу. — Вам я, сеньор, сдаюсь на милость победителя и вам же заплатит выкуп моя семья. Чувствуя еще головокружение и сильную тошноту, Уайэтт, тяжело переставляя ноги, подошел к телу своего кузена, наполовину погребенному под кучей испанских пикинеров. Желтую бороду Питера окрасила чужая кровь, ярко-синие глаза застыли и остекленели, но губы его скривились в довольной усмешке. Не мог Уайэтт заставить себя поверить в то, что Питер действительно мертв. Неужто вот этот окровавленный труп — тот самый Питер, с которым он в детстве играл в Сент-Неотсе, кто помог захватить разбойников на дороге и кто дрался с ним рядом в тот черный, ужасный день на рыночной площади в Хантингдоне? С какой готовностью пытался он поделиться с ним своими девушками-моноканками, Джейн и Джилл, — щедрый как в этом, так и во всем остальном. Здесь лежал Питер, который всегда так носился с маленькими Тони и Генриеттой, который все твердил о женитьбе, о том, чтобы остепениться, — но который так этого и не сделал. Сорвав с плеча одного из пленников широкую накидку из зеленого бархата, Уайэтт с суровым остановившимся взглядом прикрыл ею тело кузена, большое, в малиновых пятнах крови. Сделав над собой громадное усилие, Генри взял себя в руки. Ведь были еще в округе и другие испанские корабли. Когда в голове прояснилось, он осознал, что, помимо трофейных судов, от него на целую милю не видно ни одного противника, хотя еще дальше группы кораблей перестреливались или сцеплялись в смертельной схватке. Приноравливаясь к качке «Сан-Пабло», Уайэтт зашагал к корме, но у подножия штормтрапа заметил желто-красный камзол — и вспомнил. Он подошел к тому джентльмену с «Ахата», который, несомненно, спас ему жизнь, стал на одно колено и заглянул в красивое загорелое молодое лицо, на котором уже начинал проступать смертный пот. — Сэр, — начал он, — не знаю, как благодарить вас за то, что вы спасли… Тут он вдруг пресекся, словно бы услышав голос своей Кэт, говорившей безнадежным, безжизненным тоном: «Ты без труда узнаешь Френсиса Декстера по ранке в форме креста, что на его левой щеке, и еще по тому, что его правая бровь почти на полдюйма выше, чем левая». Рука его сжалась на рукоятке испанского кинжала, которым он еще ни разу не пользовался. — Вы Френсис Декстер. — Уже ненадолго, — прохрипел лежащий. — Не стоило пытаться… слишком мало людей… Воды, — сдавленно попросил он. — Ради Бога, сэр, воды! Так вот он кто! Именно он угрожал беспомощной маленькой Кэт, а затем с холодным равнодушием соблазнил ее. — Сначала увижу тебя в аду, — прорычал Генри, но все же подозвал ближайшего к нему из людей с «Ахата». — Этот молодчик, — он почти выплюнул эти слова, — жаждет воды. — Боже! Да это Френсис! — Вы его знаете? — глупо спросил Уайэтт. — Еще бы. Я Эмиас Декстер, его кузен. — Он положил голову почтенного Френсиса себе на колени. — Боже Всевышний, да он при смерти! Да что же, совсем нет воды? Никто и ухом не повел, все слишком были заняты охраной пленников, сбрасыванием за борт мертвецов и переоснасткой существенно важных шкотов, фалов и прочего такелажа, считая, что чем скорее «Сан-Пабло» сможет отправиться в Англию, тем лучше. — Не важно, — выдохнул умирающий. — Побудь со мной, Эмиас. Я… я… долго тебя не задержу. Как ни старался Уайэтт, он не мог оторвать глаз от этого мертвенно-бледного аристократического лица. Как ни странно, он чувствовал себя обязанным присутствовать при кончине этого человека, который в игривой веселости причинил ему жесточайшее зло — и кто также спас ему жизнь. — Корабль… надежно в наших руках? — с усилием выговорил наследник Декстер-холла. — Да, Френсис, да. Хотя и крепко пришлось за него поспорить. Этот джентльмен со своими людьми с «Морского купца» сделали то, что не удалось нам. — Жаль, что я… что я не мог проявить себя лучше в этом бою. — Глаза молодого Декстера закатились вверх и устремились на склонившиеся над ним лица. — Эмиас, слушай… внимательно… что я… тебе скажу. Где-то… в этой флотилии… у Дрейка… служит… мне говорили… один капитан… Уайэтт. Глаза Эмиаса широко раскрылись, и он глянул вверх на хмурого рыжеволосого человека, который стоял над ними обоими. Уайэтт медленно покачал головой, тоже склоняясь над телом в красно-желтом камзоле. — Найди его. — Голос почтенного Френсиса постепенно ослабевал. — Я не хотел бы… отправиться к Богу… неся на душе такой великий грех… В растерянности Эмиас уставился на мрачное со следами порохового дыма лицо Уайэтта. Веки умирающего стали подрагивать и медленно опускаться. — Он был далеко… с Дрейком… его жена… Кэт ее звали… пришла… музыку… я… я заставил ее… стать моей любовницей… — Против ее воли! — подсказал Уайэтт. — Да. К горькому сожалению. — В уголках его рта показалась алая пена, составляя резкий контраст с бледно-лавандовым цветом обескровленных губ. — Я поехал… к Лестеру… она носила моего ребенка… хотел потом… найти ее… бесполезно. — Он медленно, булькая горлом, вдохнул и снова открыл глаза. — Найди его… прошу тебя, Эмиас… дай честное слово… позаботься, чтобы ребенок Кэт Уайэтт… мой ребенок… — бесконечно тянулись секунды, прежде чем он продолжил, — … унаследовал… мое состояние. — Я сделаю это, — смущенно пообещал Эмиас. — Даю тебе честное слово. — Попроси Кэт… не поминать меня… лихом. Скажи ей… что я… я… — он долго не решался продолжить. — Если девочка… — Не девочка вовсе, а мальчик. — К своему удивлению, Уайэтт услышал собственный голос. — И нарекли его Энтони, в честь его деда. — Энтони, мой сын… Трепетная улыбка чуть тронула окровавленные губы почтенного Френсиса Декстера — и он умер как раз в тот момент, когда на грот-марсе «Сан-Пабло» заполоскался победный крест Святого Георгия.Глава 23 ШИРНЕСС, ГРАФСТВО КЕНТ
Задержавшись только для того, чтобы отобрать трофейную команду для Джайлса Доусона и боцмана Арнольда, которым предстояло вести «Сан-Пабло», капитан Генри Уайэтт пустился вдогонку за марселями Дрейка, теперь уже едва видимыми на северном горизонте. Когда «Морской купец» нагнал эскадру, он и остальной постоянно сокращающийся английский флот продолжали докучать потрепанным кораблям короля Филиппа и по одному отрезать «отбившихся от стаи». Тем временем, к горькому своему разочарованию, лорд Генри Сеймур получил приказ вернуться назад для защиты Дувра и портов Английского канала от демарша со стороны герцога Пармского. Однако этот прозорливый солдат расформировал эскадру вторжения, с таким трудом собранную в Дюнкерке, и во главе своей армии удалился в Брюгге. Третьего августа у берегов Скарборо штормовой вест набрал такую силу, что англичане вынуждены были, где только возможно, искать убежище в гавани. С подгнившей оснасткой, порванными парусами и надломленными мачтами в накладках, испанцев унесло в холодное и неспокойное Северное море. Теперь у армады короля Филиппа уже не оставалось ни сил, ни возможностей, чтобы прийти в себя и снова атаковать побережье Англии. Невозможно еще и потому, что, как сообщали пленные, на борту кораблей, пребывавших около семи недель в море, свирепствовали болезни. Многие сильнейшие каракки и галионы, заявляли они, изрешечены ядрами и убитых чрезвычайно много — впоследствии испанцы признавали, что их потери составили около пяти тысяч человек. Потери англичан, соответственно, равнялись менее ста человек убитых. Поэтому, собравшись на совет, лорд Хоуард Эффингем и подчиненные ему адмиралы решили идти к мысу Норт-Форленд, убежденные, что потери Медины-Сидонии столь велики, что у него ни за что не хватит мужества вернуться назад. И в самом деле, сами испанцы признались, что потеряли шестьдесят три корабля. Одна за другой эскадры-победительницы заходили в устье Темзы: одни держали курс в Лондонский Пул, другие — в Маргит, но основная их масса шла в Ширнесс. Это обстоятельство особо радовало Уайэтта, ибо именно туда распорядился он доставить «Сан-Пабло». Естественно, он горел нетерпением поскорее узнать ценность своего трофея. Генри опознал его довольно быстро — освещенный лучами августовского солнца черно-красный галион отчетливо вырисовывался на фоне ярко-зеленого берега. В городе зазвучали приветственные колокола, когда «Месть»и «Королевский ковчег» бросили якоря, и последний порох, оставшийся у береговых батарей, пошел на салютные залпы, тогда как стоявшие в гавани суда, все до одного, подняли яркие вымпелы и знамена. Примерно в двух кабельтовых стоял галион «Коффин», который в бою у берегов Гравелина, судя по новенькой бизань-мачте, видимо, получил серьезные повреждения, да и плотники его вовсю трудились, заделывая пробоины в верхних надстройках корабля. Мысленно вернувшись назад, Уайэтт припомнил, что галион Коффина шел курсом на север, наступая на пятки Бискайской эскадре. С тех пор он не видел его ни разу. Поэтому Генри распорядился спустить на воду шлюпку и приказал рулевому доставить его на «девонширца». К счастью, «девонширец» стоял на якоре совсем близко от «Сан-Пабло». При виде своего трофея, который на этом расстоянии казался крепким и неповрежденным, Уайэтт повеселел. Наконец-то! Наконец-то потерянное им с «Катриной»и «Надеждой» щедро компенсируется, к тому же он сможет пожизненно обеспечить Кэт и своих детей — эта возможность теперь у него в руках. Много ночей, возвращаясь вдоль берега из Норт-Форленда, он мучительно решал вопрос о претензии на наследство маленького Энтони. Одно оставалось совершенно очевидным: до сих пор никто, за исключением Кэт и молодого Эмиаса Декстера, не знал, что маленький Энтони не является единокровным его ребенком. Притязания малыша на наследство, разумеется, сделают парня независимо от него богатым, однако это также обречет его навеки демонстрировать на своем гербе знак бастарда — изгиб поперек левой части щита. Впрочем, и бастарды, случалось, достигали высокого положения в делах Англии — по примеру Вильгельма Завоевателя. Прежде чем Уайэтт отрешился от тягостных размышлений и пришел в себя, борт галиона «Коффин» уже возвышался над ним, а чуть позже его провели в капитанскую каюту, где он застал Хьюберта, в одиночестве пишущего письмо домой, в Портледж-холл. Он тут же вскочил, лицо его ожило, глаза засияли. — Ты отлично дрался за «Сан-Пабло»! — вскричал он. — Я так рад за тебя, Генри. Этот корабль сделает тебя богачом. Медное лицо Уайэтта как-то сжалось. — Что до этого, друг мой Хьюберт, мы еще посмотрим. — Да что тут смотреть?! Капитан твоего трофея сообщил казначейским чиновникам королевы, что один только его сундук с платежными деньгами содержит сто тысяч дукатов, а пушки и меблировка должны принести столько же. Ради Бога, Генри, неужели тебя это не радует? Тогда Уайэтт с суровой серьезностью описал ему то, как погиб Питер Хоптон. И не было неожиданностью то, что слезы выступили на глазах у Коффина: в те дни чувства не прятали в сердце своем так ревниво. — Да упокой кости его Боже наш милосердный, — пробормотал он. — Умер истинный друг и самый доблестный слуга нашей королевы. Наконец Уайэтт поднял глаза и как-то нерешительно спросил: — А ты, дружище Хьюберт, неужели ты не захватил ни одной добычи? Ведь если так, ты будешь почти разорен. Коффин хлопнул в ладоши и попросил буфетчика принести кувшин малаги. — Твои сожаления ни к чему. Да, я и в самом деле считал, что разорюсь, потому что даже в последний день не мог достать ни одного вражеского корабля. Но, — он накренил свое кресло назад и пустил к потолку клуб табачного дыма, — когда мы только начали погоню, нам пришлось проплывать мимо каких-то спутанных обломков снастей. На сломанном салинге лежал наполовину погруженный в воду человек, который окликнул нас по-английски и умолял спасти его ради Бога. Хотя велико было искушение продолжать преследование врага, я подумал, что этот брошенный бедолага один из наших, поэтому выловил его из воды, потратив на это много драгоценного времени. И я не пожалел, что проявил к нему милосердие, потому что… И Хьюберт захохотал все громче и громче, пока вся каюта не зазвенела от его веселого смеха. — Кровью Господней клянусь тебе, Генри, что я никогда не забуду сожаления на его лице, когда мы выловили его из моря. К моему удивлению, он оказался испанцем, и можешь угадать его первый вопрос, когда он выблевал достаточно соленой воды, чтобы суметь говорить? — Нет, Хьюберт, сдаюсь. — «А есть ли среди вас, джентльмены, гербовые дворяне?» Мы с Чарльзом оба заговорили, но мне случилось быть первым. Наш пленник, высокий и худой как жердь, поклонился аж до самой палубы и обратился ко мне. «Сеньор, я сожалею, что потерял свою шпагу, поэтому не могу сдаться, как подобает. Я… Я генерал Конде Нарсисо де Лопес и Эчигерей». «Длинное имя для длинного человека», — засмеялся наш штурман Клоуг, а моя команда обступила нас и тоже заржала. «Молчать, безродные псы!» — взревел этот благородный испанец, который свободно говорил на самом превосходном английском. Впоследствии, — продолжал Хьюберт, — я узнал, что мой пленник служил помощником Бернардино де Мендосы, бывшего посла испанского короля в Уайтхолле. Эчигерей снова повернулся ко мне — глаза сверкают, голова откинута назад. «И какой же выкуп вы потребуете за меня, сеньор Коффин? Не забудьте, пожалуйста, что я испанский гранд». Хьюберт издал короткий смешок и продолжал: — Я поговорил немного с Чарльзом, и мы остановились на сумме в пятьдесят тысяч дукатов. — Хьюберт снова засмеялся. — Генри, если бы я назвал его мать шлюхой, он бы и тогда не мог почувствовать себя более оскорбленным. Генерал сложил руки и гневно уставился на нас, фыркнув своим длинным смуглым носом. «Нехорошо так оскорблять несчастного военнопленного», — почти рявкнул испанец. «Оскорблять? — вскричал я. — Это как надо понимать?» «Неужели вы полагаете, что испанский гранд оценивается в такую мизерную сумму? Нет, сеньор, я навеки останусь в Англии, если вы не потребуете выкупа в сто тысяч португальских эскудо! Иначе я никогда не смогу поднять головы в Эскуриале». — Ну вот, Генри, я тогда и сказал генералу, что, если уж это дело его чести, мы с Чарльзом удовлетворимся не менее чем ста пятьюдесятью тысячами эскудо. За это он нас поблагодарил, да еще как — лучше, чем за то, что мы выловили его из моря! Так что, видишь, мы на галионе «Коффин» не так уж бедны, в конце концов. Поверишь мне или нет, но в тот же самый день, как мы вошли в порт, дон Нарсисо сошел на берег под честное слово и отправил в Португалию пинассу с приказом как можно скорее собрать деньги для его выкупа. — Хьюберт вытер мокрые от слез глаза. — Так что, видишь, мой друг, век чудес еще не прошел, и мы все же вернемся в Портледж и Байдфорд с полными сундуками. Все хорошее, что предвидел Коффин, сбылось в действительности, ибо помимо солидных выкупов, предложенных некоторыми джентльменами на борту «Сан-Пабло», груз его состоял из очень ценных латунных пушек и целого арсенала великолепного мелкого оружия. Все это оказалось в придачу к сотне тысяч дукатов, которые хранились в платежном шкафчике галиона. Той массы золотой звонкой монеты, что высыпалась из него, было вполне достаточно, чтобы заблестели самые алчные глаза. На трофейном корабле обнаружились также и менее приятные вещи, которые, когда их выставили на всеобщее обозрение на набережной, вызвали хмурые взгляды и проклятия людей, собравшихся, чтобы посмотреть на те корабли, которые уберегли их от этих самых кандалов, цепей, печатей для клеймения раскаленным железом и даже разборной дыбы. — Да, Берт, — зубоскалил один щербатый мужлан, — ручаюсь, что ты ужасно жалеешь, что испанцы не пришли. Они бы выпрямили тебе спину. — Он похлопал по плечу своего горбатого товарища, и толпа покатилась со смеху. В общем Уайэтт подсчитал, что «Морской купец» должен разделить на всю команду сто тридцать тысяч дукатов — сумму, заставившую широко улыбнуться даже Джайлса Доусона и его брата с их свирепыми физиономиями. Судя по зазвучавшей музыке и вывешенным на мачтах дворянским знаменам, знамени королевы и флагу Дрейка, на борту «Мести» вскоре должна была состояться некая церемония. Уайэтт догадывался, что Френсис Дрейк, видимо, собирается ответить на гостеприимство лорда Верховного адмирала, оказанное ему накануне. Вскоре от основных военных кораблей стали отчаливать шлюпки: все они направлялись к флагману. Едва капитан «Морского купца» устроился, чтоб вознаградить себя малой толикой сна, как в дверь его каюты деловито постучали. Вахтенный командир Брайан О'Брайан доложил, что Френсис Дрейк приказывает ему немедленно явиться на его флагманский корабль и ему было бы приятно, если бы Уайэтт оделся как можно элегантнее. Преисполненный удивления, что Золотой адмирал вдруг снизошел до того, чтобы вызвать к себе капитана такого незначительного корабля, как «Морской купец», Уайэтт облачился в шелковые чулки из синих и красных полос и в камзол — роскошное бархатное одеяние, где краски киновари соседствовали с серым цветом. Эту одежду он нашел на борту своего трофея, и она ему здорово подходила. Под навесом, сооруженным на кормовой палубе флагмана, собралось самое блестящее общество знаменитостей. Уайэтт распознал среди них лорда Генри Сеймура, сэра Уильяма Винтера, сэра Джона Хоукинса и почти всех предводителей победоносных эскадр — за исключением Мартина Фробишера, который (в своей мелочной озлобленности) поклялся, что никогда руки не подаст Френсису Дрейку и не ступит на борт его корабля, если только не по служебной надобности. Впервые в жизни Генри Уайэтт встретился лицом к лицу с лордом Хоуардом Эффингемом и был поражен врожденным достоинством осанки обветренного лица этого великого человека. По правую руку от него стоял сэр Френсис в огромных, похожих на колесо телеги, брыжах и в дублете излюбленных им цветов — синего и серебристого. Вокруг его шеи, свисая с ушей и красуясь на каждом пальце, сверкали чудесные драгоценные камни. — Это он, ваша светлость, — объявил Дрейк, — Капитан Уайэтт с фрегата «Морской купец». — К вашим услугам, милорд. — Уайэтт сделал поклон, который, с точки зрения высшего общества, вряд ли тянул на верх элегантности. Распрямившись, он пришел в ужас: на лице лорда Хоуарда было такое суровое выражение… — Стало быть, это ты — тот негодяй и преступник, который осмелился навязаться обществу почтенных джентльменов? Горло Уайэтта судорожно сжалось, как только из легких его вырвался воздух. Пылая лицом, он умоляюще повернулся к Дрейку: наверняка он должен был знать правду о трагедии в Сент-Неотсе. Но на этот раз лицо сэра Френсиса ничего не выражало, а где-то там, на задворках, покусывал губу себе Хьюберт Коффин. — Что, любезный, или ты отрицаешь, что скрываешься от правосудия как осужденный преступник? — Резкий голос Хоуарда был чем-то схож с криком рассерженного павлина. Потрясенный, напуганный, не смея дышать, этот дюжий рыжий детина в красно-сером камзоле только и мог, что кивнуть головой в своем бессловесном несчастье. — Может, сказать тебе, кто ты такой еще? — Голос лорда Хоуарда так зазвенел, что даже работавшие в шкафуте матросы могли его слышать. — Ты один из самых способных, преданных и доблестных моряков, что служили у меня на флоте. Присутствующий здесь сэр Френсис нередко рассказывал мне о твоей стойкости в несчастье, о твоем безропотном послушании и о твоей редкой способности как мореплавателя. Поэтому властью, данной мне ее всемилостивейшим величеством королевой, я объявляю тебя, Генри Уайэтт, помилованным отныне и навсегда во всех преступлениях, за которые тебя осудили. Под ногами Уайэтта так покачнулась палуба, словно на «Месть» обрушился ураган, но ему удалось глубоко вздохнуть и обрести свой голос. — Ее величество и ваша светлость сделали меня… счастливейшим человеком в Англии. Он повернулся, чтобы уйти, но вперед вышел Дрейк и возложил тяжелую руку на плечо своего рыжеволосого капитана. Для этого ему пришлось потянуться вверх — так велика была между ними разница в росте. — Прежде чем ты уйдешь, внимания требует еще одно дело, капитан Уайэтт. Дрейк вынул из ножен рапиру с эфесом, инкрустированным драгоценными камнями, и подал ее рукоятью вперед лорду Верховному адмиралу. — На колени! — велел он и чуть ли не силой толкнул своего подчиненного в требуемое положение. Смущенный до глубины души, Уайэтт услышал низкий и густой голос лорда Хоуарда. Он говорил: — Пусть знают все, что ее величество королева удостоила меня высокой чести присваивать рыцарское звание тем джентльменам, коих я нахожу заслуживающими его. Хоть звание это и не наследственное, однако является высшей оценкой достоинств, проявленных на службе ее величества. Клинок рапиры слегка коснулся плеча Уайэтта, потом словно из горних высей он услышал голос лорда Хоуарда, милостиво повелевающего: — Встаньте, сэр Генри Уайэтт. Служите всегда королеве и в будущем так же, как в прошлом. Первым, пожавшим руку новому дворянину с титулом «сэр», был вице-адмирал королевского флота сэр Френсис Дрейк.Эпилог L'ENVOI*["357]
Никто из живущих в Байдфорде не забыл тот великолепный октябрьский день, в который с крепким попутным зюйд-вестом в порт вошел галион «Коффин». Это был их корабль — особый вклад Байдфорда в ту славную победу, что навсегда разогнала тяжелые тучи мрачной угрозы рабства. Возвращающийся восвояси кэч — одномачтовое рыболовное судно — заметил, как их любимый галион величественно проплыл вдоль берега со всеми флагами, реющими на ветру, и красным латинским крестом, горящим на белом марселе. Однако борта его были весьма заметно залатаны новыми досками, прибитыми поверх пробоин, оставленных ядрами вражеских пушек. Впервые со дня того памятного визита к ним Френсиса Дрейка жители Байдфорда и его окрестностей густой толпой собрались на берегу, чтоб собственными глазами увидеть свой галион-победитель. Жены, сестры, возлюбленные и даже младшие братья обнимали и целовали этих широколицых парней, которые спрыгивали через поручень галиона. Были здесь и те, что отворачивались в сторону и плакали, — те, кто видел, как мужчины их уходили, но не вернулись. Были и те, что рыдали, глядя на бледные лица больных и раненых, которым помогали сойти на берег. Все семейство почтенного Чарльза прибыло из Ильфракума, чтобы встретить его, — с ними был даже старый-престарый прадедушка, в молодости служивший церемониймейстером Генриха VIII и носивший геральдический, золотой парчи, щит короля. Они окружили кузена Хьюберта. Мужчины хлопали его по плечу, а дамы награждали горячими поцелуями. Первым пассажиром, высадившимся с галиона «Коффин», был пожилой, прямо держащийся джентльмен в плоской шляпе на голове и черной довольно богатой одежде. Единственное его украшение, как разглядела толпа, заключалось в великолепном золотом воротнике филигранной работы, украшенном изумрудами и бриллиантами необыкновенной величины. Он с любопытством посмотрел на простенькие крыши и трубы Байдфорда, на оживленные склады, обрамляющие его гавань, и тихонько пробормотал: — Вот все же, сердце, где твое место. Снова взбудоражился Портледж-холл, и громко зазвучали причитания Розмари Коффин и Кэт Уайэтт, жалующихся, что не смогут поехать встречать мужей в город из-за слишком поздних сроков беременности. Но, вытерев глаза, они присоединились к тихомукоротанию времени вместе с сэром Робертом, давно уже оповещенным курьером о крупном состоянии, завоеванном его сыном и наследником. Не менее этого радовался старый ветеран той чрезвычайной чести, которой удостоился рыжеволосый Генри Уайэтт. Он поддразнивал даже Кэт, предлагая поучить ее тому, как должна вести себя жена дворянина, и наставить в разных формах изысканного обращения. Она с удовольствием терпела его добродушные подшучивания, а то, что Генри стал простым дворянином и сын его не унаследует это звание, совсем ее не печалило. — Чего хорошего, — улыбалась она, — если парень нежится и бездельничает в тени своего родового древа. Клуб пыли, взвившийся в ярко-лазурное небо, предупредил ожидающих в Портледж-холле о том, что приближается значительная группа гостей. Снова, как прежде, вдоль подъездной дороги выстроились соседи, а арендаторы пришли поприветствовать молодого хозяина имения, с победой возвращающегося домой. Ввиду своего «интересного» положения, женщины Портледжа ожидали своих мужей в своих отдельных покоях. Хьюберт взбежал вверх по лестнице, схватил Розмари в объятия и осыпал ее ласками, которые она возвращала любовно, от всей души. Вдруг он отстранился от нее и засмеялся. — Чтоб мне провалиться! Я же забыл, что к тебе посетитель! — Посетитель? Милый, я встречусь с ним чуть попозже. А этот момент — только для нас двоих. — Нет, нет. По-моему, тебе лучше не заставлять его ждать. Увидишь, он тоже имеет право на твои ласки. Коффин отошел назад и открыл дверь. Розмари так и обмерла от радости: с развевающимся позади черным плащом в дверь широкой походкой вошел ее отец. — Carissima nina!*["358] — невольно Ричард Кэткарт заговорил языком, близким Розмари в детстве. — Mi padre! Они еще стояли, крепко прильнув друг к другу, когда Хьюберт вышел, закрыв за собою дверь, и отправился на поиски собственного отца. В других покоях Кэт наконец выскользнула из объятий супруга и сделала реверанс — весьма неуклюжий из-за объемистого живота. — Я сама должна приветствовать благородного рыцаря-дворянина, — засмеялась она. — О Генри! Генри! Я слышала, ты привез с собой великое и ценное сокровище… — Нет, моя милая Кэт, — поправил он мягко, — величайшее сокровище всегда пребывало здесь.ОБ АВТОРЕ
МЭСОН ФРЕНСИС ВАН ВИКК, американец, родился в Бостоне, штат Массачусетс, 11 ноября 1901 года. Окончил Гарвардский университет. Во время Первой мировой войны служил в экспедиционном корпусе во Франции в 1918 — 1919 годах. Затем продолжил службу на родине в Национальной гвардии. С 1956 по 1978 год жил на Бермудах, и это сказалось на его писательской карьере; он автор целого ряда морских романов. Умер Мэсон 29 августа 1978 года. За время своей творческой деятельности Мэсон написал более сорока романов на самые разные темы. Это и романы о пиратах: «Капитан Немезида», «Золотой адмирал», «Король абордажа»; исторические романы — «Серебряный леопард (о Первом крестовом походе)», «Варвары». Мэсон писал также и о Гражданской войне в США, и о колонизации Индии, и детективы, и вестерны. Вообще он был необычайно ярким и разносторонним человеком, и с его смертью американская литература потеряла достойного и талантливого автора. В серии «Великие пираты» читатель познакомится с двумя романами Френсиса Мэсона: «Золотой адмирал» — о сэре Френсисе Дрейке, и «Король абордажа» — о сэре Генри Моргане. Текст печатается по изданию: Golden admiral by F. van Wyck Mason New York, Doubleday Inc, 1953.ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1541 (1540) год В Тейвистоке (Девоншир) родился Френсис Дрейк. 1556 — 1562 годы Дрейк — юнга и матрос на торговых судах. 1565 год Совместно с Джоном Лоуэллом Дрейк уходит в плавание за рабами к берегам Африки. 1567 год Дрейк — капитан судна «Юдифь». Третье плавание к берегам Африки и Америки за рабами вместе с Джоном Хоукинсом. Схватка с испанцами близ города Сан-Хуан де Улуа. 1568 — 1571 годы Дрейк в Карибском море. Захват и разграбление испанского города Номбре-де-Дьос в Панаме. Поход через Панамский перешеек к Тихому океану (Южному морю). 1577 — 1580 годы Кругосветное плавание Френсиса Дрейка. Поиски Северо-Западного прохода. Дрейк переименовывает судно «Пеликан»в «Золотую лань». Открытие мыса Горн. Захват торгового галиона «Касафуэго»с сокровищами Перу. Посещение Молуккских островов (островов Пряностей). Триумфальное возвращение в Плимут с богатой добычей. 1580 год Королева Елизавета посвящает Дрейка в рыцари и присваивает звание вице-адмирала. 1585 год Вторая женитьба сэра Френсиса Дрейка. 1585 — 1587 годы Дрейк командует флотилией и громит испанские поселения в Карибском море. 1587 год Налет на Кадис, портовый город Испании. Захват галиона «Сан-Фелипе»с грузом золота. 1588 год Дрейк в ранге вице-адмирала командует эскадрой, сражающейся с «Непобедимой армадой». Атака брандерами испанских галионов на рейде Кале. 1588 год Окончательный разгром «Непобедимой армады»в сражении у Гравелина. 1589 год Неудачная атака Лиссабона. 1590 — 1595 годы Дрейк отстранен от командования королевскими морскими силами. 1595 год Последняя экспедиция Дрейка и Джона Хоукинса в Вест-Индию. Смерть Хоукинса недалеко от острова Пуэрто-Рико. 1596 год 27 января — смерть сэра Френсиса Дрейка близ Порто-Бельо (ныне Портобело). Золотой адмирал, великий флотоводец и пират похоронен в море.Френсис ван Викк Мэсон Король абордажа
Из энциклопедии «Британика». Издательство Вильяма Бентона, т. 15, 1961 МОРГАН, сэр Генри (около 1635-1688) — пират и вице-губернатор на Ямайке, вероятно, родился в 1635 году, в Уэльсе, в местечке Лланримни на границе Монмутшира и Глеморганшира. Известно, что еще юношей он был похищен, привезен в Бристоль и продан в качестве слуги на Барбадос*["359], а уже оттуда Морган попал на Ямайку. В 1666 году Морган, командуя кораблем, отправляется в экспедицию вместе с Эдвардом Мэнсфилдом, чтобы захватить остров Санта-Каталина (ныне остров Провиденсия), а немного спустя пираты выбирают Моргана своим адмиралом*["360]. В 1668 году губернатор Ямайки, сэр Томас Модифорд, поручает ему поймать нескольких бежавших испанских пленников, чтобы выяснить подробности назревающей угрозы атаки испанцев на Ямайку. Морган нападает на портовые города Пуэрто-дель-Принсипе на Кубе и Порто-Бельо (ныне Портобело) в Панаме, но за большой выкуп, посланный губернатором Панамы, отводит свой корабль от материка. Позднее Морган участвует в еще одном походе против испанцев, организованном Модифордом, в котором он опустошает побережье Кубы, а в 1669 году грабит город Маракайбо и пиратствует в Гибралтаре, расположенном в глубине залива Маракайбо (Венесуэла). Возвращаясь из Маракайбо, он сталкивается с тремя испанскими кораблями, отрезавшими ему путь в океан. После ожесточенного боя Морган уничтожает их, захватов при этом огромные сокровища в качестве выкупа за спасенных матросов с одного из затонувших кораблей. По возвращении на Ямайку Морган назначается главнокомандующим всеми боевыми кораблями острова и воюет с испанцами. В декабре 1670 года он снова захватывает остров Санта-Каталина, Порто-Бельо, а в 1671 году овладевает Панамой. Тем временем, 8 июля 1670 года, Англия и Испания подписывают мирный договор, и обоих, Модифорда и Моргана, арестовывают за пиратство. Морган, однако, вскоре получает прощение короля, и в 1674 году его назначают вице-губернатором Ямайки, а в декабре того же года, перед отплытием из Англии, Морган посвящен в рыцари. Новый губернатор Ямайки лорд Воган, впоследствии граф Кэббери, вдохновляет Моргана снова заняться каперством. В конце концов, 12 октября 1683 года, Моргана отстраняют от исполнения всех его должностей на Ямайке. Вскоре Генри Морган заболевает и в августе 1688 года умирает. Морган был похоронен в церкви Святой Екатерины на Ямайке в Порт-Ройяле *["361].Книга первая ВЗЛЕТАЮЩИЙ ГРИФОН
Глава 1 ГОСТИНИЦА «АНГЕЛ»
Гарри Морган не мог припомнить другого такого ясного и погожего майского вечера. Словно клубы дыма на поле сражения виднелись кроны нежно-зеленых деревьев. Они открыто возвышались над пыльными красными, коричневыми и черными крышами, которые выглядывали из-за линии серых земляных валов, защищающих центр города Бристоль. Над двумя мощными башнями-близнецами, прикрывавшими Фром Гейт — основные ворота города, — все еще кружились и галдели какие-то птицы. Смеркалось, и в этот час только самые высокие из городских укреплений еще были позолочены светом солнца, медленно погружающегося в красноватые воды реки Эйвон. Он все еще не мог избавиться от тяжелого чувства, вызванного видом длинной, покрытой пылью колонны всадников, направлявшейся, судя по всему, в Бристоль, которую он обогнал по дороге. Там был по меньшей мере целый эскадрон мрачных, суровых парламентских драгун *["362] в блестящих стальных шлемах и латах. Крепкие загорелые пальцы Моргана судорожно сжали поводья. Каким идиотом нужно быть, чтобы не догадаться, что в это время кромвелевский гарнизон в Бристоле будет менять караул на городских воротах! Из-под прямых темных бровей юный, загорелый до черноты всадник метнул полный ненависти взгляд на отряд охраны у ворот — аркебузиров и алебардщиков «Новой армии» Оливера Кромвеля *["363]. Эти пехотинцы выглядели и сражались не хуже старых ветеранов, прозванных «железнобокими» *["364]. Поскольку остановка обязательно привлекла бы к нему внимание, Морган снова тронул поводья коренастой лошадки, на которой он проделал такой длинный путь на юг от Глеморганшира, и медленно двинулся вперед, уткнувшись взглядом в черную взлохмаченную шею лошади. Непроизвольно левая нога всадника напряглась при соприкосновении с краем седла, где был спрятан список рекрутов; если только «железнобокие» найдут эту бумагу, то не пройдет много времени, как в светлых зеленых долинах графств Глеморган и Монмут появятся новые могилы, а от многих ферм останутся только дымящиеся руины. Он повернулся и бросил взгляд на горстку путников, которые ждали разрешения войти. Морган увидел, что его товарищами оказались старьевщик с тощей хромой собакой, морщинистая крестьянка, согнувшаяся под бременем корзины с овощами, и полдюжины бродяг, которые вовсю таращились на сбившихся в кучку ярко раскрашенных шлюх. К этому моменту Морган, к своему величайшему сожалению, убедился в том, что он — единственный всадник среди всех путников, поэтому на него, конечно, будет обращено особенно пристальное внимание. Сержант у ворот внимательно наблюдал за медленным приближением лошади Моргана, его серые глаза сузились. Он только что встал на пост, и ему было страшно любопытно, что из себя представляет этот широкоплечий молодой парень с не лишенными привлекательности чертами лица и темно-каштановыми волосами до плеч. Гм-м-м. Сержант пожал плечами. Такая длина волос говорит о том, что он скорее всего роялист *["365]. Кромвелевский сержант снова, еще внимательнее, осмотрел незнакомца и отметил тяжелые, прямые брови и большой рот. А еще он взял на заметку прямой взгляд поблескивающих, широко расставленных глаз, квадратный подбородок и мощную шею, которая, вероятно, с годами станет еще крепче. Взгляд сержанта переместился на короткий меч с тяжелым лезвием, прикрепленный к седлу возле левого колена путника. Повелительным жестом он поманил к себе всадника и принялся изучать содержимое пары пропыленных и покрытых дождевыми пятнами дорожных сумок, перекинутых через седло. Сержант перерыл все вдоль и поперек и только потом угрюмо буркнул: «Проваливай». Гарри Морган потихоньку вздохнул с облегчением, когда копыта его лошади зацокали сначала по темному проходу под воротами Фром Гейт, а потом по освещенной закатным светом улице. Гарри Морган не был настолько хорошо знаком с Бристолем, поэтому он осторожно лавировал среди узких, вымощенных булыжником проулков, которые простирались перед ним. Он ошибался, или действительно в воздухе чувствовалось какое-то напряжение? Конечно, с момента его отъезда прошло почти три недели, и здесь кое-что изменилось. Морган остановил коня и дал ему напиться в общественном колодце на улице Тандерболт, а сам принялся отряхивать дорожную пыль с кожаной куртки. В этот момент к нему подошел уличный торговец с красным носом и хитрым взглядом. — На редкость хороший вечер, ваша честь, — протянул он и, бросив по сторонам беглый взгляд, сунул ему кипу плохо отпечатанных листков. — Вот славные вирши, ваша честь, остренькие, крепче всего, что вы читали раньше. Полпенни штука, сэр. Разносчик быстро огляделся и снова завел: — Уверен, что вы оцените вот это, ваша честь. Это новейшая сатира, написана самой миссис Мэтьюз. Незаметно для постороннего взгляда Гарри Морган вначале напрягся, а потом, задушив клокотавший в горле смех, вытащил монетку. Разносчик нагнулся, вынул замасленный листок бумаги и понизил голос: — Если, по чистой случайности, вы остановитесь в таверне «Роза», сэр, завтра, около восьми вечера, то я приготовлю для вас самые скандальные новости из Лондона, лучшее, что когда-либо производил на свет мистер Валентайн. Похоже, заговор набирает силу? Проклятье, он должен, должен как можно больше знать о предстоящих событиях! Быть на задворках, играть такую маленькую роль в таком великом событии — для неистовой валлийской гордости Моргана это было просто непереносимо. Ощутив все нарастающее чувство голода, Гарри свернул в очень узкий и темный, вымощенный булыжником переулок, воняющий конюшней, сточной канавой и кухней. Он улыбнулся. В конце этого оживленного проулка находился трактир «Ангел» — и Анни. Всегда задумчивая и серьезная, она, наверное, ждала, нежная и терпеливая. На потрескавшихся от солнца губах появилась широкая ухмылка. И в его распоряжении всегда была Кларисса, если только она не уехала в деревню навестить родственников. Холера ее возьми, он никак не мог забыть прелесть ее золотисто-белокурых волос и розовую свежесть щек. Еще одна мысль поддерживала его на протяжении последних изматывающих миль от Монмута — что он найдет в «Ангеле» чистую одежду. Морган заставил коня идти быстрее. Нечего раздумывать, если каждую секунду может открыться окно и с криком «Берегись, бросаю!» на грязные, скользкие булыжники мостовой вывалят корзину мусора или помоев. Когда он думал об Анни Пруэтт, то чувство напряженности покидало его. Еще через несколько минут он скорее всего увидит ее, увидит, как она возится на кухне или помогает матери обслуживать постояльцев, которых становилось все больше в их уютной гостинице. Перед мысленным взором Гарри предстала Анни Пруэтт. Как большинство уроженцев запада Англии она не была высокой, а ее мягкие темные волосы всегда собирались в узел у основания шеи; но как привлекательны были ее слегка вздернутый носик, серо-зеленые глаза и мелкие, но оживленные черты лица. Хей-хо! Да, хорошенькой девочкой была дочка миссис Пруэтт, и как раз в самом расцвете. Черт! Ее груди, казалось, были задуманы самой природой для того, чтобы их так уютно обнимали мужские руки. Интересно, трехнедельная разлука смягчила ее сопротивление? Гарри решил, что в этом не может быть ни малейшего сомнения. Странная она, эта Анни Пруэтт, — не часто встретишь дочку хозяйки гостиницы, которая не просто вопит «Нет!», но и думает точно так же. Юный Морган, хотя его и раздражало упорное несогласие Анни, все-таки достаточно точно угадал причину, по которой она все еще не вышла замуж. Хотя вокруг кухонной двери «Ангела» всегда толпами увивались мускулистые и предприимчивые кожевенники, ковроделы и судовые мастера, всем им Анни дала от ворот поворот. Казалось, что она метит гораздо выше. Бедняжка, она считает, что уже нашла достойного кандидата — но свадебной фаты она не получит. Морган выехал из тени, которую давали старые дома, так нависшие над улицей, что их крыши почти сомкнулись. Он оказался на квадратной площади, где уже собирались темно-фиолетовые тени. Радуясь тому, что наконец-то кончилось долгое зимнее заточение, толпы оборванных детишек визжали и шумно копошились на открытом пространстве. Несмотря на упорно не покидавшее Моргана ощущение какой-то тяжести на душе, Бристоль выглядел совершенно безмятежно; повсюду нежная, только что появившаяся листва рисовала изящные узоры на фоне сгущавшихся сумерек. Конь время от времени настороженно поводил ушами при виде многочисленных тощих котов, которые шныряли по улицам в поисках лакомых кусочков в свежих помоях, стекавших по узенькой канавке, проложенной более или менее посередине улицы Редклифф. Высвободив ноги из стремян, Гарри Морган расслабился и потянулся. Вот удача, что в его распоряжении еще оставалась и светловолосая, белолицая Кларисса Мизей. Он улыбнулся надвигающейся тьме; если выбирать из двух, то ему больше нравился веселый характер Анни и ее здравый смысл, кроме того, не было ни малейшего сомнения, что Анни влюбилась в него по уши. Вдали блеснула белая вывеска «Ангела», залитая светом из двух аккуратно покрашенных и задрапированных занавесками окон. На вывеске был изображен пухлый херувим, снабженный парой светло-голубых крыльев и золотым горном, в который он трубил, раздувая щеки. «Чума возьми эту пыль; если ты весь в грязи, как собака то проявить себя галантным кавалером можно только с помощью серенады!» — подумал Морган. Всадник откинул назад голову, и на площади мягко зазвучал его густой баритон, отдававшийся эхом по всей улице Редклифф:Глава 2 ДОЧЬ МИШЕЛЯ МИЗЕЯ
— Господи, — задумалась Анни, наливая стакан пенящегося эля, — конечно, Гарри на редкость замечательный молодой джентльмен — отличная приманка для девушки, которая сможет сладить с его бурным характером, рыскающим взглядом и решительной манерой, с которой он атакует нас, бедных женщин. Свежие пунцовые губы Анни на мгновение сжались, и она уставилась на чистую салфетку в бело-голубую клетку, которую расстелила на подносе для мистера Моргана. — Черт его побери! Он такого плохого мнения о женских мозгах, что его не просто будет заставить выслушать меня — но он должен меня послушать, иначе не миновать ему самой высокой виселицы лорда-протектора *["366]. Если бы молодой валлиец не отсутствовал долгих три недели, то он и сам бы знал, что почти в каждой таверне и забегаловке в Бристоле шептались по углам о том, что в Лондоне старый проныра Оливер Кромвель готовил еще более свирепые репрессии. Число парламентариев, недовольных тем, как лорд-протектор и его новая армия управляют страной, становилось все больше. Особенное неудовольствие жителей вызывала почти не ограниченная власть на местах кромвелевских чиновников Флитвуда, Дезборо и Гезльрига *["367]. Анни уравновесила на подносе тяжелые глиняные тарелки и выскочила на двор «Ангела», чтобы сорвать цветущую яблоневую веточку и украсить ею салфетку. Вся красная и немного запыхавшаяся, Анни внесла поднос наверх по узким и очень скользким лестницам, а потом пронесла его по короткому коридору, в который выходило множество дверей. Она услышала веселое потрескивание огня, который молодой мистер Морган развел в своей комнате. Когда она постучала и вошла, то еще больше зарумянилась при виде его мокрых волос, с которых еще капала вода. — Добро пожаловать, трижды добро пожаловать, детка, — улыбнулся он и принялся развязывать шнурки, которыми была стянута простая, вся в заплатках, льняная рубашка. Побагровев до самых ушей, Анни поспешно смахнула со стола дорожный скарб и принялась расставлять тарелки с холодным мясом и пирогом с почками, горячим турнепсом и огромным стаканом эля. К удивлению Анни, он уже почти осушил до дна высокий бокал с коктейлем из рома, сахара и горячей воды, который ему пять минут назад принесла наверх мама. — Ты просто прелесть, дорогая. — Он насмешливо поклонился в ее сторону, но в его голосе прозвучали искренние нотки. В грубом сером корсаже и юбке, подобранной, чтобы была видна нижняя юбка в зеленую и лиловую полоску, Анни действительно выглядела очень миловидной. Широкий желтый воротник был застегнут брошью из изогнутой кости, в том месте, где у основания шеи билась нежная артерия. Материя платья превосходно обрисовывала выпуклость сзади, там, где кончался корсаж, и возвышения молодой груди. — Клянусь, ты стала еще прекрасней, Анни. Пойди сюда. — Он протянул руки и скользнул по полированному дубовому полу, чтобы сжать в объятьях свою добычу. Его темные глаза сверкали, и он расцеловал ее, а потом так крепко прижал к себе, что она запросила пощады. — О Анни, моя маленькая голубка. Я целую вечность ждал этого момента и страдал! — Его губы коснулись нежного изгиба ее шеи, и щетина на подбородке обожгла ее щеку. Она чуть слышно вздохнула, чувствуя, как вспыхнули ее шея и щеки. — Гарри, ты на самом деле скучал без своей Анни, которая так привязана к тебе? — Да! Это была настоящая пытка. — О, моя единственная любовь! — Она обхватила руками его крепкую, мускулистую шею и, задыхаясь от странной смеси мрачных предчувствий и радости, поцеловала его. Он снова прижал Анни к себе, так порывисто, что ее чепчик из накрахмаленного полотна упал на пол, и она даже не заметила этого в страстном порыве. Разве есть хоть одна девушка в Глочестершире, у которой был бы такой галантный и пылкий кавалер? Почувствовав, как его пальцы шарят под ее желтым воротником и по корсету, она тихо засмеялась и выскользнула из его объятий. Любая девушка, прислуживающая за столиками в трактире, просто вынуждена овладевать искусством уворачиваться от чрезмерно ретивых поклонников. — Как тебе не стыдно, Гарри! Ты слишком много себе позволяешь. — К черту, девочка, — выдохнул он, его глаза гневно сузились и приобрели почти свирепое выражение, — разве так встречают любимого, который с таким трудом вернулся после выполнения опасной миссии? — Пока что я его и так неплохо встретила, — настаивала Анни с пылающими щеками, она отступила назад и поспешно поправила широкий желтый воротник. — И нечего давить на меня. Этим ты ничего не выиграешь. — Она подняла чепчик с широкими крылышками и трясущимися руками водрузила его на законное место. Но в ее голосе зазвучали холодные и строгие нотки, когда она предупредила: — Не двигайся с места, Гарри, и я с удовольствием послушаю о твоих приключениях, пока ты будешь ужинать. Или я пойду помогать маме. Морган на мгновение замер на месте, по-мальчишески прикусив нижнюю губу и нахмурив тяжелые брови, но потом неожиданно поднял голову и рассмеялся. — Черт побери, дорогуша, я и не думал, что ты окажешься такой недотрогой. — Анни тоже рассмеялась над озадаченным выражением, с которым он это произнес, а потом проворно сняла салфетку и начала расставлять тарелки. Похоже, Гарри не привык, чтобы с ним так обращались, но ему это пойдет только на пользу. Все еще поджав губы, Морган пробежался пальцами по длинному ряду застежек куртки, застегнул их и закрепил кожаными завязками. — На этот раз пусть будет по-твоему, куколка. Да, между прочим. — Сунув ноги в низкие, подбитые серебром туфли, он быстро нагнулся к сумкам и вытащил оттуда пару удобных щипцов, довольно помятых, но зато сделанных из чистого серебра. — Лови! — Ой, Гарри, они такие милые — такие красивые и изящные. Мне… мне они нравятся! — Они послужат напоминанием, Анни, чтобы ты вспоминала обо мне, когда я уеду в следующий раз. Это остаток от сервиза, который принадлежал моей семье до того, как проклятые «круглоголовые» *["368] разорили нас. Она уставилась на него, и взгляд ее серо-зеленых глаз выразил сомнение. — Но они, наверное, очень дорогие. Тебе могут понадобиться… Морган фыркнул и уселся на трехногую табуретку перед поцарапанным дубовым столом, на котором дожидался его ужин. — Не беспокойся об этом. Морганы настолько обнищали, что подобная безделица их уже не спасет. С помощью кинжала с роговой рукояткой, который он всегда носил на поясе, Морган отрезал огромный кусок пирога, засунул его в рот и усиленно заработал челюстями. Потом он наколол на острие кинжала кусок говядины и заявил с неожиданной откровенностью: — Запомни, дорогуша, что это вовсе не значит, что Гарри Морган собирается всю жизнь оставаться нищим, никому не известным бродягой без клочка земли. Запомни хорошенько, Анни: через несколько лет вся Англия — если не весь мир — будут знать мое имя! Пальчики Анни все еще поглаживали блестящую серебристую поверхность щипцов, но вид у нее был озабоченный. — Но, Гарри, ты ведь еще так молод. — Ба! Ну и что? — фыркнул он с набитым ртом. — Я еще не встречал человека моего возраста, который мог бы скакать на коне или драться лучше меня. — Его голос раскатывался по маленькой спальне как звон стали. — Нет! Если есть Бог на небе и дьявол под землей, то ты скоро услышишь о Гарри Моргане, всесильном владельце поместий и титулов! — Сильными нетерпеливыми ударами он отсек кусок от буханки хлеба. — Нет, Анни, я не сошел с ума. Именно сейчас, в это мгновение готовятся великие события. Анни опустилась на плетеный стул и уставилась на огонь, механически разглаживая голубой хлопковый фартук, из-под которого виднелись темно-серая юбка и четыре нижних юбки. — Не понимаю, как ты можешь быть так… так уверен. Похоже, ты просто не понимаешь, сколько опасностей поджидает тебя на пути. — Опасности? Морганы из Лланримни всегда плевали на любую опасность. — Его челюсти, на которых упрямо пробивалась щетина, несмотря на то, что он недавно побрился, упорно перемалывали еду. — Возьми, например, моего предка, старого Тома из Лланримни; это был самый бесшабашный искатель приключений во всех Нижних землях, и удача улыбнулась ему. Или мой дядя Эдвард. До того, как ему пришлось бежать в Вестфалию, спасая свою шею от кромвелевской веревки, он был полковником кавалерии и сражался вместе с графом Кэббери во время восстания *["369]. — А что с ними стало потом? — Предок умер в своей постели, уже в годах, залитый славой и виски. Про дядю Эдварда никто ничего точно не знает; ходят слухи, что он живет и служит на острове Барбадос — вместе с моим двоюродным братом Бледри из Кармартена. — Твой дядя стал богатым — и его жизнь в безопасности? Морган потянулся было за элем, но его широкая ладонь замерла на полпути. — Вот это вряд ли! С тех пор как Кромвель — да сгниют его вонючие кишки — узурпировал трон, дядя Эдвард стал беднее попрошайки. Скорее всего он и кузен Бледри живут вместе и рады, что у них есть крыша над головой. Может, они оба уже умерли, я ведь точно не знаю. — Тогда им не так уж повезло… — Разрази меня гром! — неожиданно рявкнул Гарри. — Они считают, что такая судьба лучше, чем всю жизнь очинять перья в конторе какого-нибудь разжиревшего простолюдина или служить этому лицемерному убийце, вопящему свои псалмы, Оливеру Кромвелю. Анни побледнела и вскочила со стула. — Замолчи, глупый! Вон то окно открыто. — Она бросила испуганный взгляд на дверь спальни. — Ты что, хочешь нас всех отправить за решетку за такие разговоры? Внизу толпа посетителей — и многие из них за парламент. Молись Богу, Гарри, чтобы тебя никто не услышал. — Почувствовав, что он сейчас снова взорвется, она торопливо закрыла его рот ладошкой. — Ради всего святого — и ради тебя самого — держи язык за зубами. Она не успела вовремя отстраниться, и он ущипнул ее за бедро. — Может, ты и права, моя куколка. — Я не твоя куколка, и вообще ничья! — набросилась она на него, потирая место, за которое он ее ущипнул. Иногда Гарри просто невыносим! — И будь добр запомнить это. Но он уже снова был спокоен и показал ей на свой подарок. — Узнаешь рисунок, который выгравирован на ручке щипцов? Анни немедленно простила его и взяла в руки щипцы. — Он напоминает маленького дракона; по-моему, он похож на изображение на твоем перстне с печаткой? — Вот именно. — Морган запил остатки жаркого и пирога с почками огромным глотком эля. — Кавалер ордена Подвязки его величества назвал бы этого дракончика «грифоном». — Он согнул мизинец, чтобы пламя свечи осветило плоскую поверхность перстня. — Видишь, у этого маленького чудища крылья подняты как будто для полета, поэтому специалисты в геральдике назвали его «взлетающий грифон». В Брекноке, Кармартене и Глеморганшире можно найти много грифонов на всевозможных гербах. Только расправившись с последним куском пирога, Морган повернулся к турнепсу. — Эти чертовы корни совершенно безвкусные; поэтому, Анни, дорогая, давай-ка улучшим их вкус с помощью горячей воды и превосходного барбадосского рома твоей замечательной матушки. Анни заколебалась и произнесла, запинаясь: — Мне… Мне бы очень хотелось, Гарри, но м-мама велела не давать тебе больше спиртного, пока… — Она вспыхнула. — В конце концов, ты задолжал нам вовсе не пустячную сумму. Он отмахнулся от ее возражений. — Будь так любезна и сообщи мадам Пруэтт, что завтра я оплачу все счета до последнего цента. — Заметив ее недоверчивый взгляд, он добавил: — Я встречаюсь с друзьями, которые должны мне несколько фунтов. Анни улыбнулась. Взгляните-ка! Разве он не красавец, особенно когда сидит вот так у огня и его непокорные каштановые пряди волос падают на шею. — Но мам все-таки велела… ах, бедняжка, дорогой мой, я попробую незаметно принести тебе немного рома. Как только башмачки Анни застучали вниз по лестнице, он полез в карман мешковатых коричневых штанов за запиской, на которую Анни так ревниво смотрела. Когда он расправил бумажку перед единственным оловянным подсвечником, то от его пальцев на бумаге остались жирные следы. С чего бы это дочке старого богача Мишеля Мизея писать ему записки? «Дорогой Гарри! Как только вернешься, пожалуйста, окажи мне честь и приходи с визитом. Только тебе могу я сообщить важные и хорошие новости, поэтому никому об этом не говори. Спешу увидеть тебя, Кларисса». Морган задумчиво изучил записку и оперся на руку. Хотя он и сам не был силен в грамоте, он все-таки обратил внимание на корявый почерк Клариссы и был почти рад тому, что она сделала так много ошибок. Внимательнее приглядевшись к записке, он заметил под ее подписью три едва заметных буквы «ц». Гм-м-м. Она меня трижды целует. Морган ухмыльнулся и легонько хлопнул себя по колену. Значит, манящая полуулыбка Клариссы и ее откровенный взгляд действительно значили именно то, на что он и надеялся. Просто загадка, как это Мишелю Мизею, кожевеннику, исполняющему обязанности начальника таможни города Бристоля, удалось произвести на свет такое восхитительное белокурое и белокожее создание. Этот таможенник на службе у Кромвеля был настолько толстым, что напоминал скорее откормленного хряка, которому вздумалось прогуляться на задних лапах, чем человека; эффект еще больше усиливался тройным подбородком, полнейшим отсутствием шеи и красновато-серыми космами, которые падали на огромные, заплывшие жиром плечи. Сейчас Морган уже знал, что отец Клариссы владел значительным состоянием, которое он добыл, отправляя необработанные и обработанные кожи в Данию и Швецию. Только неутоленное честолюбие могло заставить его пойти на риск, причем риск смертельный, в обмен на… что? Звание рыцаря, без всякого сомнения, и, конечно, немалое вознаграждение, которое он получит, когда Карл Стюарт благополучно воссядет на трон во дворце Уайтхолл. Как только Морган услышал шаги Анни в коридоре, он в клочки разорвал записку Клариссы и бросился к двери с воплем: — Слава Богу, радость моя! Я умираю от жажды. Резкий аромат рома и лимонной кожуры разнесся по комнате, Морган отпил большой глоток и уселся перед огнем облизывая губы. — Иди сюда, Анни, садись ко мне на колени. — С удовольствием, а ты обещаешь вести себя хорошо? — Она сама удивилась, с какой радостью бросилась к нему. — Не рассуждай, а иди сюда — будь хорошей девочкой. — Нет, Гарри, и вот почему. — Она поджала розовые губки. — О чем ты? — Я действительно хорошая девочка и такой и останусь — пока мне не предложат хорошее имя в обмен на мою девственность. — Ну вот! Она все высказала, раз уж он не понимает по-другому. — Ты слишком загордилась! — взорвался он. — С каких это пор прислуга в трактирах так много о себе понимает? Неуловимо быстрым движением молодой Морган обхватил ее за талию. Анни откинулась назад так, что ее зеленая и красная нижние юбки взвились вихрем, и яростно замолотила кулачками по его лицу, но все было напрасно. Тогда она вцепилась ему в волосы. — Оставь меня! — выдохнула она. — Я… Я позову на помощь! — Давай! Кричи сколько влезет. Стража не станет обращать внимания на трактирные вопли. — О, Господи, помоги мне, — простонала Анни. — О, Гарри, я же хотела как лучше. Его стальные объятья разжались так неожиданно, что она чуть не свалилась на пол. Анни поправила юбки и словно в тумане смотрела, как он стоял возле стола, грозно нахмурив брови и зализывая длинную красную царапину на запястье. — Ах ты, аристократ! — крикнула она. — Все вы просто дураки — гордые, слепые дурни. Знаешь, что ты теперь будешь делать? — Что? — Напомадишь волосы, приведешь себя в порядок и отправишься искать счастья в кровати дочери Мишеля Мизея. Отлично. Конечно, мужчины должны получить свое удовольствие, но, Гарри… — С отчаянной улыбкой на лице она закончила: — Ты бы лучше держал язык за зубами под крышей дома мистера Мизея! Морган рассмеялся, но в его смехе не было ни следа веселья. — Значит, ты хочешь настроить меня против отца Клариссы? Господи! Есть ли предел выдумкам ревнивой женщины? — Несмотря на обуревавшую его злость, он понизил голос. — Между прочим, Мишель Мизей один из нас, а это значит, моя бесценная маленькая девственница, что ты промахнулась со своей ревностью! — Нет, нет! Гарри, ради Бога, послушай меня. Пожалуйста, послушай. Я говорю это не из-за ревности. — Анни забыла об осторожности и снова подошла к нему. — Весь Бристоль знает, что Мишель Мизей заработал состояние на контрабанде, и он всегда обманывал своих партнеров, когда торговал вином. — Теперь она была очень бледна. — Спроси у мамы. Она знает — она тоже торговала вином пятнадцать лет назад — она и папа, когда он был еще жив. Если на Моргана и произвел впечатление ее порыв, то виду он не подал. — Ба! Болтай сколько хочешь, куколка, но я не собираюсь обращать внимания на лживые слухи, которые разносят по городу торговцы. — Морган отшвырнул прочь туфли и сел, чтобы натянуть все те же поношенные сапоги, которые он с такой радостью скинул пару часов назад. По красным щекам Анни полились слезы. — О Гарри, к-как ты можешь быть таким жестоким? Р-разве ты не веришь, что я… я действительно люблю тебя всем сердцем? Не глядя в ее сторону, он хмыкнул. — Нет, и провались пропадом твоя мораль ревнивой судомойки. Анни, тихо всхлипывая, начала собирать тарелки. — Я не ревную, но я хочу предупредить тебя, что мистер Мизей действительно скользкий тип. Д-два года тому назад он донес на мистера К-Клиффорда, что он контрабандой провозит кожу, и это после того, как содрал с него взятку. — Ерунда! Откуда ты выкопала эту ложь? Лорд Рочестер заявляет, что Мишель Мизей — честный человек. И потом, майор, занимающийся вооружением, и мистер Стивенс доверяют ему; и мистер Пайл тоже. Анна покрасневшими от работы руками поправила мягкие каштановые кудри, которые падали ей на уши. Слезы капали на ее бледно-желтый воротник, оставляя на нем темные неровные полоски. — Ради всего святого, держи язык за зубами, Гарри. Не называй никаких имен ни мне, ни кому-нибудь еще здесь в «Ангеле». Озадаченный, он бросил на нее подозрительный взгляд. — Ради Бога, разве ты не поклялась, и не один раз, что ты и твоя мать за короля? — Да, — Анни мигнула и взялась за поднос, — но если ты проговоришься — мы будем отрицать это, и я, и мама. — Хотя это было глупо, но Анни не смогла удержаться от язвительного замечания: — Ты круглый дурак, если веришь хоть одному слову мистера Мизея, но ты будешь еще большим дураком, если хоть на секунду поверишь этой ухмыляющейся, размалеванной кукле с соломенными волосами, которая называет себя его дочерью. Пристегивая короткий меч с широким лезвием, удобный, но неказистый на вид из-за потрепанных ножен из свиной кожи, Морган зло фыркнул: — Ревность не идет тебе на пользу, цветочек. Если Кларисса лучше воспитана, чем ты, это еще не повод чернить ее в моих глазах. — К нему вернулось обычное чувство юмора, и на губах вновь появилась усмешка. — Давай остановимся на том, что, если Мишель Мизей хорош для лорда Рочестера и майора-оружейника, то и ваш покорный слуга Гарри Морган вполне может доверять ему. — Тарелки тихо зазвенели, когда он сделал в сторону маленькой печальной фигурки Анни прощальный реверанс и послал ей воздушный поцелуй. — Раз сквайр Морган из Лланримни недостаточно хорош для твоей постели, он желает тебе спокойной ночи! Даже не подумав закрыть дверь, он пронесся по коридору навстречу голосам в общей зале. Но даже на лестнице он все еще слышал звуки тихих, приглушенных рыданий.Глава 3 КЛАРИССА
— Неплохая эта последняя партия мадеры, совсем неплохая, — размышлял Мишель Мизей, причмокивая губами над рюмкой, только что поданной ему кривоногим Соломоном, его слугой. При взгляде на миниатюрную фигурку его единственной дочери, оставшейся без матери, блеклые серые глазки кожевенника сузились. Возле высокого, закопченного камина сидела Кларисса в изящной позе ивышивала узелками в пяльцах. Он поставил рюмку и подумал: «Жаль, что Риссе чуть-чуть не хватает мозгов — а то какой неоценимой поддержкой для своего старого папочки могла бы она стать в это сложное время. Нередко умная и привлекательная девушка может добиться большего, чем самый достойный мужчина». Кларисса была достаточно привлекательна, слава Богу, судя по похотливым взглядам, которые на нее бросали на улицах. Никто не мог отрицать, что одной улыбки алых губ Клариссы было достаточно, чтобы свести с ума и святого, будь он даже высечен из гранита. Потягивая подогретую мадеру, Мишель Мизей оценивающе окинул взглядом стройную фигурку Клариссы, ее крохотные ножки, вьющиеся белокурые волосы и большие небесно-голубые глаза; при наличии умелого руководителя такое сокровище принесет девушке не только богатство, но и титул, к которому она стремилась лишь немногим меньше, чем он сам. В тысячный раз Мишель Мизей задумался над тем, действительно ли это юное создание. — плод его чресл. В конце концов, у Нанни Давенпорт были и другие «покровители» до того дня, как в припадке необъяснимой слабости он женился на этой шлюшке и немедленно пожалел об этом. Господи, сегодня Рисса выглядела чертовски привлекательно. Золотистые волосы собраны в аккуратный пучок у основания изящной шеи. Ряд туго завитых кудрей падал на белоснежный лоб, с обеих сторон которого спускались более длинные локоны. Они были завязаны аккуратными желтыми бантиками и спускались до самых выпуклостей изящной груди, которая по благородной моде была сильно обнажена и виднелась в широком вырезе платья. Кларисса, сосредоточенно сжав яркие губы, продолжала трудиться над пяльцами, маленькая, стройная фигурка, которую еще более красили тонкие запястья и лодыжки. Может, у нее на лице слишком много пудры и помады для девушки, претендующей на девятнадцать лет, но которая на самом деле на четыре года старше? Может, ее голубое шелковое платье с оборками из настоящего мехлинского кружева на рукавах и по подолу слишком вычурное? Нужно ли было украшать помпонами ее туфельки из белого сатина с красными каблучками? Не важно. Если дела пойдут так, как он наметил, у Клариссы будет дюжина таких платьев и достаточно настоящих драгоценностей. Кожевенник задумчиво прищурил выцветшие глазки, перевел дыхание и произнес: — Значит, мой юный друг Морган нравится тебе? Иголка замерла в воздухе, Кларисса подняла голову и бегло кивнула головой. — Чуточку, но, папа, он такой храбрый. — Черт побери, девочка! Разве я не объяснял тебе сотню раз чтобы ты не звала меня «папа»? — резко поправил ее Мизей — Даже когда мы одни, ты должна называть меня «отец». Старайся говорить как благородные. Кларисса надула маленькие яркие губки. — И не дуйся. А то на лице появятся морщины. — Мизей с трудом поднял свое огромное, неуклюжее тело. — Я спросил тебя — что насчет молодого Моргана? Она улыбнулась отцу. — Ну, он мне нравится. Я все написала так, как ты сказал, отец. — Она отложила иголку и выпрямилась. — Ты должна быть очень любезна и очаровать этого молодого джентльмена из Глеморганшира. — Это будет просто. Он мне действительно нравится, — лениво промолвила Кларисса, наполовину прикрыв ясные голубые, действительно красивые, окаймленные длинными ресницами глаза. — Могу поклясться, отец, что Гарри Морган — самый видный из всех знакомых молодых людей. Да! В его широко расставленных серых глазах, самоуверенном взгляде и независимой походке есть что-то неотразимое. Мизей немного удивленно взглянул на дочь и поднял руку. — Ты, похоже, без ума от этого отпрыска благородной семьи, но избавь меня хотя бы от твоих выдумок. — Выдумок? Как тебе не стыдно, папа. Когда Гарри уехал, он снился мне почти каждую ночь. — Вздор! — фыркнул кожевенник и бросил на дочь острый, пронзительный взгляд. — Полагаю, ты будешь рада выйти за него замуж — или за кого-нибудь вроде него? Кларисса просияла. — Конечно. Гарри такой храбрый и… и вежливый. Он… он… — Да, я знаю, знаю. Он родом из старой валлийской семьи йоменов *["370], — Произнес Мизей. — Его отец — Роберт Морган, эсквайр *["371] из Лланримни, он настолько знатен, что имеет право носить кольцо с печаткой. — Он остановился, чтобы раскурить коротенькую глиняную трубку. — Все это важно; все это нужно учесть. Как только король вернется, то я готов отдать руку на отсечение, что Морганы получат собственность и высокое общественное положение. Они все до одного горячие роялисты и много пострадали от этого. На мучнисто-сером, похожем на пудинг, лице Мизея застыло малопривлекательное выражение. — Ты, конечно, понимаешь, Рисса, кем люди вроде молодого Моргана считают кожевенника и его дочь? Мелкими сошками. Если ты хочешь завоевать этого юного красавчика джентльмена, тебе надо действовать тонко и осторожно. Во-первых, — Мизей поднял похожий на сосиску палец, — ты должна знать, что он участвует в… ну, в попытке восстановить монархию. Кларисса радостно улыбнулась и захлопала в ладоши. — Ой, как романтично! Дорогой король Карл! Как здорово будет, когда нами снова будет править король. — Ба! Ты ведь не помнишь, как это было. Кроме того, Карл Стюарт еще не воссел на своем троне — и это будет не скоро. — Мизей громко рыгнул, потому что поторопился проглотить свое вино. — А теперь слушай хорошенько: восстановление королей на троне — это опасное дело, поэтому, цыпочка, я хотел бы, чтобы ты вытащила из твоего друга Гарри все, что сможешь. Он понизил голос и взглянул в кукольное личико своей прелестной дочери. — Информация сейчас ценится на вес золота и бриллиантов, поэтому ты не должна останавливаться ни перед чем — ни перед чем, понимаешь? — чтобы заставить его говорить. И ради Бога, не строй из себя скромницу! Я готов поклясться, что ты забавлялась в постели по крайней мере с тремя парнями, которых я могу назвать по именам. — Папа! — Щеки Клариссы вспыхнули. — Спокойно. Я не сержусь на тебя за отсутствие такой непрочной и никчемной вещи, как девственность, — чем девушка лучше, тем скорее она ее теряет. — Слегка ухмыляясь, он расстегнул блестящие серебряные пуговицы на очень длинном сюртуке в черную и красную полоску. — Хватит об этом. Делай, как я скажу, Рисса, и ты так приберешь к рукам Моргана и все его делишки, что он никогда в жизни не посмеет отказаться от свадьбы. Он внимательно следил за выражением лица дочери, надеясь разглядеть хоть малейший намек на то, что она поняла и его невысказанные желания. Нет. Ей не хватало глубины мысли. Ее голубые глаза смотрели мечтательно и безмятежно. — Самое главное, — подчеркнул Мизей, — узнай о его друзьях и связях. Попытайся расспросить где он был и кого видел в свою последнюю поездку. Мои кошелек в твоем распоряжении — как я понимаю он очень любит ликеры. Когда Гарри появится, позови Соломона, чтобы он приготовил любой напиток, какой тот захочет. Грациозным движением девушка нагнулась, перевязала подвязку из белой фланели и разгладила красные шелковые чулки. — Папа, ты правда считаешь, что Гарри на мне женится? — Конечно. Но давай сначала убедимся, что он тебе подходит. Теперь ты понимаешь, почему я хочу обо всем знать? — Сопя и переваливаясь, он подошел, чтобы потрепать дочку по сияющей головке. — Всегда прислушивайся к моему мнению, Рисса, и скоро на твоем платочке появится герб. Я всегда забочусь о твоих интересах. — Но, папа, а если Гарри обнаружит, что я не… — Кларисса нерешительно хихикнула, — ну, не совсем невинна? Мизей снова улыбнулся своей застывшей улыбкой. — Могу тебе поручиться, что это открытие его не расстроит. Нужно только убедить его, что он — первый, кому ты отдала свое сердце. Понятно? Губы Клариссы приоткрылись в медленной улыбке, и стали видны ровные, мелкие зубы. Она остановила на отце взгляд действительно прелестных голубых глаз. — О папа, как ты думаешь, когда появится Гарри? Мизей послюнявил палец и безрезультатно попытался стереть с рубашки пятно от соуса. — Скорее всего, сегодня. Он возвращается в город и найдет твою записку. Помни, что в наших… э… в твоих интересах выведать у него, что он собирается делать и кого видел. А теперь, Бога ради, иди и соскреби со щек эту краску. Моя дочь не должна походить на дорогую лондонскую шлюху. Едва девушка убежала наверх, как по пустынной улице Болдвин раздался звук тяжелых шагов и громкий голос запел:Глава 4 «…ЗАВТРА В БОЙ»
Громкий и неразборчивый гул голосов, подогретых крепким сидром, элем и ромом, эхом отдавался в длинной, дурно пахнущей общей зале таверны «Роза». В маленькой комнатушке недалеко от широкой и грязной лестницы на мгновение стало тихо, потому что туда только что вошел молодой Морган в сопровождении того самого уличного торговца. В глубине души он чувствовал себя словно зеленый юнец, несмотря на свою похвальбу перед Анни и Клариссой, поэтому, прищурившись от неожиданно яркого света свечей, он изо всех сил пытался скрыть чувство охватившего его и все возраставшего возбуждения и восторга. Твердо, решительно и по-военному, как дядя Эдвард, он поклонился лорду Рочестеру, который ответил на его вежливый поклон простым кивком головы в огромном черном парике и бросил на него угрюмый взгляд темных карих глаз; потом он приветствовал убеленного сединами, но все еще красивого старого мистера Стивенса, а потом — тощего майора-оружейника с веснушчатым лицом. Последним он кивнул, немного снисходительно, отцу Клариссы. Как только сержант кавалерии с лицом хорька закрыл за ним дверь, Морган вновь обрел чувство собственного достоинства, а также способность смотреть на своих товарищей по заговору как на равных. Он был, по крайней мере на тринадцать лет, моложе всех присутствующих. Да, наверное, так, стоило только взглянуть на орлиные черты майора или на неуклюжего и чудовищно растолстевшего мистера Мизея, который покрывался потом и чувствовал себя совершенно не в своей тарелке. Из всех присутствующих только мистер Стивенс был ему хорошо знаком. Ха! Он почувствовал себя лучше при виде входящего Джеффри Йоменса, высокого парня, который, казалось, не шел, а летел на крыльях. На нем была новая кожаная куртка тускло-зеленого цвета, коричневые мешковатые штаны и темно-красный жилет. Он прибыл из Виквара, что к северу от Глочестершира. — Приветствуем тебя, сквайр Морган. Я сражался вместе с твоим дядей Эдвардом в Польше. — Стивенс улыбнулся, а потом спросил, понизив голос: — Ты и твой проводник уверены, что за вами не следили? — Да, сэр, — крепкие белые зубы Моргана блеснули в короткой усмешке, — хотя на улицах сегодня слишком много парламентских драгун. Поднялся майор-оружейник; он напоминал тощего, но сильного и злого на вид орла. Несмотря на маленький рост, его сразу можно было заметить по настоящему дорогому костюму, сейчас уже изрядно поношенному. Он был одет в куртку и штаны из бледно-красного вельвета. Из соседней комнаты неслышными шагами вышел молодой офицер. — Это лейтенант Бучер из гарнизона бристольского замка; мистер Генри Морган из Лланримни. При желтовато-красном свете свечей Мишель Мизей наблюдал, как эти двое пожали друг другу руки. Они были, прикинул кожевенник, примерно одного возраста; Бучер, скорее всего, немного старше, чуточку выше и изящнее, но у него не было такой мощи в движениях и таких широких плечей, как у молодого валлийца, воздыхателя Клариссы. Мизей решил, что пришло время привлечь внимание к его собственной особе. — Я тоже заметил, что городской гарнизон сегодня больше обычного. Будем надеяться, что все мы приняли меры предосторожности, когда шли в эту таверну. Лорд Рочестер резко поднял налившиеся кровью глаза от кипы документов, которые лежали перед ним. Его пальцы отбили раздраженную дробь по грубому, исцарапанному столу, и он зло протянул: — Если вы так цените себя, мессир Мизей, то мы позволяем вам удалиться. Здесь не место для тех, кто робок сердцем. Туша кожевенника заколыхалась как желе, бледные и жирные щеки вспыхнули. — Молю вас о прощении, милорд. Вряд ли у кого-нибудь найдется больше храбрости, чем у меня, только… — Только что? Говори же, не стесняйся! — Только то, что, когда я вышел из дома, чтобы направиться сюда, один из моих подчиненных сообщил мне, что несколько гарнизонов в окрестностях Бристоля сегодня получили сильное подкрепление. Эта информация показалась мне важной, вот и все, милорд. Морган кивнул. — Да, сэр, и вчера на дороге к городу я встретил почти эскадрон кавалерии, который направлялся в Бристоль. — Хватит! Вас напугали обычные маневры, — резко перебил его Рочестер и изо всех сил хлопнул по бумагам на столе. — Святый Боже, мистер Стивенс! Как вы позволяете, чтобы мне мешали работать перепуганная сальная бочка и выскочка-переросток, от которого несет валлийскими болотами? Назвать Генри Моргана «валлийским выскочкой»? Выпуклые глаза Моргана вспыхнули, он подобрался и, схватившись за кинжал, стал подниматься со своего места. Мишель Мизей с одной стороны и Йомене с другой вовремя схватили его за пояс и усадили на место, но они не могли притушить яростные взгляды, которые юный валлиец бросал на элегантную фигуру в длинном завитом парике, ярко-оранжевых штанах и модной двойке зеленого цвета. С каким удовольствием Морган вцепился бы в шею этого жалкого аристократа там, где сборчатый кружевной воротник подпирал квадратный, до синевы выбритый подбородок лорда. Поджав тонкие губы, лорд Рочестер ответил на его свирепый взгляд и еще почти целую минуту молча рассматривал его, потом пожал плечами с невыразимым презрением и отвернулся. — Итак, оружейный мастер, давайте послушаем отчеты об их, без всякого сомнения, доблестных делах. — Насмешка была едва заметна, но все же она достигла цели. — Нам с вами, мистер Стивенс, еще надо принять множество важных решений. Морган все еще дулся, а Йомене и Бучер смирно сидели на своих местах. Мишель Мизей уже давно привык к подобным уколам от благородных лордов, поэтому он только улыбнулся почтительной бесцветной улыбкой и приготовился внимать текущим делам. В глубине души он чувствовал, что майор Николас, оружейник, старый солдат, не слишком-то одобрял излишнюю грубость лорда Рочестера по отношению к младшим участникам заговора. Мистер Дэвид Стивенс глубоко погрузился в чтение бумаг, которые ему предоставили Иомене, Бучер и Морган. — Гм, — произнес он и коротко огляделся. — Гм. Вы все хорошо потрудились при наборе рекрутов, джентльмены, а вы, мистер Морган, особенно. Я и не надеялся найти такую горячую поддержку в разграбленной и разоренной глубинке. Заговорщики сгрудились вокруг поцарапанного стола, который освещали четыре вонючие свечи из говяжьего сала, едва-едва дающие слабый оранжеватый свет. Морган заметил, что в комнате также сильно пахло немытой шерстью, пропотевшей кожей и крепким элем. Секретарь извлек из портфеля тусклой французской кожи переносную оловянную чернильницу, стальной пенал для перьев и несколько листов бумаги. Мистер Стивенс начал говорить, одновременно зачищая ножичком острие пера. — Милорд, похоже, что в этот раз у нас есть куда более великолепный шанс обрести удачу в деле его величества. То, что король Карл Второй объявил амнистию всем, кто восстал против его отца, за исключением действительных цареубийц, дало замечательные результаты. Еще лучше то, что старой лицемерной дружбе между Испанией и Кромвелем приходит конец. Адмирал Пенн и генерал Венейблз вышвырнули испанцев с Ямайки… — А где это, Ямайка? — резко спросил Рочестер. — Будь я проклят, если знаю, где это. Морган тоже был в недоумении. Стивенс объяснил: — Ну, милорд, это остров где-то у берегов Америки, как мне кажется, но для нас важно не это. Дело в том, что война с Испанией разгорается все сильнее с каждым месяцем. — Парламент, как я уже сказал, возражает против этого. Я просто не могу вам изобразить, как отчаянно индепенденты *["372], которых иногда называют радикалами, презирают более скромных пресвитерианцев, а левеллеры и гранды ненавидят их всех. Таким образом, недовольство внутри парламента возрастает с каждым днем. — Мистер Стивенс выбрал и показал всем небольшой пакет с документами. — Эти письма были недавно получены из Брюгге в Нидерландах, и в них говорится, что за Ла-Маншем все готово к возвращению его величества. Нежное кружево на запястьях лорда Рочестера блеснуло, когда он неожиданно наклонился вперед, все лицо у него напряглось, не осталось и следа былой вялой и безвольной манеры держаться. — Послушайте хорошенько. Я привез вам крайне секретную информацию. Вот новость, которая ободрит всех ваших рекрутов и сторонников. Морган не упустил свой шанс и резко вмешался: — Моих людей не надо подбадривать в борьбе за своего короля. — К черту, сэр! Вы что, не можете сидеть спокойно? -огрызнулся Рочестер. — Если мне хочется высказать такие чувства — нет, милорд, — ясно и без стеснения ответил юный валлиец. В глазах у него запрыгали злые огоньки, когда он добавил: -Вы можете продолжать, лорд Рочестер. — Пожалуйста, продолжайте, — поспешно вмешался мистер Стивенс. — А вы, мистер Морган, придержите язык. У нас мало времени, а вы, младшие участники, еще должны будете отчитаться. Рочестер поколебался, пожал плечами, затем рывком одернул великолепное голландское кружево на запястьях. — Хорошо, вы все должны знать, что в течение недели почти шесть тысяч человек восстанут… — Вы хотите сказать, на следующей неделе? — тихо переспросил Мизей. Морган ухмыльнулся. — Да, но, черт побери, помолчи, когда говорят избранные. Рочестер понизил голос до хриплого шепота, и все наклонили к нему головы. — Вам будет оказана честь, джентльмены, потому что знамя восстания впервые будет поднято здесь, в Бристоле, а потом в Глочестере! Кровь закипела в жилах Моргана от возбуждения. Наконец-то! Наконец-то! Через неделю королевское знамя взовьется над бристольским замком, засверкает сталь, и конница понесется по улицам с кличем: «Да здравствует король!» Но что еще говорит Рочестер? — Мистер Йомене, зачитайте ваш отчет и помните, что ваши списки должны быть точными, а подсчеты — аккуратными. Отчет молодого северянина из Глочестершира был составлен в точной, краткой и чисто военной манере. Он набрал столько-то пеших солдат, которые соберутся около Виквара, еще столько-то в Беркли, а столько-то всадников и боевых лошадей дожидаются в Дарсли. — Превосходно! Превосходно! — Наконец-то майор выглядел не таким сумрачным, как обычно; у него был почти довольный вид. Следующим поднялся лейтенант Бучер и подробно описал нынешнее состояние дел и силы бристольского гарнизона; он рассказал, какие его части представляют угрозу, а какие — нет. Все это время перо мистера Стивенса летало по бумаге, а Гарри Морган слушал и запоминал. Черт побери! В сравнении с ними его собственный вклад казался просто пустячным. И почему только он был так доволен собой? Как он осмелился так пышно распускать перья перед Клариссой и Анни? В какое сравнение могли идти два десятка наполовину вооруженных всадников по сравнению с целыми отрядами вооруженных с ног до головы драгун Йоменса, которых пехота лорда-протектора боится только чуть меньше, чем самого сатану? В конце концов он отбросил прочь самокритичность и огляделся, чтобы узнать, какой эффект произвели эти замечательные сообщения на его товарищей по заговору. Мистер Мизей, как он заметил, внимательно слушал говорящего, на его бесформенных, расплывшихся чертах застыло восхищенное выражение. Тяжелые кудри парика лорда Рочестера взметнулись, когда он повернулся и процедил: — А теперь уступим место нашему словоохотливому юному другу, эсквайру Моргану. По вашему поведению, сэр, я заключаю, что вы собрали по меньшей мере кавалерийский полк на дело его величества? Пожалуйста, дайте нам полный отчет. Отчаянным усилием воли борясь со своим вспыльчивым характером, Морган слегка поклонился. — Вы оказываете мне слишком большую честь, милорд. Тем не менее пятнадцать хорошо вооруженных всадников встретятся в Понтипридце, еще пять в Абедюре, десять в… Внизу раздался громкий шум, эхом отдавшийся в комнате. Весь красный и чувствовавший себя на редкость неуютно, Морган собрался повысить голос, но мистер Стивенс неожиданно вздрогнул и поднял сухую желтую руку. Со смутным тяжелым предчувствием Морган замолчал, прислушиваясь к доносившемуся шуму голосов — внизу разгорался не на шутку бурный спор. Он не отрываясь смотрел на тонкие и бледные черты изящного лица мистера Стивенса — специального доверенного агента его величества в Бристоле. Шум, похоже, пошел на убыль, когда по лестнице застучали торопливые шаги, замерли перед дверью комнаты, в которой происходило совещание, а потом в дверь раздалось три удара, а немного погодя еще два. — Матерь Божья! — прошептал Рочестер, с его лица мигом исчезли все краски. — Что это значит? Одним мгновенным движением руки мистер Стивенс смахнул документы обратно в портфель, потом он извлек оттуда и поставил на взвод короткоствольный карманный пистолет. Серебристый ствол оружия холодно сверкнул в неярком свете, который отражался также от лезвий ножей, кинжалов и другого оружия. Все заговорщики молча замерли на своих местах, глядя на майора, который обнажил длинную кавалерийскую саблю и подошел к двери. Странным голосом, совершенно без интонаций, он спросил: — В чем дело, Питер? — Только что прибыло срочное послание от мистера Вайлдмена, — приглушенным шепотом ответил голос. — Требуется ваше немедленное присутствие, а также мистера Стивенса и… и гостей его дома. Морган вскочил на ноги. Вайлдмен, как ему было известно, псевдоним генерала Джорджа Монка. — Очень хорошо. Мы сейчас идем. — Молю о прощении, джентльмены. Пожалуйста, уделите мне всего несколько минут, — взмолился Мизей, когда мистер Стивенс поспешил к вешалкам и снял серый с алой подкладкой плащ. — Прошу вас не уходить. Чтобы накормить армию, нужны деньги. Мой отчет, сэр… — Дьявол тебя забери вместе с твоим отчетом, — оборвал его Рочестер, его тонкие ноздри задрожали. — Представишь его завтра. — Но, милорд, это важнейшее дело. Пергаментно тонкие черты лица мистера Стивенса дернулись. — Без сомнения, мистер Мизей, но наше дело не терпит отлагательств. — Я прошу вас уделить мне пятнадцать — нет, десять коротких минут, джентльмены, — в отчаянии настаивал Мизей. — Речь идет о тысячах фунтов, которые так нужны нашему делу. — Вы слышали, что сказал его светлость, поэтому успокойтесь, — зарычал майор. — Мы уходим. Морган тоже поднялся и собрался забрать свой лист из пачки в центре стола. Но Дэвид Стивенс покачал головой. — Нет, оставьте. Мистер Йомене, вы выслушаете до конца отчет эсквайра Моргана, а потом возьмете на заметку то, что хочет сообщить мистер Мизей. Позже я пришлю вам инструкции на будущее. — Ради Всевышнего! Идем, — настаивал Рочестер. — Я жду не дождусь услышать донесение от мистера Вайлдмена. Возможно, армия ближе к восстанию, чем мы думали. Отойдите! — Но… но, милорд, — Мизей отскочил в сторону, чтобы дать дорогу, и замахал пухлыми руками, — если вы задержитесь на минуточку, это, конечно, не окажет влияния… — Черт! Делайте, как вам приказано! — Голос майора прорезал воздух словно лезвие меча. Морган почти физически ощущал презрение, которое испытывал старый вояка к этому похожему на желе торговцу. Но отца Клариссы нельзя было так просто выбить из колеи — качество, которое, без сомнения, помогло ему заработать свое состояние. — Тогда, благородные сэры, не можете ли вы оказать мне честь и позволить сопровождать… — Холера тебя забери, самовлюбленная собака! -Вышитой перчаткой зеленой кожи лорд Рочестер резко ударил кожевенника и главного сборщика таможенной пошлины по губам; потом в сопровождении майора и Стивенса он протолкнулся к двери и исчез в коридоре. Как только дверь захлопнулась, Мизей повернулся и, потирая шрам на щеке, разразился грязными ругательствами. — Сейчас Рочестер может пыжиться как ему угодно, но завтра эта надутая жаба увидит… — Да ты действительно грубиян. — Бучер бросил на Мизея такой разгневанный взгляд, что тот замолчал на полуслове, а потом отер тыльной стороной руки пот, струившийся по серому лицу. — Не очень-то приятно, когда отвергают твои усилия, которые были связаны с многими опасностями, но делать нечего. — Мизей горько усмехнулся, потом прошелся по комнате, покрывавшая пол сухая солома зашуршала у него под ногами, он уже готов был плюхнуться своим громадным телом в кресло во главе стола, но Йомене, загорелый, белокурый и надменный, занял его раньше. Мистер Йомене вздохнул, положил свой меч на колено и изобразил на веснушчатом лице внимание. — Если бы вы служили в армии, мистер Мизей, вы бы понимали, что подчиненным лучше всего знать не больше, чем требуется для выполнения их прямых обязанностей. Давайте продолжим. Морган почувствовал, что ему действительно нравится этот высокий, загорелый парень; казалось, что в седле и в бою он будет чувствовать себя как дома. Йомене произнес: — Мистер Мизей, я полагаю, вы лучше обращаетесь с пером, чем я. Может, вы будете записывать? Звон колокола на часах Темпл-стрит напомнил о том, что уже без четверти девять, когда мистер Мизей, все еще недовольно бурча, взял оставленное мистером Стивенсом перо и лист, который протянул ему лейтенант Бучер, и внимательно изучил документ. — Значит, вы уверены, сэр, что эти офицеры и солдаты из городского гарнизона перейдут на нашу сторону, когда мы дадим сигнал? — Да, — кивнул Бучер — у него все еще был недовольный вид. — Я бы доверил им свою жизнь, что я, собственно, и собираюсь сделать. Почему Гарри Моргану вдруг пришла в голову мысль сделать вид, что ему надо выйти в укромное заведение на задворках таверны «Роза», он так никогда и не смог объяснить, но мысль эта настолько овладела им, что он тихо поднялся со скамьи и направился к двери. Трое мужчин в некотором удивлении посмотрели ему вслед. — Куда вы направляетесь? — резко спросил Йоменс. — Мы еще не закончили. Взявшись за щеколду, Морган выдавил смущенную гримасу. — В уборную. Мизей нахмурился. — Возвращайся быстрее. Мне все меньше нравится организация этого дела, я уже готов умыть руки! Морган намеренно не спеша прошел сквозь хорошо охраняемый общий зал. Он быстро осмотрел переполненную и задымленную комнату с низкими потолками, набитую завсегдатаями этого заведения — купцами, несколькими наемными рабочими, корабельными офицерами и солдатами на отдыхе, все пили и довольно мирно бросали кости. Ему пришлось пройти через жаркую и прокопченную кухню, чтобы выйти на прохладный двор, на котором находились конюшни. Там у погрызенной перекладины терпеливо стояли несколько оседланных лошадей с опущенными головами. Солома и навоз толстым слоем покрывали булыжники, ведущие к ряду омерзительно воняющих уборных, предназначенных для посетителей таверны «Роза». Краем глаза он уловил какое-то движение — не зря он столько раз в утреннем тумане выслеживал оленей, — поэтому в центре усеянного соломой двора он остановился, нагнулся и сделал вид, что поправляет завязку на шпоре. Так он смог заметить смутные тени двух солдат с пиками, которые почти сливались с тенями деревьев на выходе со двора у последней уборной. Второй взгляд заставил его судорожно перевести дыхание, потому что теперь он был уверен, что эти полускрытые фигуры — не просто бродяги или солдаты, которые слоняются по двору в ожидании, не пройдет ли мимо какая-нибудь девчонка с кухни. Они были в полном вооружении — шлемы, пистолеты, патронташи и пики. Есть ли другой выход со двора? Хотя, нагнувшись, было трудно что-либо разглядеть, он быстро огляделся по сторонам и заметил заваленный дровами дворик, из которого был другой выход. Нет, ради всего святого! Сердце у Моргана забилось чаще, а челюсти сжались. Там виднелись еще три пехотинца! Выпрямившись, Морган неспешным шагом пошел дальше по усеянному лужицами двору. Значит, объявлена тревога. Но за кем охотятся? Имеет ли отношение присутствие данного кордона к внезапному уходу лорда Рочестера, майора и Стивенса? Или это один из обычных рейдов по отлову всевозможных подонков, бродяг и дезертиров? Он почувствовал, что кожа у него на затылке напряглась и похолодела. Приблизившись к своей цели, Морган подавил охватившую его панику и попытался здраво поразмыслить над создавшимся положением, поэтому он выбрал ближайшую к аллее уборную. Глухое позвякивание стали говорило о том, что два солдата с пиками стояли прямо за углом. У одного из них оказалась еще и аркебуза *["373]. Чувствуя, что солдаты были уже готовы ворваться в «Розу», Гарри Морган, используя кромешную мглу, царившую в уборной, торопливо готовился к бою. Для этого он туго намотал на левую руку короткий плащ, затянул широкий пояс с оловянной пряжкой и вытащил меч из ножен. Как только его пальцы сомкнулись на рукоятке меча и ощутили ее привычный холод, он почувствовал прилив сил и к нему вернулось самообладание. Это был отличный, надежный меч, хотя его благородные друзья и смеялись над его грубой ковкой и украшениями на рукоятке из тяжелого олова. Морган был занят совершенно неподходящими обстоятельствам мыслями, а ведь через минуту ему придется убить другого человека или быть убитым самому. Это его немного страшило, потому что, хотя ему и приходилось участвовать в дюжине стычек, он еще ни разу не убивал другого человека. К своему удивлению, Морган обнаружил, что в состоянии принимать жизненно важные решения и действовать в соответствии с ними. Засада, решил он, скорее всего назначена на девять. Поэтому чем скорее он начнет действовать, тем больше будет у него шансов предупредить мистера Мизея, Йоменса и Бучера, а также самому выбраться из этой заварухи. Морган глубоко вздохнул, а потом стремительно выскочил из дверей уборной и бросился направо, за угол. То, что двое солдат немного отошли в глубь аллеи, уменьшало его шансы. У солдата с пикой оказалось достаточно времени, чтобы поднять свое оружие с коротким древком и крикнуть: — Стой! Стой! Именем лорда-протектора! В это время другой солдат отбежал еще дальше по аллее и лихорадочно шарил руками в поисках спички, которой следовало поджечь тяжелый запал. Заметив, что острие пики движется ему навстречу, Морган вложил в удар весь свой вес, и удар этот оказался настолько сильным, что сталь начисто отрезала наконечник пики «железнобокого» от древка. Хотя от удара у него мгновенно онемело запястье, Морган бросился прямо на полуразличимую фигуру, чьи доспехи поблескивали в темноте аллеи. Целясь выше плеч, он с силой нанес удар в бледное лицо солдата, словно поделенное пополам выступом шлема, защищающим нос. Меч резко дрогнул, и валлиец понял, что удар оказался точным. Его меч врезался в плоть, выбив противнику зубы и раздробив кости. Поскольку лезвие меча попало ему прямо в рот, парламентский солдат издал лишь несколько булькающих звуков, а затем выронил уже бесполезную пику, покачнулся на подогнувшихся ногах и завалился на бок. Сквозь его пальцы брызнул фонтан крови, казавшейся черной; она заливала его куртку и стекала на булыжники. Тем временем Морган резко развернулся на правой ноге, чтобы встретить лицом к лицу другую угрозу, исходившую от солдата с аркебузой, который слишком поздно догадался оставить в покое свое громоздкое оружие и теперь мчался обратно, на ходу пытаясь вытащить короткий меч и вопя во все горло: «Хватай предателя!» Кромвелевцу наконец удалось извлечь меч из ножен и направить свирепый удар прямо в голову Моргану. Тот присел и, воспользовавшись тем, что нападающий потерял равновесие, сумел вонзить острие своего собственного меча ему в живот с такой силой, что лезвие вышло с другой стороны. Он с трудом сумел высвободить свое оружие, потому что, испустив ряд жутких воплей, солдат свалился вначале на колени, потом перевернулся и упал, обеими руками судорожно вцепившись в роковое лезвие. Когда Моргану удалось освободить меч, он перескочил через упавшее тело и бросился бежать по аллее, непрерывно поскальзываясь в лужицах грязи. В голове у него билась только одна мысль: «Если меня схватят сейчас, то это наверняка виселица». К его великой радости, погоня появилась не сразу. В разных направлениях перекрикивались голоса: — Хватай предателей! — Куда они побежали? — Где они? — Побежали вниз поаллее! Быстро за ними! — Они убили беднягу Ватта и Климсона тоже! Сквозь покрытые росой ветки небольшого садика на задворках какого-то горожанина Морган заметил мелькавшие среди деревьев фигуры, но бежали они не в его сторону! Они бросились к «Розе». Обрадовавшись, он помчался еще быстрее, и в этот момент, почти над его головой, часы начали бить девять. Как только звуки последнего удара эхом отдались над городскими крышами, в дремлющем городе поднялся хаос и мгновенно охватил все вокруг. Как по волшебству появились отряды хорошо вооруженных «железнобоких» и с криками бросались к тому или иному дому или кварталу. Зловещее цоканье лошадиных копыт и отчаянные крики свидетельствовали о том, что кавалерийские отряды заполонили окрестности Бристоля. Со всех сторон неслись проклятья, звуки приказов и испуганные крики. Чувствуя, как к горлу подступает приступ тошноты, Морган догадался, что атака не ограничилась только улицей Темпл или окрестностями таверны «Роза». Вне всякого сомнения, гарнизон и вновь прибывшее подкрепление медленно прочесывало все пункты, в которых могли скрываться сочувствующие роялистам. Морган нашел выход на улицу, но там неожиданно на его пути оказались три всадника — при рассеянном свете звезд они казались просто гигантами, — и он, тяжело дыша, нырнул в дровяной сарай. Там он отер пот, струившийся на глаза, и содрогнулся, заслышав свирепые крики, разразившиеся когда кромвелевцы обнаружили убитых им солдат. — Слава Богу, хоть луны нет, — облегченно выдохнул он, выглянув в щелочку на двери его убежища. Поскольку ему все равно ничего не было видно, кроме черной, забрызганной грязью стены, он замер в нерешительности. Куда ему бежать, чтобы скрыться? Ему приходили в голову тысячи всевозможных способов спасения, но он все их отбрасывал. Первым его побуждением было отправиться обратно в таверну «Ангел», чтобы раздобыть себе лошадь и взять те немногие пожитки, которые у него были; но чувство простого приличия не позволяло ему вернуться в таверну госпожи Пруэтт с воплями о помощи. Если враг так хорошо информирован, как кажется, то «Ангел» станет одним из самых первых мест, где его будут искать. Он также не мог надеяться на то, что ему удастся благополучно покинуть Бристоль. Конечно, все ворота закрыты и хорошо охраняются. «Ты должен думать быстрее и придумать какой-нибудь план!» — настаивал внутренний голос. Внизу по улице раздавались вопли, треск взломанных дверей и топот людей, бегущих со всех ног, чтобы спасти свою шкуру. Не далее чем в пятидесяти ярдах происходило настоящее сражение: доносились резкие, звонкие удары стали о сталь. От неизвестного ему до сих пор ощущения зверя, которого травят, у него похолодели руки. В примыкавшем к его убежищу доме зашевелились люди, и в горле у него пересохло, когда, случайно наступив на вязанку хвороста, он услышал писклявый детский голос: — Папа! Папа! Кто-то прячется в нашем дровяном сарае. — Откуда ты знаешь, Дженни? — Я слышала, как он там ходит, прямо сейчас. — Ма, дай мне вон ту кочергу, — скомандовал грубый голос. — Я быстро вышвырну оттуда этого мерзавца. У Моргана не оставалось другого выбора, кроме как снова взяться за меч и выскользнуть на освещенную звездами улицу. Слава Богу, те три всадника, которых он заметил раньше, уже исчезли; скорее всего, они поджидали его за углом, поэтому их не было видно.Глава 5 УБЕЖИЩЕ
Никогда еще, как осознал Морган, его чувства не были так обострены. Когда ему удалось выровнять дыхание, он обнаружил, что чувство всеохватывающей и потому опасной паники уже почти исчезло. Чтобы окончательно успокоиться, он свернул к зарослям сорняков на задворках огорода какого-то бюргера и огромным усилием воли заставил себя вытереть начисто потемневший от крови меч Затем беглец перепрыгнул через низкий деревянный забор и тихонько прошмыгнул на ту улицу, откуда доносилось меньше всего шума. По груди у него струились ручейки пота, когда, засунув меч в ножны, он смело вышел на пустынную маленькую улочку и остановился, прислушиваясь, в тени входа в какую-то церковь. Пока он там стоял, ему многое стало ясно. Неудивительно, что Мишель Мизей не обратил на него особого внимания, если не считать вечера с его дочерью! Его стремление задержать лорда Рочестера, да и самого Моргана, до девяти часов, конечно, объяснялось обдуманным предательством. Успели ли майор, Стивенс и Рочестер вовремя уехать? Возможно. Он ощутил во рту горький привкус, когда понял, что у Йоменса и Бучера не было шансов ускользнуть. Да падут все проклятия ада на голову Мизея, на эту гору жира! Мизей? Морган замер на середине шага. В голове у него возник великолепный план. — Слава Богу, вот я и нашел выход! — Морган тронулся вниз по проулку, по которому шныряли только ободранные крысы да бродили уличные коты. Он угрюмо усмехнулся. — И может, мне удастся перерезать глотку этому мерзавцу! Ему без труда удалось найти квартал, в котором размещалась гильдия кожевенников, поэтому, лишь пару раз чудом избежав стычки с патрулями парламентских драгун, он добрался до приметной острой крыши дома Мишеля Мизея. Нарушив любовную идиллию двух котов, Морган забрался на огороженный задний двор дома кожевенника и там остановился, раздумывая над тем, как бы ему незаметно пробраться в дом. С заново перекрытой крыши конюшни можно было без труда взобраться на невысокий сарай. А оттуда, казалось, уже не так трудно добраться до пары окон, наполовину скрытых за пышной кроной высокого вяза. Секундой позже Морган уже закинул меч за шею так, чтобы он свисал у него между лопаток и не мешал ему. Затем он перекинул сапоги через плечо и проворно взобрался сначала на крышу конюшни, а потом на холодные черепицы склада. Ха! Теперь по лицу его хлестали мокрые листья и он больше не видел двора. Окно оказалось закрытым на защелку, но, поработав кончиком кинжала, ему удалось открыть ее. От громкого скрипа рамы у него душа ушла в пятки, но, когда не последовало никакой тревоги, он перекинул ноги через подоконник и соскользнул в узкий коридор. Там он замер на месте, прислушиваясь. Морган стоял в конце длинного коридора. На лестнице виднелся свет, а это значило, что кто-то из слуг дремал внизу в ожидании возвращения мистера Мизея. Но лучше проверить. На цыпочках Морган спустился вниз и увидел Соломона, огромного негра, который, свесив голову, громко храпел почти у самой: лестницы. Двигаясь с величайшей осторожностью, Морган добрался до дверей спальни Клариссы и прислушался; она говорила, что ее спальня расположена как раз за тем кабинетом, в котором он так неосторожно дал волю своему языку и выставил себя таким идиотом. Морган безмолвно поклялся никогда больше не повторять этой ошибки. Дрожащими пальцами он схватился за оловянную дверную ручку, и замок громко щелкнул! Уже приготовившись к отчаянному визгу, Морган все-таки вошел и закрыл за собой дверь. Он не ошибся — это действительно была комната Клариссы. Воздух в ней был напоен густым ароматом духов, бальзамов. Чувствовалось, что здесь живет женщина. Занавеси, загораживавшие большую, застланную покрывалом кровать, зашевелились, и он застыл на месте, вцепившись в кинжал. Если она попытается позвать на помощь, он, ни на секунду не задумавшись, убьет дочь мистера Мизея. — Кто там? — спросил знакомый заспанный голосок. — это ты, Агнесса? Надеясь, что следы крови на его одежде не очень заметны, Морган улыбнулся в темноте и снял меч и сапоги. Все еще держа наготове обнаженный кинжал, он в одних чулках подошел к занавеси у кровати. — Тсс, не шуми, — прошептал он. — Кларисса, дорогая, это я — Гарри Морган. Он услышал, как она нервно вздохнула, и приготовился броситься на нее, но она только ойкнула: — Ох! Чертов разбойник! Как ты посмел так ворваться сюда? — Мой дорогой, обожаемый ангел! Я больше ни секунды не мог оставаться вдали от тебя. «И это почти правда», — подумал он. — О, о, Гарри! Мой дорогой негодяй! — Темные занавеси распахнулись, и бледный свет, струящийся из окон, осветил растрепанную голову Клариссы. Он заметил, что ее пышная ночная рубашка соскользнула, открыв одно прелестное плечико и небольшую, но крепкую грудь. — Да. Я так люблю тебя, Рисса, дорогая, что не отступлю ни перед какой опасностью. Он сел на кровать и крепко обнял ее, а она ответила на его объятия и прижалась к его холодной кожаной куртке. — О, Г-гарри, вот за это я и люблю тебя, — прошептала она. — Но… но ты не д-должен был приходить ко мне вот так. А если папа узнает об этом? Да. Теперь уже можно не сомневаться, что простая дочь кожевенника сможет занять место среди благородных. Ха! Его объятья причиняли ей боль, но несмотря на это и на то, что колючая щетина царапала ей щеки и подбородок, она крепко прижалась к нему. — Ах, осторожнее, Гарри. Осторожнее. Вот так, теперь нам будет хорошо. — Теплый запах ее волос на мгновение одурманил его. Путаясь в завязках рубашки, Морган усмехнулся в темноте. Да. Разве предатель и все кромвелевцы с ним заодно когда-нибудь догадаются поискать за занавесками кровати его собственной дочери? Луч солнечного света настойчиво бил Моргану прямо в плотно сомкнутые веки. Он с трудом очнулся от беспробудного сна и сначала не мог сообразить, что происходит. Где он? Что это? Его ум выбирался из объятий сна, словно из горшка с густым сиропом, пока он не вспомнил, где он находится. Он понял, что его разбудил яркий луч света, который отражался от поверхности золотого перстня с печаткой, который он постоянно носил на мизинце левой руки. Морган лениво открыл глаза и увидел перед собой перстень на расстоянии не более шести дюймов. Ему всегда очень нравилась эта печатка, рисунок, выгравированный на поверхности перстня. Летящий грифон — печатка Хербертов, семьи его матери, был похож на веселого, забавного и одновременно свирепого дракона, который дразнился, высунув язык, словно шаловливый мальчишка. — Боже милостивый! — Неожиданно воспоминание об ужасных событиях прошедшей ночи заставило его так стремительно вскочить, что покрывало слетело прочь. Он моргнул, затем изо всех сил потер глаза. — Это не сон. Я действительно нахожусь в доме проклятого предателя Мизея. — Поскольку он пока не видел другого выхода, то снова опустился на огромную пуховую подушку, все еще влажную и приятно пахнущую Клариссой, и задумчиво поскреб колючий подбородок. Он лежал на широкой и мягкой кровати, пожалуй, слишком мягкой, украшенной бледно-зелеными и вышитыми розовыми занавесками; таким же было и покрывало. Интересно, Мизей уже вернулся домой? В мозгу у него звенели тревожные голоса. Как мог он так неосторожно храпеть здесь всю ночь напролет? Взглянув в сторону, он с облегчением заметил свой меч и перевязь в дальнем углу, а его одежда валялась на полу рядом с кроватью Клариссы. Он немного нервничал, поскольку ее самой нигде не было видно. Поднимет ли она тревогу? Нет. Конечно нет. В конце концов, речь шла о ее собственной судьбе. Его тревога немного поутихла, и он откинулся назад и с любопытством принялся рассматривать развешанную на ближайшем стуле женскую одежду. «Да, старина, сейчас все зависит от того, заподозрит ли моя подружка, что ее отец ведет двойную игру». Вне всякого сомнения, именно служащий таможни подучил свою дочь задать ему некоторые вопросы. Конечно, приятно, что то, о чем он рассказал, не могло стать причиной ареста главных роялистов. Кто-то уже выдал их гораздо раньше, причем сделал это намеренно. Но все же он в порыве неудержимого хвастовства называл имена, слишком много имен — и он еще более горько, чем прежде, принялся проклинать свою глупую неосторожность. «Ну, дружок, что же ты теперь будешь делать?» Обхватив руками колени, Морган невидящим взглядом уставился на Клариссины пяльцы. Какая злая насмешка судьбы заключалась в том, что только Кларисса Мизей могла сообщить ему необходимые сведения. Кларисса. Он позволил себе широко ухмыльнуться при мысли о том, как он славно отомстил ее отцу сегодня ночью. Удастся ли ему убить предателя и сбежать? Когда он думал о том, сколько храбрых парней теперь погибнет, то чувствовал, что внутри у него все переворачивается. А сам он разве был в безопасности? Сейчас, наверное, да. Предатель никогда не догадается искать свою жертву в спальне собственной дочери. Но юный Морган все равно не был спокоен; поскольку он был в ответе за смерть двух «железнобоких», то охотиться на него будут долго и упорно. Одному Богу известно, в какую глушь ему придется залезть, чтобы найти хотя бы временное убежище, да и найдется ли такое вообще на Британских островах. Он снова ощутил на губах горький привкус. Слишком скоро повторятся знакомые картины охваченных пламенем домов, изгнаний и казней -виселиц, дыб и колесований. Так недавно все это было. Разгром восстания роялистов в Тьюксбери в 42-м, в Нэзби три года спустя, и до окончательного поражения партии короля в Сент-Фагане в 48-м году. Холера всех возьми, куда в самом деле подевалась Кларисса? Казалось, что внизу все вымерло, но он не осмеливался выйти на разведку. Понятно, что ему надо как можно раньше исчезнуть из Бристоля. Но как и куда ему отправиться? Он изо всех сил пытался решить эту проблему и не мог. А, черт! Вечная погибель свинье и предателю, который свел на нет так старательно подготовленный заговор. Хотя, если поразмыслить, Мизей не мог нести полную ответственность за разгром начинающегося восстания, так же как и он, Гарри Морган, не мог один быть виноватым в роковой неосторожности. Неожиданно он встрепенулся. Да. Совершенно точно, в коридоре слышны шаги, и они быстро приближаются. Морган заметался по комнате. Схватив ножны и меч, он нырнул обратно в постель и спрятал вещи между стеной и кроватью, а кинжал положил под подушку. Он пытался натянуть грязную, покрытую пятнами пота рубашку, когда дверь с щелканьем отворилась и на пороге появилась Кларисса. Яркое весеннее солнце осветило и украсило ее, обрисовав ее фигурку в струящейся бледно-розовой рубашке, настолько прозрачной, что ткань только подчеркивала ее полные и прелестно очерченные формы. Кларисса приветствовала его медленной, полной обожания улыбкой, а потом поставила на стул накрытую салфеткой корзинку и поспешила к кровати, с шумом раздвигая занавеси. — О, мой дорогой. Поцелуй меня, Гарри! Быстрее! Я сгораю от желания ощутить прикосновение твоих губ. — Конечно, конфетка. — Он улыбнулся и непринужденно добавил: — И пожалуйста, закрой дверь на защелку. Взметнув белокурыми волосами, она побежала исполнить его просьбу, а потом вернулась и бросилась в его объятья. Ее маленький, мягкий и горячий рот при свете дня казался не менее привлекательным, чем ночью. — О, мой дорогой котик, — выдохнула она. — Я… я самая счастливая девушка во всей Англии, потому что у меня есть такой нежный, галантный и пылкий возлюбленный! «Черт меня возьми, а ты и вправду недурна!» — подумал Морган, целуя вначале ее глаза, а потом маленький алый ротик. Чтобы немного заглушить все возрастающее чувство беспокойства, а также оправдать свое бездействие, ему надо было кое-что узнать — и немедленно. — А твои служанки? Они знают? Шпионят? — полувопросительно произнес он, когда Кларисса откинулась на подушки. — Не беспокойся, радость моя. Они сюда не сунутся. Я позаботилась об этом. — Откинув с шеи влажные кудряшки и на скорую руку приведя их в порядок, она поднялась, босиком соскочила с кровати, побежала и притащила корзинку с завтраком. Оттуда она достала кувшин с молоком, на поверхности которого плавали желтые жирные сливки, буханку хлеба и большую деревянную миску с жидкой овсянкой. — Ешь спокойно, дорогой, — пригласила она и хитро наморщила маленький, немного вздернутый носик. — И нечего поглядывать на дверь, я отправила Юлию на рынок. — Она тихо рассмеялась. — Старая карга понеслась как стрела, сгорая от любопытства, — похоже, ночью была охота на роялистов или что-то вроде этого. Пока он только обратил внимание, что она говорила очень беззаботно, как о пустячном деле. — По крайней мере, разносчик молока утверждает, что весь наш городок перевернули вверх ногами, и он до сих пор так и стоит на голове. Медленно работая челюстями, Морган пробормотал: — А где чернокожий? — Соломон? Он в конюшне. А после этого он займется садом, пока па… отец не вернется. — А ты о нем не беспокоишься? Кларисса расхохоталась и стала сооружать на голове сложную прическу. — Ба! Да я никогда не знаю, когда он вернется домой. Заставляя себя жевать овсянку, Морган не сводил глаз с ее фигуры, вырисовывавшейся под рубашкой. — А какие ходят слухи? Кларисса пожала округлыми плечами. — Боюсь, у меня для тебя плохие новости, Гарри. Говорят, что сторонникам твоей партии угрожает смертельная опасность. Бог знает сколько роялистов и умеренных уже забрали. — Правда? — Удивительно, но голос у него звучал вполне беззаботно. — Да. — Кларисса хихикнула и томно подняла на него голубые глаза. — Так что тем более приятно, что ты был здесь, утенок. — А что с твоим отцом? — Он напряженно ждал ее ответа, хотя делал вид, что весь поглощен в обмакивание горбушки в кувшин с молоком. Кларисса стряхнула крошки с бледно-розовой ночной рубашки. — Мне кажется, что в душе папа — убежденный роялист, но он так умен, что и виду не подаст. Я точно не знаю. — На лице ее внезапно появилось серьезное выражение, и она сразу стала выглядеть старше на несколько лет. — Если ты о нем беспокоишься, то зря. Я заметила, что дорогой папочка чрезвычайно искусно выворачивается и не из таких сложных ситуаций. Он прислал предупредить меня, что не вернется до полудня. Раздался вздох облегчения. — А что еще говорят? Кларисса уселась в кресло у окна, покачивая ножкой в узенькой и легкой туфле из телячьей кожи. — Я уже сказала, что забрали многих подозрительных, так что тюрьмы уже переполнены. Кларисса изящно зевнула. — Говорят, что в таверне «Роза» была настоящая потасовка; во всяком случае, разносчик молока мне так сказал. — Когда она продолжила, сердце у Моргана бешено заколотилось. — Какой-то человек по фамилии Йомене, или что-то вроде этого, оказал сопротивление при аресте и был убит, но до этого он сам убил двух кромвелевцев. — Это все? — Нет. Ходят слухи о тяжело раненном офицере гарнизона, который оказался предателем. Говорят, что другим заговорщикам удалось ускользнуть. В веселой, залитой солнцем спальне Клариссы наступила гробовая тишина, а потом Морган тихо спросил: — Откуда это известно? — Двое «железнобоких» были найдены убитыми возле конюшни во дворе таверны. Морган чуть не подавился куском хлеба, но сумел запить его большим глотком молока. — А о джентльмене по имени Стивенс говорили что-нибудь или о майоре Николасе? Кларисса встала, ее светлые волосы блестели на солнце, и начала собирать разбросанные вещи, ленты и нижние юбки. — Ну, я не помню, Гарри. — Пожалуйста, вспомни. — Ой, называли столько имен, к тому же тебе не о чем беспокоиться. Ты же в этом не замешан. — Она нежно улыбнулась ему через плечо. — Если будет нужно… ну, я могу поклясться, что ты не участвовал в заварушке сегодня ночью. — Ты редкое сокровище, Кларисса, и очень привлекательное. — Он поколебался, но решил все же закончить: — Тем не менее я боюсь, что имя Гарри Моргана появится в списках. Скорее всего солдаты лорда-протектора в эту самую минуту уже ищут твоего бедного возлюбленного. — Правда? — Кларисса замерла, глаза у нее расширились, и она с необычной для нее задумчивостью уставилась на его мощную фигуру, а потом тревожно воскликнула: — Ой, Гарри, неужели тебе действительно угрожает арест? Он усмехнулся. — Вне всякого сомнения. Лучше смотреть правде в глаза, ведь так? — О! Дорогой, что же мы будем делать? Не так давно он придумал план дальнейших действий, но притворился, что его только что осенило вдохновение. — Если бы ты спрятала меня… здесь… пока не стемнеет, то я… я нашел бы выход. — Он ущипнул ее и удовлетворенно похлопал пониже пояса. Какая она все-таки славная девочка — верит всему, словно щенок, которому пообещали кость. — Это можно устроить? — А где же еще тебе прятаться? — радостно вскричала она. — Да, да. Здесь ты будешь в полной безопасности Никто не входит в мою спальню, кроме старой Юлии, а ее легко можно выставить. — В развевающейся ночной рубашке Кларисса метнулась к двери, только зеленые туфли засверкали. Морган в тревоге вскочил и нахмурил брови. — Куда это ты так торопишься, дорогуша? — Ах ты, ревнивый идиот. — Она была очень довольна. — Я бегу вниз за едой и Канарским вином, пока Юлия не вернулась. Когда Кларисса исчезла, Морган поспешно осмотрел свою куртку, золотисто-коричневый костюм и отвороты сапог. Он нашел всего несколько маленьких темно-красных капель засохшей крови. Их оказалось меньше, чем он предполагал, но и они могли его выдать. В спешке отчищая свои вещи, Морган ощутил какую-то тяжесть на душе. Только чудо могло спасти его от ареста. Он с ужасом думал о грядущей судьбе крепкого, широкоплечего лейтенанта Бучера. Йоменсу повезло больше. И только подумать, что еще вчера, в это самое время, Йомене, высокий, загорелый, был еще жив, в расцвете сил и готов сражаться за короля; Морган вспомнил, как он сидел при свете свечей, такой красивый, простой, здоровый парень. Наверное, многие девушки и дамы горько заплачут о нем. А Бучер? Бедняга Бучер, его взяли тяжело раненным -и единственной наградой за выздоровление будет виселица. Морган мрачно оттер последние засохшие пятна с лезвия меча. Затем влез в мешковатые коричневые штаны до колен и тщательно подвязал их, но чулки надевать не стал и остался босиком. Ему приятно было вновь ощутить кинжал на своем правом бедре. Он прошептал про себя, удивляясь собственной торжественности: — Будь я проклят, если дамся живым на потеху толпе, чтобы она смогла любоваться зрелищем четвертования и колесования. Может, попробовать переодеться? Нет. Он не умел этого делать. Кроме того, если парламентская кавалерия патрулирует все улицы и переулки — а скорее всего, так оно и есть, — то по суше ему не удастся ускользнуть. Наверное, каждая тропинка, ведущая из Бристоля, находится под наблюдением; к 1656 году кромвелевцы неплохо научились своему делу, так же как научились жестоко подавлять восстания. Они не оставят ни одной лазейки. Если по суше нельзя скрыться, то что ему остается? Бежать морем! Он засомневался. О море он — как и большинство валлийцев — много слышал, и то, что он слышал, его не радовало. Рассказывали все больше о кораблекрушениях, утопленниках, морских чудовищах и так далее. Море? Он с трудом проглотил комок в горле, потому что мало кто из его родственников, даже самых дальних, когда-либо выходил в море. Нет. С незапамятных времен Морганы были фермерами или владельцами поместий. Фермеры и владельцы мелких поместий составляли меньшинство британской знати, но ужасно гордились своим правом носить печатку, на которой был более или менее искусно выгравирован герб; этими же печатками они скрепляли свои приказы и завещания — и не важно, умели они писать или нет. Гарри немного утешало то, что те немногие из его родственников, которые еще у него остались, никогда не узнают о том, что с ним случилось, да им и не было особого дела до него — обычный удел сына, который занялся политикой. Его отец, эсквайр Роберт Морган, ярый, фанатичный сторонник его величества мученика Карла I, много раз был на грани смерти и в конце концов обрел убежище в Нидерландах. Он оставил родовое поместье, хотя его с трудом можно было так назвать, в руках мошенника арендатора. Сейчас Гарри многое бы отдал ради того, чтобы укрыться за его крепкими стенами. О Джоне и Томасе, своих младших братьях, Гарри уже много месяцев не получал вестей. Очевидно, они уехали и не сообщили, куда направляются. Может, они собрались отправиться к сэру Эдварду Моргану, его таинственному дяде, наемному солдату, о котором он нередко слышал. Его сестра Катерина, по которой томились многие парни в Лланримни, жила около Понтипридда у старой тетки. — Одно я знаю наверняка, — пробормотал Морган, отковыривая налет засохшей крови с рукоятки меча. — Пока я жив, я никому больше не буду доверять — не важно, что это за человек. Как будто для того, чтобы подчеркнуть весь ужас поражения, с улицы донесся вначале далекий, потом все более близкий звук шагов вооруженных людей. Захлопали ставни, повсюду высунулись головы в тюрбанах, домашних чепчиках, шляпках и кепках. Музыки не было — не было даже барабана, который бы заглушил звук мерно шаркающих по булыжникам сапог — потому что Оливер Кромвель не любил подобных вольностей и военной роскоши. Морган рванул на себя тяжелую оконную раму и не мог оторвать глаз от дюжины пленников, грязных, с безумными взглядами и связанными руками. Их погоняли коренастые солдаты с пиками.Глава 6 ГРИФОН НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ЗАПАД
Нескончаемый день продолжался. Жара и влажность царили такие, что Морган, обливаясь потом, с трудом заставлял себя реагировать на заигрывания Клариссы. Увы! Это было необходимо. Сейчас разочаровывать девушку никак нельзя. — Гарри, я тебе никогда не наскучу? Никогда? Проглотив отчаянное ругательство, он с трудом заставил себя достаточно крепко поцеловать ее в висок. — Скорее Бристоль опустится в море. Морган содрогнулся. — Ненавижу море — оно обманчиво, как ласки дешевой шлюхи. Чума возьми его штормы, камни и туманы! Пока у Гарри Моргана есть твердая почва под ногами и жаркое солнце над головой, он добудет свое… э… наше состояние. Они оба замерли, когда внизу совершенно неожиданно хлопнула дверь и раздался раздраженный голос: — Черт побери! Кто-нибудь встретит меня наконец? Морган судорожно сжал рукоятку меча. Кларисса вскочила на ноги и прошептала: — Пусти меня. Я сделаю так, что он ничего не заподозрит. — Благослови тебя Бог, дорогая. И попытайся выведать у него как можно больше, но только чтобы он не догадался. Как только шорох юбок Клариссы затих в коридоре, Морган сунул ноги в сапоги, нацепил перевязь и засунул восьмидюймовый кинжал в поцарапанные ножны из свиной кожи. Из еды, принесенной Клариссой на полдник, он выбрал ножку каплуна и жадно впился в нее зубами. Потом на цыпочках прошел к двери, слегка приоткрыл ее и понял, что ему слышен почти весь разговор внизу. Голосок Клариссы, легкий, звонкий и немного ленивый, чередовался с капризными и ворчливыми интонациями Мишеля Мизея. Он даже мог различить шаги Клариссы; она, наверное, ставила на стол еду. — Да, девочка, — буркнул предатель, — ты права, что я выгляжу усталым. Я действительно устал, но, Рисса, за последние несколько часов я здорово заработал. — Стул жалобно крякнул под весом кожевенника. — Если еще годик так поработать, то во всей Западной Англии трудно будет отыскать даже след хотя бы одного роялиста. Кларисса на мгновение замешкалась с ответом, очевидно изучая своего собеседника. — Н-но, папа, мне казалось, что ты сочувствуешь партии короля? — У Моргана больше не осталось ни малейших сомнений, что Кларисса служила всего лишь игрушкой, способной удовлетворить амбиции отца. Пронзительный хохот предателя раздался даже на лестнице. — Да, я на стороне его величества — когда ветер подует в его сторону, — а пока этого не видно! Ненадолго наступило молчание, только тарелки звякали. — Вот твой эль, па. Ты говорил о… о деньгах. Ты хочешь сказать, что мой умненький папочка заработал много денег? — Да. — Прозвучал жирный, злой смешок. — Я содрал солидный куш с полковника Мордаунта, коменданта замка. Но я могу заработать еще больше. Иди обними меня, цыпленочек. Может быть, у тебя скоро будет карета, о которой ты так сильно мечтала. — О, па! — Ее голос зазвенел как колокольчик. — Как чудесно, какой ты щедрый! Морган протянул руку и взял холодную картошку — от громкого чавканья внизу у него проснулся аппетит. Звуки голоса Клариссы отчетливо слышались наверху, словно верхние ноты флейты. — Я со вчерашнего дня не выходила из дому, па… отец. Что там происходит? Расскажи мне, много сторонников короля арестовано? — Да, дочка, спасибо нескольким хвастливым дуракам. -Кровь прилила к щекам беглеца наверху. — И чванливым лордам. Королевских сторонников хватают дюжинами; нет, сотнями. Морган подавил стон. Нет сомнения, что заговор погиб и его уже не восстановить. Услышав, как внизу назвали его собственное имя, он непроизвольно вцепился в дверной косяк. — Молодой Морган — твой ухажер из Глеморганшира у черта на рогах — в конце концов оказался не таким уж дураком. Он почуял опасность и каким-то чудом сбежал. Повезло негодяю. Передай мне соль. — Но… но, папа! Конечно, мой дорогой Гарри ни в чем не замешан! Раздался стук кувшина, который слишком резко поставили на стол. — Замешан? Слезы Христовы! Ах ты, глупышка, твой милый дружок Гарри сидел в заговоре по самую шею — шею, которая, как я предполагаю, скоро станет немного длиннее. — В голосе Мизея прозвучало злорадство, от которого у Моргана потек холодный пот по спине. — Прошлой ночью этот щенок удрал от меня и ухитрился зарезать двоих солдат лорда-протектора! — Он… Гарри их убил? — Голос девушки прервался. — О нет! — Полковник Мордаунт объявил награду в сотню фунтов тому, кто схватит твоего юного обожателя, живого или мертвого. — О-о-о. Правда? Целых сто фунтов? — Да, Рисса. Сто фунтов золотыми соверенами. Если бы я только знал, где его искать. — Но, папа, разве сто фунтов — это не огромная сумма? — В голосе Клариссы послышались задумчивые нотки. — Постой, постой, на эти деньги я могла бы полностью обновить свой гардероб. Морган услышал, как Мизей поперхнулся и громко расхохотался, — Ради Бога! Среди всех жадных особ женского пола, которых я встречал — а я встречал их немало на своем веку, — ты королева. Ты достойная дочь своей матери. Она всю жизнь думала только о деньгах, драгоценностях и тряпках. — Но, папа, — настаивала Кларисса, — полковник Мордаунт действительно заплатит деньги любому, кто… кто расскажет, где находится Гарри? — Конечно. Он объявил, что деньги… Морган больше ни секунды не медлил. Он нацепил шляпу и приостановился, только чтобы засунуть в карманы несколько кусков холодного мяса и хлеба. Наверное, не больше полуминуты прошло после вопроса, заданного Клариссой, как он уже был в коридоре и с легкостью открыл то самое окно, через которое пробрался в дом. Но проделать обратно тот же путь при ярком дневном свете оказалось уже не так легко. Это было очень опасно. Любой из жителей окрестных домов, заметив, как он вылезает из окна второго этажа дома Мишеля Мизея с мечом и кинжалом наготове, немедленно поднимет тревогу. Но у него не оставалось выбора, поэтому он перекинул ноги через подоконник и перебрался на крышу сарая. Заржала лошадь, привязанная рядом. — Эй! Какого дьявола ты там делаешь? Прямо на беглеца снизу вверх уставилось кирпично-красное, запрокинутое лицо драгуна, который, раздевшись до пояса, отмывал свою одежду в лошадиной колоде. К счастью, его меч был прислонен к дереву в нескольких футах от него, а пистолет был в кобуре, пристегнутой к седлу, валявшемуся на свежей зеленой траве. Они довольно долго изумленно смотрели друг на друга, потом Морган, торопясь, соскользнул по покатому скату, покрытому влажной серо-голубой черепицей. Парламентский драгун тут же завопил: — Хватай вора! Хватай! Хватай вора! На улицах было уже достаточно много людей, так что Моргану удалось без труда затеряться в толпе, прежде чем за ним началась погоня. То, что он редко бывал в Бристоле, давало ему одно преимущество — почти никто из городских жителей не мог его узнать. С другой стороны, он почти не ориентировался в паутине маленьких улочек и переулков города, и это было очень опасно. На всех важных пересечениях улиц он видел посты парламентских солдат с пиками и аркебузами. Держа оружие наготове, они так пристально рассматривали каждого прохожего, что Гарри Морган благословил свою неприметную одежду и мало выделяющуюся из толпы внешность. Человек выше пяти футов шести дюймов был бы сразу заметен в общей массе владельцев небольших лавчонок, матросов, бюргеров и торговцев. Что же делать? Может, ему удастся ускользнуть морем. Размышляя над тем, в какой стороне может находиться порт, Морган замедлил шаг перед лавкой писца. В стекле запыленного маленького окошка отразился кромвелевский солдат, который повернулся и уставился на него. Белый, весь по самые уши в муке, мельник остановился рядом с ним. — Черт знает что творится в старом городе, правда, сэр? По-моему, слишком много солдат. — Я слышал, что «круглоголовые» только что разгромили заговор роялистов, которые хотели захватить Глочестер и Бристоль. Это правда? — Понятия не имею. Я только что приехал. Морган кивнул. — Ты можешь провести меня в порт? — Да, это я могу. — Мельник стряхнул муку с ресниц. -А на какой стапель вы хотите попасть? Морган заколебался. — Ну, я… — Может, на Рождественский или Монастырский стапель? — Рождественский… Засыпанный мукой мужичок улыбнулся, показав пеньки желто-черных зубов. — Ну, тогда вам надо пойти со мной. Я как раз туда и направляюсь. За ними поплелась огромная двухколесная повозка крестьянина, которую тянули три лошади, запряженные цугом. Морган и его провожатый прошли мимо площадки для игры в мяч, покрытой яркой зеленой травой и залитой солнцем. Мельник болтал без остановки. — Да, ходят слухи, что наш мэр установил специальное наблюдение за всеми судами, которые входят в порт или выходят из него. Да, сэр, готов поспорить, что, когда наступит лето, у нас на каждой виселице созреет тяжелый урожай. Морган лихорадочно размышлял. «Скорее всего „круглоголовые“ будут тщательнее всего следить именно за портом, а драгоценный папочка моей недавней подружки, конечно, уже поднял отчаянную тревогу». После десяти минут ходьбы мельник остановился и ткнул грязным пальцем в коричневые и белые суда, вытащенные на берег в конце улицы Тандерболт. — Я так понял, что вы не очень-то знакомы с Бристолем, — заметил он, искоса взглянув на своего собеседника, — поэтому я вам покажу. Вон, видите, внизу — это Нижний стапель; там дальше нужно повернуть направо к Бристольскому мосту, и вы наткнетесь на Рождественский док почти под мостом. — С некоторой долей гордости в голосе он добавил: — У нас тут хороший порт, а во время отлива, вот как сейчас, до пятидесяти судов ложатся днищем на влажную грязь — грандиозное зрелище! Отлив? Одолевавшие Моргана плохие предчувствия еще больше усилились. Он осознал всю тщетность своей отчаянной надежды пробраться на борт какого-нибудь судна, когда оно будет отплывать, и ускользнуть на нем. Поблагодарив мельника, он постарался вести себя естественно и не слишком быстро направился к замусоренной воде по скользким коричневым булыжникам. Неожиданно у Нижнего стапеля появился патруль парламентских солдат и направился в его сторону. Похоже, они не зря старались, потому что одетые в коричневое, черное и желтое солдаты с пиками тащили за собой трех бледных, испуганных пленников со связанными руками. Похоже, что их схватили на борту маленького шведского парусника с округлыми обводами корпуса, который лежал на боку, так, что его мачты касались причала. Черт побери! Ему ничего не оставалось, кроме как вернуться обратно в город. Им снова начала овладевать паника. Куда ни кинь взгляд, всюду улицы кишели драгунами, мушкетерами и солдатами с пиками. Он бродил по улицам почти час, размышляя, куда бы ему пойти, и незаметно оказался на знакомой улице. Да, Боже милостивый, он находился всего в одном квартале от улицы Редклифф. Морган задумался, имеет ли он право вернуться в таверну «Ангел». Не слишком ли рискованно и легкомысленно подвергать опасности Анни Пруэтт, которую могут обвинить в сношении с роялистским агентом? Может быть, но, Боже Всевышний, как он нуждался сейчас в тех нескольких шиллингах, которые миссис Пруэтт берегла в своей шкатулке! В очередной раз решив, что надо действовать смелее,, Морган решительно зашагал навстречу свежеокрашенной голубой, белой и золотой вывеске «Ангела». Он глубоко вдохнул, потом резко толкнул тугую, неподатливую дверь таверны и тут же погрузился в полумрак, пропитанный запахами пива, рома и кухни. Ему чертовски повезло, потому что в этот полуденный час там никого не было, не считая пары клиентов, которые дружески разговаривали или обсуждали свои дела над двумя высокими бокалами эля. — Боже милосердный! Ты! — Миссис Пруэтт бросила на него пронизывающий взгляд черных глаз, а потом быстро повернулась в сторону входной двери. Почти незаметным движением головы она указала ему на открытый люк, по которому, как хорошо было известно Гарри, можно было спуститься в винный погреб. Он не стал мешкать ни секунды и мгновенно нырнул на крутую лестницу и, пригибая голову, чтобы не стукнуться о балки или не попасть в паутину, на ощупь спустился вниз, где царила почти беспросветная тьма и воняло вином, крысами и заплесневевшей соломой. В погреб через грязное окошко, такое маленькое, что через него смог бы пролезть только ребенок, проникали слабые лучи света. Угрюмый, голодный и продрогший, Морган устроился за рядами бочек со шведской водкой и, подкрепив силы глотком этого свирепого напитка, стал терпеливо ждать. Так он просидел полчаса, вскакивая при малейшем шуме у него над головой. Под ногами у него попискивали крысы и шмыгнули в свои норы, только когда дверь погреба открылась и на лестнице застучали легкие шаги Анни. От золотистого света свечи на стенах заплясали причудливые тени. При таком свете она казалась просто прелестной, когда обернулась, отыскивая его взглядом за бочками. — Ах, я здесь, Анни, дорогая, — тихо произнес он, — я прошу тебя простить, что не сразу поспешил к тебе со своими извинениями. Я клянусь, я… Она бросилась к нему, прижав палец к губам, и слова замерли у него на губах. Он увидел, что глаза ее полны страха, а с лица сбежала краска. Она была в ужасе. — Боже, помоги нам! Гарри, ты должен уходить отсюда, если сможешь. Солдаты окружили гостиницу. Мама считает, что они сейчас будут обыскивать ее. Схватившись за меч, он выпрямился, и в голосе его зазвучали властные нотки: — Тогда немедленно возвращайся наверх. Я не стану причинять вам неприятности. Помни, я сам здесь спрятался, а ты только случайно нашла меня. — Нет! Слишком поздно! — Тогда я проложу себе дорогу с мечом в руках — я уже проделал это однажды. — Но не сейчас, — воскликнула она. — Все улицы вокруг забиты «круглоголовыми». Что ты сможешь сделать? — Ну, — ответил он со странной, жесткой улыбкой, — я могу умереть за короля — как благородный человек, я надеюсь. Ах, моя любимая Анни. — Неожиданно он схватил ее маленькую фигурку в темно-сером платье, крепко прижал к себе и поцеловал. — Я действительно люблю только тебя. Я никогда тебя не забуду. — О Гарри, это «никогда» может наступить очень скоро — слишком скоро. Сверху доносились грубые голоса, потом послышался грохот перевернутой скамьи и резкие выкрики: — Эй, ты там! Стой смирно! — Сюда! Быстрее! Быстрее! При пляшущем свете свечи глаза Анни казались еще больше, когда она бросилась отодвигать с его помощью тяжелую деревянную крышку огромной винной бочки. Она заглянула туда и, казалось, была удовлетворена уровнем жидкости в ней. — Залезай, Гарри! Быстрее, быстрее, ради спасения жизни! Морган заколебался. — Но эта бочка на две трети полна. А пустой нет? — Ты будешь делать, как я сказала, или нет? — взмолилась Анни, бросая отчаянные взгляды на лестницу. — Это твоя единственная надежда. Слышишь? Они уже в конюшне1 — Именем лорда-протектора, открывай! — прогремел хриплый голос. Беглец кивнул, бросил в вино шляпу, а потом и сам перелез через край бочки и почувствовал, как холодное вино затекает к нему в сапоги. Меч, куртка и все остальное исчезли в вине, которое при свете свечи казалось черным. Анни, двумя руками таща на место тяжелую дубовую крышку, с трудом выдохнула: — Опустись вниз, совсем вниз! Но Морган медлил, над пенящимся, горьковатым вином виднелись только руки и черная взлохмаченная голова. Казалось, что он, не обращая внимания на происходящее, отчаянно кусает себя за палец. Блеснуло золото, и он бросил ей кольцо с грифоном. — Бери, любимая, в знак моей вечной благодарности! — Когда-нибудь ты вернешься за ним, правда? — Ему были видны только ее глаза над краем бочки. — Если буду жив. Бог воздаст тебе за все, дорогая Анни. Морган поджал ноги и запрокинул голову. Горько-сладкое вино поднялось, вытесненное его телом, и дошло ему до самых ушей. В ту же секунду раздался жуткий грохот в дверь погреба. Вино остановилось всего в трех дюймах от края бочки. Господи, несколько капель попало ему в глаза, хотя он и зажмурился, и они теперь просто пылали. Мягкий толчок говорил о том, что Анни поставила сверху на крышку какой-то предмет, возможно, выталкиватель пробок. Не успела она закончить, как раздались тяжелые удары, словно в дверь били поленом. — Открывай! Лопни твои глаза! Открывай или пожалеешь! — ревели рассерженные голоса. Боль, которую причинял Моргану спирт, попавший в глаза, почти сводила его с ума, и ему с огромным трудом удавалось сидеть так, чтобы едкое красное вино не попадало ему в нос. Анни побежала вверх по лестнице, отчаянно крича: — Иду! Я иду! Добрые люди, пожалуйста, не ломайте нашу дверь. Подождите, я бегу открывать. Как только она отодвинула засов, дверь резко распахнулась и ворвался отряд обозленных солдат, сопровождаемый бряцаньем стали. — Отойди в сторону, ты, шлюха, или отведаешь моей пики! — Что за притон ты тут держишь? — Давай, где ты прячешь этого мерзавца? Нет смысла его скрывать. Мы его тут же отыщем, — прошипел голос с западным акцентом. — Говори, ведьменыш. — Мерзавца, сэр? — Голос Анни звучал тихо— и испуганно. — Но, сэр, я здесь одна; я в этом уверена. Я спустилась вниз, чтобы нацедить кувшин грушевого сидра. Пожалуйста, убедитесьсами. — Так мы и сделаем. Отойди! — Командир, одноглазый мужчина с широкой повязкой на лице, грубо отшвырнул ее на бочонки с бренди. — Джордж и ты, Ватт, ну-ка проткните пиками вон ту охапку соломы. — Анни стало плохо при виде того, как они вонзают туда свои пики. — Никого? Я готов поклясться, что чертов королевский поклонник притаился где-то здесь! — Пустая бочка глухо загудела в ответ на свирепый удар. — Пустая, — хмыкнул командир, — и эта тоже. Давайте посмотрим те, в которых что-то есть. Анни тут же попыталась сделать вид, что неправильно поняла его. — Но, сэр, если вы хотите выпить, — она попыталась засмеяться дрожащим голоском, — то мама, конечно, не будет возражать, если вы попробуете действительно замечательное Канарское вино, которое она держит вон в тех бочонках. А вот и ковшик; — Прочь, болтливая шлюха! — огрызнулся тощий корнет с корявой физиономией. — Ты хочешь купить нас своим вином? Тебе не удастся споить нас, когда мы охотимся на предателя. Давай говори, где ты спрятала своего бандита? — Египетская холера тебе на голову, Джэми, и говори сам за себя, — хмыкнул невысокий парень с перевязанной ногой. — Что касается меня, я с удовольствием глотну холодного винца. — Он взялся за выталкиватель пробок, стоявший на бочке, в которой Морган согнулся в три погибели, продрогший, промокший и изо всех сил старающийся сидеть тихо, несмотря на жуткую боль, раздирающую его глаза. Кроме того, ему было ужасно трудно удержаться от приступов кашля, потому что едкое вино все-таки попало ему в горло. — Нет, это вам не понравится — это горькое испанское, — предупредила Анни, сделав вид, что наклоняется над крышкой. — Может, он там? — Нет, — ответила Анни и стукнула деревянной колотушкой по убежищу Моргана. Глухой звук — бульк! — отдался до самого верха бочки. — Видите? Она полна до краев. Никто не смог бы там спрятаться. Вон там Канарское. Задевая за бочки и звякая оружием, солдаты сгрудились у бочки с Канарским, их железные латы и шлемы слабо поблескивали в дрожащем свете свечи. Командир почти сразу же окликнул их: — Прекратите чавкать, проклятые тупицы, и стучите по бочкам; если этот мерзавец прячется в одной из них, то она окажется наполовину пустой, так что осторожнее. Морган почувствовал, что его спину и ноги сводят судороги; а если учесть, что ему приходилось держать шею в неестественно выгнутом положении, то его мучения были просто ужасны. Он знал, что долго не сможет так выдержать; скорее всего, он просто задохнется, если не откашляется от проклятой жидкости, которая просачивалась между его плотно сжатых губ. Раздался удар пикой по бочке, от которого вино заплескалось и попало ему в ноздри. Только чрезвычайным усилием воли удалось ему подавить слепое, инстинктивное желание немедленно вылезти отсюда. — Она права. Эта бочка полна. Голос Анни звучал на удивление спокойно: — Да, сэр, вы сами убедитесь, что я говорю правду. Здесь никого не было, кроме меня. Шотландец с растрепанными волосами, спадавшими из-под каски с потрепанным черным петушиным пером, продолжал подозрительно оглядываться вокруг: — Для такой маленькой гостиницы у вас слишком много вина. — О сэр, кроме гостиницы «Ангел», мама еще немного занимается ввозом и вывозом товаров. Давайте поднимемся наверх, и вы можете посмотреть городскую лицензию и свидетельство о членстве мамы в уважаемом Союзе виноделов и производителей крепких напитков. Казалось, прошла мучительная вечность, прежде чем последний из солдат вылез обратно наверх и наполовину ослепший, полузадохшийся беглец смог столкнуть тяжелую крышку с бочки. Настала ночь, и поздние посетители уже давно ушли, когда миссис Пруэтт осмелилась спуститься в винный погреб, где и нашла ободранного и дрожащего Моргана, который тем не менее был готов покинуть свое убежище по первому требованию. Выражение на тощем лице миссис Пруэтт нельзя было назвать слишком приветливым. — Ты слишком дорого обошелся бедной вдове, мерзавец, и нечего ухмыляться. Если бы не глупая привязанность к тебе Анни, я бы тотчас выставила тебя отсюда и ты бы уже давно отплясывал джигу *["374] на площади казней. -Она цыкнула щербатым ртом. — Но мне не нужна награда за твою голову, и я не выдам тебя. Старый полковник Мордаунт и Мишель Мизей — будь проклята эта двуличная собака — спят и видят, как бы наложить на тебя лапы. Скажи мне, мистер Морган, ты действительно убил этих двух «железнобоких»? — Да, миссис, но мне ничего не оставалось. К его огромному облегчению, с лица ее исчезло суровое выражение, и она неожиданно усмехнулась, глядя на его лицо в подтеках вина, слипшиеся волосы и сырую одежду. — Хорошая работа. Ненавижу этих самовлюбленных лицемеров, которые готовы закрыть все таверны в королевстве — я имею в виду в государстве — и разорить их владельцев. Чума на них, мистер Морган, люди имеют право смеяться и быть счастливыми, если они хотят — а большинство хочет этого. А пока хватит развозить вино по моему подвалу, выжми одежду вон в тот горшок — я продам это вино солдатам. Конечно, ты понимаешь, что здесь ты все еще в опасности, — заметила вдова и протянула ему узелок с едой, — но я придумала, как спасти твою шею. А теперь слушайте, что я скажу, сэр. За моей таверной все еще следят, но скоро приедет повозка за двумя бочками вина, которые надо доставить в порт. Вчера я продала их владельцу судна. — Миссис Пруэтт неожиданно подмигнула ему. — Он сказал, что торопится, потому что отплывает завтра утром с приливом. — Да благословит вас Бог, матушка Пруэтт! — Оставь благодарность на потом — ты еще не выпутался из этой передряги, сэр. Так вот, на эту повозку я погружу еще одну бочку, в которой ты и спрячешься. Морган нагнулся и поцеловал ее жесткую руку. — А куда направляется корабль? И снова миссис Пруэтт поджала губы и цыкнула. — Какое-то место под названием Барбадос, так сказал хозяин. Только не спрашивай меня, где это, сэр, потому что я понятия не имею.Глава 7 ЭКИПАЖ ГИЧКИ
Там, где, моряк с обычным зрением ничего бы не заметил, Энох Джекмен смог увидеть еле различимую сероватую узкую полоску, которая замаячила на горизонте на самом краю сине-зеленого моря. На фоне пышных белых облаков, видневшихся там, куда был нацелен узкий нос гички *["375], ее было особенно трудно рассмотреть. Губы у бывшего помощника капитана так потрескались и обветрели за почти двухнедельное пребывание под лучами безжалостного солнца, что ему пришлось облизать их, чтобы выговорить хотя бы слово. Даже после этого ему казалось, что язык у него разбух вдвое больше обычного, и ему удалось прохрипеть только: — Земля! Земля! Слава Богу, вон она, с подветренной стороны. В этот крик он вложил почти все свои силы. Жажда так иссушила горло Джекмена, что его голос не смог разбудить ни женщину, ни трех мужчин, с которыми вместе он находился на борту грязной, необустроенной гички. Глупо ухмыляясь, потому что никто пока не знал о его чудесной тайне, он тупо и бесцельно разглядывал пустой кувшин из-под воды, который катался взад и вперед, взад и вперед по дну гички. Рулевой задумчиво потянулся и внимательно окинул взглядом своих товарищей, которые лежали на лавках в таких неестественных позах, что казались уже мертвыми. И это было бы неудивительно, потому что всю ночь женщина стонала и что-то бормотала во сне, особенно под утро. Но нет, впалая грудь мисс Пайн все еще вздымалась под тканью выцветшего темно-коричневого платья. Окрыленный надеждой, придавшей ему хотя бы видимость сил, Энох Джекмен нагнулся над штурвалом, несколько раз облизал сухим языком обветренные, запекшиеся губы и, перекинув парус, развернул нос гички по направлению к размытой, почти незаметной полоске земли. Убедившись, что суденышко бежит по новому курсу, и удовлетворенно оглядев брызги, которые заискрились за кормой, уроженец Новой Англии принялся размышлять о том, чем сейчас заняты люди дома, в Ньюберипорте, в летний день 1656 года. Гичка с легкостью скользила по ясному, ярко-голубому океану, а перед мысленным взором Джекмена простирались холодные, свинцово-серые воды у причала в Ньюберипорте. Неподалеку из воды высовывались многочисленные рифы, украшенные клоками желто-коричневых водорослей. Они поджидали неосторожную жертву. Ему слышались крики скопищ серо-белых чаек и маленьких вертких крачек, которые словно жаловались, кружа над пирсом Абиджайи Уайтлока или сидя на побелевших от соли плитах нового корабельного двора Абсалома Пейджа. Наверное, за последние три года топоры дровосеков расчистили еще больше места на берегу, вгрызаясь в самую чащу обширных диких лесов. И наверное, вдоль полоски пляжа появилось еще больше новых домиков. Интересно, сегодня воскресенье? Нет, скорее всего, нет. По воскресеньям младшему сыну преподобного мистера Джошуа Джекмена редко везло. Именно в этот день недели предписывалось полное бездействие. И сейчас Энох все-таки не мог понять, почему вести нормальный образ жизни в выходной день считалось таким страшным грехом. Непохоже, чтобы великий и всемогущий Господь мог навсегда проклясть сопливого мальчишку просто за то, что тому пришло в голову взять шлюпку и отправиться ловить треску в устье реки. Незаметно молодой Джекмен обратился к воспоминаниям о том дне, когда, почти три года назад, он, не обратив внимания на строгие указания отца, преподобного Джошуа Джекмена, не смог побороть в себе желание отправиться вверх по течению, туда, где стройные темно-зеленые ели спускались прямо к прозрачной темной воде. Там он встал на якорь, достал старую удочку и насадил на крючок жирного червяка. Трески было много, и она оказалась весьма прожорливой. И никто бы не обратил внимания на это пустячное и вполне понятное прегрешение, если бы не уродливый ханжа и шпион Джабез Лоринг, который подвернулся на дороге как раз вовремя, чтобы засечь, как сын священника волочет огромную связку рыбы, сгибаясь под ее тяжестью, к задней двери домика преподобного Джекмена. Скоро, прикинул Джекмен, солнце поднимется над горизонтом и разбудит его товарищей, маня их новыми надеждами. Что это может быть за земля? За последние две недели гичка, наверное, отплыла достаточно далеко. Это французский, голландский или английский остров? Сделай так, Боже, чтобы он не оказался испанским! А потом к ним заявились Поль Коггинс и Питер Ньютон, помощники шерифа, со стражниками и арестовали его за упорное и неисправимое нарушение Дня Субботнего. Джекмен сжал челюсти. Прав он был или нет, но он все равно так сопротивлялся, что им пришлось огреть его дубинкой по башке, да так, что чуть не раскроили ему череп. До сих пор он ясно помнил чувство охватившей его ярости, когда его волокли по Ньюберипорту со связанными руками, словно обычного бродягу, — и все потому, что он поймал дюжину селедок и при этом никому не помешал. Задул обычный утренний ветер, и гичка начала сильнее раскачиваться на волнах, но ее поскрипывание и ритмический плеск волн не могли успокоить бурю, бушевавшую в груди Эноха Джекмена. Снова перед его глазами стояло лицо старого судьи Оливера. Суровое, словно гранитный риф в бухте Массачусетс, оно ничуть не смягчилось при его чистосердечном признании и обещании никогда больше не повторять своего проступка. Судья мрачно приговорил вольного члена общины Эноха Джекмена к двадцати ударам плетью и одному дню у позорного столба. Честно говоря, со столбом он бы еще смирился. Многие из добрых жителей колонии в бухте Массачусетс выстаивали около него день на площади за мелкие провинности против жестких законов колонии, но дать себя публично выпороть — это оскорбление, против которого восставали и его тело, и его душа. Притворившись покорным и покладистым, он обманул Питера Ньютона, тюремщика, какой-то сказочкой, и тот имел глупость подойти к Эноху Джекмену поближе. Энох тут же нанес своему беспечному сторожу такой удар по челюсти, что тот в полуобмороке свалился на пол. Но все же Ньютон пришел в себя слишком быстро и успел поднять тревогу и позвать на помощь Лема Тернера, одного из городских «круглоголовых», который стоял на посту возле тюремного входа. «Нет, не выйдет!» — рявкнул тот и поднял обитую кожей дубинку. И у Джекмена не оставалось другого выбора, кроме как выхватить с козел алебарду Питера Ньютона и броситься на стражника, который храбро, но безрассудно пытался воспрепятствовать побегу заключенного. Даже сейчас Джекмен с удивлением вспоминал, с какой легкостью острие алебарды вошло глубоко-глубоко в толстый живот Лема Тернера. Какое странное, озадаченное выражение появилось у того на лице, когда он, кашляя, судорожно рванулся в сторону, в то же время отчаянно пытаясь выдернуть дубовое древко алебарды. И только когда заключенный уже пробежал по направлению к лесу половину залитой солнцем и усыпанной песком улицы, Лем Тернер свалился, словно мешок с овсом, у порога тюрьмы — и все из-за паршивой трески! «Если бы только Лем не попытался удержать меня, — думал Джекмен. — Ясно, что теперь мне больше никогда не увидеть Ньюберипорта». Его изломанная, угловатая фигура болталась на скамейке в такт проворным движениям гички. Ярко-голубые глаза Джекмена были устремлены к горизонту, высматривая зубчатые темно-голубые пики гор, которые медленно вырастали над зеленоватой водой. Знает он это место? За последние три года он, как большинство способных моряков, выучил на память силуэты дюжины побережий и полусотни островов. Нет. Скорее всего, впереди лежала бразильская земля. Вздыхая и протирая покрасневшие глаза, он вновь погрузился в глубокие раздумья. Уроженец Новой Англии вновь принялся гадать о том, что за земля лежит впереди. По тому, как она выступала из моря, он предположил, что это остров, и большой, потому что все больше и больше очертаний горных склонов выступало на горизонте. Какая судьба ждала их там? Ну, это они узнают, и скоро, потому что у них не было другого выбора, им надо было пристать как можно скорее. Еще день плавания, и экипаж гички не будет ничем отличаться от дохлой макрели, высушенной солнцем. Джекмен босой ногой вернул руль на место и вновь с интересом осмотрел скрюченные тела все еще спящих товарищей. Повезло им, что Энох Джекмен решил броситься именно в эту гичку до того, как «Удачливый», потерявший мачты, потрепанный штормом и дырявый, словно корзинка на базаре, тяжело вздрогнул, перевернулся вверх дном и неторопливо навеки скрылся под водой. Да, им повезло, потому что ни один из них не мог отличить гафеля от свайки *["376], хотя все они были храбры и упорны. Как и мисс Кейт Пайн, единственная женщина среди них; бедняжка, она страдала от морской болезни с того самого момента, как они вышли из устья Эйвона. Если бы эта серьезная, задумчивая женщина не была так молода, — а он полагал, что мисс Пайн что-то около двадцати одного года, — она давно бы уже погибла. Сейчас она находилась в самом жалком состоянии. Все лицо, руки и ноги у нее покрылись струпьями и кровоточили, длинные волосы разметались по лицу. Узкие плечи и бедра Кейт Пайн заставляли предположить, что она мала ростом, но это было не так. В ней было добрых четыре фута шесть дюймов — на целый дюйм выше среднего роста. Сейчас на ее лице, простом, но не лишенном привлекательности, застыло умиротворенное выражение. Бедняжка, хотя бы во сне она могла забыть ужасы перенесенной бури, тонущего корабля и последовавшую за ним разлуку с матерью. Она была глубоко религиозна, поэтому сохраняла твердую уверенность в будущем — хотя много недель, может быть, месяцев, пройдет, прежде чем она сможет вернуться обратно на плантации своего отца на Барбадосе. Громко сопя, рядом с Кейт лежал подполковник Роберт Дунбар. Хотя этот храбрый шотландский кавалерист проявлял умение и опыт в командовании эскадроном драгун, на борту гички он вел себя так же неловко, как медвежонок, играющий с ботинком. Этот добродушный, весь в шрамах вояка лежал, закинув назад седую взлохмаченную голову, глаза глубоко запали в глазницы. Примечательно, что даже во время сна Дунбар держал наготове кинжал, который в настоящий момент составлял все имеющееся на гичке оружие. Остатки шотландского кафтана едва прикрывали плечи Дунбара, настолько обожженные солнцем, что трудно было догадаться, каков натуральный цвет его кожи. Напротив Дунбара и ближе к носу расположился угрюмый, вечно недовольный парень, который сказал, что его зовут Тростон. Что-то ужасное должно твориться в Англии, решил Джекмен, раз мальчик восемнадцати лет так подозрительно и мрачно смотрит на всех; если подумать, то он напоминал хорошую собаку, с которой плохо обошлись в детстве. Конечно, напомнил себе рулевой, многие начинающие юнги на пути из Англии были не слишком приветливы. А как еще себя вести, если тебя практически продали в рабство на семь лет? С надеждой поглядывая на стайки летающих рыб, Джекмен ослабил парус; вчера одна или две из них ударились о него и сильно разнообразили меню экипажа гички, послужив прекрасным дополнением к заплесневелым галетам. Джекмен повернулся, чтобы бросить оценивающий взгляд на последнего из своих товарищей. Тот свернулся калачиком на носу, черные волосы длиной до плеч падали на грязную полотняную рубашку. Этого валлийца, молча признал Джекмен, труднее всего было раскусить. Редко попадались уроженцу Новой Англии люди, которые бы так долго и так сильно страдали от морской болезни. Вначале он сказал, что его имя Хью Мортон, но как только корабль вышел в море, он объявил, и не без гордости, что на самом деле его звали Морган — Генри Морган. Он готов отработать плавание, так заявил он капитану, но будь он проклят, если согласится подписать хоть какую-нибудь бумагу. «Я не служу никому, кроме моего короля», — закончил он. Энох Джекмен так и не мог догадаться, что могло заставить этого славного, крепко сложенного валлийца забраться в винную бочку. Ну и видок был у него, когда тем замечательным утром боцман вытащил его на палубу, позеленевшего от морской болезни, а лицо, руки, одежда и даже меч у него были в ярко-красных винных подтеках. Удивительно, но Морган производил впечатление человека, рожденного командовать, даже тогда, когда сам он выполнял чужие приказания. С самого начала он работал много и охотно. Боже всемилостивый! Энох подумал, что этот валлиец просто излучал жизненную силу. Как только Морган оправился от морской болезни, то, к великой радости видавшего виды экипажа, как следует отколотил помощника боцмана, громилу, который жестоко обходился с Морганом, когда тот, слабый и беспомощный, валялся в кубрике бригантины. В глубине души Эноху Джекмену был симпатичен этот таинственный беглец. И хотя он и относился к Моргану хорошо, так ничего и не узнал о его прошлом. В ответ на вопросы он только настороженно косился своими темно-карими глазами и бормотал: «Занимайся своим делом, Джекмен, а я займусь своим». Морган повернулся, тихо застонал, и его слипшиеся от жары ресницы дрогнули. — Какого черта ты глазеешь? — Морган сел, сердито нахмурил брови и неуверенно поднялся на ноги. Джекмен усмехнулся и едва заметно тронул руль. В результате гичка подпрыгнула на волне, Морган потерял равновесие и наступил на руку подполковнику Дунбару. Дунбар мгновенно вскочил и неуловимо быстрым движением наполовину вытащил кинжал из ножен. — Что случилось? — вскинулся он. — Ах, это опять ты, проклятый валлийский медведь! Чтоб тебе на виселице сдохнуть! — Успокойтесь вы оба, спорщики, — оборвал их Джекмен. — Есть хорошие новости. — Откуда? — Если вы посмотрите вон туда… Приноравливая движения жилистого тела к покачиванию гички, Дунбар, не веря своим глазам, уставился на три голубоватые горные вершины, вздымающиеся над серо-зеленым горизонтом. — Это земля? — Так же верно, как то, что ты еще жив, — хрипло расхохотался Джекмен. — Да будет прославлена милость Божья! Морган, который вначале счел слова рулевого за неуместную шутку, удержал чуть не сорвавшиеся с языка проклятья и согласно кивнул головой. — Слава Богу, Джекмен, хоть раз в жизни ты сказал правду. — Он нагнулся и потряс спящую девушку. — Эй, Кейт, проснись! Вставай, Тростон. — Он хлопнул Дунбара по плечам и схватил Джекмена за руку. — Впереди земля. Друзья, давайте выпьем за наше спасение. Джекмен потряс головой так, что на глаза ему упал клок спутанных волос. — Не торопитесь, друзья, если ветер сменится или мы попадем в неблагоприятное течение, то нам еще долго придется плыть. Морган добрался до кувшина с водой и проглотил всего лишь маленький глоток — большую часть своей доли он вылил в жестяную кружку, которую поднес к потрескавшимся губам Кейт Пайн. — Давай пей, Кейт, крошка. Похоже, что мы были всего на волосок от смерти. Кейт пришлось протереть несколько раз глаза, чтобы разомкнуть слипшиеся ресницы. — Что это? — прошептала она. — О Гарри, жестоко обманывать меня и подавать мне надежду. — Будь уверена, что я не шучу, — уверил ее он, — да, черт возьми, взгляни на глупый вид мистера Джекмена. — О-ох. Ведь это земля, правда? — А что же еще. — Ох, да славится имя Господне! — Даже не отпив воды, Кейт Пайн упала на колени, сложила руки и склонила маленькую головку в благодарной молитве. Юный Тростон ничего не сказал, просто потребовал свою долю воды, а потом разразился приглушенными проклятьями по поводу того, что ему достались только грязные и вонючие остатки. Морган, покачиваясь, прошел назад и уселся рядом с Джекменом на корме. — И что же, сэр, как по-вашему, что это там за земля? — Ничего не могу сказать, — ответил Джекмен, и Морган уловил в его тоне тревогу. — После стольких дней дрейфа и плавания это может быть Флорида, или Москитный берег *["377], или Бог знает что. — Он понизил голос. — Нам лучше дождаться темноты и смотреть в оба. Дай Бог, чтобы это не оказались Пуэрто-Рико или Куба, где засели кровожадные доны. Чем больше я думаю о наших силах, тем больше молю Господа, чтобы мы высадились на необитаемый остров. День уже перевалил за половину, когда показалось каменистое побережье острова, который Джекмен так и не смог узнать. Виднелись песчаные дельты в устьях рек и ручейков. На побережье в огромном количестве водились морские птицы, чей помет испещрил листья прибрежных деревьев и покрыл острые камни, словно по ним рисовали мелом. Вдалеке вздымались пологие холмы, которые поднимались к подножию поросших лесом гор, высоко вздымавшихся на фоне голубого неба Карибского моря. Нигде не было заметно и следов человеческого обитания — ни хижин, ни каноэ, ни лодок; даже ни одного дымка. Предоставив Моргану и Дунбару следить за окрестностями, Джекмен направил гичку на запад вдоль побережья, стараясь держаться на безопасном расстоянии от берега. Он искал проход между непрерывной цепью рифов, которая тянулась между лодкой и берегом. Над рифами кружились небольшие стайки морских птиц в поисках моллюсков. В конце концов уроженец Новой Англии удовлетворенно хмыкнул и, резко повернув румпель босой ногой, принялся вытягивать парус. Дунбар приподнял кустистые седые брови. — Почему ты решил остановиться именно здесь, Джекмен? — Посмотрите на воду. Даже Кейт Пайн смогла различить широкие желтоватые полосы, которые смешивались с прозрачной изумрудно-зеленой морской водой. — И что? — потребовал разъяснений Тростон. — Это осадок, а осадок попадает в море с пресной водой, вы, ослы. Не так просто найти пресную воду, но мы сейчас войдем в устье. Поставив Моргана на носу впередсмотрящим, Джекмен, покачиваясь, встал на корме и, загородив ладонью глаза от солнца, направил гичку по извилистому пути между коварными рифами, которые медленно омывали волны. Время от времени Кейт Пайн и Тростон вскрикивали, когда совершенно неожиданно прямо перед тупым носом гички возникали изогнутые кораллы; но легкое нажатие колена Джекмена на румпель всегда отводило грозящую катастрофу. Постепенно шум прибоя стал глуше, и гичка закачалась на покатых, маслянистых на вид волнах, которые понесли ее прямо к берегу, где поднимались холмы, покрытые деревьями, кустарниками, виноградом и пальмами. Морган уже начал подумывать о том, не ошибся ли Джекмен, когда, обогнув небольшой холм, гичка вошла в широкую и низкую дельту маленькой речки. Кейт Пайн неожиданно взвизгнула и вцепилась в плечо Моргана. — Боже милосердный, к-кто это? Д-драконы? Тростон тоже испустил отчаянный вопль, а Дунбар схватился за кинжал. На низком берегу всего в пятидесяти ярдах от них лежали какие-то отвратительные, огромные, перепачканные грязью чудовища, которые разевали гигантские пасти, усыпанные острыми зубами, и скалили их, казалось, в направлении гички. Покрытые чешуйчатыми пластинами чудовища не меньше пятнадцати или двадцати футов в длину со скоростью породистого рысака мчались к воде, с тучей брызг бросались в шоколадную воду и скрывались из виду. — Они убежали, — выдохнул Морган, почувствовав, что по спине у него течет холодный пот. — Что это за звери атаковали нас? С приятным чувством собственных познаний, Джекмен громко расхохотался. — Нет, Гарри, эти звери хитры и коварны, но они никогда не нападут на лодку. Морган фыркнул. — Ты мог бы сказать об этом раньше. Бедняжка Кейт и наш храбрец Тростон чуть в обморок не упали. Кто это был? — Испанцы называют их кайманами или cocodrillos; они кишмя кишат по всей Вест-Индии. В Африке их называют крокодилами и боятся: там считают, что крокодилы произошли от самого Люцифера. А теперь, — Джекмен встал и осмотрелся, — ты, Гарри, и ты, подполковник Дунбар, смотрите внимательно, не видно ли где признаков жилья. Смотрите в оба: от этого зависят наши жизни. Кейт снова упала на колени — у нее был такой потрепанный и жалкий вид. Но ее тихий голос действовал успокоительно, словно лекарство, выписанное опытным доктором: — Да славится имя Твое, о Господи, за наше спасение. Пусть милость Твоя и дальше не оставит нас на нашем пути. Морган сказал Джекмену: — Мне бы не помешал свежий заряд пороху для моего пистолета. — А этот не годится? — Нет. Заряд испорчен, а запаса пороха у нас нет. Поток неожиданно превратился в миниатюрную лагуну, окруженную белым песком. В нескольких ярдах от нее особенно пышная растительность и крошечные ручейки указывали на присутствие источника. Кейт Пайн разрыдалась от радости. — Разрази меня гром, если я еще хоть раз выйду в море, — в восторге выкрикнул Морган, выпрыгивая в темно-коричневую воду и таща на берег лодку с помощью Эноха Джекмена. Мужчины двигались неуклюже, потому что долгое время просидели в неподвижности на борту гички, но им все же удалось вытянуть гичку на серовато-белый песок, а потом они друг за другом потянулись к источнику, где удалось отпить первый глоток действительно свежей воды за последние три месяца. Воспользовавшись шотландской каской Дунбара за неимением другой емкости, Морган зачерпнул воды для Кейт. Она пила и благодарила его взглядом прекрасных, странно спокойных глаз, а потом снова оперлась о корму гички, с восхищением рассматривая небольшой водопад, который спадал, изящный и деликатный, словно шлейф от подвенечного платья, с уступа покрытой мхом скалы, поднимающейся над берегом. Тростон сделал два или три долгих глотка, и Джекмену пришлось оттащить его от источника. — Отойди, идиот! Если выпьешь еще, то сдохнешь, как отравленный котенок. К этому моменту солнце, окруженное красно-золотым ореолом, уже исчезло за горами и появились постепенно сгущающиеся тени. Джекмен дважды бывал в Вест-Индии и мог заранее предсказать, что их ждет беспокойная, голодная и полная мошкары ночь. Кейт он отослал собирать плоды дерева каремита, очень похожие на сливы; Тростона он отправил ловить крабов в камнях, которые к вечеру начали вылезать из своих убежищ. Подполковника Дунбара Энох разместил на возвышенности часовым, а Моргану велел найти место для костра и развести огонь. Сам же уроженец Новой Англии исчез в кустах и скоро вернулся, нагруженный охапкой смахивавших на капусту листьев и красно-коричневыми фруктами, которые он назвал бананами. Экипаж гички славно поужинал тем вечером запеченными бананами, вареными пальмовыми листьями и поджаренными крабами, поданными с апельсинами и плодами каремита. Не дождавшись появления звезд, Джекмен поднялся и начал забрасывать угли песком. — О, мистер Джекмен, зачем тушить наш милый маленький костер? — запротестовала мисс Пайн. — При свете так… не страшно и… и вокруг могут быть дикие звери. — Может быть, — хмыкнул второй помощник, — но они и вполовину не так свирепы, мадам, как карибские индейцы, заготовщики вяленого мяса, или дьяволы-испанцы, а свет костра привлечет их всех. — Нам надо поставить часового, как ты считаешь? -спросил Дунбар, но Джекмен покачал головой. — Вряд ли в этом есть необходимость, поскольку мы не нашли никаких следов людей. Как только потух последний уголек, Тростон, Дунбар и Джекмен с сомнительным комфортом устроились на охапках сухого мха, который скопился в тени высокого хвойного дерева. Что касается Кейт Пайн, то она отошла немного в сторону и, упав на колени, горячо и радостно молилась еще полчаса. Морган тоже еще не собирался спать, поэтому он спустился к воде, где долго простоял, вглядываясь в матовую, темную поверхность океана. Постепенно прохладный ветер охладил его горящие, обожженные солнцем плечи и принес с гор запах мириад цветов. Океан тоже умиротворенно шумел там, за цепью рифов, и волны сонно плескались в лагуне. Несчетные тысячи белых звезд на небе слагались в созвездия, которых он никогда не видел в Глеморганшире. Кровь Христова, как приятно снова чувствовать, что ты сыт, и, что лучше всего, ощущать под ногами песок, все еще теплый после жаркого солнечного дня. Какое счастье, что они выбрались из этой шаткой гички! Да. Только на земле можно наслаждаться прелестями жизни. Пусть другие шатаются по морю, но только не Гарри Морган. — Ты должен вести себя осторожно, — напомнил он себе, — и смотреть по сторонам, пока ты не освоишься в этом незнакомом мире, и тогда, клянусь Господом, — тут он глубоко вздохнул и поднял истощенное лицо к небу, — ты зажжешь такой костер, что вся Англия будет смотреть и изумляться тебе. Когда он говорил, на небе вспыхнула изумрудно-золотая звезда и прочертила светящуюся параболу. Зеленый и золотой — цвета Моргана! Вот предзнаменование того, что имя Моргана рано или поздно прогремит по всему Карибскому морю. То, что эта звезда горела совсем недолго, не пришло в голову стоящему на берегу лагуны исхудавшему юноше.Глава 8 КРОВНЫЕ БРАТЬЯ
Вскоре после того, как его товарищи заснули мертвым сном, Морган решил принять меры предосторожности, которые он обдумал уже давно. Он тихо покинул общий лагерь и отправился устраиваться почти в ста ярдах дальше, в небольшой пещерке, скрытой от посторонних глаз за густыми зарослями алоэ. И все равно Морган дважды вставал ночью, разбуженный и напуганный воплями кайманов, которые дрались в лагуне. Наконец он провалился в тревожный сон, от которого пробудился, как ему показалось, почти мгновенно, весь дрожа, напряженно всматриваясь в темноту и прислушиваясь. Это действительно собаки лают или его солнечный удар хватил? Да, это действительно были собаки, и они подняли оглушающий, раздирающий уши шум совсем рядом. Не осталось ни малейшего сомнения, что животные обнаружили лагерь Джекмена и облаивали его. Посреди всеобщего гама он мог различить голоса Дунбара и Джекмена, кричавших: — Отзовите собак, ради Бога! Нас тут всего горстка, потерпевших кораблекрушение. Морган пробрался под мокрыми от росы ветвями алоэ и стал соображать, что делать дальше. За яростным собачьим лаем он расслышал голоса нескольких мужчин, говоривших на каком-то иностранном языке. Испанцы! Конечно. Ему мгновенно пришли в голову рассказы о жестоком обращении донов с такими же путниками, которые осмеливались переступить границу тщательно охраняемой ими территории. Проклятье! Одна из собак, похоже, взяла его след. На лбу у него выступили крупные капли пота, когда он услышал, как ищейка обнюхивает землю все ближе и ближе. Огромное животное направлялось прямо к нему. От отчаяния его воображение заработало сильнее, он глубоко вдохнул воздух и изо всех сил завопил: — Вот они! Первый эскадрон, зажигай спички, направо и ждать команды стрелять! Второй эскадрон, поднять пики! Весь лес загудел и отозвался эхом на неожиданный вопль Моргана. Два огромнейших мастифа из всех когда-либо виденных Гарри бросились в чащу и начали пробираться прямо к его убежищу. Морган, с детства знакомый с повадками охотничьих собак, принял мудрое решение не шевелиться и не поднимать руки — сложная задача, поскольку от страха он даже почувствовал горький привкус во рту. — Эй, Морган! Прикажи своим людям сомкнуться. К Дунбару! К Дунбару! — Шотландец, опытный ветеран в делах сражений, попытался поддержать придуманную Морганом хитрость. — Вам не удастся нас обмануть, — произнес какой-то голос по-английски. — Вас только пятеро, и у вас нет оружия, поэтому стойте спокойно и не делайте лишних движений. — Это ложь! — вмешался Морган. — Нас двадцать, и мы вооружены. Кто-то резко рассмеялся. — Nom de Dieu! *["378] Мы следим за вами с того момента, как вы высадились на берег. Кто-то третий тоже расхохотался. — Если бы вы не были слепы, как церковные крысы, вы бы нас заметили, верно, Педро? — Вы англичане — и мы тоже, — произнес Джекмен. — Пожалуйста, не трогайте нас. — Мы не англичане, — огрызнулся первый говоривший. — У нас нет национальности. — Тогда подходите, безымянные ублюдки, и попробуйте взять нас. Джекмен поднял бесполезный пистолет, а подполковник Дунбар проворно скинул кафтан и замотал его вокруг левой руки словно щит. Крепкий кинжальный клинок блеснул в слабом свете звезд. — Стой там, ты, с пистолетом, — скомандовал английский голос. — Бросай его! Мои мушкетеры целятся прямо тебе в живот. Брось его, я сказал. Огромные собаки перед Морганом угрожающе зарычали и обнажили клыки, но не бросились на него. — Restez tranquille! *["379] — Зашуршали ветви, и в поле зрения Гарри появилось человеческое существо самого отталкивающего вида. Держа в руках короткоствольное ружье и двигаясь почти бесшумно, к неподвижным путешественникам бросился человек лет пятидесяти. Вокруг его головы был повязан грязный желтый платок. Из-под этого головного убора в беспорядке выбивались волосы того же рыжего цвета, что и спутанная борода незнакомца. Морган видел немало бродяг и беспризорников, браконьеров, конокрадов и воришек, но никогда еще он не встречал никого, даже отдаленно похожего на этого бандита, чьи штаны из грубой ткани держались на поясе, с которого свисали два огромных пистолета. На ногах у него были сандалии из кожи грубой выделки, на которой еще сохранились остатки черного и белого меха. Этот дикарь был похож на ходячий арсенал, поскольку кроме мушкета и двух пистолетов через одно плечо у него свешивалась перевязь, к которой была прицеплена короткая абордажная сабля. Приблизившись на расстояние около десяти ярдов, незнакомец остановился, а потом громко щелкнул пальцами, словно выстрелил из пистолета. — Viens, Hector! Ici, Pluton! — К невыразимому облегчению юного валлийца, обе собаки прекратили лай и рысцой побежали к своему хозяину. — Tu parle francais? *["380] — По-французски я знаю всего несколько слов, монсеньор. Что вы хотите? Вы на самом деле пираты? Остальные заревели: — Mecque! Пираты, nevaire! Мы самые честные люди, охотники и заготовщики вяленого мяса. Невежливо звать нас пиратами, это просто оскорбление. А теперь поворачивайся и иди к своим товарищам. Заготовщик вяленого мяса неуклюже развернулся, потому что в руках у него была подставка, которая поддерживала тяжелый мушкет, направленный в живот Моргану. Из чащи джунглей вынырнула еще одна кошмарная фигура. Этот говорящий по-английски человек был одет в такую же грязную и оборванную одежду, как и его компаньон, но в дополнение к этому на нем был жилет из белой и коричневой телячьей кожи. — Клаас! Педро! Выходите, но держите этих идиотов на мушке. Появились еще двое с саблями и взведенными пистолетами наготове. На них были круглые фетровые испанские шляпы с обрезанными полями. Кейт Пайн испустила испуганный вопль. — О-ох. Ради Бога, пощадите нас, благородные сэры. — Мы не «благородные сэры», поэтому прекрати нытье. — Англичанин в жилете из телячьей кожи вышел вперед и презрительно оглядел потерпевших крушение. — Ну и голодранцы! Черт меня подери, Фалле, если наша добыча стоит хотя бы муидор! *["381] Морган добродушно рассмеялся и, все еще в сопровождении двух собак, медленно приблизился. — Вы и сами одеты не по последней моде. Другой англичанин, бродяга с рыжей бородой, у которого не хватало одного уха, громко сплюнул. — Заткнитесь, чертовы болтуны. — Он повернулся к Моргану. — Эй ты, чернявый, кто ты такой? Морган как можно короче описал «Удачливого» и его так плохо закончившееся плавание, но предоставил Джекмену поведать о странствиях гички; англичанин переводил все это на чудовищную смесь французского, голландского и, как это ни странно, португальского. Морган почувствовал, что прежняя враждебность незнакомцев исчезла. Странно, что эти разбойного вида парни бросили на затихшую в кустах Кейт только беглый взгляд. Морган неожиданно протянул англичанину руку и назвал свое имя. Тот пристально взглянул на него. — В береговом братстве меня называют Билли Дублоном, — он дотронулся до своей огненной бороды, — и пусть так и будет. А это мой кровный брат, Фалле, он наш предводитель. француз не торопился пожать Моргану руку. Он оказался коренастым, кривоногим мужчиной с черными блестящими глазами и кожей странного бронзового оттенка, который проступал из-под загара. В конце концов он все-таки улыбнулся на редкость открытой улыбкой, обнажившей кривые желтые остатки зубов. Глядя Фалле прямо в глаза, Морган указал на своих товарищей. — Восемь человек лучше, чем четверо, — как ты думаешь? Француз рассмеялся. Тот, кто назвал себя Билли Дублоном, сплюнул. — Ты быстро соображаешь, парень, на этих широтах тебе это пригодится. Познакомься с братьями. Как и можно было ожидать, Клаас оказался голландцем по происхождению, но по виду это было совершенно не заметно. Он не был ни белокурым, ни голубоглазым, ни флегматичным. В неправильных чертах его мрачного и свирепого лица, к тому же сильно попорченного перенесенным венерическим заболеванием — половина века отсутствовала, — ясно проглядывала испанская кровь. На гладком, почти безбородом лице Педро, португальца, выделялись темные красивые глаза, скорее подходящие девушке, чем мальчишке возраста Тростона. Его изящная, стройная фигурка, с хорошо развитыми мускулами, тем не менее была пропорционально сложена. — Клаас и Педро, — назвал Фалле своих товарищей. Лагерь заготовщиков вяленого мяса располагался в глубине небольшой долины меньше чем в половине лиги к востоку от лагуны. Дублон сказал, что эта земля — северное побережье Эспаньолы *["382]. Джекмен выругался. — Значит, это все-таки испанская территория? Похоже, нам не повезло, Гарри. — Но он немного расслабился, когда предводитель отряда объяснил ему, что только южное и западное побережья этого острова контролируются испанцами. А здесь, на северном побережье, можно было не бояться атаки; здесь никого не было, кроме отдельных групп охотников на диких свиней и мясную дичь — как они сами. Морган захотел узнать, сколько людей обычно входит в такую группу. — Редко больше шести кровных братьев охотятся вместе; иногда всего двое. Так легче ускользнуть, когда проклятые доны, — лицо Дублона исказила настоящая ненависть, — преследуют нас, а за последнее время это случается слишком часто. В прошлом месяце на Коровьем острове *["383] чертовы папистские собаки схватили Тома Брайта и его кровного брата. — Кровного брата? — Морган нахмурил лоб. — Друг, должен признать, что я не понимаю, что это значит… — Ничего удивительного. — Дублон резко рассмеялся. -У братьев побережья — а ты еще много о нас услышишь, если выживешь, — не принято брать себе женщин, потому что они слишком слабы, забывчивы и болтливы. Вместо этого мы заводим себе кровного брата, или мателота. Так вот, Фалле — мой брат, а Педро — брат Клааса. Кровный брат сражается плечом к плечу с тобой, заботится о тебе, если ты заболел. Все его — твое, а твое — его. Говорящий удовлетворенно мотнул спутанной рыжей бородой. — Это на редкость славная жизнь. Мы все делим между собой. — Он подмигнул. — Это все равно что семейная жизнь, только лучше, потому что нет вечно ноющей и стонущей жены. Так и Клаас и Педро: они уже шесть или семь лет делят вместе одну хижину и никогда не отходили друг от друга больше чем на несколько ярдов. Морган со все возрастающим изумлением выслушал это объяснение и постепенно начал понимать, почему заросшие охотники так мало внимания уделили Кейт. Немного позже Морган с огромным трудом пытался расспросить Фалле, почему испанцы так преследуют братьев, которые хотят только, чтобы их оставили в покое и дали им охотиться на дикий рогатый скот. Раз они отказались от национальной принадлежности, то не представляют угрозы для испанцев. — Испанцы очень глупы, — заявил Фалле, когда они беспорядочной колонной вышли на берег. Фалле и Морган приняли решение оставить гичку в лагуне, потому что там должен быть отличный клев. — Они пытались выжить нас; уничтожая дикий скот на необитаемых островах, а от него зависит наша жизнь. Поэтому иногда мы берем испанских коров вместо диких. Они сердятся, иногда убивают нас, но чаще мы убиваем их — безжалостно. Ma foiГлава 9 «IN NOMINE DEO…» — «ВО ИМЯ ГОСПОДА…»
Наверное, из-за того, что собаки тоже наелись до отвала, ни Гектор, ни Плутон ничего не почуяли, пока не было уже слишком поздно. Их хозяева успели только бросить полный ужаса взгляд на цепь фигур в коже и стали, которая тихо и безжалостно сомкнулась вокруг них, и схватиться за первое подвернувшееся под руку оружие. Собаки подняли жуткий лай и, словно извиняясь за свою оплошность, с рычанием бросились на ближайших врагов. Их бросок дал охотникам несколько драгоценных секунд для того, чтобы вытащить мечи, ножи и кинжалы. — Спина к спине! — проревел Дунбар, его седая грива развевалась на ветру, словно знамя. — Сюда, к Дунбару! А ну-ка суньтесь, убийцы! Морган, скорчившийся в своем убежище, обдумывал, не попытаться ли ему внезапно атаковать фланг неприятеля — это неожиданное нападение могло отвлечь атакующих, — но, стряхнув с себя сон и оглядевшись вокруг, он понял, что это было бы бесполезно. Враг превосходил охотников численностью в пять или шесть раз, и все новые солдаты неприятеля бежали из-за деревьев. — Santiago! Muerto a los piratas! *["390] — завизжали атакующие и, зарядив аркебузы, пошли в атаку. Сзади в кустах раздался шорох и треск веток. Морган резко развернулся с кинжалом в руках, чтобы прорваться в джунгли, и приготовился к прыжку. Но тут он узнал Джекмена, который неуверенно брел вперед, промокший и облепленный обломками веток и мокрыми листьями. Глаза у бывшего второго помощника были красны, и он. еще не вполне протрезвился. — Что за… — начал он, но резкий жест Моргана заставил его захлопнуть рот. Вместе они некоторое время постояли в нерешительности. — Santiago! Mate! Mate! Abajo los hereticos! *["391] — Ругательства, крики и выстрелы смешались в жутком убийственном вопле, в котором резкое звяканье стали смешивалось со смертоносными звуками огнестрельного оружия. Они услышали, как одна из собак завизжала от боли, а потом раздался громкий крик Дунбара: — Подходите, проклятые паписты! Вот вам! — Раздался жуткий вопль и проклятья. — Это арбалет, — выдохнул Морган, когда раздалось приглушенное «дзинь», за которым последовал вой другой собаки. Какой-то мужчина, — похоже, Клаас — коротко вскрикнул перед тем, как его голос перешел в предсмертное хрипение. Вцепившись во влажный мох, Джекмен дрожал, словно напуганный щенок. — Лучше нам убраться отсюда. Тем бедолагам уже все равно не поможешь. Морган покачал головой. — Бесполезно. У испанцев тоже есть собаки, слышишь? — Да, но… — Если мы отойдем подальше отсюда, они возьмут наш след, и тогда нас наверняка поймают. И снова Гарри Морган с изумлением осознал, что под влиянием смертельной опасности он не терял ясности рассудка и мог принять правильное решение. Прямо над ним возвышалось огромное дерево, которое давало им надежду на спасение. У него оказалась густая листва и раскидистые ветви, и на него легко было влезть. Морган ткнул в него пальцем и прошептал: — Не сломай ветку и не поцарапай ствол! — и тут же начал карабкаться наверх. Быстро, чтобы не слышать жалобные, душераздирающие вопли Кейт Пайн, Гарри Морган взбирался все выше и выше, пока самые нижние ветки дерева не скрылись из виду в густой листве. Морган оседлал крепкую ветку, и, словно напуганная белка, прижался к стволу. Отсюда лагерь не был виден, так же как и земля внизу; но, соответственно, он мог предположить, что и его никто не увидит. Джекмен, привыкший к корабельной качке, тоже быстро залез наверх и устроился на соседней ветке немного пониже. Осторожно вытянув шеи, два беглеца обнаружили, что им хорошо видны ямы для заготовки мяса с пустыми решетками и накрытые пальмами кожи, а также берег и море. К этому моменту звуки сражения уже почти совсем стихли, раздавались только отдельные выстрелы. Послышался лай собак, которых выпустили на берег. Вскоре они различили высокие, торопливые голоса победителей. Когда небо посветлело, Морган смог различить лодки неприятеля; на берегу лежала пара пирог. Голой ногой он толкнул Джекмена в плечо и показал ему на длинное гребное судно, которое стояло на якоре примерно в трети мили от берега. Водоизмещением примерно тонн в пять, оно напоминало большую барку. Экипаж корабля разворачивал единственный желто-коричневый парус, который крепился к неимоверно длинной мачте. Кроме тех пирог, которые уже валялись на берегу, с барки спускали на воду и третью пирогу, которая смахивала на гигантского коричневого водяного жука. Группами по двое и трое испанцы методично прочесывали лагерь; некоторые из них вели на поводке собак, похожих на Гектора и Плутона. При виде этих животных Морган почувствовал приступ тошноты. Если хотя бы одна из этих тварей сунется в заросли алоэ внизу, то для двух беглецов останется только смерть или позорное рабство. Почему, ну почему он или Дунбар не настояли на том, чтобы затушить этот проклятый костер? Он же собирался это сделать, да, наверное, и сделал бы, если бы не размягчающее воздействие барбадосского рома на мозги. Проглотив комок в горле и все еще дрожа всем телом, Морган решил оставить бесцельные упреки и огляделся по сторонам. У кромки воды виднелась лежащая фигура, похожая на кучу лохмотьев, из которых торчала стрела арбалета. Это был Фалле или Дублон. Изящную фигуру Педро он сразу узнал — тот лежал в луже запекшейся крови у заготовочных ям. Кучка испанцев, — больше уже не оставалось ни малейшего сомнения, что это одна из их экспедиций, целью которых являлось уничтожение заготовщиков вяленого мяса, — была занята тем, что снимала с трупа Педро остатки его жалких лохмотьев. Другой охотник, наверное Клаас, был убит на тропе, ведущей к лагуне, где в тени огромного дерева гри-гри лежала гичка с «Удачливого». Два солдата в стальных шлемах в виде обрубленного конуса нагнулись, чтобы раздеть мертвого голландца. Когда тело осталось совершенно обнаженным, коренастый парень, прихрамывая, принес тяжелый меч и с такой силой рубанул им, что голова Клааса с одного удара отделилась от плеч. Его товарищи в грязных красных и черных мундирах вначале вываляли голову в песке, а потом глубоко всадили наконечник пики в обрубленную шею. — Mira! Mira! Una bandera nueva — новый флаг! -кричали они и высоко поднимали пронзенную голову. Морган, которого тошнило от ужаса и бессильной ярости, судорожно вцепился в ствол и смотрел, как испанцы отрезали головы у остальных погибших. — Да они хуже дьяволов, — тихо простонал Джекмен. -Постойте… — Тихо! У них собаки — они тебя услышат. Теперь барка, которую толкали вперед шесть или восемь пар рабов, с трудом поворачивавших двадцатифутовые весла, собиралась пристать к берегу разоренной бухты. Она равномерно покачивалась при движении весел. Спустя короткий промежуток времени испанец в рубашке в бело-голубую полоску появился из невидимого лагеря и развел огонь в самой маленькой из двух ям для заготовки мяса. Вскоре в небо пополз серо-голубой дым, распространяя вокруг резкий, жирный запах. На берегу раздалась команда, и появилось около двадцати солдат, которые выстроились перед высоким человеком в серой монашеской рясе, подвязанной веревкой, который спрыгнул на берег из барки. Это, вне всякого сомнения, был один из тех монахов, которые в течение почти двух столетий колесили по Карибскому морю и сеяли семена слова Христова. Meдленно и важно монах двинулся вперед, за ним почтительно следовал офицер в алом камзоле, расшитом серебром, в стальных латах и блестящих наколенниках. На его модной шляпе трепыхалось пышное голубое страусиное перо. Торжественно ступая по песку, в сопровождении солдат, серый монах направился к захваченному врасплох лагерю. Вдруг он остановился. — Защитите меня! Ради нашего любимого Господа, спасите меня! Из невидимого за кустами лагеря выскочила обезумевшая Кейт Пайн. Она была босиком и в одной рубашке, поэтому неслась словно испуганная лань. С растрепавшимися волосами, она подбежала к монаху и упала перед ним на колени, подняв с мольбой руки. — Слава Богу, — пробормотал Морган, — эти исчадья ада не трогаются с места; теперь бедняжка Кейт в безопасности. — Пока рано судить об этом… — прошептал Джекмен. — Ты плохо знаешь этих дьяволов. Монах отступил назад, чтобы отстраниться от англичанки, пытавшейся уцепиться за его рясу. На вершине дерева были отлично слышны жалобные причитания Кейт: — Да славится Господь, который послал мне вас, преподобный сэр. Я… я прошу вашей за… защиты. Как слуга Господа, прикажите этим дьяволам… Фигура в сером капюшоне неожиданно вытащила заткнутые за веревку четки и склонилась над коленопреклоненной девушкой. На плохом английском он спросил: — Ты целовать распятие? Двое на дереве смотрели, как Кейт побледнела, на мгновение замешкалась, а потом ответила: — Но, святой отец, я не могу. Это… это ведь идолопоклонство? Монах нетерпеливо ткнул ей в лицо распятье из слоновой кости в серебряном окладе. — Ты целовать! — Но когда Кейт отшатнулась, не вставая с колен, монах медленно отвернулся и пошел прочь. С похотливыми воплями круг мужчин сомкнулся и полностью скрыл с глаз бледную фигуру Кейт и ее разметавшиеся волосы. В ярких лучах солнца испанцы в ярких голубых, желтых, зеленых и красных кафтанах, стальных шлемах и латах больше всего напоминали рой бабочек, слетевшихся к какому-то притягательному цветку. Когда мужчины подняли полубесчувственную Кейт и потащили ее в кусты, Морган заметил, что она уже совершенно раздета. К несчастью, в этот момент Кейт пришла в себя и осознала, что негодяи тащили ее в хижину. Наблюдать, как она изгибается всем своим бело-розовым телом, пытаясь вырваться, и отчаянно молит о пощаде — ее крики разжалобили бы и кромвелевского судью — для двух беглецов было хуже всякой пытки. Панический визг пронесся по всему пляжу, и в этих криках слышалось такое отчаяние, боль и смертельный ужас, что Морган почувствовал, как у него похолодела спина. Он услышал, как Джекмен тихо изрыгает проклятья в бессильной ярости. Постепенно вопли и жалобы сменились душераздирающими стонами. А потом был слышен только злобный хохот, проклятья и стук игральных костей. За этот день беглецам еще раз пришлось убедиться, что Дублон и Фалле ничуть не приукрасили свои рассказы о жестокости солдат его католического величества Филиппа IV, короля Арагона и Кастилии, по отношению к чужеземцам. Ближе к полудню, когда огонь в яме для заготовки. мяса потух, превратившись в ярко светящиеся угли, появилась группа полуголых испанцев, веселых и довольных благодаря паре глотков рома и обилию пальмового вина Педро. Они тащили за собой крепко связанного Тростона. Страх смерти придал ему силы, и он упирался, пытаясь вырваться от четырех сильных солдат. Морган с ужасом догадался, что сейчас произойдет. — Боже милосердный, запрети им! — ахнул Гарри Морган, а в его сердце вспыхнула неутолимая и не знающая жалости ненависть, которая уже не угасала всю его жизнь. Несмотря на бессвязные мольбы Тростона и отчаянные вопли, от которых даже собаки шарахнулись в стороны, его вначале оглушили крепкой дубинкой, чтобы легче было привязать полосами кожи лицом вниз к решетке для заготовки мяса. — Умоляю вас, добрые сэры, перережьте мне горло, -молил несчастный. — Ради Бога, убейте меня! Я… я не вынесу… — Взвился клуб дыма, и Тростон зашелся в кашле, прервавшем его слова. Наполнив разбавленным ромом половинки кокосовых орехов, солдаты и матросы полукругом расположились вокруг ямы, подавая советы тому, кто принялся торопливо бросать на угли мелкие щепки. Из своего укрытия беглецы могли с ужасом видеть все происходящее до малейших деталей. Морган иногда пытался отвести взгляд, но не мог этого сделать. Не мог этого сделать и Джекмен. — Богом клянусь, — выдохнул уроженец Новой Англии, — если я пожалею хоть одного дона, пусть меня постигнет та же участь! Мучители не торопились — вначале они разожгли огонь под ногами жертвы, а потом постепенно продвигались дальше. Когда им казалось, что обнаженное тело поджаривается слишком быстро, то они поливали дергающегося и извивающегося Тростона пальмовым маслом, пока маленькие язычки пламени не стали лизать все его тело. Похолодев от ужаса, Морган слышал, как Тростон кашлял, пытаясь кричать в густом дыму. Каждый раз, когда ветер относил дым в сторону, несчастный стонал, кричал и молил поскорее прикончить его. Но большинство мучителей спокойно сидели в тени кокосовых пальм, пили и полдничали. Пытка продолжалась два томительных часа. Морган тоже мучился. Страдая от судорог, он не осмеливался пошевелить ни единым мускулом, потому что внизу возились собаки. Казалось, вечность прошла, прежде чем наконец обожженное, почерневшее тело неподвижно замерло над углями. К негодованию нетерпеливых стервятников и ворон, победители отдыхали почти до заката, когда солнце уже совсем низко опустилось над горами Эспаньолы, а по долине протянулись сгущающиеся тени. Тогда они стали собираться, и к закату последняя охапка кож и последний мешок с мясом были погружены на барку под хлопанье крыльев стервятников, которые спешили поживиться телом Клааса. Вначале рабы испанцев, ритмично взмахивая веслами, вывели барку на глубину, а потом подняли желто-коричневый парус. Ведя за собой три каноэ и пирогу Фалле, испанцы взяли курс на запад, и спустя полчаса барка казалась не больше листика, затерявшегося в просторах Карибского моря. Только когда барка отошла на значительное расстояние и не могла уже вернуться, Морган и его товарищ медленно начали спускаться вниз. Спустившись, они прежде всего молча напились воды. — Кровь Христова! Мне казалось, что я еще со времен потопа мечтал об этом! — проговорил Морган. Вытерев рот тыльной стороной ладони, Джекмен угрюмо буркнул: — Как ты можешь шутить? Я никогда этого не забуду, и испанцам этот день дорого обойдется. Ты видел, что от них осталось? Морган немедленно вспыхнул. — Нечего надрываться. Послушай меня, мрачный олух-янки. Если я не кусаю губы до крови, как ты, это еще не значит… — Он набрал полную грудь воздуха и прошипел: -Да я убью троих испанцев там, где ты убьешь одного! Джекмен, порыв которого уже прошел, покачал растрепанной головой. — Больше всего мне жаль бедняжку Кейт. Они скоро поняли, что Дублон, Фалле и Дунбар погибли в первые же минуты сражения, но оказали значительное сопротивление, потому что рядом с лагерем виднелись четыре свежие испанские могилы с грубыми деревянными крестами. Свирепо ругаясь, Морган сбил кресты. — Боже Всевышний! — вскрикнул Джекмен. — Посмотри, Гарри! А-ах! Дайте только мне добраться до этих папистских собак! На ветвях дерева покачивались подвешенные за волосы и все еще узнаваемые головы Дублона, Фалле, Педро, Клааса, Тростона и Дунбара. Под деревом песок почернел от крови. Головы покачивались на ветру и как будто в ужасе смотрели широко раскрытыми неподвижными глазами на жестокий мир, который они так мгновенно покинули. К стволу дерева была прикреплена бумажка, подписанная: «Alonso de Campo Basso, Coronel de la Presidencia de Santo Domingo» *["392]. Единственно понятное Моргану слово было «Luteranos» — лютеране. В надежде, что когда-нибудь ему удастся расшифровать эту надпись, он сорвал листок со ствола и засунул в карман. Слово «лютеранин» было вырезано и на спинах Педро и Фалле. Это слово можно было прочесть только потому, что трупы лежали на спине, и стервятники не смогли добраться до него. Моргана трясло от невыразимой ярости; Джекмен заметил, что шея валлийца покраснела и набухла словно у молодого быка, а челюсть выпятилась вперед. Его глаза сверкали, словно у дикой кошки. Таким Джекмену придется увидеть Моргана всего лишь несколько раз в жизни. Только после долгих поисков смогли они найти Кейт Пайн, или, скорее, ее тело, которое лежало в маленьком прудике с зеленоватой водой. Ее темно-каштановые волосы медленно плыли по воде, словно причудливые водоросли. Стаи ворон пытались добраться до тела, но им это не удавалось, потому что из воды виднелись только плечи убитой девушки и ягодицы. — Боже! — ахнул Джекмен, шарахнувшись назад. — Она еще жива. Морган бросился вперед, но замер на месте и отчаянно вскрикнул, когда до его сознания дошло, почему Кейт казалась живой. Стайка проворных голубых и желтых рыбок раздирала на части кишки, которые вывалились из распоротого жестоким ударом живота девушки. Двое уцелевших не тратили зря время и силы на то, чтобы похоронить усопших — голодные стервятники скоро не оставят от них ни малейшего следа. Они хотели как можно скорее убраться отсюда. Морган и Джекмен не обменялись почти ни одним словом, обыскивая лагерь, после чего им стало ясно: из оружия у них есть только короткое копье и топорик. Если бы не гичка с «Удачливого», спрятанная у лагуны, куда привел ее Джекмен, у них не осталось бы ни малейшего шанса. Но теперь они набрали фруктов, подобрали мясо, которое обронили испанцы, и в сгущающихся сумерках отплыли из лагуны. Движимые тем смутным чувством надежды, которое является одним из немногих положительных качеств, присущих человеку, они сказали себе: что бы ни случилось с ними в дальнейшем, уже ничто не может оказаться страшнее того, что они пережили.Книга вторая АДМИРАЛ ПОБЕРЕЖЬЯ
Глава 1 ПРИВЕТСТВИЕ ПОРТУ
В конце апреля 1659 года стояла ужасная жара. Небольшая гавань Кайоны, почти со всех сторон окруженная сушей, служила убежищем небольшой горстке кораблей, мирно покачивавшихся на приколе. Только нескольким на редкость энергичным людям хватило сил не уснуть и не пропустить появление небольшого крепкого судна прямо напротив узкого пролива, ведущего в гавань Кайоны. Вскоре на незнакомом судне подняли желто-зеленый флаг, и одновременно с его правого борта поднялись мягкие клубы дыма. Громко выпалила вторая тяжелая пушка, послав грохочущее приветствие в сторону широкого желтого пляжа Кайоны, выше тройного ряда крытых тростником лачуг и ярко-зеленых холмов. Грохот и залпы явно рассердили целую флотилию дремлющих на изумрудной воде серо-коричневых пеликанов. На вершине скалы, возвышающейся над Кайоной и гаванью, расположился форт, построенный англичанином Элиасом Уаттсом и его ста пятьюдесятью выносливыми сторонниками на месте развалин старинной испанской крепости, оставленной и взорванной около четырех лет назад, во время нападения генерала Венейблза на Ямайку. Внутри зубчатых стен с бойницами текла неторопливая жизнь. Один за другим из черного прямоугольника тени, образованной дверью сторожки, вынырнули четыре бандитского вида фигуры и проскользнули прямо к человеку около маленькой пушки, последней из крепостных орудий. Они не слишком торопились, услыхав звуки салюта с «Вольного дара». Это судно было очень хорошо известно в Кайоне, да и вообще на Тортуге. — Чтоб мне провалиться на месте, — проворчал главный канонир, — кто бы мог подумать! Впервые за два года Гарри Морган вернулся на том же корабле. Что касается меня, то я был просто уверен, что в этом плавании он все-таки захватит настоящий корабль. Его обгоревший на солнце собеседник, на котором были одеты только потрепанные штаны, встряхнул головой. — Ты и правда так считаешь? А я нет. Почему? Да потому, что Гарри Морган не потянул бы это дельце. Он никогда не сунет голову в петлю. Он осторожен, этот Гарри. Помнишь, Родди, как он впервые здесь появился? — Главный канонир нагнулся, чтобы осмотреть запальный фитиль, постоянно тлевший на случай непредвиденных обстоятельств. — Так вот. Я был там и видел его, этого парнишку Джекмена и еще четырех человек, вытаскивающих ободранную старую лодку. Черт возьми, они были еле живы от голода. — А где Морган отхватил это судно? — спросил другой канонир. — Убейте меня, если я знаю хоть что-нибудь, кроме того, что на это испанское каботажное судно он наткнулся случайно и приплыл на нем от Санта-Лусии, примерно в двух сотнях миль к востоку отсюда. Целую минуту главный канонир молча смотрел на то, как аккуратное, выкрашенное желтой краской судно начало проходить наиболее трудную часть пролива с водой густого темно-синего цвета, единственно возможного прохода во внутреннюю гавань. — Ладно, первый флот братьев вернулся домой. Как вы думаете, какие новости он принес старому Элиасу? Мне кажется, что это была удачная экспедиция против испанцев, — бросил он через плечо, а затем выругался: — Держи фитиль крепче! — Эй, Сэм! Может, мне пальнуть разок? В этот момент Сэм резко дунул на фитиль, чтобы пламя подожгло порох в запале, и от усилия линялая голубая повязка, закрывающая его голый череп, съехала вперед. Он подтянул ее обратно. Тонкая струя пламени взмыла вертикально вверх, маленькая пушка выстрелила, выпустив небольшое облачко дыма, которое лениво повисло, закрывая амбразуру. Из лачуг, беспорядочно усеявших имеющий форму полумесяца берег Кайоны, высыпала масса оборванцев и бродяг. — «Вольный дар» вернулся! — Что нового? — Мы победили? На беспощадный солнцепек, щурясь и прикрывая рукой глаза, выходили волосатые, неухоженные люди, одетые в лучшем случае в грязное подобие одежды, а то и вообще без нее, среди них были и безликие женщины, делающие слабые попытки прикрыть свои грязные тела какими-то тряпками. Крадучись, все они направились к кромке воды мимо разбитых ящиков и потопленных лодчонок. Взбудораженный небольшой поселок стряхнул остатки долгого месячного оцепенения. Почти целую неделю вся Тортуга жила в ожидании возвращения этой маленькой армады мстителей, спущенной на воду береговыми братьями. Уаттс, объявивший себя представителем вице-губернатора Брейна с Ямайки, — хотя никто никогда не видел, чтобы он показывал какие-либо документы, подтверждавшие его полномочия, — выдал каперские поручения французским, голландским и английским капитанам, чтобы они могли отомстить ненавистным испанцам за восемьдесят пиратов, которые окончили свои жизни на виселице. Была ли успешной эта экспедиция? Все: хозяева таверн, лавочники, ростовщики, сутенеры, проститутки и убийцы -очень хотели узнать ответ на этот вопрос, поэтому они и готовились к встрече. К досаде разношерстного населения Кайоны, владелец «Вольного дара» вовсе не торопился сойти на берег. Значило ли это, что их постигла неудача? Возможно. Большинство пиратов, часто посещающих Тортугу, в случае удачи сходят на берег, рассказывая и похваляясь своими победами. Толпа замерла в ожидании. Наверное, этот большой корабль с развевающимся зелено-желтым флагом принес плохие вести. На берегу раздались оживленные крики, когда примерно пятнадцать человек отчалили на шлюпке от «Вольного дара». Несмотря на первое впечатление, экспедиция могла все же оказаться успешной. Иначе как объяснить то, что моряки на борту были одеты в новые шелковые рубахи, плащи и камзолы? Восторженные крики вырвались у нечесаных обитательниц кайонских публичных домов, когда зоркие женщины издалека разглядели тяжелые ящики, бочонки и полотняные мешки, подаваемые сверху, с борта «Вольного дара». Во влажном мраке караульной комнаты, находящейся позади резиденции губернатора, аккуратно подкручивал свои усы полковник Чамлетт Арундейл, бывший ранее генералом королевской кавалерии и пониженный в ранге за взятки и воровство. Он был сильно не в духе, раздражен и готов взорваться из-за любого пустяка. Будь проклят старикан Уаттс вместе со своими представлениями о формальностях! Здесь, в этой вонючей, мерзкой дыре, которая только называется портом, ему как помощнику губернатора придется одеваться в тот же поношенный алый с золотом, ужасно жаркий мундир, который носили солдаты во дворце Уайтхолла. — Роберт! — не оборачиваясь, рявкнул помощник губернатора. — Ты, чертов скряга, ступай вниз и принеси мне два молочных пунша! — Есть, сэр, ваше превосходительство, сэр! — Дженкинс! Окованная железом и обитая гвоздями дверь со скрипом отворилась. — Да, сэр? — Сходи за этим мерзавцем Морганом и отправь его прямо ко мне. Я не позволю ему хвастать и трепаться по всему городу, пока он не представит мне отчет — черт побери твою тупость! Оставь в покое эту проклятую дверь, пусть будет открыта! Здесь и так уже жарче, чем в самых глубинах ада. Чувство приятного злорадства, правда не без примеси тревоги, охватило помощника губернатора. Слава Богу, что сегодня старый Уаттс так трясется от перемежающейся лихорадки, что его зубы стучат быстрее кастаньет любой из испанских шлюх в порту. Капитана Генри Моргана, несмотря на его дико вспыльчивый и невероятно невоздержанный валлийский характер, он понимал и любил за его несомненно знатное происхождение, хотя и тайно завидовал его несгибаемой силе воли. Из всех пиратских капитанов, как старых, так и молодых, которые часто бывали на Тортуге, только Морган действительно мог равняться с Эдвардом Мэнсфилдом, хитрым и ловким опытным флибустьером, капитаном и, когда это было выгодно, пиратом. К своему большому удивлению, Арундейл обнаружил, что он ждет Моргана, стоя рядом с красивым столом красного дерева, который капитан Бартоломью Португалец украл во время одного из своих бесчисленных походов к берегам Юкатана. Мускулистая фигура Моргана совершенно закрыла собой невысокий дверной проем. — Черт побери, комендант! — Он помолчал немного. -Я чертовски рад чести приветствовать тебя. Еще неделю назад я думал, что вряд ли удостоюсь этой чести. Арундейл протянул руку. Светло-зеленые глаза помощника губернатора впились в этого коренастого молодого человека примерно лет двадцати пяти. В знак приветствия капитан «Вольного дара» приподнял плоскую испанскую шляпу с мягкими полями, надетую прямо на повязанный красно-желтый полосатый платок. Арундейл отметил про себя, что светло-коричневые, почти рыжие усы Моргана стали длиннее, а шея, да и весь он под нещадным карибским солнцем стал какого-то орехового, почти коричневого цвета. Ярко блестели свисающие из ушей пирата золотые серьги, каждая была украшена тремя грубо обработанными изумрудами. Красная вельветовая перевязь, поддерживающая очень прочную изогнутую саблю, была надета прямо на мокрую от пота льняную рубаху. Широкий кожаный резной ремень поддерживал не только мешковатые штаны цвета перезревшей сливы, но и пару изящных, хотя и опасных абордажных пистолетов. Они пожали друг другу руки, затем, в ответ на приглашение Арундейла, Морган уселся в кресло и вытянул перед собой ноги в желтых чулках. Немного напряженно Арундейл тоже уселся, а затем наклонился вперед, не в силах скрыть своего любопытства. — Ну, так что, Гарри? Да говори же! Нам тут, в Кайоне, было не так-то просто ждать, грызть ногти и только догадываться, как у тебя обстоят дела. Я полагаю, ты задал донам хорошую трепку? Выпуклые черные глаза Моргана остановились на собеседнике, и он выпятил вперед челюсть. — Да, мы одержали что-то вроде победы, я так думаю. — Что-то вроде? Ты потерпел неудачу при взятии Сантьяго? — Голос помощника губернатора дрогнул. — Нет. Мы до известной степени выполнили наши намерения, но, пусть меня поджарят в аду, это дело оказалось плохо продумано. — Вы захватили добычу? Сколько рабов? — Добыча есть, вдвое меньше того, что нам бы следовало получить. Арундейл ждал. Он хорошо знал, что Морган всегда был очень осторожен в выражениях. Топая плоскими ступнями с розовыми подошвами, вошел Роберт, огромный негр. Он нес массивные золотые кубки с молочным пуншем. — Лопни твои глаза! — проворчал Арундейл, награждая негра пинком за неловко поставленные бокалы. — Лопнут, лопнут! — бросил реплику Морган. — А потом к нам вернется его королевское величество король Карл. Арундейл сухо улыбнулся. — Черт меня побери! Гарри, неужели ты никогда не откажешься от этой дурацкой мечты? — А ты? — вызывающе бросил молодой человек. — После всего, что с тобой случилось? Помощник губернатора горько засмеялся. — Я всю жизнь поддерживал Стюарта и старался внести посильный вклад в дело его возвращения на престол. Не моя вина, что у Стюарта ничего не выходит. Но теперь у меня появилась ненаглядная Генриетта, и все, к чему я стремлюсь, — вырвать удачу у испанцев. — Почти гневно Арундейл опустился на стул и смахнул тяжелые капли пота с нижней губы. — Кроме того, — продолжал он, — старик Уаттс и я, мы вместе должны считаться с адмиралом Пенном и генералом Венейблзом, так хорошо укрепившимися там, на Ямайке. А, они полностью преданы Английской республике. Морган подвинулся к нему. — Хороших новостей не слышно? — Нет, мы уже несколько недель не получали информации из-за рубежа. — На прошлой неделе я разговаривал с командой ливерпульского брига. Их капитан клялся, что Кровавый Оливер наконец умер. Похоже, что «круглоголовые» пытаются посадить его сына Ричарда на трон протектора. Вся Британия охвачена роялистскими волнениями. Ты веришь этому? Арундейл устало покачал головой. — Нет. Я слышу подобные разговоры вот уже последние пятнадцать лет, но проклятые «круглоголовые» всегда побеждают. Морган жадно проглотил остатки своего молочного пунша, ткнул указательным пальцем в раба и потребовал второй порции. Арундейлвытер влажные пальцы кружевным платком. — А теперь что касается твоей атаки на Сантьяго. Составь официальный рапорт, будь так добр. — Он взял лист бумаги и вытащил перо из короткого стакана, заполненного серыми, коричневыми и белыми гусиными перьями. Морган ослабил ремень, положил перед собой на стол оправленные в серебро пистолеты, а затем снова уселся на стул, устроив саблю на коленях. Его глаза перебегали с яркой фигуры помощника губернатора на дверь, ведущую внутрь резиденции. Он тщетно пытался услышать голос Сьюзан. Арундейл сказал отрывисто: — В чем дело, сэр? Дайте мне точный отчет, вы поняли? Морган впервые нагло усмехнулся, чтобы заявить о своей независимости, а затем в соответствующих, но живых выражениях описал пиратскую экспедицию против испанского города Сантьяго. Проголосовав, четыреста человек создали отряд мстителей, который затем был разбит на четыре группы, во главе каждой встал испытанный и умелый капитан. Помимо Моргана этой чести удостоились капитаны Дабронс, Хэмфри Добсон и Джон Рикс. — Черт! Я и сам знаю, как начинался ваш поход, — не выдержал Арундейл. — Переходи к самому главному. Как далеко от моря лежит Сантьяго? — Около пятнадцати лье, или, если это вам удобнее, около сорока пяти миль. — Итак? Молодой капитан невозмутимо продолжал: — Мы прибыли в Порт-о-Плэйт в Вербное воскресенье и удачно сошли на берег, но черт побери! Другие капитаны или не хотели, или не могли удержать своих негодяев от ссор и набегов с целью грабежа на каждую деревушку, попадающуюся на нашем пути. Так мы начали. задерживаться, потому что нам надо было собрать людей. Нам повезло только потому, что губернатор Сантьяго оказался до того самонадеян, что не верил в то, что корсары отважатся продвинуться так далеко по суше. Поэтому, несмотря на все неприятности, наши отряды смогли захватить город врасплох на рассвете в страстную среду. Морган теперь выпрямился и говорил быстрее. — Мы промчались по улицам, стреляя в любого, кто отваживался высунуть нос, и были очень удивлены, обнаружив толстяка губернатора в его собственной кровати. Джо Рикс и Хэмп Добсон оба были готовы разбить ему голову на месте, но я с помощью Дабронса постарался сохранить старику жизнь, правда потребовав выкуп. Мы сошлись на сумме в шестьдесят тысяч монет за него и всех мужчин Сантьяго. — Морган хлопнул себя по колену. — Это больше, чем мы рассчитывали, но также больше, чем мы получили. Вытирая пот с лица, Арундейл одобряюще кивнул. — Это хорошо, и что потом? — После того как я убедил моих товарищей капитанов в том, что один живой пленный дороже двух мертвых (что мне представляется достаточно очевидным), резня прекратилась, и мы позволили женщинам и детям убежать в холмы. Арундейл нахмурился и сунул перо в приземистую оловянную чернильницу, имеющую форму кабаньей головы. — Почему ты позволил им уйти? — Потому что так решил, — хладнокровно ответил Морган. Он взглянул на своего собеседника с сардонической улыбкой, искривившей его губы с короткими выгоревшими усами. — Какой выкуп не заплатит преданная жена, чтобы спасти своего мужа от… Я полагаю, ты знаешь, как обычно поступают с теми, кто не заплатил выкуп? — Да уж, — ответил Арундейл. — Я думаю, вы обчистили город? — Дочиста, ваше превосходительство, а особенно эти ненавистные папистские церкви. — В горле у него что-то булькнуло, отдаленно напоминая смех. — Ты знаешь, Арундейл, сколько золотых вещиц они собирают для своих богослужений? Несмотря на все мои усилия, — заключил пират, — другие капитаны не сумели держать своих людей под контролем, и в результате они налакались как грязные свиньи. Арундейл с удивлением приподнял бровь, услышав последние слова Моргана. Что же это за странный пират, который с таким презрением отзывается о вполне заслуженном отдыхе? Он оглядел хмурую фигуру человека, который вытянул вперед коренастые ноги и с такой силой сжимал серебряный кубок с пуншем, будто хотел раздавить его. — Эти тупые собаки не поверили, что, хотя вся саванна вокруг Сантьяго уже дрожала от ужаса, они смогут всего за один день собрать тысячу годных к военной службе испанцев, готовых выступить против наших четырех сотен, отягощенных награбленным добром. — Господи! — вырвалось у Арундейла, и его украшенные многочисленными драгоценностями пальцы сжались. Так вот почему Морган вернулся один! — Если бы я не сумел держать своих людей в руках, то, скорее всего, нас застигли бы врасплох и убили. А тогда испанцы попытались бы отрезать нам отступление. -Морган повысил голос, подвинулся вперед и ударил кулаком одной руки по ладони другой. — Когда они выскочили из засады, то в три раза превосходили нас численностью, и если бы мы не были вооружены лучше, чем они, то, скорее всего, нас перебили бы всех до одного! Морган, даже когда говорил, просматривал, сверяясь, некоторые сделанные ранее записи, которые он называл «книгой опыта». Кроме убеждения, что живого пленного можно использовать с большей пользой и прибылью, чем мертвого, у него было еще два принципа: во-первых, всякое празднование, независимо от того, насколько оно соблазнительно или заслуженно, должно быть отложено до тех пор, пока остается хотя бы намек на возможное нападение; во-вторых, современное, первоклассное оружие в руках нескольких дисциплинированных человек значительно более эффективно, чем любое количество разнородного оружия в руках неуправляемой, плохо обученной толпы. — Так получилось, — решительно сказал Морган Арундейлу, — что нам удалось спасти наши шкуры, только пригрозив зарезать дона Арнулфо, губернатора, а заодно и всех находящихся у нас пленных. — Морган снова взял бокал, но на этот раз он пил уже спокойнее. — По каким-то причинам испанцам был дорог их глупец губернатор, а заодно и другие пленные, поэтому они отступили и предложили нам небольшой выкуп. На самом деле это было почти все, что прекрасная, но бедная саванна могла дать. Арундейл наклонился вперед через стол, и капелька пота упала с его носа на листки бумаги. — Так люди губернатора все-таки собрали шестьдесят тысяч монет? Темные от загара щеки Моргана покрылись густым румянцем. — Черт побери, нет! — прорычал он. — И именно в этом заключается наша самая большая ошибка. Если бы мы увезли оттуда пленных, то наверняка рано или поздно получили бы свои шестьдесят тысяч. Но нет, Рикс и другие захотели денежки сразу. В результате Рикс, Дабронс и Добсон согласились взять нищенские сорок тысяч монет серебром и пусть все пленные идут на волю, будь они прокляты! — Морган вскочил, и его голос отозвался эхом от каменных стен комнаты. — Почему эти придурки не могли предвидеть, что и другие испанцы узнают об их ослиной кротости? Раз уж мы сумели захватить дона Арнулфо, генерал Арундейл, почему же мы не смогли сделать его рабом до тех пор, пока не получим за него отдельный выкуп? На лице помощника губернатора появилась слабая улыбка, означающая полное согласие с позицией Моргана. — Чтоб мне провалиться! Если бы я, и только я, командовал операцией под Сантьяго, дело обернулось бы иначе. Нам следовало бы взять город и убраться оттуда через три дня, а не через неделю. И нам не стоило рассчитывать на удачу, на то, что нам удастся убраться со всей добычей. Его собеседник в красном блестящем мундире с облегчением глубоко вздохнул. Так другие выбрались! — Что ты сказал? — Запомни мои слова, генерал, я никогда, что бы ни случилось, даже если мне будет угрожать адское пламя или палач, не выйду в плавание ни с Риксом, ни с Добсоном. Арундейл сунул перо в низкую чернильницу. — Я, конечно, согласен с тобой, но никогда не подтвержу этого при посторонних; они ленивы, бессердечны как собаки и не слишком умны. Тем не менее тебе лучше не показывать своего отношения в открытую. Здесь, на Тортуге, у них тысячи друзей, а ты пока новичок среди братьев. Арундейл широко улыбнулся, чтобы скрыть то, о чем он думал: «Этот парень Морган умен, возможно, даже слишком; однако он чересчур нетерпелив. Если он не будет осторожен, то рискует проснуться однажды со вспоротым животом. Ни Хэмп Добсон, ни Рикс уже не желторотые птенцы; кроме того, они тоже достаточно умны, чтобы осознавать собственную ограниченность и позавидовать Моргану». Вслух же он спросил: — И какова же будет доля губернатора Уаттса? Морган грубо расхохотался. — Ровно пять тысяч монет, мой дорогой генерал Арундейл, но могло бы быть в три раза больше. Черт, я хочу пить. — Он резко сменил тон и, наклонившись в сторону двери, крикнул: — Эй, стража, там, внизу! Дайте пройти моему парню. Фернандо, поднимайся сюда. Появился метис-невольник, помесь белого с индейцем. Ему пришлось наклониться, чтобы войти в комнату, потому что на плече он нес маленький, аккуратно перевязанный тюк. — Что это? — Арундейл встал и потянул прилипшую к ягодицам и мокрую от пота ткань штанов. — Я привез несколько побрякушек для Генриетты, вашей любимой жены, и ее сестер. Влажные глаза Арундейла блеснули. Подарок для Генриетты, естественно, был подарком для него; на Тортуге, как и повсюду в 1659 году, ни одна женщина не обладала правами на свою собственность. — Эй, подожди! — приказал он, когда метис начал развязывать сделанные из сыромятной кожи веревки. -Гарри, почему бы не отнести подарки в более прохладное место? Между прочим, леди будут рады посмотреть, как мы их будем открывать.Глава 2 ДОЧЕРИ ЭЛИАСА УАТТСА
Сьюзан Уаттс с сожалением отложила в сторону бирюзовое шелковое платье, подаренное ей Ги де Тальмонтом, хвастливым пиратом из французской Вандеи. Несмотря на то, что оно было и впрямь чудесно, она вовсе не собиралась и дальше поддерживать отношения с этим несносным, шумным болтуном. Сьюзан не спеша подошла к кровати и равнодушно перебрала вещи, разложенные на светло-зеленом покрывале. Немного погодя она подняла пару красных шелковых чулок и, мысленно витая где-то далеко, села на скамеечку около туалетного столика. Натянув один чулок, она продела пару ленточек, прикрепленных к широкому нижнему поясу, сквозь несколько петелек, вшитых в верхнюю часть чулка, и завязала их аккуратными маленькими бантиками. Затем, неподвижно держа второй чулок в руке, она застыла, глядя невидящими глазами на позолоченный деревянный подсвечник, который висел на дальней стене. Так это корабль Гарри Моргана встал на якорь сегодня днем в порту? Ля-ля-ля! А ее зять, Чамлетт Арундейл, сказал, что Гарри выбрали капитаном — большая честь для столь молодого человека; особенно если учесть, что его добыча была одной из самых незначительных в этой постоянно растущей пиратской флотилии. Она старательно натянула, разгладила и подвязала чулки, затем нагнулась и сунула ноги в черные сатиновые домашние туфельки, очень модные, на красных высоких каблучках в форме рюмочки. Она была удивлена, что все еще думает об этом пылком валлийце, который несомненно скоро выйдет на первое место среди капитанов берегового братства. Плохо только, что он слишком уж быстро пускает в ход саблю и абордажный пистолет. Конечно, нужно признать, что в обоих случаях, когда Морган был вынужден убивать, он действовал, защищая друга. Например, когда Эноха Джекмена, глуповатого ухажера ее сестры Люси, чуть было не придушили в таверне «Аргус». Сьюзан вернулась к постели, выбрала белую батистовую сорочку и необычайно изящным движением надела ее через голову. Если бы только у Дика Хелбета было чуть больше честолюбия! Но нет. Дик всего лишь милый, привлекательный, хорошо сложенный солдат, который годится только для того, чтобы плодить новых солдат, а потом погибнуть в бою. Она все-таки думала над его предложением, но, посоветовавшись с Люси, отвергла его. Вечером будет ужасно жарко и влажно, но у нее была такая тонкая талия, что она могла не очень туго затягивать шнуровку. Дочка Элиаса Уаттса, все еще погруженная в свои мысли, вначале надела нижнюю юбку из очень красивого белого батиста и повязала широкий пояс. — Холера побери этого Генри Моргана! — тихо пробормотала она. Ее мысли текли дальше. Может ли девушка обмануть такого человека, как Морган, и с помощью ласки заставить его поступить против воли? Или она всегда обречена уступать — как мама уступает папе? Война, которую мама вела с папой и проигрывала, была долгой и упорной, потому что Эллен Уаттс была не из слабых. В конце концов Сьюзан натянула поверх рубашки и нижней юбки платье с короткими рукавами из зеленой с золотом парчи и внимательно осмотрела свой наряд, насколько ей позволяло сделать это маленькое зеркало в рамке из орехового дерева, стоявшее на ее туалетном столике. Она подумала, что такие люди, как папа, всегда добиваются своего. Он приехал на Барбадос простым солдатом и семь лет служил надсмотрщиком над преступниками, которые работали на фермерских плантациях. Хотя он назначил себя губернатором по собственному почину и его отношения с официальными кругами в Англии были весьма непрочными, он правил Тортугой и ее маленькой столицей жестко, а иногда и жестоко. Наверное, это настоящий триумф, продолжала размышлять она, — приехать сюда подневольным бродягой и добиться такого общественного положения, чтобы суметь жениться на Эллен Поттер родом с плантаций Род-Айленда, широко известного как Северная Америка. Если быть точной, то мама была в семье всего лишь бедной родственницей и зависела от милостей богатой тетки, но не существовало ни малейшего сомнения в том, что мамины предки были хорошей, если не сказать благородной, крови. Бедная мама! Как эта изящная и целеустремленная женщина рвалась еще хотя бы один раз увидеть необъятные североамериканские просторы и снова услышать, как зимний ветер стонет в каминной трубе! И здесь, на Антилах, в тропическом жарком климате, мама без устали рассказывала о снегах Род-Айленда Люси, Генриетте и себе самой. Сьюзан уселась перед крохотным зеркалом и, быстро расчесав блестящие темно-каштановые волосы, закрутила их в маленький пучок, который она с помощью черепаховых и серебряных шпилек закрепила на самой середине макушки. Значит, Гарри Моргана пригласили на ужин? Гм. Почему он вернулся раньше других? Из зеркала на нее смотрело лицо, украшенное двумя желтыми бантами, лицо девушки двадцати лет с такими волевыми чертами, что большинство мужчин считало ее скорее заметной, чем хорошенькой. Зеркало также говорило, что это женщина, которая знает, чего хочет, и которая намерена добиться своего. Из покрытой глазурью коробки с мушками она после минутного колебания выбрала крохотную бумажную розу, послюнявила ее и прилепила на щеку; и в завершение своего туалета Сьюзан достала маленькую коробочку, на всякий случай спрятанную за зеркалом, потому что Люси слишком быстро расходовала находившиеся в ней румяна. Маленьким пальчиком Сьюзан накрасила губы и щеки, но не слишком сильно, чтобы не вызвать гнев отца. Раздался короткий стук в дверь, и появилась Люси, маленькая и белокурая копия Сьюзан. Обе девушки унаследовали от Элиаса Уаттса большой рот, решительный подбородок и прямой нос. — Торопись, копуша, — взмолилась Люси, покручивая веером из черепахового панциря, украшенным инкрустацией и кружевом, который мистер Джекмен привез ей из последнего плавания. Сьюзан знала, что нет ни малейшего сомнения в том, что отважный уроженец Новой Англии с первого взгляда без памяти влюбился в Люси, и Люси также была без ума от этого вежливого, пожалуй, слишком серьезного юноши, о котором тем не менее шла слава, будто он сражается с испанцами, как паладин из древних легенд. К тому моменту, когда юные леди спустились в маленький внутренний дворик, уже наступили сумерки и среди цветов загорелись крохотные фонарики светлячков. Сьюзан улыбнулась, заметив сидящего отца; похоже, приступ лихорадки прошел, потому что на нем был только легкий платок, наброшенный на плечи. Вечерней прохладой также наслаждались полковник Арундейл, капитан Морган и Джекмен; все трое сидели на плетеных стульях. На коленях у Джекмена стоял маленький деревянный. сундучок, а у его ног лежал сверток пестрой материи. Заметив Люси, уроженец Новой Англии вскочил на ноги и вспыхнул, как алая роза, которых так много на Барбадосе, При виде Сьюзан Морган поднялся медленнее, но на лице у него проступила радостная улыбка. — Всегда к вашим услугам, мисс Сьюзан, и вашим, мисс Люси. Элиас Уаттс махнул им костлявой, покрытой набухшими венами рукой. — Они могли и не дождаться вас, ленивые копуши. Мы уже Бог знает сколько ждем, пока вы, девочки, нарядитесь и надушитесь. Генриетта давно уже должна была прийти, но раз она так и не пришла, то чума меня возьми, если мы будем еще ждать. Давайте, парни, показывайте добычу. Скромно опустив глаза, Сьюзан почувствовала на себе пристальный взгляд Моргана и вспыхнула. — Здесь не так уж много, — поскромничал Морган, пока нож Фернандо вспарывал обертку и веревки. — Боюсь, что нападение на Сантьяго прошло не слишком удачно. Сьюзан и ее сестра приглушенно вскрикнули, когда в неярком свете блеснули полдюжины шалей и мантилий, изящных, словно паутинки, но сверкающих пестрыми красками, словно колибри, прилетающие в сад по утрам. В маленьком свертке также оказалось несколько цепочек из серебра и одна из темно-красного золота и россыпь браслетов, заколок и гребней, которые так радуют женский глаз. Морган снова уселся и предложил: — Пожалуйста, выбирайте, леди. Я полагаю, что вы обязательно найдете что-нибудь вам по вкусу. Сьюзан почти бегом бросилась к груде добычи и с блестящими глазами принялась примерять отделанные золотом черепаховые гребни, пока не нашла тот, который шел ей больше всего. Морган обратил внимание на то, что вторая дочь Элиаса Уаттса не выбирала ни самые большие, ни самые ценные драгоценности, но только те, которые больше всего подходили к ее типу лица. И она взяла всего по одному предмету. Чрезвычайно довольный, Морган произнес: — А теперь, мисс Люси, ваша очередь. Люси покачала головой, и на щеках у нее появились ямочки. — Благодарю, капитан Морган. Сделав подарки Генриетте и Сьюзан, вы уже показали свою щедрость к нашей семье. Кроме того… Джекмен просто светился от счастья, когда открывал свой сундучок. Его подарки не сравнить было с дарами Моргана, но среди них находилось одно чудесное ожерелье из отборного жемчуга, которое, казалось, было создано специально для маленькой шейки Люси. Морган потер колючий подбородок и бросил на своего лейтенанта вопросительный взгляд. — Черт! Не помню, чтобы я видел это ожерелье при дележе добычи. Джекмен посмотрел ему прямо в глаза и спокойно ответил: — Может быть. Но я не помню и твоего золотого браслета с изумрудами. Арундейл и Уаттс прыснули. Уже было почти совсем темно, но Люси не могла удержаться и не приложить к себе отрез сатина в красную и желтую полоску, восторженно представляя себе юбку, которую она из него сделает. В ворота громко постучали. — Ваше превосходительство? — Это дю Россе, — буркнул Уаттс. — Он рано, но вы можете впустить его. Вам лучше поближе познакомиться с этим человеком, капитан Морган. Смотрите в оба. Позже мы поговорим об этом. Лейтенант губернаторской стражи отпер ворота и впустил коренастого, крепко скроенного француза, которого звали Бернар Дешамп, шевалье дю Россе. Поклонившись вначале губернатору, он сделал изящный реверанс двум женщинам. — Добрый вечер, месье, что нового? Белые зубы француза сверкнули в темноте. — Ничего, кроме того, что пришвартовались еще два судна. А, вот и месье капитан Морган. Как прошла экспедиция? — Неплохо, спасибо. — Валлиец улыбнулся и быстро добавил: — Среди ваших соотечественников есть действительно храбрые солдаты. — Фраза прозвучала как комплимент, потому что Морган чувствовал: ему нравится этот энергичный и очень практичный человек. Дю Россе казался польщенным. — Приятно слышать это. Не сомневаюсь, что причиной этому ваши превосходные командирские качества. — Нет, — не подумав, ответил Морган. — Ваши люди в основном служат у Дабронса — но сражаются не менее хорошо, как сражались бы и под моим началом. Арундейл криво ухмыльнулся такому двусмысленному комплименту. Гарри Морган предпочитал набирать людей среди англичан или голландцев, но, с другой стороны, он всегда заботился о том, чтобы взять нескольких тщательно отобранных французов. Морган отошел в сторону и вместе с Сьюзан прошел в дальний угол двора. Она улыбнулась ему в темноте. — Как ты щедр, Гарри. Интересно, почему? — Я думал только о тебе, — честно признался он. — Я пытался… э… найти то, что тебе понравилось бы больше всего. — А моим сестрам? А? — Она слегка пожала ему руку. -Мне не стоит смеяться, потому что ты так добр. Желаю, чтобы тебя выбрали в число капитанов. Ты всегда добиваешься своего? Они… — тут она дотронулась до браслета и гребня, — действительно хороши. Я всегда буду беречь их и помнить, что ты думал обо мне. А что ты будешь делать с остальной добычей? Вопрос был поставлен так прямо, что Морган растерялся. — Ну, я… я собирался продать их за золото и обновить вооружение корабля. — Ты не собираешься устроить хотя бы маленькую попойку? — засмеялась она, одновременно думая о том, что лучше бы Дику Хелбету вернуться в караульную, а не торчать здесь словно ревнивому школьнику. — Только если ты подаришь мне свое драгоценное внимание. Высокая стройная дочь Элиаса Уаттса была красива, но совершенно не похожа на маленькую Анни Пруэтт. Гуляя с Сьюзан, Гарри размышлял о том, бережет ли еще Анни его кольцо с грифоном там, в Бристоле. Гм. А все-таки насколько прочно губернатор Уаттс сидит на Тортуге? Сейчас Морган еще яснее видел все хитросплетения местной политики. Одно было ясно: отец Сьюзан частенько получал откуда-то личные донесения, которые привозили на маленьких барках. С другой стороны, в Кайоне шептались, что Бернар дю Россе посылал столько же курьеров, сколько и Элиас Уаттс. Но его осведомители прибывали большей частью с острова Сен-Кристофер, действительно мощного оплота Франции в Карибском море. После легкого ужина из тушеного кролика и жареного мяса губернатор пригласил Моргана в свой кабинет. Они уселись перед окном, откуда открывался великолепный вид не только на усыпанный огнями полукруглый пляж Кайоны, но и на пристань и море, в котором отражались звезды. Морган опрокинул четвертый стаканчик чистого бренди и, тяжело дыша, расстегнул ворот рубашки, подставляя загорелую грудь вечернему ветру. Несмотря на приятное ощущение, вызванное бренди, и радость при мысли о близости Сьюзан, новый капитан был готов к беседе, готов как внимательно слушать, так и высказывать свое мнение. — Да, Гарри, я очень рад, что ты вернулся. — Старый Уаттс говорил, растягивая слова, на его желтом вытянутом лице появилось выражение озабоченности. — Я всегда рад, когда возвращаются английские суда. — Насколько французы превосходят нас по численности здесь, на Тортуге? — От трех до пяти к одному, — медленно ответил губернатор, — и есть еще проблема. Если посчитать голландцев на стороне французов, то их будет в семь раз больше, и, видит Бог, у них сейчас мало причин любить англичан. — Почему? — Некоторые из братьев охотились на голландские корабли почти с таким же рвением, как и на корабли донов. Видишь ли, — старик нагнулся вперед, и в свете масляной лампы его профиль блеснул желтизной, словно изображение на дублоне, — я убежден, что французы собираются силой или хитростью овладеть Тортугой, поэтому я вижу этого парня, дю Россе, насквозь, как твою рюмку, несмотря на всю его вежливость. Морган отставил стакан с бренди и внимательно слушал Уаттса. — Вы правы. Но как решить проблему? — Если бы я только мог обойти французский королевский двор и дю Россе, пока наше положение на Ямайке не упрочится, то тогда англичане могли бы крепко держать Тортугу — а она стоит того. Знаешь почему? — Ну, во-первых, — ответил Морган, не сводя с Уаттса напряженного взгляда, — это отличное, хорошо защищенное и богатое убежище для берегового братства; во-вторых, власть испанцев ослабевает на востоке Эспаньолы. И что важнее всего… — Он остановился. — А что важнее всего? Морган вздохнул и отогнал москитов. — Я не претендую на звание опытного моряка, ваше превосходительство, но даже я в состоянии понять, почему Тортуга и Иль-де-Вакас — который у нас называется просто Коровий остров — имеют такое значение. Уаттс знал, что Морган говорит об острове, который занимал почти такую же позицию, как и Тортуга, но на юге от Эспаньолы. Наклонившись вперед и положив руки на колени, пират задумчиво продолжил: — Эти два острова расположены так, что они доминируют в Наветренном проливе, главнейшем морском проходе между Эспаньолой и Кубой. Если мы расположены по ветру, то у нас есть погодное преимущество перед любыми судами или флотом, которые доны могут послать в Мексику или оттуда, а также в Юкатан или Маракаибо. Наш противник будет вынужден сражаться против ветра и полагаться только на изменчивый и непостоянный бриз, а нас будут толкать вперед сильные ветры, которые моряки называют торговыми. Элиас Уаттс несколько раз согласно кивнул своей совершенно лысой головой. — Ты попал в самую точку, капитан; ни один караван из Европы, кроме мощнейшего флота, не осмелится подойти к этому проходу. — На самом деле, — Морган повысил голос и мотнул головой, чтобы отбросить с глаз непокорную прядь, — если Англия сумеет удержать Багамы, Барбадос и Ямайку и обеспечит себе влияние на Тортуге, то мы сможем поставить барьер между Испанией и ее колониальной империей, барьер, который доны вряд ли сумеют прорвать, или им придется собирать значительные военные силы. Я прав? — Да. — Элиас Уаттс повернулся и взглянул на своего собеседника. — Лопни мои глаза, Гарри, но ты слеплен из лучшего теста, чем другие бандиты, которыми я тут правлю. Да, ты правильно смотришь на вещи. Ночную тишину, в которой был слышен только шорох мышей да потрескивание сверчков, внезапно прорезал громкий крик, за которым последовал истерический женский вопль и громкая череда пистолетных выстрелов. Морган не обратил на шум ни малейшего внимания. — Другими словами, ваше превосходительство, вы клоните к тому, что вам надо усилить английское влияние здесь, на Тортуге, или мы ее потеряем? — Не совсем так, — уточнил Уаттс. — Несмотря ни на что, французские братья хорошо к нам относятся. Они ненавидят и боятся испанцев даже больше, чем мы. Нет, Гарри, Англия слишком слаба, а Франция слишком не уверена в себе, поэтому противостоять империи испанцев должна конфедерация братства, и только она! — Здесь вы ошибаетесь! — потряс головой Морган. — Братья думают только о добыче и пьянках. Элиас Уаттс одобрительно улыбнулся. — Я боюсь, что ты больше чем прав. Спасибо за отчет. Арундейл говорит, что он составлен ясным, деловым языком. А куда ты отправишься теперь? — На берег, — беззаботно ответил Морган. — Хочу получше познакомиться с шевалье дю Россе; он меня заинтересовал. Губернатор поднял руку в знак того, что он еще не закончил, и откашлялся. — Ты собираешься покупать каперскую лицензию на военные действия против испанцев? Да и кроме того, с тебя еще десять процентов добычи. В конце концов, я пишу каперское свидетельство не ради того, чтобы потренироваться в каллиграфии. Морган ухмыльнулся. — Но, сэр, ваша доля плывет на борту французского фрегата, который мы… э… позаимствовали в пути. На досуге поразмыслите об этом. Если бы я один командовал рейдом в Сантьяго, ваша доля была бы в три раза больше. В неожиданной ярости Уаттс вскочил, возвышаясь над невысоким валлийцем на целую голову. — Берегись, Гарри Морган, не перестарайся! Да сгниют твои кичливые кишки! Ты слишком много о себе думаешь. Ты много обещаешь… — Доверьте мне командование, и вы увидите, что я выполню все обещания до последнего, — резко оборвал его валлиец. — Ты прекрасно знаешь, что я не могу назначить тебя командующим… — Верно, но вы можете поддержать меня на выборах. — Будь я проклят, если сделаю это, — отрезал Уаттс. -Ты слишком много хвастаешь, и у тебя здесь слишком много врагов, особенно среди французов. — Значит, вы не поддержите меня как кандидата в командующие экспедицией? Я был лучшего мнения о вашем уме. — В ту минуту, когда слова слетели с его губ, Морган понял, что сказал это зря. Уаттс сардонически рассмеялся. — Правда? Я умираю от огорчения. Позвольте напомнить, сэр, что как капитан вы еще так же зелены, как вон та травка. Я поддержу тебя, когда ты приведешь в Кайону хотя бы достойные по размеру корабли. А теперь проваливай! Энох Джекмен давно уже спал, храпя, словно дюжина пьяных матросов, посреди неубранной спальни с земляным полом, но капитан Ахилл Трибитор, владелец бригантины, которая только что вернулась из не слишком успешного набега на берега Кубы, продолжал петь еще громче, чем прежде. Совершенно пьяный, он держал в руках португальскую гитару и безмятежно распевал серенады прытким ящерицам, которые шныряли под пальмовой крышей ветхой лачуги Полли Когда-Угодно. Что касается Моргана, то он сидел, мрачно уставившись на глиняный кувшин с крепким ромом, который обошелся ему в огромную сумму — два пистоля; напиток не стоил и десятой доли назначенной цены, но в Кайоне были приняты такие грабительские цены. Чем больше он вспоминал, как Уаттс презрительно отказал ему в самостоятельном командовании даже небольшой экспедицией, тем мрачнее он становился. Никому из других капитанов не удалось более успешно провести поход, чтобы потери при вылазках оказались минимальными. — К дьяволу этого старого мошенника, — буркнул он. -Если бы только он не был отцом Сьюзан… Добравшись до этой последней мысли, Морган счел за благо отказаться от дальнейших печальных раздумий и обратил внимание на Трибитора: голос распевающего песенки капитана действовал на Моргана успокаивающе. — А у тебя, неплохой тенор, — улыбнулся он. — Можешь подпеть мне?Глава 3 ЗОЛОТАЯ РОЗА
Был почти час ночи, когда коралловый песок захрустел под босыми ногами Моргана; он специально оставил башмаки на борту «Вольного дара». Бледный свет звезд освещал скромный форт с четырьмя пушками, который построил Элиас Уаттс и его сторонники. Уже давно Морган опытным взглядом оценил, насколько сложно добраться до небольшого, но надежного убежища губернатора Уаттса. Морган брел вдоль берега по светящейся темно-зеленой воде, пока не оказался у западного подножия скалы, над которой находилась комната, где спала Сьюзан. Тяжело дыша, он запрокинул голову, радуясь тому, что действие рома постепенно ослабевает. Да. Это будет на редкость романтический жест -бросить маленькую золотую розу в окно Сьюзан. Поскольку считается, что крепость неприступна, если не принимать во внимание обычный путь, когда надо было опускать подъемный мост, то можно представить себе ее удивление, замешательство и восторг, когда завтра утром она найдет этот изящный цветок на полу своей спальни. — К тебе я иду, Сьюзан, — пробормотал он, стиснул розу зубами, затянул потуже кожаный пояс и передвинул обоюдоострый кинжал за спину. Влажные от морской воды камни постепенно сменились покрытыми налетом соли сухими булыжниками. Они все еще оставались такими горячими, что он немедленно вспотел, и влажные струйки побежали ручейками у него по лбу и между лопаток. Вскоре он заметил голову и плечи часового на фоне темного неба. Боже милосердный! Если бы он командовал крепостной стражей, то лично бы проследил, чтобы этого сонного мерзавца как следует вздули. Он спал, присев на парапет. Поскольку Морган позаботился о том, чтобы одеть коричневую рубашку и серые штаны, то его не так легко было заметить. Пыхтя, цепляясь за крохотные выемки и выступы, он медленно поднимался все выше и выше, пока морская гладь не стала казаться очень далекой. Когда он наконец взялся осторожной, но дрожащей рукой за парапет, то в голове у него уже совсем прояснилось и он изо всех сил старался не выпустить розу и дышать не слишком шумно. Ха! Он перекатился через парапет и спрыгнул в тень так же бесшумно, как кошка прыгает с забора. Мускулы у него дрожали от напряжения, но он неподвижно лежал всего в двадцати футах от поблескивающего при свете звезд мушкета часового. Еще давно он приметил, что окно Сьюзан было последним в ряду из трех одинаковых окон, расположенных в повернутом к морю фасаде надежной каменной крепости Элиаса Уаттса. Ему не составило никакого труда проскользнуть, словно хорьку, от одной тени под окном к другой, пока наконец он не замер с бьющимся сердцем под окном Сьюзан, загороженном тяжелой решеткой. Слава Богу, что в этих краях не было в обычае вставлять стекла — только жалюзи и железные решетки, — и сегодня ночью Сьюзан, милая, обожаемая Сьюзан оставила занавески распахнутыми. Крепко вцепившись в прутья оконной решетки, Морган собрался и медленно и осторожно подтянулся настолько, чтобы заглянуть в маленькую комнатку и почувствовать слабый, но нежный запах духов. К его величайшему изумлению, кровать, узкая и маленькая, оказалась пустой. Не важно; она найдет розу утром. Прижав холодный металл к губам, Гарри Морган протянул руку сквозь прутья и бросил свой подарок. Резкая боль пронзила его сердце при звуке мужского голоса, который воскликнул: — Боже Всевышний! Что это? В ответ тут же прозвучал мягкий голосок Сьюзан: — Шш, дорогой, тебя услышат. Это что-то упало у меня на столике. И тут он увидел их — они сидели обнявшись на кушетке, перед ними на полу валялась какая-то одежда. — Но я слышал шум, — настаивал мужчина хриплым шепотом, — Ничего не могло упасть — ветра ведь нет. — Ради Бога, тихо, Дик, и уходи скорее. — Сьюзан действительно встревожилась. — Если папа нас найдет… Ой, уходи скорее, любовь моя. Без всякого усилия со стороны Моргана его пальцы разжались, и он соскользнул вниз, на влажные от росы плиты парапета, но душа его провалилась гораздо глубже — в самые глубины ада.Глава 4 ПОЕДИНОК НА БЕРЕГУ
К полудню третьего дня после возвращения Гарри Моргана на Тортугу в маленьком, но ухоженном порту Кайоны бурлила жизнь. Не только четыре старых корабля, отправившихся в набег против Эспаньолы, вернулись обратно в порт, но вместе с ними встали на якорь три захваченных судна: небольшая галера, барк и потрепанное посыльное судно. Грузоподъемность захваченных кораблей не превышала шести тонн, но все-таки они являли собой очевидное доказательство очередной победы, одержанной береговыми братьями. Участники набега на Сантьяго на Эспаньоле гордо вышагивали по набережной, громко ругались и ждали своей очереди, чтобы зайти в несколько таверн и кабачков городка, где они готовы были заплатить даже по три золотых дублона за одну-единственную половинку кокосового ореха с разбавленным водой ромом. Пока эти ободранные и потрепанные морские волки ели до отвала и пили, капитаны морского братства, всего их было около двадцати, по приглашению губернатора собрались в тени бордового навеса, который люди Элиаса Уаттса натянули на белом песке перед крепостью. Это были жестокие, хитроумные и самые отпетые негодяи, бандиты со всего мира. Их костюмы так же различались, как и оперение многочисленных попугаев, павлинов и туканов. Большей частью их костюмы были до невероятности грязны, изодраны, и видно было, что на них мало обращали внимания; там и сям виднелись остатки великолепных мехлинских или фламандских кружев, прикрывавших загорелые плечи. Только немногие капитаны не участвовали в этой выставке безвкусной роскоши и надели простые синие, зеленые или белые рубашки и прохладные льняные штаны. Почти у всех без исключения корсаров были длинные, словно крысиный хвост, усы и всклокоченные, нечесаные бороды. Большинство брило головы из-за постоянной жары и носило на голове платки, чтобы уберечься от солнечного удара. У шатра расхаживал и Генри Морган, в голове у него гудело, словно там били барабаны карибских индейцев. Он поглядывал на широкий, украшенный причудливой резьбой по дереву стол, на котором выстроились в ряд небольшие, обитые железом сундуки под охраной отряда пиратов. Стражники стояли, держа пистолеты наготове, беспрестанно сплевывая на песок или с детским любопытством разглядывая широко известного корсара, темнокожего, с насупленными бровями Пьера Леграна *["393], одно упоминание имени которого заставляло дрожать весь Москитный берег. Еще менее привлекательной казалась внешность Мигеля Баска, который сильно смахивал на гориллу из-за кривых коротких ног и огромных длинных рук. В ярком солнечном свете неподвижные глаза флибустьера напоминали взгляд рептилии. Полной противоположностью ему выглядел белобрысый гигант голландец, который выбрал себе прозвище Рок Бразилец, хотя он был похож на бразильца так же, как на турка. Его маленькие блеклые глазки шныряли в разные стороны, и он постоянно ковырялся в носу, маленьком и плоском, совершенно затерявшемся на его красном, покрытом шрамами лице. Таинственный Сьер де Монбар *["394] из Лангедока, известный как «Губитель», совершенно отличался от остальных своим сложением и манерами. Благородное происхождение сказывалось в изящных чертах его лица, по-своему красивого, но испещренного жестокими и суровыми морщинами — отражением той свирепой ненависти, которую он питал к испанцам. По всей видимости, он единственный из всех собравшихся тщательно заботился о своей наружности, потому что на бледно-розовом кружеве его манжет не было ни единого пятнышка, так же как и на изящно вышитом воротнике рубашки, выглядывавшем из-под дорогого сюртука зеленого бархата. Не признавая тяжелых мечей или абордажных сабель, любимого оружия большинства из его товарищей, этот выродившийся аристократ был вооружен тонкой рапирой, на рукоятке которой, словно огонек, горел огромный рубин. Морган обратился к Джекмену, который молча стоял рядом с ним и чувствовал себя не в своей тарелке: — Только Рикс, Добсон и Джек Моррис… — А кто это, Джек Моррис? — Вон тот бандит со следами лихорадки святого Антония на лице — способный лидер, как о нем говорят. Слава Богу, если это правда — потому что других стоящих англичан здесь нет. Джекмен украдкой взглянул на своего товарища. Что произошло с ним за последние дни? Он мог только гадать, потому что благоразумно воздерживался от расспросов. Стоя под алым тентом, Морган постепенно осознал, что редко когда удавалось, если вообще удавалось, собрать в одном месте столько прославленных — и никому не известных — предводителей конфедерации береговых братьев. Вон там из своей шлюпки вылезал страшный садист Жан-Давид Hay, или Олоннэ. Рядом с натянутым тентом Ив Тиболт, который убил Левассера, предшественника Уаттса на посту губернатора, — присел на корточки и чертил на песке бессмысленные узоры. Из главнейших капитанов здесь не было только Джона Дэвиса, «Кары Флориды», и умного, крепкого старого голландца Эдварда Мэнсфилда. Как в Бристоле, на совете с предателем Мишелем Мизеем, Морган ощутил неожиданное чувство своей приниженности. Здесь собрались почти две дюжины корсаров-ветеранов, пиратов и флибустьеров; капитанов, которые доказали свою храбрость, опытность и способность к командованию. Неудивительно, что Элиас Уаттс насмехался над его желанием руководить экспедицией. Поднялся шум любопытных голосов, в которых, однако, проскальзывали уважительные нотки, когда появился губернатор в сопровождении лейтенанта и отряда крепостной стражи. Стоя около стола, отец Сьюзан выглядел слабым и маленьким, несмотря на пышный мундир собственного изобретения из оранжевого и голубого сатина. — И снова я приветствую вас в Кайоне, мои дорогие друзья и капитаны конфедерации. Секретарь в засаленной белой куртке притащил Уаттсу стул, и как только губернатор уселся, некоторые капитаны плюхнулись прямо на песок, но большинство остались стоять. — Нам надо обсудить наши дела, — объявил полковникАрундейл, — поэтому не будем медлить. Вначале мы заслушаем доклад капитана Рикса о последней вылазке на Эспаньолу. Огромный, возвышающийся над всеми, Рикс лениво выдвинулся вперед. Бросались в глаза иссиня-черные волосы и отсутствие кончиков обоих ушей, потому что годом раньше он был доставлен на Барбадос обритым и закованным в кандалы в наказание за какое-то мелкое преступление. Кроме того, англичанин сразу обращал на себя внимание своим костюмом. На нем была разукрашенная желтая куртка, оранжевый жилет и яркие голубые сетчатые чулки. Однако в своей речи он оказался краток и точно изложил все подробности взятия Сантьяго на Эспаньоле. Тем не менее он не стал распространяться об отсутствии дисциплины и нерешительности, которые, по словам Моргана, вполовину уменьшили захваченную добычу. — Иди сюда, висельник, со списком. — Рикс вытолкнул вперед парня с выбитыми зубами, который держал в испещренных татуировками руках охапку листов бумаги. — Вот, ваше превосходительство, отчет, сэр, а там, — Рикс указал на один из сундучков, — ваша десятая часть. Сухой и еще более желтый, чем обычно, Уаттс предупреждающе поднял руку. — Прежде чем считать добычу, капитан, будьте любезны, доложите нам о ваших потерях. Все присутствующие впились глазами в Рикса. Потери значили больше, чем добыча, потому что от них зависела репутация капитана — и его шансы на то, чтобы набрать в следующее плавание первоклассную команду. Англичанин прокашлялся, и его изуродованные уши покраснели. — Среди моих матросов девять человек убито и вдвое меньше ранено. — А что у тебя, Добсон? — Мне не повезло, — пробурчал тот, кого спрашивали. — Хотя я вел своих людей — в основном французов — осторожно, но ничего не боясь, я потерял убитыми четырнадцать, а ранеными двадцать три. — А ты, месье Дабронс? Кун Дабронс, высокий, широкоплечий бретонец, который гораздо больше смахивал на англичанина, чем многие из присутствующих здесь англичан, огляделся перед тем, как ответить, словно желал предупредить, что любая критика в его адрес будет иметь последствия. — Разве я виноват в том, что на лагерь неожиданно напали? Нет. Не наша очередь была ставить часовых. — Твои потери? Давай говори. — Арундейл был непреклонен. — Из-за невнимательности людей капитана Рикса в моей команде тринадцать убитых и двадцать один ранен. Элиас Уаттс наморщил лоб так, что появились четыре параллельные морщины. Да, похоже, с командованием на этот раз дело обстояло именно так, как и говорил Генри Морган. — А ты, капитан Морган, у тебя какие потери? — Убитых нет, — громким, ясным голосом ответил валлиец, — и девять легко раненных. Дабронс расправил массивные плечи, фыркнул и обернулся к другим французским пиратам. — Не просто решить, чей экипаж на самом деле сражался, я так полагаю? Figurez-vous *["395], наши храбрые английские друзья под героическим командованием капитанов Моргана и Рикса потеряли всего девять человек убитыми и четырнадцать ранеными, а мы, французы, потеряли двадцать семь, и сорок четыре ранено. — Огромные золотые серьги у него в ушах вспыхнули, когда он тряхнул головой и с яростью плюнул на ковер перед столом губернатора. Рикс набросился на Дабронса. — Клянусь Богом, я вколочу эту наглую ложь обратно в твою грязную глотку! Уаттс изо всех сил замолотил рукояткой тяжелого пистолета, призывая к порядку, а его стража схватилась за аркебузы. — Тихо! Тихо! Вы забыли, что не в обычае братьев ссориться на совете. Несмотря на предупреждающий жест Джекмена, Морган выступил вперед и свирепо уставился на Дабронса. — А почему у меня никто не убит? Потому что, несмотря на то, что матросы Рикса пренебрегли своими обязанностями, мои люди были настороже, почти трезвы и хранили порох сухим, поэтому, когда испанцы атаковали, они не застали нас врасплох. Поскольку мои товарищи капитаны как-то упустили из виду этот факт, — угрюмо добавил он, — то позвольте напомнить, что именно мои люди отразили удар врага. — Да, — пророкотал Рикс, глядя на Дабронса налитыми кровью, свирепыми глазами, — это чистая правда. Половина людей Дабронса была так пьяна, что на ногах не могла стоять. Среди французских пиратов поднялся шум, в котором ясно различался голос убийцы-Тиболта. Он прошипел: — Доблестный капитан Морган сомневается во французской храбрости? — Лопни твои глаза, Тиболт, я ничего такого не говорил, — рявкнул Морган, перекрывая поднявшийся шум. — Я просто указал на то, что мои потери так незначительны, потому что я знаю, как надо командовать людьми. Я добился того, что мои приказы выполняются. Не дав французу ответить, полковник Арундейл, стоящий справа от губернатора, дал сигнал барабанщику, который выбил такую длинную, громкую дробь, что заглушил все голоса. Уаттс вскочил. — Следующий, кто заговорит в повышенном тоне, окажется в тюрьме! Если мы намерены предпринять что-то, чтобы защитить конфедерацию от испанцев, то мы должны действовать сообща. Арундейл, я хочу взглянуть на свою долю. — Это хитрый маневр, — заметил Морган. — Вначале барабан, а теперь он хочет отвлечь внимание этих идиотов видом добычи. Корсары, сгрудившиеся вокруг губернаторского тента, придвинулись ближе, когда двое из людей Рикса открыли сундук. Поднялся дружный одобрительный крик, когда один из них перевернул сундук и оттуда на ковер высыпались блестящие, переливающиеся сокровища. Ожерелья, броши, кольца, украшенные драгоценными камнями кресты, рюмки, тарелки и алтарные украшения образовали небольшую, но ярко блестящую кучу. Поднялся восхищенный шум, когда двое пиратов с болтающимися сзади абордажными саблями, словно хвостами у довольных собак, наклонились, чтобы открыть третий, и последний, сундук. Оттуда вывалилась почти дюжина тарелок и столько же приборов для специй из чистого золота. Морган пристально следил за выражением лица Уаттса и решил, что если старик недоволен, то он не станет из-за этого расстраиваться. Уаттс повернулся к Арундейлу. — Полковник, собери добычу и перенеси в мою кладовую. Как только добычу унесли, Арундейл поманил двух писцов и протянул губернатору Тортуги исписанные бумаги. — Капитаны и братья конфедерации, властью, данной мне его превосходительством Уильямом Брейном, вице-губернатором Ямайки, — кое-где раздалось хихиканье при таком пышном начале, — я готов удовлетворить ваши запросы о каперских полномочиях на военные действия против — а-апчхи! — врагов Британского государства в частности и различных наций в целом. Немедленно самые нетерпеливые из капитанов начали протискиваться к столу губернатора, но Арундейл, отчаянно ругаясь, оттолкнул их. Сьер де Монбар со свирепым видом запросил разрешения Британии на военные действия против Никарагуа. Рок Бразилец на плохом английском с ужасным голландским акцентом потребовал комиссию против испанцев в Новой Гранаде. Раздача комиссий длилась долго, потому что в каждом случае нужно было оговорить долю губернатора, а также количество запасов, материалов, пороха, патронов и оружия, которые должны были выдать Уаттс и Арундейл, его зять. Отец Сьюзан никогда не уступал не торгуясь. Солнце достигло зенита, когда Морган и его лейтенант Джекмен наконец оказались перед столом. Интересно, подозревает ли старик о проделках своей скромницы дочки? — Как ты смел устраивать смуту в совете? — рявкнул губернатор. — Я сказал правду и не боюсь наглых французских мошенников, которых вы пригрели здесь. — Оставь, — прошептал Джекмен. — Держи себя в руках Вмешался Арундейл, многозначительно улыбнувшись: — Итак, Гарри, куда ты направляешься? — На южное побережье Кубы, — без запинки ответил Морган, хотя он совершенно не собирался даже приближаться к берегам этого острова; чем меньше другие знают о его намерениях, тем лучше. — Южное побережье Кубы — куда? — Уаттс показал длинные, желтые зубы. — Точно не знаю. Я собираюсь выйти на разведку, ваше превосходительство. К черту старого мошенника! Но секундой позже Морган понял, что недооценил отца Сьюзан, потому что тот повернулся и прошептал что-то стоящему справа от него писцу. Секретарь написал несколько строк и передал бумагу Уаттсу на подпись. — Спасибо. Когда Морган нагнулся вперед, Уаттс еле заметно подмигнул ему и пробормотал: — Удачи и скорого возвращения с богатой добычей. — Я вернусь, сэр, и с добычей. Только собравшись уходить, Морган понял, что Элиас Уаттс отчитал его просто для того, чтобы успокоить французов. Быстро просмотрев комиссию, Морган, к своей радости, прочел, что в течение четырех месяцев он может вести военные действия против испанского королевского дома везде, где только захочет. «Все это хорошо, — подумал он, — пока старик Уаттс остается в силе, но если французы одержат верх, что тогда?» Джекмен потрепал его по плечу. — Давай убираться отсюда. Мне не нравятся взгляды французов. Иуда Искариот! Ты слишком задел их своей речью. И когда ты научишься держать язык за зубами? — Я всегда буду говорить правду, — отрезал Морган. — Но ты прав, Энох, нам лучше уйти, пока еще есть возможность. В голове у Моргана все еще шумело от рома, который он выпил в попытке утолить уязвленную гордость — и заглушить свою вечную влюбчивость. Вместе с Джекменом он направился к тихой аллее. Но было уже поздно. Неожиданно перед ними возникли несколько фигур в ярких лохмотьях. Впереди стоял Ив Тиболт, убийца Левассера, на руках которого была кровь еще многих других людей. Свирепые, изуродованные болезнью, черты лица пирата скривились в угрожающей гримасе. — Мои поздравления, месье капитан, — протянул он. — Приятно видеть, что Гарри Морган гораздо смелее врет про своих товарищей, чем сражается с нашими врагами на Эспаньоле. Джекмен увидел, как напряглись мускулы у его капитана, и громко и спокойно ответил Тиболту голосом, который хорошо было слышно на берегу: — Конечно, прикончить друга ударом ножа в почки — гораздо более аристократичное занятие. Распахнулись двери, и полураздетые шлюхи высыпали на улицу, а мужчины побросали свои дела и помчались к месту стычки. Высказанные таким тоном слова обычно служили прелюдией к более или менее кровавой драке. — Ты врешь! — Черты расплывшегося лица Тиболта судорожно дернулись. — Да мне приятнее смотреть на червяка, который ест падаль, чем на тебя. Все еще не берясь за саблю, Морган вышел из аллеи и постепенно продвигался к берегу — он хотел, чтобы как можно больше народу стали свидетелями того, что должно было произойти. Убьет ли он сам француза или падет в схватке, население Кайоны должно видеть и запомнить это. Он прищурил глаза, чтобы освоиться при ярком свете. Хорошо, что у Тиболта такая яркая красная рубашка. — То, что ты умеешь лаять, наверное, радует ведьму, твою мамашу. — Морган сбросил ботинки — зачем давать Тиболту преимущество, если он босиком. — А теперь проверим, так ли хорошо ты кусаешься, как тявкаешь? Отступив на несколько шагов назад, Джекмен закусил губы. Конечно, Гарри и сам знает, что Тиболт не хвастун, а опытный боец, владеющий дюжиной ударов и приемов, которые стоили жизни слишком многим обитателям Кайоны. Тиболт был высоким, на голову выше Моргана, и очень опасным противником. Крепко сложенный, он обладал длинным боевым выпадом фехтовальщика и быстрыми, все подмечающими глазами. Наверное, когда-то он жил на побережье Москитного берега, судя по татуировке, типичной для этого побережья. Француз удовлетворенно откинул назад засаленные черные лохмы и вступил в круг, образованный толпой собравшихся пиратов. Также выступив вперед, Морган резко бросил: — Джекмен, приведи гичку. Черт тебя побери! Делай, что тебе говорят! Поднялся шум; теперь на берегу собралось уже около сотни зрителей обоих полов и многих национальностей. — Стойте! — Бартоломью Португалец, голландец по происхождению, с покрытым шрамами лицом, прокладывал себе дорогу сквозь толпу. — Отойдите. Ха! Опять ты, Морган? Снова неприятности? Черт побери! Ты этого заслуживаешь, но будь я проклят, если не помогу тебе. Отойдите, грязные ублюдки! И не вмешиваться в драку, -заявил он. — Готовы? Специально для зрителей Ив Тиболт взмахнул несколько раз широким испанским мечом. Обоюдоострый меч был выкован в Толедо. Это было настоящее оружие, а не просто игрушка, хотя рукоятку его и украшали два топаза. Морган размял ноги, пытаясь привыкнуть к предательски скользкому песку. В раскаленном до предела воздухе Португалец махнул шляпой с пером и крикнул: — Начали! Какую-то долю секунды Тиболт и Морган медлили, держа оружие наготове, а потом Морган сделал выпад, и короткое тяжелое лезвие его палаша рванулось в сторону красной рубашки с проворством змеи. Тиболт захохотал и в свою очередь сделал яростный выпад, а потом нанес удар, направленный Моргану в голову. Меч просвистел на расстоянии волоска от носа уклонившегося валлийца. Вот тут Морган понял, что если он собирается рассчитывать только на умение владеть мечом, то у него нет никаких шансов. Но он постарался собраться с силами и нанес такую серию сильных ударов, что Тиболту волей-неволей пришлось направить все силы на то, чтобы их парировать. Зрители приветствовали преимущество, которое было у валлийца благодаря силе и мощи его ударов. Снова и снова Морган чувствовал сотрясение в запястье, когда его палаш сталкивался с мечом Тиболта. «Давай! — кричал ему предостерегающий внутренний голос. — Если ты расслабишься, ты покойник». Теперь Морган уже дышал коротко и отрывисто, но он все равно не давал Тиболту, искусному фехтовальщику, ни малейшего шанса самому перейти к атаке. Морган прекрасно понимал, что не сможет долго придерживаться такой тактики, просто не хватит сил. С губ у него капала слюна, и мускулы правой руки болели так, словно их пронзали раскаленной проволокой. Собравшись, он нырнул вперед, из последних сил стараясь пробить защиту Тиболта. Исключительно силой удара ему удалось отбить парирующий удар француза и на мгновение парализовать его запястье, что дало возможность палашу англичанина вонзиться прямо в грязную шею Тиболта, и оттуда хлынула струя яркой артериальной крови. Тиболт на мгновение застыл на месте, а потом среди восторженных воплей зрителей отступил назад с округлившимися глазами. — Вот тебе! — Морган чувствовал, что враг его уже умирает, но все равно вонзил конец палаша глубоко, прямо в шелковую красную рубашку. Издавая странные булькающие звуки, убийца Левассера опрокинулся на испещренный пятнами крови песок, словно марионетка, у которой оборвали ниточки. Француз широко раскинулся на спине и от этого казался еще более огромным. Его дрожащие пальцы судорожными движениями хватали песок. Тяжело дыша, Морган огляделся; в Кайоне никогда нельзя было предугадать, что последует за подобной стычкой — а потом он наступил поверженному врагу на грудь и, напрягая мускулы, высвободил свое оружие. Он дважды крутанул палашом над головой, чтобы очистить его от капель крови и напугать возможных врагов. — К-кто нибудь еще с-сомневается в английской х-храбрости? — И присутствующие навсегда запомнили его взгляд, в котором светилась неприкрытая угроза. Никто не произнес ни слова, но Бартоломью Португалец, сейчас еще больше смахивавший на гориллу, чем обычно, подошел и пожал Моргану руку. — Черт побери, друг Гарри! Ты храбр, как тигр, и силен, как бык. Но, — тут он понизил голос, — лучше тебе отплыть, пока кто-нибудь из головорезов Дабронса не схватился за арбалет и не всадил тебе стальную стрелу между лопаток!Глава 5 КАРИБСКОЕ МОРЕ
Как шкипер «Вольного дара» — громкий титул для человека, который прокладывает курс небольшого семитонного кеча *["396], — Джекмен чаще всего устраивался рядом с рулевым, огромным иссиня-черным негром, у которого был дар Божий идти по морю так, чтобы в парусах всегда был ветер, а корабль следовал по намеченному курсу. Странно, но даже спустя столько времени Генри Морган не мог совершенно освоиться с огромными, протяженными водными просторами, которые составляли Карибское море. Корабль мог плыть целую неделю и не встретить ни одного судна, и не наткнуться ни на один клочок земли. Земли здесь тоже были пустынными — они находили сколько угодно маленьких необитаемых островов, бухт и заливов. Может быть, именно это выводило Гарри из себя? Облокотившись на поцарапанный и плохо покрашенный борт «Вольного дара», Джекмен громко плюнул на стайку дельфинов, резвящихся у борта судна. Он так и не догадался, что произошло на следующую ночь после их возвращения в Кайону. С тех пор в поведении Моргана появился какой-то цинизм и горечь, которых раньше не было. Он готов был дать голову на отсечение, что Сьюзан Уаттс имела к этому какое-то отношение. Гарри, конечно, увлекся второй дочкой Элиаса Уаттса, а он сам все больше привязывался к нежной и мягкой, похожей на котенка, Люси. Помощник капитана уставился на яркое голубое небо и огромные белые башни облаков, подсвеченные золотым, желтым и серебристым светом. Удастся ли ему еще раз обнять Люси? Он готов был принести клятву, что удастся, даже если ему придется поссориться с Гарри. Энох повернулся, чтобы погреть спину на утреннем солнце, и подумал о том, что его доля после этого плавания позволит ему просить маленькой, нежной руки Люси. Слава Богу, они вовремя выбрались из порта Кайоны, потому что Олоннэ, полусумасшедший зверь, пытался представить смерть Тиболта как оскорбление всей французской нации — хотя они все клялись забыть о национальности, когда «приплыли в тропики». Судно Шло прямым курсом в превосходный для мореходов, но очень опасный залив Кампече, излюбленное место флибустьеров всех стран. Что задумал Гарри? Джекмен чувствовал себя не совсем уверенно; маленькое суденышко с жалкой батареей легких пушек и командой из двадцати восьми человек не могло участвовать в настоящем сражении. Корабль так легко несся вперед, что ничто не отвлекало Джекмена от его размышлений, и он постепенно задумался о том, почему капитан, несмотря на то, что он был готов выпросить, украсть или взять взаймы любую морскую карту, которая только попадалась ему на глаза, все же предпочитал сражаться на суше, а не на море? Как только какой-нибудь морской волк заикался о том, что он был в Новом Свете — так испанцы называли Американский континент, — то Морган тут же бросался к нему, словно влюбленный на свидание с возлюбленной. А какая за этим следовала лавина вопросов — и все ответы Морган либо записывал, либо старательно запоминал. Поджав губы, Джекмен проследил взглядом за несколькими сверкнувшими на солнце летучими рыбами; они изящно выскакивали из воды, пролетали над поверхностью пятьдесят или сто ярдов и снова падали в море. «Клянусь костями Люцифера! Двадцать восемь человек — это слишком мало, особенно если принять во внимание, что некоторые из них совсем мальчишки». Больше двух недель «Вольный дар», не останавливаясь, продвигался вперед на северо-запад. Он прошел сквозь заросли саргассовых водорослей, казавшихся ярко-желтыми на фоне голубых вод залива Кампече. На мачте корабля всегда дежурили два матроса, стремящиеся заработать дополнительную долю добычи, обещанную тому, кто первый увидит что-нибудь стоящее. Всем сгрудившимся на маленьком суденышке сильно повезло, что погода не менялась. «Вольный дар» был не больше пятидесяти футов длиной, и из них палуба занимала чуть больше трети. Поэтому пираты спали, ели, справляли свои естественные потребности там, где могли. Еду готовили, лишь когда команда оказывалась настолько голодна, что, уступая необходимости, разводили небольшой огонь в маленькой железной печурке, установленной на песчаной подушке. В этот весенний день 1659 года Генри Морган был обеспокоен быстрым убыванием питьевой воды; за последние три дня доля корабельного запаса значительно уменьшилась. Одетый в легкие хлопковые штаны в белую и голубую полоску, с патронташем и в неизменном желто-зеленом платке на голове, Генри Морган забрался на ванты и уселся там, прочно обхватив ногами выбленку *["397]. За последние две недели он много о чем передумал и принял много новых решений. Хотя это была практически непосильная задача, он собрался выучить французский и испанский. Тогда у него будет преимущество, если он захочет добиться лидерства в конфедерации братьев; нужно обязательно поддерживать хорошие отношения с людьми разных национальностей. Да, он должен научиться понимать французскую натуру, ценить ее достоинства и принимать ее слабости. Возможность использовать французские суда и людей сильно продвинули бы его вперед на пути к выполнению грандиозных планов, которые он вынашивал в глубине души. Пока Ямайка оставалась в руках сторонников парламента, вход на этот остров был ему заказан, так же как и на Барбадос, единственный надежный оплот Британии в западном океане. Морган усилием воли преодолел желание осушить стакан разбавленного водой рома. Ему нужно было следить за собой; именно ром явился причиной тех неосторожных речей, которые он вел на Тортуге. Приятно, что он уже составил себе мнение о женщинах и их роли в жизни мужчины. К черту большинство из них! За исключением маленькой Анни там, в Бристоле, ни одна из представительниц слабого пола не стоила того, чтобы обращать на нее внимание. Морган сидел среди парусов, утренний ветер бил его в грудь, и вспоминал о тех правилах, которые он принял когда-то: никому не доверять, не рассказывать о планах военных кампаний; поддерживать жесткую дисциплину. То, чего ему пока не хватало для осуществления своих грандиозных планов, так это боевой мощи, которая выражается в количестве больших кораблей и количестве сторонников, которых должно быть много больше. Его команда должна составлять сотни, а не десятки человек. Моргана притягивала та потенциальная мощь, которая была скрыта в недрах конфедерации. Даже дураку становилось ясно, что рассредоточенные силы берегового братства использовались в настоящий момент лишь для малопродуманных мелких набегов. Но предположим, что пираты окажутся в руках одного главнокомандующего? Семь тысяч человек! Его сердце дрогнуло. Такая сила, дисциплинированная и объединенная надеждой на сказочные богатства, способна удовлетворить любые амбиции. Сейчас Морган уже знал, что испанский королевский военный гарнизон в Америке был слишком растянут, но все-таки опасен. Разве нельзя постепенно отрезать, одно за другим, протянувшиеся щупальца этого иберийского спрута? *["398] И еще больше хотелось Моргану узнать о враге. Какое это неоценимое преимущество — знать его обычаи, знать, когда приходит флот, как он вооружен и какую предпочитает тактику. Он хотел узнать до мельчайших подробностей, как работают испанские колониальные структуры. Например, до какой степени королевские губернаторы и капитан-генералы зависят от святой инквизиции? Морган был слишком умен, чтобы тут же не посмеяться над своим неуемным любопытством, а потом оглядел своих матросов, большинство из которых дремало на мешках с балластом. Как мало их было! В полдень поднялась суматоха. С их корабля заметили грязно-коричневые паруса галиота, вне всякого сомнения испанского, и довольно большого. Даже Джекмен хотел захватить его. — Кровь Христова, Гарри! — набросился он на Моргана, который неподвижно стоял на квартердеке *["399]. — Мы плывем быстрее и можем догнать его через час. — Да, мы, конечно, можем захватить его, — ответил Морган, чтобы успокоить ободранных и обгоревших на солнце пиратов, которые столпились у главной мачты. — Но у того галиота восемь пушек на борту и на палубе полно народа. — Ну и что? — рявкнул Джадсон. — Разве мы не захватывали корабли и побольше, и еще меньшими силами? Морган пристально окинул взглядом говорящего. — Верно. Но мне нужен корабль больше и богаче. Я не допущу, чтобы вас убили или ранили в схватке за такую мелочевку. Тихо, паршивые собаки! Мы пойдем на абордаж, когда я увижу корабль, который устраивает меня! — Но, капитан, — вмешался матрос средних лет с едва зажившим шрамом — напоминанием о Сантьяго, — у нас нет воды. — Нам хватит еще на три дня, — отрезал Морган. — И мы все ближе подплываем к берегу. И все об этом! Хотя у флибустьеров руки чесались после долгого бездействия, они подчинились и разошлись, угрюмо бурча что-то себе под нос, и были просто счастливы, когда на следующий день в десять утра наблюдатель крикнул: — Корабль по курсу! Двигаясь с кошачьей легкостью, Морган вскарабкался на главную мачту, привязав к поясу подзорную трубу рядом с парой французских пистолетов, с которыми он никогда не разлучался. Экипаж снизу наблюдал за ним. Его черные волосы развевались на ветру, руками и ногами он плотно обхватил мачту, покачиваясь взад и вперед на фоне голубого неба. Когда он наконец соскользнул вниз, то произнес только: — Энох, возьми руль. На палубе маленького кеча раздался радостный вопль; раз капитан решил изменить курс, то атака не замедлит последовать. На борту царило гораздо меньше суматохи, чем это обычно бывает на пиратских судах, когда они готовятся к военным действиям. Полуголые бородатые мужчины и молоденькие мальчики заняли свои места, которые им указал Морган. Пушечные ядра, размером всего лишь в ладонь, были вытащены из мешков и аккуратно сложены рядом с четырьмя маленькими кулевринами; это было сделано для проформы, поскольку в планы Моргана не входило обмениваться выстрелами с замеченным кораблем. Он возлагал больше надежд на залп из шести медных огромных короткоствольных ружей, которые были прикреплены к специальным поворотным устройствам на мачтах. Каждое из них заряжалось пригоршней мушкетных пуль, кусочков металла, камней и даже стекла, если его можно было найти; эффект, производимый подобным выстрелом, нацеленным в гущу солдат противника, обычно оказывался просто смертоносным. Изобретательность юного валлийца сказалась в том, что он приказал прикрепить это оружие к главной мачте, тем самым лишив противника преимущества, которое могли дать высокие борта и превосходящие размеры корабля. Переговариваясь, ругаясь или просто стоя в тревожном ожидании, экипаж «Вольного дара» готовился к действиям. На высоко выступающем из воды встречном корабле не подняли тревогу, поскольку были совершенно уверены в численном преимуществе. Судно подняло красно-желтый кастильский флаг и продолжало идти вперед, не обращая внимания на жалкое суденышко, которое так низко сидело в воде; без сомнения, испанцы посчитали их за местных торговцев, которые держат путь к побережью Юкатана из Картахены, Порто-Бельо или Грасиас-а-Дьос. На кече матросы держали наготове оружие и тревожно рассматривали незнакомое судно, хотя после стольких дней плавания в пустынном океане все равно приятно было увидеть другой корабль. — Энох, — тихо спросил Морган, — что ты о нем думаешь? — Это, — ответил шкипер, с усилием поворачивая руль, — торговец-барк, но военной постройки, с прямым парусным вооружением и, что гораздо хуже, с необычно высокими бортами и более низкими надстройками. Таких я еще не видел. Думаю, если мы поднимем паруса, то догоним его где-то через два узла *["400]. — Джадсон! Подними испанский флаг, — скомандовал Морган. Когда боцман бросился к флагштоку и поднял грубо сшитый красный и желтый флаг, Джекмен ожесточенно сплюнул на палубу. Несмотря на прошедшие пять лет, вопли бедной Кейт Пайн и стоны несчастного Тростона все еще слишком громко звенели у него в ушах. Спустя полчаса два судна, казавшиеся пятнышками в просторах океана, шли курсами, на которых они должны были пройти друг от друга на расстоянии вне радиуса действия пушечного выстрела, как и рассчитывал Морган. На кече теперь почти все молчали; старшие готовили оружие, а младшие в испуганном восхищении разглядывали позолоту, блестящую на красиво изукрашенном носу и корме незнакомца. — Он совсем новый, Гарри. Видишь? Корма и нос у него не такие высокие, как у тех, которые мы видели. — Всё равно, — заметил Джадсон, — доны строят свои корабли как высокие деревянные крепости, и в непогоду им плохо приходится. Когда на палубе чужого корабля запела труба и ее звуки резко разнеслись над морем, то Морган приказал экипажу приспустить флаг и прокричать: «Вива! Вива!» Другой корабль изменил курс, словно собираясь вступить с ними в Переговоры, поэтому Морган отдал приказ Джекмену ослабить руль и сделать вираж, чтобы вынудить испанца — если он собирался говорить с ними — пуститься вдогонку. Все ветераны «Вольного дара» уже разгадали маневр капитана и облизывали губы в ожидании; они предвидели успех подобной тактики. Как только высокобортный быстрый корабль подошел поближе, Морган повернулся к Джекмену: — Пора! В тот же момент кеч развернулся и, пропустив огромный корабль по борту, сделал еще один поворот и бросился ему вслед. Джекмен сорвал испанский флаг и, выкрикивая проклятья, поднял собственное знамя «Вольного дара» — огромный зеленый флаг с золотым грифоном. С кеча уже хорошо можно было различить надпись «Сан-Иеронимо из Уэльвы», выписанную на алой доске среди позолоченных украшений на корме испанского судна. До матросов «Вольного дара» донесся поток поспешных команд, которые выкрикивали на борту «Сан-Иеронимо», но, поскольку суда плыли почти на одной линии, пиратам не было видно, что творится на борту испанца. Задолго до того, как противник оказался в состоянии привести в готовность бортовые пушки, легкий и обладавший хорошим ходом пиратский кеч близко подошел к корме. Там из окон-иллюминаторов высунулись дула двух стрелков, но их встретил смертельный залп из короткоствольных ружей. Раздавшиеся крики и стоны пираты приветствовали радостным воплем. — Спокойно, никчемные ублюдки, — прокричал Морган сквозь кожаный рупор. — Тихо! Готовьтесь на абордаж! Спокойно, черт вас побери! Не скапливайтесь на носу, или мы потеряем ход! Теперь «Вольный дар» качался на расстоянии выстрела от штурвала испанского судна. Почти прямо перед ними метались темные бородатые фигуры. В последнюю минуту испанцы попытались увернуться, но маневр был так неуклюже выполнен, что в результате пиратский кеч оказался прямо под кормовым подзором, вне досягаемости торопливо заряжаемых орудий; испанский капитан также не успел натянуть противоабордажные сети, которые стали успешно применяться в тех морях, где попадались корсары. Раскачиваясь, кеч поравнялся с главным якорем огромного испанца и прицепился к «Сан-Иеронимо» с помощью двух железных крючьев, закрепленных на борту и корме. Тут же два, три, шестеро и больше проворных членов экипажа Моргана вслед за своим капитаном начали бешено карабкаться на борт корабля. Оставив Джадсона командовать кечем, Джекмен разрядил оба своих пистолета в испанца, который яростно сопротивлялся Моргану и его товарищам, а потом с криком: «Долой папистов!» — схватил короткую пику и возглавил вторую волну атакующих, карабкавшихся на колеблющийся, ускользающий борт. Хотя среди пиратов было немало католиков, они орали не менее громко, потому что испанские священнослужители не признавали некоторых — особенно французских — католиков как истинных членов римской церкви. Словно обезьяны в порыве разрушения, пираты вслед за полуголым Морганом перевалились через поручни л с абордажными саблями набросились на дико вопящий орудийный расчет. Люди Джекмена уцепились за ванты «Сан-Иеронимо» и палили из пистолетов туда, где испанцы пытались перейти в наступление. Визжа, словно дьяволы, на которых брызнули святой водой, корсары щедро раздавали удары пиками и палашами на широкой и залитой солнцем палубе. Схватка длилась недолго. Среди яростно мелькавших клинков Морган, Джекмен и остальные пронеслись по орудийной палубе «Сан-Иеронимо», оставив после себя неподвижные или корчащиеся тела, чья кровь от качки растекалась по палубе. Пираты, обезумевшие от такого успеха, вырезали бы весь экипаж до последнего человека, но Морган рявкнул: — Обещайте им жизнь, кровавые гиены, а то я сам вас всех перережу! К черту! Мне нужны пленные! — От бесполезных пленников всегда можно было избавиться позже, а сейчас Гарри Морган собирал информацию так же усердно, как скупой собирает свои сокровища. Торопливый подсчет показал, что только один пират был убит пистолетным выстрелом в горло, а другой легко ранен в ногу. По одному, по двое и по трое пираты вытащили из разнообразных укромных мест около двадцати матросов «Сан-Иеронимо» и притащили их, хнычущих и умоляющих о пощаде, к Моргану, который стоял на палубе, залитый кровью и потом, но улыбался во весь рот. Еще около пятнадцати солдат были убиты. Среди пленных заметно выделялся рыжий офицер средних лет, который выглядел очень забавно, потому что на нем была только наполовину застегнутая, отделанная золотом кираса. — Piedad! No nos matan. Soy capitano *["401]. — Обратив полные отчаяния глаза к Моргану, дон рухнул на колени и протянул к нему руки. — Может, ты и капитан, но это не оправдание. — Он повернулся к Джекмену: — Я разберусь с ним позже. А сейчас, Энох, приведи корабль по ветру. Пусть Джадсон сделает то же самое. Постепенно высокий корабль и его маленький спутник начали поворачиваться борт о борт. — А как насчет раненых? — вопросил бандит с замасленным лицом, одна красная глазница которого была пуста. — Отправь их акулам, — распорядился Морган. — Они все равно умрут, поэтому так будет лучше, верно, ребята? Раздались отчаянные вопли — и очень быстро затихли. С оставшимися в живых членами экипажа корабля обращались бы намного лучше, если бы не три пленника, которых нашли в трюме. Два француза и гигант англичанин, щурившиеся и мигавшие от солнечного света, были выведены наверх. — Дьявол меня забери! — взорвался Джекмен. — Что они с ними сделали? Освобожденные пленники действительно мало напоминали людей, настолько они были вымазаны в собственных испражнениях, грязны и ободранны. Покрасневшие, опухшие глаза выглядывали из охапок нечесаных волос. Обнаженные или в остатках штанов, они стояли, мигая, и все еще не могли прийти в себя после неожиданного освобождения от огромного ошейника и кандалов. При виде следов пыток на тощем теле невысокого француза люди Моргана начали выкрикивать проклятья, которые стали еще более свирепыми, когда выяснилось, что у второго француза вырезан язык и он мог произносить только устрашающие нечленораздельные звуки. Но ярость пиратов не знала границ, когда англичанин по имени Джереми Дент поднял изуродованную левую руку, на которой не хватало ногтей на пальцах и они оканчивались красной, дрожащей плотью. — Вот что они сделали, — проговорил Дент, — но я все-таки не стал папистом. Прежде чем Морган спустился в весьма уютную каюту дона Пабло де Салазар-и-Морено, некоторые из мучителей Дента полетели за борт, где утонули сразу же или после нескольких хриплых воплей о помощи. Как Морган и предполагал, на захваченном судне оказалось мало сокровищ. К нему в руки не попало ничего ценного, кроме шкатулки с серебряными монетами, предназначенными для выплаты гарнизону в Трухильо в губернаторстве Никарагуа. Но его это совершенно не опечалило, несмотря на разочарование экипажа; и не только потому, что большой высокобортный корабль был почти совершенно новый, из полноценного дерева, способный развить хорошую скорость и сам по себе представлял большую ценность, но и потому, что в его трюме обнаружился склад оружия, пороха и разобранных кулеврин и пушек. Ужин, поданный понятливым пленником, тоже оказался неплохим. Капитан и какой-то богатый плантатор вместе с дюжиной крепких парней, которых можно было продать в рабство, глубоко несчастные от такого поворота судьбы, валялись в трюме на балласте, закованные в цепи. Да, Морган был вполне удовлетворен. Во-первых, он использовал неистощимую изобретательность Джекмена для того, чтобы переделать паруса и оснастку судна; потом, он приобрел более тяжелые и мощные орудия и мог установить их на этом корабле. — Ну, похоже, мы наконец-то захватили стоящее судно. — Широкое красное лицо Моргана сияло, словно солнце. — Теперь мы можем поиграть в настоящую игру. Уроженец Новой Англии оторвался от куриной ноги, которую тщательно обгрызал. — Хочешь подергать испанцев за бороду, а? Что ж, на таком корабле я берусь провести тебя даже в Гавану — и вывести оттуда, что немаловажно! — Я могу поймать тебя на слове, но вначале мне нужно набрать людей. — Ухмыляясь, Морган вытер губы. — А сейчас, Энох, оторви от стула свою ленивую задницу и пришли мне Джереми Дента — он должен знать что-нибудь о диспозиции испанцев в Новом Свете, а точнее, в их Тьерра Фирме *["402] и провинции Верагуа.Глава 6 ШЕВАЛЬЕ ДЮ РОССЕ
Издалека казалось, что Тортуга не слишком изменилась за прошедшие три года, но когда высокобортный барк, который раньше именовался «Сан-Иеронимо из Уэльвы», подошел к берегу, то его экипаж заметил, что на берегу Кайоны возникла дюжина новых домиков и более или менее пристойных хижин, покрытых крышами из пальмовых листьев. Дальше по берегу в богатой речной долине между побережьем и подножиями холмов появились и крупные постройки. Ранним утром вместе с «Золотым будущим», так теперь именовался «Сан-Иеронимо», в порту стояло только несколько маленьких рыболовецких суденышек. С высокой палубы захваченного корабля капитан Генри Морган быстро заметил, что крепость, выстроенная Элиасом Уаттсом, стала чуть не в три раза больше с тех пор, как маленький «Вольный дар» был вынужден быстро покинуть порт из-за полусумасшедшего Олоннэ, Дабронса и других из шайки Тиболта. Морган предался раздумьям. «Интересно, сколько из этих капитанов, которых я видел тогда у губернатора, стоят сегодня в порту — и вообще, живы ли они? Слышали ли они о том, как я захватил этот корабль, или о моем успешном нападении на Гандуакан и Порто-Лагартос и, наконец, о захвате личного транспортного галиона вице-короля Новой Гранады? Конечно, слухи о моих подвигах должны уже были пересечь залив Кампече». Капитан Морган повернул голову и осмотрел другие суда своего крохотного флота. Сразу за флагманом плыл «Вольный дар», казавшийся маленькой скорлупкой по сравнению с «Белым сердцем», большим, окрашенным в красный цвет бригом, водоизмещением почти в десять тонн. Три года и семь месяцев прошло с тех пор, как Морган, тогда самоуверенный юнец, отправился искать счастья у берегов Мексики. Так или иначе, его совесть нимало не беспокоило то обстоятельство, что слова «четыре месяца» в его лицензии чудесным образом — или с помощью некоторых умельцев из его команды — превратились в «четыре года». Генри Морган был настолько доволен окружающим миром, что, взглянув на знамя, свешивавшееся с сигнальной мачты барка, не мог удержать радостной усмешки. Хей-хо! Как грустно было расставаться с милой и любящей доньей Серафиной Марией, которая собственноручно вышила золотого грифона на его личном флаге. Рыдая при известии о его отплытии, Серафина Мария угрожала покончить с собой среди чернеющих руин Порто-Лагартоса. Лишь одно могло утешать Серафиму Марию — это то, что у нее не осталось ничего напоминающего о возлюбленном, что она могла бы благословлять или проклинать. Потом ему пришла в голову грустная мысль, что никто из тех женщин, с которыми он делил свою постель, не объявили себя беременными от него — за исключением одной креольской шлюхи, которую он в драке отбил у Джереми Дента на острове Санта-Лусия. Эта темнокожая малютка, всхлипывая, уверяла его, что он отец ребенка, который, наверное, появится на свет семь месяцев спустя. Хотя он и сомневался в этом, но не стал настаивать, а постарался обеспечить креолке более или менее сносное дальнейшее существование. В двадцатый раз Морган взвесил шансы на теплую встречу, потому что с 1660 года украшенное белыми и золотыми лилиями знамя Людовика XIV, короля Франции, развевалось не только над Тортугой, но и над портами Марго и Пор-де-Пе на Эспаньоле. А энергичный спорщик Бернар Дешамп, шевалье дю Россе, теперь сидел на месте Уаттса. Повернувшись к квартирмейстеру, Морган приказал, чтобы двум другим судам дали знак приблизиться. Почему бы не произвести впечатление своим входом в порт Кайоны? Он почувствовал легкое возбуждение, когда все три корабля отсалютовали выстрелами и подняли золотые и зеленые флаги перед кайонской крепостью. Болезненное воспоминание о том, как однажды ночью он карабкался по этим стенам, на мгновение искривило губы Моргана. К невыразимому облегчению валлийца, белое и золотое знамя династии Бурбонов нырнуло вниз в знак приветствия, а мгновением позже поднялись клубы белого дыма, и гарнизонная батарея отсалютовала ему. Как только «Золотое будущее» перевалило за линию рифов, защищавших причал, Морган в изумлении осмотрелся. Куда подевалась жалкая, неприглядная деревня, которую он запомнил? На ее месте теперь вырос процветающий на вид, небольшой город. Он почувствовал себя увереннее, заметив в порту только два судна, которые могли сравниться с его собственным. Одно из них оказалось фрегатом приблизительно одного размера с «Золотым будущим», а другое — большой, но заурядной буканьерской баркой. Длинная и низко сидящая в воде, она прекрасно подходила для неожиданных налетов из скрытых в джунглях устьев рек, потому что весла позволяли ей обойти зазевавшееся судно и неожиданно напасть на него. Не успел еще якорь корабля Моргана с громким бульканьем погрузиться в прозрачную воду у причала, как его экипаж живо бросился к лодкам и начал швырять в них мешки и по-разному упакованные тюки с таким трудом завоеванной добычей. На берегу купцы торопились назвать свои цены, шлюхи бросились к своим румянам, а трактирщики наполнили кувшины крепким ромом, который привозили с Ямайки. — Пошли ко мне Генри Кота, а яосмотрюсь на берегу. Хотя Кот, беглый банкир из Лиона, ухитрился вколотить в упрямую голову Моргана какие-то знания французского языка, тот все-таки не был уверен в употреблении идиом и всяких тонкостей. Тут появился и сам переводчик, колоритная фигура в оранжевых сатиновых штанах, подвязанных розовым поясом, и в ярко-красной куртке. Среди грубых голосов своего экипажа, выкрикивающих радостные приветствия, Морган собрался соскользнуть в гичку по веревочной лестнице, когда Джадсон, старший офицер барка, закричал: — Черт, Гарри! От крепости отошла баржа, и, похоже, на ней чертов губернаторский флаг. На лице у Моргана появилось напряженное выражение. Он вернулся на палубу, приказал всем людям быть наготове и с мрачным предчувствием наблюдал за постепенным приближением пестро разукрашенной серебристо-голубой баржи. Она очень хорошо смотрелась, черные гребцы работали в унисон, и голубые весла быстро несли ее к «Золотому будущему». Стол в гостиной очень удобного губернаторского дома, построенного выше и позади скромного маленького жилища Элиаса Уаттса и его семьи, был накрыт на шесть человек. Золотая и серебряная посуда в сопровождении разнообразных бокалов выглядела очень внушительно. Темно-желтые оштукатуренные стены оживляли несколько пестрых испанских шалей. Гостиная больше напоминала салон какого-нибудь поместного французского аристократа, чем дом губернатора одного из самых беззаконных и разгульных портов в мире. — Приношу свои извинения, mon ami, — обратился к Моргану шевалье дю Россе. — За такое короткое время я не смог приготовить для вас банкет, которого вы заслуживаете, а только скромную вечеринку на шестерых. В длинном сюртуке с развевающимися полами губернатор проводил гостей в гостиную, где за каждым стулом стояла служанка-мулатка. Рабыни были одеты в красочные желтые юбки и белые рубашки, подхваченные серебряными поясами. Морган заметил, что их босые ноги оказались чисто вымыты, а вместо обычного железного кольца раба на них были широкие серебряные кольца с эмблемой шевалье. Справа от дю Россе сидел Эдвард Мэнсфилд, вновь избранный главный адмирал конфедерации берегового братства. У этого свирепого на вид голландца, с огромным животом и на редкость кривыми ногами, на одном глазу было бельмо, которое тем не менее ни разу в жизни не помешало ему упустить хотя бы один дублон в его успешной карьере пирата и мошенника. Его грубая красная физиономия резко выделялась даже на фоне ярко-оранжевых сюртука и жилета, лиловых штанов и голубых носков. Когда-то его ударили по руке мечом, навеки парализовав три пальца на правой руке, и теперь они не шевелились и были всегда скрючены, словно птичья лапа. Морган сидел слева от губернатора. По такому случаю он необдуманно нацепил черный завитой парик. По сравнению с адмиралом Мэнсфилдом капитан «Золотого будущего» выглядел просто мелкой пташкой, потому что на нем оказался простой на вид костюм серого цвета с серебристой отделкой. Но кто перещеголял и самого голландца, так это хозяин; на свои изящные смуглые пальцы он нацепил все кольца, какие смог, а на шее у него болталась массивная цепь с огромным бриллиантом. В числе гостей был пожилой корнуэллец — капитан Джек Моррис — вместе с сыном, неуклюжим малым лет двадцати с ничего не выражающим лицом. Оба пираты до мозга костей, они лишь недавно обратились к дю Россе за лицензией и сейчас наслаждались выгодами плавания с оформленной по всем правилам комиссией. Отец и сын разговаривали и вели себя так, как и выглядели, — как отъявленные бандиты. Разодетые пышно, но безвкусно, они казались похожими на потрепанных петухов. Руки с поломанными ногтями были грязны и покрыты пятнами, а на их небритых лицах застыло мрачное и коварное выражение. Завершал эту живописную группу известный пират Ахилл Трибитор. Он был молод, с обманчивым невинным выражением на лице, хотя все знали, что со своими жертвами он мог быть свирепее любого тигра. Морган все еще не мог понять, почему, вместе с известным Мэнсфилдом, Моррисами и Трибитором, он удостоился такого внимания от губернатора, потом плюнул и обратил все свое внимание на разнообразные блюда из рыбы, лангустов, тушенных в вине змей и закуски, поданные на блюдах с рисовым гарниром. Мэнсфилд, всегда себе на уме, пил мало, но уделял много внимания телятине, вымоченной в меде и молоке, цыплятам, поджаренным в оливковом масле до появления хрустящей корочки, устрицам с маслом и приправами и самому великолепному блюду из всех под названием булябасс — чудесной тушеной рыбе, известному блюду юга Франции. Морган гордился тем, что мог понимать разговор на французском языке и вставлять замечания. Хотя губернатор, похоже, уже знал достаточно много о подвигах Моргана, он тем не менее настаивал на том, чтобы капитан «Золотого будущего» подробно описал ему все свои набеги и победы. Поэтому, подогреваемый искренним интересом старого Мэнсфилда, Морган рассказал о своих сражениях в маленьких портах, в основном занимавшихся торговлей кожами, индиго и кампешевым деревом — сырьем для стойкой краски. Глаза Трибитора, при свете свечей напоминавшие вишни, сверкали, когда валлиец рассказывал об успешной предрассветной атаке на Порто-Лагартос, а когда он повествовал о том, как выгодно захватить рабов в одном порту, а перепродать в другом, то даже Моррисы перестали жевать. Дю Россе внимательно выслушал его рассказы, постукивая по кончику длинного носа, потом резко повернулся к Моргану: — Удивительно, mon ami, но вы мало стремитесь или совершенно не стремитесь к боевым действиям на море, а также к маневрированию. Это довольно редко встречается среди джентльменов удачи. Интересно — почему? Морган дожевал индейку и вежливо ответил: — Ваше превосходительство, вы просто засыпали меня вопросами сегодня вечером, поэтому прежде, чем и дальше удовлетворять ваше любопытство, мне хотелось бы знать, почему вы так стремились к моему обществу и почему вы интересуетесь моим мнением? Широко улыбнувшись, дю Россе подставил слуге кубок. — Месье капитан, я считаю вас другом по одной простой причине — однажды вы избавили меня от весьма утомительного приятеля, некоего капитана Ива Тиболта. Дю Россе хихикнул. — Это был отъявленный бандит и хитрый интриган. Знаете, если бы не ваше вмешательство, то этот мерзавец мог бы расстроить мои планы. — Он пожал плечами. — Более того, раскритиковав поход против Сантьяго, вы упрочили мои позиции среди французских соотечественников как раз тогда, когда мне так нужна была их поддержка. При этом воспоминании Морган нахмурился. — Тортуга все равно стала бы французским владением, — мягко добавил дю Россе. — Не нужно быть слишком проницательным, чтобы понять, что человек одной национальности не может вечно править шестью другими. Длинные кудри невероятно жаркого парика Моргана мотнулись взад и вперед, когда он согласно кивнул. — Это верно, ваше превосходительство. Мы должны были потерять Тортугу. Боже всемогущий! Если бы только мы, англичане, были сильнее. Дю Россе откинулся назад — маленькая яркая фигурка на фоне покрывала из Дамаска, постланного на его огромном блестящем кресле. — Отлично. Но вы, англичане, не так сильны и поэтому мало что можете сделать в борьбе против проклятых испанцев. С другой стороны, мы, французы, сильнее, но не можем одни противостоять им. — Он выразительно махнул рукой. — Поэтому у нас, французов, и у вас, англичан, есть кое-что общее — ненависть к Испании и ко всему, чем она владеет. Морган откинулся назад на стуле, оба Морриса изумленно воззрились на него, а он повернулся к губернатору. — Хорошо, я сам скажу, о чем мы оба думаем. — А, — плохие зубы дю Россе блеснули в усмешке, — так что, вы считаете, у нас общего? Хотя Морган и смотрел на хозяина, но говорил он прежде всего для адмирала Мэнсфилда, опытного и удачливого пирата, которого настолько уважали в конфедерации, что доверили ему весь флот — почти шестьдесят кораблей разного тоннажа. — Позвольте мне сказать так, — продолжал валлиец. — Поскольку ни Франция, ни Англия, ни Голландия, — последнее он добавил для Мэнсфилда, — не настолько сильны, чтобы бороться с Испанией собственными силами, то должно быть достигнуто нечто вроде соглашения, иначе мы все погибнем. Я прав? — Да. Продолжайте, мингер Морган *["403], — вмешался Мэнсфилд густым грубым голосом. — Поскольку Испания является нашим смертельным врагом, то мы можем снарядить сильный флот и захватить ее главнейшие порты, уничтожить ее корабли и, — тут он повысил голос, — захватить такие сокровища, что сам дворец Эскуриал содрогнется от воплей Филиппа Четвертого и проклятий его мерзавцев министров! — Да! Ты прав! Клянусь Богом, я с тобой! — воскликнул младший Моррис. Мэнсфилд еще больше побагровел и на мгновение прикрыл опухшие глаза веками без ресниц. — То, что ты предлагаешь, верно — верно и звучит хорошо. У берегового братства больше не будет такого понятия, как национальность. — Он повернулся к хозяину: — Да? Что вы думаете? Дю Россе потер маленькие ручки и дал сигнал прислуге подавать пирожки, конфеты и фрукты, а потом заговорил: — Хотя здесь, в Кайоне, я поднял флаг его христианского величества Людовика Четырнадцатого, — он поднял бокал и отпил глоток, — братья не должны считать Кайону французским, английским или голландским портом. Нет. Кайона станет столицей конфедерации берегового братства. Вы можете считать Тортугу своей базой, мой адмирал, своим домом. Морган подумал про себя, но не высказал свои мысли вслух: «Значит, она не будет английской? Ну, может быть, сейчас, но потом мы еще посмотрим». — Черт побери, — впервые вмешался в разговор Джек Моррис. — Это не понравится новому губернатору Ямайки. Подзадориваемый недобрым чувством, Морган поднял руку и стукнул по столу: — Капитан Моррис, как истинный пират, я полагаю, вам все равно, чьим командам, французского или голландского адмирала, подчиняться? Уже почти совершенно пьяный, старший Моррис насупился и рявкнул в ответ с такой силой, что стул под ним треснул: — Джек Моррис не подчиняется никому, ни человеку, ни Богу, ни черту! — Но какая-то мысль побудила его тут же добавить: — Конечно, месье губернатор, я все-таки лояльный брат! Огорченный оборотом, который принимал ужин, дю Россе громко хлопнул в ладоши. — Терпение, пожалуйста, месье. Сейчас я предлагаю вашему вниманию настоящий деликатес, очищенные груши, вымоченные в вине, которое производят в нашей прекрасной провинции Шампани. Филиберт! — Он поднял украшенный кольцами палец. — Хватит на сегодня серьезных разговоров. — Губернатор изо всех сил старался быть веселым. — Давайте веселиться! Мы должны поприветствовать вновь прибывшего капитана. — Ура храбрецу Моргану! — Младший Моррис слегка взмахнул рюмкой и забрызгал шелк рубашки и льняную скатерть. — Как ни крути, а славную шутку ты сыграл в Порто-Лагартосе — отправить своих людей на берег в пустых бочках, — чертовски остроумно. Правда, па? — Да, Гарри Морган хитрее лисицы. Лопни мои глаза! — Вином хорошо запить ужин, но после ужина оно уже слабовато, — ухмыльнулся Морган в лицо дю Россе. — Несите нам что-нибудь покрепче, а я спою вам песню, губернатор, которую, клянусь, вы узнаете. Морган откинулся назад, протянул ноги на стол, сорвал парик, швырнул его в вазу с фруктами и затянул «La Ronde du Rosier». *["404] Постепенно красивый, богатый оттенками голос валлийца зазвучал во всю мощь, и служанка, которая уже сидела на коленях у Джека Морриса, открыла рот и даже перестала хихикать и отбиваться от лап старого бандита. К концу последнего куплета Морган не отрывал глаз от приоткрывшейся двери, обтянутой зеленой кожей и расположенной слева от той, в которую вошли дю Россе и его гости. Дверь открылась ровно настолько, чтобы певец смог заметить мелькнувшие темно-рыжие волосы, живой глаз и край алых губ. У него возникло сильнейшее желание вскочить и вытащить на свет красотку, притаившуюся за дверью, но он не решился, потому что второй раз за один вечер рисковать вызвать нерасположение губернатора — это было слишком. Кроме того, дверь закрылась так же бесшумно, как и открылась. «Черт! Кто это?» — размышлял он, заканчивая припев. Как будто вспомнив о пустячном деле, Морган спросил Морриса через стол: — Я уже давно не слышал о том, как дела на Ямайке после восстановления на троне нашего благородного короля. Вы можете мне что-нибудь рассказать? — Ну, милорд Виндзор сменил Д'Ойли на посту губернатора. А до Виндзора был еще один губернатор, сэр Чарльз Литтлтон — благослови Господи его душу, — который оказался, — Моррис подмигнул в сторону дю Россе, — нашим большим другом. Он симпатизировал капитанам конфедерации, и понимал их, и подписывал братьям любые комиссии, не задавая лишних вопросов и не требуя жутких процентов. Шевалье попытался, но не слишком удачно, сделать вид, что он не заметил выпад в свой адрес, заключавшийся в признании того, что губернатор Ямайки удачнее торгует лицензиями для пиратов. — Значит, власть короля установилась прочно и надолго? — Да. Его милостивое величество король Карл Второй сидит на своем троне прочнее всех других монархов. — Слава Богу! — Все были удивлены тем порывом, с каким Морган это воскликнул. — Скажите, а что же случилось с теми государственными офицерами, которые служили на Ямайке? — Ну, когда я был там прошлой осенью, им была дарована амнистия и они дружненько, словно стадо овец, перешли на сторону короля. Господи, Гарри! Ты должен зайти в Порт-Ройял. По сравнению с этим местом Тортуга не стоит и ломаного гроша. Да, месье Россе? Никто из присутствующих не заметил, как губернатор бесшумно исчез за зеленой дверью, за которой Морган заметил прядь таинственных рыжих волос. Бернар Дешамп, шевалье дю Россе, был на редкость разгневан, хотя мало кто мог бы поверить в это. Бушевал он в своем кабинете. — Будь проклято женское любопытство! — шипел он по-французски. — Как ты посмела ослушаться меня? Если ты испортила мой план, клянусь Богом, я велю Филиберту искрошить тебя на мелкие кусочки! Как тебе это понравится? Рыжеволосая девушка в голубом платье, небрежно облокотившаяся на окно, выглядела очень эффектно. Она сложила веер и протянула: — Наверное, так же, mon cher, как вам понравилось бы шесть дюймов клинка в сердце! Еще раз спрашиваю: что вы хотите от меня? Шевалье сердито потер лоб. — Знаешь, Карлотта, ты самая беспокойная покупка из всех, что я приобрел. И почему только я не отхлестал тебя бичом еще давно, не понимаю. Рабыня была так мала ростом, что трудно было поверить, что это уже взрослая женщина. Она тихо засмеялась и, двигаясь неслышными, гибкими движениями, проскользнула к губернатору и ущипнула его за подбородок. — Бедный Бернар! Я тебя раздражаю просто потому, что не позволяю тебе заниматься любовью со мной иначе, чем силой, а это, по твоему мнению, пошло, ведь ты человек со вкусом, да? Я тебе принадлежу — и в то же время нет. Мне и правда тебя жаль! Такая неблагодарность за драгоценности и костюмы, да к тому же ты заплатил три тысячи золотом Брэсу де Феру за мои прелести. — Тихо! — На остром лице дю Россе появилось угрюмое и мрачное выражение. — Пока тебе везло, но я не делаю покупок, которые не окупаются. Огромные, почти прозрачные зеленые глаза Карлотты тревожно сузились. — А теперь послушай, что я скажу. Там сидит некий капитан Морган. Я надеюсь, что он станет моим хорошим другом, — по крайней мере, мне не хотелось бы считать его своим врагом. Ты увидишь, что он молод и порывист, как все молодые люди, но он умен и смотрит в будущее в отличие от прочих его храбрых, но тупых соотечественников. — Дю Россе схватил ее за запястье и притянул к себе. — Итак, если ты не хочешь, чтобы тебя наказали, как непослушную рабыню, ты должна возбудить его внимание, привлечь его и узнать, что он скрывает. Шевалье остановился, прикусил нижнюю губу и причмокнул. — Не заблуждайся насчет него, этого Генри Моргана нелегко покорить. Для меня очень важно, чтобы ты очаровала его. Попробуй только не сделать этого, и, клянусь Богом, я втолкну тебя голой в двери общественного борделя! — Я не могу ничего обещать, — прозвучал холодный ответ Карлотты. Но в ее голосе проскользнули нотки страха. То, что улыбающийся и изящный шевалье дю Россе был способен на безжалостные пытки, она хорошо знала в результате трехмесячного заточения во дворце губернатора, где ее называли «гостьей». — И… что ты собираешься сделать с этим англичанином? Шевалье понизил голос: — Я хочу сделать его великим капитаном, возможно, даже адмиралом или превратить его в мишень для того кинжала, который ты так любишь. Рука Карлотты машинально дотронулась до огромного шиньона из рыжих локонов, стянутого блестящим кольцом У основания ее шеи. — Подумать только! — усмехнулась она. — Месье капитан Морган, похоже, вступает в самую интересную фазу своей карьеры. Стрелки часов с потускневшей позолотой на колокольне, возвышающейся над складом Доминика Лефевра, пробили одиннадцать, а на губернаторском столе скопились груды битой посуды и разбросанной одежды. Мэнсфилд, Морган и Моррисы бросали кости, но по своим правилам; они играли в игру, изобретенную младшим Моррисом. За стулом каждого из партнеров стояла веселая и хихикающая меднокожая служанка. — Во-первых, крепко держи то, что твое. — Младший Моррис показал пример, сняв ремень и накинув петлю на голую лодыжку служанки. Та притворно запищала. — А теперь, — молодой бандит взялся за кожаную чашку для бросания костей, — тот, у кого выпадет больше очков в трех бросках, получает по одному предмету одежды со всех служанок, кроме своей. Понятно? Мэнсфилд развалился на стуле, словно огромная жаба. У него все еще сохранилась достаточно крепкая и мускулистая фигура для его возраста. Дрожа от возбуждения, товарищи Мэнсфилда расхохотались, когда он выбил тридцать два. — Ему повезло. Он выиграл! — Нет, клянусь Богом. Взгляните, вот тридцать шесть, — пророкотал Джек Моррис. — Вам меня не побить. Давай, Гарри, попытай счастья. Морган бросил и проиграл, потому что в трех бросках набрал всего двадцать восемь очков. Последним бросал Джек Моррис, который выиграл и, облизываясь, оглядывался по сторонам. — Давайте, собаки, платите! Казалось, что старший Моррис никогда не проиграет. Морган дышал так, словно ему пришлось участвовать в гонках. Он громко потряс кости. — Теперь, Хлоя, молись своим святым, а то ты станешь похожа на прародительницу Еву. — Кто-то положил руку Моргану на плечо. Кровь бросилась Моргану в голову, и он резко обернулся. — Клянусь адом и сатаной, вы хотите отобрать кусок мяса у голодной собаки, а? — Только чтобы предложить более вкусное блюдо, — улыбнулся шевалье. — Застегните рубашку, прошу вас, и наденьте парик, потому что я собираюсь представить вас очаровательнейшей леди, и я не хочу, чтобы она испугалась. Морган заколебался на секунду, и рубин в его серьге дрогнул, словно маленький уголек, а потом он с видимой неохотой скинул с колен рассерженную и расстроенную Хлою прямо на кучу разноцветной одежды. Улыбаясь, он быстро поправил свой костюм и прошел за хозяином в ту самую зеленую дверь. Как только крики игроков и отчаянные взвизгивания Хлои затихли, дю Россе остановился. — Mon ami, как вы могли понять, я, Бернар Дешамп, считаю себя вашим поклонником. В знак признания ваших достоинств я прошу вас оказать мне честь и принять самый совершенный бриллиант, который я встречал после того, как покинул прекрасную Францию! — Бриллиант? Черт вас побери, месье, меня сейчас интересуют не бриллианты. Зачем… — Простите, я просто образно выразился, — улыбнулся дю Россе. — Сейчас я рекомендую вам божественные прелести мадемуазель Карлотты де Сандовал д'Амбуаз. — Мадемуазель? — Морган обратил внимание на обращение. — Это по-французски. — Ну да. Моя дорогая маленькая Карлотта обладает настолько хорошим вкусом, что выбрала себе в матери француженку, хотя она и была достаточно неосторожна, чтобы обрести в качестве отца поганую испанскую собаку. — Я весь внимание. Она свободна? — Нет, я купил ее прошлой весной у пирата по имени Брэс де Фер, который убил ее мужа и привез девчонку после набега на Сьенфуэгос на Кубе. — И что из этого? — Если Карлотта понравится вам, mon ami, и вы сможете приручить ее, то она ваша, как небольшой знак моего внимания. Но я должен предупредить вас, что, хотя Карлотта невелика ростом и изящна, она может быть коварной и жестокой, как тигр Тьерра Фирме. Вы знаете, что из себя представляют эти маленькие тигры? Морган кивнул. Индейцы вокруг Порто-Лагартоса ловили и продавали маленьких пятнистых щенков ягуаров, настоящее коварство джунглей.Глава 7 ТИГРИЦА
Морган вошел в комнату один — в последний момент губернатор сообразил, что лучше позволить ему самому себя представить. Капитан «Золотого будущего» распахнул резную дверь красного дерева и остановился на пороге. Молодая женщина по имени Карлотта стояла, выпрямившись, в туфлях из желтой кожи на высоких красных каблуках, настороженная и неописуемо красивая на фоне окна в двойной раме. Она была ростом не более пяти футов, но казалась значительно выше, потому что была стройна и изящна. Это мгновение решило все, создав между ними связь, которую почувствовали оба. Перед изумленным Морганом стояло живое воплощение тысяч его снов. Сверкающая белизна ее юбки, притягивающий разрез глаз, обрамленных необычайно длинными ресницами, две маленькие ямочки по углам полного алого рта — все это казалось ему совершенно восхитительным. Как и манера, с которой одна узенькая ручка упиралась в бок, а другая помахивала веером у груди. Никто из них не сказал ни слова — они просто стояли и восхищенно смотрели друг на друга, — и каждый понял, что теперь их жизни не смогут идти по-старому. Морган мысленно сказал себе, что эта девушка с призывными глазами больше похожа на изображения святых, которых так много в католической стране. Тяжело дыша, пиратский капитан застыл на месте, глядя прямо в глаза молодой женщине. Ни малейшего сомнения! Это самый значительный момент в жизни Гарри Моргана. Черт побери! Наверное, раньше Господь никогда не создавал столь совершенного и притягивающего, прекрасного создания. Незнакомое и неизвестное ему прежде стеснение связало его язык. Между ними на паркет из красного дерева бросала свой свет луна, только что поднявшаяся над сторожевой башней крепости. Со своей стороны, Карлотта де Сандовал д'Амбуаз тоже замерла без движения и также почувствовала значимость момента. Что за странный человек. Ей почему-то казалось, что месье капитан Морган будет выше, с багровым лицом и светлыми волосами — как большинство англичан. Она с ног до головы осмотрела эту крепкую фигуру, застывшую в дверном проеме. Dieu de Dieu! *["405] В каждой черточке его лица чувствовалась внутренняя сила! Теперь она была готова поверить рассказам Бернара о том, как этот англичанин, используя только физическую силу, разбил вдребезги оборону Ива Тиболта. «Неудивительно, что Бернара интересует его будущее, -подумала она, — и все же, несмотря на дьявольский огонек в его глазах, на его лице написаны ум и сообразительность, а еще — чувственность. Неудивительно, что такой человек хорошо поет». Странно, но Карлотту охватило впечатление, словно она видит не одного, а двух людей, вынужденных делить одно тело. Наконец Генри Морган глубоко вздохнул и начал застегивать манжеты. Как в тумане он видел, как раскрылись ее губы и тихий, слегка растягивающий слова голос произнес: — В этом нет необходимости, месье. Ночь теплая. — Ее голос доносился до него словно из тумана. — Но… но, — начал было он по-французски, — вы должны простить меня. Я… я и не подозревал, что встречу такую леди. — Меня зовут Карлотта. — Наверное, у вас есть и фамилия? Он был поражен, увидев суровое выражение, появившееся на ее правильно очерченном, с золотистым отливом лице. Какое-то злое чувство покривило ее губы, которые придирчивый скульптор мог найти чересчур полными, а рот немного большим для классических пропорций. — Да, Слушайте внимательно, потому что больше я не буду повторять. Моим отцом был — и есть — граф, адмирал Испании, дон Себастьян де Сандовал. — Неожиданно она плюнула на пол, чем еще больше напомнила Моргану молодого ягуара. — Видите? Я плюю на эту холодную, жестокую кастильскую душу. — И чем же адмирал, ваш отец, заслужил такое нежное отношение? — Я презираю его за дикую жестокость его веры и чудовищные поступки, совершенные во имя ее, а также за то, как он уничтожал несчастных индейцев. — И снова выражение лица Карлотты резко изменилось. — Моя мать, которой Бог даровал вечный покой, была француженкой. Морган был озадачен. Как видно по ее фамилии, ее семья многие века владела графством Амбуаз. И она рабыня шевалье? Но это совершенно невозможно! Девушка выглядела такой свежей, такой юной, трудно поверить, что она была замужем — и уже вдова. Со второго взгляда она производила впечатление порывистой и страстной натуры, в которой борются чувства и поступки. Снова посмотрев на нее, Морган заметил, что девушка не отрывает глаз от огромного, украшенного золотом серебряного барельефа на одной из стен; он изображал подвиги Геркулеса. — Франция должна быть такой красивой, — пробормотала она. — Я так хочу увидеть ее. — С расширившимися зелеными глазами она придвинулась к нему, и шелк ее нижних юбок зашуршал, словно сухие дубовые листья осенью. — Могу я предложить вам вина, капитан, или вы, — тут она слегка улыбнулась загадочной улыбкой, — уже выпили достаточно? — Вполне. — Пират не мог отвести от нее взгляд. — Черт побери! — озадаченно воскликнул он. — Я никак не могу поверить, что… что такая прекрасная женщина действительно существует. Я начинаю думать, что старая лиса Дешамп подлил мне какой-то индейской отравы! Вы есть на самом деле, правда? — Старая лиса Дешамп. — Смех Карлотты прозвенел словно колокольчик. — Pardieu! Так вот как вы, англичане, называете его высочайшее превосходительство, могущественного лорда и губернатора? — Мадам, когда-нибудь вы поймете, что мы и наши французские друзья так хорошо ладим в основном потому, что так отличаемся друг от друга. Карлотта протянула руку и взяла апельсин; в ее белых тонких пальцах на фоне белоснежного платья сочный фрукт ярко выделялся и разжигал его воображение. Взгляд Моргана остановился на огромном шиньоне, из которого торчало нечто похожее на тяжелую и большую золотую заколку. — Зеленый и золотой, — не совсем кстати заметил он, -это цвета семьи Морганов — и я, наверное, подлый отступник, но цвет твоих волос кажется мне намного красивее! — Красиво сказано. — Она опустила глаза. — Как мне ответить на такой комплимент? — Распусти их для меня. — Извините, капитан, но мне нравится моя прическа. — Черт побери, мне кажется, я понимаю ваше замешательство. — Он так неожиданно схватил ее, что она не успела ни бросить, ни положить на место апельсин. Его руки мгновенно нащупали узел на затылке и вытащили блестящую полосу металла. — Дьявол тебя испепели! — взорвалась Карлотта. — Ты испортил мою прическу. Не обращая на нее внимания, Морган повернулся, чтобы рассмотреть драгоценный камень, вделанный в рукоятку маленького кинжала. — Неплохой аметист, мисс, — заметил он, — но сталь плохая. Видите? — С этими словами он придавил лезвие каблуком, резко поднял кинжал за рукоятку, и лезвие с треском сломалось. — А-ах. Грубый пес! — Нет, Карлотта, только осторожный; кроме того, я не собираюсь выбрасывать камень, — заверил ее Морган и, подняв лезвие, выкинул его в распахнутое окно. Они оба услышали, как оно звякнуло на парапете. Морган повернулся и неожиданно припал на правое колено — только так ему удалось избежать удара тяжелой бутылью, которую Карлотта швырнула ему в голову. Бутылка ударилась о стену и разлетелась на тысячу сверкающих осколков. Он ухмыльнулся. — Какой темперамент! Неудивительно, что губернатор хочет избавиться от тебя. Ты не слышала, как мы в Уэльсе поступаем с непослушными маленькими девочками? Поспешно отступая, она схватилась за серебряную чернильницу. К счастью, она была пуста. — А-ах. Какой дикарь! Убирайся! Не смей прикасаться ко мне! Словно непослушного щенка Морган поднял ее, царапающуюся, пинающую его ногами и ругающую его, и посадил на колени. Когда раздались звуки поцелуя, дю Россе, который наблюдал за происходящим через потайное отверстие, скрытое за ковром, разразился тихим смехом.Глава 8 ТАЙНЫЕ ЗАМЫСЛЫ
Весной 1664 года жизнь была вполне сносной. После почти десяти лет голода, путешествий, сражений, ссор, интриг и приобретения опыта Генри Морган чувствовал себя совершенно счастливым, и ему хотелось обосноваться на одном месте. Кроме того, с Карлоттой у него хватало конфликтов, сомнений и удовольствий не меньше, чем со всей испанской королевской колониальной империей. Была и третья причина, которая вынуждала его проводить время в мирном бездействии. Совершенно неразумно, по мнению губернатора, Эдварда Мэнсфилда и остальных братьев, король Карл II, вновь воцарившийся во дворце Уайтхолл, поспешно заключил непонятный мирный договор с Эскуриалом. Полуголый Морган валялся в гамаке из пальмовых волокон в тени двух кокосовых пальм. — Итак, братец, нам остается воевать только с голландцами. А мне это не по душе. Энох Джекмен сцепил пальцы рук и хрустнул суставами — как он обычно делал, когда размышлял. — Как хочешь, но помни, что парни вроде нас должны драться или они порастут мхом; кроме того, если мы вскоре не выйдем в море, то потеряем наш экипаж. Некоторые из наших лучших матросов уже подписали договор с Риксом и остальными. — Ты прав, Энох, без всякого сомнения, поэтому я попрошу, чтобы губернатор выдал вам с Джадсоном каперские лицензии на военные действия против Кюрасао. — А ты почему не хочешь плыть? — Джекмен неодобрительно прищурил ярко-голубые глаза. Морган тут же вспыхнул и нахмурился. — Потому что я предпочитаю остаться здесь. Я уже сказал, что вы можете взять «Вольный дар» и «Белое сердце» и попытать счастья в Кюрасао и Суринаме. Уроженец Новой Англии выпятил нижнюю челюсть, и черты лица у него стали жестче. — Меня удивляет, что ты так быстро забыл о Дунбаре, Кейт и остальных. Морган напрягся и свесил одну босую ногу из гамака. — Будь ты проклят и придержи язык, Энох. Я не настолько ослеплен ненавистью, как ты или Джереми Дент, но я заставлю испанцев визжать от боли громче, чем любой из вас. — Он выдавил усмешку. — Кроме того… — Кроме того, у меня нет рыжей куколки, с которой можно забавляться и толстеть от безделья. Одним быстрым движением Морган выскочил из гамака, схватил Джекмена за горло и принялся колотить головой о ствол пальмы. — Иногда ты слишком уж испытываешь мое терпение. Жирный и ленивый, а? — Мускулы на шее и плечах у него вздулись, и он с силой сжал шею своего офицера, потом отпустил и остановился, глядя на него. Кашляя и хватаясь за горло, Джекмен спасовал перед ненавистью, светящейся в его больших темных глазах. — Делай что хочешь, ради Бога! — простонал он. — Я просто хотел убедить тебя выйти в море, но это не значит, что нужно было душить меня. — Прости, Энох, и вот моя рука. У тебя слишком острый язычок, но мы еще выйдем в море, — заговорил Морган, вновь усаживаясь в гамаке, — когда у нас появится противник и когда мы сможем получить каперские комиссии против донов. Но если хочешь, отправляйся один и попытай удачи; в конце концов, «Вольный дар» — это твое судно, и ты заслужил право командовать им! Немного смягченный, Джекмен уселся и медленно потер покрасневшую шею. — Ты все еще не хочешь сказать, что ты задумал, Гарри? — Когда настанет время, я скажу и обещаю, что тебе понравится мой план. Крепкие белые зубы Моргана блеснули на обожженном солнцем лице. — Это дело нельзя будет назвать скромным или незначительным — обещаю тебе! — Нагнувшись, пират достал кокосовую трещотку и несколько раз тряхнул ее. — Мне не по душе отплывать без тебя, Гарри. — Черт! Ты и раньше плавал один и неплохо справлялся. — Ха! Тигрица, ты что-то рано сегодня! — позвал он, когда из одноэтажного дома с черепичной крышей показалась тоненькая, легкая фигурка, которую экипаж Моргана уже ненавидел за ту паутину, которой она, казалось, оплела их капитана. Джекмен поджал губы, глядя на Карлотту, которой пришла в голову блажь одеться мальчиком, выставив напоказ стройные, длинные ноги прекрасной формы. Она часто так одевалась. Карлотта вошла в тень навеса, сшитого из старого паруса, и воткнула в волосы душистый цветок. — Здравствуй, Энох, как дела на борту? — Сносно, больше мне нечего сказать. Морган улыбнулся ей и бросил взгляд на длинную полосу утоптанного песка, которая вела от пляжа Кайоны сквозь редкие заросли высохшей травы к его удаленному от других дому. Там виднелась знакомая картина. Трое его людей толкали вперед пленника, который шел спотыкаясь, потому что руки у него были связаны за спиной. — Отправляйся на корабль, Энох, — процедил он, мигая от слепящего света солнца, отражавшегося в песке. — Скажи Денту, что я разрешил тебе опустошить трюм «Золотого будущего» и взять столько пороха, сколько тебе надо. Он протянул руку. — Да, и вот информация только для тебя — ты найдешь Мэнсфилда на Коровьем острове и хорошо сделаешь, если присоединишься к нему. Удачи, и если ты случайно примешь дона за голландца, убедись, чтобы никого не осталось в живых из тех, кто мог бы рассказать о твоей ошибке. В глубине голубых глаз тощего уроженца Новой Англии мелькнула злая усмешка, и он резко рассмеялся. — Можешь повесить меня, если я пропущу хоть одну из проклятых папистских собак. У Моргана мелькнула мысль: «Энох действительно немного не в себе, хорошо, если ненависть не помешает ему видеть то, что есть на самом деле». Джекмен немного смущенно замешкался около гамака. — Пожалуйста, Гарри, выходи с нами в море. Все знают, что тебе везет. — Ты славный, преданный пес. — В голосе Моргана прозвучала признательность. — Я знаю, что делаю. Помни, я хочу, чтобы ты встретился со мной в Порт-Ройяле в конце апреля… — Порт-Ройял? Ты сказал — Порт-Ройял? — Да. Я собираюсь заглянуть туда на разведку, но не хочу, чтобы об этом говорили в Кайоне. Спустя мгновение высокая фигура Джекмена, одетая в белое и голубое, медленно зашагала по белесому песку, от которого поднимались струи раскаленного воздуха. Скоро он поравнялся с маленькой группой, которая двигалась по пляжу Кайоны. Карлотта, которая хлопотливо раскладывала бумагу и перья на крышке бочки, неожиданно вскочила, словно белка, прыгнула прямо на Моргана, удобно устроилась в гамаке и покрыла его лицо несчетными поцелуями. — Черт, девочка, — охнул он. — Ты что, хочешь задавить меня? — О Гарри, Гарри! Я так рада, что ты отказался от своих планов. Изящные прохладные белые руки обхватили Моргана за шею, и Карлотта спрятала лицо у него на груди и нежно подула ему прямо в ямку у основания шеи, хихикая и издавая радостные возгласы. — О Гарри, я рада, что ты не поехал с Энохом, -прошептала она, а потом сделала быстрое движение, словно резвящийся щенок, куснула его за ухо и вцепилась зубами в золотую серьгу, которую он обычно носил. — Отстань, бесстыжая девчонка. — Он засмеялся и поднялся так резко, что она свалилась на песок. Он стоял и смотрел, как приближается пленник в сопровождении Генри Кота и компании ирландских флибустьеров, недавно вернувшихся после набега на Нью-Провиденс. Из-за жары все они были наполовину раздеты. — Привет, Гарри, вот еще один кандидат для твоих расспросов, — приветствовал его Кот и, сняв белую соломенную шляпу с необыкновенно широкими полями, швырнул ее в тень навеса. — Morbleu! Ну и жара! Клянусь, чистилище по сравнению с этим проклятым островом покажется просто прохладным оазисом. — Он развернулся и подтащил пленника, босого, с обгоревшими на солнце плечами. Тот, дрожа, остановился в тени. — На колени, собака! На колени! — Ай-я! — завизжал испанец, когда Кот так резко дернул ремень, что на песок упало несколько капель крови. Он неловко распростерся у ног валлийца. Морган со злым интересом наблюдал за ним. — И кем он был раньше? — Лейтенантом одного из гарнизонов в Гранаде, — ответил Кот. — Мак захватил его в береговой охране. Морган все еще плохо говорил по-испански, поэтому он повернулся к гамаку. — Карлотта, любовь моя, пожалуйста, спроси этого висельника, действительно ли он из Гранады. Нос и подбородок Карлотты показались над краем гамака. Она совершенно равнодушно взглянула на грязного, мокрого пленника. — Эй ты, помесь суки с хряком, можешь подняться. Испанец прохрипел: — Воды! Воды, ради милосердного Бога! — Аякс! — рявкнул Морган. — Принеси кувшин воды. — Он уселся в кресло, умело выпиленное из старой винной бочки. — Вылезай оттуда, тигрица, и помоги мне, — приказал он. Карлотта спрыгнула на землю, — Предупреди этого испанского подонка, что его первая ложь окажется последней. Спроси его, был ли он когда-нибудь в Вила-де-Моса, Трухильо или Гранаде. Кот изумленно взглянул на него. — А зачем тебе Трухильо? — Это мое дело, и черт побери тебя с твоим проклятым любопытством! Как по-вашему, ребята, этому парню можно верить? — Да, сэр, — ответил один из ирландцев. — Он говорил одно и то же, даже когда мы приложили к его вонючим ногам каленое железо. Морган уселся перед крышкой бочонка и приготовился писать. — Начинай, золотко. Мне нужно подробное описание каждого дома, склада и учреждения в этих трех городах. Морган внимательно следил за Карлоттой, которая задавала вопросы на грубом испанском и переводила. Морган, поклявшись улучшить свои познания в испанском, записывал ее перевод так быстро, как только мог. Спустя час пленника оставили последние силы, и он свалился в обморок на горячий песок. — Скажи ему, — велел Морган, когда несчастный пришел в себя, — что я покупаю его у Мишеля. Скажи ему, что если он будет служить мне верой и правдой, то получит свободу через год. Между прочим, как этот пес себя назвал? — Пабло Васконселос, — прохрипел пленник. — Благородный капитан, я обещаю верно служить вам, клянусь. И Васконселос бистро потупил взор.Глава 9 ИНСТРУКЦИИ ШЕВАЛЬЕ ДЮ РОССЕ
К весне 1665 года руки Моргана стали мягкими, с них совсем сошли мозоли, но в его личном кабинете, закрытом для всех, накопилась груда бумаг и документов. Постепенно он купил, скопировал или украл карты, на которых было изображено все Карибское море. Он особенно ценил несколько превосходных французских карт Либо, а еще больше — выгравированные в Голландии карты Антона Ротгевена. Хотя Карлотта не умела ни читать, ни писать, как и все благородные девушки-испанки, но она проявила чрезвычайные способности к составлению аккуратных и подробных карт по описаниям бывшего штурмана и морского офицера Пабло Васконселоса. К концу зимы Карлотта под каким-то предлогом ушла из дома и побежала в губернаторский дворец. Она нашла шевалье дю Россе, сидевшего в своем кабинете и тихо постукивавшего по большому красному кожаному портфелю, который занимал половину его заваленного рабочего стола. — Alors, ma'mie. Ты уже выяснила, что собирается предпринять наш бравый капитан Морган? Карлотта пожала худенькими плечиками в знак своего поражения. — Я знаю столько же, сколько и все, — а это значит, Бернар, почти что ничего. — Bigre! — отрезал дю Россе. — Ты меня расстроила, потому что я и сам знаю, что твой друг держит рот на замке, словно устрица. С другой стороны, — он пристально взглянул в поблескивающие зеленые глаза Карлотты, — до меня доходят слухи, дорогая, что ты питаешь к этому англичанину больше чем простую привязанность, поэтому удивительно, что ты пока не приобрела… ну, знака его постоянного внимания. — Шевалье внутренне улыбнулся своей деликатности. Девушка отвернулась и конвульсивно сжала маленькие ручки. — Я пыталась много раз, поверь мне! Боже! Как я хочу иметь ребенка от моего обожаемого Гарри. — Углы ее изящного рта грустно опустились вниз. — Ты прав. Я обожаю его — и я не позволю ему оставить меня.. Никогда! Он принадлежит мне, телом и душою. — Не хочется, дорогая Карлотта, чтобы тебя постигло разочарование. — Ты сомневаешься, что Гарри любит меня? — вспыхнула она. Дю Россе несколько раз покачал завернутой в тюрбан маленькой головой. — Я не отрицаю, что наш храбрый англичанин влюблен в тебя, как он вообще может быть влюблен в женщину. — Губернатор сухо улыбнулся. — Но если ты настолько глупа, что полагаешь, что ради тебя он отбросит свои правила и намерения — ну, короче говоря, ты ошибаешься. Карлотта вскочила так резко, что засвистели ее светло-зеленые юбки, а глаза блеснули словно агаты. — Ты всегда был дураком, Бернар, когда дело касалось женщин. — Поздравляю. Между прочим, ты не забыла, что я тебе сказал в ту ночь, когда ты повстречалась с галантным капитаном Морганом? Дю Россе обвел глазами комнату, остановил взгляд на пухлом конверте с печатями и потянулся за ним. Какое-то время его глубоко беспокоило то, что сэр Чарльз Литтлтон, британский губернатор на Ямайке, успешно привлекает к себе в Порт-Ройял все больше капитанов-пиратов. Но сейчас ситуация складывалась так, что усилия сэра Чарльза угрожали благосостоянию Тортуги — и благосостоянию самого Бернара Дешампа. Гавань в Порт-Ройяле был просторнее, и снабжение там было лучше. — Если когда-нибудь, мой маленький друг, Морган оскорбит тебя — хотя такое, конечно, трудно даже представить себе, — тебе следует всего лишь подать ему мысль отправиться на Ямайку. — Ямайка? Но он собирается… — Карлотта внезапно замолчала. — Ах, правда? Ну, я могу снабдить тебя кое-какой полезнойинформацией. — Он протянул ей письмо. — В этом донесении с Сент-Кристофера сообщается о том, что, — он сделал ударение на следующих словах, — из Англии едет новый губернатор, который сменит на этом посту сэра Чарльза Литтлтона. Этот новый губернатор — мне сказали, что его имя Томас Модифорд — имеет королевское распоряжение вешать всех пиратов, флибустьеров и корсаров, которых он сможет поймать, а также пресекать деятельность конфедерации береговых братьев. Он сделал вид, что не заметил страха, мелькнувшего в глазах Карлотты, не заметил, как смуглое лицо побледнело под слоем искусно нанесенных румян. Ее рот приоткрылся, словно она хотела что-то сказать, но потом ее губы снова сомкнулись. Шевалье весело потер руки. Значит, Морган действительно собирался на Ямайку? — И еще, моя дорогая Карлотта, никогда, ни при каких обстоятельствах ты не смеешь подниматься на борт «Золотого будущего»; ты не должна покидать Тортугу. Я советую тебе вспомнить, что ты все еще моя собственность, поэтому неповиновение для тебя смерти подобно! — Как это мило с твоей стороны, Бернар, напомнить мне об этом. — Карлотта вспыхнула до самого лба. — Разве я не выполняла все твои указания? — До сих пор, — согласился дю Россе, обмахиваясь донесением от губернатора острова Сент-Кристофер. — Если ты любишь моего друга Генри, то убедишь его держаться подальше от Ямайки. Скажи ему, что он рискует оказаться на очень высокой виселице, которую сэр Чарльз только что построил на молу Кагуэй. Постой! Я и забыл, что жители Ямайки теперь называют свой городишко Порт-Ройял в честь нового короля. — Чтобы еще усилить удар, который он нанес своей посетительнице, он добавил: — На Ямайке он встретит какую-нибудь англичанку, которую полюбит. Хотя ты, наверное, считаешь иначе, моя дорогая, но Морган никогда не женится на девушке другой национальности — и я полагаю, он возьмет в жены особу того же сословия. Карлотта вскочила. — Гарри никогда не женится ни на ком, кроме меня. Разве я не благородной крови? — Да, так и было, — вздохнул губернатор, — но будем честными: ты отказалась от своего благородного отца. Разве ты не бежала с португальским купцом? Лицо Карлотты посуровело. — Я любила Доменико Гонзало — ты понимаешь это? И я ненавидела мое заточение — словно в монастыре — в замке Веракрус! — Бедное дитя. — Дю Россе сделал вид, что смахивает слезу. — А скажи, кто целый год валялся по всем постелям, пока Брэс де Фер не приютил тебя в Сьенфуэгосе? Карлотта задрожала от ярости. — Гарри не знает об этом, а если и узнает, то не обратит на это внимания! — Сомневаюсь! — Дю Россе неожиданно нагнулся над столом и схватил ее за запястье. — Послушай, глупый котенок. Придумай что хочешь, но Морган не должен уехать на Ямайку! Он наклонился так, что его налитые кровью глаза оказались всего на расстоянии дюйма от ее широко распахнутых зеленых глаз. — Я не позволю ему отвлечь от меня братьев и направить поток товаров от Тортуги к британской колонии. — Он продолжал сжимать ее руку, пока она не закрыла глаза и не задержала дыхание от боли. — Если он будет упорствовать в своем намерении, то позаботься о том, чтобы он не отплыл на Ямайку — и вообще больше никуда никогда не отплыл. В Кайоне разносились обычные звуки попойки в честь успешного возвращения очередной экспедиции, хотя ночь была влажной и дождливой. Морган бесцельно бродил по веранде, глядя на огоньки, сверкавшие в порту. Из-за жары на нем оставался только свободный халат, который он накинул на плечи и подвязал на животе. Свернувшись на белой круглой подушке, сидела Карлотта. При свете лампы серебряные гребни в ее волосах слабо поблескивали. Отблески света играли и на большом золотом божке какого-то давно умершего индейского вождя-касика, который свисал с ее шеи на тяжелой золотой цепи. Карлотта тоже была легко одета — прозрачное платье из такого тонкого шелка, что сквозь него при желании можно было читать книгу. Хотя оно обошлось Гарри Моргану во много золотых экю, он не смог устоять перед его невероятной прозрачностью, перед изяществом похожего на паутину шелка на воротнике и манжетах. — Ах, тигрица, — вздохнул он, — я слишком долго бездельничал. Такая жизнь хороша, но она не по мне. С ужасом взглянув на него, она спросила: — Скажи мне, Гарри, куда ты направишься и сколько времени тебя не будет? Большим пальцем он провел красную черту на ее нежной шее. — Только тебе, — тихо произнес он, — доверю я свои мысли. Проклятый мир с Испанией затянулся дольше, чем я ожидал. Я не могу вечно держать «Золотое будущее» без работы, поэтому я хочу выступить против голландцев. — Тогда почему ты не обратишься к Бернару за комиссией, — я хочу сказать, к губернатору? «Вот даже как! — подумал Морган. — Бернар, да? И откуда Карлотта могла знать, что он не просил у дю Россе каперскую лицензию? — Морган глотнул вина. — Значит, эта такая влюбленная и на первый взгляд привязанная ко мне девочка коротко общается с дю Россе?» Морган почувствовал подвох и ответил на ее вопрос так: — В Кайоне я не смог найти подходящих пушек и хорошего пороха. — Тогда где же ты возьмешь боеприпасы? — Сердце у нее отчаянно забилось. — Не… Не на Ямайке? — Я думал об этом, — согласился он. — А почему бы нет? Судорожным движением она прижалась к нему. — О Гарри! Ты не должен ехать туда. Поверь мне, ты не должен! В царившей полутьме он был поражен выражением ужаса у нее на лице. — Чего ты боишься, тигрица? — Я слышала — не важно от кого, — что туда едет новый губернатор с распоряжением английского короля бороться со всеми пиратами и ослабить власть конфедерации! Она почувствовала, как его мускулы на мгновение напряглись, а потом расслабились. — Кто рассказал тебе такую чушь? — спросил он ее с отлично разыгранным изумлением, а потом принялся расспрашивать: — Это был дю Россе? — Нет! — крикнула она. — Это был… был капитан, которого я случайно встретила… у торговца вином. Он был в Кагуэе, то есть в Порт-Ройяле, — недавно. Он клялся, что английский король прислал много солдат и что Ямайка будет закрыта для всех, кроме настоящих английских судов! — Именно таким судном, — тихо произнес Морган, — я и собираюсь командовать. Но английское судно, даже частное, когда оно снаряжено соответствующим образом и имеет английскую каперскую лицензию, перестает считаться пиратским. Капитан становится честным капером. Солнышко, это вполне благородное звание, — он резко рассмеялся, — как замужество. Карлотта подняла голову и со слезами на глазах попыталась вымученно улыбнуться. — Скажи мне, Гарри, разве я не научилась делать тебя счастливым? Давать тебе наслаждение? — Да. Никогда у меня не было такой нежной, сладкой подруги. — Скажи мне, разве я не переводила для тебя много часов подряд? Сколько карт я начертила и срисовала для тебя? — Голос Карлотты задрожал. — Пожалуйста, Гарри, ради Бога, послушай меня. Разве я не доказала, что доставлю тебе удовольствие, разве я не доказывала тебе много раз, как страстно я обожаю тебя — и только тебя одного? Морган высвободил руки и взялся за рюмку. Он кивнул, но воспоминание о том, что она солгала ему насчет дю Россе, охладило его энтузиазм. — Многое из того, что ты говоришь, тигрица, верно, но зачем напоминать мне об этом? Может… — Он остановился на полуслове. Будь оно все проклято, он так привязался к ней, к ее причудам и к тому, как она готовила, к ее веселью и красоте. Ее длинные ресницы дрогнули. — Может — что? О, пожалуйста, Гарри, пожалуйста, скажи мне. — Может, когда закончится это плавание и если ты не изменишься ко мне… — Он снова замолчал, думая о ее связи с дю Россе. — Нет, глупо даже думать об этом. Карлотта глубоко вздохнула, так что ее изящная грудь поднялась под прозрачной тканью. — Я понимаю, — прошептала она. — Когда Гарри Морган женится — то возьмет девушку из богатой аристократической семьи? — Как четко ты это сформулировала. Она опустилась перед ним на колени и прижалась к его ногам. — Не надо, — попросил он и попытался поднять ее, но она только крепче, со стоном, продолжала прижиматься к его ногам. — Гарри, разве ты не видишь? Ты никогда не найдешь другую женщину, которая будет любить тебя всем сердцем, как я, которая будет готова на все ради тебя, как я. — Она подняла дрожащее лицо. — Обещай мне, что ты не поплывешь на Ямайку, а будешь воевать против голландцев, а потом вернешься ко мне. — Дорогая маленькая тигрица, — произнес Морган, -ты хочешь командовать слишком большим кораблем. Дождь почти прекратился, и сквозь редкую водяную завесу стал виден порт — сверкающий и манящий. Морган нашел взглядом «Золотое будущее». Он увидел очертания барка, отраженные в воде. Господи, какое счастье снова ощутить покачивание палубы под ногами! Поднявшись на ноги, он ступил на мокрый песок и молча вглядывался в море. Карлотта сквозь пелену слез смотрела на знакомые суровые черты. Как прав был дю Россе. И в отчаянии она снова слышала мягкий голос француза, повторявший: «Советую тебе вспомнить, что ты все еще моя собственность!» До сих пор шевалье терпел все ее капризы и причуды, несмотря на упорный отказ девушки подчиняться ему иначе, чем по принуждению, но если она вернется во дворец, то все изменится. Бернар знал, что она любит Гарри, — а он был и ревнив и зол. «Ах, Боже милосердный, — взмолилась она про себя. -Что же делать? Бернар сказал, что Гарри любой ценой не должен отплыть на Ямайку. Если он уедет, то шевалье исполнит все свои угрозы». И неожиданно девушке в голову пришло жестокое решение, которое заставило ее вскочить на ноги. — Т-твое вино нагрелось, — произнесла она, вытирая глаза. — Я принесу холодную бутылку. Он зевнул и улыбнулся через плечо. — Вот хорошая девочка, и давай закончим с этим. Я хочу отправиться на корабль с первыми лучами солнца. Платье Карлотты взметнулось, когда она бросилась прочь. Она не могла удержать рыданий, но решение ее было непреклонно. В кабинете Гарри горел свет; она слышала, как там двигался Васконселос. Испанец оказался терпеливым и понятливым и, наверное, все еще проверял запасы, которые нужно было погрузить на барк. Почти беззвучно ступая босыми ногами, она прошла мимо двери кабинета в свою спальню и пошарила в маленькой, украшенной жемчугом шкатулке, где она хранила все самое ценное. Наконец ее пальцы нащупали серебряный пузырек, который следовало носить на груди. Он был предназначен для безопасных духов, но сейчас там была настойка из манзанильи, смертельно опасного яда, готовя который индейцы старались не становиться по ветру рядом с тем горшком, где он варился. Ей понадобилось всего мгновение, чтобы капнуть достаточное количество желтого яда в две рюмки. Наполнив одну из них, она обнаружила, что вино кончилось, поэтому она оставила венецианские рюмки рядом с лампой в патио, а сама побежала обратно в дом к винному погребу. Она рылась среди пыльных бутылок в поисках любимого вина Моргана, когда Пабло Васконселос отворил дверь кабинета и огляделся. Он торопился и хотел дописать отчет на веранде, но заметил две рюмки; поскольку одна была полна всего наполовину, а вторая и совсем почти пуста, то он решил, что это остатки трапезы. Карлотта вернулась в патио в тот момент, когда Васконселос поднес наполовину наполненную рюмку к губам. Ужас парализовал ее, и она промедлила какие-то две секунды, но они оказались роковыми. — Нет! Нет! — завизжала она, но испанец уже выронил бокал. — Иисус, Мария! — Бутылка мадеры выскользнула из безжизненных пальцев Карлотты и разбилась, обрызгав все вокруг красными брызгами. — Что происходит, черт возьми? — Морган ворвался с веранды и застыл на пороге. Карлотта смотрела, как длинное тощее тело солдата дергается в конвульсиях, а горло издает булькающие звуки, разбудившие всю прислугу. Морган проскользнул внутрь, быстро огляделся, пытаясь понять, что происходит. Васконселос дернулся и потерял сознание, хотя его тело все еще судорожно выгибалось. В его руке была зажата ножка сломанной рюмки. Неподалеку валялись осколки другой рюмки, разбитой при его падении. Карлотта стояла у дальней стены, прижав руки ко рту. — О Гарри, я все объясню… — Тихо! Стой, где стоишь, — рявкнул он и склонился над слабо подергивающимся телом. Запах манзанильи легко было узнать. — Значит, вот каким вином ты собиралась меня угостить? — спросил он и сжал челюсти. — Да. Но я хотела разделить его с тобой, — Карлотта едва могла шевелить губами, — потому что я люблю тебя. — Любишь меня? Предательница! Словно тигр на застывшую от страха жертву, Морган надвигался на Карлотту. Рыча от ярости, пират выхватил кинжал из ножен. — Значит, ты хотела отравить меня, убийца? — Пощади! Пощади! Не убивай меня! — В ужасе она неосознанно заговорила по-испански. — Честью матери клянусь, я хотела умереть вместе с тобой. Не убивай меня! — Не бойся. — Он говорил со спокойствием, более ужасным, чем ярость. — Я хочу только пометить тебя, а не убить — ядовитая коралловая гадюка! С округлившимися от ужаса глазами Карлотта судорожно дернулась, почувствовав, как крепкая рука схватила ее за волосы. Неожиданный рывок свалил ее на пол, и она почувствовала, как ее придавило тяжелое колено. — Не надо! Не надо! — завизжала она и задергалась под весом его тела. Карлотта с трудом могла дышать и почти не ощутила, как он крепко схватил ее за правое запястье. Вдруг все закрутилось вокруг, и она ощутила пронзительную боль в правой руке. В агонии она посмотрела вниз и увидела, что кинжал Моргана изобразил грубую, но вполне различимую букву «О» на тыльной стороне ее руки. — Теперь, по крайней мере, — крикнул Морган, — другие будут знать, что имеют дело с отравительницей.Глава 10 ВСТРЕЧА
Вокруг бухты Порт-Ройяла вздымались Голубые горы. Они ярко блестели на восходе и покрывались тенями на закате. Бухта Порт-Ройяла смотрелась столь великолепно, сколь только мог пожелать любой моряк. Она была глубока и отгорожена от открытого моря длинной песчаной косой, которую испанцы назвали Лас-Палисадас. Размеры бухты впечатляли: длиной более шести миль, а шириной в три мили. И вдобавок проникнуть в нее можно было только сквозь узкий проход, который находился под прицелом батарей на мысе Мейфилд слева и мысе Пеликан справа по борту от входящего судна. Короче, Порт-Ройял был расположен так, что главенствовал над узким проливом, по которому должен проходить любой корабль, чтобы из открытого моря попасть в спокойные воды гавани. Здесь Палисадас заканчивался изогнутым мысом, направленным к центру острова. Таким образом внутри гавани образовывалась еще одна маленькая гавань. Другим преимуществом Порт-Ройяла оказывалось то, что берег обрывался почти отвесно, и вода сразу была такой глубины, что самые крупные суда могли стоять у берега словно привязанные к пирсу. Вскоре после восхода солнца приветственный залп батареи в форте Чарльз дал три выстрела в знак того, что на входе в пролив стоит корабль. Отчаянно зевая, рабы выползли из крохотных хижин-конурок, в которых они влачили жалкое существование, и неспешно двинулись, чтобы отворить двери лавок, которые все еще осаждали участники неимоверно успешного набега адмирала Эдварда Мэнсфилда на Кампече. Часовой на башне форта Чарльз мог с первого взгляда заметить, что Порт-Ройяя стремительно строился и расширялся. Везде виднелись новые, хотя и грубые на вид здания и сооружения; некоторые из них были выстроены в такой опасной близости к воде, что опирались на сваи, вбитые глубоко в песок, который, без сомнения, расползется при первом же землетрясении. А такое, по рассказам индейцев, ранее здесь случалось. На перекладине виселицы, с которой свисала дюжина тел в различной степени разложения, в неимоверном количестве сидели жирные стервятники. Птицы терпеливо ждали того чудесного момента, когда шея трупа настолько сгниет, что тело жертвы свалится на землю, где его легче будет клевать. Лестница, приставленная к одному из помостов, свидетельствовала о том, что сегодня удлинится шея еще одного невезучего бродяги, потому что новый губернатор его английского величества, сэр Томас Модифорд, больше всего был обеспокоен тем, чтобы угодить лордам Торговой палаты *["406] и хозяевам плантаций, озабоченным сохранностью доставляемых грузов. Часовой лениво обвел взглядом море и остановился на трех кораблях у входа в гавань, скорее всего пиратских, поскольку на них не было видно национальных флагов, только частный желто-зеленый флаг. — Клянусь Богом, этих мерзавцев ждет сюрприз, -пробормотал он и передвинул мушкет в более удобную позицию. В этот момент солнце поднялось над Голубыми горами и залило белый и красный город потоком золотого света; оно также позолотило паруса трех входящих кораблей, которые сейчас проплывали мимо форта Чарльз. Скучающий в ожидании смены часовой прочел их названия: «Вольный дар», «Белое сердце». В их кильватере плелась большая, неуклюжая посудина, скорее всего голландская. Похоже, ей здорово досталось. На дыры в борту были набиты свежие планки, а на парусах сияли заплаты, и без того укороченная мачта оказалась надставлена в двух местах. Глаза загорелого часового блеснули. Хей! Да это же захваченное торговое судно «Бреда» из Эдама. Возле ее поручней сгрудились несколько матросов, которые махали руками и весело вопили какие-то проклятья. — Посмотрим, как вы потом закричите; вряд ли у вас найдется повод для смеха. — Часовой ухмыльнулся и помахал плоской, широкополой соломенной шляпой. Энох Джекмен с повязкой на левой руке — результат последнего отчаянного выстрела из пушек «Бреды», с мрачной улыбкой наблюдал за тем, как баржа с плеском бросила якорь и любопытные коричневые пеликаны в панике метнулись врассыпную. — Значит, Гарри еще нет, — хмыкнул Джекмен, обращаясь к Джереми Денту, теперь первому помощнику «Вольного дара». — Действительно, барка не видно. Не обнаружив корабля Моргана в гавани, Джекмен почувствовал тревогу и какое-то смутное нехорошее предчувствие. Может, он узнает о нем в порту? Задолго до того, как уроженец Новой Англии, еще более худой и угловатый, чем прежде, сошел в шлюпку, на берегу начали собираться люди. Не осталось ни одного лавочника, который мигом бы не сообразил, что этот незнакомец привез новую партию рабов из Африки. Все купцы в городе мгновенно собрались, потому что рабы требовались на обширных табачных и сахарных плантациях, которые росли словно грибы на всем протяжении от Саванны-ла-Мар до северного побережья. «Да, Морган будет доволен, — сказал себе Джекмен. — Рабы — ценный товар. Будь я проклят, если выручу за них меньше десяти тысяч фунтов!» Пират задумался над тем, где ему спрятать запасы золота, которое медленно, но неуклонно накапливалось у него в шкатулке под кроватью. Еще пара тысяч, и тогда, будь что будет, он может завязать и отправиться просить руки Люси Уаттс. А как же Морган? Неужели эта рыжая шлюшка, наполовину француженка, так заморочила ему голову, что он по-прежнему валяется на берегу Кайоны? Все может быть, Гарри всегда был падок на девочек. В тысячный раз он попытался и снова не смог найти объяснение его внезапному охлаждению к мисс Сьюзан Уаттс. Джекмен был очень опечален этим, потому что однажды теплым вечером Люси позволила ему поцеловать ее и обещала свое сердце, и, если бы не поспешное отплытие Моргана с Тортуги, она бы вышла за него замуж, поверив его твердому обещанию выйти «из дела», как только он накопит сумму, равную цене плантации в Виргинии или Каролине. Когда он закрыл глаза, то ему почудился ее тихий голос, который жалобно произнес: «О Энох, дорогой, поторопись увезти меня. К счастью, я еще так молода, что могу упросить отца подождать несколько лет, и буду ждать тебя». Он никогда не забудет, как Люси подняла нежное лицо для прощального поцелуя. Может, теперь она стала похожа на свою сестру Сьюзан. Где он найдет ее? Не в Кайоне. До него уже дошли слухи, что Элиас Уаттс, убедившись, что ему не продержаться без значительной поддержки из Лондона, погрузил свою семью, рабов и все состояние на корабль и отплыл в колонию Массачусетс. С берега подошла лодка, гребцы споро работали веслами. — Я Исидор Молинас, — пропищал тоненький голосок. — Я предлагаю за ваших рабов лучшую цену во всей Вест-Индии. Сойдемте на берег, капитан, и обсудим условия у меня дома. Но под носом у «Вольного дара» уже покачивалась лодка другого торговца живым товаром. Говоря по-английски с французским акцентом, он сложил руки и прокричал: — Оле! Не слушайте проклятого жида. Он последнюю рубашку с вас снимет. Имейте дело с Франсуа Дюпре, и вы никогда об этом не пожалеете. Джекмен расхохотался. Похоже, денек будет хлопотным — и доходным. Сэр Томас Модифорд потянулся за тяжелой, украшенной золотым шитьем шляпой и неловко нацепил ее на пурпурный платок, повязанный на его бритой голове, а потом бросил нетерпеливый взгляд на своего сотоварища, крупного, с красной физиономией мужчину лет шестидесяти. — Давай, Эдвард, пора идти на берег. Я хочу проинспектировать вновь прибывшие суда и осмотреть их добычу. — Черт! Том, — простонал полковник Эдвард Морган, мигая блеклыми голубыми глазками. — Тебе обязательно надо куда-то бежать? Ты не можешь посидеть спокойно хотя бы пять минут? — Я могу, но не буду, — спокойно ответил губернатор. — Пошли, пока еще солнце не печет. Я считаю, что это мой долг, я должен выполнять все свои обязанности на новом посту. Капитан Хартли! Появился его личный охранник. — Да, сэр? — Построй отряд. Мы осмотрим вновь прибывшие суда. Стул облегченно вздохнул, когда полковник сэр Эдвард Морган поднял свою тушу весом почти триста фунтов. У него были тощие ноги, словно стволы молодых пальм, испещренные похожими на канаты венами под тонкими чулками. От ужасной жары одутловатая и багровая физиономия полковника приобрела фиолетовый оттенок. — Боже мой, Том, и как я мог сделать такую глупость и оставить Барбадос? А зачем это сделал ты? — Барбадос стал слишком густонаселенным. А Ямайка сейчас словно еще неоткрытая раковина, с той разницей, что мы точно знаем, что внутри есть жемчужина. Боже правый, ты еще видел где-нибудь подобный источник природных богатств? Сэр Томас был почти шести футов ростом, с серыми глазами, острыми чертами лица и сардонической улыбкой на тонких губах. При виде его упрямого, квадратного подбородка отпадали всякие сомнения в его возможной слабости или нерешительности. Больная печень — результат слишком многих бочонков с ромом, выпитых под тропическим солнцем, — придавала лицу Модифорда медный оттенок, но выражение этого лица казалось приятным благодаря обманчивой улыбке под длинными темными усами. Джекмен предупредил матросов, чтобы они не заключали торговых сделок, а шли за Джадсоном, который устроил аукцион под открытым небом на расстоянии пятидесяти ярдов справа от корабля. Вокруг шныряли маленькие, почти совершенно голые, коричневые и чернокожие дети обоих полов и визжали от восторга. Собаки облаивали заросших, грязных корсаров, которые, сгибаясь под тяжестью тюков, мешков и баулов, спускались на берег. Оба экипажа состояли большей частью из англичан, но среди них часто попадались французы и голландцы, а также несколько смуглокожих португальцев. Пошатываясь, пираты преодолели по воде несколько последних ярдов до берега, не переставая выкрикивать жуткие ругательства в виде приветствия собравшейся толпе. В голубоватой тени навеса собрались перекупщики, торговцы, менялы и лавочники; у большинства из них на поясе висел туго набитый кошелек, а сзади стоял хотя бы один хорошо вооруженный охранник. Толпа очень быстро сообразила, что если не брать в расчет негров, то добыча, захваченная на борту неудачливой «Бреды», хоть и хорошего качества, но достаточно мала. Вместе с Дентом Джекмен уселся на стул на низком возвышении. Оттуда хорошо было видно происходящее. Негров он решил немедленно выставить на продажу — его команда жаждала получить деньги в руки. Хотя Дент и Джадсон как настоящие пираты были готовы немедленно согласиться на мало-мальски разумную цену за негров, ткани и слоновые бивни, Джекмен сплюнул, цыкнул и потряс загорелой головой, протянув нараспев: — Постойте, ребята. У нас дома мы говорим: семь раз отмерь, один отрежь! Пусть эти мошенники и мерзавцы перегрызут друг другу глотки, а черных женщин мы не будем продавать до завтра. Мы получим за них больше, если черные кошелки вымоются, наедятся до отвала и намажутся маслом. Торговцы с нетерпением ждали начала аукциона, потому что их склады и бараки были уже почти пусты, и к тому же поползли слухи, что у сэра Томаса Модифорда есть распоряжение от королевских властей пресекать деятельность пиратов. Поэтому мало какие корабли осмеливались заходить в Порт-Ройял, а это позволяло назначить цену за груз «Бреды» гораздо выше среднего. К тому времени, когда были выплачены последние деньги, уже наступила темнота. К этому моменту все люди Джекмена получили свои деньги, попробовали на зуб каждый дублон и отправились по сходням навстречу разгульной ночи, после которой все они очнутся без гроша в кармане и будут причитать, что опять подхватили французскую болезнь, триппер или что иное. Капитан Джекмен только собрался осушить честно заработанный стакан грушевого сидра, когда на плечо ему положил руку сержант королевского гарнизона. Чертыхаясь и хватаясь за кортик, Джекмен резко развернулся. — Убери свои грязные лапы! — заревел он. Последний раз его так хватали за плечо только в тот памятный день в Ньюберипорте. Испуганный сержант отскочил назад. — Честное слово, я ничего плохого не имел в виду, капитан, — забормотал он с резким ирландским акцентом. -Просто его превосходительство губернатор хочет поговорить с вами. — Губернатор? — Джекмен почесал нос. С момента прибытия в Порт-Ройял до него доходили самые тревожные слухи о намерениях сэра Томаса Модифорда по отношению к береговому братству. Конечно, на стороне королевского губернатора был закон, и его обязанность состояла в том, чтобы следить за выполнением договоров, подписанных правительством его величества — и не нарушать их. Проблема заключалась в этом проклятом, совершенно неестественном мирном договоре с Испанией -мире, который не был миром, а являлся всего лишь временным перемирием. Если только английское судно рискнет зайти в испанские воды и при этом окажется достаточно слабым, то в небо поднимется ещё один столб дыма, а тюрьмы Порто-Бельо, Санта-Марты, Порто-Лагартоса, Гаваны или еще какого-нибудь испанского порта пополнятся новой партией пленных. Все были уверены в том, что, несмотря на пресловутый мир, капитаны Серль, Джек Моррис и Уильяме имели полное право грабить испанцев, но только как пираты, без каких-либо комиссий. Например, капитан Барнард прошлым летом захватил форт и городок Санто-Тбмас на Ориноко, а капитан Купер, меньше чем полгода назад, взял в плен большую каракку «Мария из Севильи», которая в трюме везла тысячу слитков чистейшего перуанского серебра. Джекмен нашел нового губернатора в скромном административном здании на задворках Порт-Ройяла. Дом практически упирался в палисадник и блокгауз, защищавшие город с тыла. Вместе со своим сыном Чарльзом губернатор наслаждался вечерней трубочкой; на нем не было парика, и он расстегнул воротник рубашки. — Капитан Джекмен, сэр, с «Вольного дара». — Пожалуйста, проходите, капитан, — произнес губернатор, но сам не поднялся. — Я сказал «войдите». Сэр Томас был первым титулованным англичанином, которого видел Энох, и хотя он произвел на Джекмена впечатление, тот решил не подавать виду. — Сержант сказал, что вы хотите говорить со мной? — Да, капитан, так и есть. Чарльз, пожалуйста, прикажи Адамсу нацедить капитану Джекмену малаги. Вы пьете малагу? Нет? Значит, вам пора начинать. Улыбка сэра Томаса показалась Джекмену дружелюбной, даже ободряющей, но он все равно оставался настороже. — Садитесь, старина, вот в это кресло и расстегните пояс. Какое-то время разговор вертелся вокруг продажи слоновой кости, одежды и рабов, которой Джекмен занимался целый день. — Как вам нравится малага, капитан? — Что ж, недурна. Но я пробовал и лучше — и хуже. — уроженец Новой Англии не собирался делать поблажек, тем более этому аристократу. Губернатор улыбнулся. Правду говорят, что массачусетские колонисты — сущие дьяволы, если приходится иметь с ними дела. Но если вы завоевали их доверие, то можете положиться на них. На Барбадосе он этому научился. — Интересно, — Модифорд провел рукой по выбритому до синевы подбородку, — слышали ли вы, что проклятые испанцы планируют вновь захватить Ямайку. Джекмен глотнул малаги и помедлил с ответом. Как бы Гарри Морган ответил на такой вопрос? Куда клонил его дружелюбный собеседник? — Я вполне допускаю, что доны могут попробовать. — У вас есть конкретная информация об этом? — Может есть, а может, и нет. Энох Джекмен расслабился. Ясно, что сэр Томас и понятия не имел о том, что происходило в Карибском море. Но он хочет все узнать, а значит, Энох Джекмен может поторговать имеющейся информацией — по крайней мере, пока Гарри Морган не войдет а порт. Губернатор дал сигнал дворецкому наполнить стакан Джекмена. — Разве большинству братьев не кажется, что угроза атаки на Порт-Ройял… э… висит в воздухе? — Не могу сказать наверняка. Поскольку я покинул Тортугу прошлой зимой, то могу судить только о трех наших судах. Говорят, что этот мир — просто фальшивка, чтобы доны получили передышку и могли собраться с силами. Я… вообще, я в этом не уверен. Лучше подождите, пока Гарри войдет в порт. — Гарри? Малага начала действовать, и Джекмен уже чувствовал больше доверия к губернатору. — Гарри Морган. Модифорд облизал губы. — Морган? Мне кажется, я о нем слышал. — Конечно, вы слышали о нем. — Джекмен поудобнее уселся и рассмеялся, начиная недоумевать, куда клонится этот разговор. — Полагаю, капитан, — губернатор старался быть вежливым, — вы слышали, что все королевские военные корабли были возвращены в Англию? Джекмен потряс лохматой головой. — Расскажите мне. По-вашему, это правильно? — Это неправильно, — уверил его Модифорд. — Лорды Торговой палаты и хозяева плантаций ничего не видят дальше своего носа. Пока наши военные корабли «Марстон», «Моор» и «Гектор» стояли на якоре в гавани, доны даже не думали о том, чтобы напасть на нас, но теперь Ямайка, скажем так, беспомощна. Модифорд остановился и одновременно опечалился, потому что его собеседник не выказал ни малейшего огорчения по этому поводу. — Между прочим, — добавил он, — мне интересно, понимаете ли вы, что вам крупно повезло? — Как это? Что-то в тоне сэра Томаса заставило пирата подобрать ноги, которые он слишком вольно протянул посреди комнаты. Он внезапно осознал, что серые глаза губернатора, не мигал, смотрят на него. — Капитан, только потому, что я ценю услуги, оказанные братством, пусть и бессознательно, Ямайке, я промедлил с опубликованием этого документа, — из ящика письменного стола он вытащил лист печатной бумаги, — пока вы не распродали вашу добычу. С возрастающим ужасом Энох Джекмен прочел королевский указ, запрещающий торговлю на Ямайке любой добычей, доставленной судном, не плавающим с английской лицензией! Длинное лицо Джекмена напряглось, пока он читал указ. — Я слышал об этом, — хмыкнул Джекмен, — но не верил, что королевская власть пойдет на такую глупость. Модифорд тоже хмыкнул и взял огромную понюшку табаку. — Я не могу судить об этом, но лорды Торговой палаты приказали мне закрыть порт для пиратов всех стран и не продавать им комиссий. Не очень удобное положение для меня, верно? — Но… но… — Джекмен запнулся. — Эти идиоты в Лондоне ничего не знают о здешних условиях. Сколько продержится Порт-Ройял без добычи и рабов, которые доставляют береговые братья? Губернатор снова вздохнул. — Да, сколько? Только Богу известно, насколько Ямайка бедна и беззащитна. Если только мистер Беннет… — Кто это? — …секретарь лордов Торговой палаты — сможет объяснить этим благородным тупицам в Лондоне — но он не может. И у меня есть распоряжение конфисковывать корабли всех пиратов, входящих в Порт-Ройял, а также их груз. Так что вам повезло, верно? Джекмен горько произнес: — Это самоубийство для вас и для британской власти в этих широтах. Тортуга получит всю добычу конфедерации. Все было ясно. Боже всемогущий! В любой момент паруса Моргана могут показаться над горизонтом, а он прохлаждается тут, в Порт-Ройяле. Что делать? Но, прежде чем Гарри Морган позволит захватить его корабль и добычу, будет кровавая бойня. Уроженец Новой Англии Принялся соображать, как ему предупредить «Золотое будущее» и Моргана. Сэр Томас, похоже, читал его мысли. — Хотя я здесь всего неделю, у меня есть дело к вашему… э… коллеге, капитану Моргану. Поскольку у него репутация весьма проницательного человека, мне непонятно, почему он назначил встречу с вами здесь, а не на Тортуге, где выданы ваши комиссии. Неуклюжий пират молча посмотрел на своего вежливого собеседника, а потом ответил: — Если бы вы знали его так, как я, губернатор, вы бы поняли, что он готов жизнь отдать за Англию и корону; он был роялистом, когда это дорого обходилось людям. Гм-м. Он чуть не лишился жизни во время попытки восстания в Бристоле. — Да? Правда? — пробормотал сэр Томас. — Но он все-таки пират — и его ценят в конфедерации. — Потому, что он боролся с парламентом — и представляет реальную силу, способную противостоять проклятым испанцам. Модифорд сердито швырнул окурок сигары в стоящую перед ним пепельницу. — Когда Уайтхолл сам подрывает основы моей администрации, как, ради Бога, я могу защитить этот крохотный остров посреди испанского моря? Джекмен поднялся и взялся за шляпу. — Я не завидую вам. Спокойной ночи, я ухожу. — Минутку. — Модифорд протянул ему крепкую, но изящную руку. — Я… гм, приглашаю вас и капитана Джадсона немного задержаться здесь в Порт-Ройяле. Поскольку я от всей души желаю оказать вам гостеприимство, то гарнизону форта Чарльз дано указание не позволять вашим кораблям отплыть. Я, гм… намереваюсь кое о чем серьезно переговорить с капитаном Морганом.Глава 11 ДВА МОРГАНА
Несмотря на то что он недавно прибыл на Ямайку, сэр Томас не терял времени даром и создал эффективную систему шпионажа. Сколько именно пронырливых пройдох и мелких воришек в порту и шлюх в многочисленных борделях Порт-Ройяла получали плату в кабинете начальника порта — этого никто не знал, кроме сэра Томаса и полковника Эдварда Моргана, жирного старого солдата, который взял на себя командование фортом Чарльз. Но шпионов было вполне достаточно, чтобы пресечь отчаянные попытки Джекмена предупредить Моргана. Оба его вестовых оказались перехвачены патрульными судами, привезены обратно, связаны и брошены в тюрьму. Джекмен выходил из себя от волнения. Так же, как и купцы в городе; немногие способны смеяться, когда им в лицо смотрит разорение. Они подавали прощение за прошением, которые были как следует подписаны, запечатаны и передавались губернатору. Любопытно, но Модифорд своевременно передавал их его превосходительству мистеру Беннету в Лондон. Ровно через неделю после того, как «Вольный дар» бросил якорь в гавани, один из матросов ворвался в таверну, в которой Энох Джекмен развлекался игрой в кости — правая рука против левой; на плече у него сидел мексиканский зеленый попугай. — Энох! Быстрее, «Золотое будущее» стоит у входа! — Ты уверен, Дэниэл? — Да. Этот военный барк ни с чем не спутаешь. — Интересно, Гарри везет добычу? — Несмотря ни на что, Джекмен надеялся на отрицательный ответ. — Пока точно нельзя сказать, — задыхаясь и вытирая пот со лба, произнес матрос, — но, похоже, с ним еще один корсар. — Клянусь Богом, — буркнул Джекмен, — пропала добыча. Он даже не приподнялся. «Золотое будущее» сможет обогнуть мыс и отсалютовать английскому флагу на форте Чарльз не раньше чем через два часа. Джекмен предвидел впереди массу неприятностей. Когда офицеры королевской таможни и отряд мушкетеров поднимутся на борт «Золотого будущего» и потребуют разгрузить трюмы по приказу губернатора его величества, Морган вначале не поверит своим ушам, а потом вспомнит то, о чем его предупреждала Карлотта. «Клянусь Богом, бедняжка не солгала». Постепенно его угрюмое лицо и мощная шея покраснели, и, изрыгая чудовищные проклятья, он выскочил на улицу, подозвал гичку и в ожидании ее прошелся вдоль гавани. Настроение его не улучшилось, когда ему попался на глаза еще один отряд королевских войск, выгружавший с захваченной испанской баржи груз — кокосовое масло и хорошо выделанную кожу. Постепенно вслед за Джекменом у воды собрались матросы, пираты, горожане, Серль и другие капитаны. — Клянусь Богом, — проревел Морган раньше, чем гичка зарылась носом в песок. — Я скорее взорву этот форт и расстанусь со своим кораблем, чем буду терпеть такой грабеж! — Взмахнув палашом, он выпрыгнул на берег, глаза метали молнии. — Какого черта вы, бесхребетники, слюнтяи, терпите, чтобы с вами так обращались? Будьте прокляты, вы, трусы — ты, Джекмен, ты, Браун, и все остальные! Черт побери, я этого не потерплю. Собирайте команды. Мы доставим добычу на Тортугу, Ну и где прячется этот длинноносый придворный кривляка губернатор? Никогда Джекмен не видел Моргана в большей ярости. Мощная шея валлийца раздулась, словно у рассерженного быка, а на загорелом лице застыло поистине дьявольское выражение. Морган рванулся вперед к дому губернатора так, что песок брызнул из-под ног. По обеим сторонам дорожки, посыпанной измельченными устричными ракушками, стояли солдаты в желто-красных мундирах и держали наготове оружие. Джекмен почувствовал, как у него забилось сердце, когда майор, командир отряда, выступил вперед с пистолетом со взведенным курком в руках. — Куда это вы идете? Это резиденция сэра Томаса Модифорда, губернатора его королевского величества на Ямайке. — Он тут надолго не останется! — Презрительный взгляд офицера столкнулся с полными ярости глазами Моргана. -Скажи ему, что Гарри Морган здесь и требует встречи. — Подожди, парень, — спокойно ответил майор, — пока его превосходительство пожелает тебя увидеть. — Вот как? Ну это мы еще посмотрим! — взорвался Морган. — Кто из вас еще способен на что-то? Кто пойдет со мной? — Я! Я с тобой! Веди нас, Гарри! — К команде Моргана, составлявшей восемьдесят человек, присоединились почти все пираты в городе — все взбудораженные и разъяренные из-за того, что у них хотели отобрать их законную, как им казалось, добычу. Они потрясали разнообразным оружием и окружили бело-голубую фигуру Моргана. Они прекрасно знали, что им ничего не стоит расправиться с этим отрядом. Едва не начавшуюся резню предупредил резкий звук открывающейся железной двери резиденции его превосходительства. И на узенькие ступеньки выползла багровая, расплывшаяся фигура полковника сэра Эдварда Моргана, помощника губернатора и командующего королевскими войсками на Ямайке. Несмотря на полуденную жару, на нем был тяжелый парик до плеч и мундир со всеми регалиями. — Что это? Что это вы задумали, паршивые псы? — рявкнул он. — Пирмен, что происходит? Майор отдал: честь. — Сэр, капитан Морган и его люди затевают непорядки. — Морган? — Золотое кружево на плечах и манжетах помощника губернатора блеснуло, когда он резко повернулся и оказался лицом к лицу с крепким молодым мужчиной с палашом в руках, стоящим посреди дорожки к дому сэра Томаса. — Значит, ты к есть этот мерзавец Генри Морган, да? — Да, а ты, черт тебя побери, кто такой? Полковник быстро махнул рукой, и люди майора Пирмена неожиданно направили ружья прямо в грудь Моргану. — Позови своих людей, — прорычал помощник губернатора, — и от тебя мокрого места не останется! — А тебя разорвут на части секундой позже, — пообещал Морган. — Сомневаюсь. Пирмен, арестуй этого мерзавца! Это был смелый поступок, потому что собравшиеся корсары разразились неистовыми криками. — Не будь идиотом, — прошипел полковник Морган, его крохотные черные глазки были почти невидимы на расплывшемся лице. — Прикажи своим парням вести себя потише и иди за мной. Морган быстро огляделся, а думал еще быстрее. Королевские войска уже находятся на борту его кораблей, батарея крепости не позволит ему уйти, нужно и впрямь быть идиотом, чтобы затевать сейчас свалку. Обуздать душившую его ярость оказалось так же непросто, как загнать обратно уже выпущенный патрон. Однако он совладал с собой. С неожиданным интересом помощник губернатора уставился на пирата, который подошел ближе, все еще сжимая в руках оружие, но окруженный губернаторской стражей. — Значит, ты и есть Морган, о котором мы столько слышали, а? Боже милосердный! Откуда ты родом? — Из местечка Лланримни в Уэльсе. — Как звали твоего отца? Морган пристально взглянул на спрашивающего, и тут его осенило, что этот тучный старый офицер не может быть не кем иным, кроме как старшим братом отца, полковником сэром Эдвардом, который женился на девушке из благородной немецкой семьи и отправился на Барбадос. Он усмехнулся. — Вы должны знать, потому что я похож на отца. -Ухмыляясь, он насмешливо поклонился: — Всегда к вашим услугам, дядя Эдвард. — Ты прав. Я и сам мог бы догадаться. Если присмотреться, то ты похож на Роберта. Ты его старший сын? — Да, дядя. — Черт тебя побери, не смей называть меня дядей, наглый молокосос, бандит! — Старый солдат обладал вспыльчивым нравом. — Клянусь Богом, тебе лучше научиться хорошим манерам, иначе ты пожалеешь об этом. Все еще пытаясь овладеть собой, Генри Морган ответил немного вежливее: — Если бы я знал, что буду иметь дело с вами, сэр, то не стал бы так шуметь. — Сомневаюсь, — буркнул офицер. — Роб был таким же грубияном.Кстати, он еще жив? — Бог его знает, — последовал равнодушный ответ. -Прошло десять лет с тех пор, как я последний раз слышал о нем. — Жаль, я любил Роба. — Полковник сэр Эдвард Морган повернулся к толпе, которая в замешательстве топталась на дворе. — Убирайтесь отсюда, оборванцы, ползите в свою конуру. Если вам есть чем заняться, в чем я сомневаюсь, то нечего тут околачиваться. Немного успокоившийся Морган последовал за своим дядей в прохладные покои. Дикие попугаи, свившие гнездо на пальмах в саду губернатора Модифорда, на закате перестали щебетать, а огромные летучие мыши вылетели на поиски насекомых. Сэр Томас склонил бритую голову, чтобы ее лучше обдувало ветром от веера, которым размахивал маленький негритенок. — …Итак, вы видите, капитан, я совершенно убежден, что доны потребуют обратно те суда, которые вы привели с собой — а между нами заключен мирный договор, и закон на их стороне. Поэтому, Морган, я поступлю с вами так же, как собираюсь поступать со всеми членами вашей конфедерации. Сжав стакан, Морган наклонился немного вперед и внимательно прислушался к следующим словам губернатора. — Я выплачу аванс за вашу добычу. — Это правда, вы так и сделаете? — Да. Я заберу товар по завершении периода, в который можно выдвинуть официальные претензии. Естественно, — Модифорд приподнял изящную бровь, — если владельцы испанской баржи обратятся ко мне, то мне придется вернуть ее. — Он тонко усмехнулся и взмахнул элегантной, ухоженной рукой. — Вы меня понимаете? Пытаясь подавить усмешку, Морган согласно кивнул. Сейчас он чувствовал себя значительно лучше, и его первоначальная догадка о том, что с этим хорошо одетым, внимательным и осторожным чиновником он провернет еще не одно дело, переросла в абсолютную уверенность. Да, в спокойной, непринужденной манере сэра Томаса вести дела было что-то внушающее доверие. Со своей стороны Морган постепенно понял, что Модифорд совершенно не убежден в мудрости королевского указа о пресечении деятельности пиратов и что он ищет какой-то выход, который позволил бы ему удовлетворить лордов Торговой палаты и хозяев плантаций и в то же время избежать гибельного разрыва с конфедерацией. Конечно, этой колонии, отчаянно борющейся за свое существование и все еще нестабильной, требовались товары, которые могли ей предоставить только корсары, и никто другой. В этот момент, тяжело ступая, вошел представитель губернатора, вернувшийся с осмотра батарей, контролировавших вход в гавань. Второй раз за этот день дядя и племянник взглянули друг на друга с настороженной злостью, словно пара чудовищных бульдогов, которых держала в руках только холодная вежливость Модифорда. Губернатор изумил Моргана, задав прямой и откровенный вопрос: — Предположим, губернатор Тортуги завтра предложит мне купить этот остров, как бы вы ответили? — Купил его! — отрезал сэр Эдвард, потирая похожий на сливу нос, испещренный мелкой сеткой красноватых жилок. — А что же еще? Этот проклятый остров торчит словно заноза до тех пор, пока он остается в руках французов. Ты согласен со мной, Гарри? Модифорд с удивлением услышал, что его помощник считает мнение своего племянника заслуживающим внимания. — Что касается того, что Тортуга — это заноза, да. А насчет покупки — нет, — ответил Морган, прихлопнув одного из мириад москитов, которые все-таки пробирались сквозь жалюзи. — Почему вы настроены так решительно? — Дю Россе знает, что его дни прошли; он слишком заботится о своем добре. Там, в Париже, французский король распродает акции Французской Вест-Индской компании. Дю Россе не дурак, — Морган говорил, выбирая слова и не спуская глаз с раскрасневшегося лица сэра Томаса, — и понимает, что ему не удержать такой доходный пост просто ради своих заслуг. — Черт побери! — вмешался полковник. — Покупать его или нет, разве это не блестящая возможность захватить этот остров? — Да, — пробормотал Модифорд, — почему бы нет? Гарри поднялся, подошел к окну, откинул занавески и посмотрел на гавань, как будто что-то высматривая. — Странно, но я не вижу здесь даже катера, который принадлежал бы королевскому флоту. Интересно было бы взглянуть хотя бы на один военный корабль, кроме кораблей братьев, которых вы в вашей беспредельной мудрости оскорбили и ограбили. — Сначала скажи мне, где ты найдешь корабли для своих людей, если, конечно, наберешь их, чтобы захватить или атаковать Тортугу. — Не будем хитрить. Я не против того, чтобы купить или захватить Тортугу, как только мы… э… вы сможете удержать этот стратегически важный клочок земли. Так же, как и испанцам, вам надо устранить эту вечную угрозу Порт-Ройялу. Модифорд тихо хихикнул. — Клянусь Богом, Эдвард, твой племянник проявляет редкостную проницательность. — Ба. Все, что он проявляет, это редкую наглость, — буркнул старый солдат и устроил опухшую ногу на табуретке. — Ясно как белый день, что он сам приятель этого учителя танцев по имени Дуросси или как его там. Не обращая внимания на сэра Эдварда, Морган поднялся и учтиво поклонился губернатору. — Очень хорошо, сэр, я передам своим людям, что платежи пока задерживаются, но когда я смогу отплыть? Сэр Томас подергал серьгу с аметистом в мочке своего длинного уха. — Если вы будете терпеливы и доверитесь мне, — заметил он, — то будете совершенно свободны, ну, скажем, через месяц. Капитан «Золотого будущего» остановился на пороге. — Вы хотите сказать, что дадите нам каперские лицензии? Вы дадите нам порох и оружие? Модифорд ответил с бледной улыбкой: — Сейчас я ничего не могу обещать — и это все, что я могу сделать. Нет, не уходите, прошу вас. Как насчет пунша с мадерой у меня в саду? Пройдемте сюда. Губернатор сам проводил пирата до двери и неожиданно остановился. — Я присоединюсь к вам через минуту. Вначале я должен сказать сэру Эдварду пару слов наедине. Морган был рад снова очутиться под открытым небом. «Черт меня подери, — подумал он, — кто бы мог подумать, что старый боевой конь окажется здесь — и к тому же помощником губернатора? Это хороший или плохой знак?» В благоухающем саду было чудесно, и Морган с удовольствием бродил среди цветущих кустов и виноградников. Сделав круг по усыпанной гравием дорожке, Морган неожиданно нос к носу столкнулся с высокой молодой девушкой с корзинкой цветов страстоцвета в одной руке и парой ножниц в другой. Почему-то никто из них не сказал ни слова, они молча стояли друг против друга в желтоватом лунном свете. И никто из них почему-то не удивился. Неожиданно Морган подумал почти вслух: «А если я женюсь на этой девушке?» Она стояла в платье из линкольновского зеленого сатина, украшенного желтым платком, повязанным на белой, изящной шее. Девушка была лишь немного ниже его ростом. Он увидел, что ее каштановые волосы собраны в простую прическу и что ее серьги и другие украшения далеки от того, чтобы называться дорогими, — но все же в ее манере держаться он чувствовал внутреннее достоинство и мягкость, присущие ей от рождения. При слабом свете луны Морган скорее угадал, чем увидел, что у нее ясные серые глаза, но был совершенно убежден в том, что рот у нее полный и строгий. Первой заговорила девушка: — Извините, сэр, кто вы? — Но… но я, — он с удивлением обнаружил, что заикается, — я… я капитан Морган, владелец барка «Золотое будущее». А… а вы, извините? Она опустила глаза и положила ножницы в корзину, а потом ответила тихо и спокойно: — Я Мэри Элизабет, вторая дочь сэра Эдварда Моргана. Я полагаю, вы сейчас виделись с ним? Морган оторопело подумал: «Боже правый! Старая боевая лошадь просто не может быть отцом такого милого, прекрасного создания! Это невероятно!» Однако вслух он произнес: — Я имел удовольствие беседовать с ним, мисс Морган. В дальнейшем я думаю, что смогу претендовать на честь называться вашим родственником. Она взглянула на этого крепко сложенного мужчину ясными глазами и прижала к груди корзинку. — Родство? — Я только что узнал, что мой отец был — или является и до сих пор — младшим братом вашего отца; поэтому нравится вам это или нет, но вы моя двоюродная сестра. Он увидел, как ее глаза округлились от изумления, а потом на ее лице вспыхнула неожиданная сияющая улыбка. — Но, сэр, тогда… тогда мы легко сможем поладить, верно? Морган кивнул, хотя в душе у него копошилось сомнение в такой радужной перспективе.Глава 12 ВРАЧ ИЗ ВИРГИНИИ
С момента первого визита в дом губернатора Морган много времени проводил на захваченном корабле. Он уже готовился к тому дню, когда снова выйдет в море, и с неожиданным раскаянием тосковал о Карлотте. Черт возьми! Как ему не хватало веселой болтовни тигрицы, ее ярких одежд, блюд, которые она готовила, не менее возбуждающих, чем ее танцы. Он облюбовал «Бреду», потому что на корме этого торгового судна располагалась огромная каюта; она была в четыре раза больше, чем та, которую он занимал на борту «Золотого будущего». Постепенно он привык проводить на борту все утро. Он запирался в каюте и просматривал карты или вспоминал их. У него хранилось шесть огромных портфелей карт, чертежей и отчетов, которые он собрал на Тортуге. Каждый раз, когда он видел рисунок Карлотты — а их было на редкость много, — то испытывал нечто похожее на угрызения совести. Он работал, составлял планы, размышлял. Снова и снова напоминал себе, что она, без всякого сомнения, была заодно с дю Россе в его игре и пыталась отравить его; с его точки зрения, было совершенно не важно, собиралась ли она при этом сама отравиться. Медленно тянулись дни, и Морган привык, как только наступала вечерняя прохлада, отправляться в маленький кирпичный домик, который занимал его вспыльчивый, страдающий от подагры дядя Эдвард, его жена — ее девичье имя было графиня Анна Поллинц из Эшбаха около Момберга — и трое из четверых его детей. Джек, старший сын, сейчас должен был плыть с Барбадоса, и поэтому старый солдат находился в еще более раздраженном состоянии духа, чем обычно, и нервничал. Сегодня вечером, надев новую рубашку и нацепив более красивые серьги, Морган отклонился от привычного маршрута и поднялся в каюту баржи, где все показалось ему еще уютнее, чем раньше. При слабом ветре с берега «Бреда» лениво покачивалась, и с ее борта открывалась великолепная панорама: закругленный берег, упиравшийся с одной стороны в форт Чарльз, а с другой стороны — в Лас-Палисадас и блокгауз. Сейчас на якоре в гавани Порт-Ройяла стояло уже около двух дюжин пиратских судов всевозможного тоннажа и оснастки, но сэр Томас оказался настолько убедительным дипломатом и так умело раздавал обещания, что практически никто из них не выказывал возмущения. Команды не роптали, потому что их кормили и, более того, из Лондона только что прибыл транспорт женщин-преступниц, приговоренных к выселению. Когда Морган думал о тех женщинах, с которыми ему приходилось иметь дело с того момента, как он пересек тропики, то уже не удивлялся тому, что Мэри Элизабет казалась ему каким-то высшим существом; спокойная, чистая и строгая, словно греческая богиня, вышедшая из жемчужной раковины и заточенная в том самом доме в Сантьяго, который был памятен ему печальной историей с золотой розой. Именно при нападении на Сантьяго он добыл тот злосчастный цветок, который потом бросил в окошко Сьюзан. Если поразмыслить, дочь сэра Эдварда была первой действительно невинной девушкой, которую он встретил после прощания с Анни Пруэтт. Странно, но Морган обнаружил, что ему уже трудно вспомнить, как выглядела Анни. Ничего удивительного; почти десять лет прошло с того ужасного вечера в винном погребе миссис Пруэтт. А потом он встретил Сьюзан, внешне такую невинную и скромную, но такую похотливую внутри. Перед его мысленным взором вставали другие лица, миленькие, симпатичные и даже по-настоящему красивые, различных оттенков белого, коричневого и черного, но только Анни была действительно дорога ему. Его беспокоило, как часто он ловил себя на тоскливых мыслях о Карлотте, ее низком и немного хрипловатом голосе, и он проклинал себя за то, что поддался неудержимому порыву ярости. Повредил его кинжал мускулы на руке или нет? Морган изо всех сил надеялся, что этого не произошло, потому что на самом деле он не хотел причинить ей вреда. Сколько времени должно пройти, чтобы он забыл ее рассказы, такие живописные, об огромных навьюченных караванах с сокровищами, которые под звяканье несчетных серебряных колокольчиков дважды в год отправлялись по дороге Камино Реал *["407] через перешеек от города Панамы к Порто-Бельо. В сокровищницах этого порта хранились груды золота, драгоценных камней, индиго, какао и серебра, которые дожидались прибытия из Кадиса мощной армады, отплывавшей потом на север и называвшейся флотом Тьерра Фирме. В Гаване, как это уже было известно Моргану, этот флот объединялся с флотом из Новой Гранады — эти корабли везли богатства Мексики, — чтобы вместе преодолеть опасный путь через океан в Испанию. И оба эти флота испанцы гордо именовали Золотым флотом его католического величества. Задумавшись, Морган вздрогнул, когда о борт стукнула причалившая лодка и голос Джадсона окликнул: — Эй, Гарри, ты тут? — Да, но я собираюсь на берег — какого черта тебе надо? — У меня тут парень, который настолько глуп, что хочет подписать с тобой договор. — Скажи ему, пусть приходит завтра… — Постой, Гарри, это ведь не простой матрос. Это врач, по крайней мере, он так говорит. Морган перегнулся через поручень. — Эй ты, там, ты что — хирург? — Да, капитан, — ответил молодой приятный голос. — Я могу отрезать вам руку или ногу так аккуратно, что вы и не заметите. — Большое спасибо за предложение! — буркнул пират. — Ну тогда поднимайся. Минуту спустя на широкую носовую палубу «Бреды» вскарабкалась на редкость высокая, но не тощая личность на вид лет двадцати восьми; он оказался также одним из самых красивых мужчин, которых приходилось встречать Моргану. Врач вежливо поклонился. — Я Дэвид Армитедж, сэр, и весь к вашим услугам. Пожалуйста, примите мою благодарность за то, что приняли меня так поздно; я рассчитал, что у меня есть время посетить ваш корабль перед тем, как дать ответ на приглашение служить в доме губернатора. — Хорошо, что ты вначале пришел сюда. — Морган внимательно приглядывался к незнакомцу. — С моего корабля ты увидишь гораздо больше, чем из дома губернатора. — …Так я и подумал. Язык у него был хорошо подвешен, но сам Армитедж, похоже, был гол как сокол, потому что на его рубашке дыр было больше, чем ткани, а когда-то элегантные штаны превратились в скопище заплаток и заштопанных дыр. — Кто ты? — спросил Морган. — Хотя плевать мне на это, если ты знаешь свое дело. Зубы молодого врача блеснули в улыбке. — Предположим, мое имя Армитедж, хотя на самом деле это не так. Предположим также, что я родом из колонии Виргиния и что я был там известным хирургом, — он тихо рассмеялся, — а это чистая правда. Морган ухмыльнулся. — А что еще? — Допустим, пока вам не наврали обо мне чего-нибудь еще, что я убил врача, у которого учился. — Почему? — Чтобы спасти свою жизнь и жизнь пациента, моего друга хирурга, которого он из ревности готов был убить — дать ему истечь кровью. — И тебя схватили? Да? Ну-ка, покажи руки. Черты лица Армитеджа неожиданно стали жесткими, и он протянул левую руку; конечно, там была выжжена буква «У» — что значило «убийца». Как эксперт в таких делах, Морган решил, что клеймо поставлено примерно год назад. — Почему ты хочешь плыть со мной? — Потому что, капитан Морган, у вас репутация человека умного и более чем удачливого. Кроме того, мне говорили, что вы всегда поступаете так, как считаете нужным, а это, позвольте заметить, чертовски ценная черта в характере человека. — У тебя язык хорошо подвешен, Армитедж. Ты можешь вылечить сифилис? — Нет, — кратко ответил тот, — и никто не может. Но я могу ослабить его разрушительное действие. — Как? — С помощью африканского средства, которое обычно используют при триппере. Туда входит ртуть и… — Садись, — прервал его Морган. — Эй, кто-нибудь, скажите Коту, чтобы принес все для подписания контракта. И так получилось, что, прежде чем Морган спустился в гичку, человек, назвавший себя Дэвидом Армитеджем, подписал договор, по которому ему полагалось пятая часть добычи, захваченная людьми капитана Моргана у неприятеля. — Завтра, Дэйв (пока судно стоит в порту, мы называем друг друга по именам), ты закупишь лекарства. Ты платишь за них из своего кармана, поэтому смотри, чтобы береговые крысы тебя не надули. — При этих словах Морган вытащил из кармана пригоршню монет. — Вот фунт задатка.. Да, и еще кое-что: я хочу, чтобы ты прямо сейчас приступил к выполнению своих обязанностей. Где-то тут в Порт-Ройяле шляется слепой негр — отзывается на имя Джим Кофе. Он плавал на одном из моих кораблей. Говорят, что у него болят глаза, поэтому покажи на нем свое искусство. Виргинец замер и уставился на него. — Вы сказали, он черный? — Проклятье! — рявкнул Морган. — Черный или белый, Джим был одним из моих людей. Этого достаточно! — Но ведь он ослеп? — Тем более он нуждается в лечении. — Морган придвинулся ближе к высокому врачу. — Ты собираешься спорить? — Нет! Нет, сэр, — воскликнул тот, быстро отступив назад. — Но только в Виргинии мы… — Да знаю я; знаю, как там обращаются с рабами. Морган постучал молоточком у дверей дяди гораздо позднее, чем рассчитывал. Его приветствовала старшая дочь сэра Эдварда Анна Петронилла, крупная, румяная и белокожая блондинка, как и ее мать и все фон Поллинцы, кроме Мэри Элизабет. — Ах, кузен Гарри, почему ты так задержался? — Она улыбнулась. — Наша Лиза хнычет, словно грудной младенец. — У меня были дела на корабле. Где я могу поздороваться с вашей мамой? — В комнате для рукоделия, кузен Гарри. — А с кузиной Элизабет? — Ты найдешь ее в небольшом бельведере, который выходит на море. Он помедлил. — А мой дядя? — Папа снова разговаривает с губернатором. Один Господь знает, что они замышляют. — На лице Анны Петрониллы появилось озабоченное выражение. — Всю последнюю неделю папа приходит домой только для того, чтобы поесть, поспать и переодеться. Бедная мама, она так расстроена. Она говорит, что, когда папа так себя ведет, это значит, он затевает поход. Поход? На щеках у Моргана выступила легкая краска. Значит, планируется экспедиция, а с ним даже не посоветовались. Клянусь Богом! Значит, сэр Томас намеренно решил обойтись без него? Завтра я с этим разберусь, а пока меня ждет Мэри Элизабет. Он нашел ее на маленькой деревянной скамейке, занятой рассматриванием каких-то ленточек. Когда она заметила его, то на лице у нее вспыхнула такая радость, что у Моргана язык прилип к гортани, а сердце яростно забилось. — Прекрасный вечер, кузина, а при виде ваших очаровательных глаз он стал еще лучше, — приветствовал он ее, взяв за руки и слегка притянув к себе. — Мама права. У тебя действительно настоящий валлийский дар говорить комплименты, — пошутила она, хотя была очень довольна. — О Лиза, этот день казался мне бесконечным, пока я не взглянул на тебя. Боже, почему я не могу видеть тебя чаще. Я подозреваю, что дядя Эдвард не слишком-то высокого мнения обо мне. Темная головка Мэри Элизабет коротко кивнула. — Твои подозрения обоснованны, и я попытаюсь заставить его изменить свое мнение, но ты, Гарри, должен перестать огрызаться и обижать его, у тебя злой язычок. Мне кажется, что он ценит твои способности как лидера, но… но… но папа старый солдат и поэтому беспокоится о чести и доверии. — Клянусь тебе, — тихо произнес Гарри, — что я буду сдерживать свое нетерпение. Ты… вы оба будете гордиться моими успехами. Мэри Элизабет взглянула на него и сказала своим нежным, слегка дрожащим голоском: — В этом, моя радость, я уверена также, как и в Божьем милосердии. Скажи мне, Гарри, что ты собираешься делать? Впервые он с удовольствием заговорил о своих намерениях и уселся рядом с ней. Ей он рассказал о себе больше, чем кому бы то ни было. Путаясь в словах, потому что не привык откровенничать, Морган раскрыл перед ней свою душу и жалел, что нельзя в песне выразить те чувства, которые его обуревали, чувства, которые она вызывала в нем. Под горячим темным небом впервые в жизни он заговорил старым как мир языком любви с его восхитительными откровениями, очаровательными повторами и невозможными обещаниями. Мэри Элизабет вначале задрожала, а потом ее грудь стала высоко вздыматься, а пальцы сжали его руку. — О Гарри, Гарри! Как красиво ты говоришь. Но, я… я тоже так чувствую. Только, увы, я не умею так говорить. Он со свистом вобрал в себя воздух и спросил, прижав ее к груди: — Ты согласишься выйти за меня замуж? — Да, с радостью, с радостью! — Тогда ради чести нашего дома я клянусь добыть тебе титул! — отчаянно прошептал он. — И не только это, но прекрасные поместья, много земель и знаменитость. Когда-нибудь, дорогая, и запомни хорошенько мои слова, я буду править этим богатым и красивым островом и сделаю тебя королевой! Она слушала, забыв обо всем на свете, и не оказала ни малейшего сопротивления, когда его руки обхватили и приподняли ее. Так крепки были их объятия, настолько забыли они обо всем, что не заметили появления сэра Эдварда, пока не раздался его страшный рык: — Какого черта ты делаешь с моей дочерью, проклятый, наглый щенок? Морган отступил назад и повернулся к огромной, едва различимой в ночном сумраке фигуре. Он глубоко вздохнул, как он всегда делал, когда хотел взять себя в руки и усмирить свой вспыльчивый нрав. — Сэр, наверное, это хорошо, что вы пришли. — Черт побери, я с этим совершенно согласен! Что ты имеешь в виду? — Сэр, я имею честь, — тут его голос зазвенел, словно труба, — просить руки Мэри Элизабет. Ярость полковника Моргана произвела впечатление даже на Гарри. Его разбухшее тело задрожало словно желе. — Скорее я соглашусь на то, чтобы моя дочь умерла, чем вышла замуж за бродягу, бездомного разбойника, головореза-пирата! Иди в дом, девчонка, иди в свою комнату и не смей выходить оттуда без моего разрешения! Слишком хорошо вышколенная в суровой немецкой семье, Мэри Элизабет даже не попыталась сопротивляться, а, испустив слабый крик, повернулась и выбежала из комнаты. Генри Морган насупил тяжелые брови, и плечи у него напряглись. — Если бы вы не были пожилым человеком и отцом девушки, на которой я собираюсь жениться, то мне доставило бы огромное удовольствие вколотить эти слова и оскорбления вам обратно в глотку! — Чепуха! — фыркнул старик, медленно надвигаясь на него. — Убирайся отсюда и не возвращайся, тявкающий щенок, потрепанный паладин! Морган стоял, расставив ноги, и даже не пошевелился. — Многие достойные люди не согласятся с вашей лестной оценкой моих способностей, — сказал он, — и вы это могли бы знать, если бы удосужились расставить пошире жирные уши. Вы знаете, что я командую четырьмя самыми прекрасными и быстроходными судам в конфедерации? Не самыми большими, обратите внимание, но самыми лучшими. В моем тайнике уже лежит десять тысяч золотом! А что касается моего происхождения, сэр, то оно уж никак не хуже вашего. Сэр Эдвард остановился, пыхтя и задыхаясь. — Ба! Ты считаешь себя знаменитым, потому что успешно совершил пару трусливых вылазок? До этого момента Морган не чувствовал себя оскорбленным, но сейчас он воспринимал каждое слово словно удар хлыстом. Он шагнул вперед и взглянул прямо в багровое лицо разъяренного солдата. — Вы удивляете меня, дядя, когда осмеливаетесь так лицемерно рассуждать о военных действиях, и все потому, что продали свой меч кучке паршивых немецких князьков. Послушай меня, бодливый старый козел, и слушай хорошенько. Если будет на свете Морган, о котором заговорит весь мир, то это буду я, а не ты! Мое имя останется в веках много лет спустя после того, как твое имя забудут даже твои ближайшие соседи. — Вон! Вон отсюда, собака! И не смей совать сюда свой нос! Вон! — Сейчас я вынужден поступить так, как ты хочешь, — мрачно заявил Морган. — Это твой дом, сэр Эдвард, но он покажется лачугой по сравнению с дворцом, в который однажды, и долго этого момента ждать не придется, я приведу Мэри Элизабет! Крепкая брань, которую изрыгал старый вояка, еще долго преследовала Моргана. Леди Модифорд сразу могла бы сказать любому, что сэра Томаса лучше не беспокоить по пустякам до послеобеденной чашечки кофе. Поэтому капитану Моргану трудно было выбрать менее подходящий момент, чтобы ворваться в дом и мрачно, но вежливо потребовать немедленной аудиенции. — Черт! — рявкнул Модифорд на лакея. — На этом острове слишком много Морганов, как мне кажется. Красноносый толстяк, мой помощник Эдвард; затем подполковник гарнизона Томас Морган; потом этот проклятый, неугомонный и чересчур заносчивый пират и, наконец, майор Бледри Морган. Боже Всевышний! Кому еще на долю выпадало столько Морганов? — А этот майор, ваше превосходительство, родственник двум другим Морганам? — поинтересовался лакей, расчесывая один из париков, которые Модифорд носил по вечерам. — Как и Томас Морган, он двоюродный брат пирата, но подполковник Томас более осторожен и, с моей точки зрения, настолько же рассудителен, насколько этот надоедливый корсар вспыльчив. Боюсь, Пайпер, мне придется осадить шустрого племянничка сэра Эдварда. Поднявшись, губернатор остановился взглянуть в зеркало и собраться с мыслями. Он застыл на площадке перед лестницей, ожидая, пока молодой капитан поприветствует его. Морган вспомнил о том, что следует быть вежливым, сорвал круглую шляпу с плоскими полями и склонился в самом вежливом поклоне. — Добрый вечер, ваше превосходительство. — Добрый вечер, Морган. Если вы хотите поговорить со мной, то говорите короче. У меня нет времени. — Хорошо, я буду краток, если вы откровенно ответите мне на мой вопрос. Сэр Томас приподнял тонкие брови в знак удивления. — Отвечу? На что? — Я хочу знать, какого черта вы затеваете? Я узнаю, что вы готовите экспедицию в том самом порту, где я бью баклуши уже месяц, и вы даже ни единым словом не обмолвились об этом. Я хочу знать, Какое участие примет в вылазке моя команда. Пальцы губернатора сжали стальной набалдашник высокой трости из слоновой кости. — Капитан Морган, я предлагаю вам понизить голос. Пока я являюсь губернатором острова Ямайка, вы должны уважительно обращаться ко мне. — С ледяным спокойствием сэр Томас спустился вниз и остановился перед капитаном. — Очень хорошо, ваше превосходительство. — Вам не сообщили о готовящейся экспедиции, капитан Морган, потому что вам не будет позволено в ней участвовать. — Не буду участвовать?! — Морган разинул рот и в изумлении выпучил глаза на изящного сэра Томаса. — Но Боже Всевышний! Разве вам не нужны четыре самых лучших, прекрасно вооруженных судна, которые стоят в гавани Порт-Ройяла? Модифорд улыбнулся. — Вы можете думать как хотите, капитан, но не все с этим согласны, а особенно мой помощник. На самом деле именно сэр Эдвард поклялся, что ни при каких условиях он не возьмет в свою экспедицию вас и ваших недисциплинированных, хищных людей. — Куда будет направлена атака? — Морган спросил так быстро, что Модифорд ответил, не желая того: — Против голландской колонии Кюрасао — военные действия поведут владельцы частных кораблей по лицензиям короля. Я полагаю, что, имея десять кораблей и шестьсот пятьдесят человек, сэр Эдвард без труда прорвет оборону этих голландцев. От унижения и зависти Генри Морган прикусил губу. Значит, Ямайка выставит шестьсот пятьдесят человек и десять кораблей? Проклятье! С такими силами каких чудес он бы не смог совершить? Словно в тумане доносился до него голос губернатора, продолжавшего говорить. — Вместе с ним отплывает подполковник Томас Морган, он будет помощником командира. — Что? Вы посылаете этого тупого, хвастливого выскочку и даете ему пост? Да я забыл о военном деле больше, чем он узнал за всю свою жизнь! — Сэр Томас Морган — храбрый и способный профессионал, который служит в регулярных войсках, — холодно произнес Модифорд. — Так же, как и майор Бледри Морган. — Боже милосердный! Вы доверяете этим… этим неучам и не хотите иметь дел со мной! Губернатор примирительно махнул рукой. — Не я, а ваш дядя сэр Эдвард командует экспедицией, а он считает, что ваше присутствие приведет к нарушению субординации и поставит под сомнение успех дела. — Сэр Томас был действительно очень расстроен. — Я не могу силой заставить его взять вас. Никогда бы Моргану не могло прийти в голову, что возможна такая глупость. Он знал о Карибском море больше, чем эти трое, вместе взятые, — и его мнение игнорировали, его услуги отвергли. — Мне жаль, капитан, — говорил Модифорд, — потому что, несмотря ни на что, я уверен в ваших способностях. И тут Морган понял, что он кое-что упустил. Да, конечно, этот план не годился, но у него был другой! Он с трудом удержался от смеха. — Очень хорошо. Я склоняюсь перед решением моего дяди, и во имя блага Ямайки и вашего собственного я надеюсь, что он не пожалеет об этом. Поскольку вы отказываете мне в английской комиссии, а я все-таки свободный англичанин, то я требую, чтобы мне разрешили выйти в море. — Вам дадут бумаги на выход. По крайней мере, это я могу для вас сделать. — Приношу вам свою искреннюю благодарность, сэр Томас. Клянусь Богом, скоро все карибские острова будут смеяться над дураком вице-губернатором. Модифорд нахмурил брови и резко спросил: — Что вы задумали? — Даю слово чести, сэр, ничего незаконного или имеющего отношение к правительству его величества. — Он помедлил и усмехнулся. — Вы настаиваете на своем отказе выдать мне каперские лицензии против голландцев? — Да, — отрезал Модифорд. Ему совершенно не нравилось играть роль обманутого в торговой сделке простофили. — И еще, капитан. Если вы причините мне хотя бы малейшую помеху, я обещаю, что добьюсь того, чтобы вас повесили на рее в порту, где приводят в исполнение приговоры. — Сказав это, губернатор мгновенно смягчился. -Черт побери, капитан, вы должны понять, какую трудную и опасную роль я здесь играю. Его величество требует от меня многого, а не помогает буквально ничем. Только приказы, приказы, приказы и еще раз приказы — и каждый из них совершенно невозможно привести в исполнение. С оттенком сочувствия в голосе Морган произнёс: — Постараюсь не причинять вам неудобств. Meжду прочим, если я соберусь вернуться в Порт-Ройял, то думаю, что поднимусь если не на виселицу, то хотя бы в вашем мнении. А сейчас, ваше превосходительство, позвольте мне пожелать вам спокойной ночи. После того как пират вышел, элегантная, затянутая в серебряный и фиолетовый костюм фигура еще долго оставалась в неподвижности, предаваясь усиленным раздумьям. На пути обратно к берегу Морган медленно прошел мимо дома сэра Эдварда. Подняв голову, он запел:Глава 13 РЕКА САН-ХУАН
Среди густо заросших растительностью островков, испещривших Гондурасский залив, Руатан оказался наиболее удобным для того, чтобы экипаж набрался сил, а «Морской дракон» был приведен в порядок. Это был добрый знак перед нападением на Вила-де-Моса на побережье Кампече, и основной целью Моргана сейчас стало убедить старого Джона Морриса поднять паруса и выйти в поход. Из тактических соображений небольшой отряд Моргана расположился в нескольких сотнях ярдов от «Морского дракона». Как выяснилось, «честный Джек» ничего не добыл за три месяца плавания вдоль южного побережья Кубы, не считая нескольких случаев цинги среди экипажа и совершенно пустого трюма его бригантины. Не потребовалось слишком много доводов и уступок, чтобы убедить упрямого бывшего корсара и пирата присоединиться к отряду Генри Моргана в обмен на громкий титул вице-командора. — А откуда, — прямо спросил Моррис, — у тебя комиссии на военные действия против испанцев? У тебя ведь они есть, верно? — Но, Джон, ты же хорошо меня знаешь! Я никогда не плаваю без комиссии! — На загорелом лице Моргана появилось такое возмущенное выражение, что Джекмен расхохотался и закашлялся, подавившись ромом. С видом оскорбленной невинности Морган спокойно вытащил пачку каперских лицензий, разрешавших действовать против испанской короны — все должным образом подписанные и снабженные огромными внушительными печатями из желтого воска. Прищурившись от яркого света, отражавшегося на полированной поверхности письменного стола Моргана, Моррис уставился на Листы бумаги. Читать он не умел, но мог узнать подпись и печати. — Но, клянусь пламенем ада, Генри, эта каперская лицензия подписана лордом Виндзором почти пять лет тому назад. Я точно знаю, потому что у меня самого такая есть. — У тебя есть? Черт, так это просто отлично, старина. — И Морган так расхохотался, что ребята, чистившие оружие на палубе, сбежались посмотреть, что случилось. Моррис сорвал с головы потрепанную, потерявшую всякий вид шляпу из волокна пальмового дерева и в растерянности потер загорелую до красноты бритую голову. — Господь Всемогущий, Энох, объясни мне, в чем дело. Я что-то не пойму. — Да Бог с тобой, парень, — чуть не подавился Морган. — Разве ты не знал, что когда сэр Чарльз Литтлтон сменил на посту нашего благородного друга лорда Виндзора, то совершенно забыл о том, что нужно отозвать комиссии, выданные его предшественником? Ту же ошибку повторил и Модифорд. — Да, — подтвердил Джекмен с шутливо-серьезным видом. — Раз не было опубликовано опровержения, то эти лицензии все еще в силе, правда? Посмотри, вот здесь написано: «Эти каперские лицензии остаются в силе до того момента, как они будут отозваны соответствующими органами власти!» В результате неожиданной предрассветной атаки, внезапной и тщательно продуманной, уютный маленький городок с красными крышами под названием Вила-де-Моса, расположенный в двенадцати лигах от реки Табаско, оказался захвачен раньше, чем его застигнутый врасплох гарнизон успел сделать хотя бы один выстрел. Хотя этот городок был не из крупных, Вила-де-Моса позволила проверить на деле тактику, тщательно разработанную Генри Морганом во время его безвылазного отдыха на Тортуге. Более того, прежде чем невезучий городишко оказался сожжен дотла, пираты вытрясли из него не только немного монет и драгоценностей, но и действительно стоящую добычу — какао и рабов, которых погрузили на «Белое сердце», — и еще одно каботажное судно, которое было захвачено на реке Табаско и отправлено на Тортугу. Этот маневр, как рассчитал Морган, не только приведет в ярость сэра Томаса, когда тот услышит об этом, но и умилостивит дю Россе — или другого губернатора на его посту. Тем не менее атака на Вила-де-Моса преподнесла Моргану хороший урок. Все его силы чуть-чуть не были уничтожены. Командир испанского гарнизона вместо того, чтобы просто удрать, направился к реке, собрал три сотни солдат и повел их, чтобы атаковать беззащитные пиратские корабли. И они оказались легкой добычей для храброго испанца. Если бы у него хватило ума и решимости отплыть на них, то он оставил бы пиратов на негостеприимном берегу в меньшинстве и связанных по рукам и ногам захваченной добычей. Но дон предпочел остаться, подготовить засаду и встретить захватчиков в бесполезной попытке стяжать себе еще военные лавры. В результате в жестокой резне он потерял все, включая собственную голову. Морган свирепо, но про себя, проклинал свое легкомыслие. Как он мог оставить свои корабли, свои бесценные суда, без всякой защиты? Слава Богу, что ему пришлось поплатиться за свою глупость всего лишь шрамом, но никогда, никогда больше он не допустит такую ошибку. Следующим портом, который привлек пристальное внимание командора, стал Рио-Гарта, возведенный недалеко от современного города Белиза. Это дело оказалось очень легким; потребовалось только тридцать человек, чтобы ранним утром атаковать городок и заполнить две шебеки такой малостоящей добычей, как какао, кожи, пальмовое масло и побрякушки, которые насмерть перепуганные жители городка отдали с большой радостью. К этому времени жадный старый Джек Моррис принялся жаловаться, что они никогда не разбогатеют, если будут грабить такие курятники. Джекмен также объявил, что его людям не терпится попробовать зубы на действительно стоящем куске. Морган повелел им хранить терпение и вспомнить о том, что пока что доктор Армитедж имел дело только с флюсами и простудами. Кроме того, он мудро распорядился снова начать выдавать ром. Наполнив водой бочки и пополнив запасы провизии, пираты произвели подсчет сил. После сражения, захвата «Белого сердца» и драки за него их осталось всего около двух сотен. Тем не менее неделю спустя «Золотое будущее», «Вольный дар» и «Морской дракон» выслали колонну орущих дьяволов, которые как гром среди ясного неба свалились на Трухильо и моментально захватили этот трясущийся от ужаса маленький порт. Впервые за все совместное плавание Морган уступил яростному требованию Морриса и дал экипажам полную волю — с одним твердым условием, которого он придерживался на протяжении всей своей карьеры. «Допросы» с целью вынудить выкуп или указать тайник, где спрятаны ценности, разрешались, даже поощрялись, но были строго запрещены бессмысленные пытки пленных, садистские оргии и разрушение ради разрушения. Еще чаще, чем раньше, командор запирался на борту «Золотого будущего», и оттуда доносились вопли и крики пленников, подвергнутых допросу. В таких случаях злобно ухмыляющийся Кэтфут служил переводчиком; он знал множество индейских и креольских диалектов. Бывший банкир, а теперь заправский пират Генри Кот тоже присутствовал и был всегда готов уличить какого-нибудь дрожащего пленника во лжи, основываясь на добытых за несколько месяцев пребывания на Тортуге знаниях. Джереми Дент самолично изъявил желание быть главным инквизитором. Еще до начала «допроса» он размахивал изуродованной рукой перед носом у жертвы. Дент оказался настолько же лишен жалости, насколько он был сноровист в обращении со своими пыточными «инструментами». Совершенно по-другому пираты обращались с темнокожими горделивыми индейцами, которые вернулись из своих убежищ в болотах и джунглях, как только прослышали о появлении английских демонов. Касикам, или вождям племен Москитного берега, которые упорно держались за свои старые обычаи, Морган подарил несколько свертков пестрых тканей и несколько отличных кинжалов из кузниц далекого Шеффилда. На шею главного касика Морган повесил тяжелую серебряную цепь с маленьким золотым львом; матросы с грустью проводили взглядом этот знак щедрости капитана, за который они ничего не заработали, кроме пинков и проклятий. — Хорошо, Гарри, — одобрил Кэтфут. — Слава об этом прогремит по всему побережью. На следующее утро маленькая эскадра Моргана отплыла вначале на запад, а потом на юг вдоль зеленого побережья Никарагуа до разноцветного устья реки Сан-Хуан. После короткой разведки три корабля нащупали правильный курс в мешанине островов — благодаря способностям Карлотты в рисовании. Все члены экспедиции были страшно напряжены, потому что никто, даже Энох Джекмен, не знал, что задумала Гарри Морган. Только Кэтфут ухмылялся про себя и иногда бурчал что-то о богатом городе под названием Гранада, расположенном на много миль в глубь этой земли. Когда этот слух разнесся среди уставшей команды, то немедленно раздались крики протеста. Будь они прокляты, если покинут давно знакомые морские просторы и полезут в чертовы джунгли, где кишмя кишат змеи, тигры и индейцы! Возмущение охватило всю команду, поэтому однажды июльским вечером 1665 года Морган почувствовал насущную необходимость объясниться с экипажами и в соответствии с традициями берегового братства, собрал общий совет. На широкой полосе прибрежного песка, освещенного пламенем нескольких костров, Морган стоял лицом к полукругу сидящих на песке бандитов. В захваченном желто-черном костюме так называемый командор несколько минут свирепо оглядывался вокруг, а потом его громкий голос разнесся по берегу: — И за что мне такое наказание — командовать сворой болванов, тупиц и трусов? Где же те герои, которые вопили, что Вила-де-Моса и Трухильо слишком малы и их слишком легко захватить? Ба! Да я за грош доставлю вас обратно в Порт-Ройял и наберу славных парней, которые не удовлетворятся одной-единственной чернокожей девкой и пригоршней дублонов. — Ты не очень-то, Гарри, — крикнул Джадсон. — Это не про меня! Тут же раздались и другие выкрики: — Нет, мы не согласны! У нас пока мало добычи! — Может, я ошибся? — Морган изобразил недоверчивость и предоставил им выговориться. Одноглазый фламандец вскочил на ноги и заорал: — А мне не хочется получить отравленную стрелу в спину. Снова поднялся шум возражений, к которым Морган внимательно прислушивался, скрестив руки на груди и спокойно глядя на беснующихся пиратов. В лицо ему впились сотни горящих глаз: враждебных, недоверчивых, испуганных и колеблющихся. И лишь немногие были на его стороне. Заложив пальцы за пистолетный пояс, он крикнул: — Да перестаньте визжать словно свора шакалов, на которую вы сейчас так похожи. — Вокруг костров воцарилась тишина. — Кто сказал, что вообще готовится вылазка? — Он наблюдал, какоборванцы заерзали на месте, отгоняя москитов. Некоторые взглянули на Кэтфута. Значит, это он разболтал. Кэтфуту, решил Морган, нужно будет преподать хороший урок. — Почему вы мне не доверяете? Разве я не знаю, что у нас нет соответствующего вооружения и мы не обучены совершать пешие переходы? Нет, мы поднимемся вверх по реке на пирогах индейцев. Доктор Армитедж вскочил на ноги, его легко было узнать по тщательно вымытому лицу и черному сюртуку. — Поднимемся куда? Сверкая своим единственным глазом, Том Джадсон крикнул: — Да, куда и какой будет наша добыча? — В город, куда стекаются сокровища со всего Никарагуа, — крикнул в ответ Морган, — город, разжиревший от лени и гордости и совершенно беспечный, потому что он расположен в восьмидесяти лигах от моря. Я говорю вам, что Гранада лежит прямо перед нами и ждет нас, ничего не подозревающая и безмятежная, словно огромный золотой боров, которого пора зарезать! Пираты подняли страшный крик. Именно тогда Морган принял решение, которое он уже давно обдумывал. — Значит, вы все хотите идти, а? Меня это не удивляет. Такое изобилие жемчуга, золота и других сокровищ убедило бы любого труса. Но я намерен взять только сто человек. — Тут же разнесся рев недовольных голосов, который Морган пресек криком: — Вы разве забыли, что случилось в Вила-де-Моса? В этот раз, клянусь славой Иеговы, наши корабли не останутся без надежной защиты. «Разумный шаг», — сказал себе Армитедж. Морган предоставлял неуверенным и слабым духом пристойный повод остаться в тылу. — Если больше ста человек из вас, ленивые собаки, готовы идти со мной по своей собственной воле, то, боюсь, нам придется тянуть жребий. С позолоченными пламенем костра бородами, в грязных развевающихся лохмотьях команды трех кораблей почти в полном составе рванулись вперед, включая и чудака из Виргинии, который назвал себя Дэвидом Армитеджем. Их хирург, по мнению корсаров, вел себя очень забавно. Вместо того чтобы драться за добычу, этот парень проводил много часов в джунглях в компании с попавшимися ему навстречу индейцами в поисках каких-то трав, а также с помощью Кэтфута выспрашивал встречного и поперечного о местных способах лечения. — Ты в любом случае пойдешь, — сообщил Морган виргинцу. — Слава Богу, если нам не понадобится твоя помощь, но рисковать мы не можем. Молодой командор решительно отбросил тревожные мысли, которые вертелись у него в голове. Мог ли Васконселос там, в Кайоне, намеренно обмануть его, рассказывая о слабости и беззащитности Гранады? В сером свете наступающего утра корсары расселись в дюжину больших пирог, которые они не без труда собрали в дельте Сан-Хуана. Дрожа в пахнущем горечью тумане, они бросили последний печальный взгляд на свои корабли, а потом взялись за весла и понеслись за головным каноэ, которым управляли индейцы из племени оятов. Перед глазами жилистых и тощих пиратов, составляющих основную атакующую силу Моргана, за следующие пять дней промелькнуло разнообразие сцен, иногда потрясающих по своей красоте, иногда загадочных, настолько непривычны они были глазу, и часто ужасных — мрачных, полных крокодилов топей или бурных стремнин, которые кипели среди острых камней. Из-за часто встречающихся водопадов людям приходилось раздеваться до пояса и, подставляя спины кровожадным мухам, мошкам и москитам, работать грубыми деревянными веслами против течения, которое становилось тем быстрее, чем выше они поднимались по коричневым водам Сан-Хуана. Хихикая от восторга, индейские проводники показывали огромных питонов, свернувшихся кольцами, зеленых, коричневых и желтых, незаметных среди листвы того же цвета, которые так хорошо прятались, что перепуганные матросы сами ни за что не заметили бы их. Больше всего они боялись змей, а потом злых крокодилов — cocodrillos, как их называли испанцы. Эти огромные твари нередко достигали от восемнадцати до двадцати футов в длину. Словно по контрасту, чуть выше по реке, среди ветвей, жили веселые, разноцветные пичужки. Сотни цапель, уток, ржанок и других водоплавающих с громкими криками тучами поднимались в воздух перед носом головной пироги. Пробиваясь сквозь свисающие ветви, потные пираты спугивали сотни видов разноцветных колибри, попугаев и певчих птиц. Нередко над протокой носились яркие голубые и красные макао, их дикие вопли резали слух. А потом над головами выбивающихся из сил гребцов мелькали стаи изумрудных и топазовых попугаев. Армитедж насчитал, по крайней мере, дюжину видов обезьян, которые таращились на них, гримасничали и скакали в зелени деревьев. На закате вечером отощавшие и мрачные люди Моргана спугивали непривычных животных — агути, муравьедов или тапиров, которые приходили на водопой. Порой попадались и такие, которых самих надо было бояться; на третий день на человека напал тигр, или ягуар. Нападению подвергся гигант ирландец по имени Шон. К счастью, гиганту удалось отбиться. Дэвид Армитедж по возможности делал зарисовки птиц, зверей и рептилий, когда все пираты — за исключением часового — уже давно храпели возле затушенных костров, а он писал, писал и писал. Морган замечал это и одобрял, даже помог ему в описании оперения некоторых птиц. Он с уважением относился к любым знаниям, потому что они приносили плоды. За день до того, как они добрались до нижнего, или первого, водопада, Армитедж, несмотря на жуткие боли в мышцах, скорчился у небольшого костра, который позволил разжечь Морган, и писал: «Мы добрались до бухты Обезьян и бросили якорь на реке Никарагуа, где капитан Морган послал в одной из пирог двоих человек вперед по реке, чтобы захватить пленного. Завтра будет третий день нашего путешествия, и по моим подсчетам мы проделали почти тридцать лиг вверх по течению. Говорят, что спустя двадцать четыре часа плавания после первого водопада будет второй и что течение здесь быстрее любого прилива в Англии». Тяжело нагруженные оружием и припасами пироги, в сплошной водяной завесе, нужно было перетащить через высокие водопады — и это была на редкость непростая задача. Корсары двигались быстро, несмотря на то, что все тела у них покрылись язвами и болели от укусов москитов, блох и крохотных, но надоедливых насекомых, которых называли красными клопами. Некоторые уже потихоньку начинали жаловаться, когда поблизости не было не знавшего усталости капитана. Морган мудро подавлял малейший намек на возмущение и поставил Морриса сзади с приказанием стрелять в каждого, кто не будет грести как следует. Джекмен разместился в центре, а Морган плыл вместе с Куманой, уважаемым, но всегда печальным вождем индейцев племени марибо. Он был самым главным касиком у индейцев оятов и марибо, управлявших двумя проворными пирогами, которые Морган постоянно высылал вперед на разведку. Как будто для того, чтобы ободрить выбивающихся из сил пиратов, второй водопад оказался намного меньше и слабее первого, поэтому, изрыгая обрадованные ругательства, маленькая экспедиция вскоре перетащила свои суденышки и вновь начала утомительную борьбу с течением. Утром четвертого дня продвижения вверх по течению Кумана собрал руководителей и с помощью Кэтфута объяснил, что впереди лежит дружественная деревня аксоскэтосов; одна из тех, которую испанцы еще не сумели разграбить. Там, как касик уверил голодных и уставших белых, они найдут мясо, маис и убежище от проливного дождя, который мог пойти в любую минуту. Вперед отправили проворных оятов, и они скрылись из виду, бешено работая веслами, чтобы предупредить жителей деревни. Из-за всюду проникающей сырости и влажности волосы и ногти людей завивались словно водоросли, а их штаны, брюки и рубашки буквально гнили прямо на теле, а потом распадались на куски при первом же прикосновении. Флибустьеры мрачно гадали, сколько же еще утомительных миль им осталось пройти до большого озера Никарагуа. Морган клялся, что в нем сто миль в длину и сорок пять в ширину в самой широкой части; настоящее маленькое пресное море. Но когда после долгого пути пираты добрались до деревни, то их глазам предстали дымящиеся руины. Испанцы побывали здесь за несколько часов до них. — Смотрите! А-аах, вон там! — Корсар с бородой соломенного цвета показывал на небольшую рощицу. Там с острых ветвей свисали светло-коричневые тела дюжины грудных младенцев, которых нанизали на острые ветви. Единственным, кто выжил в этой резне, был старый-старый дед, который сохранил свою жизнь и не истек кровью, потому что героическим усилием сунул обрубки отрезанных кистей рук в пламя горящей хижины. Тонким дрожащим голосом старик рассказал о том ужасе, который тут творился. Индейцы марибо завыли от ярости при его рассказе. Одна старуха оказалась повешена на своих собственных седых волосах, а другая распята, ее руки и ноги были прибиты деревянными гвоздями к стволу дерева. Обе были мертвы, и на их лицах застыла маска невыразимых мучений. Картины такой бессмысленной жестокости со стороны испанских властей привели к тому, что почти все как один пираты решили отомстить первому же испанцу, который попадется к ним в руки. Джекмен свирепо сплюнул табачную жвачку на пышный бело-желтый цветок. — Это напоминает мне тот день на Эспаньоле. Как звали ту несчастную девушку? — Кейт, Кейт Пайн. Крепкие коренастые индейцы ояты и марибо завернули тела в пальмовые листья и сложили их вместе. Потом они навалили сверху сухие ветви. В воздухе разнесся запах паленого мяса. После того как они прошли третий водопад, индейские проводники стали двигаться осторожнее и в конце концов отвели пиратов в лес. Кэтфут перевел: — Они говорят, что мы уже неподалеку от великого озера Никарагуа и от дымящихся гор. Они говорят, что на этом озере плавает много испанских лодок, поэтому мы должны быстро перебираться от одного острова к другому и только в темноте. Дэвид Армитедж записал в своем журнале: «Сегодня к полудню мы добрались до последнего водопада, который находится в двух лигах от входа в прекрасную лагуну или озеро, около пятидесяти лиг в длину и тридцати пяти в ширину, оно все состоит из превосходной свежей воды, и в нем водится масса рыбы. Все берега покрыты лугами и пастбищами, и там пасется рогатый скот и лошади. Говорят, что, захватив город, мы, с Божьей помощью, наедимся говядины и баранины, словно в Виргинии. В этой лагуне полно маленьких отмелей и островков, и Генри Морган говорит, что там мы будем прятаться днем и пробираться вперед ночью». В сумерках Морган проснулся, перекусил холодной олениной и запил прохладной водой из озера. Тем, кто еще спал, он позволил пока понежиться. Бедняги! Как они устали, измотались и ослабли! Затем он осмотрел посты -в этих местах ни в коем случае нельзя ослаблять бдительность. Неутомимый и настороженный Морган сам взобрался на огромное дерево и уселся рядом с наблюдателем, чьей задачей было докладывать о появлении испанских лодок. При свете только что взошедшей луны перед ним раскинулся чудесный вид на серебристое озеро Никарагуа и тихо курящиеся вдалеке вулканы. Сероватые клубы дыма время от времени вздымались вверх, свидетельствуя о том, что в глубине прячется пламя и ждет, когда ему можно будет вырваться наружу. Ночь казалась спокойной и безветренной; даже слишком спокойной, с точки зрения Моргана. С соседнего острова доносился лай собак колонистов и мычание скота, идущего на водопой. Действительно ли приближение его отряда никто не заметил? Несколько минут он вглядывался в далекие красноватые огоньки города, которые так дружелюбно подмигивали на другом берегу. «Ну, вот ты и у цели, Гарри, — сказал он себе. — Почти двенадцать лет ты ждал, планировал и мечтал об этом мгновении. Ты можешь быть уверен только в одном. Завтра к этому часу ты будешь либо королем Гранады, либо добычей стервятников». Сотня белых и пятьдесят индейцев собрались у стен города с населением не менее четырех тысяч жителей; как ни считай, тех было во много раз больше. Утешало только то, что оружие пришельцев было самого отличного качества и в превосходном состоянии: в рожки насыпан сухой порох, а палаши, пики и кинжалы отточены с обеих сторон; в походном котелке светились угли, от которых можно зажечь спички для мушкетов и аркебуз — когда наступит два часа ночи. Внимание Моргана привлекла необыкновенно яркая звезда, напомнившая ему о Мэри Элизабет. Странно, но он мог вспомнить каждое выражение ее лица, ее быстрые жесты и забавные высокие интонации, с которыми она говорила. И Морган улыбнулся во влажной мгле. В трюме «Золотого будущего» в безопасности лежала его доля — по крайней мере пять тысяч фунтов награбленных денег. На эти деньги он сможет купить несколько акров и построить дом, который станет предшественником того великолепного дворца, в который в один прекрасный день вступит Мэри Элизабет. Мимо наблюдателя порхнул ночной кулик, а за песчаной косой весело плескалась небольшая группка ламантинов, которые оглашали воздух пронзительными криками. Индеец марибо, сидевший рядом с Морганом, зашевелился, и он понял, что прошло уже больше времени, чем он думал. Кумана тихо окликнул его у подножия дерева. Морган соскользнул на землю. Татуированное лицо касика выражало нетерпение, и он резко указал на положение звезд на небе. Морган прошел вперед и пинком ноги разбудил Кэтфута. Пора было начинать. Теперь окупились те слитки серебра, которые Морган заплатил за пироги, способные стремительно скользить по воде без малейшего шума. В эту ночь он мог быть уверен в том, что не будет ни шума, ни плеска, когда маленькая флотилия тронется в путь. Слава Богу, луна исчезла за тучами, и вода освещалась только слабым рассеянным светом, с трудом пробивавшимся сквозь тяжелую облачную массу. Нервозность людей иногда находила проявление в неожиданном толчке или плевке, но приказ соблюдать тишину не позволял корсарам заключать пари и биться об заклад, что было принято в таких случаях. Что касается Дэвида Армитеджа, он чувствовал любопытство и непривычную тяжесть в желудке. «Нет причин для беспокойства, — успокаивал он ce6я. -Гарри Морган знает, что делает, — я надеюсь». — Он еще раз огляделся и поудобнее устроил между босых ног чемоданчик с медикаментами и хирургическими инструментами. Джекмен облизал тонкие губы, когда в абсолютной тишине пирога Моргана заскользила по водной глади озера. Бесшумно, словно спускающиеся в воду аллигаторы, другие пироги оттолкнулись от берега. Джона Морриса, обычно очень шумного и несдержанного, такая тишина раздражала, и он с трудом выдерживал ее. Гранада, как уже выучили наизусть все пираты, была маленьким аккуратным городком с белыми стенами, построенным на конце небольшого полуострова, выдававшегося в озеро Никарагуа. Вскоре уже стали видны очертания города. При бледном лунном свете пальмовые крыши домов у воды казались почти белыми. Никем не замеченная флотилия обогнула мыс, и перед ними открылась гавань, битком набитая шебеками, тартанами, барками и пирогами. В темной воде отражались корпуса и паруса нескольких небольших суденышек, стоявших на якоре под прикрытием пушек грозной на вид батареи. Вскоре даже самые близорукие пираты смогли разглядеть две поблескивающие башни — колокольни довольно большого собора. Стали видны еще семь колоколен других церквей. Выше их располагались обитель и монастыри, о которых рассказывал Васконселос. Эта батарея, как было известно Моргану, держала под обстрелом проходы с воды и насчитывала восемнадцать больших орудий. Регулярный гарнизон Гранады, если с тех пор его не усилили, должен насчитывать четыре отряда пехоты и два кавалерийских отряда. Позади батареи находилась Плаца Парада *["408], тактический центр обороны Гранады. Изуродованная рука Джереми Дента с такой силой вцепилась в рукоятку палаша, что на ней заболели мускулы. — Еще немного, — выдохнул он, — и я снова окажусь среди папистских собак. Дай Бог мне силы убить хотя бы дюжину. Джекмен размышлял: «Если нам повезет, то у меня будет столько денег, что я смогу отплыть на север — за Люси». В абсолютной тишине, которую нарушал только звук капающей воды с мягко вздымающихся и опускающихся весел, флотилия приблизилась к ничего не подозревающему берегу. И вот наступил критический момент. Предположим, их заметит какой-нибудь бдительный часовой? Или собаки поднимут шум, или бодрствующий любовник заметит похожий на привидение отряд, проскользнувший в гавань? Морган начал тяжело дышать и с силой сжал челюсти. С бьющимися сердцами пираты перевалились через борт и по колено в воде побрели к берегу, держа наготове оружие. Они так долго готовились, что не было необходимости вновь повторять, что нужно делать. Каждое подразделение точно знало план своих дальнейших действий. Мускулистый Джек Моррис быстрым шагом повел своих людей вправо, а Энох Джекмен повел двадцать пять человек к Плаца Парада. Морган во главе самого большого отряда повернул влево, чтобы обезвредить батарею и захватить бараки. С захватывающим дух победным чувством он выхватил палаш и изо всех сил крикнул: — Вверх! Вверх, собаки, и вперед! Пираты подняли жуткий крик и бросились на город с грохотом неожиданного обвала. Мирный обыватель, который, не веря своим глазам, выглянул бы на улицу, увидел бы лавину заросших, диких на вид людей, которые, изрыгая проклятья, со всех ног мчались по Гранаде! Не было сделано ни единого выстрела, но в ночи раздавались короткие вопли, когда кто-нибудь из гарнизона, отличавшийся скорее храбростью, чем мудростью, в ночных рубашках бросался вперед, вооруженный бесполезной пикой. Отряд Моргана добрался до тяжелых пушек скорее, чем можно было рассчитывать. — Поворачивайте их! — ревел Морган. — Быстрее! Быстрее! Направляйте пушки на бараки и стреляйте! — К сожалению, пушки оказались не заряжены, и понятно -почему. В таком влажном климате это было бы бесполезно. Морган мгновенно осмотрелся вокруг. — Тогда, тупицы, стреляйте по окнам бараков из ружей и быстрее перезаряжайтесь. Раздался звук разлетевшихся вдребезги стекол, удары прикладов по дверям и топот множества босых ног. Армитедж с пистолетом в одной руке и инструментами в другой увидел, как несколько беглецов упали сразу же, а другие еще успели сделать несколько шагов. Поднялся жуткий шум, в котором сливались тоненькие голоса испуганных младенцев, вой детей постарше, испуганные женские крики и вопли мужчин, собиравшихся драться за свои дома. Гигант ирландец Шон оказался среди корсаров, ввалившихся в открытые двери собора. Из темноты появился высокий монах, его выбритая тонзура блестела в лунном свете. В отчаянии он воздел кверху распятье и упал под свирепым ударом пики, которая пронзила его тело, в агонии рухнувшее на ступени собора. Внутри церкви было прохладно и стояли ряды каменных изваяний. — Вроде бы Морган говорил, что мы должны проложить себе путь до самых окраин города? — вспомнил Шон, с неохотой отводя взгляд от блестящих сосудов на алтаре. — Нам надо двигаться дальше. — Что? Оставить столько добра бандитам Джека Морриса? — проревел корсар по имени Гарднер — он командовал подразделением. — К черту Гарри Моргана! Хватай добычу! — Гарднер бросился в алтарь и принялся швырять священные предметы своим товарищам. — Мы будем богаче герцогов! — рычал пират, без разбору хватая триптихи, дароносицы, подсвечники и подносы. В соборе раздались радостные хриплые вопли, но тут в храм в ярости ворвался Генри Морган. — Вон отсюда, проклятые крысы! Вон! Вы должны быть на окраине города и задерживать всех бегущих. — Он осмотрелся, направил залитый кровью палаш на Гарднера и рявкнул: — Почему ты со своими людьми еще не на Авенида дель-Алькальде? Срывая со статуи Богоматери четки из огромных жемчужин, Гарднер огрызнулся: — Ты мне надоел, и я буду делать что хочу! Быстрым движением Морган выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил, на мгновение ярко осветив алтарь. Гарднер вскрикнул, покачнулся, а потом свалился на ступеньки алтаря словно груда тряпья. Жутко ругаясь, Генри Морган, угрожая палашом, вышвырнул Шона и остальных на улицу и заставил их вернуться к исполнению своих обязанностей. Подгоняемые угрозами, которые легко могли быть приведены в исполнение, Моррис и его отряд образовали кордон, перекрывший полуостров, на котором стояла Гранада. Невозможно было сказать, сколько жителей, рабов и солдат уже успели укрыться в джунглях. Но десятки и сотни мирных обывателей и военных все еще выскакивали из полутемных улиц, многие полураздетые, схватившие первое, что попалось под руку, прижимая к себе детей и те ценности, которые они могли захватить. В странном возбуждении, громко крича, Дэвид Армитедж разрядил пистолет в жирного парня, который мчался по улице в одной рубашке. Он тащил за собой красивую молодую женщину, на которой была одна короткая нижняя юбка. — Назад! — проревел он, откидывая с глаз рыжие волосы. — Назад в свои лачуги! Окружив гавань, люди Морриса отрезали все попытки убежать по воде — лишь некоторые из их врагов решили попробовать спастись вплавь, представляя собой отличные мишени. Как только достаточно рассвело и стало хорошо видно, отряд пиратов под руководством Моргана медленно сомкнулся на Плаца Парада, методично обыскивая все дома на своем пути. Они вытаскивали испуганных женщин и мужчин, плачущих детей из их жалких укрытий и гнали вниз по улицам на Плаца Парада, где те присоединялись к толпе других горожан. Солнце взошло над острыми пиками гор Хуапи, когда почти все население Гранады под угрозой пик, пинков и ударов собралось на Плаца Парада и под крышей собора. Спастись удалось не многим. Среди сбежавших оказался губернатор — факт, который просто бесил Моргана. Пиратам и их индейским проводникам теперь было позволено грабить и мародерствовать сколько им захочется. Моррис, Джадсон и другие их пошиба раздевали и насиловали женщин, которые им нравились. К полудню Морган немного расслабился, успокоенный видом огромной сверкающей груды богатств, растущей на красных и черных плитах парапета здания государственных властей. Такое сокровище, поделенное на такое небольшое количество человек, превратит их всех в богачей. Словно из-под земли появились сотни тощих и свирепых на вид индейцев. Некоторые приплыли по озеру, другие, с ненавистью в глазах, острыми стрелами и надежными луками в руках, бесшумно, словно тени, вынырнули из джунглей. Хотя пираты, уставшие и ослабевшие, хотели поесть и выпить, Морган продолжал без сожаления гнать их. — Да, я знаю, что вы храбро сражались — так что о вас будут долго рассказывать в Лиме и Мадриде, — трепал он по плечам потных, наполовину пьяных налетчиков. -Но нас меньше сотни, а испанцев вокруг — тысячи! Как всегда, Энох Джекмен выступил в его поддержку: — Это верно, Гарри, но что ты решил делать с этими испанскими свиньями? Кумана и ояты собираются их всех перерезать. Морган потряс растрепанной головой, покрытой огромной изумрудно-зеленой шляпой, которая плохо сочеталась с его запачканными льняными штанами и обнаженным торсом. — Нет. Резни не будет, я обещаю. Найди Кэтфута и Куману и приведи ко мне. Вскоре появился касик, он вышагивал во главе почти двух сотен татуированных воинов, которые неожиданно оказались владельцами такого оружия, о котором раньше и мечтать не смели. Кэтфут гротескно смотрелся в женской красной юбке и оранжевой шали. — Вожди просят превосходительство отдать им этих белых. — Он ткнул грязным пальцем в сторону собора. Даже на площади были слышны дрожащие мольбы пленников. Жители Гранады теперь слишком живо припоминали свое варварское отношение к оятам и марибо, а также бессердечное уничтожение других племен. Морган сидел на резном, красного дерева кресле губернатора, обитом вельветом. Он приказал выбить барабанную дробь, и на Плаца Парада установилась относительная тишина. — Кэтфут, заверь Куману и его вождей, что мы понимаем их желание отомстить и полностью согласны с ним. Скажи ему, что я признаю за ним полное право замучить до смерти всех жителей города, мужчин, женщин и детей. Индейцы с напряженным вниманием на раскрашенных лицах выслушали его речь, а потом свирепо заухмылялись. — Но скажи Кумане следующее. Завтра вечером мы, англичане, уйдем, возможно, навсегда, а он и его люди останутся нести иго испанского правительства. Задуманное ими убийство приведет к тому, что в генерал-капитанстве Гватемала вырежут поголовно всех местных жителей! Скажи ему, что я считаю, что милость, оказанная им сейчас, может заставить испанцев умилостивиться в будущем. — Зачем разубеждать бедных дикарей? — закричал Дент. — Испанцы заслуживают пощады не больше, чем коралловая змея! Морган не обратил на него внимания. — Скажи Кумане, что его воины могут взять заложников и рабов, но что резни не будет. К величайшему удивлению самого валлийца, его логика возымела действие. Кумана гордо отправился восвояси, не сгибаясь, как ходили его предки до появления испанцев. Джекмен сдвинул на затылок украшенную страусиными перьями шляпу какого-то альгвасила. — Между прочим, Гарри, я не совсем согласен с тем, что ты хочешь пощадить этих мясников. Как насчет того, чтобы поджарить хотя бы вон того мерзавца — он выглядит сильным и долго продержится. Морган взглянул на уроженца Новой Англии: — Нет смысла в бесцельной жестокости. И не думаю, что тебя это так уж волнует. — Я не забыл Дунбара, Тростона и других, нет, — и он снова сплюнул на мостовую, — и как они погибли. — Не старайся зря, Энох. У тебя еще будет время убить столько испанцев, сколько захочешь. А пока проследи, чтобы нашу добычу рассортировали и упаковали в тюки. -Он поднялся так стремительно, словно и не было нескольких часов сражения и командования. — Сколько черных рабов мы захватили? Гранада располагалась так далеко от моря, что в ней нашлось не более дюжины негров, но Кумана решил проблему, выделив нужное число ярко разукрашенных членов своего племени, чтобы донести добычу от Гранады до бухты Обезьян. К закату пираты выбрали и упаковали все самое лучшее, отделили пленных, которые пойдут с ними и которых будут держать до уплаты выкупа — в их число вошли два городских алькальда *["409], епископ, майор гарнизона, королевский прокурор и дюжина зажиточных граждан. Поднялись громкие и пронзительные женские вопли тех семей, которые должны были лишиться кормильцев. Женщины бросались на колени и с всхлипываниями хватали корсаров за ноги, а те отталкивали их ударом ноги. Как мера предосторожности против преследования, которое, как он подозревал, обязательно будет организовано, Морган сжег все корабли и приказал пробить дно в тех пирогах, которые не понадобятся захватчикам. На закате, спустя шестнадцать часов после того, как нога первого пирата ступила на берег, Морган скомандовал своим людям отплывать, нагруженные добычей индейцы исчезли в кустах, а в Гранаде немногие уцелевшие робко высунулись из-за двери собора, которую теперь уже никто не охранял. — Да славится святая Божья Матерь! — воскликнули они. — Luteranos действительно ушли.Глава 14 МЭРИ ЭЛИЗАБЕТ
Каждая пройденная лига в направлении Ямайки усиливала смертельную тревогу Эноха Джекмена. Конечно, Генри Морган принял все меры предосторожности и выслал на разведку в Порт-Ройял береговое судно, на борту которого находилось умно составленное письмо к губернатору. Конечно, его превосходительство сэр Томас Модифорд ответил, обещая завоевателям Вила-де-Моса, Трухильо и Гранады достойную, если не сказать приветственную, встречу. Но все же уроженец Новой Англии слишком живо вспоминал тот день, два года назад, когда он так самоуверенно вломился в Порт-Ройял. А теперь победная, нагруженная тяжелой добычей эскадра должна была проплыть мимо хорошо укрепленного форта Чарльз и мимо новых батарей, возведенных на мысах Мейфилд и Пеликан. Единственное, что утешало Джекмена, — это наличие у них хорошо вооруженных и готовых к бою пяти больших судов и четырех поменьше. Не меньше тревожились и Джек Моррис, Дент и Джадсон. Подозрительные по своей природе, они приказали своим командам зарядить пушки и поставить рядом с ними расчет с готовыми фитилями. Они не должны были спускать глаз с сигнальной мачты «Золотого будущего», главного корабля Моргана. Если там появится красный флаг, то все пиратские суда должны были выстрелить по форту, развернуться и пытаться выйти в открытое море. Об этом они договорились во время остановки на Коровьем острове. Моргану вообще стоило многих усилий убедить капитанов идти именно в Порт-Ройял. Главным аргументом стал тот неотразимый факт, что на Ямайке можно намного дороже сбыть награбленное, чем где бы то ни было в Карибском море. Кроме того, там было больше таверн и среди многочисленных проституток куда больше англичанок и француженок, которые ценились намного выше, чем черные и коричневые шлюшки Кайоны. Все ближе становились укрепления форта Чарльз и дула его пушек, глядящих из амбразур. Уже можно было ясно разглядеть большой английский флаг над административным зданием. Джекмен подумал: «Весело будет, если Модифорд все-таки приготовил нам засаду — а мы везем с собой целое состояние». Теперь, когда Джекмен собрал заветные десять тысяч английских фунтов, эта сумма уже казалась ему небольшой, даже слишком маленькой, чтобы отказаться от «дела». И суть не в том, что воспоминание о светло-каштановых волосах Люси и ее веселых серых глазах стало слабее, нет -но все же не мешало бы удвоить эту сумму; тогда он обязательно поплывет на север. Как только «Золотое будущее» без каких-либо инцидентов обогнуло мыс и медленно пошло по проливу, а ее матросы словно сумасшедшие орали и меняли паруса, Морган глубоко вздохнул. Какое счастье, что пушки на батареях не заряжены, а на валу нет солдат; еще больше его порадовало, что государственный флаг над административным зданием слегка нырнул вниз в знак приветствия, когда корабль выпалил из трех пушек в честь порта. Но все же подозрения не оставляли капитана; не в привычках Гарри Моргана было доверять кому бы то ни было. Конечно, послание сэра Томаса Модифорда дышало приветливостью и все такое. Но почему? Почему вдруг так изменился его тон? Морган оглядел освещенную луной гавань Порт-Ройяла и заметил восемь или десять военных кораблей, стоявших на якоре. На большинстве из них развевался британский флаг, как и на мачте «Оксфорда», высокобортного фрегата, принадлежащего королевскому флоту. Гм! Город, похоже, стал больше, но менее оживленным. Может, у них тут холера? Вполне возможно. Генри Кот проскользнул к нему и показал на большой, хорошо оснащенный военный корабль под названием «Летящий ветер». — Тебе должно быть приятно, что Эдвард Мэнсфилд в порту и станет свидетелем нашего триумфа. — Да, это действительно удача. — Морган ухмыльнулся, вспоминая замечания старого голландца на том банкете. Моргану стало так весело, что он приказал дать приветственный залп. Нечего скромничать, когда они захватили такие города, как Вила-де-Моса, Трухильо, Рио-Гарта, и с отрядом меньше ста человек разграбили Гранаду, которая лежит в ста пятидесяти милях от берега! Может быть, экспедиция дяди Эдварда против Кюрасао не была так уж успешна, тогда ему удастся утереть нос заносчивому старому аллигатору. Да. Слухи о его победном плавании пронесутся по морям и дойдут до самой Англии, и парни в Уэльсе с гордостью будут говорить: «В Девоне родился сэр Френсис Дрейк, но Генри Морган родился в Уэльсе!» Генри взглядом отыскал красивый кирпичный дом сэра Эдварда. Интересно, следит ли Мэри Элизабет за победным шествием его эскадры? Неожиданно он испугался, что ее чувства могли измениться. Он почувствовал непреодолимое желание немедленно убедиться в ее постоянстве. Надев лучший кружевной воротник, сюртук сливового цвета, отделанную кружевом рубашку, малиновые чулки и туфли с золотыми пряжками, капитан Морган сидел на ужине в административной резиденции и парился в своем парадном костюме. Его превосходительство сэр Томас Модифорд, лучезарно улыбаясь, льстиво настаивал на том, чтобы он подробно рассказал о своей экспедиции, и даже вырвал У капитана обещание своей собственной рукой написать обо всем. С берега уже доносились звуки потрясающей попойки. Там, внизу, сутенеры, содержатели борделей, пираты, корсары и матросы королевского флота, разинув рты, доверчиво слушали байки Джекмена, Дента, Морриса и остальных. Окна были открыты, чтобы в дом проникал ветер с моря, поэтому шум с берега доносился отчетливо. Морган уже начал задумываться: когда же ему удастся уйти, чтобы нанести визит вежливости сэру Эдварду? Он медленно поднял бокал и поверх него глянул в холодные серые глаза сэра Томаса. — Ну, хватит о моих подвигах — давайте скажем, что я вздул испанцев намного сильнее, чем это удавалось кому бы то ни было с такими маленькими силами, и этого никто не сможет отрицать. Без всякой поддержки со стороны любого правительства… — он усмехнулся, открыто подшучивая над Модифордом, — я с помощью горстки братьев одержал серию побед, а потерял всего десять человек. — Морган перегнулся через стол и медленно добавил: — Запомните, сэр Томас, за это плавание я потерял всего десять человек! — Он снова замолчал и взглянул Модифорду прямо в глаза. — А теперь вы признаете, что были не правы, когда не дали мне места в экспедиции моего дяди? Модифорд вспыхнул и довольно кисло рассмеялся. — Мы все иногда ошибаемся в своих суждениях, а вы должны благодарить Бога, что я отказал вам. — Почему? Разве экспедиция моего дяди не была удачной? Губернатор слегка пожал плечами и закурил длинную черную сигару от маленькой свечки, которая была поставлена специально для этого. — Я полагаю, вы не знаете, что сэр Эдвард мертв? Морган резко выпрямился, пытаясь собрать разбежавшиеся мысли. — Мертв! Как это? — Погиб как доблестный офицер, каким он всегда был, во время атаки на Сен-Стефан. Вы помните, что сэр Эдвард был тучным мужчиной? Морган кивнул. — Сэр Эдвард возглавил сухопутную атаку. Стояла немилосердная жара, и во время высадки ваш дядя упал и ушибся. Тем не менее он продолжил подъем на песчаный холм в самую жару и упал. Его хватил апоплексический удар, и он умер, прежде чем доктор успел пустить ему кровь. — А что потом? — Похоже, вы недооценили вашего родственника, -сухо заметил Модифорд. — Ваш двоюродный брат Томас, хотя ему и прострелили обе ноги, принял на себя командование, завершил атаку и приказал разграбить и сжечь город. Только так экспедиции удалось избежать полного провала. — Том поправляется? Я желаю ему всего самого лучшего. — Да, Гарри. — Впервые сэр Томас отбросил официальный тон и назвал Моргана по имени. — Он скоро поправится. «Так вот куда теперь ветер дует!» — подумал Морган. Он с трудом удерживался от расспросов о Мэри Элизабет, но внутренний голос предостерегал его от излишней демонстрации своих чувств. И правда, чем меньше высказываешь свои заветные желания, тем скорее сможешь их осуществить. Модифорд взял орех из серебряной миски. — Вначале я с трудом мог поверить в ваш успех на Тьерра Фирме. — Он широко улыбнулся и заметил: -Поверьте, я ничего не упущу в своем донесении лордам Торговой палаты. — Он подмигнул. — А что мне сообщить о вашей комиссии? Под тщательно расчесанными усами Моргана засветилась широчайшая ухмылка. — Думаю, ничего особенного… — Да, но они захотят знать, под какой именно лицензией вы плавали. В конце концов, в Мадриде поднимут жуткий крик. У вас ведь была комиссия, верно? — Конечно, я же не дурак. Моя каперская лицензия подписана лордом Виндзором. — Виндзор! Да его сместили с поста наесть лет назад! — Верно. Но выданные им лицензии не были отозваны. — Черт побери, да ты умный парень. Спасибо. — Модифорд расхохотался. — Холера тебя забери! Завтра я объявлю об отзыве всех до последней комиссий, выданных лордом Виндзором. Морган нахмурился, медленно сжал пальцы правой руки и на редкость убедительно принялся врать: — Вы поймали меня на слове. В любом случае, и вы прекрасно это знаете, я намереваюсь продолжать военные действия против испанцев, и если вы по-прежнему так же близоруки, то я возьму французскую лицензию. Губернатор успокоительно махнул рукой и придвинул к нему сигары. — Пожалуйста, не расстраивайся по этому поводу, Гарри. В связи с настоятельными просьбами с моей стороны лорды предоставили мне право выдать ограниченное число комиссий на военные действия против испанцев. — Ха! Это меняет дело, я… — Помолчи и дай мне закончить. Число лицензий ограничено; и в них разрешены только военные действия против испанцев на море. — Вот как? — хмыкнул валлиец. — Тогда меня это не интересует. Сэр Томас позволил себе выразить на лице изумление, которое он на самом деле чувствовал. — А почему? Большинство пиратов предпочитает сражаться в море. — Где они несут такой же урон, как и доны, — фыркнул Морган. — Разве ты не видишь… Том? Мы не сможем сломить господство испанцев, если будем просто топить их суда. Мы должны уничтожать их порты и города. Разбить их на суше — вот наша задача! — Я совершенно согласен. — Модифорд ослабил воротник, чтобы освежить разгоряченную грудь. — Но мистера Беннета совершенно невозможно в этом убедить. — А кто это — Беннет? — Как я уже объяснял тебе однажды, это весьма сообразительный джентльмен и секретарь лордов Торговой палаты. — Сэр Томас остановился, чтобы сделать длинный глоток из высокого бокала с пуншем из рома с лимоном. — Я… э… не слишком бы расстраивался по поводу лицензий, которые я тебе выдам. Из передней донесся громовой голос, по которому Морган немедленно узнал старика Эдварда Мэнсфилда. — Где наш новый Дрейк? Дайте мне пройти, идиоты! Я хочу посмотреть на этого Моргана! Последовал небольшой спор, а потом старый голландец с громким топотом ввалился в комнату, его голубые добродушные глазки ярко поблескивали над красным носом. — Всегда к услугам вашего превосходительства, — поклонился он, а потом развернулся и схватил руку Моргана словно в тиски. — Я только что услышал о твоих победах. Просто великолепно. — Адмирал был искренне взволнован. — Ах! Какое воображение, какая смелость: вот так пойти и захватить Гранаду! Ах, сэр Томас, вот отличный вице-адмирал, офицер, которого я искал! Да! Морган видит дальше своего носа. Услышав такие похвалы — и от кого! — пират почувствовал, что он совершенно счастлив. Годами Эдвард Мэнсфилд — главный адмирал конфедерации берегового братства — был объектом его глубочайшего, хотя и невысказанного восхищения. Потирая руку, помятую старым флибустьером, Морган так улыбнулся, что сверкнули все зубы. — Спасибо, я очень рад стать вашим помощником. — Он знал, что ему еще многому предстоит научиться в тактике военных действий на море, ведь рано или поздно и там ему придется встретиться с испанцами. — Давай, давай, Томас, — бурчал Мэнсфилд, усаживаясь на стул. — Закажи-ка нам шнапса, а? Мы должны выпить за чудесную экспедицию моего нового вице-адмирала. Была уже глубокая ночь, когда Гарри смог уйти. К этому моменту Мэнсфилд уже порядочно надрался, да и Модифорд потерял изрядную долю своей элегантности. Дом сэра Эдварда уже почти полностью погрузился в кромешную тьму, но на его нетерпеливый стук немедленно появился лоснящийся барбадосский негр. Он низко поклонился и немедленно высыпал на Моргана кучу сведений, которые были так ему нужны. Мисс Анна Петронилла вышла замуж за майора Биндлосса и теперь живет на плантации за бухтой. Да, для старой миссис смерть сэра Эдварда явилась тяжелым ударом. Она плакала целую неделю так, что жалко было смотреть. Мисс Джоанна уже легла спать, но мисс Мэри Элизабет читает в старом кабинете сэра Эдварда. Дворецкий широко ухмыльнулся. — Как мисс Лиззи прихорашивалась, когда заметила желтый и зеленый флаг, сэр. Почему вы раньше не пришли, сэр? Мисс Лиззи плакала. — У меня были причины, — объяснил Морган, встревоженный тем, что он явился к своей предполагаемой невесте, а от него вовсю разит виски. Он схватил сушеную гвоздику с серебряного блюда, разжевал и торопливо пробежался пальцами по блестящим свинцовым пуговицам сливового сюртука. Затем он проверил, что в кармане у него все еще лежит великолепное жемчужное ожерелье, которое Гарднер сорвал в Гранаде с шеи статуи Богоматери. Для лучшего эффекта он вначале собрался с мыслями и попытался преодолеть тяжесть, сковывающую ему язык. Как в тот момент, когда он молча стоял перед залитой лунным светом Гранадой, сердце Моргана часто забилось, словно индейский барабан, а пальцы начало покалывать. При свете свечи, которую нес слуга, блеснула знакомая дверь в кабинет сэра Эдварда, а из-под панелей красного дерева пробивался золотистый свет лампы. В воздухе носился сильный запах сандалового дерева, смешиваясь с запахом жасминового цвета. При жизни сэра Эдварда такое было бы немыслимо. С присущим его сословию тактом, дворецкий открыл дверь, быстро развернулся и исчез. С книгой в руке Мэри Элизабет вскочила с удобного кресла, в котором она только что сидела, — ее высокая, пропорциональная фигура резко вырисовывалась на фоне стены. Как во время их первой встречи, они оба молчали, только смотрели друг на друга и улыбались. Она думала: «Он стал выглядеть старше, и у рта появились жесткие линии, но, может, это потому, что он оброс бородой. Как ему идет этот сливовый бархат и золотые сережки с изумрудами!» Морган, всматриваясь в свою кузину, тоже размышлял и оценивал: «Лиззи совершенно не изменилась, и если смерть отца и стала для нее ударом, то по ней этого не скажешь. Какая у нее нежная кожа, как гордо она держит голову. Тут он заметил, что Мэри Элизабет кладет на место свою книгу и, шурша голубой юбкой, идет к нему, быстрее, еще быстрее, и вот уже они бегут навстречу друг другу по кабинету, и Морган хватает ее в свои объятья. Их губы встретились и слились в поцелуе. От ее прически пахло любимыми цветочными духами, волосы были убраны в строгую, но нежную косу, которая лежалавокруг головы и оканчивалась пучком на шее. Мэри Элизабет вопросительно взглянула на него огромными серо-голубыми глазами, но он так крепко обнял ее и поцеловал, что комната вокруг закачалась. — Слава Богу! — прошептала она. — О, как я благодарна Господу, что ты благополучно вернулся. О Гарри, ты не можешь себе представить, как я боялась за тебя, как часто я молилась, чтобы мы снова встретились. — А ты, — прошептал он, — никогда не покидала моих мыслей. Твой образ придавал мне смелость, вдохновлял меня и… — Он не мог найти слов и поцеловал ее снова, а потом со смехом отстранился от нее и улыбнулся. — Дорогая, я завоевал нам богатство — по крайней мере, будет с чего начать! — И много? — быстро спросила она. — Ну, моя доля составит не меньше девяти тысяч золотом. А может, и больше. — О Гарри, как чудесно! Какого замечательного капитана я выбрала, чтобы он командовал моим сердцем. -Взяв его под руку, она подвела его к небольшой банкетке. Когда они снова поцеловались и уселись, она сказала: — Дорогой, я собираюсь съездить к сестре Анне Петронилле, Ты знаешь, что она вышла замуж за майора Бнндлосса? Так вот, рядом с их поместьем есть симпатичная маленькая речка. Она впадает в бухту и течет по богатейшим, плодородным землям на южном побережье Ямайки. Роб, то есть майор Биндлосс, и я катались там, и он сказал, что там будет расти отличный рис, индиго и сахарный тростник. О Гарри, я с таким удовольствием воображала себе на этом месте чудесный дом. Я хочу, чтобы ты скорее съездил туда. Когда ты сможешь? — Через неделю. — Он улыбнулся, но был доволен. Вот черта, которую он и не ожидал найти в ней. — Мы посмотрим эту речку, и, клянусь Богом, если она так хороша, как ты рассказываешь, то я куплю эту землю, а ты дашь ей имя! Они сидели в той самой полутемной комнате, где он и старый сэр Эдвард обменялись такими обидными попреками, и тут до Моргана дошло, что мать Мэри Элизабет скорее всего будет против их брака. Конечно, вести о его триумфе смягчат ее сопротивление. — Успех — хорошее средство борьбы против критически настроенных родителей. — Так это сформулировала Мэри Элизабет. — А теперь, когда ты вошел в доверие губернатора, мне кажется, и мой брат Чарльз не будет возражать. Раз папа умер, то он, конечно, глава нашей семьи. Бедная мама во всем соглашается с ним. Морган взял с блюда орешек. — Я полагаю, что сэр Эдвард хорошо обеспечил твою мать? Девушка мягко кивнула маленькой головкой: — Да, даже лучше, чем мы ожидали. Да, мне кажется, что леди Анна сейчас одна из самых богатых женщин на Ямайке. И между прочим, Гарри, — Мэри Элизабет положила ему на рукав сильную, крепкую ручку, — когда ты будешь наносить визит леди Модифорд, — я думаю, ты еще не успел этого сделать, — пожалуйста, не говори про ее сына Джека. Он… ну, она уже два года не получала о нем никаких известий. Боятся, что корабль пропал вместе со всеми, кто был на борту. Во время прощальных поцелуев Морган захотел узнать, когда им можно будет пожениться. — После Нового года, — спокойно ответила Мэри Элизабет. — Если мы поженимся раньше, то это нарушит все правила хорошего тона, а если ты, Гарри, действительно собираешься добиться того, о чем говоришь, то ты должен всегда оставаться на высоте. — Чертовски долго придется ждать, — вздохнул он. Его порывистый характер не мог с этим смириться. — Но ты, конечно, права. Ямайка станет нашим домом, здесь наши дети унаследуют земли, которые я завоюю для них. Да, Лиззи, я сделаю тебя первой леди Ямайки. Хочешь стать леди Мэри Элизабет, женой сэра Генри Моргана, королевского губернатора? — Пока у меня есть ты, — тихо произнесла она, — мне больше ничего не надо. Как позднее писал в своем дневнике Дэвид Армитедж, свадьба Мэри Элизабет и Генри, ее двоюродного брата, стала великолепным, торжественным и значительным событием. Никогда за всю историю этой все еще не оперившейся британской колонии свадьбу не праздновали с такой пышностью и роскошью. В старой испанской церкви, откуда вытащили идолопоклоннические изображения и другие папистские штучки, его превосходительство сэр Томас Модифорд, баронет, королевский губернатор острова Ямайка, серьезно и солидно вел к венцу дочь своего умершего помощника. Сидя на хорах, Армитедж, у которого оказался превосходный тенор, мог видеть весь неф *["410] и блестящее собрание. Женщин было очень мало, потому что только самые сильные из них выдерживали этот климат, где так часто вспыхивали эпидемии. Леди Модифорд и другие надели свои лучшие наряды и кружева, большинство из них придерживалось моды, которая царила в Лондоне лет двадцать пять — тридцать назад. Но драгоценностей было много — благодаря недавним успехам пиратов. Губернатор и члены совета, сэр Томас Уайтстоун, спикер, члены Ассамблеи и служащие офицеры выглядели вполне торжественно. Золотые пуговицы, золотая тесьма и ленты мелькали повсюду. Рядом с женихом в церкви сидел крепкий, краснолицый Бледри Морган, теперь уже подполковник. Очевидно, он считал себя по крови ближе к Генри, чем к невесте. Томас Морган, который все еще хромал от раны в ноге, предпочел занять скамейку на левой стороне нефа, рядом с невестой. На красивом лице доктора Армитеджа появилась широчайшая ухмылка, когда он заметил человек двадцать пять или тридцать пиратов и капитанов, которые надели самые экстравагантные костюмы, чтобы присутствовать при том, как их товарищ законным образом свяжет себя с женщиной. Они чувствовали себя не совсем в своей тарелке, потому что им привычнее было грабить церковь, а не посещать ее. Эти свирепые на вид парни пихались и тихо ругались, а пот ручьями струился по их тщательно умащенным маслом усам и бородам. Генри Кот нагнулся к Джереми Дейту: — Видишь эту чашу? Смотри, какие рубины по краю, может, после службы… а? — Можно. Отличная добыча. Когда-нибудь она будет стоить не меньше тысячи фунтов. Лысая голова Мэнсфилда блеснула, когда он повернул к ним свое лицо, все в пятнах и шрамах, и хрипло прошептал: — Да я сам дам за нее пятнадцать сотен. Пестрые, словно стайка обезьян, капитаны берегового братства потели, одергивали мечи и палаши, глазели на подруг невесты и страстно мечтали о выпивке. Но Армитедж заметил, что некоторые из них сидели задумавшись. Может, пропитанная запахом ладана атмосфера священного таинства заставила их вспомнить дни детства, вряд ли безмятежного, но все же радостного; у кого в Англии, у кого на континенте? Даже свирепый бандит Джон Рикс и тот прослезился, когда священник призвал всю эту компанию помолиться вместе, а одноглазый Том Джадсон был так тронут, что ему пришлось полезть за своей серебряной флягой с ромом и сделать порядочный глоток, чтобы прийти в себя. «Невеста (писал Армитедж) подошла к святому алтарю в небесно-голубом платье, украшенном превосходным кружевом. На шее у нее было бриллиантовое колье, которое подарил ей его превосходительство губернатор. В Виргинии ее вряд ли назвали бы красавицей, но она все равно очень мила, хотя широка в плечах, а в бедрах узка». Генри Морган был одет в свои любимые цвета: ярко-желтый костюм, изумрудно-зеленая рубашка, желтые штаны, зеленые носки и кожаные туфли с бриллиантами по краю. Под париком, завитым и надушенным, как это было принято при королевском дворе, его собственные волосы казались почти черными. Но глаза у него блестели, а с губ не сходила улыбка. — Совсем в его духе, верно? — пробормотал Джек Моррис. — Что? — Капитан Трибитор вошел в порт как раз вовремя, чтобы поспеть к таинству. — Смотри, Гарри не взял украшенный золотом и бриллиантами меч, который пожаловал ему чертов совет, а нацепил палаш с оловянной рукояткой, с которым он дрался в Гранаде. Мать невесты с залитым слезами лицом сидела рядом со своим зятем майором Робертом Биндлоссом. С другой стороны ее младшая дочь, миловидная блондинка Джоанна, тайно пожимала руку мистеру Гарри Арчбольду — ходили слухи, что он собирался жениться на третьей дочери сэра Эдварда, за каждой из которых давали хорошее приданое. Утомившийся и слегка навеселе, голландский капитан громко спросил, сколько еще продлится эта проклятая церемония, и не успела еще пара обменяться обручальными кольцами, как Рикс вскочил на ноги с воплями: — А теперь, когда он благополучно взобрался на борт семейного корабля, давайте поднатужимся и грянем «ура» в честь Гарри! Викарный епископ *["411] тревожно взглянул из-под очков на пиратов, которые повскакали со своих мест. Солнечные лучи, падавшие сквозь узкие окна, золотили палаши, сабли и мечи. — Гарри! Ты самый лучший капитан! — заорали они. — Живи долго и счастливо, парень! Да здравствует адмирал! Да здравствует его жена! Никто из участников этой свадебной церемонии никогда уже не мог забыть ее. Майор Биндлосс, хотя он и был немного скуповат, пожертвовал пару откормленных бычков, и их зарезали и зажарили в индейском стиле в рощице в бывшем саду испанского губернатора. Там возвышалась огромная гора жареной птицы, агути, поросят, игуан, гусей и цыплят. Они призывно отсвечивали золотистым цветом, и сквозь решетки деревянных подставок с них капал аппетитный сок. Старый город никогда еще не видел такого яркого света, такой громкой музыки и таких танцев у огромных костров. Даже несчастные чернокожие, которые, дрожа, прятались по углам, сумели раздобыть по горстке меди и благодарили своих богов за то, что вице-адмирал Генри Морган женится. Размахивая кувшином пунша из бренди, Джекмен, покачиваясь, брел по улице. — Холера тебя возьми, Генри, тебе повезло, здорово повезло. — Он взмахнул рукой и оперся на плечо товарища. — Смотри. Ты и я, — тут он громко икнул, — разве мы не стоим… только не говори никому… пятнадцать тысяч золотом у меня отложено. — Да, Энох, мы славно поплавали с тех пор, как старина «Удачливый» затонул. Никогда еще Генри Морган не был так доволен жизнью. Действительно, его женитьба дала ему хороший старт. К югу от Сантьяго-де-ла-Вега уже поднимались стены большого, но скромного поместья, под крышей которого Мэри Элизабет, как он надеялся, даст жизнь потомству, сильному и многочисленному. Но здесь его беспокоила смутная тревога. Почему раньше он ни разу не стал отцом? Было уже девять вечера, когда избранные гости приготовились сопровождать жениха и невесту в комнату для гостей в доме сэра Томаса. Но после того, как Гарри и Мэри Элизабет уединились там, под маленьким балкончиком с криками собралась большая толпа. Армитедж чувствовал себя прекрасно, как никогда в жизни, поэтому он остановился перед балконом и запел известную песню сэра Уолтера Ралея:Глава 15 ПОМЕСТЬЕ ДАНКЕ
Запахи влажного известкового раствора и свежевспаханной земли, свежераспиленных сосновых досок все еще сильно ощущались в поместье Данке, длинном одноэтажном строении из обтесанного камня в форме буквы «Т» Теперь там умело и уверенно хозяйничала Мэри Элизабет. На самом деле Гарри Морган был одновременно и обрадован, и немного озадачен открывшейся в его жене практической жилкой и ее замечательными способностями к математике. К изумлению всех леди Сантьяго-де-ла-Вега — или Испанского города, как его называли, — молодая миссис Морган быстро набрала такой штат прислуги, одних по найму, а других купив, какой не стыдно было бы показать в любом богатом поместье Барбадоса. Именно Лиззи предложила, чтобы кухня в поместье Данке была отделена от главного здания и соединялась с ним только крытым переходом, задуманным, чтобы уберечь прислугу от непредсказуемых проливных дождей, которые на Ямайке могли разразиться в любой момент с апреля по ноябрь. Цена, которую ему приходилось платить за прихоти молодой жены, вначале изумляла нового вице-адмирала, но потом начала пугать. — Хватит! — ворчал он. — Эта лестница выдержит наш вес и без ковров, которые обойдутся мне в двести фунтов золотом. И Мэри Элизабет всегда отвечала ему мягко, но в то же время с уже привычной для него решительностью: — Но, Гарри, ты же не хочешь, чтобы мы выглядели хуже Биндлоссов? Все знают, что майор Роберт и вполовину не так богат, как ты. Ковры были куплены. Конечно, дом, как и все новые дома, оказался кое-где неудобным, а где-то неправильно спланированным, но Морган считал, что он вполне сгодится, особенно в сравнении с тесными конурками в каменном доме леди Анны на мысе в Порт-Ройяле. И увы! Не успела еще молодая семья прочно обосноваться в поместье Данке — Лиззи назвала так свою усадьбу от немецкого слова «данке» — «спасибо», — как почтенная старая леди объявила о своем намерении нанести им продолжительный визит. Моргана это известие сильно обеспокоило, потому что вдова сэра Эдварда, освободившись от деспотизма своего мужа, теперь громко заявляла о своем мнении и отстаивала свои права. — Боже Всевышний! — бурчал Гарри. — Похоже, мы даже недельку не сможем спокойно пожить в нашем доме! Лиззи подбежала и крепко поцеловала его в лоб. — Конечно, это немного не вовремя, и мне хотелось бы вначале тут как следует устроиться, но маме надо сменить обстановку. Кроме того, дорогой, вспомни, сколько мы жили у нее, пока этот дом строился? В результате жарким осенним днем 1667 года Морган находился в на редкость отвратительном настроении. Его плохое настроение частью было обусловлено тем, что сэр Томас Модифорд не хотел, или ему недоставало храбрости, рискнуть выдать комиссию на военные действия против испанцев большому количеству пиратских судов. В результате капитаны по одному, а то и двое-трое сразу, поднимали якоря и ложились на курс к Кайоне, где проныра и хитрец Бертран д'Ожерон, нынешний губернатор Тортуги, с огромной радостью раздавал направо и налево каперские лицензии, амуницию и припасы. Моргану было совершенно очевидно, что Модифорду еще придется иметь дело с береговым братством, и скоро. Ходили упорные и достоверные слухи, что большие силы испанцев концентрируются на Кубе и Эспаньоле. К этому добавлялся еще и тот несомненный факт, что адмиралу Мэнсфилду не удалось убедить большинство братьев, что британские лицензии предпочтительнее французских. Но действительно огорчало Моргана то, что его собственная тщательно подобранная и обученная команда уже потратилась до последнего пенни и громко требовала новых действий; многие уже угрожали подписать договоры с другими капитанами. Чума возьми все это! Сегодня вечером после ужина он вынудит сэра Томаса пойти на серьезный разговор, ведь и его собственная заветная шкатулка тоже почти пуста. Как трудно было отказаться от возможности купить по приемлемой цене великолепные земли с лесами и лугами. Только полный идиот не понял бы, что спустя пять лет такое приобретение удвоится, если не утроится в цене. Мэри Элизабет быстро обнаружила его страсть к земле и играла на ней. Она постоянно и так осторожно намекала ему, что здесь или там продается кусочек пастбищной земли и стоит всего копейки. Откуда она узнавала об этом? Жена скромно, невинно улыбалась. — Разве мой брат Чарльз не служит доверенным секретарем его превосходительства? Конечно, если он намекает, что в продажу поступают какие-то королевские земли, то я не дурочка, чтобы не понять этого. Итак, к концу первых четырех месяцев семейной жизни вице-адмирал Морган оказался владельцем прекрасного поместья размером почти пять сотен акров, двадцати двух негров-рабов, четырех семей наемных работников — квакеров из Англии — и пяти искателей приключений, которые только что прибыли из колонии его величества в Массачусетской бухте. Последние оказались сообразительными и трудолюбивыми, но слишком уж набожными; в трезвом виде они заботились только о загробной жизни и спасении своих душ. «Может, сегодня мне удастся убедить сэра Томаса», — думал Морган. Он лениво зашел в дом, где его молодая жена расхаживала в одной хлопковой рубашке, которую на Ямайке носили большинство европейских женщин вместо корсета и многочисленных нижних юбок. Она улыбнулась ему, словно прохладный ветерок. — Я так рада, что ты пришел, Гарри. Сколько народу будет у нас к ужину? — Боже Всевышний! — простонал он, стягивая насквозь промокшую рубашку. — Я что, должен помнить о таких пустяках? — Сегодня утром ты ушел и ничего мне не сказал, — напомнила ему она. — Кого, кроме сэра Томаса и леди Модифорд, Чарльза и его жены, ты пригласил? Этого назойливого старого мерзавца Мэнсфилда? Гарри, если он еще раз плюнет на мой пол, я… я взорвусь как настоящая бомба! — Мэнсфилд уехал, — коротко ответил Морган, — поэтому нечего кипятиться. Генри Кот… — Не могу понять, что ты находишь в этой хитрой жабе. Я ему не доверяю… — Никто тебя и не просит, Лиззи. Но он умен, полезен и долго был у меня на службе. Лиззи подергала свои серьги. — А ты… ты пригласил доктора? Я забыла, как его зовут. — А, ты имеешь в виду Армитеджа, парня из Виргинии? Да, я его пригласил. — А скажи, — спокойно расчесывая длинные, роскошные волосы, Лиззи продолжала расспрашивать, — что твои друзья-французы? — Да, я позвал капитана Трибитора и Гасконца. Это веселый парень, он расскажет тебе много интересного о своих плаваниях. — Гасконец? — Мэри Элизабет нахмурилась. — Разве он не сражался на стороне этого ужасного Жан-Давида Hay при Маракайбо? — Оллонэ дррого бы дал за него, — заметил Морган и со вздохом облегчения скинул штаны, — Запомни, ты должна быть вежливой с этими французами, они пользуются авторитетом, и, ты понимаешь, мне нужна их поддержка. Они… э… придут с дамами. Мэри Элизабет презрительно фыркнула. — С дамами? Уверена, что самое подходящее название для них — это шлюхи. — Черт побери, мадам! — Морган бросил на жену спокойный холодный взгляд, который она уже научилась распознавать — и бояться. — Я сказал: «дамы». Девять десятых женщин на этом острове не лучше их, но не всем так везет. Для осуществления моих планов, Лиззи, тебе придется встречаться со многими такими «дамами». Так что прими это к сведению. Мэри Элизабет поспешно подошла к комоду и вытащила великолепно вышитую скатерть. — Хорошо, Гарри, будет как скажешь. А кто еще? Я надеюсь, Энох Джекмен придет. — Да. Я рад, что тебе нравится этот длинноногий мерзавец. В добрые старые дни мы были кровными братьями. Будут еще майор Баннистер с женой и полковник Бaллapд из гарнизона. Том хочет привести мистера Бекфорда, который имеет огромное влияние в Уайтхолле; мы должны быть гостеприимными. Раздавшийся топот копыт заставил Мэри Элизабет мгновенно броситься к жалюзи. — Ужас! Это сестра Анна, а я одета как нищая побирушка. Гарри, будь ангелом и позови Дэвиса. — Я — ангелом? — Он расхохотался. — Знаешь, Лиззи, слишком нелепые ты подбираешь имена для своего бедного мужа. Да, и еще имей в виду, что кредиторы беспокоятся, так что не покупай больше негров. На ее слегка загорелом лице появилось расстроенное выражение; — О Гарри, какая жалость! Я слышала, что продаются два сильных раба, их хозяин умер. Пожалуйста, может, мы сможем купить этих двух? Они с Мандинго, очень дешевые, сильные и молодые. Морган сухо спросил: — Сколько? — Восемьдесят дублонов — все равно что даром. — Значит, с ними что-то не в порядке, — буркнул он. — скорее всего, они опасны или больны триппером. — Нет-нет! Я ездила туда сегодня и сама осмотрела их; они очень крепкие. — Элизабет слегка надулась. — Разве ты забыл, Гарри? Завтра будет восемь месяцев нашей семейной жизни. Но напоминание оказалось не совсем кстати. — Восемь месяцев! — произнес Морган. — А ты думаешь только о покупке рабов. Когда, позволь спросить, ты подаришь мне наследника? Мэри Элизабет покраснела до самых ушей. — Имей терпение, Гарри. Такие… такие вещи не зависят только от желания жены. — Она неуверенно улыбнулась. — Поверь мне, я старалась. При виде ее удрученного лица он смягчился, обнял Лиззи и поцеловал ее. — Я верю, и, кроме того, ты хорошо старалась. А теперь займись делом. Хотя уже прошел сезон дождей, и «доктор», прохладный ветер с моря, шевелил жалюзи, в длинной гостиной поместья Данке было так жарко, что все мужчины скинули с себя сюртуки и жилеты. Равнодушные к условностям, два французских капитана пошли еще дальше: сняли не слишком-то чистые рубашки и развалились на стульях; покрытые шрамами загорелые тела поблескивали в пламени свечей. Дамы уже давно удалились в соседнюю комнату, откуда смутно доносились их голоса и звонкий смех, но не слишком разборчиво, потому что двери красного дерева были плотно закрыты. Тарелки от последней перемены блюд в беспорядке громоздились на залитой соусом скатерти. Сэр Томас Модифорд, ко всеобщему облегчению, подал пример и отшвырнул свой парик на буфет, где он валялся словно маленький осьминог среди пыльных бутылок из-под вина. Энох Джекмен ослабил массивную золотую пряжку ремня и зевнул во весь рот. Морган сидел в огромном кресле, которое он привез с собой из Трухильо. Он не сводил задумчивого взгляда с мрачного сэра Томаса, но время от времени быстро оглядывался, пытаясь прочесть на круглом лице Гасконца его мысли. Перед гостями лежала наполовину развернутая великолепная карта Москитного берега, Кубы и Эспаньолы, которую подготовил Генри Кот по указаниям Моргана, -там еще существовала масса неточностей, хотя карта и давала подробную информацию, которая раньше была неизвестна. Морган заметил, что мистер Бекфорд постоянно поглядывает в ее сторону. Почему Морган чувствовал себя все время настороже с этим краснолицым англичанином? Совершенно очевидно, что гость губернатора обладал феноменальной памятью, потому что время от времени он напоминал сэру Томасу даты, факты и действующих лиц событий. — Сожалею, Гарри, что испорчу твой изысканный ужин плохими новостями, — заметил Модифорд, — но я обязан сказать тебе, что сегодня получил донесение, что адмиралу Мэнсфилду повезло с голландцами не больше, чем нашему бедному другу сэру Эдварду Моргану. Против всех моих приказаний он прервал атаку на Кюрасао и высадился на Тьерра Фирме. — Вы, конечно, призовете его к ответу? — фыркнул мистер Бекфорд. — Это незаконно, и такие действия нельзя позволить. Морган потихоньку улыбнулся, когда губернатор ответил: — Вы можете быть уверены в этом, сэр. — А где Мэнсфилд сейчас? — поинтересовался майор Банниетер. — Он с несколькими французскими корсарами отправился на острова к югу от Кубы. — Модифорд улыбнулся всем безмятежной улыбкой. — Старый голландец заявил, что он намерен присоединиться к некоторым вашим… э… собратьям, которые все еще стесняются прибыть в Порт-Ройял. — А что адмирал собирается делать потом? — громким гортанным голосом задал вопрос Гасконец. — Ничего, пока он не получит инструкции и подкрепление, которое я ему вышлю, — Говори, Том, — подбодрил Джекмен. — И что там будет, в этих инструкциях? — Да, что? — Губернатор задумчиво склонил бритую голову. — Вот почему я попросил Гарри пригласить вас, ребята. Что вы собираетесь делать, друзья? — Набег на Картахену, — не задумываясь, предложил капитан Трибитор. — Это богатейший город, если не считать Порто-Бельо и Панаму. Майор Биндлосс тут же возразил: — У братства и корсаров не хватит сил, чтобы захватить настолько укрепленный населенный пункт. Морган неожиданно встал. — Я не согласен, Роб. — Почему? — Потому что новый губернатор на Тортуге другой закваски, чем дю Россе. Его зовут д'Ожерон. Я прав, Жан? Гасконец наклонился вперед. — Да, этот Бертран д'Ожерон в два раза умнее сэра дю Россе, который, увы, так неожиданно умер после своего возвращения во Францию. — Совершенно верно, — согласился Модифорд и лениво глотнул еще вина, не отрывая холодных серых глаз от хозяина. — Гарри, насколько я помню, у тебя всегда был план действий. Куда ты направишься в следующий раз? Валлиец поднялся на ноги, стряхивая крошки, провей рукой по темной щетине на загорелом подбородке и улыбнулся. — Ты, Банниетер, и ты, Баллард, прекрасно знаете, что сейчас не время для крупных действий. Скажем, что я буду разрабатывать планы, которые позволят нам захватить такие баснословно богатые города, как Картахена, Гавана, Порто-Бельо, Веракрус и даже саму Панаму. Все сидящие за столом изумленно переглянулись. — Боже правый! — фыркнул мистер Бекфорд, — Планы у вас немалые. — Mon Dieu! Гавана? Картахена и Панама! — пророкотал Трибитор. — Mon ami, сдается мне, ты слишком много выпил. — Да брось, Гарри! — вмешался Биндлосс. — Только королевский флот и армия в десять тысяч солдат из Англии могут надеяться осуществить твои планы хотя бы наполовину. — Черт! — взорвался Морган. — Наша конфедерация может сделать все то, о чем я говорю. И, клянусь Богом, я собираюсь снарядить… Он запнулся, и мистер Бекфорд наклонился вперед и мягко спросил: — Снарядить что? Разве вы не знаете, адмирал, что Англия все еще сохраняет мир с Испанией — по крайней мере на суше? Секретарь Беннет объявил, что пираты не получат поддержку от королевских властей. Морган бросил на поджатые губы секретаря презрительный взгляд. — Вот как? Ну уж нет. Этим трусам в Лондоне удастся остановить нашу войну против донов так же, как удастся заставить луну взойти на западе! Я прав? Одобрительными криками разразились не только пираты, но и офицеры королевской армии. Они тоже мечтали заполучить в свои руки сказочные богатства Испанской Америки. — Идите сюда, ребята, и вы увидите будущее! — …или тень виселицы, — пробормотал мистер Бекфорд. Морган осторожно развернул великолепную новую карту, на которой были изображены Антильские острова и Тьерра Фирме от бухты Кампече до северного побережья Южной Америки. Яркими красками картограф изобразил границы всевозможных областей, провинций и прочих административных единиц. Маленькие красные значки в виде крепости изображали крупные и мелкие города и даже маловажные рыболовные порты. — Черт меня побери! — взорвался губернатор. — Да это чудесная вещь. Откуда, во имя всего святого, ты раскопал такое произведение искусства? Глубоко заинтересованные, гости столпились вокруг и склонились над картой, отыскивая известные им места. Морган решительно поставил серебряную солонку в одном углу листа, а тяжелую золотую рюмку в другом. Указательным пальцем он показал на два острова. — Я думаю, все узнали Тортугу и Коровий остров. Какое значение имеют эти два острова? — Как ты сам однажды объяснял дю Россе, — мгновенно ответил Трибитор, — они оба лежат по ветру и поэтому доминируют над Наветренным проливом, который соединяет Карибское море с Атлантическим океаном. Словно сытый кот, Морган обвел гостей довольным взглядом. — Совершенно верно. Тот, кто удерживает эти два острова, всегда может напасть на любое судно — или суда, — которые пойдут против направления ветров. — Он медленно переводил взгляд с одного лица на другое. — А теперь я хочу обратить ваше внимание на третий остров, который не менее важен со стратегической точки зрения. Вы можете назвать его? Джекмен подумал, что может, но вовремя придержал язык. Изумруд на указательном пальце Моргана сверкнул, когда он поставил палец на остров у северного побережья Гондураса. Майор Баннистер пробормотал: — Не узнаю чертово место. Как оно называется? — Как угодно, — медленно и выразительно произнес валлиец. — В любом случае этот остров доминирует над всеми богатыми портами к югу от Юкатана! — Его голос прогнул. — Мимо этого острова, и всегда в тактически невыгодном положении, проходит флот из Центральной Америки и Перу. — Ха! — крикнул Джадсон. — Так это Олд-Провиденс. — Да, но испанцы называют его Санта-Каталина. На Олд-Провиденсе, вот где, друзья, мы должны обосновать мощную колонию, которая сможет защитить себя. Это один из богатейших островов. Полно дикого скота, фруктов, воды и отличная глубокая гавань; подходящее место для заправки и ремонта. Он быстро огляделся. — Помните, что я сказал. Захват Санта-Каталины станет первым шагом к таким завоеваниям, после которых самый ничтожный из братьев будет играть в орлянку слитками красного золота. Он нарисовал такую красочную картину, что слушатели незаметно подпадали под его обаяние, все, кроме тощего мистера Бекфорда. Он с каменным лицом продолжал изучать хозяина. — Прежде чем вы продолжите развивать свои безумные проекты, адмирал Морган, — тонким чиновничьим голоском произнес мистер Бекфорд, — я хочу предсказать вам, что если вы проживете достаточно долго, то окончите свою жизнь в Тауэре в ожидании, когда палач его величества соберется отрубить вам голову. — Может, кто-нибудь покажет этому кладбищенскому ворону, где тут выход? — рявкнул Морган. — Или мне самому этим заняться? — Нет необходимости. — Бекфорд бросил на хозяина взгляд, полный ледяного презрения. — Я остро ощущаю потребность в более чистой и здоровой атмосфере. Спокойной ночи, ваше превосходительство. С уходом секретаря сразу исчезло чувство напряжения, царившее в гостиной. Модифорд первым почувствовал невыразимое облегчение. Морган, не теряя ни секунды, принялся вновь подогревать остуженный энтузиазм. — Я предлагаю, чтобы мы, собравшиеся на Ямайке, объединились с Мэнсфилдом на Кубе и вместе напали на Санта-Каталину; испанцы не смогут обороняться против таких сил, не смогут противостоять неожиданной атаке. Запомни мои слова, Том: потеря Олд-Провиденса потрясет донов до самого основания их паршивых душонок. Модифорд задумчиво облокотился на руку, а потом произнес: — Твой план великолепен, Гарри, но ты забыл, что этот остров, Санта-Каталина, лежит в центре земель Испании в Америке, и что их корабли превосходят наши по численности в десять раз, и что поблизости расквартировано Бог знает сколько хорошо обученных солдат. — Я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь знал это лучше, чем я. — Ответ Моргана прозвучал словно выстрел. — Но, Том, вспомни, что у нас есть преимущество неожиданности, лучшего вооружения и храбрых сердец! Мэри Элизабет Морган лежала бледная, с впавшими глазами на огромной кровати. Впервые за последнюю неделю она подавала признаки хоть какого-то воодушевления. Лихорадка отступила, пусть даже временно. улыбка стала шире, когда вошел Дэвид Армитедж с небольшим письменным прибором. — Доброе утро, мадам. — Красивый молодой врач почтительно поклонился. Моргану стоило больших трудов уговорить Армитеджа остаться в роли врача, помощника и шпиона за губернатором. Пока Мэнсфилд и Морган успешно сражались с испанцами на Олд-Провиденсе и в местечке под названием Пуэрто-дель-Принсипе, Армитедж свирепо ругался по поводу не доставшейся ему части добычи — несмотря на то, что ему очень хорошо заплатили, чтобы он остался на Ямайке. Миссис Морган взяла апельсин из деревянной миски у кровати, очистила его и дала кусочек миленькой черно-белой обезьянке, которая была привязана к ножке кровати. — Доброе утро, доктор, мне уже лучше. — С первого взгляда видно, что лихорадка спала, — уверил ее виргинец. — Да, слава Богу, вы были правы, это не холера. А как обстоят дела с холерой в Порт-Ройяле? Загорелое лицо врача потемнело. — Слишком хорошо, мадам. От жуткой желтой лихорадки люди умирают каждую минуту. Почти все корабли вышли в море, а население города бежало в холмы. Армитедж задумчиво потер подбородок. — Никак не могу понять, почему это заболевание так часто бывает в здешних краях. Я собираюсь заняться этим. Должно быть какое-нибудь объяснение. А теперь давайте примем лекарство. — Это обязательно? — поморщилась Мэри Элизабет. — Это жуткая, горькая гадость. — Возможно, — улыбнулся виргинец, размешивая порошок хины в канарском вине. — Я отказываюсь, — жалобно заявила Мэри Элизабет, — глотать эту дрянь, Армитедж пожал плечами и доставил письменные принадлежности. — Тогда я не буду писать ваше письмо. Конечно, она уступила. — Адмирал Мэнсфилд все еще здесь? — Нет. Он поссорился с сэром Томасом и отплыл на Тортугу. — А… а… Гарри все еще занят приготовлениями? — Ее руки с голубоватыми жилками судорожно сжали одеяло. — Да. Ямайка никогда еще не выставляла таких храбрых матросов, но их мало, слишком мало. Гарри полдня проводит в арсенале, а вторую на рынке рабочей силы и у матросских контор. Мэри Элизабет опустила взгляд и поджала губы. — А что он делает по ночам? — Он проводит очень много времени в компании сэра Томаса и членов совета, — вывернулся врач. — Он не ходит в разные притоны? Армитедж знал, что лучше сказать немного правды, чтобы сделать ложь более достоверной. — Иногда, когда ему нужно набрать матросов для своих судов. — Ах да. Конечно. — Мэри Элизабет откинулась на подушки и велела мальчику-рабу быстрее обмахивать веером ее потную шею, плечи и грудь. — Мне хотелось бы, чтобы Гарри навестил меня, -пожаловалась она. — Я боюсь, что он там заразится холерой. — Но, мадам, — напомнил виргинец, — на прошлой неделе он просидел здесь целых три дня и скакал сюда по самой жаре. На самом деле, когда я уезжал из Порт-Ройяла, он строго-настрого приказывал мне расспросить, что вам нужно и что в его власти для вас сделать. — Правда? Он правда спрашивал? — Молодая женщина расцвела. — Скажи ему, что я хочу, чтобы он купил новую плантацию в колонии Сент-Мэри. — И в ее голосе прозвучала такая искренность, что Армитеджу стало жаль ее, — Скажи ему, что я назову эту землю Пенкарн, как его родину. Скажи ему, что там превосходная плодородная земля, которая прекрасно подходит для выращивания сахарного тростника. — Она перевела на врача взгляд пожелтевших от лихорадки глаз. — И еще вы должны мне помочь, доктор Дэвид; уговорите его не покупать больше скота. Эти новые черные коровы, которых хочет ввозить Гарри, не приживутся. Я знаю. На Барбадосе они совершенно не прижились, их там заели мухи, а здесь мухи гораздо злее. — Она продолжила, кивая головой: — Сахар дает самую большую прибыль. Вы будете моим союзником? — Да, конечно, мадам, а как же письмо? — Виргинец придвинул стул, разложил переносной столик и вытащил бумагу. — Я напишу письмо моей сестре Джоанне Арчбольд. — Мэри Элизабет тихо вздохнула. — Подумать только! Шесть месяцев замужем — и уже ждет ребенка. Он почувствовал, как она страдает, и мягко накрыл своей рукой ее руку. Миссис Морган простонала: — Скажите мне ради Бога, неужели нет лекарства, средства, ничего, доступного медицине, что помогло бы мне зачать для Гарри ребенка, которого он так жаждет? Глубоко тронутый, Дэвид Армитедж печально улыбнулся. — Эта сфера, мадам, все еще в руках Божьих. Тем не менее вы не должны терять надежды. У себя дома, в Виргинии, я знавал семью, у которой десять лет не было детей, а потом Господь даровал им троих прекрасных, крепких детей за следующие десять лет. Мэри Элизабет хотела было высказать горькое предположение, что в колонии просто появился новый сосед, но передумала и в сотый раз протерла мокрым полотенцем горящее сухое лицо. — «Моя дорогая Джоанна, — начала она диктовать, откинувшись на подушки. — Хочу сообщить тебе, что благодаря искусству доктора Армитеджа я уже вступила на путь выздоровления. Моя болезнь выражалась в лихорадке и тошноте, но, слава Богу, это не холера, от которой люди желтеют и большей частью умирают». Перо врача тихо поскрипывало по бумаге. Большей частью? Девять из десяти будет ближе к истине. — «Сейчас, дорогая сестрица, ты уже знаешь, как храбро сражался мой Гарри против испанцев в городе на Кубе под названием Порто-Пинсе». — Пуэрто-дель-Принсипе, мадам. Она сделала легкую гримаску. — Надеюсь, что ученый доктор Армитедж, который это записывает, знает, как пишется название этого проклятого места, потому что я не могу его написать. — Да и досточтимый доктор тоже не может! — расхохотался врач. — «Гарри подробно описал мне, как в Святой четверг он повел своих людей, французов и англичан, всего их было около семи сотен, на сушу и в яростной схватке они полностью одолели мэра этого… этого…» — Пуэрто-дель-Принсипе, мадам. — «И матросы моего дорогого Гарри показали себя такими проворными и храбрыми бойцами, что в результате сражения, длившегося почти четыре склянки, их мэр был убит. А неприятель бежал в леса. Как обычно, он приказал запереть местных жителей в церквах, пока самые зажиточные не согласятся внести выкуп». При слове «согласятся» Армитедж хихикнул; вот уж подходящее слово для разбоя и пыток по отношению к местному духовенству и богатым купцам. Рука Мэри Элизабет потянулась к скорлупе кокосового ореха, которую раб немедленно поднес к ее губам, чтобы она могла отпить прохладного молока. — «Исчадья ада, испанцы, собрали против него войска, но Гарри узнал об этом и немедленно перенес всю добычу на корабли в бухте Санта-Мария. Как сказал Гарри, добыча оказалась не такой богатой, как он ожидал, но все же его доли хватит, чтобы заплатить наши долги и купить еще пять сотен акров сахарных плантаций. Гарри щедр, как обычно. Он подарил мне много превосходных шалей, гребней с драгоценными камнями, колец и других безделушек. Я надеюсь, ты уже получила отрез шитой золотом ткани, которую я передала тебе на прошлой неделе? Ходят слухи, что заносчивые испанцы в Мадриде страшно злятся из-за потери вначале Санта-Каталины, а потом другого города на Кубе». — Добыча, мадам, — вмешался Армитедж, — составила почти пять тысяч золотом — такая сумма может расстроить кого угодно, на каждого участника пришлось по семьдесят пять фунтов золотом. Армитедж мог еще добавить, что последнее дело вице-адмирала было далеко не таким удачным, как его описывала миссис Морган. И что еще хуже, зверское и трусливое убийство французского корсара его английским товарищем в Пуэрто-дель-Принсипе привело к печальным последствиям. Он умолчал и о том, что Морган из-за этой ссоры потерял значительную часть своего престижа и ряды его сторонников угрожающе поредели. Именно из-за этого Морган так лихорадочно набирал силы для нового похода. Конечно, новая экспедиция должна непременно стать удачной и принести много денег, иначе ему не удастся сохранить свой высокий пост среди берегового братства. Мэри Элизабет внимательно взглянула на врача. — Дэвид, ты знаешь одного из служащих сэра Томаса по имени Бекфорд? Армитедж кивнул. — Да, и что? — Я слышала, что этот странный человек считает Гарри обыкновенным пиратом и уже написал несколько писем лордам Торговой палаты в Лондон. Сэр Томас считает, что он перехватил все подобные сообщения, но я боюсь, что нет. Гарри должен опасаться этого Бекфорда. Он умен и пользуется влиянием. — Увы, — ответил Армитедж, опуская перо в свинцовую чернильницу. — Почетный секретарь — не единственный враг Гарри. Некоторые из старых корсаров страшно злятся, что вашего мужа выбрали адмиралом после смерти Мэнсфилда на Тортуге. — Мэнсфилд умер? — Она приподняла темную бровь. — Я не слышала об этом, а от чего? — Некоторые говорят, что старик умер от удушья, — ответил врач, — а другие клянутся,что голландца отравили. — И… и это правда? — Может быть. Кто знает? — безмятежно отозвался Армитедж. Вздрогнув и тяжело дыша, Мэри Элизабет продолжила диктовать свое послание: — «Я не имею ни малейшего понятия, что затевает Гарри в следующей экспедиции, потому что уже говорила тебе что он не доверяет никому, кроме сэра Томаса. Дорогая сестричка, я надеюсь, что ты приедешь ко мне, как только у тебя появится маленький. Как я завидую, что у тебя будет свой ребенок! В последнем письме ты спрашивала, как мы поживаем. На самом деле я не знаю, как мы будем жить, если купцы на этом острове так и будут повышать цены. Жадные собаки! Те же мерзавцы, которые вынудили сэра Томаса отозвать каперскую лицензию Гарри на военные действия против папистов, теперь жалуются, что их запасы не пополняются. А сейчас, Джоанна, дорогая, поскольку я уже ослабела от жары, то закончу приветом нашей драгоценной мамочке. Надеюсь, она наслаждается прохладой в вашем поместье и ревматизм ее больше не беспокоит. Твоя любящая сестра Лиззи». Звезды за затянутым сеткой окном без стекол уже померкли, и начали петь птицы в пальмовой листве у стен поместья Данке. А Морган все еще не мог уснуть. Что стало с тигрицей? Он лежал и перебирал в памяти воспоминания, глядя, как по потолку проворно бегали маленькие коричневые ящерицы. Бог мой! Он внезапно понял, как ему недостает присутствия Карлотты, ее веселой, задорной беседы. Ах, тигрица, дорогой маленький тигренок! Ему вспоминались ее причудливые капризы. Сможет ли Карлотта когда-нибудь забыть или оправдать его поступок? За эти четыре года ему не раз приходило в голову, что он был слишком суров, резок и подозрителен. «Дорогая, я пошлю тебе отличный, дорогой подарок. Например, вот этот золотой гребень с бирюзой и бриллиантами». Стараясь не разбудить Мэри Элизабет, он соскользнул с кровати, накинул на плечи халат и босиком направился к себе в кабинет, чтобы написать письмо. «11 июня 1668 года Моя дорогая Карлотта! Мне кажется, что я очень плохо обошелся с тобой в последнюю нашу встречу. Это беспокоит меня, и… мне плохо без тебя. Прошу тебя, прости и забудь мой жестокий поступок. Я надеюсь, что мой обожаемый цветочек примет этот знак раскаяния и при первой же возможности прибудет в Порт-Ройял на острове Ямайка, где ты найдешь готовый для тебя дом — отличную оправу для твоих прелестей. Я прошу тебя не медлить, а если меня не будет, то обратись к моему агенту Джону Стайлсу, и он предоставит тебе все, чего ты заслуживаешь. Пожалуйста, не медли, отправляйся в Порт-Ройял, я мечтаю заключить тебя в свои объятия. Обожающий тебя Генри Морган». Он только что поставил свою подпись, как легкий шум заставил его обернуться. Улыбаясь неуверенной сонной улыбкой, Мэри Элизабет стояла на пороге, а с момента постройки поместья Данке он строго-настрого запретил кому бы то ни было заходить в его кабинет без разрешения. Но Лиззи бросилась к нему с такой нежной улыбкой, что он не сумел упрекнуть ее. — Дорогой муж, — вздохнула она, — Я с трудом могу поверить тому ужасному факту, что завтра ты отплываешь и можешь никогда не вернуться ко мне. Он поцеловал ее брови, погладил заплетенные в косы каштановые волосы. — Ну и глупая гусыня! Конечно, я вернусь, можешь не сомневаться. — Так всегда говорят женам, — заметила она, склоняясь к нему на грудь. — А все-таки в мире очень много вдов. — Чепуха! Другие могут позволить убить себя, — он рассмеялся, — но не Гарри Морган. При свете начинавшегося дня он заметил у нее на щеках следы слез. — Что тебя тревожит? Отчего эти слезы? — Да, это слезы, Гарри, но слезы счастья. Обними меня и держи крепко. Пожалуйста, мой дорогой, пожалуйста. У меня… у меня есть большая и радостная новость для тебя и для меня. Когда его голова склонилась к ее каштановой головке, он неожиданно мягко спросил ее: — И что это за новость, мой ангел? — Гарри, тебе обязательно надо уехать? — Да. Я скоро стану банкротом. Кроме того, разве я не адмирал берегового братства? — Тогда, мой муж, гордись и будь счастлив узнать, что, когда ты вернешься, я буду носить ребенка — или желанный наследник уже родится. — Это правда? — В неописуемой радости он сжал ее в объятиях, а потом пристально взглянул на нее. — О Лиззи, Лиззи, ты меня не обманываешь? — Нет, я говорю правду. — Она говорила так тихо, что ему приходилось прислушиваться. — Прошло почти двадцать восемь дней, и я… ну, одна умная женщина, с которой я посоветовалась, говорит, что так и надо и я жду ребенка. Морган подпрыгнул, словно маленький мальчик, хлопнул в ладоши и расплылся в широкой улыбке. Потом он снова нежно обнял ее. — Лиззи, моя дорогая Лиззи, но… но это все меняет. Теперь я точно должен осуществить все свои планы. Да, мой палаш завоюет княжество, нет, империю для нашего сына. Обещай мне, что это будет сын! Мэри Элизабет тихо рассмеялась. — Если я что-то могу для этого сделать, то у тебя будет сын! О Гарри, я так счастлива. Не думай, что я не замечала твоего огорчения и невысказанных упреков. Жуткое сомнение, которое пять лет преследовало Моргана, исчезло без следа. Морган страстно поцеловал жену, а потом еще и еще раз. — Да. Пойди надень новую наволочку на мою подушку, а я сейчас приду к тебе. Он задержался в кабинете только для того, чтобы разорвать недавно написанное письмо на мелкие клочки.Глава 16 АДМИРАЛЬСКИЙ СОВЕТ
С высокого капитанского мостика «Дельфина», фрегата, оснащенного двенадцатью бомбарделями — очень маленькими пушками — и с командой в семьдесят один человек, капитан Джереми Дент мрачно наблюдал за приближением ряда конических серо-зеленых гор — типичный пейзаж для Панамского перешейка. По подсчетам мрачного корсара, прямо по борту должна лежать крохотная деревушка Пуэрто-де-Наос в панамской провинции под названием Кастильо-дель-Оро. Рядом с ним веселый, вежливый и обаятельный врач из Виргинии Дэвид Армитедж стоял, покачиваясь в такт движению фрегата. Денту он нравился, хотя он терпеть не мог его чисто детскую тягу к знаниям. Перед «Дельфином» плыли всего два судна — адмирала и капитана Ахилла Трибитора, одного из важнейших капитанов среди французского братства. В кильватере «Дельфина» шли еще пять судов. — Ну, вон там лежит Тьерра Фирме, — буркнул Дент и широко взмахнул рукой. — Красиво на вид, но не могу пересказать, сколько там гордости, жестокости, ненависти и крови! Впервые я приплыл сюда, друг Дэвид, девять или десять лет назад. Армитедж заметил, что Дент, похоже, все больше обращался к себе самому. — Да, сэр, я приплыл сюда с капитаном Самсоном на «Головешке». Недалеко от этого места чертова береговая охрана из Порто-Бельо захватила нас, меня и семерых других англичан. — А где они теперь? — Думаю, что они все мертвы. Им вытянули суставы на дыбе святой инквизиции, или напоили расплавленным свинцом, или зажарили живьем в каменных печах. Мне повезло. Скрюченная рука Дента медленно оперлась о поручень. — Почти в двухстах лигах к югу отсюда лежит Порто-Бельо — один из богатейших городов во всем вице-королевстве Лима. — Ты считаешь, что это цель нашего адмирала? Дент изумленно взглянул на него. — Нет, клянусь хвостом сатаны! Гарри никогда не взбредет в голову атаковать такую большую крепость такими маленькими силами. После Гаваны и Картахены это один из самых мощных городов у испанского короля. Стайка темно-коричневых пичужек выпорхнула из-за рифов, чтобы заняться ловлей сардин. — А что из себя представляет Порто-Бельо? — Вообще-то это место не зря так назвали, потому что это действительно красивый порт. Если я правильно помню, гавань там почти две мили в длину и полмили в ширину. Город лежит в кольце гор, он открыт только с моря. Из Порто-Бельо через перешеек ведет Камино Реал, или Королевская дорога, к знаменитой Панаме на Южном море, так они называют Тихий океан. А Атлантический называется Северным морем. — В любом случае именно по этой залитой кровью дороге бедняги индейцы, черные и белые рабы, а также нагруженные поклажей ослы перевозят для донов сокровища из Перу и других стран к югу оттуда. Дент прервал свой рассказ, чтобы отдать распоряжение квартирмейстеру, разбойного вида малому по имени Замбо, потому что «Золотое будущее», флагман, неожиданно изменил курс, и этот маневр вскоре повторила «Галлиандена» Трибитора. Под аккомпанемент скрипа тросов, хлопанья парусов и визга поворачиваемого руля маленький фрегат Дента накренился и лег на новый курс, этот маневр успешно повторили вначале «Святая Катарина» под командованием Гасконца, затем «Падший ангел» Барта Харрингтона, «Фортуна» капитана Рикса и небольшое посыльное судно, которым командовал капитан Сенолв, свирепый бандит с венесуэльского побережья. Последним плыл «Летящий дьявол» капитана Пьера Ганто, его шесть маленьких кулеврин выглядели весьма неубедительно. В знак того, что каперская лицензия была выдана британским правительством, на мачтах всех девяти кораблей развевались бело-голубые с красным английские флаги. Дент сплюнул прямо на грубо выкрашенный в синий и оранжевый цвета поручень. — Думаю, что Гарри собирается застрять тут на целый день. Он часто так делает на вражеском берегу. — Откуда ты знаешь? — Потому что там, лежит устье реки Гуанча. Мне кажется, мы скоро услышим, где нанесем удар. Он наклонил голову, взглянул на паруса и хмыкнул. — Странно плыть под английским флагом. Кажется, что этот корабль теперь моя собственность, хотя я и родился в Англии, как и весь этот сброд в команде. Армитедж спросил, не отрывая глаз от живописных зелено-голубых очертаний линии побережья, которую уже было хорошо видно: — Конечно, это частное судно, и мы же плывем с британской каперской лицензией, но кроме того, ты член конфедерации, значит, твой корабль пиратский? — Да. Потому что Ганто, Трибитор, Сенолв и остальные не англичане. У них могут быть английские лицензии, но они все равно будут считаться пиратами. Полуденное солнце уже окрасило все вокруг в более яркие тона, отчего грязные коричневые, желтые и белые паруса маленького флота Генри Моргана засверкали, словно позолоченные. Что касается адмирала, то он стоял, нахмурившись, и смотрел, как принесенная рекой мутная вода плещется у бортов корабля. Его не покидало гнетущее чувство, впервые сжавшее его сердце, когда «Летящий дьявол», самый быстрый корабль в его эскадре, не смог догнать маленькое посыльное судно, которое умчалось на юг и, без сомнения, разнесло по всему побережью тревожную весть, что лютеране снова вышли в море. Черт! К тому же он предвидел большие трудности, которые ему предстоят, когда он попытается вдохновить на дело эту разноязычную команду, на две трети французскую, на треть английскую и голландскую. В результате не оправдавшей себя атаки на Пуэрто-дель-Принсипе он смог убедить лишь немногих английских флибустьеров присоединиться к нему. Добсон, Дэвис и даже два Морриса послали его куда подальше. Еще меньше его радовала необходимость включить в состав своего флота Ганса Сенолва; голландец славился своими зверствами, которым мог бы позавидовать сам Олоннэ. Генри Морган поправил соломенную шляпу с широкими полями и обернулся, чтобы подробно рассмотреть берег, который постепенно надвигался на тихо плывущие суда. Разнообразные пальмы росли на нем поодиночке и группками, они сверкали словно изумрудные фонтаны среди камней вулканического происхождения. Такие же камни выглядывали из мягких прибрежных волн. С глубоким восхищением Энох Джекмен наблюдал, как барк его адмирала лавирует между двойной цепью рифов в устье Гуанчи, так спокойно, словно огибает мыс Галлоуз в Порт-Ройяле. Уменьшив количество парусов, «Золотое будущее» на мгновение исчез в темно-зеленых зарослях, а потом смело вошел в Лимонную бухту, где над его мачтами с криками взмыли голуби и чайки. Один за другим пиратские суда проходили рифы и успешно бросали якорь в мутно-коричневых речных водах. Вскоре все суда стояли на якоре или, как посыльное судно, сели на днище. Генри Морган уже давно понял, что полезно сокращать число офицеров, участвующих в военном совете, до минимума. Но сейчас собралось почти пятнадцать человек, свирепых, покрытых шрамами капитанов. Загорелые, полуодетые и потрепанные после двух недель, проведенных в море, капитаны последовали за Морганом на песчаную косу, которая выдавалась в протоку Гуанчи; там можно было довольно сносно устроиться на прохладных плоских камнях. — Интересно, — размышлял он, механически проверяя затворы отделанных серебром абордажных пистолетов, — как мои французские друзья отнесутся к проекту захвата Порто-Бельо? Хорошо бы также знать, испанский флот из Санта-Каталины направился к Кастильо-дель-Оро или продолжает спускаться вниз к побережью Картахены. Вид его капитанов не внушал ему особой радости. Джекмен все еще командовал старым, хотя и крепким «Вольным даром», и на него, конечно, можно было положиться, как и на Рикса. Сколько лет прошло с тех пор, как он, Рикс, Добсон и Дабронс вели сражение на улицах Сантьяго на Эспаньоле? На Харрингтона, наверное, тоже можно рассчитывать, но, проклятье, его посудина так мала и людей немного, поэтому его нельзя будет как следует нагрузить. Морган давно уже решил, что все будет зависеть от мнения Ахилла Трибитора, сорвиголовы и храброго бойца. Но Трибитора придется убедить, а Ганто и Гасконец присоединятся к нему. Сенолва, скорее всего, тоже нелегко будет уговорить. Обнаженные до пояса и босые капитаны поудобнее разложили свое оружие и вытащили трубки или сигары. Морган уселся на самый высокий камень и оттуда ухмыльнулся своим товарищам. — Ну, братья, мне кажется, вы уже давно готовы выслушать, что я задумал? Трибитор смачно плюнул себе под ноги. — Надеюсь, mon ami, что в твоем плане предусмотрена богатая добыча ценой небольших усилий. — А кто же на это не надеется? — ответил ему Морган и почувствовал, как у него забилось сердце. — Ну, тогда, — Харрингтон, огромный и начинавший уже жиреть, свирепо скосил глаза к красному носу, — куда мы отправимся? Номбре-де-Дьос? Морган в изумлении уставился на него. — Бог с тобой, Харрингтон! Да этот порт уже много лет разрушен. Сейчас в Номбре-де-Дьосе ничего нет, кроме пеликанов, ящериц и чаек. Нет! Я думаю об одном из богатейших городов в испанских колониях! Город, который благодаря тому, что я умею держать рот на замке, ничего не подозревает. Рикс вскочил на ноги, налитые кровью глаза у него округлились. — Ты ведь не имеешь в виду Порто-Бельо? Гасконец громко выругался. — Порто-Бельо? Никогда! Я дорожу своим кораблем, своими людьми, а больше всего — своей шкурой. Морган почувствовал, что настал критический момент. Освещенный мерцающим светом костра, он потряс кулаком. — Слушайте, и пусть лопнут ваши подлые глаза! Слушайте! — проревел он. — Я говорю вам, что Порто-Бельо — это жирный, ленивый и ничего не подозревающий куш! Мы все по горло сыты тем, что нам достаются лишь крохи с испанского пирога! Я обещаю вам, что в Порто-Бельо вы найдете золота столько, что мы все сможем стать принцами. Что скажешь, Дент? Я вру? Ты был там в плену. Давай! Расскажи этим парням о караванах с сокровищами, которые привозят в Порто-Бельо крупный жемчуг, изумруды, бриллианты, серебро и золото! И Дент рассказал. Несмотря на свои тяжелые воспоминания, он описывал картины огромных складов у берега залива, в которых офицеры испанского короля собирали для своего повелителя дань со всего обширного вице-королевства Перу, вице-королевства, которое охватывало всю Испанскую Южную Америку. Полысевший пират подробно описал семь церквей города, его монастыри и обители, засыпанные пожертвованиями от богатых благочестивых семей и ломящиеся от веса золотых украшений. В Порто-Бельо, заверил Дент своих все более внимательных слушателей, испанская церковь и государство были представлены на самом высоком уровне. Богатые купцы жили там почти в восточной роскоши, их дворцы были битком набиты всевозможными богатствами. С надеждой Морган смотрел, как постепенно меняется выражение злобных лиц его слушателей, но этого было недостаточно. Время от времени они облизывали губы, словно коты, собравшиеся у тележки разносчика рыбы. Они уже почти согласились, когда Гасконец вскочил на ноги. — Тупицы! Безмозглое зверье! Неужели вы позволите адмиралу и этому вруну Денту заманить вас в ловушку, откуда уже не будет спасения? Послушайте меня! Морган вскочил и тоже начал орать. Он перекричал Гасконца. Матросы высовывали головы и ухмылялись. — Клянусь Богом! Старина Гарри задаст им жару! — Вы знаете, о чем Хочет рассказать вам этот робкий выходец из школы для юных леди? Я знаю! Он хочет предупредить вас, что Порто-Бельо охраняют пять сильных укреплений… — Пять? — переспросил Харрингтон. — Боже милосердный, да ты шутишь. — Да, их пять, но опасаться стоит только двух — возможно, только одного, — если вы абсолютно точно выполните мой приказания. — С высоты камня Морган переводил взгляд быстрых черных глаз с одного лица на другое. — Ну, Гарри, — вмешался Джекмен, — расскажи, что ты задумал. Я хочу тебя послушать — ты очень редко ошибаешься. — Я хочу атаковать город с тыла и тем самым вывести из борьбы укрепления на входе в гавань. А теперь слушайте, — как опытный оратор, он понизил голос, — слушайте, вы все Я считаю, что мы должны спуститься по Эстера Лонга Лимос, высадить наши силы в пяти милях к северу от Порто-Бельо и окружить город с тыла. Поскольку большая часть батарей обращена в сторону моря, а доны не подозревают о нашем присутствии, мы займем город быстрее, чем они глаза протрут со сна! — Но, именем неба! — рявкнул Гасконец. — Испанцами командует сам Кастельон — лучший и самый храбрый из их генералов! — Кастельон занимает пост вице-губернатора провинции Кастильо-дель-Оро и пост алькальда в Порто-Бельо, -ответил Морган. — Но не он командует гарнизоном. — Откуда ты знаешь? — спросил пораженный Рикс. — На борту «Золотого будущего» у меня есть подробная карта не только города, но и всех фортов и каждой батареи. Хотите знать, каковы силы гарнизона в форте Сан-Иеронимо? Количество и калибр пушек в форте Сан-Фернандо? Я могу сказать. Трибитор потряс головой, сейчас черты лица его расплылись, но когда-то он был очень красив. — Не сомневаюсь, что ты можешь, но это все было до того, как прибыли суда из Испании. На мгновение наступила тишина. Все присутствующие словно воочию увидели флот из Севильи, который величественно проследовал мимо, пока они прятались чуть ниже Санта-Каталины. — Этого флота не будет в Порто-Бельо. Он направился в Картахену. — Морган был совершенно не уверен в своих словах, но никто не должен догадаться об этом. — Почему ты это утверждаешь? — поинтересовался Ганто. — Флот всегда вначале направляется в Картахену. -Адмирал ненавязчиво вернулся к теме их разговора! -Подумайте об этом! Меньше чем в пятнадцати лигах от нас лежит чудесный безмятежный город, до отказа набитый сокровищами. Идите за мной, и я обещаю, что через день у ваших ног будет огромное богатство и самые прекрасные женщины на Тьерра Фирме! Капитаны в восторге схватились за палаши и пистолеты. — Я говорю вам, что благородные священники и купцы живут там, словно сатрапы в древней Ассирии. Сокровища в их церквах накапливались почти полтора века. -Он попробовал еще один довод: — И вы сможете отомстить. Ты помнишь, что они с тобой сделали, Джереми Дент? — Я скорее забуду, как меня зовут. Смотри. — Он взмахнул перед его носом изуродованной рукой. — Смотрите, если вы забыли, что эти проклятые монахи сделали со мной и нашими братьями! Я голосую за атаку на Порто-Бельо! — Порто-Бельо можно взять! — завопил Джекмен. — Если Дрейк сделал это, то можем и мы! Веди нас, Гарри, смерть папистским собакам! Голландец Сенолв поднялся на короткие, кривые ноги и впервые подал голос: — Да! Я тоже за то, чтобы взять приступом этот город, но… — Он остановил на Моргане блеклые, жестокие голубые глаза. — Я слышал, адмирал, что ты обходишься с захваченными городами не так, как положено. Ты отпускаешь слишком много людей без выкупа. Тех, кто не платит выкуп, надо убивать или продавать в рабство. — Сенолв быстро взглянул на Гасконца. — Что ты скажешь? Француз взмахнул волосатыми ручищами. — Слишком долго мы не говорили об этом. Короче, Гарри, мы слишком долго терпели твои методы и твою милость по отношению к врагам. — Это не доброта, — резко поправил его Морган, — а практичность. Какой смысл убивать, если нельзя получить денег. Я никогда не приказывал зря убивать или мучить людей и никогда не отдам такого приказания. — Прости, что я оскорбил твою нежную и возвышенную душу. — Гасконец впал в иронический тон. — Но если мои мерзавцы будут драться не на жизнь, а на смерть, то они должны знать, что потом смогут поразвлечься. Понятно? — Он взглянул Моргану прямо в глаза. Сенолв, Дент и Ганто завопили в знак согласия. — Если мы не сможем делать в городе, что хотим, атаки не будет. — Обещай нам, Гарри, — вставил Рикс, — и мы пойдем за тобой, куда захочешь. Настал момент, которого он ждал и боялся. Если бы у него было больше сторонников!.. Но ему придется уступить. Он не мог сейчас отказаться от своего грандиозного плана, особенно после неудачи в Пуэрто-дель-Принсипе. Никогда еще ему не была так нужна победа. — Итак? — настаивал Ганто. — Я получу карт-бланш в Порто-Бельо или я могу отправляться восвояси? — Хорошо, когда город будет взят, команды смогут разграбить город, но только при одном условии. — Он повысил голос: — Вы и они обязаны выполнять мои приказания, не важно, нравятся они вам или нет. И какие бы искушения вам ни попадались на пути, до тех пор, пока я не объявлю, что город очищен от неприятеля, и не дам сигнал, вы сражаетесь. Так, и только так.Глава 17 САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-ГЛОРИЯ
В три утра в июне стояла прохлада и совершенно не было ветра. Даже попугаи еще не проснулись, а пироги уже вошли в русло реки и принялись лавировать между камнями на пути вверх по течению. Доктор Армитедж слышал тихий шепот, проклятья вполголоса или молитвы, над которыми в этот раз никто не смеялся. Армитедж вздрогнул при виде черных башен, грозных и таинственные которые постепенно надвигались на тяжело нагруженные лодки. Итак, сейчас он и еще четыреста недисциплинированных бандитов попытаются осуществить такое предприятие, на успех которого у них было очень мало шансов. В передней пироге позади Генри Моргана корчился Джереми Дент. Он весь дрожал от нетерпения снова оказаться в городе, где его однажды подвергли допросу. Все удивлялись, глядя на адмирала, который с ледяным спокойствием сидел впереди и, казалось, все подмечал вокруг. Морган был затянут в широкий кожаный пояс, на котором висел палаш и три пистолета. Вместо шляпы на нем красовался его любимый зелено-желтый шелковый платок, повязанный словно тюрбан. Джереми Дент обернулся и пробормотал: — Вот это место! Пирога тут же свернула к берегу, и в утреннем рассеянном свете пираты высадились на песок. Перевернув пирогу вверх дном, они вытащили ее на берег. Моргана, чьи нервы были натянуты как струна, порадовало, что капитан Дент так точно определил место и ни секунды не сомневался, давая им указания, куда идти. — Ладно, Гарри, я пойду вперед со своим отрядом, -сказал Дент. — А вам надо идти по следам скота, и вы придете прямо к стенам Сан-Иеронимо. — Мы будем ждать на опушке, — сообщил ему Морган. — Не разбуди гарнизон и, ради Бога, скорее раздобудь мне пленного — и тихо! Двое мужчин с трудом могли разглядеть друг друга. — Я приведу тебе пленного. С того момента, как я был в Порто-Бельо, прошло много лет, и я не хочу снова оказаться в местной тюрьме. Вскоре раздались крики попугаев, певчие птицы запели, и стайка испуганных обезьян с громкими воплями перепрыгнула по веткам над головами пиратов, обдав их холодным душем росы. Где-то завизжали подравшиеся шакалы. Испугавшись того, что топот босых ног по грязи слышен слишком громко, Морган велел своему авангарду остановиться. Взобравшись на огромную лиственницу, он смог одним взглядом охватить всю свою армию, которая затаилась в лесу. «Итак, я привел их сюда, — подумал Морган. — Если мне повезет, то через час Порто-Бельо будет моим. Может быть, мой сын будет когда-нибудь руководить им. Но так или иначе, над городом будет развеваться английский флаг». Он подумал о Лиззи и о том, что она не имеет ни малейшего понятия о его походах. Неожиданно он пожалел, что с ним нет Карлотты, чтобы стать свидетельницей его лихой атаки. Только такое похождение могло поразить до глубины души это взбалмошное создание. — Пошли ко мне Кэтфута, — прошептал Морган заросшему бородой Харрингтону, который в полутьме выглядел действительно устрашающе. Раздалось тихое потрескивание веток, и вернулся Джереми Дент со своим отрядом. Они вели испанского солдата. По его кожаной куртке, красной рубашке с длинными рукавами и красно-желтым штанам Морган узнал в нем гарнизонного рядового. Морган удовлетворенно сказал Кэтфуту: — Швырни его на землю и приставь палаш к глазам. Предупреди его, что если он будет врать, то слепота будет только первой из тех пыток, которые его ждут. На вопросы Кэтфута пленник отвечал с резким арагонским акцентом, в то же время тщетно стараясь увернуться от угрожающего ему кончика кинжала. Он поклялся, что говорит правду. — Подними собаку на ноги, — скомандовал адмирал. — Мне нужен пароль и опознавательный знак гарнизона. — Морган обнажил палаш и приставил его к горлу солдата. — Скажи ему, что я перережу ему глотку, если он промедлит с ответом. Уже стало светло, когда силы Моргана начали тихо пробираться сквозь заросли мокрого маиса, растущего вокруг форта Сан-Иеронимо. В этом все еще неверном свете перед пиратами появилась высокая башня с амбразурами и флагштоком. Чуть пониже ее заканчивались восьмифутовые красноватые стены, на которых обосновались дозорные и пушечные вышки. В городе за стенами блеяли козы, кудахтали куры и раздался громкий крик осла, когда Морган вместе с небритыми, грязными пиратами одолел последний кукурузный луг и благополучно добрался до задних ворот. Дент утверждал, что в мирное время эти ворота часто остаются открытыми. Проклятье! Они были заперты. В этом не оставалось ни малейшего сомнения. Он почувствовал, как невидимая рука сжимает его горло. Прямо над воротами виднелся блестящий шлем часового. — Привести сюда пленного, — прошептал он. Морган вцепился в длинные волосы солдата и на вполне понятном испанском прошипел: — Говори. Крикни часовому открыть ворота. Скажи ему, что лютеране окружили форт и что гарнизон спасет свои жизни, только если немедленно сдастся. В противном случае мы всех их перережем! Пленник кивнул, выкатив глаза, но при этом был настолько напуган, что вместо голоса из его горла вылетали только бессвязные хриплые звуки. Однако под угрозой палаша Моргана он обрел голос: — Ole arriba! *["412] Это я, Мануэло из Кордовы! Беги к капитану и проси его, ради Бога, спасать свою шкуру и сдаться. Вокруг Сан-Иеронимо полно лютеран. Казалось, прошла вечность, пока корсары, сжимая оружие и затаившись в маисовом поле, ждали ответа. Они его получили в виде ружейного выстрела. Пуля просвистела в нескольких футах от того места, где, тяжело дыша, сгрудились корсары. Морган больше ни секунды не медлил. — Вперед, дьяволы! На них! На них! Подняв жуткий крик, пираты выскочили из укрытия и, размахивая палашами и саблями, со всех ног бросились к высоким стенам. Тра-та-та! Тра-та-та! — тревожно запела было труба, но раздалось всего несколько выстрелов, а люди Моргана уже карабкались друг другу на спину и лезли на стену. Цепляясь за края амбразур, они переваливались через парапет и, визжа, словно шакалы, бросались к никем не охраняемым пушкам. Морган сам возглавил тот отряд, который захватил ворота, отпер и распахнул их. Теперь появилось несколько растерянных пехотинцев, они бежали по плацу, насмерть перепуганные и полуодетые. Группа артиллеристов попыталась отбить пушки на верхней площадке, но лавина вооруженных флибустьеров отбросила их назад к дверям бараков, где корсары в кровожадной резне крушили все на своем пути. — Что мы будем делать с пленными? — спросил подбежавший Харрингтон, отирая кровь с порезанного подбородка. — Заприте этих свиней в пороховом погребе, — отрезал Морган. — Быстро! Мы только начали. Сражение за Сан-Иеронимо оказалось коротким и кровавым. Прошло всего лишь десять минут после того, как часовой дал свой первый выстрел, а форт уже был захвачен и больше не мог защищать город. На церковных колокольнях поднялся отчаянный трезвон, повсюду раздавались тревожные крики и выстрелы. Ахилл Трибитор улыбнулся дьявольской улыбкой и, поигрывая мускулами, повел свой отряд наперерез тем из солдат, кто пытался добраться до города. — Пока все идет отлично, — крикнул Морган. — А теперь по местам! Один за другим Ла-Глория, Сан-Фернандо, Сан-Фелипе и несколько других фортов и батарей начинали подавать сигналы тревоги. Несколько военных кораблей, стоявших на якоре в гавани, своей пальбой еще усилили жуткий шум и панику. Дэвид Армитедж просто не мог поверить в то, что первый удар Моргана оказался таким успешным. Боже Всевышний! Окинув всех беглым взглядом, он заметил, что ни один пират не был убит и только трое ранено. — Ну, Гарри, что ты собираешься делать с пленными? — спросил Джекмен, вытирая с лица пороховую пыль. — Сколько их? — Почти сто семьдесят пять человек. — Слишком много, мы не можем оставить их в живых! Морган схватил факел, который дымился на каменном парапете, и прошел в пороховой склад: грозная, освещенная огнем фигура, с факелом в одной руке и поблескивающим палашом в другой. При виде его перепуганные пленные отступили, прячась за бочонками и ящиками. — Тащите этих скотов наверх. Убейте их, если надо, но вытащите их наверх! Когда пороховой склад был очищен, адмирал, обливаясь потом, повернулся к боцману: — Смит, возьми вон тот кувшин с порохом и проложи пороховую дорожку до двери, и, клянусь Богом, сейчас мы отправим этих испанских собак в рай! Сенолв, это в твоем вкусе, так что можешь сам докончить дело. Вот. — Он протянул ему факел. Из окон помещения, расположенного прямо над пороховым складом, доносились жалобные вопли о пощаде: — Ради Бога! Сеньор полковник! Пришлите нам священника — наши раненые умирают! Капитан Сенолв поджег конец пороховой дорожки, развернулся и быстро бросился к своим людям. Весь Порто-Бельо, от фортов, охраняющих вход в гавань, до маленьких батарей на окраине города, содрогнулся, словно при землетрясении. Сторожевая башня форта Ла-Глория, колокольни церквей Сан-Хуан-де-Дьос, Ла-Мерседес и других на мгновение оказались залиты ярким светом от взрыва Сан-Иеронимо. Можно было до последнего гвоздика разглядеть стоявшие на якоре галионы и каракки. Потом раздался грохот, более оглушительный, чем все, что когда-либо удавалось слышать присутствующим, и в воздух поднялся пылающий фонтан из обломков деревянных и каменных построек, тел и развалившихся на части пушек. — Это Апокалипсис! Горе нам! — В отчаянии обезумевшие и всхлипывающие жители метались по городу, сталкиваясь с монахами и священниками, которые выкрикивали проклятья неверным лютеранам. Некоторое время после взрыва пираты, городские жители и солдаты оставались без движения. Адмирал пришел в себя первый. — Отрежьте им путь к отступлению! — крикнул Морган. — Захватите церкви! Он повел свой отряд по направлению к таможне, которую давно уже решил сделать своим командным постом и оттуда руководить атакой. Джекмену, самому лояльному из всех капитанов, была предоставлена трудная задача перекрыть все выходы из города, особенно на дорогу Камино Реал, великий путь, ведущий по всему перешейку к Панаме. Возбужденные ветераны Джекмена пронеслись по пустынным улицам с пистолетами и палашами в руках, подчиняясь кратким приказам уроженца Новой Англии. — Убирайтесь с дороги, образины! Бегите обратно в кровать, шлюхи! Мы вас не тронем, по крайней мере сейчас! С помощью ударов плоской поверхностью палашей и тупых концов пик они медленно гнали перед собой все увеличивающуюся толпу визжащих от страха, обезумевших горожан. Широкое лицо ирландца Шона исказило злобное выражение, когда навстречу ему из переулка выбежала девочка лет шестнадцати в одной развевающейся ночной рубашке. Длинные волосы растрепались на ветру. — Клянусь бородой святого Патрика, курочка, ты слишком быстро бежишь мимо молодого петушка! — Он схватил испуганную девчонку за волосы и сбил ее с ног. С хохотом Шон сорвал ее рубашку и поцеловал, а потом пинком отправил в прежнем направлении. «Морган прав, — сказал себе Джекмен. — Нет ничего лучше, чем напугать проклятых папистов до полусмерти в самом начале». Линия оцепления протянулась от пылающих руин Сан-Иеронимо до гавани вдоль поросших травой и кустами холмов на окраинах города. Все больше горожан металось вокруг в страхе, а солдаты, знавшие, что их ждет, пытались убежать. Некоторые погибли от пистолетного выстрела между глаз, другие же выли и уворачивались от выстрелов и крепких клинков матросов Джекмена и оборванных французов Трибитора. Незаметно настало утро, но небо было затянуто клубами серого дыма, поднимавшегося над руинами форта Сан-Иеронимо. Все шло как задумано. В наполовину захваченном порту раздавались только вопли ужаса и открывались жуткие для глаза картины. Как и предполагал Морган, Ахилл Трибитор сохранял полное спокойствие и холодно отдавал приказания своим почти обезумевшим матросам тащить любого монаха, монашку и других духовных лиц в огромную церковь Ла-Мерседес. Для отчаявшихся жителей Порто-Бельо это было страшное зрелище — видеть, как монахинь, многих из которых они знали с детства, тащили по улицам, а те прикрывали головы руками. Обезумев от ужаса, шатаясь и извиваясь, эти женщины уворачивались от уколов пиками «Не самое приятное зрелище», — подумал Дэвид Армитедж. — Ну конечно, досточтимый отец. Адмирал не тронет вас, — смеялся Трибитор. — Редко случается, что столько благочестивых лиц собирается под одной крышей. Как только двери церкви Ла-Мерседес захлопнулись за последним монахом, ничто, даже угроза пистолетов Ахилла Трибитора, уже не могло удержать его людей от необузданного грабежа, к которому присоединились все корсары, кроме команд Моргана и Джекмена. На всех улицах валялись неловко распростертые тела. Вопли перепуганных детей, предсмертные крики мужчин и пронзительные вопли женщин, молящих о пощаде, раздавались повсюду. Кэтфут, мчавшийся по переулку со злобным выражением на лице, заметил в окне второго этажа винного магазина молодую женщину. С помощью пары голландцев он выбил дверь и ворвался в пахнущую вином полутьму. — Клянусь Богом! Это здесь! — Кэтфут сбил с петель легкую дверь. Стряхнув посыпавшиеся щепки, он ввалился в белоснежную спальню. Метис хихикнул. Там стояла та молодая женщина, которую он видел с улицы, отчаянно прижимая к себе двоих всхлипывающих, полураздетых и растрепанных девочек-подростков. — Уходите! Оставьте нас! — выдохнула она, тяжело дыша, и отступила к стене, в ее глазах стоял ужас. — Черт! Нам повезло, ребята! Здесь по киске на брата! С ужасным смехом Кэтфут бросился вперед, вцепился женщине в волосы и оттащил ее к окну. В мозгу Кэтфута пронеслось видение его сестры, там, в Бахии, которая боролась с пьяным испанским солдатом. — Ты. Подойди сюда. — Он ткнул пальцем в девочку. Генри Морган, ругаясь словно полоумный, пытался, но не мог уследить за растущим беспорядком. — Еще нужно взять Ла-Глорию, пьяные свиньи! Вы что, хотите попасть на виселицу? — Да ладно тебе, Гарри! Город наш, — отвечали ему. — Ваш? Да здесь еще четыре форта, и в каждом полно солдат! Грабеж, пьянство и насилие продолжались, хотя адмирал с помощью отряда матросов с пиками и пистолетами пытался вернуть корсаров к исполнению своих обязанностей. Выходя из себя от ярости и тревоги, Морган пристрелил двоих своих людей, которые хлестали виски в переулке. Вопя, он бросился на других с обнаженным палашом: — По местам! Дьявол вас побери, мы еще не захватили город! Назад к делу, дворняги! Но генерал Кастельон, алькальд Порто-Бельо и комендант форта Ла-Глория, сумел сделать то, чего не удалось добиться рассерженному Моргану. Поскольку город его католического величества Порто-Бельо сейчас полностью был захвачен лютеранами, то генерал Кастельон потер подбородок, а потом повернулся к отряду артиллеристов, которые с посеревшими лицами и наполовину раздетые выстроились около своих пушек. — Огонь по городу! — Как? — Бородатый лейтенант, не веря своим глазам, уставился на начальника. — Вы сказали, стрелять по Порто-Бельо, генерал? — Да, клянусь кровью Христовой! Выполняйте приказ. Откройте огонь по городу и убейте этих проклятых английских демонов! Дон Ипполито де Кастельон, высокий и все еще видный для своих пятидесяти лет, прикинул, насколько далеко достанут ядра маленькой батареи. С развевающейся седой бородой он переходил от пушки к пушке с обнаженным мечом в руках. Начав регулярный обстрел, батарея сразу же выпалила по своим и чужим зарядом картечи и шестью восьмифунтовыми ядрами. Батарея была расположена так, что в пределах ее досягаемости оказались Плаца Майор *["413] и широкая центральная улица, мгновенно превратившиеся в бойню. Улицы оказались усыпаны телами убитых горожан и пиратов. Если бы генерал Кастильон задержался с обстрелом на полчаса, то корсары были бы уже так пьяны, что его героическая мера оказала бы быстрое действие. Но сейчас ошеломленные бандиты оставили грабеж и бросились в укрытие. Вначале шагом, а потом бегом флибустьеры мчались по улицам и остановились только на краю маисового поля, где дисциплинированный отряд Джекмена все еще блокировал дорогу Камино Реал. Морган, который тоже умчался из города, встретил их бранью и предсказанием полного разгрома. — Собери своих безмозглых мартышек, — рычал он на Сенолва. — Рикс! Ганто! Димангл! Стройте своих oболтусов. Проклятье, Харрингтон, ты что, хочешь сдохнуть здесь? Ставь свою команду слева от меня! Вне пределов досягаемости пушек Ла-Глории, пираты торопливо перестроились. Сосредоточенные, злые и более чем обескураженные своими потерями, они бросали тревожные взгляды на внушительную фигуру адмирала в пороховой гари. Доктор Армитедж, которому помогал голландский врач по имени Эксквемелин — он приплыл на корабле Гасконца, — трудился изо всех сил, его руки были по плечи в крови. Он облегчал страдания стонущих, истекающих кровью, страшно изуродованных пиратов. Один за другим раненых клали на кухонный стол, быстро осматривали их, накладывали швы или прибегали к услугам хирургической пилы. Раздавались жуткие вопли. Рикс, в свисающей клочьями красной рубашке, сказал: — Ты прав, Гарри. Мы вели себя как идиоты и не заслужили твоего доверия, но, клянусь Богом, я и моя команда исправят это. Что ты собираешься делать? — Любой ценой, — прокричал Морган, перекрывая вопли раненых, — мы должны обезвредить Ла-Глорию. Готовьтесь к главному удару! Форт Ла-Глория был построен из желтых и коричневых камней. Он стоял на небольшом возвышении к северу от города и представлял собой впечатляющее зрелище. Там были укрепления и бастионы, окруженные стенами высотой приблизительно в десять футов. Над ними возвышалась главная башня с амбразурами и укрепленные крыши бараков и складов, битком набитые лучниками и солдатами с аркебузами. Попытка атаковать относительно низкую стену с тыла Ла-Глории окончилась полнейшим провалом. В клубах дыма Морган увидел, как двадцать его самых лучшим людей попадали и со стонами отползли в высокую зеленую траву. Он отошел назад и приказал своим самым лучшим снайперам стрелять по амбразурам, откуда пушки продолжали изрыгать убийственную картечь. Хотя корсарам удалось сделать несколько замечательных выстрелов, атака за атакой были отбиты гарнизоном, который хорошо держался благодаря умелому командованию. Армитедж и Эксквемелин подбежали к адмиралу с целью убедить его прекратить эту бесцельную бойню. Даже их искусство не могло помочь, когда раненых стало так много. И Моргану, отчаявшемуся и усталому, ничего не оставалось, кроме как приказать отступать в город. Как перебраться через стену? Храбрые, когда речь шла о том, чтобы захватить отчаянно оборонявшийся галион или напасть на рассвете на испуганный и неорганизованный город, пираты не выказывали ни малейшего желания атаковать хорошо обученных солдат, находившихся под защитой каменных стен. Под влиянием момента, в отчаянии от не предвиденного им препятствия, Морган внезапно нашел решение, но как выяснилось позднее, ошибся в своих расчетах. Он принял его, объясняя «военной необходимостью». Морган поманил к себе Дента и Джекмена. — Найдите среди пленных столяров, — приказал он, — и быстро сколотите мне хотя бы двенадцать крепких лестниц, такой ширины, чтобы могли залезть двое мужчин. Израненные после неудачного штурма пираты схватили, что попалось под руку, и отправились в город, мрачно поглядывая на Ла-Глорию. Во время этого перерыва Гасконец и Трибитор зашли в лавку шорника, которую Морган использовал в качестве командного пункта, и потребовали объяснить, что он собирается делать с лестницами. Когда Морган ответил, то Гасконец расхохотался так злобно, что его шляпа с огромным оранжевым страусиным пером сползла набок, Трибитор покачал головой. — По-моему, хотя тебе это и не понравится, Гарри, ты совершаешь большую ошибку. Конечно, все испанские духовные лица наши враги, и мы стремимся отомстить им и желаем смерти, но я прошу тебя не делать этого. Я… я против! — Гарнизон не станет стрелять по своим монахам и монахиням, — уверил его Морган. — Можешь мне поверить. Поэтомумы не причиним вреда духовенству, а сами поставим лестницы и захватим Ла-Глорию. — Нет! Нет! Ты сошел с ума. Кастельон будет стрелять и по монахам. Он известен своей храбростью. Морган неожиданно протянул руку и схватил Трибитора за растрепанную бороду. — Спокойно, собака. Я сказал, что испанцы не будут стрелять, а я адмирал, и ты должен выполнять мои приказания! Вот и выполняй, И в результате вскоре после полудня сильный отряд пиратов промаршировал к монастырю Ла-Мерседес и приказал распахнуть двери. Джереми Дент и Харрингтон вошли в обитель с отрядом корсаров, у каждого из которых был кнут или палка. — Наружу! Вон! Холера вас побери! Большинство из тех, у кого были пики, тоже бросились на помощь и вывели пленных на солнечный свет. Монахи были в черных рясах приходских священников, коричневых рясах францисканцев, серых — доминиканцев или черных ордена братьев Христовых — иезуитов. Монашки представляли жалкое зрелище, потому что их так неожиданно вытащили из постелей, что многие из них оказались едва одеты. Некоторые монахи выступали гордо и важно, но большинство сбились в кучу и испуганно таращили глаза; другие двигались словно во сне — они никак не могли поверить, что все это случилось в их тихом, хорошо укрепленном городе. Под градом пинков, ударов и проклятий пленников построили в длинную колонну, которая под усиленной охраной двинулась на север по разоренным, заваленным мертвыми телами улицам. Стервятники, недовольные тем, что их оторвали от трапезы, медленно взлетали на крыши. Горестная процессия направлялась прямо к видневшейся Ла-Глории. Сгрудившиеся на окраине города пираты были озадачены звуками, доносившимися от этого жалкого шествия. Задумался и галантный Кастельон, алькальд Порто-Бельо, и его офицеры. Они высунули головы из-за укреплений, но ничего не заметили внизу, кроме пригорка, усеянного телами мертвых пиратов. Во дворе форта напряженно застыли на своих местах солдаты с луками и аркебузами, в латах и касках. «Какой еще адский план созрел в головах этих еретиков?» — задумался Кастельон, почесывая короткую и ухоженную бороду. У испанского командира не было никаких иллюзий. Если Сантьяго-де-ла-Глории удастся продержаться хотя бы один день, то к тому времени гарнизоны других фортов смогут собрать силы для атаки, которая уничтожит пиратов. — Конечно, — пытался ободрить своих офицеров Кастельон, — большой форт Сан-Фелипе-де-Сотомайор скоро вышлет нам подкрепление. — Да, сеньор генерал, — согласился артиллерийский майор. — Разве дон Абелардо не командует самой мощной крепостью между Картахеной и Веракрусом? Испанские офицеры бродили вокруг. Так или иначе, но зловещее молчание этих демонов беспокоило их намного больше, чем звуки шумной резни. Что же касается алькальда, то он бросал свирепые взгляды на два военных корабля, которые, сделав всего один-единственный бесполезный залп по городу, сейчас разворачивались в бухте Порто-Бельо и направлялись к выходу. Неожиданно один лейтенант в ужасе схватил его за руку. — Боже мой! — в ужасе выдохнул он. — Смотрите! Смотрите, что делают эти проклятые слуги сатаны! Из нескольких узких улиц, выходящих к стенам форта, одновременно появились странные группы людей. Они двигались с трудом из-за тяжелых лестниц; несмотря на боль от уколов пиками и ударов палашами, они не могли идти быстрее. Сгибаясь под тяжестью груза, священники, монахи и монашки вопили, что ни один добрый католик не станет стрелять в них. Армитедж, все еще занятый делом, заметил одного седого аббата, который, шатаясь, почти вдвое согнулся под непосильной тяжестью. Остальные кричали: — Пожалейте нас, сыновья, если вы надеетесь, что вас самих пожалеют после смерти! Работая пастушьими кнутами, пираты гнали их вперед. Если кто-нибудь из пленных спотыкался, то его тут же подминала толпа других. Три колонны слились воедино и направились к укреплениям. Там наверху солдаты повернулись к командующему. Они не знали, что делать. Если они выстрелят, то будут вечно жариться в аду. Но если они не буду стрелять, то погибнут. Пусть решает алькальд. Генерал Ипполито де Кастельон дрогнул, но в глубине души он был убежден в том, что гарнизон еще можно спасти, а монахи внизу уже все равно погибли. Кастельон приставил ладони ко рту: — Огонь! Приказываю открыть огонь по людям с лестницами! — Святой Господь! — Майор артиллерии повернул к нему искаженное ужасом лицо. — Мы не можем этого сделать. Именем Бога, дон Ипполито, вы же не хотите приговорить всех нас к вечной… — Я здесь командую! — Он выхватил у ближайшего солдата ружье и мгновение спустя свалил выстрелом высокого францисканца, который пытался приставить лестницу. — Видите? Я беру ответственность на себя. Огонь! Стреляйте, пока еще не слишком поздно. Да здравствует король! Да здравствует католическая церковь! Но орудийные расчеты никак не могли решиться стрелять, пока колонны не прошли уже половину пути. Но вид визжащих и орущих пиратов, которые выскочили из зарослей кукурузы, пробудил их пошатнувшуюся решимость. — Божья Матерь, прости меня! — простонал артиллерист и приложил спичку к фитилю. Пушка рявкнула и откачнулась назад, словно брыкающаяся лошадь, а в рядах атакующих появилась дорожка мертвых тел. Внезапно в стоны и жалобы духовенства, ружейные выстрелы и пушечный грохот ворвался новый звук. Доминиканец в темной рясе, с окровавленными от ударов хлыстом плечами, дрожащим голосом затянул гимн: — «Gloria in Excelsis…» *["414] Другие монахи присоединились к нему, а вместе с ними монахини, которые уже вообще плохо соображали, что происходит. — Заткнись, папистская собака! — Дент кольнул доминиканца пикой в пухлые ягодицы. Тот застонал и навалился на лестницу, но продолжал петь. Под ураганным огнем из дюжин амбразур монахи падали, кричали и дергались в смертельной агонии. Морган, собравшийся с мыслями, подбежал к передней лестнице, оттолкнул трясущегося старого священника и подставил плечо под перекладину. — Вверх! Вверх! Давайте. Вперед, ленивые псы, за мной! Когда лестницы дотащили до стен, люди Моргана оттолкнули духовенство и сами полезли наверх. Теперь вся стена оказалась усыпана пестро одетыми корсарами. Несмотря на льющееся сверху кипящее масло и пушечные ядра, которые солдаты руками бросали вниз, пираты висели на лестницах и лезли вверх. Они лезли на стену, словно стремительный поток поднимающейся воды. Те из монахов, которые остались в живых, теперь пытались отползти в поле и скрыться там. Генри Морган одним из первых вскарабкался на парапет в залитых кровью остатках рубашки и изодранных в клочья штанах. Вокруг свистели пули, но он на мгновение остановился, чтобы оценить ситуацию. Головорезы Харрингтона и бандиты Трибитора тоже оказались на стене. — Наверх, братья! Наверх, за Англию! Еще немного — и крепость ваша, парни! Следуя за адмиралом, бандиты вначале очистили орудийную площадку, а потом пробились во двор, где испанские солдаты сражались не на жизнь, а на смерть, пока их не оттеснили численно превышающие силы нападающих. Некоторые раненые отползли в сторону в поисках хотя бы временного спасения в подвалах и складах, битком забитых горожанами, которые сбежались в Ла-Глорию во время взятия Сан-Иеронимо. Кастельон был не менее опытен в воинском деле, чем Морган, и руководил обороной с холодной расчетливостью, присущей ветеранам. Вовсю работавший пикой Джекмен заметил, что алькальд убил по меньшей мере трех пиратов, прежде чем, размахивая выкованным в Толедо мечом, он с остатками гарнизона отступил в трапезную старших офицеров. Импровизированный таран из валявшегося во дворе бревна скоро вдребезги разбил дверь столовой. Не понадобилось много времени, чтобы загнать уцелевших испанцев в тупик у дальней стены длинной залы. — Сантьяго! Сантьяго! Да здравствует король! — Кастельон продолжал подбадривать жалкие остатки защитников крепости. И Генри Морган приказал своим людям отойти немного назад. Убедившись, что стрельба прекратилась, он переступил через упавшие тела и оказался перед свирепым алькальдом. — Позволь мне прикончить эту свинью, — попросил Джекмен, сплюнул на ладони и взялся за пику. Морган огрызнулся: — Отойди, Энох. Я сам справлюсь с этим паладином. На плохом испанском Морган предложил Кастельону выступить вперед и сам сделал три шага вперед от своих флибустьеров, которые столпились в помещении. Они стояли, глядя на темные лица сбившихся в кучку врагов. Тяжело дыша, мокрые от пота, береговые братья смотрели, как их адмирал опустил свой палаш и как дон Ипполито де Кастельон перешагнул через труп аркебузира. С горделивой осанкой, бледным и забрызганным кровью лицом, он держал в левой руке незаряженный пистолет, а в правой обоюдоострый меч. — Ты сражался как храбрый солдат, — сообщил Морган своему врагу. — Ни один другой подданный твоего короля не мог бы обороняться более отважно. Я предлагаю тебе сдаться. — Нет, никогда, — ответил Кастельон, не сводя глаз с победителя. Он много слышал о Моргане — о его набегах на Гранаду, Пуэрто-дель-Принсипе и Трухильо, и часто пытался представить себе, как он выглядит. — Нет, лютеранин, Кастельон не сдается, чтобы его потом прикончили как собаку. Как мои предки умирали, но не сдавались поганым маврам, так и я паду в схватке с еретиком англичанином. Лицо Моргана покраснело. — Я даю тебе слово джентльмена, что тебя не повесят, сеньор алькальд. И всех твоих храбрецов тоже отпустят на свободу. Это была величественная картина: с одной стороны остатки гарнизона, забаррикадировавшиеся перевернутым столом, с другой — обрадованные братья, с триумфом ожидающие сигнала к продолжению резни. Нахмурив брови, Кастельон бесстрашно ответил: — Нет! Клянусь Божьей Матерью Толедо, я не приму от тебя милости. — Эй, Гарри! Вот жена старого хрыча, — крикнул один из корсаров. — Если ты хочешь оставить его в живых, может, она уговорит его сдаться. — Горе мне, — простонал алькальд. — До какого позора я дожил! Вперед вытолкнули донью Кастельон и ее двух дочерей-подростков, растрепанных и насмерть перепуганных. Упав на колени, они молились, и плакали, и умоляли своего отца и мужа принять милость английского адмирала. — Прощайте! — Кастельон низко поклонился жене и поднес к губам рукоятку меча. — Прощайте навсегда, любимые! Идите с миром. Я буду ждать вас в раю. Давайте, друзья, умрем как настоящие мужчины! Подняв меч, алькальд двинулся вперед, но тут Джекмен не выдержал: — Вот тебе за Кейт Пайн! — Тяжелый абордажный пистолет уроженца Новой Англии громко рявкнул. Алькальд Порто-Бельо остановился и, медленно разворачиваясь от удара пули и под отчаянные вопли своей семьи упал на тела людей, которыми он так хорошо командовал.Глава 18 ЖЕЛЕЗО, ВЕРЕВКА И ОГОНЬ
К закату даже чувство ужаса притупилось в Порто-Бельо. Руины его разоренных укреплений Сан-Иеронимо и Ла-Глория дымились. Вдали раздавались выстрелы, это бандиты Гасконца стреляли по нескольким отчаявшимся женщинам, которые предпочли попытаться проплыть полмили среди акул и барракуд тем нежностям, которые они могли получить от лютеран. Только Генри Морган, казалось, не чувствовал усталости; он бродил по городу в сопровождении небольшого отряда с «Золотого будущего». В узловых точках Порто-Бельо он поставил пикеты, приказал выставить часовых у небольших лодок и, несмотря на всеобщее возмущение, запретил грабеж. На батареях и в фортах рядом с гаванью оставалось в три раза больше испанских солдат, чем у него людей, поэтому надо было соблюдать осторожность. Капитан Трибитор, тоже разумный человек, держал своих людей в узде. Джереми Дент думал только об одном, поэтому он повел своих людей в сырые и мрачные подвалы под крепостью Ла-Глория. — Смотрите хорошенько вы все, может, кто-то из вас жалеет о том, что случилось, — сказал им Дент, высоко поднимая свой факел. — За той дверью святая инквизиция поет псалмы о спасении душ и читает молитвы. И он снова почувствовал боль в своих изуродованных пальцах. Слишком хорошо ему врезался в память мальтийский крест, вырезанный на каменной панели над дверью в камеру пыток. Судя по состоянию пыточных инструментов, у святой инквизиции недавно была работенка. Ни растяжка, ни дыба не успели покрыться пылью, и ни следа ржавчины не нашлось на ящике с углями, где должны были раскаляться пыточные инструменты. — Черт — просто волосы дыбом встают, — ахнул молодой пират. — Еще бы, — подтвердил Дент. — Давайте посмотрим, над кем трудились их преподобия. Пойдем. Камеры внизу. Вначале они наткнулись на молодого индейца, беспомощного, словно огромный коричневый жук, потому что глаза у него были выжжены, а плечи вывернуты на растяжке. — Да, в этой конуре умер мой кровный брат Уилл Броквей. А еще раньше раскаленными красными щипцами беднягу Нэда Дженкинса разорвали на кусочки. Сколько здесь подземелий, спрашиваете? — Он жутко рассмеялся. — Ну, есть еще два и… — Он остановился. — Слушайте! В подземелье раздался тяжелый протяжный стон, словно зимней ночью выла запертая собака. — Кто это? — Голос Дента эхом раздался в темном проходе из дикого камня. — Кто здесь? — Помогите! Ради Бога, спасите нас! — Англичане! Клянусь Богом! Они говорят по-английски! — Пираты с грохотом отодвинули тяжелые засовы. Хотя его товарищи поморщились от отвратительного запаха, Дент смело вошел и поднял факел, осветивший низенькую, выложенную камнем камеру. Одиннадцать отощавших фигур с огромными кандалами на ногах лежали на такой грязной охапке соломы, что от нее воняло, словно в конюшне. — Билл? — прохрипела одна из жутких фигур. — Похоже, мы уже умерли. Я слышал английскую речь. Один из бледных, тощих и совершенно обнаженных людей прикрыл глаза ладонью от света, а потом спросил: — Скажите, друзья, вы… вы есть на самом деле? — Клянусь Богом, да, — отозвался один из пришедших. — А кто вы? — Мы?.. Я — Роджер Сейлс из Ярмута. Корсары разразились ужасными проклятиями и без труда вытащили грязных, отощавших и обезумевших от радости пленников на свежий воздух. Только при дневном свете можно было разглядеть, в каком жутком состоянии они находились. У половины из них не хватало ноздрей и ушей. Двое были слепы; на месте глаз зияли гноящиеся впадины. У еще двоих были переломаны ноги, так что они уже никогда не смогут ходить. При свете свечей Дэвид Армитедж пытался приложить все свое искусство и от всей души проклинал Яна Эксквемелина, который бросил раненых и отправился на поиски добычи. С покрасневшими глазами, валясь с ног от усталости, виргинец выбивался из сил, перевязывая бесконечные раны и пытаясь запомнить все, что он увидел за день. Наконец под длинными усами адмирала блеснула улыбка. Слава Богу, он сделал это! Он захватил могущественный Порто-Бельо, и ему потребовалось даже меньше людей чем Дрейку или Паркеру в 1601 году. Он чувствовал огромное удовлетворение от того, что долго еще Порто-Бельо не сможет представлять угрозу ни для Ямайки, ни для Барбадоса и других колоний его британского величества в Вест-Индии. Постепенно над фортом Сантьяго-де-ла-Глория установилась относительная тишина, но в городе продолжались грабеж и попойка. Наполовину пьяные, немытые бандиты прыгали вокруг костров, нацепив на себя разукрашенные парадные шляпы, бальные платья и другие женские тряпки, которые они отыскали в будуарах жен купцов К концу недели «Дивная гавань» *["415] оказалась настолько разграбленной, что даже самые кровожадные пираты почувствовали себя удовлетворенными при виде огромной, сверкающей груды поживы, которая лежала в красивом каменном здании таможни, по-испански — адуаны Эта груда достигла почти чудовищных размеров. Двумя днями раньше адмирал объявил, что он считает что несчастные жители города отдали им все до последней монеты, но Гасконец, Сенолв, Рикс, Ганто и многие другие капитаны только зло усмехались и клялись, что можно содрать с них еще столько же. Эти негодяи грубо напомнили Моргану о его обещании, данном накануне атаки поэтому он обругал их, но позволил поступать с пленными как они считают нужным. Длинная вереница горожан, у которых были хоть какие-то сбережения, дрожащих от страха и умоляющих о пощаде прошла через ту хорошо оборудованную камеру пыток под фортом Ла-Глория. Никого не щадили — ни юнцов, ни убеленных сединами старцев, ни толстых купцов. Сопротивление тех глав семейств, которые оставались непреклонными даже после выдирания ногтей, растяжки и дыбы, пытались сломить угрозой привести их жен и дочерей, раздеть, привязать к каменной стене и изнасиловать. Чаще всего допрашиваемому требовалось только увидеть пыточную камеру, и он уже был готов говорить и вспоминал о потайном шкафе или зарытом в саду кувшине. Самой эффективной оказалась пытка под названием «испанская лебедка», или «венец сатаны». На веревке завязывали узлы, а потом закручивали ее на голове над бровями. С помощью пистолетной рукоятки веревку постепенно стягивали, пока от невыносимого давления у пленного не выскакивали глаза из орбит. Этот метод «допроса» оказался таким простым и быстрым, что его предпочитали более изощренным методам пытки. И братьям ни разу не пришло в голову, что это несправедливо или незаконно. Они творили суд по законам Моисея. Разве испанцы не применяли те же пытки по отношению к другим, таким же беззащитным, как они сейчас? Даже Дэвид Армитедж, насмотревшийся и уже изнемогающий от вида всевозможных зверств, вынужден был признать, что испанцы пожинают урожай ненависти, который сами посеяли. Давно уже почувствовав отвращение ко всему происходящему, адмирал заперся в привычной каюте на борту «Золотого будущего», который сейчас стоял на якоре у почерневших руин Сан-Иеронимо, потому что гарнизоны, охранявшие форты Сан-Фелипе-де-Сотомайор и Сан-Фернандо, защищавшие вход в гавань Порто-Бельо, позорно сбежали без единого выстрела. В Порто-Бельо царила неимоверная влажная духота. Конечно, в подобном климате тяжело раненные должны были умереть, и они не выжили. Хотя высокий виргинец трудился изо всех сил, и Ян Эксквемелин иногда помогал ему, число умерших скоро превысило число оставшихся в живых раненых. Цена взятия Порто-Бельо росла, и уже наевшиеся стервятники жирели все больше и больше. На десятый день после захвата города доктор Армитедж собрался хотя бы на несколько часов сбежать от воплей, преследовавших его в госпитале. Он решил вместе с четырьмя товарищами совершить вылазку по дороге Камино Реал. Уставший Армитедж радовался возможности снова. побродить по окрестностям в поисках лечебных трав. Его руководителем был аптекарь, которого виргинец вырвал из когтей Ганто, и тот с удовольствием согласился показать ему разнообразные ценные растения и кустарники. Альварадо Давилла рассказал Армитеджу, что листья растения мечоакана, отваренные в белом вине, помогают рассосать избыток флегмы; а сок бансануко — отличное противоядие при укусе многих змей, таких, как страшная табоба и коралловая змея. Корни габиллиуса, очищенные и высушенные, были отличным слабительным. Медленно продвигаясь вперед с мушкетами за спиной, отдыхающие наслаждались открывавшимися перед ними лесными просторами. Густой лес вздымался по обеим сторонам вымощенной коричневым булыжником Камино Реал. Вот с ветки свешивается гнездо золотистой иволги: эти птички кропотливо сооружали гнезда на самых кончиках веток, чтобы до них не добрались змеи и мартышки. Сотни голубых, зеленых и золотистых попугаев мелькали мимо, словно пернатые стрелы. Кругом пели и щебетали туканы и певчие птицы. Когда они шли молча, то заметили на тропе нескольких оленей, диких свиней и забавных маленьких медведей. — До отплытия я бы хотел обосноваться здесь, — заявил Поль Меньер, близкий приятель Армитеджа, который раньше был студентом-юристом. — Если я увижу еще один разлагающийся труп, я просто свихнусь. Под высоким деревом братья приготовили пищу, запили обед вином и, вытянувшись, приготовились вздремнуть, пока солнце не уйдет из зенита и не станет прохладнее. — Как вы думаете, сколько составит наша доля? — спросил Уоррен Клер, загорелый, покрытый татуировками боцман с «Дельфина». — Я думаю, не меньше трехсот дукатов. — Нет, больше… Не обращая внимания на разворачивающуюся дискуссию, Дэвид лежал на спине и думал о том, что его волновало. Доктор Эксквемелин оказался совершенным шарлатаном и к тому же грязнулей. Его надо было разоблачить, Этот мерзавец совсем не заслуживал трех дополнительных долей, которые полагались врачу. Да он смыслит в хирургии не больше самого тупого юнги! И к тому же жестокий подлец и мастер на клевету. Заложив руки за голову, Армитедж вздохнул и улыбнулся, когда Клер захрапел. Сквозь полусомкнутые веки он заметил оленя, который вышел посмотреть на этих пришельцев, вторгнувшихся в его лес. Большие живые глаза зверя и его шевелящиеся уши напомнили ему об охоте в Виргинии. Виргиния! Его снова захватило непреодолимое желание как можно скорее увидеть великолепную, залитую солнцем Чесапикскую бухту с прекрасным водопадом и буйной природой. Сейчас он уже более чем удовлетворил свою жажду к приключениям и путешествиям. В результате похождений за последние три года он после этого плавания сможет купить доходное место в одной из северных колоний. Армитедж задремал, но мозг его все еще был занят проблемой лживых доносов Эксквемелина. Как только Морган позволяет себя обманывать? Вдыхая душистый цветочный запах, Армитедж задумался о Моргане, этом странном, полном противоречий человеке, которого он так хорошо узнал за эти годы. Он думал о Гарри, диком и свирепом, который возглавил атаку на Сан-Иеронимо. Но это совершенно не тот Морган, которого он слушал на Ямайке: умный, проницательный стратег, который объяснял, почему следует захватить Санта-Каталину. «Если его поддержать, — сказал себе Армитедж, — то Гарри Морган станет величайшим английским завоевателем нашего времени». «Интересно, — текли дальше его мысли, — сколько придется выложить за место врача, скажем, в Нью-Хевене? Три тысячи фунтов, а может, четыре? Да, четырех тысяч должно с лихвой хватить». Он свернулся калачиком и заснул. Он не знал, сколько Проспал, когда его разбудил тревожный крик. Резко открыв глаза, он увидел множество смуглокожих лиц, сгрудившихся у костра. На них были железные латы, грязные желтые мундиры и высокие кожаные ботинки. Испанцы! Армитедж решил умереть, раз уж ему так суждено, но не сдаваться. Об этих солдатах необходимо предупредить Моргана. Он не успел схватить оружие, поэтому отбивался голыми руками, пока его не ударили по голове тупым концом алебарды. Перед глазами все закружилось, и Дэвид Армитедж надолго впал в забытье. Только благодаря своему на редкость тонкому слуху маленький аптекарь сумел заранее почувствовать приближение солдат и незамеченным шмыгнуть в кусты. Там он притаился и принялся решать проблему, что ему будет выгоднее: присоединиться к напавшим или поспешно вернуться, чтобы предупредить адмирала лютеран? Чашу весов перевесила всем известная щедрость Моргана по отношению к тем, кто оказал ему услугу, поэтому, пригибаясь и шныряя между кустов, Альварадо Давилла мчался по лесу, пока снова не оказался на Камино Реал. А там аптекарь развил такую скорость, что у адмирала оказалось достаточно времени, чтобы выставить в засаду отряд в сотню лучших стрелков. Он давно уже не пользовался луками, хотя стальная стрела могла в абсолютной тишине спокойно пробить стальные латы толщиной в четверть дюйма на расстоянии в сто ярдов. Поэтому никто не был озадачен, когда на дороге появился дон Аугустин со своими людьми и выслал вперед трубача с белым флагом. Испуганный и дрожащий трубач объявил адмиралу Моргану, что если он немедленно не уберется отсюда вместе со своими войсками, то ему не будет пощады от солдат его католического величества. Развалившись на возвышении на импровизированном троне в богато украшенной зале королевской таможни, Морган принял посланца. Он улыбнулся и фыркнул, а потом поистине гомерически расхохотался. К этому хохоту дружно присоединились капитаны и их помощники. Они смеялись так, что у них слезы выступили на глазах. Неожиданно адмирал перестал смеяться и наклонился с кресла: — Убирайся с моих глаз, щенок, и передай своему драгоценному начальнику, что если он не заплатит мне сто тысяч золотом, то я разрушу его крепости и сожгу город. Медленно тянулись дни, пока награбленное добро постепенно уносили на берег с помощью добровольцев из индейцев, которые всегда были рады помочь всем врагам испанцев, упаковывали в тюки и грузили на пиратские корабли. — Ха! Похоже, прибыл выкуп, — воскликнул рыжебородый боцман, командир отряда, охранявшего батареи, которые держали под прицелом подходы к Порто-Бельо со стороны Панамы. Прибывшая депутация привезла с собой свиток — послание от главнокомандующего армией и губернатора Панамы, который они желали вручить его превосходительству адмиралу. Генри Морган лично наблюдал за погрузкой, записью и оценкой драгоценностей, а потом принял документ. Пробежав его глазами, он разразился жуткими проклятьями, которые быстро сменились таким громким хохотом, что один испуганный пират уронил мешок с серебряными монетами, и они рассыпались среди мебели, свертков тканей, коробок, шкатулок и сундуков. — Прочти, Гарри, что еще нам пишет старый осел? — Ну, он просит, чтобы я предоставил в его распоряжение образец оружия, с которым мы одержали такую доблестную победу над таким славным городом! Как вам это нравится? Энох, как по-твоему, что ему послать? Уроженец Новой Англии задумчиво хлопнул себя по щеке, где сидел москит. Все капитаны удивленно переглянулись, когда он вытащил из-за пояса пару превосходных французских абордажных пистолетов. — Вот оружие, которым я убил Кастельона. Подойдет в качестве образца? — Клянусь хвостом сатаны! У тебя отличное чувство юмора, Энох, — воскликнул Морган. — Ты решил эту проблему. Уилл! Оторви мне кусок от той расшитой золотом юбки, а ты, Ахилл, дай мне пару пуль. Кэт, — проревел Морган. — Напиши послание доблестному и храброму превосходительству дону Аугустино де Бракамонте. Напиши, что это «превосходный образец» того оружия, с которым мы взяли Порто-Бельо. Скажи ему, что он может держать у себя пистолет год, а через год мы придем за ним. Итак, после двухнедельной оккупации города пираты разломали три пушки, которые они решили не брать с собой, и отплыли, нагрузив трюмы золотом и забив все палубы тремя сотнями надежно закованных в кандалы рабов. — Ну, Гарри. — Джекмен, стоя вполоборота, наблюдал, как земля Кастильо-дель-Оро постепенно скрывалась из виду. — Ты завоевал береговому братству победу, о которой будут говорить по всему свету. Думаю, ты доволен? Адмирал улыбнулся. — Неплохо, Энох, для первого настоящего удара. Они стояли вдвоем и смотрели на бегущие облака. Заметив на лице уроженца Новой Англии озабоченное выражение, Морган спросил его о причине беспокойства. — Я подумал о том, как нас встретит сэр Томас, потому что в комиссии сказано… — …что нам дается каперское полномочие на военные действия с донами на море, и только. — Морган, нахмурившись, сплюнул через поручень. — Я надеюсь, что размер доли сэра Томаса и короля убедит их отнестись к этому разумно. Я рассчитываю на это. Джекмен немного помолчал, а потом произнес: — Я думаю, ты прав, но… — Но что? — Ты помнишь этого напудренного секретаря из Уайтхолла, этого труса Бекфорда? Разве он не постарается причинить нам неприятности, даже если сэр Томас согласится с нами? Как, по-твоему, белоручки лорды Торговой палаты посмотрят на твой набег? У капитана Мингса, мне помнится, конфисковали все его богатство, а самого повесили за гораздо менее наглое нарушение комиссии. Эти проклятые законники в Англии никогда не смотрят на дело с нашей точки зрения.Глава 19 «ВЕСЬМА СЛОЖНАЯ ДИЛЕММА»
Сегодня боль в подагрической ноге просто замучила сэра Томаса Модифорда, но, несмотря на это, достойный баронет все-таки получил удовольствие от легкого ужина из жареного по-бургундски гуся, пудинга с печенью, цыпленка и шашлыка из баранины. Казалось, что в колонии его величества на Ямайке дела идут отлично. Новый мощный поток переселенцев, хотя они и состояли большей частью из отбросов из тюрем Англии, Ирландии и Уэльса, внес новые силы в до сих пор слабую колонию. Этим августовским вечером 1668 года плантаторы Ямайки, добывшие семьдесят тысяч фунтов сахара, шестьдесят тысяч фунтов какао и пятьдесят индиго, подсчитывали доходы, которые поступали таким владельцам, как полковник Джон Поп, мистер Уильям Джой и майор Энтони Коллиер, не говоря уже о сэре Томасе Модифорде, баронете. Все было прекрасно. Единственное, что беспокоило губернатора, — это все более возрастающая вероятность неожиданной атаки, вроде той, что испанцы уже предприняли на севере Ямайки. Подобное нападение могло повториться и оказаться столь серьезным, что перед колонией встанет реальная угроза снова попасть в руки своих прежних владельцев. Уже дважды за последнее время доны высаживались с огнем и мечом в различных пунктах между мысом Морант и бухтой Блюфилдз. Слегка прихрамывая, губернатор прошел на веранду и уселся там в одиночестве, задумавшись и глядя на простиравшийся перед ним сад. Отправленные им в Лондон отчаянные просьбы выслать войска и корабли королевского военного флота не привели практически ни к каким результатам. В ответ ему слали лишь обещания и совершенно абсурдные приказы. Когда Морган увел свой флот, то положение стало критическим, если бы не старый Джек Моррис и его сын, которые, как оказалось, не пропали в море, а всего лишь провели большую часть года на необитаемом острове и сейчас снова вошли в порт с Уиллом Бистоном, Тодом Демпстером и еще одним капитаном пиратского корабля. Их удалось убедить взять королевскую каперскую лицензию и отправиться на поиски испанцев. Где же Морган и как у него дела? Черт побери этого парня, никогда он не скажет, что задумал. В сотый раз за последние шесть недель сэр Томас почувствовал, как его охватывает тревога. Ни малейшего сомнения не остается в том, что этот валлиец, несмотря на то, что он так тщательно готовит свои операции, слишком уж рискует Рано или поздно доны поймают его, но, взмолился Модифорд, пусть это будет не раньше, чем он сломает хребет испанской военной машине. После Гранады, Рио-Гарты и Пуэрто-дель-Принсипе лучше даже не думать о том, что испанцы с ним сделают. Баронет устроил свою больную ногу поудобнее на подушке и решил, что Морган, наверное, хочет вернуть обратно Санта-Каталину, которую потеряли в прошлом году в результате вторжения некоего дона Переса де Гусмана. Этот остров дал бы ему возможность перехватить флот, который пойдет на север для встречи с мексиканскими галионами из Веракруса. Вместе два этих флота образовывали мощную армаду, на которую никто не решился бы напасть, и уже эта армада отправлялась в плавание по Атлантическому океану. Достойный баронет все еще раздумывал о Моргане и о том, где он может быть, когда появился слуга и доложил, что какой-то матрос, отказавшийся назвать свое имя, настоятельно и срочно требует встречи с ним. Сэр Томас удивился, но согласился принять его. Кто это может быть? Полковник Брэдли? Он отплыл в экспедицию на Эспаньолу. Но он бы назвал себя. Может, это Дик Ледбеттер или мерзавец Добранс? Нет, это не Ледбеттер, о нем пришло сообщение, что он погиб в сражении с португальской караккой. Скорее всего, это капитан, который желает присоединиться к борьбе берегового братства против испанцев. Некоторые из этих висельников и бандитов, неуверенные в том, как их примут, искали возможности вступить с ним в частные переговоры. Модифорд удовлетворенно рыгнул, расстегнул оловянные пуговицы на сюртуке и слегка помассировал постепенно заплывающий жиром живот. Ну, Бекфорд там или не Бекфорд, пусть эти потрепанные морские волки считают Ямайку своим домом до тех пор, пока они доставляют добычу в Порт-Ройял и хотя бы делают вид, что уважают договор с испанцами о неведении боевых действий на суше. Конечно, рискованно было снабжать таких мерзавцев, не имеющих ни малейшего понятия ни о субординации, ни о законе, каперскими полномочиями, но раз уж министры и советники его королевского величества Карла II предоставили маленькую колонию ее собственной судьбе, то другого выбора не оставалось. Модифорд услышал, как позади тихо закрылась дверь, поэтому он развернулся в своем плетеном кресле, а потом, разинув рот, вскочил на ноги. Он с первого взгляда узнал своего посетителя, хотя тот был по самые уши закутан в непромокаемый плащ, а на голове у него была шляпа с широкими полями. — Матерь Божья! — выдохнул он и почувствовал внезапный страх. — Гарри! Что же могло случиться, что ты пробираешься в мой дом, словно мелкий воришка? Адмирал берегового братства снял шляпу, широкий плащ и отряхнул их от росы. На красном полу веранды появились мокрые пятна. — Ну, Том, — улыбнулся он. — Разве ты не хочешь пожать мне руку? Вежливый сэр Томас на этот раз немного растерялся. — Но… Но… конечно. Давай руку. Но черт меня подери, если я понимаю, что происходит. Надеюсь, ты не потерпел поражения? Ямайка не скоро придет в себя, если ты потерял столько людей. — Неудивительно, что ты так подумал, — расхохотался Морган, не переставая внимательно приглядываться к выражению лица своего гостеприимного хозяина. — Но на самом деле я привез тебе хорошие новости. Модифорд прищурился. Где же тут подвох? — Ну и?.. — Послушай только! Я привез ценностей больше чем на триста тысяч фунтов, и мои корабли готовы войти в Порт-Ройял, когда ты захочешь и если захочешь. Модифорд разинул рот. — Т-триста тысяч, т-ты сказал? — Да, Том. — В полутьме блеснули зубы Моргана. — И это при самых скромных подсчетах. Губернатор рванулся вперед, протянув руки. — Боже великий, Гарри, ты захватил флот Порто-Бельо? Но Морган пока не хотел расстраивать своего хозяина. Все зависело от того, вертелся ли еще поблизости длинноносый Бекфорд. Поэтому он продолжил: — Ты никогда не видел столько драгоценностей сразу, столько золота, превосходных рубинов, изумрудов и жемчужин! Клянусь тебе, Том, это зрелище сводит с ума. Даже самые жадные мерзавцы в моем флоте и не мечтали о такой добыче. В то же время Морган прикидывал, есть ли у него шансы добраться до поместья Данке. «Ребенок, конечно, еще не родился, — подумал он. -Здорово, что я здесь и смогу присутствовать при его появлении на свет». — Триста тысяч, подумать только! — Модифорд едва не задохнулся от радости. — Но с таким богатством Ямайка может обеспечить себе безопасность. Да я построю крепость на мысу Пеликан. — Хихикая и потирая руки, Модифорд улыбнулся своему все еще серьезному гостю: -А что лучше всего — доля короля будет настолько велика, что нас станут уважать. Скажи мне, Гарри, где ты напал на флот? В бухте Грасиас-а-Дьос или в Кампече? Морган почувствовал, что воротник врезается ему в шею, а ладони у него вспотели, но, стараясь, чтобы его голос звучал беззаботно, ответил: — Добыча была захвачена в Порто-Бельо. Модифорд испустил недоверчивый смешок. — Боже, значит, ты стянул флот прямо под носом у батарей, когда он только что отплыл! Не было смысла и дальше тянуть время, поэтому Морган глубоко вздохнул и почувствовал, что его слова могут оказаться приговором для него и его капитанов, после чего всех их схватят, бросят в тюремный трюм, отвезут в Англию и там повесят. — Нет, Том, — сказал он. — Там не было флота. И поскольку проклятые доны не сделали мне такого одолжения, то мне пришлось атаковать их в самом Порто-Бельо. На веранде установилась пронзительная тишина. — Т-ты… ты знаешь, что ты наделал? — Модифорд дышал так, словно его ударили, а потом оперся о спинку стула и выдавил слабую усмешку: — Давай, Гарри, скажи, что ты пошутил, и я не буду сердиться, что ты напугал меня до полусмерти. — Нет, Том, я действительно штурмовал Порто-Бельо. — Боже Всевышний! Ты осмелился нарушить мое приказание и атаковал испанцев на берегу? — Честно говоря, Том, да. Но наша добыча увеличит богатства его величества на тридцать тысяч фунтов. По-твоему, он будет расстроен? Модифорд не сел, а рухнул в плетеное кресло, которое протестующе скрипнуло. Он вытащил из кармана кружевной платок и вытер струившийся по лбу пот. — Боже мой, Гарри! И как ты не понимаешь всю чудовищность своего поступка? Кровь Христова, да ты просто сунул наши шеи в петлю! — Сомневаюсь, — последовал ответ. Морган прихлопнул москита и без приглашения налил себе бренди. — Я очень в этом сомневаюсь. Моя маленькая экспедиция не стоила королевскому дому ни единого пенни. Если сложить десять процентов, который получит король, и пятнадцать процентов, которые получит герцог Йоркский, как адмирал королевского флота, то, Том, только одна королевская семья получит прибыль в семьдесят пять тысяч фунтов. Ни один король в Европе не станет воротить нос от такого жирного куска. — Морган рискнул затронуть чувствительную струнку в душе Модифорда. — Но еще больше получит колония его величества на Ямайке и ее достойный губернатор. Между прочим, Том, тебе же нужны деньги для постройки укреплений и найма войск для обороны против испанцев. Боюсь, что мой визит в их любимый порт их немного разозлил. — Разозлил! Боже мой! — фыркнул Модифорд. — По-твоему, это так называется? — Но, к величайшему облегчению Моргана, в его голосе больше не чувствовалось гнева. Модифорд задумчиво побарабанил пальцами по ручке кресла. — Да, добыча нам нужна, но, будь ты проклят, Гарри, из-за тебя мне придется решать весьма сложную дилемму. Я мог представить твой набег на Пуэрто-дель-Принсипе и Гранаду как безответственный налет, совершенный при наличии двусмысленных каперских комиссий, и я так и сделал. — Он тонко улыбнулся. — Но Порто-Бельо был один из прекраснейших драгоценных камней в колониальной испанской короне. Губернатор напряженно размышлял, невидящим взглядом уставившись на рой мошек, которые вились над садом. — Скажи мне, у тебя были формальные сношения с испанским командованием? — Да, хотя и не такие формальные, как ты полагаешь! — Это плохо, Гарри. Плохо! Плохо! Плохо! Длинноносый Бекфорд с восторгом ухватится за это. — Позволь мне позаботиться о Бекфорде, — промурлыкал Морган, словно огромный кот. Модифорд вскинул голову. — Ничего подобного. Позвольте напомнить вам, сэр, что Ямайка — это британское владение, и, пока я остаюсь губернатором, здесь будут соблюдаться британские законы. Потом он спросил: — А где твои корабли? — Да где угодно. — Не хочешь сказать? — Нет, пока я не уверен в том, как их здесь встретят. Ты меня славно поддел на крючок однажды. Помнишь? — Обжегшись на молоке, дуешь и на воду, а? Дай мне подумать. Хотя он уже нашел выход, Модифорд еще прошелся два или три раза по комнате, размышляя; наконец он остановился. — Я всегда подхожу к делу с практической точки зрения. Если добыча так велика, как ты говоришь, то я рискну своей карьерой и своей шеей в надежде, что нам удастся замазать глаза тем, кому надо. Морган обрадованно вскочил и схватил губернатора за руку. — Значит, я могу рассчитывать на твою дружбу и считать, что моя база по-прежнему в Порт-Ройяле? — Да. Я окажу тебе любую необходимую помощь. — Включая подготовку новой экспедиции? — Да, Гарри. — Губернатор понизил голос и приподнялся, чтобы взять с принесенного рабом подноса стакан мадеры. — Теперь я признаю, что в твоем лице я обрел собрата по духу, руководителя, который видит дальше завтрашнего дня. Уже то, как ты спланировал и провел атаку на Гранаду и Пуэрто-дель-Принсипе, заставило меня задуматься, не пропадает ли в тебе великий генерал. А твое нынешнее, совершенно невероятное дело — захват одного из самых укрепленных портов в Испанской Америке — только подтверждает мое мнение. Я пью за нового адмирала колонии его величества британского короля на Ямайке. Я буду рад снабдить вас всем чем угодно, до последнего патрона и запала на моих складах. — Он уселся и еще больше понизил голос: — Но нам надо действовать быстро, Гарри, и немедленно выслать королевскую долю, чтобы двор оказался ослеплен видом сокровищ, тогда они не осмелятся сместить меня или повесить тебя. Скажи мне, ты уже разработал дальнейшие планы? Морган решительно кивнул. — Конечно. После допроса пленных в Порто-Бельо и просмотра захваченных там документов я задумал еще более грандиозную кампанию. — И куда ты нанесешь следующий удар? Морган коротко рассмеялся. — Том, в Бристоле я однажды слишком много разболтал; это едва не стоило мне жизни и стало причиной гибели многих хороших людей. Незадолго до отплытия я сообщу тебе, потому что должен буду это сделать, но не раньше. Я полагаюсь на твой здравый смысл и понимание, Том, и не дави на меня. Губернатор медленно произнес: — Ты хитрая лиса, Гарри, но удачливая, и больше я ничего не скажу. Но прежде всего ты должен обезопасить меня от набегов испанцев на наше северное побережье; об этом немного позже. Поэтому собирай корабли, пока тебе что-нибудь не помешало. Я обещаю, что им будет обеспечена такая грандиозная встреча, что о ней будут помнить еще двадцать лет спустя. Выросший на ферме, Генри Морган все-таки лучше чувствовал себя в седле, чем на капитанском мостике. Неужели он никогда не преодолеет морскую болезнь которая всегда охватывала его во время шторма? Счастливый и довольный, он перешел на легкий галоп, покачиваясь в седле превосходного скакуна, которого ему дал сэр Томас, такого быстрого, что несколько миль до поместья Данке не показались долгими. Как чудесно будет снова увидеть Мэри Элизабет и сжать ее в объятьях. Он ощупал карман, в котором лежала изящная диадема, украшенная белым и черным жемчугом, с огромным бриллиантом и полудюжиной сапфиров, темно-синих, словно они вобралив себя все Карибское море. На лице у него появилась счастливая улыбка при мысли о крохотной позолоченной коляске, серебряной погремушке с коралловой ручкой и железном колечке, которые он вез в сумках, притороченных к седлу. Конечно, это несколько преждевременные подарки, поскольку ребенок родится не раньше чем через месяц, если все будет хорошо, как надеялся Морган. Он скажет Мэри Элизабет, что Дэвид Армитедж пропал, и она расстроится. Ярко светила луна. На дорогу падали тени пальм и из этих теней создавали таинственные джунгли. Осталось всего полмили. Как заблестят глаза Мэри Элизабет, когда она увидит диадему и услышит о тех богатствах, которые он добыл для нее и их ребенка. Она вовсе не была жадной, просто любила собственность и находила удовлетворение в том, чтобы упрочить его положение. Постепенно он осознал всю важность принятого сэром Томасом Модифордом решения. Смелый человек. Губернатор собирался так же отважно пренебречь указаниями из Уайтхолла, как он сам пренебрег условиями комиссии Модифорда. Здесь не могло быть двух мнений, так что ему следовало принять меры, чтобы какое-нибудь постыдное поражение не повлияло на решимость сэра Томаса. Но пока все обстоит хорошо. Он почти выполнил то, что обещал Анни, Клариссе и Карлотте. Немного найдется людей, которые в тридцать два года заставили дрожать могущественную Испанскую империю, которые имели бы в своем распоряжении все увеличивающийся флот и которые с каждым днем становились все богаче. Морган почувствовал себя таким счастливым, что впервые за несколько последних месяцев начал напевать «Военную песнь Глеморганшира». И когда он пересек каменный столб, показывающий границу его собственных поместий, то его просто переполняла радость оттого, что он уже ехал по своей земле. Мэри Элизабет не бездельничала. Были расчищены новые поля, и там и сям виднелись хижины наемных рабочих, их крыши поблескивали в лунном свете. Не слишком ли деятельна Мэри Элизабет для женщины на последних месяцах беременности? Боже упаси! Нет, она понимает, что значит наследник. Давно уже он не чувствовал себя таким молодым и таким счастливым, как при повороте на длинную аллею, ведущую к воротам поместья Данке. Вдоль нее были посажены пальмы, пока еще маленькие, но когда-нибудь они вырастут, как вырастут владения Моргана. Какими далекими теперь казались ему дым сражений, стоны пленных и дикая ярость сражения. Издав боевой клич не хуже Куманы, Морган вонзил шпоры в бока скакуна и подскакал к крыльцу таким галопом, что все собаки в поместье выскочили со страшным лаем. Соскочив с седла, Морган подбежал к входной двери и принялся колотить в нее, вопя словно на капитанском мостике: — Открывайте! Открывайте! Адмирал вернулся домой! В доме зажглось вначале одно, а затем два или три окна. Раб-негр в одной красной рубашке отпер дверь, хлопнулся на колени и, вопя от радости, поцеловал хозяину руку. На крыльцо высыпали другие рабы, белые, черные и коричневые, с лампами и свечами. — Добро пожаловать, сэр! В этот раз вы славно потрепали испанцев, сэр? — Да, это так, и вот вам слиток серебра в подарок, — рассмеялся Морган. Как приятно снова видеть вокруг знакомые лица. — Где ваша хозяйка? — В своей комнате, сэр, — ответил наемный слуга из Эссекса. — Ее служанка Анжелина пошла разбудить миссис Морган. — Черт, позовите ее обратно! Я сам разбужу свою жену! С развевающимися полами сюртука адмирал бросился вперед, обогнал служанку и ворвался в спальню Мэри Элизабет с криком: — Лиззи! Проснись, Лиззи! Дорогая, твой Гарри вернулся! — Его сердце готово было разорваться от счастья. Дверь распахнулась, и из-за разлетевшихся в сторону занавесей показалась его жена, стройная и красивая как никогда. — О Гарри! Мой дорогой, любимый Гарри! — Она бросилась к нему. — Слава милостивому Господу, что ты благополучно вернулся домой! Ты не можешь себе представить, как я исстрадалась за эти несколько недель. О-ох. Поцелуй меня. Поцелуй меня и обними покрепче. В своем возбуждении он даже не заметил, как легко двигалась Лиззи, он только крепко обнял ее и осыпал поцелуями ее рот, глаза и шею. Запах ее духов сводил его с ума. — О Лиззи, никогда я еще не был так счастлив. Скажи мне… — Тут он внезапно заметил и отскочил назад. — Наш сын! — крикнул он. — Ты уже родила его! С ним все в порядке? При свете свечи он не видел выражения ее лица -только глаза. Она посмотрела на него и заговорила, стараясь сохранить спокойствие: — Я не знаю, что сказать или как сказать тебе об этом. Но опытная женщина ошиблась. Пропущенные дни получились из-за лихорадки, которой я болела весной. Помнишь? Казалось, силы сразу оставили адмирала. Он стоял без движения, с лица исчезло оживление. — Нет? Ребенка не будет? — Слова с трудом срывались с его губ. Она бросилась вперед и обвила руками его шею. — О Гарри, не смотри на меня так. Никогда еще женщина не желала иметь ребенка так, как я! Ради Бога, не стой с таким видом, словно все погибло! Шатаясь, словно слепой, Морган отвернулся и вышел; в коридоре послышалось что-то вроде сдавленного рыдания. Видневшиеся в дальнем конце коридора слуги мгновенно исчезли из виду. — О Лиззи, Лиззи! А я так рассчитывал, мечтал и боролся! Его досада постепенно уступила место такому острому горю, что он впился ногтями себе в ладонь. Итак, он не зря боялся! Теперь он точно знал, что если не брать в расчет какого-нибудь чуда, то империя, которую он постепенно отвоюет у Испании, никогда не перейдет к его наследнику. Морган упал в кресло, закрыл лицо руками и впервые за много лет разрыдался так, что все его тело содрогалось Адмирал плакал не как женщина — только глазами, а как мужчина — сердцем. Это было ужасное, душераздирающее зрелище. Мэри Элизабет упала на колени рядом с ним, на ее лице застыла трагическая маска. Лучше бы он взорвался от ярости, чем эти жуткие всхлипывания. Спустя какое-то время он поднялся на ноги, взглянул на нее словно на пустое место и медленно направился к двери. Она услышала его шаги на лестнице, а потом стук лошадиных копыт, когда он поехал обратно в Порт-Ройял. Новости о победном возвращении эскадры мгновенно распространились повсюду. Слухи, пусть и неточные, но зато один другого удивительнее, разлетелись по Порт-Ройялу, словно бабочки. Сам порт теперь стал почти в два раза больше, чем тот, в котором Энох Джекмен впервые высадился шесть лет назад. Те пираты, которые отказались присоединиться к адмиралу, завистливо проклинали все вокруг, но только не свою глупость. Батареи форта Чарльз палили приветственные залпы. Колокола единственной церкви трезвонили словно в честь рождения законного наследника его королевского величества. С плантаций, кольцом окружавших бухту Порт-Ройяла, и с Голубых гор спешили сотни колонистов, все они хотели увидеть своими глазами этого сказочного адмирала, который с такими крохотными силами так основательно потрепал испанцев за бороду. Случившиеся в порту пираты и корсары похватали шляпы, флаги и любые тряпки, которые попались под руки и приветственно махали ими, когда под предводительством «3олотого будущего» шесть кораблей эскадры бросили якорь в гавани Порт-Ройяла. Два других судна, Ганто и Димангла, отправились на Тортугу, чтобы как можно быстрее, пусть и по дешевке, распродать добычу. В полдень стояла жара, «словно у дьявола в глотке», как выразился Энох Джекмен, но губернатор все равно отправился навстречу на государственной барже, пестро раскрашенной в белый, алый и золотой цвета. Гребцы, специально отобранные негры, так работали веслами, что флаг на корме развевался, словно от ветра. На открытой платформе стоял сэр Томас Модифорд, страдавший от жары, но все-таки посчитавший необходимым надеть парадную форму. Он представлял собой внушительную фигуру. Морган, который снова взошел на борт «Золотого будущего», выбрал великолепный зеленый с золотом костюм. От имени его суверенного величества, Карла II, защитника веры и, милостью Божьей, короля Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса, сэр Томас Модифорд напыщенно приветствовал доблестного, верного и уважаемого адмирала берегового братства. Морган поклонился так низко, что изумрудное перо, украшавшее соломенную шляпу, которую он держал в руках, подмело палубу, а его экипаж вопил во все горло, свистел и всячески выражал свою радость. Даже самый жалкий из них сейчас был богат, словно крез. Маленькие корабли из отряда, такие, как у Рикса и Харрингтона, сразу же подошли к берегу. И все пошло как обычно, с тем исключением, что участников кутежа стало больше. Раньше здесь была всего дюжина мерзавцев торговцев, а теперь полсотни. Раньше была всего одна площадка для аукциона, а сейчас с этой целью было построено несколько красивых кирпичных домов. Еще больше стало сутенеров, менял, содержателей борделей и откупщиков. Более трезвые жители города с восторгом наблюдали, как шумные, обросшие ребята Моргана, покачиваясь, выбираются на берег, одетые в гротескную, пеструю одежду. На них завистливо смотрела кучка братьев, которых превосходящие силы испанского флота вынудили укрыться в Порт-Ройяле. Они резко выделялись среди зрителей своими жилетами из коровьей кожи, запачканными кровью штанами и исцарапанными руками и ногами. Джекмен, заметив их, вновь вспомнил о Черном Джордже, Тростоне, Фалле, Дунбаре и Кейт Пайн. А им он сказал, что всегда с радостью возьмет их к себе в команду. Особенно радовались торговцы живому товару, потому что с больших кораблей на берег спускались дюжины и дюжины негров. Не менее обрадован был сэр Томас Модифорд. Не зря говорили на Ямайке, что один сильный негр может заменить трех индейцев или двух белых; плантаторы быстро поняли, что эти сыновья Хама не болеют практически никакими из тропических болезней, которые слишком быстро валили с ног европейцев и индейцев с Тьерра Фирме. Под громкий барабанный бой у воды выстроился отряд пехотинцев в голубых и красных мундирах. Они должны были охранять шесть обитых железом сундуков с драгоценностями: долю короля и его светлости Джеймса, герцога Йоркского. Сундуков с долей колониального правительства и сэра Томаса оказалось в два раза меньше, да и сами они были помельче, но все равно производили сильное впечатление. Адмирал шел из административного здания и благосклонно кивал в ответ на приветствия жителей, которые сбегались, чтобы посмотреть на него, когда из игорного дома выползла весьма знакомая фигура. — Лопни мои глаза! Ах ты, грязная собака, уплыл и оставил меня в дураках. — Джек Моррис, старый висельник! Я рад тебя видеть. — Они обнялись и похлопали друг друга по плечам. — Если бы ты вернулся, когда обещал, то мы уплыли бы вместе, — сказал Морган старому приятелю. — Мне не хватало тебя, Джек. Я бы хотел, чтобы ты видел, как мы брали Ла-Глорию! — Я слышал, помощь тебе не потребовалась, — усмехнулся Моррис. — Все говорят, что ты сражался как лев. А когда ты выйдешь в море вместе со мной? — Трудно сказать. Мне нужно еще многое подготовить. Тот подмигнул. — Если бы ты знал, какой я сюрприз тебе приготовил, ты бы все бросил и помчался в третий дом от начала улицы Альбемарль. Там тебя ждет такое сокровище, что ты забудешь обо всем, даже о том, сколько награбил в Порто-Бельо. Морган подумал, что «сюрприз» Морриса — это всего лишь бочка превосходного вина, и отправился обсудить дела с плантаторами, купцами и торговцами рабами, но потом задумался. Старый мерзавец говорил о чем-то важном — что бы это могло быть? Дом на улице Альбемарль оказался скромной постройкой из кирпича, такой же, как и все дома на этой песчаной улице. Как только Морган позвал Морриса, тот тут же вышел с полной серебряной рюмкой в одной руке и дымящейся сигарой в другой. — Чума египетская тебя возьми, где ты шляешься? — пробурчал он. — Будь я проклят, если ты заслуживаешь моего хорошего отношения. — Кончай ворчать, словно обезьяна в клетке, и давай выпьем. — Морган запарился и чувствовал себя усталым. — Я сейчас умру от жажды. Моррис обнажил в широкой улыбке желтые пеньки зубов. — Иди наверх, поверни налево, и в дальней комнате ты найдешь кое-что получше выпивки. — Если это шутка, то я из тебя мозги вышибу, Джек, — пообещал Морган, срывая тяжелый парик. Он поплелся вверх по лестнице, с облегчением расстегивая позолоченные пуговицы сюртука до колен. Добравшись до указанной двери, он без колебания распахнул ее. Когда он заглянул внутрь, то почувствовал слабый запах сандалового дерева и увидел молодую женщину, которая любовалась закатом и с улыбкой повернулась к нему. Морган застыл на месте, словно его ударило громом, а потом бросился к ней: — Тигрица! Моя любимая крошка! И как будто не было разлуки, желанная, как никогда, Карлотта обнимала адмирала и покрывала страстными поцелуями его темное лицо. — О Гарри! Гарри! Никогда, никогда мы больше не расстанемся. Примечательно, что Морган постарался забыть свое смертельное разочарование в, ошибке Мэри Элизабет и развил бурную деятельность. Арчбольд, Биндлосс и дюжина других плантаторов вместе с бывшими офицерами королевских военно-морских сил и офицерами британской армии были заняты тем, чтобы снарядить хорошо вооруженный флот, который сумел бы противостоять испанцам в Карибском море. В соответствии с каперскими полномочиями, которые готовил сэр Томас, он должен был действовать как подразделение, подчиняющееся приказам ямайского колониального правительства. Только близкие Моргана замечали, сколько времени он проводит в седле между Порт-Ройялом и поместьем Данке, где тоже осуществлялись грандиозные планы. Благодаря доле добычи, составившей пятнадцать тысяч фунтов, Мэри Элизабет смогла осуществить большинство своих желаний; например, она купила Пенкарн, как Морган назвал поместье в честь старинных владений своей семьи. Воздух округа Сент-Джордж считался здоровее, чем в Порт-Ройяле или в окрестностях Испанского города, поэтому Морган планировал построить там красивый дом, в котором могла обосноваться Мэри Элизабет. К тому же из нового дома было ближе до табачных плантаций, которым жена стала уделять повышенное внимание, справедливо считая, что табак из Ориноко должен вытеснить виргинский сорт! Не скрывая своей гордости, Мэри Элизабет однажды вечером изложила ему свои подсчеты доходности сахарных плантаций. С блестящими глазами она разложила перед ним бумаги. — В этом году, моя любовь, мы получили приличный доход, почти пять тысяч фунтов, и если не случится нашествия крыс, урагана или растения не заболеют, то на следующий год эта сумма удвоится. — Я ужасно горжусь тобой, Лиззи, — от всего сердца произнес он. — Я бы хотел больше времени проводить в поместье, с тобой, но чертов флот и вечно пьяные капитаны требуют от меня столько внимания. Она вспыхнула от его похвалы и сообщила ему еще об одном поместье в округе Кларендон, где земля годилась для выращивания индейского маиса, пшеницы, риса и некоторых зерновых, которые пока что ввозились из Англии. Гарри Морган внимательно выслушивал все, что говорила жена, время от времени он возражал ей или вставлял дельное предложение. Один или в сопровождении Мэри Элизабет, адмирал с удовольствием объезжал свои тростниковые плантации, особенно рано утром, когда большие стаи диких голубей выпархивали из-под ног и во все стороны разбегались стада диких свиней. Все утверждали, что адмирал и его жена очень счастливы и ладят друг с другом. Это было правдой, хотя о детях они больше не заговаривали. Если Мэри Элизабет и удивлялась, почему Гарри проводит вечера в Порт-Ройяле чаще, чем в Данке, то она никому не говорила об этом. Однажды утром, когда они завтракали папайей, кокосовыми орехами, холодным пирогом, апельсинами и котлетами из телятины, Морган сообщил ей: — Я решил купить небольшой домик в порту. — И добавил, почти ничего не скрывая: — У меня все больше забот в гавани, поэтому мне нужно место, где бы я мог заниматься делами. Мэри Элизабет покраснела, проглотила комок в горле и опустила глаза. — Да, Гарри, конечно. В таком маленьком поселке, как Испанский город, который к тому же так близко был расположен к шумному Порт-Ройялу, трудно было укрыться от всеобщего пристального внимания. Спустя сорок восемь часов после визита Моргана к прекрасной иностранке Мэри Элизабет уже знала об этом. Теперь она могла описать цвет ковров и стиль мебели в маленьком уютном домике в самом конце Глочестер-стрит. «Без всякого сомнения, Гарри любит меня, — успокаивала себя Мэри Элизабет. — Разве он не демонстрирует свою привязанность ко мне сотнями разных способов?» В этом она была права, но она не догадывалась, что ее чопорное воспитание и присущая ей суровость не доставляли ему того удовольствия, которого требовала его натура. — Гарри, меня очень беспокоит одна вещь, — заметила она, выжимая лимонный сок на большую золотистую папайю. — Два дня спустя после твоего возвращения из Порто-Бельо этот странный мистер Бекфорд отплыл в Англию. Он ненавидит тебя и завидует тебе и твоему успеху. Это опасный враг. — Этот напыщенный дурак опасен? Ба! Пока Том Модифорд мой друг, я спокоен. Мэри Элизабет взглянула на своего мужа поверх тарелок с завтраком. — Том может оказаться для Бекфорда слишком мелкой пташкой. Помни, что, даже когда тебя приветствовали торговцы и толпы горожан на берегу, многие плантаторы высказывались против тебя, потому что ты увозишь в свои экспедиции слишком много работоспособных мужчин. Они утверждают, что пираты наносят серьезный вред колонии. Например, я выяснила, что многие из них тайно писали сердитые жалобы мистеру Беннету, секретарю лордов Торговой палаты. О Гарри, будь осторожен! Я молюсь, чтобы твой новый поход оказался удачным, иначе твои враги поднимут голову. — Если мне суждено сделать тебя «леди Морган», — он попытался рассеять ее страхи, — то я сделаю это за счет донов. Уже после полудня, когда солнце начало склоняться к горизонту и ветер с моря стал шевелить листву на деревьях, Морган вскочил в седло серого коня, которого подарил ему Бледри Морган, переставший наконец презрительно поглядывать на своего двоюродного братца и начавший относиться к нему почти что с благоговением. Однажды вечером на ужине он поднял тост за будущее адмирала и так напился, что свалился с лестницы. Почти семнадцать миль надо было проехать, прежде чем становились заметными огни Порт-Ройяла. В бухте Морган садился в гичку, которая всегда стояла наготове, и переплывал ее, направляясь в сторону мыса. Чем дальше отъезжал Морган от поместья Данке, тем сильнее менялось его поведение. Например, он начинал громче разговаривать, ругался чаще и живописнее, и, когда он добирался до мыса, одежда его была в совершенном беспорядке. Потом возвращался и отправлялся в таверну. Джекмен знал Моргана лучше любого другого жителя Вест-Индии, и его это страшно удивляло. Особенно потому, что такая странность стала особенно заметно проявляться последние две недели. В Порт-Ройяле Морган громко приветствовал первого встречного корсара и вел его и всю компанию в близлежащую таверну, там напивался, играл и иногда пел. Нередко он уходил из одной таверны, только чтобы заявиться в следующую с новой веселой компанией. Как правило, после первого же делового визита он ехал прямо к красивому кирпичному домику, который стоял немного в стороне от остальных в конце Глочестер-стрит. Дом, который он подарил Карлотте, отличался от других тем, что архитектор отказался от английского стандарта, который так плохо подходил к местному климату, и возвел более прохладный и более удобный одноэтажный дом типа тех, которые строили на Барбадосе. Стены патио и забора, окружавшего маленький сад, были старательно возведены из серого кирпича. Во всех слоях Порт-Ройяла расползались слухи о мадемуазель д'Амбуаз. Карлотте нравилось называться девичьим, французским именем. Жителям города редко удавалось видеть рыжеволосую тигрицу адмирала, потому что чаще всего она дышала свежим воздухом на борту шлюпки, которая прохладным вечером несла ее и Моргана, а иногда еще и нескольких друзей к какому-нибудь пустынному уголку в великолепной бухте. Когда она хотела что-нибудь купить, Зулейма, ее наперсница, молодая рабыня, наполовину арабка, наполовину негритянка, сообщала об этом купцам, которые были только рады сами прийти в этот, похожий на барбадосский, дом. Если Карлотте по какой-либо причине было необходимо самой выйти в город, то она до самых глаз закутывалась в вуаль. Ее изящная маленькая фигурка грациозного скользила в сопровождении двух неуклюжих телохранителей, которых приставил к ней адмирал. Первое, что бросалось в глаза гостю в барбадосском доме, была любовь Карлотты к перчаткам. Она не снимала их даже за ужином. Иногда ее перчатки представляли собой маленькое произведение искусства, потому что оказывались вышиты золотом и украшены причудливыми узорами из жемчуга. У любовницы адмирала было также много полуперчаток, которые оставляли пальцы открытыми, но закрывали ладонь и запястье. Но все-таки такое пристрастие казалось странным, потому что все до самого последнего пьяницы хотя бы один раз слышали рассказ о грозовом вечере в Кайоне. Однажды вечером в конце ноября, когда дожди почти прекратились и ярко сияли звезды, Карлотта и ее покровитель закончили ужинать в патио так поздно, что все многочисленные птицы в клетках — она их обожала — уже затихли и заснули. Как уже вошло у него в привычку, Морган развалился в гамаке. Его голова резко выделялась на фоне желтой подушки, рубашка расстегнута, босая нога чуть покачивается. Рядом с ним примостилась Карлотта на огромной круглой подушке. Все линии ее фигуры были видны под почти прозрачной рубашкой из черного шелка, вышитого маленькими пятиконечными серебряными звездочками. В ее пылающих волосах сверкали бриллианты; и они же свисали с мочек ее ушей. — Ты счастлив, Гарри? — Очень, — ответил он и печально взглянул на нее. — Но есть кое-что, чего мне недостает, чтобы почувствовать себя равным любому королю на свете. Ее зеленоватые и слегка блестящие глаза проследили за тем, как он резко повернулся. Если бы свет был немного ярче, то Морган заметил бы, что на губах Карлотты появилась тонкая, загадочная улыбка. — Ты должен сказать мне, Гарри, или я и сама догадаюсь. Ты удивляешься, почему я не смогла подарить тебе дитя как залог нашей любви? Морган кивнул и довольно грубо заметил: — Ни ты, ни какая-либо другая женщина. — А ты не был ранен? Да что я спрашиваю, я и сама знаю, что нет. Может, ты болен? — Нет. Конечно, я болел в детстве — корью, потом еще в юности у меня был гнойник на спине. Но все это ерунда. Длинные ресницы Карлотты задрожали, а ее рука, лежавшая на подушке, вздрогнула, когда пальцы другой руки прошлись по шраму. — Гарри, — прошептала она, — ты знаешь Зулейму? — Ты говоришь про эту ведьму-магометанку, которую я купил для тебя у Дабронса на аукционе? Ее голос зазвучал тихо и нежно: — Я была очень добра к ней, и поэтому она рассказала мне, что на ее родине отец Зулеймы был хакимом, знатоком чародейства и медицины. — Ну и что? — улыбнулся он. Отец Зулеймы был известным врачом в городе под названием Каир. Арабам известны многие тайны фармацевтики и хирургии, которые еще и не снились западным врачам. Он откинулся на подушки и с любопытством слушал ее. — Вчера речь зашла о бесплодии, — продолжала Карлотта, опустив глаза, — И Зулейма говорила о каком-то составе, который может вернуть способность к отцовству любому, кроме евнуха. Гамак скрипнул, когда Морган неожиданно выпрямился: — Ты не шутишь? — Нет, любовь моя. — Тогда добудь его для меня! Немедленно. Клянусь Богом, если только мне удастся зачать ребенка, я… я освобожу Зулейму и награжу ее по-царски. Прозрачная ткань зашуршала, когда Карлотта поднялась и отступила немного назад. — У Зулеймы его очень немного, и две ночи назад ты выпил это снадобье в бокале с малагой. В свете звезд Морган казался выше ростом. Он уставился прямо ей в глаза. — Как ты посмела так поступить, не спросив моего согласия? — Потому что я люблю тебя, Гарри, — выдохнула она. — Я схожу с ума от желания повторить твой образ в ребенке и любить вас обоих. — Это правда? — Он неожиданно схватил ее за плечи и приподнял. Ей понадобилось все присутствие духа, чтобы спокойно встретить его свирепый взгляд. — Я надеюсь и буду молиться всем святым, Гарри, чтоб отец Зулеймы был хорошим врачом.Глава 20 ДОНИСЕЛЛА МЕРСЕДЕС
Сладкозвучные колокола на колокольне Эль-Конвенто-де-ла-Мерседес громко оповестили всех о начале вечерни. Чистые, ясные звуки эхом отдались во влажном, неподвижном воздухе города и замерли в холмах за пределами Панамы. К хору на колокольне Эль-Конвенто присоединились высокие и менее мелодичные колокола монастыря Санто-Доминго. В их звоне было что-то заносчивое, как и во всем ордене доминиканцев. В общую мелодию ворвался частый перезвон колоколов в монастыре Сан-Франциско и обители Ла-Компанья, они торопились, словно солдаты, опаздывающие на поверку. На этот звук отовсюду появлялись почти все жители Панамы, чье население составляло около тысячи белых, три с половиной тысячи свободных негров и еще несколько тысяч рабов — негров и индейцев. Все лица обратились к массивной высокой башне, которая возвышалась над огромным кафедральным собором города. Это здание, построенное всего в нескольких ярдах от берега, было обращено к бескрайним просторам Южного моря *["416]. Раздалось постукивание четок, когда масса черных и коричневых тел упала на колени прямо на улицах и склонила головы, вознося вечернюю молитву самому католическому Богу, который защищал благочестивых жителей Испании, Италии и Португалии. Поскольку горький опыт убедил его, что лучше не выделяться из толпы, раб по имени Дэвид Армитедж тоже преклонил колена и шепотом повторил английскую епископскую молитву, которая была удивительно похожа на испанские. — Всемогущий Отец, я благодарю тебя, — с искренним чувством шептал он, — за твою бесконечную милость, что даже в руках моих врагов ты уберег меня. У него действительно были причины для благодарности. Ему часто вспоминалась судьба его товарищей по плену; один погиб в пламени жестокого аутодафе *["417]; другому поставили на лбу клеймо «Л» — «лютеранин», а потом сослали рабом на золотые рудники в Верагуа. — Научи меня мудрости, о небесный Отец, — продолжал Армитедж, — позволь мне научиться искусству врачевания у моих врагов. В главном доме, за кухонным садом, глубокий голос дона Андреаса де Мартинеса де Амилеты, судьи здешней провинции, смешивался с высокими голосами доньи Елены и ее дочерей, читавших молитвы. — Благослови, о, Господи, — от всей души попросил виргинец, — моего хозяина дона Андреаса, его добрую жену, их сына Фелипе и, больше всего, дониселлу Мерседес. Он исключил из своей молитвы дона Эрнандо, старшего сына и капитана отряда городской артиллерии, который постоянно твердил отцу, что опасно, если не греховно, держать в доме собаку лютеранина, даже такого замечательного врача, как этот раб по имени Давидо. Также Армитедж не чувствовал ни малейшего желания призывать благословение на голову старшей дочери дона Андреаса, дониселлы Инессы. Ограниченная, самодовольная ханжа и фанатичка, Инесса считала своим долгом отдать этого англичанина в руки трибунала святой инквизиции. Закончив свою молитву, Дэвид не сразу поднялся с колен, а еще какое-то время прислушивался к нежному голосу дониселлы Мерседес, тихой и веселой шестнадцатилетней девочки. Однажды она возникла перед ним, любопытная и быстрая, словно белочка, и спросила его, откуда он родом. Она с изумлением узнала, что он, Давидо, самый настоящий англичанин, но никогда в жизни не бывал в Англии, а родился в месте под названием Виргиния. — Конечно, — застенчиво сказала она,, — твоя родина не может быть плохой, потому что ее назвали в честь Святой Девственницы *["418]. И Дэвиду совершенно не хотелось разубеждать ее и объяснять, что его страна названа по имени великой королевы, а «девственность» сохранилась только в ее имени, — Я еще приду завтра, — пообещала она, разглаживая пышную желтую юбку, — а ты расскажешь мне об этой Виргинии. Adios. — И девочка выскочила из дверей лачуги, которую он использовал как аптеку и как место для ночлега. Армитедж продолжил размалывать корни мечоакана. С их помощью он надеялся ослабить приступы головокружения, которые уже год мучили добрую донью Елену. Он знал, что его благосостояние целиком зависело от состояния здоровья доньи Елены. Своеобразный парадокс заключался в том, что если его лекарство окажется удачным и донья Елена выздоровеет, то это может послужить сигналом к его аресту и передаче религиозным властям, которые горели желанием устроить над ним судилище. Пачкая свободные черные штаны из хлопка, Дэвид оперся о низкую глиняную стену и выглянул на улицу Санто-Доминго. Все было как всегда: негры-погонщики гнали скот с городских пастбищ; рабы из дома дона Андреаса несли ведра, чтобы наполнить их водой из водовозной бочки, потому что вода в городских колодцах Панамы была грязной, ржавой и совершенно непригодной для питья. Конечно, сестры обители Ла-Мерседес поставили цистерну, которая в дождливый сезон всегда бывала полна, но она снабжала водой только саму обитель и несколько близлежащих домов наиболее благочестивых жителей. Дэвид не мог понять, почему какой-нибудь губернатор уже давно не приказал соорудить цистерну, которая могла бы обеспечить водой весь город. Повернувшись, пленный врач снова оглядел длинный, низкий дом судьи де Мартинеса де Амилеты, покрытый пыльной крышей из красной черепицы. Поскольку донья Елена была родом из очень богатой семьи Пересов, то ее дом оказался разукрашен больше всех других домов в губернаторстве Панамы. Низкие арки, которые опирались на каменные колонны, создавали прохладную, затененную террасу, как спереди, так и сзади дома, построенного в форме буквы «Г», который был расположен на северном углу Плаца Майор и улицы Санто-Доминго. Дэвид с удивлением обнаружил, что в городе больше свободных негров, чем рабов. С еще большим удивлением он узнал, что по сравнению с Гранадой здесь почти не держали рабов-индейцев. Когда на дорожку перед его хижиной упала тень, он улыбнулся и слегка поклонился. — Добрый вечер, брат Пабло. — Да будет мир с тобой, сын мой. Пропыленный и запыхавшийся от жары, в грубых сандалиях и промокшей от пота коричневой рясе, брат Пабло подошел ближе. У него были мягкие седые волосы и такая же борода. Как обычно, в руках у францисканца оказался пучок какой-то травы. — У меня для тебя хорошие новости, сын мой, — сказал он. — Один мой индейский друг на сегодняшней охоте нашел вот эту великолепную разновидность рода карокас. Если помнишь, я говорил, что карокас — превосходное слабительное? — Еще раз благодарю вас, брат Пабло, и ваших друзей-индейцев. Я слышал, что местные аборигены считают вас святым. — Меня, святым? — Брат Пабло изумленно покачал изящной головой, — Я знаю, что ты не имел в виду ничего нечестивого, но мои грехи так велики и многочисленны, что я сомневаюсь, что мне когда-нибудь удастся выбраться из чистилища. Разве ты не знаешь, что правила нашего ордена предписывают оказывать несчастным индейцам не только религиозную, но и физическую помощь? Дэвид быстро понял, что это действительно так. За исключением фанатиков иезуитов и доминиканцев, практически все религиозные ордены в губернаторстве перешли от политики жестоких гонений к политике терпимости и благосклонности. — А эта трава для чего? — спросил Дэвид, когда они вошли в его хижину. — Это стручки обыкновенной цетерары. Приготовленная из них кашица помогает изгнать всех глистов из кишечника. — Пожалуйста, позволь мне зарисовать ее. За последний год неутомимая тяга виргинца к познаниям привела его к нескольким удивительным открытиям, которые он старательно записал на тех листках бумаги, что тайно ему принесла дониселла Мерседес и ее ученый брат, дон Фелипе, который через несколько месяцев должен был стать францисканским монахом. Дэвид быстро вытащил портфель, который составлял гордость всей его жизни. В нем хранились бумаги, где были описаны и зарисованы в цвете разнообразные лекарственные растения. Например, бесуго помогал при отравлении, особенно при укусе змеи; аниме, ароматическая смола, превосходно действовала при легочном крупе, а трава щитовидника помогала при любых кишечных отравлениях. Старый монах счастливо вздохнул, уселся и принялся наблюдать, как проворные пальцы Дэвида рисуют растение. — Я удивлен и восхищен, сын мой, — заметил брат Пабло, — при виде быстроты и мастерства, с которыми ты выучил наш испанский язык. Ты действительно очень умен, поэтому я каждый вечер молюсь, чтобы тебе было позволено и дальше продолжать служить на благо человечества. Дэвид вопросительно приподнял бровь. — Брат Хуан опять затевает неприятности? — Увы. Сегодня утром он бранил тебя в архиепископском духовном трибунале: Хорошо, что ты нашел поддержку в лице судьи де Амилеты и его преосвященства архиепископа, которому очень понравился состав, с помощью которого ты вылечил его от дизентерии. Он велел мне передать тебе вот это. — Брат Пабло быстро огляделся по сторонам и вытащил из рукава большую серебряную монету. — Более того, сегодня вечером, после наступления темноты, дон Андреас хочет, чтобы ты посмотрел жену дона Хуана Хименеса, старшего сержанта, командующего внутренними вооруженными силами города. Когда потребуется, он может стать мощным союзником. — Ведь это вы, — улыбнулся Армитедж, все еще занятый рисованием, — предложили, чтобы я осмотрел эту даму? Брат Пабло в замешательстве поковырял пальцем засохшее пятно от яичницы на своей коричневой рясе. — Я верю, что следует любой ценой пытаться облегчить человеческие страдания, даже руками неверных мавров. Это просто преступление, что после захвата Гранады король Фердинанд приказал обезглавить всех ученых хакимов, словно обыкновенных преступников. Когда во дворе дона Андреаса прозвонил колокол, возвещавший время ужина, брат Пабло тихо поднялся со стула. — Будь готов к девяти, и я зайду за тобой. Да, и не забудь как следует закутаться. Старшие слуги и лучшие из рабов уже давно забыли свою первоначальную враждебность к этому высокому рыжеволосому молодому человеку и дружелюбно приветствовали его, когда он появился с выдолбленной из тыквы тарелкой в руках и тыквенным ковшиком за своей вечерней порцией сушеной рыбы и жаренных в оливковом масле бобов. Вернувшись в хижину и устроившись за грубым столом, который он соорудил из ненужных дощечек, Дэвид задумался о том, удастся ли ему когда-нибудь передать своим землякам накопленные знания. Ему нужно устроить где-то тайник, потому что рабам не дозволялось иметь при себе бумагу. Если ему когда-нибудь удастся добраться до Старой или Новой Англии, то его имя станет известным всем. Хотя его желудок уже стонал от бесконечной жирной пищи, он вылизал все до последней крошки, а потом уставился на игру ящериц на засохшем дереве напротив Плаца Майор. В тысячный раз он стал придумывать план побега. Он был уверен только в одном: успешной должна оказаться первая же попытка, потому что второй уже не представится. Слишком живо вставали в его памяти воспоминания об одном португальском боцмане, который рискнул сбежать, но его поймали на острове Табога. Алькальд эрмандады *["419] приказал надрезать ему сухожилие на ноге и ослепить на правый глаз. Бедняга каждый день просил милостыню на ступенях кафедрального собора. Бесшумно вошел один из свободных негров, и Дэвид вздрогнул от неожиданности. — Донья Елена снова упала в обморок, — сказал он. — Идем скорее. Дэвида Армитеджа, хотя он и был закоренелым еретиком и одним из ненавистных англичан, очень высоко ценили в доме де Амилеты. Наверное, причиной тому стали не только его мастерство хирурга и врача, но и присущие ему внутреннее достоинство и вежливость. Поэтому Дэвиду, единственному из рабов, было разрешено носить обувь, что страшно раздражало капитана дона Эрнандо, старшего сына судьи. Улыбчивая темнокожая служанка открыла затейливо обитую железом дверь и впустила врача, такого чистенького в своей белой рубашке и черных свободных штанах. Рядом с ней стоял один из грейхаундов дона Андреаса с большими печальными глазами; он вначале зевнул, а потом гавкнул в знак приветствия, когда Дэвид прошел мимо него с корзинкой с травами и чемоданчиком с инструментами для пускания крови. Дэвид никогда не переставал восхищаться красотой этого огромного благоухающего дома; пол в некоторых комнатах был выложен паркетом из красного и черного дерева; в других же — из кедра, и от половиц до сих пор исходил тончайший запах. Для улучшения вентиляции в стены между многочисленными комнатами на первом этаже были вделаны железные решетки с богатым, причудливым узором. Сквозь открытую дверь он заметил младших членов семьи, собравшихся за ужином, состоящим из огромной золотистой подрумяненной индейки. Птица лежала на блюде среди риса с шафраном. К столу также были поданы баклажаны, маис и запеченные бананы. Все блюда подавались на серебряных тарелках, которые подносили мулаты в белых и голубых ливреях. К счастью, дон Эрнандо, высокий и прямой, в красивом черном мундире с красной отделкой, сидел спиной к двери. Дон Фелипе, студент, сидел напротив дониселлы Инессы. Ее нежный профиль четко просматривался в свете горящих свечей. «Вот девушка, которая всегда добьется своего, — подумал Дэвид, — Но того дурака, с которым она обручена, остается только пожалеть». Инесса была красива холодной, величественной красотой, напоминающей фрески на стенах в кафедральном соборе Панамы. Но даже самый ничтожный дровосек в Панаме знал, что дониселла выйдет замуж только за дона Карлоса де Монтемайора ради титула, который он рано или поздно унаследует. В противоположность ей дониселла Мерседес, которой пошел шестнадцатый год, была так же естественна и жива, как золотистая птичка колибри, порхающая вокруг распустившегося цветка граната. Она единственная среди детей дона Андреаса унаследовала от матери золотистые волосы — воспоминание о германских вандалах, которые на какое-то время обосновались в Северной Испании во время миграции через Иберийский полуостров в Северную Африку. Случайно подняв голову, она заметила проходящего Дэвида и улыбнулась ему такой теплой улыбкой, что виргинец рискнул ответить ей быстрым кивком и почувствовал, как его заливает неожиданная волна счастья. Служанка остановилась, заслонила свечу рукой и тихо постучала в дверь. — Войдите! — раздался голос судьи, в ответ служанка присела, повернула медную ручку двери и снова присела. На него производила огромное впечатление роскошь жизни в Панаме, ни в какое сравнение не идущая с провинциальной примитивностью Виргинии. Например, в этой комнате сверкающий паркет красного дерева был прикрыт ковриками из невероятно мягкого меха ламы. Над огромной кроватью доньи Елены простирался балдахин из необыкновенно яркого зеленого и золотого дамаска, который привозили из Италии, а в глубокой нише слева в стене, позади кровати, две свечи из пчелиного воска освещали изящный образ Божьей Матери, высотой в фут, выточенный из слоновой кости. Маленькую фигурку украшали изумруды и жемчуг. А на грациозной готической головке скульптуры покоилась тяжелая золотая корона с бриллиантами чистейшей воды и огранки. Даже подставка для статуэтки была сделана из золота и украшена рубинами размером с мизинец на женской руке. «У капитана Джека Морриса или Кэтфута просто слюнки бы потекли, глядя на такое богатство», — подумал Дэвид, подходя к кровати. Донья Елена тихо стонала, очевидно, у нее был обычный припадок головокружения. Рядом сидел дон Андреас и держал ее за руку. Наверное, он собирался выходить по делам, потому что на нем был жемчужно-серый костюм с серебряными пуговицами и отделкой. На тяжелом золотистом воротнике виднелся огромный бледно-желтый бриллиант. Его острая седая бородка гармонировала с тяжелыми бровями и седыми волосами. Еще два бриллианта сверкнули в ушах судьи, когда тот перевел быстрые черные глаза на вошедшего. Виргинец согнулся в низком поклоне. С самого начала Армитедж отказался следовать обычной практике преклонения коленей перед хозяином. — Благодарю за то, что ты так быстро пришел, Давидо. Надеюсь, что ты вернешь донье прежние силы. Дэвид взял тонкое запястье, безвольно свисавшее из пены кружев. Пульс оказался жестким и быстрым, и Армитедж решил, что у его пациентки лихорадка. — Горе мне, — простонала наполовину утонувшая в подушках изящная фигура. — Андреас! Врач-лютеранин пришел? — Да, мое сердце. — На орлином лице судьи де Амилеты было написано искреннее участие. Дэвид принял все меры против лихорадки, которые были приняты в тогдашней медицине. Он пустил кровь, шесть унций, а потом приставил к вискам доньи Елены пиявки, чтобы оттянуть застоявшуюся кровь. Потом он порылся в своей корзинке с лекарствами. Может, попробовать противолихорадочное средство, траву, которую ему указал Кумана, давным-давно, во время возвращения из Гранады? Конечно, лучше было бы проверить эффективность эскобиллы на менее значительном пациенте, но познания Куманы оказались настолько точными и основательными, что Дэвид без колебаний развернул бумагу с листьями эскобиллы, растолок ее в ступе и размешал. — Теперь мне нужно очень легкое Канарское вино, ваша честь. — Затем Дэвид маленьким серебряным ланцетом отделил пиявок; ни в коем случае не следовало оставлять шрамов на голове Такой классической формы. В вине растворили порошок эскобиллы, совсем немного, кучка порошка была не больше серебряного реала. — Ваша честь не приподнимет голову вашей жены? — попросил Дэвид. — Нет, у вас это лучшеполучится, — ответил дон Андреас и остался на месте, глядя на свою ослабевшую супругу. Казалось невероятным, что такая изящная женщина вышла замуж в шестнадцать лет и родила семерых детей. Бессильно откинувшаяся на руках у высокого, ясноглазого и рыжеволосого чужеземца, она была похожа на поникший цветок. Когда Армитедж снова уложил ее на плоскую и жесткую подушку, то донья Елена слегка прикрыла веки в знак благодарности, которую у нее не было сил высказать словами. — Когда ей станет легче? — спросил дон Андреас. Если честно, то Дэвид не имел ни малейшего понятия, но ответил так, как веками отвечали врачи на подобные вопросы: — Все зависит, ваша честь, от общего состояния организма вашей жены. Вы позволите мне остаться с ней? — Он хотел понаблюдать за реакцией пациентки на лекарство. — Да, мы отойдем в дальний конец комнаты. — Отпив глоток вина, судья уселся в большое кресло у дверей спальни, предоставив рабу стоять на ногах. — Скажи, Давидо, ты прожил в нашем доме почти год, что ты думаешь о нас, испанцах? Армитедж заколебался. — Ваша честь, мне кажется, что, не считая различий в языке и климате вашей страны, ваши и мои люди одинаково надеются, боятся и стремятся к одному и тому же. Конечно, в Северной Америке мы не так богаты. Например, в колонии Виргиния один-единственный серебряный соусник и несколько серебряных ложек считаются богатством. Судья был удивлен и задумался. — Это правда? Может, это объясняет, почему эти дьяволы… э… то есть твои соотечественники так стремятся ограбить нас. — Прошу прощения, дон Андреас, но причина наших набегов не в этом. Испанец медленно пригладил посеребренную сединой бороду. — Ты меня заинтриговал. Говори же, объясни, что ты имеешь в виду. — Истинная причина кроется в том, что ваш король и его советники пытаются удержать естественное развитие торговли. Если бы английским, Французским и голландским купцам разрешили легально торговать с Вест-Индией и Тьерра Фирме, то пираты и корсары почти мгновенно прекратили бы свое существование. И я еще раз повторю, что глупо пытаться ограничить торговлю, поскольку Испанская Америка испытывает необходимость в большем количестве товаров, чем то, которое предоставляет ей Старая Испания. Аргументы Армитеджа настолько поразили дона Андреаса, что он продолжил расспросы, но Дэвид уже не мог откровенно ответить на большинство из них. — Я боюсь, что мир не понимает нас, испанцев, которые обосновались в Новом Свете почти два века назад, — продолжил свою речь судья. — Мы больше не жестокие и свирепые бандиты-конкистадоры, какими были Кортес, Писарро и Педро д'Авила. Мы мелкопоместное дворянство. Это наш дом. Вы знаете, что здесь законом запрещены гонения на индейцев? У Дэвида чуть было с языка не сорвалось замечание о том, что он видел в окрестностях Гранады, но он вовремя удержался. — Нет, Давидо, мы здесь, в Кастильо-дель-Оро и в Панаме, хотим только одного — чтобы нас оставили в покое, чтобы мы могли благословлять Господа, и проповедовать истинную веру, и воспитывать наших детей в понятиях чести и порядочности. — Андреас? — Слабый голос женщины прозвучал очень тихо в этой комнате. — Андреас? Где ты? Оба мужчины рванулись вперед, и Дэвид вздохнул с облегчением. С распустившимися русыми волосами донья Елена сидела в кровати и слабо улыбалась. С ее лица исчезло напряженное выражение. — Что это за чудо? Слава Божьей Матери. Мои боли рассеялись, словно туман под солнечными лучами. О Андреас, я хочу есть. Пусть Армида принесет мне молока и тортильи. — Alma de mi vida *["420], — пробормотал судья. — Ты должна сказать спасибо Давидо. — Я буду молиться за его душу… С просветлевшим лицом судья повернулся к рабу: — Давидо, чем мне вознаградить тебя? Армитедж ни секунды не колебался. — Только кожаный портфель или два и сундучок, где бы я мог хранить мои медицинские записи. А еще, могу я попросить бумагу и краски? Дон Андрее в изумлении уставился на него. — И это все? Боже Всемогущий! Ты совершил невозможное. Говори, чего ты хочешь, не стесняйся! Ему предоставлялась великолепная возможность, может быть, возможность сбежать. — Тогда разрешите мне выходить на прогулки и искать лекарственные травы. Между густыми бровями дона Андреаса появилась резкая морщина. — Хорошо, Давидо, потому что я обещал. Но ты должен быть очень осторожен. Многие здесь в Панаме и так ругают меня за то, что я покровительствую английскому шпиону. Смотри не проявляй излишнего любопытства по поводу городских укреплений, которых не очень-то много, а то мой сын Эрнандо снова потребует твою голову. А теперь иди, Давидо, и да будет благословенно твое искусство. Вот тебе два дуката. Я позволяю тебе купить себе одежду получше. Слухи о чудесном выздоровлении доньи Елены так быстро распространились по всему городу, что дошли даже до ветхих хижин, в которых маялись животами маленькие коричневые детишки. Слухи дошли и до лавки Амброзио, поставщика свечей двору его преосвященства архиепископа, и на мгновение прервали щелканье ножниц в цирюльне Лудовико эль Джудио. Королевский прокурор рассказал о чуде за завтраком своей жене, а она пересказала эту новость главному альгвасилу — старшему полицейскому чиновнику Панамы. Поэтому, когда дониселла Мерседес с высоты своих шестнадцати лет потребовала, чтобы Давидо сопровождал на прогулке ее и ее дуэнью, за ними наблюдало множество любопытных глаз. Армитедж навсегда запомнил Панаму красочным городом на берету темно-синего океана. Ранним утром, когда солнце еще не пекло так, как оно будет свирепствовать днем, дониселла Мерседес и лютеранин, раб ее отца, отправились в путь в сопровождении двух грузных негритянок с корзинами овощей и фруктов для сестер обители Ла-Мерседес. Семья Амилеты частенько покровительствовала всякому сброду. Жозефа, дуэнья, была метиской, чья огромная задница всегда покачивалась не в такт с такими же огромными грудями. — Подойди, Давидо, я хочу видеть тебя, иди рядом со мной, — величественно произнесла Мерседес. Армитедж подумал, что девушка выглядит просто прелестно. На ней была соломенная шляпка и простое белое с алыми узорами платье с пышной юбкой. Рядом немедленно возник улыбающийся во весь рот негритенок с большим зеленым зонтом от солнца, в котором пока не было никакой нужды. Первую остановку они сделали у свечной лавки Амброзио, потому что донье Елене были нужны свечи для домовой часовни, а дониселла Мерседес собиралась зажечь в обители полдюжины свечей в знак благодарности за чудесное мамино выздоровление. Если бы он мог, Армитедж с удовольствием поставил бы свечку в честь Куманы. — Подойди, Давидо, ты должен взглянуть на торговца лучшими кожами во всей Панаме! Серафино Бланко привозит отличные кожи из Кордовы в Старой Испании, кожаные изделия мексиканских умельцев, обувь из Маракайбо и сбрую из Перу. А если перейти через улицу, то там живет Франческа Морена, моя портниха. Она превосходная рукодельница, но постоянно ждет ребенка, поэтому никогда не может уделить мне много времени. Впереди показалась вереница запыленных, навьюченных тюками мулов. Пестрые колокольчики только подчеркивали их удрученный вид. Они спускались с Пакоры, следуя на запад. На улицах раздавались крики гусей, кур, индюшек и домашнего скота. Мерседес задержалась перед лавкой, где торговали животными: различными видами обезьян с печальными глазами, голубыми и зелеными попугаями, сороками, красочными макао и сотнями разноцветных маленьких птичек, которые весело посвистывали. В следующей лавке Мерседес купила на ужин рабам жирную большую игуану, которая была так связана, что не могла пошевельнуться. Все знавшие о чуде исцеления, а это практически весь город, во все глаза таращились на высокого лютеранина, который вышагивал за дочерью своего хозяина по направлению к западной окраине города, к богатейшей и широко известной обители Ла-Мерседес. Уже появились разносчики воды с криками: — Кувшин воды всего за грош! Продавцы дров немилосердно нахлестывали осликов, навьюченных тяжелыми вязанками. — Эй! — На пороге дома внезапно появлялась хозяйка и звала разносчика рыбы или молока. В ожидании дониселлы Мерседес, исчезнувшей за дверями обители, чтобы помолиться своей святой, Дэвид уселся на парапете большого моста. За ним вздымалась сторожевая башня, которая охраняла подходы к городу с севера. Вдали в море он смог разглядеть коричневые паруса рыболовецких судов, направлявшихся к островам Табога и Табогилья. Внимание Дэвида привлекла группа матросов и рыбаков, которые шли вниз по дороге; они остановились и указывали куда-то на юг. — Галион с золотом! — крикнул один из них за мгновение до того, как в крепости Баллано раздался пушечный выстрел. Эта крепость охраняла вход в на редкость неудобный Панамский порт — во время отлива все корабли оставались на песке совершенно беспомощные, словно стая рыбок, запертых в обмелевшей лагуне. — Галион! Галион из Перу! — раздались крики в грязных деревянных, покрытых пальмовыми ветвями домах, которые составляли девяносто процентов построек в городе. Люди выскакивали из домов, а лавочники поспешно заносили товары в лавки и возбужденно закрывали деревянные ставни, защищавшие лавки от непогоды и от воров. Вскоре толпа обрадованных жителей начала собираться там, где было построено семь административных зданий, включая адуану-таможню, королевскую казну, арсенал, суд и дворец губернатора. Бегом, с развевающимися юбками, Мерседес выскочила из обители, в руках у нее все еще были зажаты четки. — Давидо, это правда, что показался галион из Перу? Армитедж пожал плечами. — Судя по приветственному салюту, это правда. — Тогда идем, англичанин, идем, тебе повезло, ты увидишь зрелище, которое бывает всего раз в три года! Озадаченная всеобщим движением, дюжина стервятников взлетела высоко над городом и неподвижно парила в высоте. — Отчего такая спешка? — удивлялся виргинец, торопливо шагая за дочерью своего хозяина. — Тот корабль пристанет еще часа через три. Только тут дониселла Мерседес поняла то, о чем он догадался уже давно. — Боже правый! Мы потеряли Жозефу и рабынь, -ахнула она. — Быстрее, Давидо, быстрее, мы должны уйти с улицы. Вон там расположен сад обители Святой Анны. Мы спрячемся там, пока Жозефа нас не найдет. — А она найдет нас? — спросил он, когда они наконец остановились в тени огромного дерева. — В конце концов, я ведь всего-навсего раб твоего отца. — О Давидо, не говори так, я никогда не думала о тебе так, — запротестовала Мерседес, и ее голубые глаза вспыхнули. — А… как же ты тогда думала обо мне? — Как о кабальеро, которому не повезло и… и… — Как о несчастном еретике-лютеранине? — Это был нечестный вопрос, и Дэвид знал это. Мерседес вспыхнула, а потом взглянула ему прямо в глаза. Она тихо произнесла: — Нет, Давидо, я так не думала, но только не рассказывай никому об этом. Мы поклоняемся одному Господу, одной Божьей Матери и ее Сыну. Разве этого не достаточно? — Мне бы хотелось, чтобы это было так, — вздохнул Армитедж и печально огляделся. Если их заметят здесь одних, без дуэньи Мерседес, то злые языки начнут трезвонить без умолку. Поэтому он старался держаться предупредительно-вежливо. Дониселла Мерседес совсем запыхалась, поэтому она сняла широкую желтую соломенную шляпу и принялась обмахиваться так быстро, что ее золотистые волосы развевались, словно от ветра. — Да, Давидо, золотой галион действительно прибывает с королевскими сокровищами. Mira! Смотри, солдаты! — Она радостно показала на отряд солдат с аркебузами, который мерно вышагивал в пыли. — Разве они не великолепны? Скажи, у тебя на родине есть регулярные войска? — Нет. Только «обученные отряды». — Обученные отряды? — Колонисты в Виргинии очень бедны, и их немного, поэтому мы не можем содержать регулярную армию. Но все совершеннолетние мужчины должны по очереди участвовать в походах против индейцев. Глаза у нее округлились. — Как, у вас тоже есть индейцы? — Да, — кивнул он, — еще более злобные и коварные, чем у вас. — Тогда мне тебя жаль, дон Давидо. — Он удивленно взглянул на нее. Впервые Мерседес прибавила к его имени уважительное обращение «дон». Со странным чувством удовольствия он покраснел до корней волос. Поигрывая пылающим бутоном гибискуса, она попросила: — Расскажи мне о своей семье! У тебя есть братья или сестры? — Да, — ответил он, не отрывая глаз от привлекательной девушки. — Мой отец был деканом колледжа — а может, и до сих пор занимает эту должность — в местечке под названием Джеймстаун. — Значит, в Северной Америке нет университета? Армитедж покачал головой. — Нет. Я слышал, что в колонии в бухте Массачусетс есть колледж под названием Гарвард, но где это, я не знаю. Девушка улыбнулась. — Как странно. У нас в Новой Испании много университетов, некоторым из них уже больше ста лет, например Мексиканскому университету или университету в Лиме. Но где же ты учился? — Мой отец отдал меня в ученики к старому доктору Леонарду, способному хирургу и врачу в нашей колонии. В Джеймстауне жил и доктор Дюбуа, и он был обижен, что папа, его шурин, не отдал меня учиться к нему. — Девушка слушала его со все возрастающим интересом. — Однажды я услышал, что папа неожиданно серьезно заболел. Пара попугаев вспорхнули с соседнего фигового дерева и уселись на ветке прямо над головой Мерседес, сверкающие словно живые драгоценности. — Когда я вернулся домой, то обнаружил, что доктор Дюбуа, этот самовлюбленный и самодовольный осел, чуть не убил моего отца, пустив ему слишком много крови, и собрался потчевать его микстурой, которая принесла бы отцу намного больше вреда, чем пользы. Заметь, что к этому времени я уже проучился три года у хорошего учителя, поэтому я назвал Дюбуа невежественным шарлатаном и выгнал его из дома. В ярости он схватил кочергу и бросился на меня, но ему не повезло. У меня в руках был скальпель, поэтому… — Ты убил его? О-ох. — С округлившимися глазами Мерседес слегка отпрянула. — Да. Иначе он убил бы меня. Мы были одни, и я не смог бы доказать, что это была самозащита. Поэтому я решил, что мне будет лучше покинуть Джеймстаун. Он заметил, что венок из цветов, который девушка начала было плести, лежит, забытый, у нее на коленях. Как мила была Мерседес, когда она вот так тихо сидела, и как прекрасна в минуты гнева. К удивлению Армитеджа, ему с трудом удалось отогнать от себя образ Мерседес, возникавший перед его мысленным взором, даже когда он трудился над описанием новых трав и птиц. — И так ты стал пиратом. — Я знаю, что ты мне не поверишь, — возразил он, -но клянусь, что братья — это не пираты. Многие из нас -это люди, которым просто не повезло, как мне, и которые по той или иной причине оказались вынуждены покинуть родину. — Эти демоны не пираты? — Мерседес недоверчиво рассмеялась. — Но кто же, кроме пиратов, может творить такие зверства, как это чудовище, сын сатаны по имени Энрике Морган? Брат Хуан называет этого адмирала воплощением антихриста. Он попытался объяснить ей, хотя и не надеялся на успех. — Возьми, например, Олоннэ, он разграбил Маракайбо несколько лет назад. Вот он действительно пират, и, между прочим, большая часть его матросов — выходцы из Испании, совершенные подонки. А адмирал Морган — один из братьев. Сидя на влажной садовой ограде, Мерседес некоторое время раздумывала, а потом возмущенно всплеснула руками. — Но, дон Давидо, в чем же разница? — Пойми, — тихо и серьезно сказал он, — что пират -это просто вооруженный грабитель, который не признает никакого правительства и не плавает ни под каким флагом, кроме красного пиратского, и никому не верит, ни Богу, ни дьяволу. Береговое же братство обычно сражается по законам различных государств. У нашего адмирала и его капитанов есть каперские поручения, законным образом подписанные британским губернатором на Ямайке. — Если, как ты говоришь, братья воюют по правилам, — теперь у Мерседес был совершенно растерянный вид, — то почему же люди этого Энрике Моргана так зверствовали в Порто-Бельо? И снова Армитедж наклонился к ней и взглянул прямо в ее печальные и удивленные глаза. — Я боюсь, что это была просто месть за такую же жестокость по отношению к нашим кровным братьям; месть за жестокость, которую проявляли ваши священники и чиновники. — Наши священники! — Она быстро перекрестилась. — О Давидо, как ты можешь говорить такую злую, совершенно неправдоподобную неправду? — Я не лгу, — попытался убедить он ее, но тут же понял всю бессмысленность подобного спора. — Ты хочешь убедить меня, что преподобный монах вроде брата Пабло позволит мучить беззащитных пленников? — Если бы все монахи и священники были похожи на брата Пабло, то таких жестокостей не было бы, но ты когда-нибудь глядела в глаза брата Иеронимо, того доминиканца, который иногда заходит к вам домой? Ты помнишь, как он приказал выдать второго повара доньи Елены религиозному трибуналу и что с ним случилось потом? — Но… но даже брат Пабло признал, что этот несчастный глупец впал в ересь и поклонялся поганым богам. — Ты еще очень молода, дониселла Мерседес, поэтому я не буду рассказывать тебе, что сделала с беднягой святая инквизиция, но сейчас он лежит в темнице напротив Плаца Майор, и ноги у него так переломаны, что он не может встать. — Этого не может быть! — вспыхнула Мерседес. — Ты… ты врешь, еретик! — Может быть, это даже лучше, что ты так думаешь, — заметил Армитедж и вскочил. — А! Вот наконец и достопочтенная Жозефа… Запыхавшаяся дуэнья вбежала в сад, от гнева она покраснела, словно попугай макао. — Ах вот ты где, несчастная, бестолковая девчонка. Целый час ты тут одна с этим человеком! Вот увидишь, что будет, когда об этом узнает дон Андреас. Я обыскала всю дорогу от Генуэзского дома до королевской таможни. Жестокая девчонка, ты, наверное, хочешь, чтобы Жозефу отхлестали кнутом? Мерседес вскочила на ноги, и глаза у нее сверкнули: — Замолчи, старая дура. Если мне захотелось поговорить с маминым врачом на улице, то это мое дело. Ты ничего не скажешь его чести, моему отцу. — Ай! Ай! Ай! — Несчастная дуэнья закрыла лицо фартуком, и ее пухлая фигура затряслась от безудержных всхлипываний.Глава 21 ЗОЛОТОЙ КОРАБЛЬ
Едва дониселла Мерседес с сопровождающими вернулась домой, как появился судебный пристав, которого прислал старший лоцман. Он примчался из порта за Дэвидом, который приводил себя в порядок и благодарил Бога за то, что дуэнья вовремя вернулась. — Пошли, лютеранская собака. — Судебный пристав оказался тощим, мрачным на вид мужчиной. Его лицо было сильно повреждено сифилисом. — Его честь судья де Мартинес де Амилета приказывает тебе немедленно отправиться в таможню; на борту галиона из Перу много больных. Пристав оказался совершенно прав; на борту большого высокобортного корабля, выкрашенного в голубую и желтую краски, который сейчас стоял на якоре перед жалкой городской гаванью, действительно было много больных. Через неделю после выхода из Лимы на корабле вспыхнула лихорадка, от которой умерла почти треть экипажа «Глории-а-Дьос». Еще столько же были больны или умирали. Слухи о болезни заставили разбежаться почти всех зрителей в порту, но у некоторых жадность оказалась сильнее страха, и они подплывали к кораблю на лодках и предлагали свежие фрукты и продукты. По самым скромным подсчетам, «Глория-а-Дьос» 6ыл самым большим кораблем, который видел Армитедж. Но выглядел он чрезвычайно неуклюже из-за высоких надстроек в форме башен, возведенных на корме и носу. Хотя три его мачты были местами поломаны, а паруса потрепаны и порваны штормами, но барельеф на корме галиона, рисующий картину торжества святого Габриэля над демоном Аполлионом, переливался яркими красками и был щедро позолочен. Над золотым галионом развевалось личное знамя командовавшего им генерала. Любопытно, что испанцы чаще всего доверяли командование такими большими судами военным офицерам. Личное знамя смотрелось необычайно красиво. На нем были изображены три черных головы мавров на фоне диагональных голубых и золотых полос. — Фу! — Портовый врач Гонсало де Эрреро зажал нос, набухший и покрасневший от слишком разгульной жизни. — Да здесь, похоже, и правда дело плохо. Когда карантинные власти и лютеранин поднялись на борт, начался отлив, и «Глория-а-Дьос» почти села на дно под пронзительные вопли чаек, крачек и других морских птиц. Армитедж, из последних сил сдерживая приступ рвоты, увидел, что палубу корабля с сокровищами можно было сравнить только со свинарником. Капитанский мостик тоже выглядел довольно жалко, хотя там и было почище. Там, на мостике, под ярким желтым навесом стоял генерал-лейтенант Энрико де Браганса — португалец, многие из которых служили в испанских войсках. Полковник, помощник дона Хуана Переса де Гусмана, губернатора Панамы, преемника невезучего Бракамонте, которому поражение в Порто-Бельо стоило его поста, зажал кос и быстрыми шагами прошел на капитанский мостик. Портовый врач приостановился только для того, чтобы бросить через плечо: — Эй ты, собака-еретик, немедленно спустись на нижнюю палубу, перепиши больных и укажи их состояние. Никогда Дэвид Армитедж не сможет забыть те картины, звуки и запахи, которые он увидел внизу, потому что галион, который был хорошо вооружен и считался надежной защитой от пиратов, оказался сильно перегружен. На борту «Глории-а-Дьос» плыли солдаты, прелаты, богатые купцы, матросы и узники, которых возвращали в Испанию, чтобы их судили за преступления, неподвластные юрисдикции колониальных судов. Вся нижняя палуба оказалась усеяна трупами и умирающими, которые валялись прямо на голых досках. Некоторые из трупов уже начали разлагаться, и становилось ясно, что они лежат уже несколько дней. И еще долгое время после прилива Дэвид прилагал все усилия к тому, чтобы доставить больных в здание карантина, где они могли выжить благодаря хорошему уходу сестер-сиделок из обители Ла-Компанья, старательных, но немного неловких. Только через три дня смог Армитедж, уставший, измученный, с ввалившимися глазами, вернуться домой на виллу де Амилеты. До того как войти в дом, он сменил белье, потому что на корабле кишели вши, клопы и прочие насекомые. У некоторых матросов можно было найти самых разнообразных паразитов. Армитедж уже понял, что между болезнью под названием «тюремная лихорадка», с которой он впервые столкнулся в Джеймстауне, «походной лихорадкой», которую описывали старые солдаты, и этим заболеванием, которое называли «корабельная лихорадка», нет совершенно никакой разницы. Может ли это быть одна болезнь? Возможно — ведь все три появляются только тогда, когда на маленьком пространстве собирается много грязных людей. В третий раз намыливая рыжие волосы и драя себя мочалкой, виргинец упорно пытался решить эту проблему. Когда он велел покурить на «Глории-а-Дьос» серой и заставил вымыть внутренние помещения галиона водой с уксусом, то появилась тройка королевских таможенников и важно спустилась в трюмы. Там лежали золотые слитки, которые везли из вице-королевства Перу — Панама также являлась подчиненной территориальной единицей, называемой генерал-губернаторством, и входила в это вице-королевство. Чиновники важно осмотрели большие сургучные печати на кованных железом сундуках и объявили, что ни одна из них не нарушена. Не менее ста двадцати пяти таких сундуков было вынесено на берег и поставлено в ряд под охраной вооруженного отряда под командованием капитана дона Эрнандо де Амилеты. Потом их перевезли в королевское казначейство на мысе Матадеро. Здесь сокровища будут храниться и ждать отправки через перешеек в Порто-Бельо; город постепенно оправлялся после разгрома, который учинил в нем адмирал Морган. И в действительности с атлантического побережья Кастильо-дель-Оро приходили утешительные вести: в этом году не было набегов пиратов с Ямайки. Армитедж умолял дона Андреаса не позволять никому из зараженной команды сойти на берег. Дон Андреас выслушал его, спросил почему и расхохотался. — Но, Давидо, блохи, вши и так далее не имеют ничего общего с распространением заразы. Да любой негр, индеец и нищий испанец в этом городе — это просто ходячее убежище для всех паразитов и насекомых. Ты только испортишь свою репутацию, если будешь утверждать такую чушь. — Он улыбнулся. — Его превосходительство губернатора информировали о твоем искусстве и стремлении принести благо людям. Я не обещаю, но надеюсь, что моя просьба к властям об освобождении тебя от рабства будет удовлетворена. — Освобождении? — От неожиданности Армитедж не мог подобрать слов. — Я стану свободным? — Я так думаю — где-то через неделю. — От всего сердца благодарю вас, ваша честь. — Армитедж задохнулся от счастья, и в глазах у него потемнело. Два дня спустя, когда виргинец работал над зарисовкой великолепного заката, напротив садовой ограды появилась дониселла Мерседес и поманила его к себе. На ее губах играла счастливая улыбка. — Ох, дон Давидо, подойди сюда, — позвала она. — У меня есть новость, которая позволит нам видеться и разговаривать друг с другом на равных. — Ты хочешь сказать, что я… я обрету свободу? — Да, завтра в честь признания твоего самоотверженного труда на борту «Глории-а-Дьос» губернатор подпишет эдикт, возвращающий тебе свободу. — И она стыдливо добавила: — Мой друг. — Я бесконечно польщен, что ты захотела сама сообщить мне эту чудесную новость. — О Давидо! — громко и радостно воскликнула она. — Я так счастлива, и моя матушка донья Елена тоже. Она послала тебе вот это и свое благословение. Мерседес перекинула через низкую, усыпанную осколками стекла стену кошелек из красного шелка, который тяжело шлепнулся на землю и приятно звякнул. — Открой его, — попросила Мерседес. — Открой. Кроме прочего, там есть маленькая цепочка. Это от меня. Ты можешь носить на ней медальон своего святого. На мгновение потеряв дар речи, Армитедж не мог отвести взгляд от этой стройной девушки и внезапно понял, что он влюбился, влюбился впервые в жизни. Какое еще чувство могло так сладко и в то же время жутко отозваться в его душе? — Мерседес, — хрипло прошептал он. — Я… мне так много надо тебе сказать, но мое сердце переполняют чувства, и я еще не свободен. Со стороны дома донесся крик: — Мерседес! Где ты, Мерседес? С лица девушки исчезло живое выражение. — Горе мне! — печально воскликнула она. — Это Инесса! Я должна идти, но вечером я буду молиться и благодарить Господа за тебя. Она повернулась и поспешила прочь, ее желтые шелковые юбки тихо зашуршали. Когда с шеи Армитеджа сняли железное кольцо, которое он носил почти целый год, он почувствовал себя заново рожденным. Он никак не мог поверить в то, что теперь у него в новом коричневом кожаном кошельке лежало подписанное свидетельство об освобождении. Вышел и официальный бюллетень, в котором говорилось, что его превосходительство дон Хуан Перес де Гусман имел удовольствие удовлетворить прошение, поданное доном Андреасом де Мартинесом де Амилетой. На пути домой из карантинного здания виргинцу представилась возможность своими глазами убедиться, что в его жизни произошла перемена. Амброзио, торговец свечами, и Антонио, цирюльник, важно поклонились ему и даже дотронулись до шляп, когда он проходил мимо. Еще больше улучшили его настроение попавшиеся ему навстречу доминиканцы и иезуиты. Один из церковных священников даже заявил своей пастве: — Этот лютеранин спас так много католиков, чтобы они могли и дальше служить истинной церкви, что Божья Матерь простит ему многие еретические заблуждения. — Лучше наслаждаться спасением в раю, — пробурчал брат Иеронимо своему настоятелю, — чем жить в мире, где помогают еретикам. Не могу понять, преподобный отец, почему вы не подали протест архиепископу. — Я уже обращался к его святейшеству, — вздохнул настоятель, — но он притворился глухим. Однако святая инквизиция в Мадриде узнает об этом. Не сомневайся, сын мой, мы еще увидим, как это порождение сатаны, еретик, наденет желтую рясу и будет корчиться на костре и вдыхать запах своего собственного горелого мяса. Свободный, но обязанный отработать у дона Андреаса еще пять лет, Армитедж теперь занимал комнатку в маленьком домике, который стоял немного в стороне. Там он мог спокойно заниматься своими исследованиями и все возрастающей практикой. В то же время ему все труднее становилось скрывать растущую между ним и дониселлой Мерседес привязанность. — О Давидо, если бы только ты согласился принять католическую веру, — прошептала она однажды, когда они гуляли в саду. — Я уверена, что папа благословил бы нас. Но, увы, ты так упрямо придерживаешься своей веры. Правда? — Да, — согласился он. — Странно, что мы так держимся за те верования, которым нас научили на рассвете жизни. — Он остановился и взял ее за руку. — Ты, например, ни за что не смогла бы отказаться от своей церкви, верно? Девушка в изумлении уставилась на него. — Как можешь ты даже высказывать такое предположение! Даже ради твоей любви, которую я ценю больше всего на свете, не соглашусь я обречь свою бессмертную душу на вечное пламя ада. Наступила осень, и была назначена дата обручения дониселлы Инессы и дона Карлоса де Монтемайора. Вокруг все говорили о свадьбе, а чувство между Мерседес и Дэвидом все росло и росло. — Знаешь, любовь моя, — воскликнула она однажды днем, — я узнала, что во Франции мы могли бы пожениться, хотя ты и лютеранин, если ты поклянешься, что будешь воспитывать наших детей в католической вере. Армитедж взял ее руку и поцеловал. До сегодняшнего дня он лишь осмеливался слегка прикоснуться к ее щеке губами. Помедлив с ответом, он решил избежать скользкой темы, сказав: — Если бы я только мог бежать через перешеек. На атлантическом побережье мы нашли бы друзей, а на острове Санта-Каталины оказались бы в безопасности. Мерседес быстро взглянула на него и рассеянно улыбнулась. — О Давидо! Разве это возможно? — Я думаю, что мог бы уговорить индейцев довести нас туда. Они меня любят, и я могу вполне сносно объясняться на их языке. — Тогда, — Мерседес вспыхнула, словно пунцовый бутон, которых так много распустилось вокруг на ветках деревьев, — после свадьбы сестры Инессы я попрошу маму навестить с визитом мою тетю Иможению в Чагресе. Я уверена, что смогу упросить ее взять тебя в качестве сопровождающего. — Чудесно! Какая ты умница. — Он просиял и наконец-то, в тени бельведера, он обнял Мерседес и впервые коснулся в поцелуе ее губ, которых до этого не касался никто. Никто не мог понять, почему в полдень церковные колокола зазвонили так мрачно и торжественно. По городу разнесся слух, что умер король или, по крайней мере, граф Лимос, вице-король Перу. Такое впечатление производила и похоронная тишина, царившая в зале совета губернатора. Его превосходительство дон Хуан Перес де Гусман, сидевший в самом конце длинного стола, так крепко вцепился в резные ручки парадного кресла, что его пальцы глубоко впились в обшивку. Справа от него сидел полковник дон Хуан Боргеньо, помощник губернатора Верагуа, с лицом, на котором словно застыла неподвижная маска. Слева от него, нахмурившись, сидел подавленный полковник дон Альфонсо де Алькодете, комендант заново отстроенной крепости в Порто-Бельо. Напротив насупил брови молодой и красивый Франциско де Гарро, уже подполковник и командующий отрядом кавалерии. Тут же присутствовал и его светлость Гонорио де Вальдес, архиепископ Панамский. Его обычно красное лицо теперь посерело. С другой стороны стола совета стояли гонцы, которые принесли плохие вести. Дон Андреас, глядя на них, мог сразу сказать, что эти люди проделали длинный путь и очень спешили, потому что вид у них был изнуренный, а на лицах виднелись царапины от колючек и следы от укусов насекомых. На совете присутствовали еще два человека. В том, кто повыше, дон Андреас узнал генерала дона Алонсо дель Кампо, командовавшего прибывшим в Новый Свет огромным галионом под названием «Магдалена»; другой же, кто заговорил первым, оказался помощником алькальда из столицы Венесуэлы города Маракайбо. — О высадке этого проклятого пирата Моргана мы узнали, — говорил он, — по звуку пушечных выстрелов в наших несчастных фортах, построенных на островах Вигильяс и Палома на входе в лагуну. — Странно, — заметил де Гусман, поглаживая рыжеватую бороду. — У меня создавалось впечатление, что форт Вигильяс очень хорошо укреплен. Несчастный помощник алькальда кивнул. — Так и есть, ваше превосходительство, но в гарнизоне оказалась большая нехватка людей; там недавно случилась эпидемия желтой лихорадки. В любом случае, после упорной обороны, комендант фортов решил, что дальнейшее сопротивление лютеранам бессмысленно. Боргеньо взорвался. — Бессмысленно! Ба! Клянусь, что они повели себя так же, как и мерзавцы в форте Сан-Фелипе-де-Сотомайор в Порто-Бельо. Разрази Господь этих никчемных трусов! Губернатор поднял нервную сухую и загорелую руку. — Пожалуйста, продолжайте рассказывать, сеньор! — Вашему превосходительству, без сомнения, известно, что два года назад французский корсар Олоннэ захватил и разграбил наш несчастный город, поэтому население Маракайбо только-только начало расти, и мы едва успели начать восстанавливать нашу экономику. К тому же укрепления Маракайбо еще не были закончены. Наш губернатор собрал совет, потому что уже были видны корабли трижды проклятого Моргана — их было восемь, — они на полных парусах неслись к Маракайбо. И мы решили, что попытка оказать сопротивление приведет только к гибели людей и потере наших сбережений. — Если бы я был там, — резко вмешался де Гарро, — ваш город не так быстро сдался бы на милость английских корсаров. Впервые прозвучал голос дель Кампо, потерпевшего поражение генерала: — Вам еще представится возможность показать вашу Доблесть, дон Франциско, и скорее, чем вы думаете. — Дель Кампо оглядел собравшихся за столом. — Говорю вам, кабальеро, прежде всего этот дьявол с Ямайки жаждет одного — власти! Поймите меня правильно, — дель Кампо остановил взгляд на губернаторе, — Морган хитер, изворотлив и бесстрашен, и ему нужны не только наши сокровища и рабы! Дон Перес де Гусман тяжело перевел дух. Дель Кампо не был зеленым новичком, — Что ваша честь имеет в виду? — Я имею в виду, что этот еретик-адмирал подрывает саму основу существования Испанской империи! Вспомните, Боргеньо, и вы, Франциско Гарро, сколько вреда причинил нам Морган, — он остановился, чтобы подчеркнуть свои слова, — и все это он сделал без малейшего участия регулярных войск или хотя бы одного военного судна из Англии! Совет погрузился в мрачное, но постепенно переходящее в ярость молчание. В зале совета были слышны даже шаги часового и жужжание мухи, вьющейся вокруг великолепного хрустального канделябра из Венеции. Помощник алькальда откашлялся и в то же время бросил подозрительный взгляд на двух доминиканцев в углу, в серой и черной рясах, которые молча и внимательно слушали его. — В соответствии с решением, принятым нашим советом, все были озабочены спасением собственных жизней. Многие бежали в Гибралтар, небольшой соседний городок, но еще больше укрылось в джунглях, где, увы, многих захватили в плен и убили индейцы. Несчастный поднял глаза к небу и всплеснул руками. — Представьте себе наши страдания при виде того, как английский адмирал захватил город. Грабеж продолжался почти две недели. Говорящий немного успокоился и вытер лицо. — Мы, конечно, слышали о том, что поблизости находится флот здесь присутствующего его доблестного превосходительства, — он слегка поклонился в сторону генерала дель Кампо, — и что он должен вот-вот появиться. Поэтому мы, несчастные беглецы, собрали в лесу людей и вооружили их. Вы можете представить нашу радость, кабальеро, когда до нас донеслись слухи, что на горизонте показались дружеские паруса и что они приближаются к входу в лагуну Маракайбо. Но, увы, наши друзья не успели отбить и вновь занять крепости на входе в порт, поэтому английский лютеранин и его союзники, ренегаты, французские католики, успели погрузить на свои корабли всю добычу, рабов и заложников. Боргеньо прикусил губу так, что на ней остался кровавый след от зубов. — Сколько увезли пираты? — Мы точно не знаем, ваше превосходительство, — ответил несчастный чиновник, — но их добыча составила не меньше трехсот тысяч золотом. — Господь милосердный! — не выдержал Франциско де Гарро. — Неужели никто не может остановить кровожадного адмирала? Этот дьявол Морган спокойно появляется всюду, где захочет, грабит, пытает, убивает. — Молодой кавалерист стукнул кулаком по столу. — Неужели в Испании и Америке больше не осталось настоящих испанцев, чтобы отыскать это чудовище и уничтожить его? Архиепископ приподнял пухлую, бледную руку. На ней ярко блеснуло кольцо с аметистом. — Придержи язык, сын мой. Не сомневайся, что на том свете Господь обречет еретиков на вечные муки. Генерал Саладо потер шрам на подбородке и пробормотал, что Господу следует поторопиться с проявлением своего гнева, иначе в Новой Испании не останется ни одного испанца. Глубоко оскорбленный проявлением подобной непочтительности, губернатор свирепо взглянул на Саладо. — Тихо! И пусть Божья Матерь простит вас, дон Гонсало Саладо, за ваши неправедные речи. Генерал дель Кампо, — он вежливо поклонился, — мы понимаем, что воспоминания причиняют вам боль. Поэтому я хочу заверить вас, пока вы еще не начали свой рассказ, что я и эти кабальеро уверены в том, что, чем бы ни кончилась ваша схватка с ужасным адмиралом с Ямайки, вы вели себя как храбрый, верный и способный офицер его католического величества. Генерал поднялся и низко поклонился все еще бледному губернатору. — Ваш комплимент и ваша доброта, дон Хуан, во многом облегчают мою скорбь. Только потомок настоящего кастильского рода смог хоть немного облегчить тяжесть у меня на душе. Генерал искоса взглянул на двух доминиканцев, которые неподвижно застыли в темном углу залы совета. Они, конечно, передадут каждое его слово святой инквизиции в Севилье. Нервно теребя маленькую золотую фигурку святого Георгия, который пронзал достаточно внушительного дракона, генерал дель Кампо перевел запавшие, усталые глаза на губернатора. — Ее королевское высочество Мария-Анна, регентша нашего католического суверена дона Карлоса Второго *["421], услышав 6 подобных зверствах и набегах, чинимых пиратами Северного моря, издала указ, по которому из Кадиса должен был отплыть особый отряд из трех военных кораблей. Дон Андреас, не пропускавший ни слова, догадался, что этот прямой, напоминающий орла генерал не собирался оправдываться. Он только не хотел, чтобы была затронута его честь. — Я лег на курс к Картахене, когда с проходящего мимо посыльного судна с Эспаньолы поступило сообщение, что были замечены корабли лютеран, которые вышли с голландского острова Аруба по направлению к губернаторству Санто-Доминго провинции Венесуэлы. Расспросив капитана, я совершенно убедился в том, что это и есть те вражеские корабли, которые мне приказано уничтожить. — Генерал проглотил комок в горле, но собрался с силами и продолжил: — Флот лютеран оказался меньше, чем я предполагал. Я считал, что адмирал Морган командует по меньшей мере двенадцатью судами. Поэтому я приказал изменить курс и направился в Маракайбо. Увы, по воле Божьей два дня не устанавливался попутный ветер, поэтому я добрался до Венесуэлы только двадцать седьмого апреля и стоял там под покровом темноты, пока демоны не подняли тревогу. Дон Алонсо, благородный, печальный и возвышенный, привлекал к себе всеобщее внимание. На фоне пылающих красными и желтыми тонами гобеленов, вышитых руками умельцев Арагона и Кастилии, внушительно вырисовывалась его огромная фигура. — Войдя в неохраняемый форт Палома, мы с удивлением обнаружили, что адмирал пиратов практически не причинил вреда этой крепости, только опрокинул несколько пушек. Я немедленно высадил войска на берег, и они заделали пробоины в стенах и привели орудия в порядок. — Разумные действия, — поддержал его Алькодете, коренастый человек с выпяченной вперед грудью, — А что потом, ваше превосходительство? — После чего я выслал на разведку небольшое судно; разведчики подтвердили, что Маракайбо действительно находится во власти адмирала Моргана. — Кадык на шее дель Кампо несколько раз дернулся. — Кабальеро, я просто не мог поверить в то, что силы этого отважного разбойника состояли всего из восьми легких кораблей с очень плохим вооружением. Генерал Гонсало Саладо агрессивно выставил вперед короткую черную бороду. — Тогда как же, ради всего святого, вы позволили лютеранам сбежать от вас? Поскольку Саладо был незнатного происхождения и известный спорщик, дель Кампо не обратил на него ни малейшего внимания и продолжал говорить, обращаясь только к дону Андреасу и дону Хуану Пересу де Гусману, как будто в комнате больше никого не было. — В моем распоряжении находились три хорошо вооруженных галиона — сорокапушечный, тридцатипушечный и двадцатичетырехпушечный корабли, — которые я и поставил на якоря на входе в лагуну. После чего занял боевые позиции в фортах на входе в гавань. Брат Иеронимо и другой доминиканец наклонились вперед, упершись локтями в колени. Они не отрывали глаз от сухого, изможденного лица генерала. — Я не собираюсь оправдываться, ваше превосходительство, — заявил дель Кампо, — потому что невероятная отвага этого демона Моргана выходит за грань разумного. Вы можете себе представить? Эти англичане имели наглость прислать ко мне одного из именитых горожан Маракайбо с белым флагом и сообщить, что я, генерал вооруженных сил его королевского величества, должен выкупить город! Гусман высказалпредположение: — Вы, естественно, не обратили внимания на это наглое требование? — Поскольку я хотел положить конец страданиям Маракайбо, хотя этот несчастный провинциальный городок вполне заслужил подобную участь, — дель Кампо бросил на помощника алькальда, который скорчился на стуле, презрительный взгляд, — мне показалось, что разумнее будет вступить в переговоры. И я дал знать адмиралу пиратов, что решил заблокировать выход с озера. Я предупредил его, что если он не выдаст мне немедленно всю добычу, рабов и пленных, то я атакую его, поймаю и повешу не только его, но и всех матросов, которые попадут мне в руки. Судья Андреас де Амилета откинулся назад в кресле. Он чувствовал огромную симпатию к этому офицеру, не боявшемуся говорить правду, которая могла стоить ему не только карьеры, но и жизни. — С другой стороны, я обещал Моргану и дал слово кабальеро, что если он отдаст мне добычу, то я позволю его кораблям спокойно уйти. Саладо огрызнулся: — Но, ваше превосходительство, что заставило вас унизиться до заигрывания с лютеранином? — Оставьте при себе ваши замечания, пока вы лично не столкнулись с Энрике Морганом, — отрезал дель Кампо. — Хотя он и кровожадный бандит, но в то же время весьма опытный генерал, о чем вам, наверное, сможет рассказать Боргеньо — он был в Порто-Бельо. На лице губернатора де Гусмана застыло огорченное выражение. — Да, да, конечно. И что же было потом? — Он был настолько дерзок, что отказал мне, — буркнул дель Кампо, — и заявил, что его лютеранские собаки предпочитают утонуть в собственной крови, чем просить о милосердии. Первого мая мои наблюдатели донесли, что пираты поднимают паруса. Как безумные они набросились на нас, шесть маленьких кораблей, один барк и посыльное судно. Впереди всех плыл корабль, который оказался своеобразной бомбой. Я хочу сказать — брандером. Несмотря на огонь с нашей стороны, брандер приблизился, и как только он поравнялся с «Магдаленой», с него забросили крючья и зацепились за нее. Брандер, начиненный порохом, смолой и прочей горючей дрянью, взорвался, превратившись в сплошной костер. — Широкие плечи рассказчика поникли, когда он с сердитым смирением развел руками. — Несмотря на наши отчаянные усилия, нам не удалось оторваться от него, поэтому, когда на моем корабле загорелись паруса и носовая надстройка, я — да поможет мне Господь! — был вынужден приказать всем покинуть «Магдалену». Дель Кампо сорвал простой, пожелтевший от пота воротник и показал темную красную отметину. — Вот! Вы все, кабальеро, видите этот шрам, который остался у меня на память о борьбе с огнем. Слава святому Винсенту и Божьей Матери, что мне удалось добраться до острова Палома. Мой второй галион прижали к берегу четыре пиратских корабля. — Дель Кампо вздрогнул, рассказывая об этом. — Поняв, что он обречен, капитан попытался добраться до форта Палома, но когда ему это не удалось, он покинул судно и укрылся на берегу. — А ваш третий военный корабль, ему удалось спастись? — безжалостно потребовал ответа де Боргеньо. — Нет. — В отчаянии дель Кампо взглянул на своих собеседников. — Корсары под предводительством самого адмирала лютеран в таком количестве бросились на его палубу, что перебили всю команду до единого, и он тоже оказался в руках пиратов. — Силы зла могущественны, — вздохнул архиепископ Панамский. — Мы, испанцы, согрешили, поэтому Господь, по своей неисповедимой воле, наказывает нас. Разве я не предупреждал вас много раз за последние месяцы, что богатые жители этого города слишком скупы, а бедные — слишком ленивы по отношению к собственности, принадлежащей святой церкви? Ветеран де Боргеньо нетерпеливо повернулся в своем кресле. — Пусть вы потеряли корабли, но ведь в ваших руках все еще были форты на входе в гавань, дон Алонсо? Дель Кампо стиснул челюсти, а потом смело дал прямой ответ: — Да, и я надеялся с их помощью помешать еретикам выйти в открытое море. Наши батареи были укомплектованы опытными артиллеристами из моего флота, которым удалось спастись. И, поскольку проход из озера в океан очень узкий, то мы могли потопить их один за другим, если бы не дьявольская стратегия, разработанная их адмиралом. Сидящие за столом не произнесли ни слова, только молча смотрели на рассказчика. — Этот Морган напал на нас в тот же день, когда погиб мой флот, мы отбили его атаку и уничтожили у него тридцать человек. Тогда лидер пиратов вернулся в Маракайбо и, под угрозой сжечь город, собрал с жителей второй выкуп размером в двадцать тысяч золотом, а также полтысячи голов скота. Будьте уверены, кабальеро, я никогда не забуду охватившее меня чувство стыда, когда на мачте моего третьего корабля поднялся флаг проклятого ямайского адмирала! Посеребренная сединами голова генерала поникла, и в его голосе проскользнули нотки отчаяния. — И снова их адмирал потребовал от меня выкуп за пленных из Маракайбо, но мне не было никакого дела до этих жалких трусов. Именно тогда он и применил свою стратегию. Сидящие за столом ожидали продолжения; некоторые сердито, некоторые презрительно, некоторые с неприкрытой симпатией. Среди последних были губернатор, архиепископ и дон Андреас. — Вся флотилия пиратов встала на якорь вне пределов досягаемости пушечного выстрела форта Палома. Этот Энрике Морган не дурак, он понимал, что ему не прорваться сквозь наши батареи; к тому же вооружение его кораблей не могло равняться с нашими орудиями. Поэтому казалось разумным, что он попытается атаковать Палому с тыла, то есть с суши. — Дель Кампо взглянул на де Боргеньо. — Так же как он атаковал Сан-Иеронимо и Ла-Глорию в Порто-Бельо. — Да, — решительно подтвердил Алькодете. — Большинство наших укреплений со стороны суши слишком беззащитны, их надо перестраивать. — Целый день пираты высылали на сушу нагруженные людьми лодки, которые затем пустые возвращались обратно за новыми людьми. Мы были поражены и обескуражены тем, сколько людей пираты смогли погрузить на свои маленькие корабли. В ожидании атаки с суши я отдал приказ повернуть тяжелые орудия форта Палома в сторону леса. Это была сложная задача, но мы с ней успешно справились. Сильно уставшие, мои люди спали возле пушек и были готовы стрелять при первой же атаке лютеран. Дель Кампо нервно облизал губы кончиком языка. — Хотя это и кажется совершенно невероятным, потому что проход между Паломой и Вигильей очень узок и труден для лоцмана, пираты при свете луны неожиданно подняли паруса и, смеясь над теми несколькими выстрелами, которые мы смогли сделать, исчезли в море. — Но… но как же люди на берегу, — воскликнул де Гарро. — Даже самый последний мерзавец не оставит большинство солдат в тылу. Генерал горько рассмеялся. — Этот проклятый выходец с Ямайки тоже их не бросил. На самом деле его лодки не высадили ни одного человека. Когда шлюпки плыли к берегу, пираты сидели, но, возвращаясь обратно к кораблям, ложились ничком, так что их не было видно. Потерпевший поражение генерал вздохнул и сел на место. — Вот и все. Дель Кампо не привыкли оправдываться; я всегда сражался так, как мог, я чист перед лицом Господа, Богоматери и своего короля. Со смирением я готов принять любую участь, которая ждет меня в Мадриде. Губернатор и главнокомандующий Панамы и провинции Верагуа оторвал взгляд от позолоченной чернильницы, стоявшей перед ним, и положил руки на стол. — Сначала Сантьяго-де-Эспаньола, потом Рио-Гарта и Гранада, Пуэрто-дель-Принсипе и Порто-Бельо. А теперь во второй раз Маракайбо! По-моему, кабальеро, настало время что-нибудь предпринять. Здесь, в Кастильо-дель-Оро, мы должны собрать существенные военные силы, вместе с вице-королевствами Мексика и Санто-Доминго, и под корень уничтожить эту угрозу. Вы согласны, что нам следует вновь захватить Ямайку? — Да! — раздался хор голосов. — Ваше превосходительство. — У стола неслышно, словно серое привидение, возник брат Иеронимо. — Вы можете начать священный поход против демонов, исправив одну серьезную ошибку. — Ошибку? — изумился де Гусман. Серые глаза брата Иеронимо блеснули, когда он обвиняюще указал пальцем на фигуру в зелено-оранжевом костюме. — Дон Хуан де Гусман, я обвиняю вас в том, что здесь, в Панаме, городе его католического величества, вы пригрели лютеранского шпиона, дали свободу последователю того самого злодея, который только что добавил Маракайбо к списку своих длинных преступлений. — Все громче и громче звучал голос монаха. — Я требую немедленно передать некоего Дэвида Армитеджа священной инквизиции для допроса. В Панаме хорошо знали о храбрости дона Андреаса де Амилеты, и сейчас он действительно доказал это. — То, чего вы требуете, брат Иеронимо, невозможно как по закону, так и в нравственном отношении. Дону Давидо были публично и официально прощены все его грехи. Я думаю, вы не будете отрицать, что здесь, в Панаме, он не сделал ничего, кроме добра. Архиепископ нахмурился и взялся за тяжелый золотой, украшенный изумрудами крест, висящий у него на груди Он знал, как ему следует вести себя в этой ситуации, и боялся этого, но судьба какого-то еретика не стоила неприятностей с инквизицией и возможного лишения сана. — Дон Андреас, несколько раз мы замечали, что вы небрежны в исполнении католических обязанностей, поэтому смиритесь и подчинитесь. Я приказываю вам передать этого английского еретика инквизиции и примириться с Господом. Дон Перес де Гусман, спустя всего лишь несколько месяцев вам потребуется благословение Божье. Заслуживаете ли вы его? — Нет, ваша светлость, нет! — крикнул дон Андреас. -Клянусь честью, вы не можете этого сделать! — Он вскочил, теперь они с доминиканцем смотрели прямо друг на друга. — Берегись гнева святой церкви, — воззвал брат Иеронимо к сидящему во главе стола человеку. — Берегись вечного пламени! Перес де Гусман заколебался, но страх и привычка одержали верх, и он подозвал секретаря. — Эрнесто, подготовь и опубликуй аннулирование помилования и приказ схватить лютеранина и отправить его в темницу рядом с кафедральным собором.Книга третья КОРОЛЕВСКИЙ АДМИРАЛ
Глава 1 РЕШЕНИЕ СОВЕТА
Все больше всадников спешивались около разукрашенного и значительно увеличившегося в размерах правительственного здания. Лишь немногие члены совета добрались до Испанского города пешком, еще меньше приехали в экипажах — легких сооружениях на двух огромных колесах, единственном, пожалуй, средстве передвижения, которое могло выдерживать здешние дороги. У верхнего окна правительственного здания стоял Генри Морган и почесывал колючий подбородок. Он смотрел вниз на подъезд. Из-за его плеча выглядывал его свояк, подполковник Роберт Биндлосс. — Смотри-ка, Гарри, вот еще один благородный член совета. — Биндлосс ткнул пальцем в крепкого мужчину, который торопливо стягивал перчатки для верховой езды. — Может, Том Гарднер и не умеет красиво говорить, но зато он настоящий военный до мозга костей. Морган рассеянно кивнул, и его собеседник искоса взглянул на него. Адмирал редко бывал так рассеян. Почему? Может, он опять напился, как это уже случалось? Слишком много жирной пищи и хорошего вина уже давали себя знать. У него явственно наметился двойной подбородок. И в талии он раздался еще дюйма на три за последние полгода. Теперь живые карие глаза адмирала почти всегда были налиты кровью, а очертания рта стали более жесткими. Может, он был озабочен известием о том, что захват Маракайбо оказался плохо принят испанской партией которая постепенно прибрала к рукам короля в Уайтхолле? Но Биндлосс ошибался насчет причин задумчивости Моргана. Тот размышлял, и размышлял отнюдь не о делах берегового братства. «Мне бы хотелось, чтобы Карлотта отослала Зулейму — она преданная служанка, но глупа, и ей нельзя доверить такого маленького ребенка». В углах рта Моргана появилась слабая усмешка. Как чудесно наблюдать затем, когда его сын машет крохотными кулачками и смотрит на него серьезными голубыми глазками. Генри-младшему исполнилось уже шесть недель, он обещал вырасти крепким и уже сейчас обладал удивительно громким голосом для такого маленького создания. Карлотта была ужасно довольна, что ребенок действительно оказался мальчиком, и при этом просто чудесным; после его рождения ее засыпали драгоценными камнями, деньгами и великолепными тканями. Именно поэтому Морган проводил невидящим взглядом подполковника Коапа, который шел по залитому солнцем двору перед правительственным зданием. Он думал: «Как я ошибался тогда, на Тортуге. Тигрица действительно меня любит». Теперь он мог гордо смотреть в глаза своим капитанам, жителям города, всем, кому угодно, и хранить тайну о том, что под влиянием настойки Зулеймы его род не останется без наследника. Представить только, что у него есть сын, для которого он будет трудиться, сражаться и добиваться многого, как лояльный и верный гражданин своей страны и короля! Если он сам, Генри Морган из Лланримни, достиг столь многого, то Гарри-младший конечно же достигнет еще большего, как древний король Александр из Македонии намного превзошел своего отца Филиппа. Морган сцепил руки за спиной. Конечно, ребенок незаконнорожденный, но рано или поздно он сможет уговорить Мэри Элизабет дать ему развод; ее стремление к покупке все больших и больших земель может послужить поводом. Но его мучила совесть, потому что он был все еще привязан к Лиззи и не испытывал ни малейшего сомнения в том, что она все еще любила его. Может, удастся убедить Мэри Элизабет усыновить ребенка, ведь она так рассудительна — такое часто бывало в бездетных семьях. Он свирепо стиснул пальцы. — Чума побери проклятый совет! И почему только людям так нравится болтать и напускать на себя столько важности? Ад, чума, потоп или виселица, но завтра я все равно вернусь в Порт-Ройял. Появились еще всадники, и среди них сэр Джеймс Модифорд, лейтенант-генерал ямайской армии. Он великолепно смотрелся в отороченной золотом пурпурной рубашке и новой шляпе, присланной из Лондона. Рядом с братом губернатора ехал генерал-майор Томас Модифорд, старший сын его превосходительства. А полковник Джозеф Брэдли, ветеран немецкой войны за веру, уже наслаждался прохладой залы совета. В коридоре зазвучали шаги — появились Роджер Эллетсон и другой свояк Моргана, Генри Арчбольд, который сейчас занимал должность полковника ямайской милиции. Широкое лицо Арчбольда загорело почти дочерна. — Клянусь ногтем святого Петра, Генри, — заметил он, — у тебя такой вид, словно ты позавтракал фламандской шляпой, вымоченной в уксусе. Надеюсь, ничего не случилось? Морган медленно повернулся, и серебряные пуговицы на длинном сюртуке винного цвета, который он надел для этого случая, блеснули, словно кошачьи глаза. — Да. Есть плохие новости. Я получил их прошлой ночью. — Эллетсон и Биндлосс вопросительно взглянули на него. — Вы услышите их на заседании. Пойдем, нам уже пора. В зале совета, под портретом его королевского величества Карла II, сидел сэр Томас Модифорд в том самом кресле, которое когда-то занимал алькальд Порто-Бельо. Солнечные лучи, проникая сквозь узкие окна, изначально задуманные как бойницы для лучников и стрелков, чертили на полу сверкающие золотые полосы. Сэр Томас сегодня немного нервничал, потому что он собрал совет впервые за много лет. Губернатор ни за что бы не стал созывать совет и предоставил ему бездействовать сколь угодно долго, но ему нужна была поддержка для осуществления серьезного мероприятия, затеянного им и Морганом. Теребя тяжелую золотую цепь, свисающую с его тощей груди, сэр Томас Модифорд пришел к выводу, что, когда придется голосовать, беспокоиться ему будет не о чем. Кроме поддержки со стороны Генри Моргана, он в любом случае мог рассчитывать на своих брата и сына; потом еще оставались братья Биндлоссы, Арчбольд, Брэдли и Эллетсон — очевидное большинство членов совета. Значит, расклад получается такой. Следует ожидать неприятностей от некоторых представителей из колоний и округов Сент-Анны, Сент-Джеймса и Сент-Мэри, расположенных на северном побережье острова, и, конечно, от купцов острова, которых представлял в совете Томас Фуллер. Они несомненно будут вопить против дальнейшего снабжения эскадры — близорукие тупицы, которые ничего не видят дальше собственного носа. — Джентльмены, я объявляю это заседание совета открытым. Сэр Томас механически улыбнулся и предупредил секретаря: — Не забудьте тщательно записывать все, что я скажу, а ты, друг Кот, — он кивнул французу, который держал перед собой тяжелый портфель из голубой кожи, отделанный серебром, — не пропусти ни слова из речи адмирала. Только полный тупица не заметил бы, какая напряженная атмосфера царит в зале заседаний. Ни одного смешка или шутки. Члены совета кланялись его превосходительству и рассаживались. Морган первым показал пример, расстегнув сюртук и ослабив пояс на мешковатых желтых штанах. — Лучше сразу приготовиться к долгому разговору, парни; мне кажется, мы здесь надолго застрянем. Его превосходительство не тратил время на предисловия: — Офицеры, джентльмены и друзья колонисты, мы стоим перед лицом такой огромной опасности, что я не чувствую себя облеченным достаточной властью, чтобы действовать без вашего совета и помощи. Мистер Бэбсон из поселения Сент-Мэри выпятил губы. — Это верно, и тем более жаль, что вы не созвали нас раньше. Сэр Томас не обратил внимания на это замечание. — Несмотря на слухи о близком мире с Испанией, мы все понимаем, что это будет за мир, — он холодным взглядом обвел всех сидящих за заваленным бумагами столом, отметил все скрытые и даже явные усмешки, — испанцы никогда не переставали захватывать наши суда и людей и по-прежнему не дают нам свободно плавать в этих водах. В соответствии с их законами никто из нас не имеет права сидеть здесь и мы все просто преступники, которые нарушают границы владений его католического величества. Мы все славно поработали, дабы создать эту колонию, и позвольте мне заметить, что получается у нас неплохо. Раздалось несколько криков: «Верно! Верно!» Умело ведя свою речь, Модифорд, за которым пристально следил Морган, продолжил: — Да, мы строим, друзья, но мы строим свою жизнь с петлей на шее, которая будет угрожать нам до тех пор, пока испанцы не будут вынуждены признать законность наших претензий на Ямайку и наше право свободно торговать в Северном море! Как это часто бывало раньше, Морган немного позавидовал ораторскому мастерству Модифорда; если не сейчас, то уже очень скоро враждебный настрой купцов и плантаторов постепенно исчезнет. Сэр Томас встал и озабоченно прошелся туда и обратно. — Я получил плохие новости, джентльмены, новости, которые угрожают нашим надеждам и сводят на нет наши жертвы, а также жертвы тех благородных людей, которые отдали свою жизнь за то, чтобы наш флаг свободно развевался над этой благословенной землей. Губернатор снова занял свое место и так резко наклонился вперед, что длинные локоны его парика мотнулись вместе с ним. — К чему ты клонишь, Том? — первым заговорил полковник Брэдли. — Неужели испанские ублюдки снова подняли голову? В этом дело, а, Гарри? Морган кивнул и снова взглянул на желтое лицо Модифорда, в профиль напоминавшее ястреба. Скоро настанет его очередь говорить. — Сказать, что наши враги «подняли голову», будет слишком мягко. — Да! Это верно, — заметил член совета из форта Сент-Джеймс. — В пятый раз испанцы, заметьте, господа, в пятый, теперь уже под предводительством португальского выскочки по имени Мануэль Риверо Пардал, грабят северное побережье острова. В Кайманосе он высадился на берег, перебил всех местных жителей, сжег около двадцати домов и хижин и уничтожил весь скот и лошадей, которые попались ему на глаза. Толстенький мистер Бэбсон фыркнул: — Не горячитесь, ваше превосходительство. Мне кажется, что доны поступают с нами так же, как и мы с ними. По закону, разве мы действуем правильно? Модифорд слегка помедлил с ответом. — Испанцы нарушили договор тысяча шестьсот шестьдесят пятого года. Между прочим, мистер Бэбсон, может, вам не нравится климат на Ямайке и вы предпочли 6ы вернуться в ваш ветхий домик в Портсмуте? К сожалению, у вас нет выбора. Вы находитесь здесь и не можете уехать, а если не хотите слушать, то… Модифорд не договорил, потому что дверь отворилась так своевременно, что скорее всего это было пoдгoтoвлeно заранее. В комнату ввалился тощий бродяга с красными обрубленными ушами и выдранными ноздрями. Ему дали слово, и он с готовностью начал: — Это случилось четырнадцатого июля, ваше превосходительство. Я работал на плантации, когда заметил дым над Кайманосом, и подумал, что у кого-то из соседей дом горит, поэтому побежал в деревню, где меня и схватили. Простыми и поэтому берущими за душу словами крестьянин обрисовал совету ужасающие картины зверств, творимых людьми Пардала, картины пожаров, пожирающих английские дома, и своего собственного увечья. Ему удалось сбежать только потому, что его стража основательно напилась. — …и это не в первый раз, ваша честь, — утверждал он. — Мы на северном побережье всегда трясемся от страха, когда завидим паруса. Да во всем Сент-Джеймсе нет ни одной плантации, которая за последние два года не потеряла бы людей, скот и лодки. Пожалуйста, ваша честь, я… мы не можем так больше жить. Морган зашевелился в своем кресле. — Захватчики прибыли с Кубы, ты сказал? — Да, так и было. — Тебе удалось подслушать, о чем они говорили? Перебирая в руках шляпу из пальмовых листьев скрюченными пальцами, крестьянин перевел глаза на враждебные лица на дальнем конце стола. — Ну, ваша честь, когда я лежал, истекая кровью, в испанском лагере, то случайно услышал, как один из них сказал другому, что в Сантьяго собирается большая флотилия. Он клялся, что эта атака будет выглядеть просто детской забавой по сравнению с тем, что они совершат в свой следующий набег на Ямайку. Биндлосс быстро спросил: — Эти дьяволы все прибыли с Кубы? — Нет, сэр. Некоторые были с Тьерра Фирме. — Очевидец обвел всех собравшихся глубоко запавшими глазами. — Похоже, что сейчас испанские губернаторы объединились и горят желанием рассчитаться за то, что им сделал его честь адмирал Морган. Я подслушал, о чем говорили офицеры: они ожидают большой флот из Испании. Если это правда, то да поможет нам Господь! Пальцы очевидца задрожали и подбородок дрогнул. — Я и мои товарищи, мы здорово поработали, чтобы расчистить наши десять акров земли. Если вы думаете, что я вру, то вот что я нашел на дереве на нашей ферме. Это было прибито гвоздями. Он вытащил заткнутый за пояс из коровьей кожи листок пергамента, который Морган и Модифорд уже видели; но они не произнесли ни слова. По крайней мере, половина членов совета вскочила на ноги. — Давайте посмотрим, — буркнул подполковник Ричард Коап. Он и Вильям Ивей одновременно потянулись за бумагой, но широкая рука Моргана опередила их. Пальцы Моргана нетерпеливо ослабили льняной воротник. Как только члены совета уселись, Морган передал послание Коту и приказал: — Переведи и прочти вслух, чтобы все слышали. Кот начал читать, постепенно повышая голос: — «Я, капитан Мануэль Риверо Пардал, начальнику отряда пиратов на Ямайке. Я тот, кто в этом году совершил нижеследующее: высадился на берег в Кайманосе и сжег двадцать домов; сражался с капитаном Эри и захватил у него корабль, нагруженный провизией, и барку; захватил в плен капитана Бейнса и отвел его судно в Картахену, а теперь прибыл на это побережье и сжег его. Я заявляю, что пришел встретиться с генералом Морганом с двумя судами, вооруженными двадцатью пушками, и пусть он выйдет в море и найдет меня, и тогда он увидит доблесть испанских солдат. И только потому, что у меня нет времени, я не зашел в Порт-Ройял, чтобы лично сказать то же самое во имя моего короля, которого хранит Господь. Написано 5 июля». Кулак Модифорда с грохотом опустился на стол. — Ну, вот вам и вызов. Теперь, надеюсь, вам ясно, чего нам ждать на Ямайке? Кто-нибудь из вас сомневается в том, что мы должны сокрушить колониальных губернаторов и их силы до прибытия флотилии из Испании? Морган откинул голову назад. — Боже правый! Сэр Томас и вы, благородные господа, надеюсь, вы понимаете, что мы должны уничтожить этих отродий гадюки, пока они еще не вылупились. Майор Томас Фуллер, с лицом в красноватых и голубоватых прожилках, поинтересовался: — Предположим, мы должны атаковать, чтобы защитить себя, но есть ли у нас для этого силы? — Может, Гарри, ты ответишь на вопрос Тома? — мягко предложил Модифорд. — Что ты можешь предпринять против донов до прибытия проклятой флотилии? Морган поднялся и резким движением левой руки отшвырнул лежащие перед ним бумаги. — Если вы поддержите меня, джентльмены, то я соберу достаточно кораблей — больше чем когда бы то ни было — и так накручу хвосты испанцам, что их вопли будут слышны даже в Китае! Я нанесу удар туда, где они его меньше всего ожидают, и клянусь Богом, что переломлю им хребет и захвачу, — он чуть было не назвал объект атаки, но привычка к осторожности взяла свое, — их главнейшие порты и уничтожу их арсеналы. Дайте мне людей, оружие и продовольствие, и я обещаю, что так припугну наших врагов, что у них не останется солдат даже для того, чтобы приветствовать флот из Испании! Один Бэбсон надулся и остался сидеть на своем месте, а все остальные члены совета повскакали с кресел с криками: — Верно! Верно! Так держать! Давай, Гарри, а мы тебя поддержим! — Громкие слова, — фыркнул Бэбсон. — А кто мы такие? Маленький остров, примерно двадцать тысяч жителей всех национальностей и сословий. А проклятых донов сотни тысяч. Ради Бога, давайте не будем обманывать самих себя. — Верно, не будем обманываться; но не будем и забывать, что у нас есть Генри Морган! — заорал Биндлосс. Модифорд весело огляделся. Занятное зрелище — видеть, как старые боевые кони вроде майора Коллиера, богатого плантатора Ричарда Коапа и других бьют копытами, почуяв пороховой дым. Когда все немного поутихли, Модифорд успокоительно поднял руку. — Все это очень хорошо, и приятно, что вы доверяете Гарри, но позвольте вам напомнить, что мистер Бэбсон совершенно справедливо утверждает, что мы всего лишь единственная слабая колония, отделенная от основного государства сотнями лиг океана. К тому же я не уверен, что задуманная нами атака найдет одобрение в Лондоне. — Он остановился, тщательно подбирая слова. — Возможно, вам неизвестно, что с тех пор, как Порто-Бельо пал в результате доблестной атаки нашего друга Гарри, враг усилил свои гарнизоны ветеранами из Европы, призвал и обучил новых рекрутов. Он запасается оружием для того… — …Для того, чтобы напасть на нас, клянусь Богом! — Мокрый от пота Морган вскочил на ноги и показал на беглеца с северного побережья. — Вы слышали, как наш друг из Сент-Джеймса описал страдания наших соотечественников. Значит, либо они будут продолжать погибать, мучиться и попадать в плен — либо наши враги! Морган нагнул голову, словно собираясь броситься на Бэбсона, Фуллера и других колеблющихся. — Ну же, отъевшиеся боровы! Вы хотите визжать от боли в папистском каземате или хотите, чтобы флаг его величества взвился над самым богатым и гордым портом на перешейке, а вы и ваши наследники жили в безопасности и богатстве? С напрягшимися мускулами Морган помахал вызовом Пардала под носом у полковника Балларда, а потом поднял свиток так высоко, что он вспыхнул в солнечных лучах словно некий пылающий символ. — Ты прав, Морган! — заговорил наконец и Баллард. — Проси чего хочешь, и, клянусь Богом, Гарри, я выставлю корабли, людей и… и… может, смогу найти и деньги! — Нам нужна любая помощь, — объявил Модифорд, -потому что я намереваюсь выставить против Пардала значительный флот, а также против этих напыщенных особ, которые хотят уничтожить нас. Ты, Дик Коап, что ты скажешь? А ты, Коллиер? — Дайте мне законное каперское поручение, — проревел последний, — и я доведу отряд до самого сердца Гаваны. Сам красный и возбужденный, полковник Брэдли потрепал Коллиера по спине. — Так держать, парень. — Ты ведь дашь нам лицензии, правда, Том? — настаивал Баллард. — И в них не будет ограничений? Модифорд долго молчал, прежде чем ответить. Наконец он осторожно сказал: — Конечно, но я не буду принуждать вас, джентльмены, принять решение, о котором вы потом можете пожалеть. — Пожалеть? — проревел Коллиер, побагровев до самых ушей. — Пламя ада! Я хочу разгромить донов до того, как проклятый договор о мире лопнет и мы окажемся в опасности! — Ты меня не понял, — уверил его Модифорд. — Я намереваюсь издать, именем короля, нужное количество каперских поручений армии и королевскому флоту колонии на Ямайке. Морган краем глаза заметил, как побледнел Модифорд. Он один понимал, чем рискует сэр Томас. Происпанская партия, которую возглавляли леди Кастлмейн и лорд Арлингтон и которая главенствовала в Уайтхолле, могла принять в штыки любое действие, которое можно было счесть нарушением мирного договора, подписанного с Эскуриалом. Все еще легко, несмотря на полноту, Гарри Морган вскочил в седло. Как приятно мчаться на хорошем, быстром скакуне. Приятный сюрприз, что совет закончился так быстро и успешно. Если все пойдет хорошо, он еще может успеть поужинать с Карлоттой и бросить взгляд на своего сына. — Капитаны остаются? — спросил Баллард, вставая. — У меня важные дела на мысу. Баллард ухмыльнулся. Как и все остальные, он знал о Карлотте, но был слишком вежлив, чтобы спрашивать о ней; чего нельзя было сказать о таких развязных парнях, как Дент, Брэдли и Трибитор, который по-прежнему оказывал неоценимую помощь Моргану при вербовке французских сторонников. Теперь адмирал не спеша ехал по дороге к проливу Модифорда, а потом перевел скакуна на удобную, быструю рысь. Он чувствовал нечто вроде угрызений совести. По-хорошему ему следовало двигаться в противоположном направлении — к поместью Данке и Мэри Элизабет, но он попытался успокоить свою совесть тем, что ее сестра Джоанна Вильгельмина была у нее в гостях, а сестры могли до бесконечности болтать по-немецки, на языке своего детства. «Я должен завербовать как можно больше пиратов, ландскнехтов и прочих, — размышлял Морган, а в ушах у него посвистывал ветер. — Проклятая мощная крепость Сан-Лоренсо в устье Чагреса обязательно призовет на службу опытных офицеров. Но брать ее придется». Морган понимал: никто не мог бы организовать отчаянную атаку на укрепленную крепость лучше его, и никто лучше его не мог бы вдохновить разноязычных братьев на отважные и героические поступки, а также суметь обеспечить среди них дисциплину. С другой стороны, он очень плохо разбирался в материально-техническом снабжении войск; одно дело мгновенный набег на ничего не подозревающую крепость или неожиданно разбуженный городок, и совсем другое дело — поход пятитысячного войска по вражеской территории, полной коварных ловушек, общей протяженностью шестьдесят миль. Слава Богу, что даже Том Модифорд не подозревал, как далеко простирались его амбиции. «Пусть Том и другие считают, что я собираюсь напасть на Сантьяго-де-Куба, Гавану или на что угодно, кроме Панамы». Неожиданно его охватил страх. А что будет с маленьким Гарри в его отсутствие? В Порт-Ройяле было столько болезней — почти каждое судно приносило какую-нибудь новую заразу. Может, ему надо отослать драгоценное дитя на север, где климат здоровее? Доктор Армитедж всегда утверждал, что климат, например, Виргинии очень полезен для здоровья. Армитедж. Бедный, умный, вежливый и храбрый Армитедж. Без сомнения, его кости сейчас гниют где-нибудь возле Порто-Бельо. Он незаметно перешел к размышлениям на тему, какого врача ему взять с собой в готовящуюся экспедицию. Голландский подонок Ян Эксквемелин оказался клеветником и лжецом, хотя и смыслил кое-что в медицине и неплохо работал у майора Коллиера. Нужно приложить все усилия к тому, чтобы заручиться услугами доктора Ричарда Брауна и доктора Холмса — последний прибыл из Англии на своем собственном корабле, который, если поразмыслить, мог сопровождать его в качестве дополнительного транспорта. Если бы только обеспечить себе хоть небольшую поддержку из Англии! Увы, письмо за письмом лордам Торговой палаты оставались без ответа, и, как прежде, ему приходилось набирать людей среди берегового братства. Начался длинный пологий спуск, поэтому Морган отпустил поводья и высвободил ноги из стремян. Он вспомнил, как когда-то въезжал в Бристоль, юный самоуверенный корнет кавалерии. Сколько всего произошло за это время! Легко преодолев последние несколько ярдов до знакомого домика на окраине грязного, замусоренного Порт-Ройяла, Морган легко спрыгнул на песок. Как глупо было строить город на безводной песчаной косе! В действительности Порт-Ройял следовало перенести на противоположный берег этой великолепной бухты, чтобы там наслаждаться превосходной землей, лесом, водой и всем, что нужно для жизни. Проклятье! Давно уже он не стремился домой с таким нетерпением. Он хотел увидеть Карлотту — и сына! Она расскажет ему какую-нибудь новость или новый анекдот о ком-нибудь из жителей колонии, или споет песню, чтобы развлечь его. Морган неожиданно улыбнулся и сам запел песенку в честь своего наследника: Ах мой малыш, твоей улыбке Пусть радуется сам Господь! И знаю я наверняка - С тобой его благословенье. В его доме, построенном в барбадосском стиле, все еще горел свет, значит, слава Богу, Карлотта еще не ложилась. Он отер потный лоб, сорвал с головы платок и шляпу с широкими полями и порылся в кармане в поисках кольца с огромным топазом, который он собирался подарить ей. Морган еще не успел постучать, как дверь распахнулась, и он прищурился при свете факелов. Перед ним сверкнули белки глаз и белейшие зубы Соломона. — Добрый вечер, сэр, добрый вечер, ваше адмиральство. — Негр почти до земли согнулся в поклоне. Морган усмехнулся и бросил рабу серебряный муидор. — Вот тебе за усердие, но постарайся, чтобы мисс Карлотта не застала тебя с Зулеймой. С ребенком все в порядке? — Да, сэр. — Раб босиком прошел вперед и распахнул дверь в патио. — Спасибо, ваше адмиральство, за серебро. Вы снова собираетесь потрепать испанцев? — Вот именно, Соломон, о мудрейший среди сынов Хама. Давно уже Гарри Морган не чувствовал себя таким счастливым и удовлетворенным. Совет поддержал его даже больше, чем он рассчитывал, и скоро у него будет новая лицензия, такая, какую он всегда хотел. Поместье Данке, Пенкарн и другие земли были в превосходном состоянии благодаря неустанным заботам Мэри Элизабет. И сейчас он увидит своего сына. Не успел еще Морган преодолеть половину двора, как противоположная дверь отворилась, и навстречу выскочила Карлотта. — Любовь моя! Мне так хотелось, чтобы ты обнял меня. — И я стремился к тебе! — Он приподнял ее на воздух и осыпал поцелуями ее огромные, слегка блестящие глаза и теплые губы. — Тигрица! Все так хорошо, что я даже боюсь. Карлотта отступила назад и посмотрела на него. — Бог мой, ты, наверное, мчался изо всех сил — ты такой же грязный, как свиньи-пираты, которые слоняются у воды. Жозефа! Мари! Зулейма! Скорее приготовьте адмиралу ванну. — Только не Жозефа, — перебил Морган. — Она, конечно, должна остаться и присмотреть за маленьким Гарри. Карлотта успокоительно кивнула и просунула свою маленькую ручку в его огромную лапу. — Капитан моей души, наш ребенок спит — и храпит, как его отец. Он снова схватил ее и понес, шутливо отбивающуюся, по патио. — Карлотта! О чем ты думаешь? — Ты собираешься отплыть в новую экспедицию? — Да, на этот раз это будет настоящая военная кампания. Я рассчитываю собрать пять тысяч человек и не меньше тридцати кораблей! — А куда ты направляешься: в Картахену, Гавану? -Она задала этот вопрос, не подумав, и поэтому совершенно не удивилась, когда вместо ответа он только хмыкнул и дунул ей в лицо. — Куда угодно. Ах, дорогая, я умираю от голода и горю от жажды, но сначала я должен… Карлотта решительно затрясла маленькой рыжей головкой. — Ты не можешь разбудить его сейчас. — Но я не буду его будить. — Он отвел ее руку. -Вспомни, тигрица, я не видел ребенка целых пять дней, так что хватит болтать. — Все отцы одинаковы! — расхохоталась Карлотта. -Ну ладно, пойдем разбудим малыша. Он, конечно, необыкновенный ребенок, но, наверное, еще не научился различать, который сейчас час. Карлотта замолчала, потому что в том, как Морган вошел в спальню, расположенную в прохладной части барбадосского дома, было что-то берущее за душу. Ее даже пугала та необыкновенная нежность, которую этот упрямый, решительный мужчина испытывал к ребенку. «Он действительно его любит, — счастливо произнесла она про себя. — И меня тоже. Ах, Боже Всевышний, если бы только он мог понять, как я обожаю его!» В тщательно убранной нише стояла великолепная колыбель из сандалового дерева и слоновой кости, умело отделанная резьбой и позолотой. — Здесь сквозняк, — резко заметил Морган. — Проклятье, тигрица; юн еще слишком мал и легко может подцепить воспаление. — Нет, Гарри, с ним все в порядке. Я поставила сюда колыбельку, потому что он половину прошлой ночи не спал из-за чертовой жары. — Чертовой жары? Ты уверена, что он не заболел? — Да ты взгляни на него. Карлотта была чувствительна и сентиментальна, поэтому у нее слезы навернулись на глаза при виде того, как гроза испанских морей, чье имя вселяло в людей панический ужас, осторожно склонился над колыбелью. — Он самый чудесный и крепкий малыш из всех, которые когда-либо появлялись на свет, — А по-моему, он довольно страшненький, — поддразнила его Карлотта. И отшатнулась от неожиданно вспыхнувшей в его взгляде ярости. — Если это была шутка, то чертовски глупая. Морган нежно потрепал ребенка по щеке. — Гарри! Мой, сынок. В это мгновение для него не существовало ничего в целом мире — ни волн, которые мягко шумели рядом с Палисадас, ни нежного запаха духов Карлотты, ни свечки, которую она держала перед ним. — О, нет, нет! Он такой маленький и легкий, что я боюсь его взять. — Ну тогда пойдем, победитель испанцев, и смоем с тебя грязь и пыль. Мы вернемся, когда Жозефа придет покормить его. — Жозефа… она здорова, верно? — Генри Морган, ты непроходимый тупица, неужели ты думаешь, что я забочусь об этом ребенке меньше тебя? Да? — Ее ногти впились ему в руку, и она пришла в такую ярость, какую ему редко доводилось видеть. — Нет, конечно нет. Просто если с ним что-то случится, я… я… — Ничего с ним не случится! Пойдем, и, пока ты отскребаешь с себя грязь, я пошлю Мари разогреть тушеное черепашье мясо. Я его ела на ужин, и оно было выше всех похвал. В тени аркады в патио Карлотты появился Генри Морган, потирая следы, оставшиеся от гамака, и глубоко вдыхая прохладный воздух. Почти все на Ямайке, где всегда было жутко жарко, переняли у индейцев обычай спать в прохладном, хорошо проветриваемом, сплетенном из травы гамаке, который служил вместо кровати. Почти сразу же пришел Чарльз Барр. Меньше всего он был похож на того, кем когда-то был, — на выпускника Итонского университета. В грязной дырявой рубашке и полосатых штанах, испещренных пятнами от подливы и вина, он ничем не отличался от других братьев. — Доброе утро, Гарри, как голова? — Средне. Я уже выпил рому с лимонным соком. Ты велел Джекмену и Брэдли прийти? — Да. Но только черт меня побери, если я понимаю Джекмена; это темная лошадка. Ты его давно знаешь, да, Гарри? — Почти восемнадцать лет, — сказал Морган. — И каждый раз я думаю, что понимаю его меньше, чем тогда, когда впервые встретил его. Барр, прищурившись, следил за маленькой зеленой ящерицей, которая охотилась за насекомыми на стене дома. — Странный парень. Он щедр со своей командой, но, Господи, как он стонет и вздыхает, когда ему приходится потратить пенни или полпенни на себя. Он, наверное, очень богат. Внутри послышались еще голоса. Это говорили Зулейма и Жозефа, кормилица Гарри-младшего. Вскоре пришел и Энох Джекмен, небрежно одетый, в мешковатой, но удобной льняной рубашке и штанах. — Ну, Гарри, — заметил Джекмен, — ты выглядишь таким довольным и счастливым, словно сытый и выспавшийся кот. Похоже, наследник процветает, — добавил он, когда из противоположного угла патио донесся отчаянный вопль.. Вопли стихли, и Морган рассмеялся. — Надеюсь, ему нравится завтрак не меньше, чем мне мой. Ну, Энох, давай разберемся, какие корабли ты собираешься использовать под транспорт. Когда придет Брэдли, нам надо будет заняться боеприпасами. Джекмен кивнул. — Он прекрасный солдат. Мне говорили, что он научился артиллерийскому искусству во время войны с варварами-мусульманами. Низко склонив голову, Барр записал названные Джекменом суда, приблизительный состав команд и составил длинный список необходимых припасов. Джекмен беспокойно дернулся и взглянул на верхушки пальм. — Это твоя последняя экспедиция? — Да, до тех пор, пока королевская власть меня не поддержит. — И куда ты собираешься отправиться? — Он посмотрел прямо в глаза Моргану. Адмирал спокойно отделил еще одну дольку апельсина и отправил ее в рот. — Я собираюсь захватить Панаму. — Что? Ты с ума сошел? — Нет, я считаю, что Золотой порт вполне можно захватить. — Но, но, — растерянно пробормотал Джекмен, — как ты туда доберешься? Панама расположена в Южном море. — Это верно. — Голос Моргана звучал почти весело. — Я хочу пройти с войсками через перешеек. Джекмен вскочил, выпучив глаза. — Я тебя правильно понял? Ты, конечно, не мечтаешь о том, чтобы пробраться через джунгли, полные опасностей и всякой заразы, по которым даже индейцы не решаются путешествовать? — Если испанцы смогли пересечь Кастильо-дель-Оро, то я не вижу причин, почему англичане ифранцузы с отличным снаряжением и при соответствующем руководстве не могут поступить так же. К тому же какая добыча нас ждет! С улицы послышался грубоватый голос, но вместо Морриса появился полковник Джозеф Брэдли, слегка хромая после старого ранения. — Ну, Гарри, наши каперские поручения готовы? Морган сердечно помахал в знак приветствия. — Еще нет, потому что сэр Том все еще раздумывает над ними. — А что ему остается. От того, что написано в лицензии, может зависеть его жизнь и жизнь многих из наших людей. Какого чуда не сумеет сотворить законник с умно составленным предложением? Соломон впустил полковника Бледри Моргана, с красным носом, опухшего: поговаривали, что он опять подхватил французскую болезнь, но темные глаза его смотрели ясно и смело. Бледри Морган с уважением приветствовал своего младшего двоюродного брата. — Ну, Гарри, готов биться об заклад, что в этот раз тебе нужны солдаты, а не матросы! — Ты так думаешь? — Да. Иначе ты не стал бы так возиться со мной, Брэдли, Коллиером и другими артиллеристами, которые к тому же понимают, как командовать наземными войсками. — Мне нужен совет. Я должен знать, как организовать поход протяженностью в шестьдесят миль через джунгли, реки и горы. Бледри Морган присвистнул. — Господи помилуй! Ты что, серьезно собираешься провести пять тысяч необученных людей через джунгли?Глава 2 КУПАНИЕ
Если бы не новая эпидемия в Порт-Ройяле страшной желтой лихорадки, Карлотта де Сандовал д'Амбуаз чувствовала бы себя счастливее, чем когда-либо за все время своей бурной и легкомысленной жизни. Было так радостно и приятно видеть Гарри рядом, видеть, что он так терпеливо и нежно любит ее и ребенка. Как чудесно наконец ничего не хотеть. С рождения Гарри-младшего ее шкатулка с драгоценностями была переполнена. К счастью, материнство не испортило ее фигуру, а маленькие груди с розовыми сосками уже приобрели прежнюю форму. Лежа в гамаке, она прислушалась к голосу Гарри, который прощался со своими гостями. Она зевнула и про себя ругнула Зулейму за то, что та заболела. Дай Бог, чтобы у нее не оказался сифилис! Карлотта села в гамаке. Страшно подумать, что маленький Гарри может подхватить заразу. Карлотта позвонила, и когда вошла Мари с тарелкой фруктов и кувшином горячего шоколада, она уже скинула мокрую от пота ночную рубашку и вытащила бледно-голубое платье, которое надевала при уходе за ребенком. Порывисто расчесывая густые рыжие волосы, она уселась перед маленьким столиком и быстро спросила по-испански: — Как Зулейма? — Ей лучше, миссис. Но она еще слаба и не сможет работать три-четыре дня. Понятно. Раз Зулейма больна, Карлотте придется самой купать маленького Гарри. Жозефа слишком неповоротлива. Карлотта вытянула молочно-белую ногу, и Мари обула ее в шлепанцы. — Через полчаса я буду купать Гарри, так что приготовь горячую воду и таз, чтобы развести ее. Карлотта полюбовалась на своих голубых, серых и алых попугаев в клетках, быстро закончила завтракать, удивляясь проснувшемуся желанию немедленно увидеть ребенка и подержать его на руках. Маленький Гарри, как говорила Жозефа, был хорошим мальчиком, всегда готовым улыбнуться и засмеяться. Малыш был в на редкость прекрасном настроении и весело загукал, когда мать взяла его на руки и поцеловала в ложбинку на шее. Меж тем Жозефа уже все приготовила для купания: деревянная ванна стояла на толстом ковре, чтобы Карлотта могла, купая ребенка, встать на колени. рядом со стулом, усевшись на котором Карлотта распеленала маленького Гарри, стояло ведро холодной воды, лежали свежие пеленки и распашонка из великолепного голландского полотна, в которой ребенка покажут отцу. Конечно, он был мокрый; интересно, правда, что мальчики чаще мочат пеленки, чем девочки? Карлотта методично расстелила полотенце на коленях и положила ребенка на спинку. Она улыбнулась, когда увидела, что выступившая от жары и пота сыпь почти совсем исчезла. — Жозефа! Скорее неси горячую воду! Тяжело пыхтя, ввалилась негритянка. Ее плечи тяжело ходили под тяжестью ведра с кипящей водой. — Она слишком горячая, даже для того, чтобы ее смешать, тупица, — возмутилась Карлотта и попыталась вспомнить, как Зулейма определяла правильную температуру. — Иди принеси ещё холодной воды и в другой раз не приноси ведро, в котором вода только что закипела. Голенький маленький Гарри резко дернулся у нее на коленях, пытаясь ручонкой поймать столбик пара, поднимавшийся от ведра с кипящей водой. В ожидании Жозефы Карлотта развлекалась, подставляя свои маленькие пальцы под ладонь мальчика, и тот тут же сжимал ее руку. — Боже, ну и хватка! Нужно сказать об этом Гарри. — Она улыбнулась, глядя на длинный ряд игрушек, привезенных адмиралом, которые еще не были нужны для такого маленького ребенка. Ребенок снова дернулся, Какой он мягкий и толстенький. А! В коридоре раздалось топанье Жозефы. — Торопись, — позвала она. — Я не собираюсь ждать целый день. Кормилица, балансируя с глубоким корытом холодной воды, послушно ускорила шаг, но поскользнулась на хорошо натертом воском полу, споткнулась, завизжала и упала. Оловянное корыто с жутким грохотом ударилось об пол. Перепуганная Карлотта вскочила и повернулась, в ярости готовая прибить Жозефу. Но гневные проклятья так и не слетели у нее с языка, потому что от резкого движения ребенок скатился с ее колен прямо на край ведра с кипящей водой и исчез там. Из уст Карлотты вырвался совершенно нечеловеческий крик. Трясясь от охватившего ее столбняка, смешанного с ужасом, она, не обращая ни малейшего внимания на боль в руках, шарила в кипящей воде в поисках ребенка. Но прошла долгая, показавшаяся вечностью секунда, прежде чем она вытащила его. Маленький комочек пурпурно-красного цвета. Раздались голоса, и со всех сторон зазвучали шаги. Жозефа лежала и стонала, она была немного оглушена своим падением и слишком напугана, чтобы встать. — Какого черта! — Морган ворвался в комнату и увидел рыдающую Карлотту на коленях. От слабо дрожащего тельца младенца все еще поднимались струйки пара. Карлотта повернулась с трясущимися губами, ее лицо исказила гримаса, когда она подняла на него огромные, наполненные ужасом глаза и подняла руки, уже покрасневшие и совершенно обваренные. — О Гарри! Этого не может быть. Он бросился к ней, чтобы взять ребенка на руки, и тут понял, в чем дело. В ужасе он смотрел, как грудь малыша приподнялась, опустилась и осталась неподвижной. Еще минуту Морган стоял на коленях, не сводя глаз с тела младенца. Потом медленно, словно автомат, повернулся. — Он умер, и это ты убила его. Ты убила моего сына. Она уже видела в его глазах такой огонь, но только слабо приподняла изуродованную руку, на которой ярко горела буква «О». — Если это утешит тебя, то, прошу тебя, убей меня, -проговорила Карлотта. Она не пошевелилась, когда его руки потянулись к ее горлу, а в глазах заполыхало адское пламя. — Прежде чем ты убьешь меня, я скажу тебе… — Она уронила руки и склонила голову. — Я избавлю тебя от ненужной боли. С напряженным, покрасневшим лицом Морган склонился над ней. — Что ты хочешь сказать? Что? Ты разрушила все, за что я боролся и для чего жил, — взревел он. Слезы струились по ее щекам, когда Карлотта подняла глаза. — Можешь делать что хочешь, но запомни то, что я скажу. Я любила тебя так сильно, что… я родила тебе наследника, но он был моим ребенком, а не твоим. Со своего места Жозефе было видно, как адмирал замер на месте и нахмурил лоб. — Не мой? Во… но эликсир? — Это была выдумка, — простонала Карлотта, — я придумала это, потому что любила тебя и хотела, чтобы ты был счастлив. — Но кто же отец ребенка? — Он почувствовал, как в голове у него застучали огромные барабаны. Может, Карлотта лжет, пытаясь спасти свою жизнь? — Раз он не твой, то какая разница? — О Боже! Боже, помоги мне! — Генри Морган, шатаясь как слепой, поднялся на ноги. Он понял, догадался, что Карлотта не лжет. Генри Морган из Лланримни может завоевать себе целый мир, но это все, что он может. Он повернулся и вышел. В своей спальне сидела Мэри Элизабет и плакала от бессильной ярости; за два последних дня ее дом разгромили так, словно сюда ворвались испанцы Мануэля Риверо Пардала. Пусть Гарри до самого Страшного суда будет утверждать, что ему нужно было пригласить к себе домой всех этих французов, голландцев и англичан, но она никогда не простит ему. Никогда! Она вздрагивала каждый раз при воспоминании о том, как капитан Димангл в неожиданном припадке ярости швырнул одну из ее самых дорогих тарелок в голову капитана Морриса, а потом кидался кусками бифштекса в ее прекрасные желтые вышитые гардины. Капитан Рикс и его кровный брат Добранс напились и затеяли поножовщину в гостиной, и не только поранили друг друга до крови, но и разнесли вдребезги ее мебель, поломали подсвечники и все разгромили. До нее снова донесся звук падающей мебели и ор хриплых, пьяных голосов. С бьющимся сердцем Мэри Элизабет узнала громкий хохот своего мужа, a потом раздался щелчок взведенного курка, от которого ее охватил панический ужас. Снова зазвучал смех и проклятья на французском. А что касается Гарри, если он намерен и дальше себя так вести, то она взмолилась, чтобы он снова взял к себе эту рыжеволосую шлюху из Порт-Ройяла. Ей доставило мало удовольствия известие о том, что ее выродок умер, -слишком много муки и разочарования было во взгляде Гарри. Дикие визги из комнат служанок говорили о том, что кто-то из дружков Гарри пытался брать на абордаж не только вражеские суда. В дверях появился какой-то неизвестный ей капитан; тяжело дыша и изрыгая проклятья, он имел глупость ввалиться в ее спальню. — Ты, собака! Убирайся, грязная свинья! — Схватив подсвечник, она бросилась вперед и нанесла ему такой свирепый удар по голове, что он охнул, застыл на месте и с грохотом рухнул обратно в коридор. С развевающимися юбками Мэри Элизабет бросилась в комнаты и обнаружила, что ее гостиная пуста, но выглядит так, словно по ней пронесся ураган. Из кладовой доносились голоса, но, поскольку служанки разбежались, она не могла узнать, что там случилось. Скорее всего, они отправились за новой порцией ликера. Чума побери этих собак, которые хлещут ее дорогие отборные вина и бренди! Чем больше она думала об этом, тем большая ярость ее охватывала, поэтому она снова схватила подсвечник и отправилась в кладовую. Конечно. Они были там, но не только в чулане с винами. Свет факела освещал четверых или пятерых полуголых пиратов, которые прихлебывали вино из бутылок с отбитыми горлышками и слонялись по кладовой. — Клянусь Богом! — Мэри Элизабет тоже умела постоять за себя. — Если вы не вернетесь обратно в дом и не поставите мою мебель на место, то я вам всем прочищу мозги, пьяные бандиты! И я заставлю вас заплатить за все, что вы разбили! Они в недоумении и изумлении тупо уставились на нее, а потом исчезли из виду. На следующее утро Морган получил свежее донесение из Испанского города и принялся вытаскивать своих гостей из кроватей. — Вставайте, упившиеся мерзавцы, мне нужно кое-что вам показать! В голосе адмирала было нечто, что заставило их продрать глаза и вывалиться на террасу с опухшими, покрытыми щетиной лицами; зевая и ругаясь, они сгрудились вокруг Моргана, восседающего с видом китайского божка. — Хотите взглянуть, о чем говорится в этой комиссии? — Черт тебя побери, Гарри, — прорычал Добранс, — ты же знаешь, что половина из нас ни одного слова прочесть не может. Адмирал медленно и любовно помахал перед ним огромным листом бумаги, а потом подозвал Барра и приказал: — Прочти вслух, а ты, Трибитор, переведи своим французским друзьям. «Ямайка. Сэр Томас Модифорд, баронет, генерал-губернатор острова его величества Ямайка, Командующий всеми вооруженными силами его величества на вышеназванном острове и на присоединенных к нему островах, вице-адмирал его королевского высочества Джеймса, герцога Йоркского, в Американских морях. Адмиралу Генри Моргану, эсквайру. Поскольку испанская королева-регентша своим королевским указом, подписанным в Мадриде 20 апреля 1669 года, дала указание своим облеченным властью губернаторам в Индиях начать открытые военные действия в этих землях против нашего суверенного короля. И поскольку полковник Байонел Виллануэба, капитан-генерал провинции Парагвай и губернатор города Сантьяго-де-Куба и прилегающих к нему областей, сделал то же самое. А позже самым враждебным и варварским образом высадил своих людей на северном побережье острова и углубился в наши земли, сжигая на своем пути дома и убивая жителей или беря их в плен. И поскольку другие губернаторы этих земель выдали каперские поручения на совершение подобных жестокостей против нас и собирают силы в Сантьяго-де-Куба и в Магазене, и оттуда намереваются направить войска на наш остров и захватить его… …И учитывая, что я уверен в вашем хорошем поведении, смелости и верности, вышеупомянутый Генри Морган, а также в вашем огромном опыте в военном деле как на море, так и на земле, то с одобрения и по указанию совета его величества удостоверяю и назначаю вас, вышепоименованный Генри Морган, адмиралом и командующим всеми кораблями, барками и другими судами, которые выделены сейчас или будут выделены для общественной службы и защиты острова… …И вы уполномочены использовать все ваше умение, чтобы захватить, потопить и уничтожить любые суда противника, которые окажутся в пределах вашей видимости с целью предотвратить намерение высадиться на этот остров. Вам также предоставляется право, если вы и ваши офицеры сочтете это необходимым, высадиться на сушу и атаковать вышеупомянутый город Сантьяго или любое другое место, в котором, как вам станет известно, враг накапливает вооружение и запасы для военных действий против нас… …Все офицеры, солдаты и матросы, которые будут находиться на борту вышеупомянутых судов, обязаны на суше и на море подчиняться вам как адмиралу и главнокомандующему. А вы сами следовать приказам, которые получите от его королевского величества, его светлости или от меня. Ставлю подпись и печать 22 июля, в 22-й год правления нашего суверенного короля Карла II в году 1670-м. Томас Модифорд. По повелению его превосходительства Кери Хелиар, писец адмиралтейства». В соответствии с приказаниями своего адмирала ямайский каперский флот взял курс на Санта-Каталину, которая, увы, уже два года снова находилась в руках испанцев. То, что главнокомандующий Панамы поспешил снова захватить ее, свидетельствовало о том, что Морган верно оценил стратегическую значимость острова. С кормы своего флагмана, фрегата под названием «Удовлетворение», который быстро шел с полощущимися на ветру парусами, Генри Моргану была видна почти вся флотилия, которая стремительно мчалась вперед, подгоняемая попутным ветром. Он легко отличал крупные корабли, такие, как «Джон из Воксхолла» капитана Джона Пайна, водоизмещением в семьдесят тонн, с шестью пушками и командой из шестидесяти человек; небольшую «Фортуну», принадлежащую капитану Клементу Симондсу, только что захваченную в тяжелом, но не очень удачном походе на Гондурас. После визита на Коровий остров его флотилия увеличилась всего на несколько кораблей, и это его огорчало. Но французский сторожевой корабль «Серф» пополнил его отряд еще на сорок человек и две пушки, а «Лев» капитана Шарля также принес ему сорок человек и три пушки. Скоро стемнеет. Выучили ли его разноязычные капитаны сигналы лампой, которым он так терпеливо обучал их? Джекмен, чья скупость возросла до поистине невероятных размеров, в конце концов стал капитаном и шкипером флагмана. Сейчас ему был дан приказ не увеличивать скорость фрегата, чтобы не отстали барки, посыльные и сторожевые суда. Большой корабль Джека Морриса, «Дельфин», уже слишком долго плавал без капитального ремонта, но все же он шел под полными парусами, стараясь не отстать от других. Еще одним тихоходным судном оказалась «Жемчужина», барк, на котором Джек Моррис захватил и убил храброго, но безрассудного португальца, Мануэля Риверо Пардала, чей вызов пришелся так кстати Моргану и Модифорду. В одиночестве, если не считать двух рулевых, которые стояли у штурвала «Удовлетворения», Морган прошелся вдоль поручня и еще раз все обдумал. На самом деле ему удалось собрать гораздо меньше пяти тысяч человек, которые были ему необходимы для осуществления его плана. Ему не удалось этого сделать скорее всего потому, что подавляющее большинство голландских пиратов отказалось присоединиться к нему, и немало лучших капитанов д'Ожерона сочли экспедицию слишком безрассудной, чтобы она могла окончиться успехом. Проверка списков, составленных Чарльзом Барром, показала, что на самом деле ему удалось набрать всего тысячу восемьсот сорок шесть разношерстных бандитов вместо задуманных пяти тысяч отобранных и хорошо обученных солдат, о которых он мечтал в Порт-Ройяле. Так что флотилия под его командованием состояла из тридцати шести судов, восьми французских и двадцати восьми английских. В целом она не производила внушительного впечатления — общее водоизмещение примерно тысяча шестьсот тонн и на вооружении всего двести тридцать девять пушек самого разнообразного калибра. И многие ветераны европейских войн были рассержены, например, полковник Лоуренс Принс, майор Ричард Норман и капитан Дилендер. А что касается Бледри Моргана, то он просто изрыгал пламя, словно дракон: — Иуда Искариот! Неужели ты собираешься атаковать Панаму с горсткой этих паршивых дворняжек? Откуда я знаю, что эти ублюдки не разбегутся при первом же залпе? — Ты не можешь этого знать, — отрезал адмирал. — Но ты должен позаботиться, чтобы они дорого заплатили за малейшее колебание. Другой ветеран, полковник Джозеф Брэдли, был настроен немного более оптимистично. — Сгодятся и эти висельники, — заявил он, — пока нам не придется отступать. Главное, не дать им остановиться. Гони их вперед, пусть их убивают, но не позволяй им отступать! Эдвард Коллиер, офицер королевского флота, назначенный вице-адмиралом флотилии, был мрачен. — Боже правый, если бы только у нас был хотя бы один корабль регулярных войск его величества, я бы, пожалуй, смог что-нибудь обещать. Но вы только взгляните на эту коллекцию ободранных старых калош. Клянусь распятием: некоторые из этих посудин, того и гляди, развалятся. И Действительно, даже при все смягчающем свете заходящего солнца потрепанные, неокрашенные, все в грубых заплатках корабли мало напоминали военный отряд. Но зрелище британского государственного флага почти на всех мачтах производило внушительное впечатление. По военным законам все пиратские суда являлись наемниками на службе у его британского величества. Морган повернулся и увидел Джекмена, который поднимался на капитанский мостик по лестнице. — Славный вечер, Гарри! — Только он осмеливался обращаться к адмиралу по имени и тогда, когда корабли были уже в море. — Напоминает мне тот, когда мы впервые высадились на Эспаньоле. Помнишь, как тогда было тихо? — Да. До самой смерти буду помнить. — Адмирал улыбнулся, слегка покачиваясь в такт колебаниям палубы. — Тогда мы и не мечтали о таком. — Он обвел рукой три дюжины кораблей, которые вереницей шли в кильватере «Удовлетворения». — Да. Мы проделали длинный путь, особенно ты. Ты знаешь, — Джекмен критически осмотрел его, — я не удивлюсь, если ты станешь губернатором Ямайки. На губах адмирала появилась едва заметная усмешка — он здорово похудел с прошлой зимы. — Нельзя ставить себе больше одной цели, Энох. — Его рука крепко сжала поручень. — В одном я уверен: эта экспедиция возвысит Генри Моргана или сломает его -сломает во всех отношениях. Знаешь ли ты, что я вложил в это предприятие свои собственные десять тысяч фунтов? Если мы проиграем, я снова буду нищим, как в тот день, когда мы высадились на Эспаньоле. Мускулы лица Джекмена напряглись. — Ты не должен был так рисковать… Морган схватил кожаный рупор и рявкнул стрелку: — Выпали из фальконета и дай сигнал «Летящему дьяволу» прибавить парусов. — И в сердцах добавил: — Черт меня подери, если этот мерзавец Димангл не подставит меня, дай ему хоть половину такой возможности. Как только сигнальные флаги были подняты, Джекмен произнес: — Я все еще не могу понять, зачем ты тратишь время на то, чтобы вернуть обратно Санта-Каталину. Если мы не добудем там продовольствие, то нам нечем будет кормить людей. Темные выпуклые глаза адмирала прямо уставились в голубые глаза Джекмена. — По двум причинам, Энох; во-первых, я не могу оставлять у себя в тылу испанские войска, а во-вторых, мне нужно посмотреть, как эти мерзавцы, которых мы набрали, выполняют мои команды. — Все равно, — уроженец Новой Англии потер небритый подбородок, — разве промедление в Санта-Каталине не угрожает нам тем, что нас может выследить какой-нибудь корабль-шпион? И потом, если мы идем на Панаму, нам придется брать форт Сан-Лоренсо, а он считается неприступным. Потеряв время на Санта-Каталине, мы рискуем тем, что доны пришлют подкрепление в Сан-Лоренсо. Адмирал по-прежнему был спокоен. Он промолчал о том, что капитан Рикс, шедший далеко на правом фланге ямайского флота, не посчитал нужным доложить, что он заметил барку, которая удрала на юг на всех парусах.Глава 3 ТОМА И НОВЫЙ ГОД
Рыбак Тома легко шел по ветру от острова Табога к Панаме. Теперь он уже видел место своего прибытия. Белые и красные стены метрополиса Центральной Америки почти на полмили протянулись вдоль песчаного берега Южного моря — города, который уже не был центром, но все еще сохранял огромную значимость. Тома, самбо *["422] из деревни Ната, расположенной выше по побережью, всегда с удовольствием подплывал к огромному городу на закате. Солнце постепенно погружалось в горы и бросало богатые пурпурные блики на округлые холмы вокруг Панамы. Тома всегда нравились сочные цвета в природе, искусстве и религии. Блестящие черные глаза наполовину негра, наполовину индейца обежали знакомые очертания высоких построек. Слева от него, на северном конце города, он увидел форт Нативидад, который защищал единственный мост через реку Алгарроду. Справа от него ярко сияли на солнце красные черепичные крыши знаменитой обители Мерседес. Тома радостно улыбнулся; в новогодний вечер 1670/71 года добрые сестры обители угощали бедных пирожками, орехами и конфетами из сахарного тростника. Рядом с обителью возвышались колокольня и высокие стены монастыря добрых францисканцев. А дальше располагались три городские площади. И надо всем доминировала наводящая на возвышенные мысли башня кафедрального собора — огромные раковины-жемчужницы, вделанные в его купол, сверкали белизной, девственно чистые, словно сама Божья Матерь. Хотя самбо и не мог разглядеть их, но он знал каждую лавку на берегу. Там торговали мясом, овощами и маслом, а вон там находился рыбный рынок, куда Тома и его товарищи сбывали устриц, крабов и макрель, которых Бог посылал в их сети. Потрепанная лодка легко качнулась на волнах, уловив в свой парус резкий порыв ветра, и понеслась еще резвее. Самбо обрадовался этому: уж теперь он обязательно успеет к празднику Святого Педро. Он бросил взгляд на свою женщину Пепиту, которая спала среди тыквенных бутылей с пеликаньим маслом. Из отваренных птиц вытапливалось великолепное густое масло, которое использовалось для смазки упряжи и седел. На рынке оно стоило целых три песо бутылка. С чувством приятной легкости Тома поднес к губам зеленый кокос и сделал длинный глоток сладковатого прохладного молока. Ах! Жизнь чудесна, а Панама — это самый прекрасный город в мире. Это признают даже хвастуны кастильцы, которые все время ноют о старых городах в Испании. Из-за рыбного рынка мрачно выглядывала тюрьма, в которой сидели убийцы, воры, неплательщики налогов и все враги короля и церкви. И снова Тома прищурил глаза на закат, посмотрел на колокольню кафедрального собора и тихо поморщился. Сегодня вечером Пепита наденет мантилью, и они пойдут слушать специальную мессу, которую будет служить архиепископ в честь празднования Нового года. Правый край города вдавался в гавань. Там стояли семь правительственных зданий. Это были губернаторский дворец, таможня, королевская казна и королевский склад, в котором временно хранились богатства из Южной Америки, которые должны были отправиться в полный опасностей путь до Мадрида. Плохо, что Пепита была уже не молода, подумал он; она сможет работать еще года два, не больше. После этого ему придется поискать себе другую женщину, хотя он оставит у себя Пепиту, потому что она превосходно готовит. Здание муниципалитета, конечно, будет освещено, как и дворцы архиепископа и генерал-губернатора. А что приятнее всего, красивые дамы и их гордая свита наденут лучшие наряды и соберутся вокруг сделанного из камня дерева Справедливости, которое украшает Плаца Майор. На них будут смотреть толпы молчаливых быстроглазых индейцев с равнин Пакоры, самбо из Наты, метисы и сотни свободных негров, а также все испанцы из разбросанных по побережью деревушек. Конечно, все напьются в меру, насколько им позволят финансовые возможности. Тома нащупал в своем кошельке из кожи шакала среди какао бобов, которые служили мелкой разменной монетой, о радость, серебряный реал, который он приберег на черный день. — Оле, женщина! — Тома легко пнул ее по заду. — Просыпайся, лентяйка, и причешись. Пепита повернулась на бок, широко зевнула, обнажив черные зубы, приподняла голову и приоткрыла заспанный глаза. — Еще рано, — буркнула она и снова завалилась спать. Всего несколько суденышек лежало на боку в грязи у причала; а в гавани стоял всего один большой военный корабль вице-короля Перу. Стайка серовато-коричневых пеликанов пролетела мимо лодки, чтобы присоединиться к пиршеству чаек, которые отыскали на камнях устриц. Тома облизал губы. Славно, на реал можно купить достаточно красного вина, чтобы разогреть старые кости и развеселить сердце; красное вино способно даже заставить его вновь увидеть в костлявой Пепите молодую девушку. При неожиданно раздавшемся звуке пушечного выстрела он вздрогнул, а потом от всей души расхохотался, заметив облачко дыма над мысом Матадеро и несколько озадаченных стервятников, которые взлетели с верхушек своих излюбленных пальм на Плаца Майор. Господи! Это просто салют в честь Нового года. Да, и хорошо, что у него есть добрый друг самбо Педро, который плетет сети. У него в пригороде Маламбо всегда достаточно пальмового вина. Донья Елена заметно вздрогнула; не каждый день под ее крышей собиралось такое блестящее и утонченное собрание. До нее доносился голос дона Андреаса, глубокий и хорошо поставленный. Он приветствовал его светлость архиепископа. Дон Хуан Боргеньо, помощник губернатора Верагуа, зашел ненадолго и сообщил, что его превосходительство дон Хуан Перес де Гусман, рыцарь ордена Святого Жозефа, губернатор и главнокомандующий Панамы, прибудет принять участие в празднике, который она вместе со слугами готовила почти три дня. Донья Елена на цыпочках, придерживая шуршащие юбки проскользнула в кухню и тревожно оглядела стол, загроможденный разнообразными блюдами: индейки, перепелки, голуби, утки, яйца чаек — и все это было разложено на огромных тарелках из чистейшего перуанского серебра. Она приподняла бровь. Какая досада! Несмотря на все меры предосторожности, запах от горячих блюд все равно разносился по всему дому, словно в какой-нибудь плебейской хижине. На другом столе высились груды говядины, оленины и даже лежали зажаренные целиком дикие свиньи Почему упарившаяся прислуга еще не принесла пирог с игуаной? Гости из провинции должны особенно оценить этот деликатес, не меньше, чем хорошо приправленных омаров, крабов и всевозможных рыб. Некоторые из гостей уже поглядывали в дверь. Она приятно улыбнулась в ответ на глубокий поклон известного купца дона Рамона Гутиерреса и вежливый реверанс его жены Пердиты, одной из первых красавиц во всем вице-королевстве Перу. Донья Елена бросила на молодую женщину завистливый взгляд. Святая Мария! Она слишком красива, чтобы походить на человеческое существо. Золотистые волосы высоко подняты под мантильей, расшитой золотыми и серебряными нитями, которая спускалась ей на плечи; но это очаровательное создание пользовалось всеобщем уважением за скромность и сострадание. Когда донья Пердита шла на мессу или на прогулку на Плаца Майор в среду вечером, то люди останавливались, чтобы посмотреть на неземную красоту жены Рамона Гутиерреса. Даже повеса Карлос де Монтемайор, ее будущий зять, клялся, что такой красавицы не сыскать и в чопорном и напыщенном дворце Эскуриал в Мадриде. Гутиеррес был старше ее на двенадцать лет и заработал свое состояние на импорте испанских товаров, хотя его лицензия на подобный род деятельности, купленная в мадридском совете по делам Индий, стоила ему очень и очень недешево. Как его должна страшить перспектива оставить свою жену одну, когда он уедет по делам в Лиму через пару дней. — Наш скромный дом стал богаче, когда в него вступили вы, дон Рамон, и ваша милая жена. — Мы не стоим того, чтобы ступать в такой изысканный дом, — последовал ответ купца. — Вы были слишком любезны, пригласив нас. Донья Елена улыбнулась, но в то же время подумала, куда могла исчезнуть Мерседес, эта взбалмошная девчонка. Она должна быть здесь и встречать гостей отца. Ужасно, если она снова отправилась в тюрьму. Правда ли, что ее дочь ходила к несчастному Давидо только для того, чтобы убедить этого еретика вступить в лоно истинной веры? Слава Богу, вот и она. Она так мила в новом зеленом платье. Вот она уже застенчиво беседует с доном Дамианом Гуерреро, королевским знаменосцем в Панаме, одетым в ярко-розовый сюртук и жемчужно-серые штаны. Как почти все гости, он постарался нацепить на себя практически все свои украшения. При каждом движении его длинных, сухих пальцев сверкали рубины, алмазы, бриллианты, аметисты и жемчуг, а в серьгах дрожали и искрились два огромных изумруда. Когда снаружи пропела труба, гости повернулись в ожидании, а донья Елена поспешила присоединиться к своему супругу. Сегодня дон Андреас де Амилета выглядел как нельзя более изящным, грациозным и непринужденным. Дворецкий распахнул огромную, обитую гвоздями парадную дверь и склонился в таком низком поклоне, что связка ключей, прикрепленная к его поясу серебряной цепочкой, почти царапнула пол. — Его именитое превосходительство, губернатор дон Хуан Перес де Гусман с супругой! Под громкое шуршание шелковых юбок дамы присели до самого пола, словно ветер пронесся над полем разноцветных, усыпанных бриллиантами цветов. — Пусть этот Новый год принесет вам, дон Андреас, вашей семье и всем присутствующим еще больше благочестия, мира и процветания, — приветствовал их губернатор, а его жена, высокая темноволосая уроженка с холмов Арагона, едва заметно присела в реверансе. Приехали еще гости, среди них Франциско де Гарро, лучший друг старшего сына дона Андреаса, кабальеро до кончиков ногтей и способный командир городской кавалерии. За его руку цеплялась стеснительная маленькая жена, которая только что оправилась после рождения третьего ребенка и выглядела намного старше своих девятнадцати лет. Приход Альфонсо де Алькодете, коменданта Порто-Бельо и закаленного ветерана многих кампаний против индейцев, как всегда принес с собой шум и оживление. Он ворвался на виллу, словно брал ее приступом. Когда гостям разнесли вино, купцы и политики собрались в одном углу, а военные — в другом. Никогда еще в Панаме не было такого пышного празднества, решил брат Пабло, немного смущенный пышностью и высокими должностями прибывших гостей. Дон Андреас поднял золотую рюмку и провозгласил: — За ее милостивое католическое величество Марию Австрийскую, королеву-регентшу. Раздались искренние крики «ура», и гости один за другим осушили золотые рюмки и тяжелые серебряные кубки доньи Елены, украшенные полудрагоценными камнями. «Пожалуй, — подумала Мерседес, — нигде в мире не увидишь сразу столько богато украшенных платьев, великолепных шелковых сюртуков и костюмов. Божья Матерь на самом деле добра к нам, ее верным последователям. Кто же еще может даровать людям такое несметное богатство?» Примечательно, что младшей дочери дона Андреаса никогда не приходило в голову, что ее украшенному жемчугом гребню, доставшемуся ей в наследство от почившей тетки Терезы — она отправилась на небеса два года назад, — позавидовали бы многие английские или французские герцогини, а массивным серьгам и вееру сестры Инессы, украшенным попеременно бриллиантами и изумрудами, позавидовали бы даже самые избалованные из многочисленных любовниц короля Карла II Стюарта. Архиепископ счел момент подходящим, чтобы вставить серьезное замечание: — Среди нашего благополучия и комфорта, дети мои, давайте не забудем поблагодарить благословенную Божью Матерь. Даже самый закоренелый еретик, если бы он оказался тут, оценил бы, как велика награда истинно верующих. Гости покорно на секунду склонили головы, а потом снова послышался смех и шутки и начались разговоры о наступающем годе. А вокруг метались словно угорелые слуги с тарелками фруктов, орехов и сладостей. Мерседес, которая вела беседу как примерная дочь своего отца, заметила, что старшие дамы ни к чему не притронулись. Как она завидовала своей сестре, которая крепко держала под руку своего жениха и с гордостью смотрела на его надменный, тощий профиль. На них было приятно посмотреть — изящная пара, словно маленькие статуэтки из слоновой кости, которые привозили новообращенные христиане — крещеные евреи, — которым недавно был разрешен въезд в вице-королевство. Нельзя было не признать, что молодой Карлос де Монтемайор производил впечатление. На нем были сливовые с белым штаны из венецианского полотна, туфли из сверкающей кожи и серьги с топазами и жемчугом. Она мельком услышала конец фразы в разговоре генерала де Саладо и вице-губернатора Боргеньо: — Все было бы спокойно, если бы не это проклятое логово пиратов на Ямайке с их адмиралом, отродьем сатаны… Мерседес резко отвернулась и уставилась в окно. Невидящими от набежавших слез глазами смотрела она на веселую процессию с факелами, которая двигалась из Маламбо. Бедный Давидо! Как ужасно, что он лежит, то задыхаясь от жары, то дрожа от холода, на охапке соломы в вонючей камере под землей, в которой во время прилива всегда проступает вода. Иногда Мерседес боялась, что он так и не поправится от лихорадки, которая схватила его после первого допроса. В усеянном бриллиантами платье, от которого шел дурманящий запах духов, она бросилась в свою комнату, упала там на колени перед изображением Божьей Матери из слоновой кости и золота и горячо взмолилась, чтобы дом Давидо Армитедж был избавлен от дальнейших мучений. В действительности Дэвид Армитедж только сейчас постепенно начинал понимать, какими изощренными методами действовала священная инквизиция. По слухам, он знал, что пленники, которых обвиняли в ереси, могли получить отпущение грехов в зависимости от их значимости и размеров выкупа, который они выплачивали в виде добровольного дара святой церкви. То, что еретик, к тому же англичанин и, что более важно, один из людей этого чудовища Моргана, ухитрился прожить в заключении больше года, было просто поразительно. Дэвид не был дураком и быстро сообразил, что только его общепризнанное искусство врача, которое так ценилось в этой богатой на эпидемии стране, давало ему возможность выжить при условии, что сохраняется хотя бы слабая надежда на то, что он когда-нибудь примет католичество. Да, брат Иеронимо оказался умен и терпелив. Вначале Дэвиду пришлось выслушать истории менее удачливых подозреваемых — и худшим из них был португальский капитан, у которого нашли кальвинистский трактат. Потом, одним унылым серым утром, он предстал перед религиозным трибуналом, главный судья которого, казалось, отнесся к нему с участием. Этого несчастного еретика, сообщил он своим товарищам, нельзя обвинять в его заблуждениях, потому что он был так воспитан. Конечно, обвиняемый, человек незаурядного ума, скоро поймет, что он может спасти свою душу только с помощью церкви, основанной святым Петром. И Дэвид понимал, что не случайно сегодня, как и в другие праздничные дни, его перевели из его затапливаемой приливом каморки в более удобную и просторную камеру, зарешеченное окно которой выходило на Плаца Майор, которая в этот новогодний вечер была запружена толпами счастливых, веселых, беззаботных людей. Держась ослабевшими руками за решетку, виргинец постарался не обращать внимания на несколько приступов дрожи и продолжал во все глаза смотреть на этих сытых людей, которые хохотали над проделками фокусника и его помощников. Повсюду, куда падал взгляд запавших глаз пленника, пылали яркие факелы и свечи. Дразнящие запахи от вкусных блюд, запах приправ, лука и перца проникали к нему сквозь прутья решетки; мелодичный звон бубнов смешивался со звуками гитары. С улицы Санто-Доминго доносились громкие голоса негров, которые распевали странную смесь из своих и исконных песен Иберийского полуострова. Дэвид остро почувствовал себя в положении лисицы, у которой «видит око, да зуб неймет». Рыбак Тома, который случайно взглянул вверх, когда проходил мимо тюрьмы, заметил за решеткой бледное небритое лицо. — Бедняга так плохо выглядит. Дай-ка мне тортилью. Свирепая ярость исказила лицо Пепиты: — Ты рехнулся, Тома? Это же английский врач, известный еретик. — На пути на Голгофу Иисусу Христу помог только один человек. Он грубо рванул с ее плеча плетенную из травы корзинку и вытащил две пышные тортильи. С поразительной скоростью для таких неуклюжих и кривоватых ног Тома метнулся к решетке, швырнул тортильи и пробормотал: — Господь с тобой, — и вернулся обратно. Глаза Дэвида увлажнились, когда он оторвал кусок от первой тортильи; он начал очень медленно жевать; ему хотелось как можно дольше растянуть наслаждение от подарка — к тому же после длительного пребывания в заключении у него выпали почти все зубы. Когда он дожевал первую лепешку, то вернулся к окну. Да, гостиницы, таверны и бордели, наверное, сегодня полным-полнехоньки; в прошлом году город и вполовину так не веселился. Сквозь решетку он разглядел в толпе нескольких друзей дона Андреаса, богатых купцов, поверенных и королевских офицеров, которые проходили, позвякивая длинными мечами. С непривычным снисхождением эти кабальеро здоровались с самыми захудалыми лавочниками, которые сгибались в низком поклоне и призывали благословения на своих благородных покровителей. По Плаца Майор проходила процессия с факелами, знаменами и импровизированными танцами, отчасти Дэвид мог наблюдать ее из окна. — И подумать только, до Мерседес всего каких-то триста ярдов, — пробормотал Дэвид. В последнее время он стал разговаривать сам с собой. — Дон Андреас, наверное, занят, как и в прошлом году. — У него потекли слюнки, когда он вспомнил изобилие еды, вина и ликеров. — В патио будет играть музыка, и, наверное, будут говорить о том же, о чем обычно болтают на вечеринках в Джеймстауне. Наверное, дома теперь тоже пляшут и поют, раз с Английской республикой покончено раз и навсегда. Накатившая слабость заставила его присесть на деревянную скамью, которая вместе с охапкой соломы и кувшином воды составляла все убранство камеры. Хотя он и научился перемещаться без излишних движений, тяжелые кандалы, сковывавшие его лодыжки, глухо звякнули. — Когда эти проклятые святоши снова потащат меня на допрос? — пробормотал виргинец. — Смогу я устоять против них в этот раз? Как мне повезло, что после первой же пытки я свалился с приступом перемежающейся лихорадки. Да будет благословен брат Иеронимо, который заявил, что я обязательно умру, если меня будут допрашивать до того, как ко мне вернутся силы — хотя я и не понимаю, почему он заступился за меня. К своему удивлению, Армитедж не питал ненависти к брату Иеронимо. В конце концов, пираты из команды Рикса, Гасконца, Морриса и других их пошиба применяли те же пытки. — Если каким-нибудь чудом мне удастся сбежать, то мне понадобятся все мои силы, не говоря уж о том, что мне придется работать руками. — Его плечи, вывернутые на дыбе, все еще плохо двигались и нестерпимо болели. Он чувствовал какую-то дикую гордость, потому что терпел боль без единого крика и ни разу не отказался от своей веры. Прямо под окном тюрьмы прозвучал гитарный аккорд и девичий смех, который резко оборвался поцелуем. Спасение? Если бы он томился в заточении на атлантическом побережье, то у него еще оставалась бы надежда, он вспомнил тех бедняг, которых сам помогал освобождать из темниц Ла-Глории. Его тревожило отсутствие вестей о Моргане. Может, он убит или серьезно ранен? Или, как многие и предсказывали, его призвали в Англию к ответу за незаконную атаку на Порто-Бельо? Загремел поворачиваемый ключ, и наиболее доброжелательный из его двух тюремщиков распахнул дверь камеры. — Вставай, английская собака, к тебе гости. — А потом он неожиданно добавил: — И счастливого Нового года тебе. — Брат Пабло! — Пошли тебе Господь благословение, сын мой. — Францисканец вошел тихо, словно ожившее привидение. — Счастливого Нового года, — горько ответил пленник. — Но если ты снова пришел, чтобы спасать мою душу, то лучше не трать понапрасну время. — Нет, мой бедный Давидо, я здесь не для того, чтобы читать проповедь. — Старик шагнул вперед, пошарил в недрах своей рясы и вытащил оттуда кабанью ногу, пирожки и даже кожаную флягу с вином. — Мне придется отвечать за это, — пробормотал монах, — но бери, Давидо, и пусть милостивая Божья Матерь ускорит твое обращение. Второй раз за этот вечер глаза Дэвида наполнились слезами, и ему пришло в голову, что ни одна живая душа в Англии,Виргинии или на Ямайке не поверит в то, что папистский священник может быть таким милосердным по отношению к протестанту. — Скажи, дон Андреас здоров? — Да, и процветает. Восстановление Порто-Бельо привело к улучшению торгового снабжения Панамы в этом году. — А что… дониселла Мерседес? — Она с каждым днем становится все прелестнее, — улыбнулся брат Пабло, — и, боюсь, слишком много говорит о тебе, это может помешать ее счастью. — Пожалуйста, передай, что я все так же ей предан. А что стало с моими книгами, рисунками и работами? Старый монах быстро отвернулся. — Я… я не знаю. Нет, это неправда, бедный Давидо. Их… их сожгли, все по приказу святой инквизиции. — Сожгли! Боже, Боже мой! — Армитедж трясущейся рукой закрыл лицо. Погиб его многолетний труд, бесценные знания, добытые у уже исчезнувших с лица земли индейских племен. Рукописи уничтожены — все было напрасно! — Ох, брат Пабло, ты, наверное, ошибся. Они не могли этого сделать, — выдохнул он, — не могли уничтожить такие редкие и бесценные знания, которые могли пойти на пользу всему человечеству! — Увы. Я хотел бы ошибаться. Дэвид поднял на него полные отчаяния, воспаленные глаза, — Но зачем? Зачем? ЗАЧЕМ? Ведь ты прекрасно знаешь, что в моих записях не было зла, не было ничего аморального или идущего против религии! Мягкая рука брата Пабло легко опустилась на изувеченное плечо виргинца. — Я могу только напомнить тебе, что пути Господни неисповедимы. Мы, представители церковного ордена, не можем понять близорукой ярости миссионерских орденов и их монахов. — Голос францисканца зазвучал громче, выражая скрытый гнев: — Доминиканцы и слуги Иисуса — иезуиты заходят слишком далеко и забывают, что заботиться о душе — это дело белого духовенства. Дон Давидо, подобные глупости вроде той, что случилась с вашими рукописями, только ускорят их падение. Старик снова потрепал Армитеджа по плечу. — Набирайся сил, сын мой, и помни, что наш Спаситель много страдал, но все же с триумфом поднялся превыше всех его судей. По привычке брат Пабло достал два больших апельсина. — Альгвасил будет сердиться, если заметит очистки, но апельсины хорошо помогают при ослабленных зубах. Монах выпрямился при звуке шагов тюремщика, не совсем уверенных из-за выпитого в честь праздника вина. — И последнее. Знай, что следующий «допрос» состоится десятого числа этого месяца. Дай тебе Бог узреть свет истины до этого числа — иначе я дрожу при одной мысли о том, что ждет тебя. Дон Андреас и его жена с удовольствием сидели в уютном кабинете и вновь переживали поразительный успех своего новогоднего праздника. Для ушей доньи Елены лучше всякой музыки были слухи о том, что некоторые городские дамы завидовали ей и удивлялись, как это простой домохозяйке вроде доньи Елены де Мартинес де Амилета удалось собрать такое блестящее общество. Хихикая, Юлия, мамонтоподобная негритянка-повариха доньи Елены, сообщила ей, что посланные из соседних домов предлагали настоящие взятки за то, чтобы узнать секрет вкуснейших маленьких пирожных доньи Елены. Похлопывая рукой по округлившемуся животу, судья закурил трубочку и улыбнулся. — С первого дня нашей свадьбы я знал, что ты превосходная хозяйка; то, что лучше тебя не бывает, я понял спустя десять лет нашей совместной жизни; но только сейчас я начинаю понимать, что ты просто собрание всех возможных добродетелей. — Дон Андреас, — вспыхнула жена и закрылась веером, — когда я впервые встретила тебя в Картахене, то сразу подумала, что ты настоящий кабальеро и самый бессовестный льстец. И я остаюсь при своем мнении. Они рассмеялись, а потом донья Елена поднялась, чтобы вставить вышивку в квадратные пяльцы. Чтобы новая епитрахиль для его святейшества архиепископа, которую она вышивала, была готова к Пасхе, ей надо было спешить. — Разве не прекрасно иметь большую семью, которая постоянно растет? — спросил дон Андреас, уютно выпуская колечко дыма. — Вот Эрнандо — прекрасный канонир, и у него уже двое крепких сыновей. — Скажи мне, — иголка доньи Елены замерла над пяльцами, — ты и правда считаешь, что Инесса будет счастлива с Карлосом де Монтемайором? Судья глубоко затянулся, а потом хмыкнул: — Исключительно благодаря тому, что у Инессы сильный характер и она очень умна. — Это она унаследовала от тебя, дорогой. Горе мне! Я прихожу в ужас при мысли, что она будет жить так далеко отсюда, в Лиме. — Так будет лучше. Наша Инесса очень честолюбива, а в Перу Монтемайоры считаются одним из самых благородных семейств, кроме того, они очень богаты. Наступила тишина, а потом донья Елена заметила: — Вчера после мессы я слышала разговоры о том, что флот из Порто-Бельо будет отправляться раз в три года. Это правда? И почему этим английским торговцам до сих пор позволяют шнырять на нашем острове Ямайка? Судья пожал плечами и резко дернул свою начавшую седеть бороду. — Все зависит от того, сможет ли наш новый король разорвать петлю, которую эти самовлюбленные свиньи, члены совета по Индиям, надели на шеи наших колоний. — Он понизил голос и взглянул на дверь. — Если честно, Елена, французы, голландцы и англичане имеют полное право торговать с Испанской Америкой, и мы совершенно не правы: единственный способ создать крепкую колонию — это разрешить торговать всем, конечно взимая соответствующую таможенную пошлину. — Ох, Андреас! — Если бы ее муж предложил ей отслужить службу самому сатане, и то донья Елена не была бы так поражена. — Но разве в тысяча четыреста девяносто третьем году его святейшество папа Александр Шестой не даровал Испании Западное полушарие, а Восточное — Португалии? Дон Андреас тяжело уставился на пепел в трубке. — Ты знаешь, что я добрый католик. Я серьезно отношусь к религии, но не могу понять того, что его святейшество лезет… — Я не буду слушать такие непочтительные речи, — взорвалась донья Елена. Она торопливо заговорила о другом: — Как по-твоему, не отправить ли в этом году Мерседес изучать рукоделие в обители Лос-Моньяс? — Раз уж ты заговорила о своей дочери Мерседес, скажи, что ты думаешь о ее увлечении несчастным доном Давидо? Донья Елена сделала несколько быстрых стежков и лишь потом ответила: — Дон Андреас, разве мы оба не знаем, хотя и не признаемся в этом, что наша Мерседес без памяти влюблена в этого еретика, англичанина и пирата? Судья медленно наклонил голову: — Скажи мне, Андреас, как поступит религиозный трибунал? Неужели Давидо будет приговорен к смерти на аутодафе? — Вряд ли. Его светлость архиепископ выступает против публичной смертной казни. Если несчастный медик откажется принять истинную веру, то его скорее всего уморят голодом до смерти, чтобы брат Иеронимо и другие могли отрицать то, что его кровь на их руках. Раздался стук в дверь, и вошел дон Эрнандо, их старший сын, свежий после игры в карты на открытом воздухе. Ему очень шел красно-желтый мундир. Как почтительный сын, он поцеловал матери руку, поклонился отцу и со смехом потрепал висевший на поясе кошелек. — Сегодня мне везло в карты и… ха! ха!.. Я не мог проиграть! Что скажете, сэр? Могу я купить то поле у Исидора Меносала и посадить там маис? — Конечно, Когда в стране царит мир и эти ужасные беглые рабы наконец-то успокоились, мы можем наслаждаться периодом спокойствия и довольства. Их сын сорвал с головы берет из алого бархата, плюхнулся в кресло и вытянул далеко вперед ноги в сапогах. — Мои офицеры и я задумали большую травлю оленей в ближайшие дни. Вы окажете нам честь, сэр, и присоединитесь к нашей компании? Судья вздохнул. — Нет, у меня много дел. Например, иск о беглом рабе из Наты. Он важен, потому что создает прецедент. Кроме того, я должен присутствовать на процессе контрабандистов, захваченных в Табоге. — Судья передернул плечами. — Я сделаю все, чтобы их повесили. Если можно позволить мелкую контрабанду, то эти мерзавцы станут поставлять оружие дарьенским индейцам. В своей комнате дониселла Мерседес молилась уже второй час. Хотя у нее затекли колени и болела спина, она упорно перебирала пальцами четки и не отрывала глаз от спокойного лица статуэтки Божьей Матери из слоновой кости, стоявшей на небольшом алтаре. Это была превосходная, очень красивая статуэтка, с мантильей из чистого золота и голубой эмали, украшенной бриллиантами. На голове Божьей Матери виднелась изящная золотая корона с чистейшей воды рубином. «Я прочту еще одну молитву, — решила она, — и пойду спать. Горе мне! Бедный Давидо давно уже не спит на постели. Завтра, если папа мне позволит, я отнесу ему корзинку с едой». Блестящие белокурые волосы девушки взметнулись, когда она резко повернула голову к окну, закрытому ставнями. Кто-то стремительно проскакал по вымощенной гладкими булыжниками улице Калле де-ла-Каррера. Всадник мчался таким галопом, что рисковал свернуть себе шею. — Эй! Похоже, кто-то из подвыпивших кабальеро пытается выиграть гонки. Дон Эрнандо и его отец тоже услышали бешеный стук копыт; последний бросился к окну и увидел всадника, который выпрыгнул из седла и, тяжело дыша, побежал к двери муниципалитета на другой стороне улицы. — Наверное, беглые рабы снова нарушили мир и грабят наши деревни. Будь прокляты подлые псы! — Эрнандо схватил свой берет и помчался через улицу в здание муниципалитета. В этом здании начали загораться огни, когда Эрнандо вернулся и ворвался в кабинет отца с горящими глазами и напряженно сжатыми зубами. — Опять пираты! — выдохнул он. — Пираты с Ямайки под командованием трижды проклятого Моргана осаждают крепость Сан-Лоренсо в устье Рио-Чагреса! — Храни нас Божья Матерь! Только не эти демоны! Донья Елена своими слабыми руками с голубоватыми прожилками в ужасе схватилась за щеки. Судья пристально взглянул на сына. — Но ведь опасности нет? Я тоже воевал и знаю, что Сан-Лоренсо неприступна ни с суши, ни с моря. Только на прошлой неделе дон Перес де Гусман послал туда подкрепление в двести человек! Его слова неожиданно заглушил бешеный звон, поднявшийся на кафедральной колокольне. Огромные колокола звонили громко, не в такт, разнося тревожную весть по всей саванне, над сонными пригородами Маламбо и Педредевидас. — Пираты! — Святой Жозеф, помилуй нас! — Вы слышали? — Нет, а что случилось? — Морган со своими дьяволами с Ямайки высадился в Сан-Лоренсо!Глава 4 ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОХОД
С широкой уверенной улыбкой на лице и сильно бьющимся сердцем адмирал Генри Морган обходил беспорядочный лагерь, который организовали его люди на низкой, песчаной косе вдоль берега реки Чагрес, которая тянулась у форта Сан-Лоренсо. Да, форт был взят, но ценой каких потерь в его и так небольшой по численности армии! К тому же он потерял Джо Брэдли, за которого был готов отдать почти любого из своих офицеров. Потеря опытного ветерана и тридцати его отборных людей сама по себе была достаточно серьезна, но у него оставалось еще больше сотни раненых, которые стонали или тряслись в ожидании своей очереди под нож или пилу Ричарда Брауна и Яна Эксквемелина. Моргану с его свирепой натурой было нелегко предоставить ведение боевых действий полковнику Брэдли, но он решил, что так будет умнее, и поручил ему сложную задачу прорваться сквозь мощную оборону крепости Сан-Лоренсо. Ветеран со своими вымуштрованными солдатами показал такое знание стратегии в соединении с отчаянной храбростью и военным искусством, каких не видели в Новом Свете со времен конкистадоров. Хотя испанский командующий дон Педро де Лисадо де Урсуа сражался с такой же отчаянной решимостью, как и благородный Кастельон в Порто-Бельо, не выжил ни один солдат из его гарнизона, насчитывавшего триста шестьдесят человек. Положение Моргана еще больше усугублялось потерей «Удовлетворения» и трех транспортных судов, которые уничтожил неожиданный шквал в устье реки Чагрес, последовавший за трудной победой полковника Брэдли. Со своего места Моргану было видно людей, которые разбирали обломки. Единственное утешение заключалось в том, что никто не пострадал; это тоже много значило. Только к концу первой недели у стен Сан-Лоренсо он смог оценить, насколько серьезно положение его армии. Заняв Сан-Лоренсо — а он никогда не забывал урока, полученного в Гранаде, — и оставив часть команды стеречь корабли, он пересчитал оставшихся людей. Для похода на Панаму у него набралось не пять тысяч солдат, как он хвастал летом на Ямайке, а всего тысяча четыреста ободранных и плохо дисциплинированных пиратов. Шпионы доносили об укреплениях у Лос-Бракаса, а индейцы и дезертиры рассказывали, что в саванне проходил большой набор рекрутов. Давно обращенные в католичество, новые рекруты легко верили в то, что их долг состоит в том, чтобы уничтожить английских демонов. И словно в довершение полосы невезения, начавшейся со смерти Брэдли и потери судов с продовольствием, его ждал еще один потрясающий удар. К Моргану подошли Джекмен и кузен Бледри с таким видом, словно им уже накинули веревку на шею. Бледри в отчаянии стукнул себя кулаком по руке. — Клянусь Богом, Гарри. Наши дела плохи. В вяленом мясе и продуктах, которые мы взяли на Коровьем острове, завелись личинки и долгоносики. — Говори тише, черт тебя побери! — оборвал его Морган. — Ну хоть часть-то съедобна? — Нет, — ответил Бледри. — Продовольствие все испорчено, от него даже мавра стошнило бы. — А как же маис, можно кормить людей кашей из маиса. — Можно попробовать, но там больше долгоносиков, чем зерна, — грустно заметил Джекмен. — Та буря на обратном пути с Санта-Каталины промочила почти все наши запасы. У нас едва хватит продуктов для того, чтобы накормить охрану в крепости. Морган пригласил двух офицеров войти в палатку. — Ни слова матросам, отвечаете за это головой. Если они узнают, то никто из них не согласится выступить в поход. — Поход? — Бледри бросил на младшего брата недоверчивый взгляд и почесал багровый нос в фиолетовых прожилках. — Гарри, если ты все еще мечтаешь о походе, то это чистое безумие, ты просто с ума сошел. — Так говорили и раньше, — буркнул адмирал. — Энох, на сколько нам хватит еды из расчета на тысячу двести человек? — На полтора дня, — коротко доложил уроженец Новой Англии. — И это если кормить впроголодь. А сколько времени нам понадобится, чтобы пересечь перешеек, ты подсчитывал? — Шесть дней, — последовал ответ. — Если нам не придется драться по дороге. Но людям придется идти. Клянусь Богом, я сделаю то, что задумал. Вице-адмирал Коллиер вошел в палатку как раз вовремя, чтобы услышать последние слова Моргана. Он тяжело уселся и вытер мокрые лицо и шею. — На этот раз донов вовремя предупредили, а Панама расположена не рядом с нами, и до нее еще идти шестьдесят миль через реки, болота, горы и джунгли. Морган огляделся. — Это правда, Эдвард, хотя я не помню, чтобы спрашивал твое мнение. Но все равно, мы выходим завтра тремя отрядами. Я возглавлю передовой отряд, и моим главным помощником будет полковник Принс; ты, Коллиер, примешь командование основным подразделением, а старый Джек Моррис будет у тебя лейтенантом — он очень полезен в таких делах; а что касается тебя, Бледри, тебе остается самая трудная задача, ты будешь прикрывать наши тылы, но тебе помогут Джекмен и Том Морган. Адмирал резко отмахнулся от вьющихся вокруг москитов. — А теперь постарайтесь приободрить людей. — Приободрить? Боже Всевышний, да для того, чтобы развеселить этих унылых собак, нам придется три дня перед ними польку выплясывать, — возмутился Коллиер. — Скажу прямо, Гарри. Я считаю, что в этот раз ты нацелился на кусок, который не сможешь проглотить. Давай смотреть правде в глаза, старина, мы должны учесть большие потери в походе от укусов ядовитых змей, крокодилов, стрел индейцев и, что хуже всего, от болотной лихорадки. Морган выпятил небритый подбородок. — Ты что же, думаешь, что я не взвесил все «за» и «против»? К черту тебя с твоими страхами! Мы победим, несмотря на то, что нам пока не везет. А теперь убирайтесь, вы все, и прикажите раздать еду. Взмокшие и раздраженные жуткой жарой и почти невыносимой влажностью, командиры отрядов вышли прочь. Быстрый стук молотков, которыми размахивали матросы, занятые починкой стен и укреплений Сан-Лоренсо, разносился по зеленым холмам вдоль Чагреса. Дым полутысячи костров поднимался из-за длинной песчаной косы, на которой расположилась армия пиратов Ямайки. Некоторые из наиболее уставших людей уже храпели, невзирая на укусы полчищ мух, которые днем сменяли комаров. Ободранные, нередко босые и обросшие бородами, пираты представляли собой не самое приятное зрелище. Большинство из них носило широкие соломенные шляпы, чтобы защитить головы от убийственного солнца. Несмотря на все усилия Моргана равномерно распределить неангличан среди своих соотечественников, французские и голландские пираты настояли на том, чтобы расположиться отдельно, и теперь держались особняком, мрачные и настороженные. Ямайская армия выступила 9 января 1671 года. Эту дату навсегда запомнили в Новом Свете. Тысяча четыреста человек — часть пешком, часть на лодках — двинулись вверх по Чагресу. Обливающийся потом Морган сидел в головной пироге и ободрял двух испанских предателей, которых он захватил в плен в Санта-Каталине. Они уверили его, что если все пойдет благополучно, то экспедиция может достаточно спокойно добраться вверх по реке до Круса — то есть проделать почти половину пути до Золотого города. Пираты горланили песни на полудюжине языков, дружно работали веслами и находили время, чтобы полюбоваться на огромные стаи уток, других водоплавающих птиц и красочных макао и попугаев, которые тысячами порхали вокруг. В то же время они недовольно бурчали по поводу скудной порции еды, выданной им Джекменом на целый день. К счастью, ожидаемого в Лос-Бракасе сопротивления не последовало. Соблюдая величайшую осторожность, Морган повел вперед свой авангард и обнаружил жалкие, только что оставленные укрепления и еще дымившиеся костры. Враг не мог уйти далеко, потому что стервятники еще не успели приступить к трапезе на остатках обеда. Адмирал был огорчен тем, что не удалось взять пленных — ему позарез нужна была более свежая информация, чем та, которую могли предоставить ему дезертиры. Стояла жара. За последние дни не выпало ни одного дождя, поэтому на второй день большие лодки стали застревать на невидимых мелях или натыкаться на песчаные косы. — Если так пойдет дальше, — сказал Морган полковнику Норману, — нам придется уже завтра оставить барки и их груз на берегу. Панчо Гальего, главный проводник, кивнул и поддержал Моргана: — Никогда за много лет я не видел, чтобы Чагрес так обмелел в январе, дон Энрике. Обычно так много мелей и подводных камней обнажается лишь в конце февраля. Но не расстраивайтесь, о лучший из адмиралов, не так трудно идти пешком вдоль реки. — Вот уж нет! — рявкнул полковник Принс, стряхивая с руки блоху. — Ты когда-нибудь пробовал тащить на себе по такой жаре порох, боеприпасы и аркебузы весом в четырнадцать фунтов каждая? И при этом продираться через непроходимые джунгли? — Гальего знает, что говорит. — Морган бросил тревожный взгляд через плечо и выругался, увидев, как растянулись лодки. А если их подкараулит засада и неожиданно откроет огонь, что тогда? — Крикни этим олухам в третьей барке, чтобы гребли шустрее. События развивались именно так, как все и боялись; ни одна из лодок не могла плыть дальше. Подбадривая свой передовой отряд вступить в ядовитую зеленую тьму за причудливым сплетением лиан и ползучих растений, Морган отдал приказ, чтобы все плавсредства были оставлены под охраной. Мнения Коллиера, Тома Моргана и других ветеранов совпали. Невозможно тащить с собой пушки по дороге, по которой даже пехота пробирается с трудом. Разбив лагерь на берегу реки, где их атаковали полчища гнуса и москитов, армия этим вечером поглотила жалкие остатки взятой с собой провизии и не нашла ничего съедобного в болотах и топях вокруг. Непривычные к звуку стольких голосов и треску веток, обезьяны, птицы, броненосцы и даже вялые ленивцы разбежались, так что охотникам попались только случайно оставшиеся больные или молодые звери. — Никогда не видели таких густых джунглей, — бурчали люди полковника Принса на следующий день. — Эти лианы такие же твердые, как сердце шлюхи на Topтуге. Однако, поплевав на пальцы, они принялись палашами прорубать проход в стене растительности вдоль реки. Спустя полчаса идущий впереди флибустьер остановился, он так обессилел, что даже не мог отбиваться от насекомых. Другой пират грубо выругался, когда Морган толкнул его вперед на смену выбившемуся из сил передовому. К полудню индейцы из дружеского племени принесли новость, которую Морган предпочел бы не слышать. Дрожащими, высокими голосами они быстро рассказывали. Ради всего святого! Англичанам лучше быть осторожными; губернатор Панамы де Гусман послал генерала Гонсало Саладо с отрядом в пятьсот хорошо обученных солдат, и тот собирается перекрыть дорогу вторгшейся армии в местечке под названием Барро Колорадо, где можно устроить превосходную засаду в поросших густым лесом холмах. К утру третьего дня люди уже были голодны как волки и завидовали тем своим товарищам, которые остались охранять Сан-Лоренсо и корабли. Они с удовольствием поменялись бы местами с любым из ста шестидесяти человек из отряда капитана Роберта Дилендера, которые расположились лагерем у брошенных лодок и пирог, всего в дне пути отсюда. На четвертый день потребовался весь юмор Моргана, весь его сарказм и несгибаемая воля, чтобы заставить двигаться оборванную, с окровавленными ногами, исцарапанную колонну. Ахилл Трибитор, с застрявшими в белокурых волосах колючками и листьями, еще раз доказал, что на него можно положиться. Этот уже пожилой бывший аристократ бросался вперед словно лев и даже подгонял рапирой изможденных, уставших пиратов, чтобы они двигались быстрее. Идя во главе армии, Генри Морган расположился позади линии стрелков, опытных и зорких. Все чаще ему приходилось менять рубщиков, которые падали без сил от голода и жары и отползали в сторону. Многие уже начинали поговаривать, что до Панамы, наверное, дальше, чем до легендарного Китая. — Ты что, споткнулся, Диккон? Тогда поднимайся, потому что город уже близко. Там полно еды — хватит на всех. Шевели ногами, Жиль, и ты, Пьер. Вы наверное, не голодны, а то бы вы поторопились добраться до Барро Колорадо и захватить его, чтобы скорее набить брюхо. Хорошая работа, Абрам, покажи этим мальчишкам, как надо работать топором. С ввалившимися глазами, в разодранной в клочья рубашке, королевский адмирал без устали расхаживал вдоль своего подразделения, распоряжался, чтобы совершенно обессилевших и больных сажали в те немногие пироги, которые все еще могли передвигаться по Чагресу. Больше всего Моргана тревожило все увеличивающееся количество заболевших лихорадкой или другими болезнями, но все-таки пока не было слышно ни мушкетных выстрелов из засады, ни отравленных стрел индейцев. С каждым часом лица пиратов все более вытягивались, вокруг глаз и рта проступали резкие морщины, они уже шатались от усталости. Из-за того, что тропинка оказалась слишком узкой, а иногда и вообще пропадала, плавно переходя в топкие трясины по берегам Чагреса, колонна флибустьеров растянулась почти на две мили. На долю Эноха Джекмена и Бледри Моргана выпала труднейшая задача; они должны были следить за тем, чтобы позади оставались только мертвые. Джекмен подозревал, но не мог доказать, что далеко не одного из ослабевших пиратов прикончили ударом по голове свои же товарищи, которые предпочитали отдать его крокодилам на ужин, чем тащить на себе еще хотя бы один ярд. Там, где было повыше и посуше, шныряли ядовитые змеи, такие, как красно-черные табоба, коралловые змеи, рогатые гадюки и смертельно ядовитые зеленые змейки, которые бросались на человека без предупреждения, едва заслышав звук шагов. Тогда поднимался жуткий крик, и в кольце обступивших жертву перепуганных зрителей несчастный метался из стороны в сторону, тщетно пытаясь высосать яд. Встречались им и пауки, размером в ладонь, с темно-коричневым тельцем и мохнатыми ногами. Поскольку их укус оказался не менее смертельным, чем укус гадюки, то многие из отощавших, замученных лихорадкой флибустьеров незаметно скрывались в густых зарослях, чтобы там тихо умереть, оставив свое тело в добычу полчищам муравьев. Но насекомые оставались самой жестокой пыткой: мухи, клопы, жучки и блохи падали с листьев и вгрызались в потную кожу матросов. Бронзовые, всегда бодрые, индейцы, которых взял с собой Морган, находили лужайки с посевами, но урожай либо был уничтожен, либо еще не созрел. Снова и снова Морган громко запевал «Военную песнь Глеморганшира» или «Малютку Салли с нашей улицы» и заставлял падающих с ног пиратов подпевать ему. — Давай, Том, выходи вперед, расчищай тропу и покажи ребятам, как мы будем вести себя с милашками из Панамы! — Еще через три дня, Энгюс, ты сможешь выбросить эту тыквенную бутылку, потому что будешь есть и пить на золоте! Казалось, Джекмен не знал устали, как и адмирал. Он мог тащить огромную, тяжелую аркебузу вместо уставшего матроса и подавал пример выносливости даже самым крепким. Коллиер жаловался Джеку Моррису, сопровождая жалобы соответствующими ругательствами, что просто невероятно, чтобы такая богатая растительностью страна была так бедна птицами и зверями. — Это потому, что чертовы испанцы их всех разогнали, — буркнул Моррис. Когда пиратский авангард, истощенный до последнего предела — у всех уже ремни были застегнуты на самую последнюю дырочку, — с криками ввалился в Барро Колорадо, то деревня оказалась покинутой и в ней не осталось ни крошки еды. Только разбитые черепки, изодранное тряпье и, кое-где, поломанные индейские стрелы достались победителям. В жалкой хижине, крытой пальмовыми листьями, один из разведчиков наткнулся на сумки из козловой кожи, подсушенной, но не обработанной, на ней даже местами была оставлена шерсть. Один одноглазый пират долго и придирчиво рассматривал их. — Клянусь Богом! — радостно вскричал он. — Видите, друзья, — кожа все еще свежая. Разведи огонь, Антуан, может, мы сейчас приготовим ужин. — Он хрипло рассмеялся. — Я назову это блюдо «кожа козла по-панамски». — Да ты сдохнешь, если это съешь, — хмыкнули его товарищи, но постепенно, двигаясь словно сомнамбулы, они столпились у реки. Под пристальным вниманием товарищей француз порезал сумки на полоски, которые потом разложил на плоском камне и принялся отбивать большим камнем. — Вот, видите? Так уже лучше, — победно крикнул он. Грязь налипала на босые ноги Моргана, когда он подошел поближе, по колено в воде. — Клянусь Богом, ты прав. Смотрите, ребята, надо только соскрести шерсть с полосок, отварить их, и будет прекрасное блюдо для изголодавшегося матроса. Внезапно из деревни донеслись громкие вопли. Морган резко развернулся и быстро пошлепал к берегу. Один из фуражиров, который безнадежно обыскивал маленькую лачугу, наткнулся на два огромных мешка кукурузы и пару глиняных горшков с вином! Там же были спрятаны гроздья платанов, фруктов типа бананов, которые можно зажарить, и тогда они приобретают превосходный вкус. Словно гончие на упавшего зверя, флибустьеры бросились вперед, ругаясь и отталкивая друг друга, стараясь добраться до драгоценной еды, пока ругань Моргана и его кулаки не отбросили всех назад. С растрепанной черной бородой, которая за время похода стала на целый дюйм длиннее, он встал перед тайником с парой отделанных серебром пистолетов в руке. — Черт побери ваши жадные душонки! Если у вас хватает сил драться за еду, то у вас хватит сил и на то, чтобы идти дальше. Полковник Принс, раздайте еду, самым слабым. Ты, Томпкинс, разожги костер. Я попрошу доктора Брауна проконтролировать, — он обернулся в сторону главного хирурга, который сейчас больше всего напоминал огородное пугало из-за того, что в длинных светлых волосах у него было полно мусора и листьев, — чтобы накормили только самых истощенных. — Но мы же умираем с голоду, — заорал один из разбойников, настоящий гигант родом из Корнуолла. — Я и сам чертовски голоден, — возразил ему Морган, — но я не притронусь ни к вину, ни к еде — как и все остальные. Завтра мы все наедимся. — Что за чушь! — проревел чей-то голос. — Уже три дня ты обманываешь нас этим! — Кто это сказал? — Словно пуля Морган ворвался в толпу. — Я, — бросил один из головорезов Сенолва. — Мы считаем, что с нас хватит лжи. Что касается меня, то я отправляюсь обратно в Лоренцо, пока я еще на ногах держусь. — Да, ты отправляешься, — прошипел Морган, — но не туда, куда думаешь! — Он выхватил пистолет и выстрелил так быстро, что никто не смог помешать ему. В рассеивающемся дыму выстрела голландец захрипел, схватился обеими руками за зияющую рану в груди и свалился вперед, заливая все вокруг алой кровью, брызнувшей сквозь его грязные пальцы. Морган опустил все еще дымящееся дуло пистолета и обвел глазами толпу. — Еще кто-нибудь собирается спорить? Нет? Вы видели, как я расправился с этим трусом? Тот, кто осмелится гавкнуть о возвращении назад, умрет точно так же. И тут адмирал резко переменил тон: — Истинная правда, что завтра мы доберемся до самой высокой точки, а оттуда уже недалеко, и дорога идет все время вниз до самого большого порта с сокровищами на Южном море! В Панаме вы сможете вволю побаловаться с пышногрудыми женщинами, там полно еды, ценных вин и церкви ломятся от золота. Он обвел взглядом свирепо уставившихся на него людей и заметил, что многие уже смягчились. — Неужели вы не сумеете взять последний барьер? Те, кого я вел к победе в Маракайбо и Порто-Бельо, были покрепче. — Он снова огляделся. — Ты, Эндрю, что тебя смущает? В Порто-Бельо ты не трусил, а дрался как настоящий лев! — Это правда, — поддержал его Джекмен, выступая вперед. — Что за хандра на вас нашла, тупицы? Разве хоть раз было так, что Гарри Морган не привел своих людей к победе, золоту и славе? — Что из того, что нас мало? — продолжал Морган. -Значит, нам достанется больше. Тут собрались крепкие голландцы, французы и англичане, чтобы дать бой нации, которая превратила нашу жизнь и жизнь наших близких в ад. Держитесь, и, во имя славы Божьей, мы так накрутим испанцам хвосты, что сам папа римский услышит их вопли. Принс, опытный вояка, почувствовал, что настал подходящий момент крикнуть «ура!» в честь адмирала. О мертвом голландце все забыли в поднявшихся яростных воплях. — Давайте, ребята, разграбим это Кастильо-дель-Оро до последней нитки, — проревел Коллиер, размахивая длинной кавалерийской саблей. Холмы становились все круче, горы подступали все ближе, и река постепенно превращалась в бурный и красивый горный поток. Вверх и вверх поднималась ямайская армия. Все больше людей падало от усталости и истощения, но их товарищи равнодушно проходили мимо слабо стонущих, почти обнаженных несчастных, которые, совершенно беспомощные, валялись в пыли. Они не хватались за оружие даже тогда, когда стервятники начинали кружить уже совсем низко над джунглями. На пятый день похода адмирал пинками приводил в чувство находящихся в полубессознательном состоянии людей и думал: «Гарри Морган, похоже, удача все-таки отвернулась от тебя. Если сегодня ты не накормишь людей, то мы покойники». Хотя он и сам знал ответ на вопрос, но все же спросил: — Ну, Гальего, сколько осталось до Круса? — Всего две коротких лиги, ваша светлость. Падающие с ног, отощавшие и невероятно ободранные пираты продирались вперед еще час, а потом удача улыбнулась им. С правого фланга примчался стрелок, вопя во все горло: — Кукуруза! Я нашел амбар с кукурузой! И он не Обманывал. К тому моменту, когда подобрали больных и ослабевших, вся армия, согнувшись над котелками, уже варила желтые кукурузные початки. Многие так оголодали, что засовывали в рот сырые зерна и жевали их, словно голодный скот. Наполнив все мешки и карманы, подкрепившиеся и набравшиеся сил, пираты продолжили свой путь наверх. Местность вокруг стала уже не такой влажной, и растительность стала пореже. Гальего предупредил их: — Еще полмили наверх — и мы должны будем переправиться через Чагрес. Ваша светлость, Крус лежит на противоположном берегу, и вам лучше собрать людей. Если этот несчастный трус, Гонсало Саладо, будет драться с вами, то это произойдет там. Его подозрения оказались вполне обоснованными. Когда отряд Моргана уже по пояс зашел в стремительный поток, на противоположном берегу неожиданно появились признаки бурной деятельности. Там раздались испуганные крики, и авангард дрогнул под свистящим градом стрел. Аркебузир рядом с Морганом издал пронзительный вопль, свалился, схватившись за стрелу с желтым оперением, которая пронзила ему горло, и его унесло потоком. Упал еще один флибустьер, и авангард замер в нерешительности, но Морган выхватил оба пистолета и открыл стрельбу. — Вперед! — рявкнул он. — Не останавливаться. Размахивая палашом, Морган бросился в воду, но во рту у него пересохло, потому что вокруг свистели стрелы. Примерно с дюжину стрел упали рядом в воду или зарылись в грязи на берегу. — Пять фунтов тому, кто первым приведет мне пленного, — крикнул он. Раздался резкий голос полковника Принса, который, ругаясь, подгонял медливших флибустьеров: — За адмиралом! Вперед, трусливые собаки! По приказу Принса отряд мушкетеров наугад дал залп по противоположному берегу Чагреса, в ответ на который раздался треск веток и пронзительные крики. Бредущие по воде люди заметили смуглые фигуры на берегу. — За ними! За ними! — Тяжело дыша и обливаясь потом, Морган выбрался на берег, но индейцы уже исчезли на дороге в Крус, не потеряв ни единого человека. Когда пираты добрались до важной точки на их пути — Круса, расположенного на полпути между Панамой и Порто-Бельо, то обнаружили, что поселок никем не охраняется и охвачен огнем. В воздухе назревал бунт. Моргану удалось подавить его только тем, что он отыскал главных недовольных и либо избил их, либо так зло насмехался над ними, что они забились в самые темные закоулки лагеря. На глазах истощенных флибустьеров от голода и отчаяния блестели слезы. В стелющемся дыму появилась легкая, проворная фигура Кэтфута. Он подал Моргану бумагу; записка была написана такими каракулями, что ее едва можно было прочесть. — Вот еще какая-то кастильская хитрость. Морган прочел: «Еще раз предупреждаем вас, коварные лютеране, что вы нарушаете договор о мире, подписанный прошлым летом между вашим еретическим королем и ее самым католическим величеством, регентшей Испании. Вы дорого заплатите за незаконное вторжение на нашу территорию. Г. Саладо». Морган на мгновение нахмурил залитый потом лоб и почувствовал нечто вроде угрызений совести. Если подумать, то бедняга Джо Брэдли, умирая, говорил о таком же протесте, который выкрикивали ему с укреплений крепости Сан-Лоренсо. — Дон понимает, что с ним все кончено, — объяснял Брэдли, — поэтому и пытается укрыться за ложью о мире. Я обещал ему и его гарнизону любой мир, какой он только захочет. Флибустьерам повезло еще раз. Бурю восторгов вызвала находка — винный погреб под развалинами наполовину сгоревшего здания. На голодный желудок алкоголь оказал потрясающий эффект, и вскоре вся армия спала мертвецким сном, так что горстка испанцев могла бы перебить почти всех. Ночью несколько группок пиратов пытались дезертировать, но расставленные Морганом часовые вернули их обратно, запугав рассказами о том, что их ждет, если они попадут в руки врага. — Они вас порежут на такие мелкие кусочки, что даже муравей сможет прожевать, — обещал Гальего. На следующий день было решено оставить в Крусе больных и раненых, которые не могли идти дальше, под охраной нескольких флибустьеров. Морган хотел добиться своего и заставить армию идти дальше, но его люди настолько обессилели и находились в таком жалком состоянии, что впервые адмирал прислушался к отчаянным мольбам Коллиера, Джекмена, полковника Принса и Бледри Моргана. — Иисусе правый, — ворчал Моррис, — мы не все такие крепкие, как ты, Гарри. Моим людям надо отдохнуть. Ты согласен со мной, Трибитор? Французский руководитель с горящими от лихорадки глазами свирепо кивнул, покачивая распухшую левую руку, которая свисала словно плеть после укуса тарантула. Его ярко-зеленая шляпа со свисавшим страусиным пером уступила место грязному, когда-то белому платку. Многие из тех, кто выступил в поход обутым, теперь шли босиком. Пираты содержали в порядке только оружие. Их сабли блестели так же, как и во время атаки на Сан-Лоренсо. Весь день адмирал бродил по лагерю, останавливаясь у костров, чтобы приободрить, исцелить и нарисовать великолепные картины ждущих впереди сокровищ, до которых осталось рукой подать. — Вы прославитесь на весь мир. Почему? Я вам объясню. Задолго до меня Гранаду захватил Джон Дэвис. Адмирал Дрейк разграбил Порто-Бельо тоже до того, как мы туда добрались, а этот дьявол Олоннэ превратил Маракайбо в руины за два года до нашей экспедиции. Но в этот раз нам достанется девственно нетронутый город. Никогда ни один англичанин, не считая пленных, не видел Панаму! Это богатейший, волшебнейший город во всей Испанской Америке, и до него осталось три дня пути! На восьмой день Морган выслал вперед полковника Принса и двести человек, чтобы осмотреться и захватить пленных, которые были так ему нужны. К полудню до вице-адмирала Эдварда Коллиера и его отряда донеслись звуки сражения. Гортанные крики европейцев и высокие, пронзительные вопли индейцев перекрывал смертельный грохот мушкетов. В узком проходе авангард наткнулся на засаду буквально сотен местных жителей, которые засыпали их стрелами и дротиками так, что восемь солдат Принса буквально истекли кровью в пыли дороги Камино Реал. Еще десять зализывали раны, вокруг валялись мертвые индейцы, но пленных все же не было. Но последней каплей, переполнившей чашу страданий ямайской армии, стал сильнейший ураган, который с грохотом и свистом принесся с побережья Тихого океана, затянул вершины гор серыми тучами и разразился проливным дождем. Всю ночь ураган бушевал и ревел в горах, а ледяной дождь намного ухудшил состояние больных и раненых. Именно тогда Морган решился отказаться от слишком медленного продвижения вверх по Королевской дороге. Большая часть измученной армии готова была начать отступление, но ей мешали отряды дикарей, которые угрожали с флангов. Понимая, насколько важно не дать людям остановиться, Морган всегда высылал отряд на разведку и принимал все меры предосторожности. Но теперь уже по спине у него не бегали мурашки, а челюсти не сжимались судорожно. Он казался на пять лет моложе, и его глаза сверкали под изодранными полями порыжевшей черной фетровой шляпы. — Гальего! — подозвал он проводника. — Мои люди на грани полного изнеможения. Ты можешь придумать что-нибудь, чтобы приободрить их? Гальего показал на Камино Реал. — Вон в том горящем здании почты, которое вы видите в той стороне, ваше превосходительство, ваши люди найдут то, что окрылит их. Тронутый этим мрачным юмором, Морган повернулся к своим оборванцам: — Пять фунтов тому, кто доберется вон до той. почты. Пират, тяжело опирающийся на самодельную палку, поднял на него осоловевшие глаза. — А зачем мне пять фунтов? — Ну, это немного лучше, дружок, чем пять дюймов стали между ребрами, — ответил ему Морган. — Давайте, у кого хватит сил заработать мое золото? Трое пиратов помладше взвалили на плечи легкие фузеи *["423] и двинулись вперед и вверх неуклюжей рысцой. Их босые ноги громко шлепали по мягкой грязи. Морган наблюдал за тем, как первый из них добрался до дымящегося дома, а потом неожиданно замер на месте. Он долго стоял так, и его в клочья разодранный сюртук развевался на ветру. Потом он неожиданно развернулся и подбросил высоко в небо свое оружие. — Бегите сюда, ублюдки! Там Тихий океан! И люди, которые утверждали, что они уже не могут ни шагу ступить, вскочили и бросились бежать туда, где другие уже во все горло вопили, всхлипывали и размахивали руками на высоком плато. Да, там, вдалеке, лежало Южное море, беспредельная сапфирово-синяя гладь. И до него меньше дня пути. — Море! Море! — вопили они и хлопали друг друга по костлявым, обгоревшим на солнце плечам. — У нас получилось, Морган, веди нас в Панаму! Но Эдвард Коллиер, Бледри Морган, Принс и другие офицеры регулярной армии не улыбались. Армия пиратов, уменьшившаяся почти на треть, не могла соперничать с полчищами решительных, полных сил и хорошо вооруженных испанцев, которые, конечно, поджидали их в саванне.Глава 5 НАША НЕПОРОЧНАЯ БОЖЬЯ МАТЕРЬ
С того момента, как разнеслись невероятные слухи о том, что генерал Гонсало Саладо малодушно не решился преградить путь английским варварам ни в Барро Колорадо, ни в Крусе и не оказал им серьезного сопротивления, жителей Панамы охватила тревога. Небольшое волнение вначале вскоре переросло в панический ужас, который увеличивался день ото дня, и теперь это был город, который охватила паника. Простые люди, образованные, богатые и бедные в отчаянии поняли, что врага не удастся остановить, прежде чем он доберется до спуска на побережье Тихого океана. Вспоминая участь, постигшую Маракайбо, Гранаду и полдюжины других захваченных городов, они цепенели, а потом, обезумев, бросались молиться и готовиться к грядущему. В памяти все еще были слишком живы воспоминания о том, как Морган обошелся с духовенством Порто-Бельо. Поднялся такой шум, что дону Хуану Пересу де Гусману не осталось другого выбора, кроме как предложить увезти всех духовных лиц на борту «Тринидада», единственного большого судна в порту. Постепенно губернатору со своими главными помощниками, Боргеньо из Верагуа и Альфонсо де Алькодете, командующего крепостями в Порто-Бельо, удалось нетолько прекратить истерику, но и почти создать атмосферу уверенности. Судья дон Андреас де Мартинес де Амилета подал блестящий пример, отказавшись присоединиться к тем трусам, которые предлагали огромные суммы за то, чтобы их взяли на борт «Тринидада», или скупали за чудовищную цену маленькие рыболовные лодки, как это сделал Рамон Гутиеррес. Он быстро погрузил в это суденышко прекрасную донью Пердиту и самое ценное из своего богатства и отплыл к острову Табога, лежащему в десяти лигах от побережья. Уверенный и даже вызывающий тон издаваемых губернатором прокламаций, а также постоянный приток военных сил из Наты, Дарьена, Пенономе, Гуаявалы и дюжины других городов, постепенно успокоили испуганный город. Этими солдатами были в основном милиционеры или свободные негры, которые хорошо знали, что если англичане одержат верх, то их единственным уделом опять станет рабство. Сотнями приходили лояльные индейцы, украшенные головными уборами из перьев макао, попугаев и фламинго, вооруженные дротиками и луками, с которыми они так хорошо умели обращаться. Еще большую уверенность вселяло присутствие большого количества опытных офицеров, таких, как полковник Алькодете, капитаны Идальго, Санчес и д'Астрильо. Все бурно приветствовали знаменитого негритянского командира капитана Хосе Пардала, который появился в городе с отрядом в сотню крепких охотников. Он пересек Королевский мост и разбил лагерь рядом с Маламбо. Чтобы помочь уничтожить лютеран, дон Мануэль де Наваретта спустился из Вальдивии вместе с Франциско де Гарро, которого не было в Сан-Лоренсо, когда крепость пала. Он привел с собой сливки панамской армии, триста хорошо вооруженных, опытных кавалеристов, у которых так воинственно развевались на шлемах яркие перья, звякали латы и сабли, что горожане почти успокоились. К тому времени, когда демоны, по донесениям, добрались до самой высокой точки плато, в Панаме уже собралось много торговцев, купцов и официальных лиц с женами, детьми и рабами. Что касается духовенства, то только францисканцы осмелились остаться, остальные же готовились бежать на борту корабля. Аббат францисканской обители заявил, что он и его братья должны заботиться о тех, кто заболел и будет ранен при защите города, поэтому францисканцы продолжали служить мессы в опустевших обителях, и их проповеди раздували искорки храбрости в пламя героизма. Седой Альфонсо де Алькодете поднялся со своего места в зале совета. — Это верно, что мы численно превосходим пиратов вдвое или втрое, но, друзья мои, вспомните, что лютеране лучше вооружены, у них мушкеты из Нового Света. Более того, они все до одного превосходные бойцы. — Де Алькодете обращался прямо к губернатору: — А из кого состоит наша армия? Меньшую ее часть составляют регулярные войска, а остальные — всего лишь наполовину обученная милиция, которая, попомните мои слова, помчится наутек быстрее антилопы при первой же атаке пиратов. Вице-губернатор Боргеньо с лицом хищной птицы позеленел и погрозил Алькодете кулаком. — Когда мы разобьем врага, дон Альфонсо, вы ответите за это на суде чести! Вы оскорбили храбрейших людей этого города! Они не побегут, я за это ручаюсь, — мы рвемся в бой! Губернатор заколебался, разрываясь между инстинктивной осторожностью и боязнью нарушить согласие между офицерами. — Дон Альфонсо Алькодете — опытный солдат и обычно рассуждает мудро, но в отношении сил милиции, городского гарнизона и других наших солдат он ошибается. Де Алькодете взглянул на Боргеньо, а потом грустно покачал головой. — Я воюю уже тридцать лет и знаю, что под защитой траншей и укреплений даже неопытный новичок станет хорошим солдатом, особенно если его прикрывает артиллерия. Красивое, загорелое лицо Эрнандо де Амилеты вспыхнуло от намека Алькодете, и он поднялся. — На открытом пространстве мои пушки нанесут врагу больший урон, чем в орудийном окопе. На поле боя их можно перемещать с места на место в зависимости от того, какая сложится ситуация. Де Алькодете мягко возразил: — А откуда вы узнаете, куда и когда передвигаться? Вы можете поклясться, что под огнем противника ваши артиллеристы не потеряют голову? — Клянусь Божьей Матерью, нет! — воскликнул старший сын дона Амилеты. Франциско де Гарро, командующий городской кавалерией, вошел, потный и покрытый пылью. — Извините за вторжение, ваше превосходительство, но у меня плохие новости. В зале совета наступила полнейшая тишина. — Плохие новости? — Да, — неожиданно с улыбкой выкрикнул юный де Гарро. — Мы не сможем показать нашу доблесть в настоящем сражении. Губернатор резко оперся о стол. — Не время говорить загадками! Что вы имеете в виду? — До моей штаб-квартиры добрался дезертир-лютеранин, и он клянется на кресте истинной веры, что армию пиратов вряд ли вообще можно назвать армией. Корсары с Ямайки устали за время долгого перехода, среди них много больных и раненых, и они так обессилели от голода, что немногие вообще могут удержать в руках оружие! — Не стоит верить словам дезертира, — заметил де Алькодете. — А что еще он сказал? — Что сейчас пират Морган может бросить в бой не больше шестисот человек. Такое войско мы просто сметем с лица земли — вот так! — Он смахнул со стола бумаги, которые рассыпались по полу. Потемневшие, полные тревоги лица сидящих вокруг стола посветлели, они вздохнули с облегчением. Все присутствующие знали, как изматывает силы даже краткий переход через джунгли, а эти проклятые пираты с Ямайки преодолели дюжину болот и поднялись не на одну сотню футов под палящим солнцем. Даже де Алькодете приободрился, услышав рассказ дезертира. Но все равно де Алькодете, старший сержант Хименес и двое или трое других офицеров, которым приходилось сражаться с пиратами, настаивали на том, что для обороны города необходимо полностью сровнять с землей пригороды Маламбо и Педредевидас. — Что? Разрушить нашу собственность из-за шестисот лютеран? — раздались возмущенные крики офицеров, у которых в этом районе были дома. — Тогда нам придется встретить пиратов в открытом бою. — У нас есть еще один союзник, — громко произнес губернатор, когда шум немного стих, — самый великий союзник из всех. С нами Бог, все его святые и ангелы на нашей стороне. Замечание де Алькодете о том, что чертовски мало святых или ангелов было замечено при защите Порто-Бельо, вызвало только шокированные взгляды его соседей. — Завтра, — продолжал губернатор, — я объявляю день поста, молитв и религиозных торжеств и призываю всех жителей в кафедральный собор. Там на нас низойдет благословение Божьей Матери. Среди одобрительного шепота поднялся дон Амилета, его поседевшая борода растрепалась. — Да, дон Хуан, пусть каждый в полдень оставит свои дела и пойдет на службу, потому что, как правильно сказал его превосходительство, у нас есть две могущественные силы — благочестие и честь. Поэтому на следующий день состоялось самое странное зрелище из всех виденных Новым Светом. Жители, с опущенными головами, длинными рядами, с религиозными хоругвями, шли к кафедральному собору. Кашляя от вздымавшейся пыли, они пели гимны и перебирали четки. Мужчины, женщины и маленькие дети; богатые, зажиточные и бедные; негры, белые, индейцы и метисы босиком шли по коричневым булыжникам Плаца Майор и входили в узкий, но вздымающийся вверх неф собора. Пехотинцы, артиллеристы, лучники и кавалеристы преклоняли колени или в религиозном экстазе смотрели на ряды пылающих свечей и на блестящие украшения, которые поспешно извлекли из тайников. Темноглазые проворные мальчики-служки в алтаре размахивали курительницами, а францисканские монахи пели во славу всемогущего Бога. Мерседес, преклонившая колени между доньей Еленой и своей сестрой Инессой, чувствовала огромную торжественность происходящего, когда она и окружавшие ее люди осознали всю тяжесть угрожавшей их домам опасности. Пусть лютеран было мало, даже меньшее войско разорило такие богатые и прославленные города, как Маракайбо и Порто-Бельо. Мерседес окинула взглядом коленопреклоненных горожан, заметила друзей и подруг; там были Арнульфо и Эрнесто ди Пизано с мечами на поясе и маленький Пепе Ибаньес, хотя ему едва исполнилось шестнадцать. Аббат францисканцев, теперь старшее духовное лицо в Панаме, закончил читать молитвы и, провожаемый взглядами, тяжело поднялся на кафедру. Он заверил свою паству, что пираты — это от отродья сатаны, проклятые дети Велиала, Аполлиона, Вельзевула, Асмодея и Люцифера, и их легко узнать по острым ушам, шести пальцам на руках и коротким рожкам на лбу. По толпе пронесся вздох ужаса, но прихожане не были удивлены, потому что до них и раньше доходили такие слухи. — Каждому из вас, солдаты, кто будет сражаться за нашу Богоматерь, — аббат возвысил голос так, что среди колонн откликнулось эхо, — я обещаю, что в разгар битвы появится ангел и укрепит вашу руку и поднимет вас, если вы упадете! Де Алькодете и его единомышленники ругнулись про себя. — Этот идиот нас погубит. Аббат поднял обе руки: — Слушайте меня, дети мои. Его превосходительство губернатор выразил желание принести богатый дар в честь нашей непорочной Божьей Матери! Под любопытный шум, сопровождаемый вытянутыми шеями и гулом голосов, дон Хуан подошел к алтарю. Никогда еще его превосходительство не казался таким величественным и аристократичным в пышном платье черного, золотого и красного цвета. Все видели, что он надел не только все свои регалии, но и драгоценности, стоившие целое состояние. У алтаря он преклонил колени и громко взмолился о том, чтобы панамской армии была дарована победа над еретиками. Все смотрели, как эта блестящая фигура поднялась, сняла с пальца огромное золотое кольцо, украшенное многими изумрудами и безупречными бриллиантами, и передала его священнику. — Говорят, что дон Хуан заплатил за него четыре тысячи песо, — прошептала сестре дониселла Инесса. — Разве оно не прекрасно? Словно магнит, кольцо притягивало внимание всех прихожан. Когда аббат высоко поднял его над толпой, пламя свечей отразилось в нем зеленым пламенем, которое вспыхнуло на весь собор. — …Я тоже, преподобный отец, хочу сделать подношение. — Старший алькальд пробрался вперед, протягивая золотое с бриллиантами ожерелье. Раздались дружные крики: — И я! — Я приношу в дар эту цепь! В истерическом порыве прихожане срывали украшения и кидали их на алтарь. Какое-то время аббат, не веря своим глазам, смотрел на растущую гору украшений, которая выросла перед ним, а потом раскинул руки и радостно запел «Те Deum». *["424] Когда служба подошла к концу, панамская армия приготовилась выступить в поход против ужасных пиратов с Ямайки. По вдохновению свыше аббат распорядился поместить обожаемый, чудесной работы образ Богоматери на носилки и пронести по городу. Жители немедленно узнали статую; разве не ее в течение нескольких веков проносили по улицам каждую Светлую пятницу? И едва завидев священный образ, городские жители становились на колени и обнажали головы. В нескольких ярдах позади королевского знамени ехал его превосходительство губернатор, довольно безуспешно пытаясь не обращать внимания на судороги в больной подагрой ноге. За губернатором следовали вооруженные силы Панамы, храбрые на вид, но достаточно забавные на взгляд военного человека. Гордость города, его кавалеристы, наклонялись с седел к стоявшим вдоль дороги хорошеньким девушкам, махали им и заставляли лошадей приплясывать. Следом маршировали артиллеристы под предводительством капитана Эрнандо де Мартинеса де Амилеты, который ехал с торжественным видом и не отводил вдохновенного взгляда от знамени святого Жозефа. За скрипящими лафетами промаршировали отряды аркебузиров и пикинеров, а потом негры капитана Пардала. В город не вошли индейские лучники, поэтому следующий отряд составила городская милиция, набранная среди торговцев, писцов и разнообразных ремесленников. Многие из них уже подрастеряли весь свой пыл и спотыкались под грузом разнообразного оружия. Никто не удивлялся, видя среди них серую или коричневую рясу приходского священника или доблестного монаха, которые отказались покинуть свою паству -в час смертельной опасности. В крохотной каморке глубоко под землей Дэвид Армитедж тупо размышлял, что происходит наверху. Напрягая слух, он смог расслышать выкрики: — Пусть только эти английские собаки сунутся к нам! Английские собаки? Пленники? Атаковать город невозможно. Слишком отупевший, чтобы думать, он оставил дальнейшие догадки. Из-за того, что брат Иеронимо отбыл на борту «Тринидада», о нем совершенно забыли, и он сидел в камере, голодный и умирающий от жажды. Снова крики. Он поднял грязную, растрепанную голову. — Смерть Моргану! Долой лютеран! Морган? С новым приливом сил он уставился в темноту. Морган? МОРГАН! Господь Всевышний, вот оно! Морган собирается атаковать Панаму. Хотя на это ушли почти все его последние силы, изможденный пленник поднял закованные в кандалы руки и затрясся от хохота. — Хо! Хо! Хо! Значит, старина Гарри пришел за своим пистолетом! Всхлипывая, он затих. Его снова охватил ужас — ведь такого просто не может быть! Может, ему привиделось? Уже много времени к нему не заходил ни один тюремщик. Как врач, он прекрасно осознавал, что ему не долго осталось терпеть уже привычные муки голода и жажды. Аббат стоял у моста под названием Ла-Пунта дель Рей и благословлял проходящие войска, а служки кропили знамена святой водой. Беспорядочными кучками и группками маршировала пестрая армия Панамы общей численностью около трех тысяч человек. Под предводительством своих командиров они шли по Камино Реал и наконец разместились на равнине Матанильос, где зимнее солнце выжгло траву до буро-коричневого цвета. Войска тут же смешались, и понадобилось немало сил, чтобы расставить всех на намеченные позиции. Чем ниже опускалось солнце над горами, тем больше зажигалось костров, от которых по просторам саванны тянулся голубоватый дым, застилая невысокие холмы под названием Высоты Толедо. Армия дона Хуана де Гусмана уже собиралась приступить к приготовлению ужина, когда раздался топот копыт. — Тревога! — закричали в панике несколько милиционеров. — Армия кавалеристов наступает с левого фланга! Тревога! Скоро выяснилось, что никакой кавалерии и в помине не было. Просто перегонялось огромное стадо свирепого, полудикого скота численностью почти полторы тысячи голов, которое умелые погонщики неожиданно остановили прямо на фланге армии. — Ради Бога, зачем сюда пригнали этих животных? — спросил солдат, который только что прибыл из Шаме. — Да нам и за месяц их всех не съесть. Никто не мог ему ответить, потому что, как и другие, он считал костры, тускло светящиеся на Высотах Толедо. — Помоги нам все святые, — пробормотал житель Шаме, — их не так уж много! На плечо Генри Моргана легла рука. — Просыпайтесь, сэр. — Барр вначале тихо потряс спящую фигуру, а потом сильнее. — А? — Морган вскочил, хватаясь за лежащий рядом палаш. До аккуратно завернутых в платок пистолетов ему было дальше тянуться. — А? А? Что? — Скоро рассвет, — зевнул секретарь. Морган тихо застонал, потому что у него болело все тело, а мышцы казались туго натянутыми веревками. Откинув с заспанных глаз прядь черных волос, адмирал глотнул рома из фляги и потер шею, чтобы скорее прийти в себя — когда-то давно его научил этому Дэвид Армитедж. Барр отвернулся и, нанизав на острые палочки несколько полосок мяса — пираты захватили в холмах довольно большое стадо, — поставил их жариться. В неясном утреннем свете Морган разглядывал лагерь ямайской армии. Не спали только часовые, все остальные уснули мертвым сном, раскинувшись или, наоборот, сжавшись в комок. При таком освещении Моргану показалось, что он смотрит на поле боя, где остались только мертвые. Он взглянул на свое знамя и заметил, что привычный золотой грифон на зеленом поле слегка дрожит. Значит, ветер западный. Когда адмирал потянулся, жалкие остатки рукава лопнули до самого плеча. Другой рукав был оторван уже давно, чтобы перевязать раненого. При свете звезд Морган пробирался между потухшими кострами и притулившимися вокруг оборванными фигурами, пока не добрался до места, откуда стали видны биваки панамской армии. — Как их много. Как их много, — пробормотал он. -Кто мог подумать, что доны соберут такую армию? Он слегка вздрогнул, вспомнив, что патрули полковника Принса насчитали более трех тысяч конных и пеших неприятельских солдат. Его озадачивало непрекращавшееся мычание непоеного скота. Зачем проклятым испанцам такое большое стадо в лагере? Морган возвышался над обрывом — одинокая черная фигура на фоне розово-серого неба. Он тщательно осмотрел каждый холм, каждый изгиб пространства между испанским лагерем и его собственным. С холмов ему прекрасно была видна Панама, белевшая вдалеке. Итак, сказочный Золотой город наконец лежал перед ним на расстоянии вытянутой руки. Но как сжать в кулак пальцы такой маленькой армии? К вечеру, подумал Морган, он либо будет сидеть на месте губернатора, либо лежать мертвым здесь, на равнине Матанильос. Он повернулся и, взглянув на свой лагерь, с трудом сохранил присутствие духа. Не более семисот флибустьеров могли держать в руках оружие, да и те шатались от слабости. Поскольку в испанском лагере не было никакого движения, то Морган снова методически осмотрел местность и пришел, по крайней мере, к одному твердому выводу: он не собирается атаковать город со стороны Камино Реал. Но казалось, что испанцы ожидали, что он поступит именно так, иначе почему они приготовили засады, забросили рытье траншей и привезли пушки, чтобы прикрыть этот самый легкий подход к своему городу? Справа от Моргана, в небольшом лесочке у подножия холма, начали щебетать птицы. Стало светать, и он уже мог различить слева какое-то поблескивание; это должно было быть болото, о котором говорил Гальего. Повернув назад, Морган толкнул Эдварда Коллиера, который удивительно громко храпел, а потом принялся расталкивать издававшего трубные звуки старого вояку, Джона Морриса. Морган послал Барра на поиски своего двоюродного брата. Сварливый, склочный и хвастливый Бледри тем не менее оказался редким по своим качествам, великолепным организатором: следуя в тылу армии, он заставлял изможденных людей не сдаваться. У костра Моргана собрался самый растрепанный и непрезентабельный совет офицеров, который только можно себе вообразить. Все до одного были ободранны, грязны, заросли бородами, с заспанными глазами, искусанные мошками и исцарапанные колючками. Они кивнули друг другу в знак приветствия, так как от усталости не хотели тратить силы на лишние слова. С длинными, развевающимися на ветру темными волосами, Морган передал по кругу бутылку с ромом и пригласил их садиться. — Отдыхайте, пока можете, мы еще успеем настояться сегодня. Полковник Принс отчаянно зевнул. — Бледри, сколько папистов там внизу, ты сказал? — Больше, чем мне хотелось бы. По моим подсчетам, от трех до четырех тысяч вооруженных солдат. Морган расчистил на земле свободное место и взглянул на Коллиера. — Эд, как по-твоему, кого нам больше опасаться, пехоты или кавалерии? — Кавалерии, — не задумываясь, ответил вице-адмирал. — Наши парни еще не поняли, как просто можно отбить кавалерийскую атаку; кроме того, у нас мало пик для этого. — Принс, что ты скажешь? — Все зависит от того, сколько у них на самом деле всадников — мне сказали, что от трех до четырех сотен. Если так, то Эд Коллиер прав, и нам надо подумать, как отразить их удар и разбить их. Кругом все еще раздавался храп спящих пиратов, хотя небо посветлело и стаи ворон полетели в поля в поисках корма. Морган первым нарушил молчание: — Поскольку у нас нет своей кавалерии, то я собираюсь применить тактику, которую использовал один римский генерал по имени Сципион Африканский против Ганнибала. Когда командующему пешими войсками приходится иметь дело с кавалерией, — а я все еще не могу понять, зачем им столько рогатого скота, — то он должен так расставить свои силы, чтобы иметь возможность легко ими маневрировать. А теперь, парни, взгляните сюда… — Морган палочкой начертил на земле неравносторонний треугольник. — Это передовой отряд, которым будешь командовать ты, Принс, а Джек Моррис будет у тебя лейтенантом. Я дам тебе триста лучших стрелков, которых смогу найти. — У основания треугольника он начертил два прямоугольника. — Коллиер, я хочу разделить наши основные силы на две части. Ты будешь командовать левым, а я правым отрядом. Со мной будут Трибитор и Джекмен. — Ниже двух прямоугольников он нарисовал второй треугольник, острый конец которого был обращен к тылу. — Бледри, ты возьмешь на себя самую важную и ответственную часть, ты будешь командовать тылами и резервом. Бледри немедленно запротестовал: — Что? Ты хочешь опозорить своего двоюродного брата? — Опозорить, осел? Да это самый большой комплимент твоим военным способностям. Ты будешь командовать небольшим отрядом из способных людей и будешь защищать наш тыл и наших раненых. Если испанский генерал немного пораскинет мозгами, а этот де Гусман не дурак, то он может заслать кавалерию нам в тыл. — Именно это я бы и сделал на его месте, — заметил Принс. Коллиер одобрительно кивнул, но был обеспокоен. — Де Гусман может маневрировать как ему угодно, и он знает, что ничто не дезорганизует армию быстрее, чем звуки сражения в тылу. Бледри Морган надул щеки, а потом ухмыльнулся. — Будь по-твоему, Гарри. А в чем будет заключаться наша стратегия? Адмирал на секунду заколебался. — Поскольку нам придется иметь дело с толпой новобранцев, а не с организованными войсками, то я хочу спровоцировать дона Хуана де Гусмана атаковать нас на том месте, которое я выбрал. — И что это за место? С присущим ему внутренним тактом, который много раз выручал экспедицию, Морган повернулся к полковнику Принсу. — Мы не обсуждали этот вопрос, Лоуренс, но я готов биться об заклад, что ты найдешь поле сражения, которое мне понравилось. Шесть командиров прошли за Морганом к вершине холма. Прихрамывающий Трибитор показал вправо: — Ты будешь драться на той маленькой площадке? Да? Принс выругался: — Заткнись, француз! Адмирал спросил меня, а не тебя. Ну, Гарри, я догадываюсь, что наши позиции будут располагаться на той плоской долине между последним холмом и болотом. Правильно? — Вот именно. — Морган хихикнул и подергал себя за бороду. — И Трибитор тоже так считает. Трибитор ухмыльнулся, довольный, что он тоже сумел оценить преимущества этого места. Морган выпрямился. — Возвращайтесь к своим отрядам и будите своих ублюдков. Пусть позавтракают как следует, потому что в следующий раз они будут есть в аду или в Панаме. Кроме того, вы должны внушить им, — его голос зазвенел как струна, — что их жизни зависят от точного и быстрого выполнения моих приказов. И скажите им, что любого, кто напьется до моего разрешения, я лично пристрелю на месте. Я не потерплю такой же неразберихи, как в Порто-Бельо. Джекмен с выражением потрепанного старого стервятника на лице фыркнул: — Аминь. Каждый пиратский отряд построился за своим потертым и потрепанным, но все-таки ясно узнаваемым знаменем, красным, желтым или зеленым — Морган настаивал на том, что ни при каких условиях нельзя бросать или терять эти непрочные знаки, говорящие о том, что в его распоряжении находится организация, а не просто сброд. — Мы прошли сквозь неприступные джунгли, — сказал Морган своим оборванным, уставшим людям, которых было так мало, — а теперь нам надо драться. Когда занялся день, стонущая, ругающаяся и отчаянно плюющаяся армия Ямайки встала на исходные позиции. Как всегда, раздавались мрачные и грубые шутки, в этот раз немного вымученные, потому что при дневном свете было очевидно, насколько неприятель превосходит их по численности. Торопливо дожевывая сырое мясо, флибустьеры смотрели на яркое солнце, которое впервые в истории встало над двумя армиями европейцев, собиравшихся вступить в сражение на территории Нового Света. Примерно к девяти утра сторожевые отряды донесли, что испанские вооруженные силы не спеша начали строиться на другой стороне дороги в Крус. Адмирал Генри Морган с темными сверкающими глазами, которые блестели из-под широкополой черной шляпы, на которой все еще болталось ободранное зеленое перо, не двигался с места, пока почти все испанские силы не были построены и не раздался звук трубы, поющей сигнал к наступлению. Он глубоко вдохнул, и свежий утренний воздух ворвался к нему в легкие. Настал момент, о котором он столько мечтал! Либо победа и вечная слава, либо поражение и. забвение ждали его на поросшей пыльной побуревшей травой равнине Матанильос. Выхватив палаш, Морган выскочил вперед перед рядами своих людей и, став к ним лицом, завертел в воздухе сталью, так что сверкающее лезвие слилось в один сплошной круг. — Вперед, паршивые английские ублюдки! На них, французские мерзавцы и голландские головорезы! Сейчас мы прикончим этих донов, которые стоят между нами и величайшим богатством в Новом Свете! Моррис вскочил и взмахнул над головой абордажной саблей, а полковник Принс проревел команду. Он быстро повел вооруженных пиками стрелков головного отряда на их позиции. — Пошевеливайтесь, бегом по местам! Флибустьеры дружно издали душераздирающий вопль и, вместо того чтобы повернуть налево, как этого ждали испанцы, начали рысцой спускаться вниз к выжженной лужайке между коническими холмами на правой стороне и болотом слева. С бьющимся сердцем Морган смотрел, как его авангард занимает выбранную позицию, увидел, как поблескивают меч Принса и абордажная сабля Морриса, когда они расставляли маленькие группки людей по местам. — На такой огромной равнине триста человек смотрятся как капля в море, правда? — заметил Джекмен. Из-под босых ног передового отряда поднялась пыль, сквозь которую проглядывали стволы аркебуз и мушкетов да изредка мелькали там и сям красные и желтые флаги, трепыхавшиеся на постепенно усиливавшемся ветру. Отлично, что адмирал позаботился о том, чтобы солнце было у них за спиной; испанцам не так повезло. Они смотрели на Панаму, до которой было всего три мили, и облизывали потрескавшиеся губы. Морган заорал трубачу: — Играй сигнал главному отряду. — Когда над высотами раздались резкие звуки горна, он повернулся к Джекмену: — Ставь отряд на места, Энох; помни, что между тобой и людьми Коллиера должно остаться расстояние в сто ярдов. Скоро я присоединюсь к вам. С низкой возвышенности Морган наблюдал, как его основные силы — пятьсот человек, разбитые на два отряда, — начали спускаться за головным отрядом Принса и Морриса. Проходя мимо адмирала, бородатые, тощие и свирепые бойцы приветствовали его яростными криками. По спине у него пробежали мурашки. Сегодняшний день решит судьбу Испанской империи в Америке. — Достаньте их, чертовы псы! — проревел он, размахивая широкополой шляпой. — Огорчите их до слез, сукины дети! Грабьте их и режьте на куски, только выполняйте приказы, черт вас побери! Привет, Кэтфут! У тебя будет сколько хочешь золота и девок еще до захода солнца. И французов Морган тоже приветствовал, сопровождая свои слова непристойными жестами. Ахилл Трибитор с растрепанными волосами, без шляпы и голый до пояса, уже совершенно не походил на аристократа. Он махнул в воздухе украшенной драгоценными камнями рапирой. — Да здравствует адмирал! Да здравствует Морган! — закричал он, а суровые, загорелые до красноты пираты с Тортуги и Эспаньолы подхватили его крик. Морган смотрел, пока их не скрыло облако пыли. Тогда он повернулся к отряду Бледри Моргана, и у адмирала дрогнуло сердце, когда он увидел, скольких из его людей приходится нести на грубых носилках или тащить на себе более сильным товарищам. В планы Моргана не входило оставлять сзади больных и слабых под угрозой того, что они погибнут в случае внезапной атаки на его тыл. Полную фигуру кузена Бледри нетрудно было узнать по блеклому красному сюртуку, который он так и не снимал. Его выразительная брань перекрывала шлепанье сотен босых ног — мало у кого из пиратов еще осталась обувь, поэтому на траве там и сям виднелись пятна крови. Убедившись, что замыкающий отряд не отстает и противнику не удастся его отрезать, Морган подтянул потуже широкий пояс, перезарядил три пистолета и помчался к своему отряду. Ага! Джекмен шагал прямо перед высоким бродягой, который нес знамя с золотым грифоном на зеленом поле. Грифон неожиданно напомнил ему об Анни Пруэтт в Бристоле. Приблизившись к ним, он взмахнул руками и проревел: — Еще до захода солнца, мерзавцы, я заберу обратно пистолет, который я послал губернатору Панамы из Порто-Бельо. Я хочу, чтобы вы… Барр показал на запад: — Смотрите! Смотрите! Испанцы! В их сторону вздымались огромные клубы пыли, говоря о том, что испанский командир, поняв, что враг совершенно не собирается атаковать его со стороны Камино Реал, вел армию к новым исходным позициям. Теперь пиратам стало видно, что армия генерала де Гусмана тоже была поделена на три части, но она оказалась вытянута в одну линию и прикрыта мощным щитом из кавалерии. Став на намеченные позиции, передовой отряд пиратов остановился, поставил на землю оружие и уставился на ряды неприятеля, в которых ярко блестела на солнце сталь вооружения и амуниции. Кэтфут повернулся к своему товарищу и прошептал: — Смотри! Только глянь, сколько здесь проклятых лучников, аркебузиров и мушкетеров! Нам конец, товарищ, и сегодня ночью нам поджарят пятки на пороге у сатаны. Эти слова услышал Моррис и повернул к ним грубое лицо: — Хватит вам, трусливые псы. Наши мушкеты стреляют дальше, и убойная сила у них больше. Следите за своим оружием, парни, и держите нос выше. Когда армия Панамы вернулась на свои позиции, наступила томительная для Моргана пауза. Все указывало на то, что атаковать и, следовательно, нарушить тщательно продуманное построение значило подписать себе смертный приговор. Но и нельзя было допустить, чтобы капитан-генерал смог бы разработать какую-нибудь стратегию, которая дала превосходство его большому, хотя и плохо дисциплинированному войску. Плохо дисциплинированному? Ха! Адмирал подумал, что он нашел решение проблемы. — Полковник! Принс! — проорал он, сложив руки рупором. — Выдели пятьдесят самых крепких людей, и пусть они бегут к подножию вон того холма. Скажи им, что они должны сделать вид, словно удирают, но не позволяй им забраться на холм. Прикрыв глаза ладонью, Генри Морган тревожно смотрел, как мнимые дезертиры Принса отделились от своих товарищей и помчались к подножию холма. Немедленно на левом фланге испанцев, которым командовал Альфонсо де Алькодете из Порто-Бельо, раздался громкий крик: — А, собаки! Смотрите, как они удирают! — Люди де Алькодете, сгорая от жажды мщения, размахивали оружием. — За ними! Пусть они вспомнят Порто-Бельо! Без приказа два отряда пехотинцев бросились вперед, чтобы отрезать путь мнимым дезертирам. И прежде чем де Алькодете смог предпринять что-нибудь, чтобы остановить их, остальные его силы рванулись вслед за своими товарищами. Со своего командного пункта на небольшой вершине капитан-генерал в каске с красными перьями и серебряной кирасе разразился свирепой, но бесполезной бранью. — Дьявол разрази этого идиота де Алькодете! — Позеленев от злости при виде того, как рушится его план сражения, он махнул рукой адъютанту: — Скачи! Быстрее мчись к капитану де Гарро. Передашь ему мои распоряжения и скажи, что я хочу, чтобы он со своими кавалеристами атаковал передовой отряд пиратов. — Как благочестивый католик, де Гусман добавил: — И да будет с ним Бог! Капитан дон Эрнандо де Мартинес де Амилета, который проклинал судьбу за то, что его драгоценные орудия были неподвижно привязаны к окопам и баррикадам, защищавшим западный вход в город, со свирепой радостью наблюдал за тем, как один из адъютантов главнокомандующего галопом помчался в сторону эскадрона де Гарро. Такая поспешность могла означать только одно, поэтому он выжидательно взялся за саблю и ослабил ее в ножнах. — Приказ его превосходительства — атаковать передовой отряд лютеран! Франциско де Гарро плотнее надвинул на голову коническую, украшенную золотом каску, оглянулся через плечо на пляшущие на ветру вымпелы и длинные пики своих загорелых всадников. — Сейчас, друг, — обратился он к дону Эрнандо, -наступает наш черед завоевать славу. Ставлю десять дукатов против пяти, что я проткну саблей кого-нибудь из этих псов раньше тебя. — Идет. Дон Эрнандо хорошо знал, что ему нечего делать среди городских кавалеристов. Сейчас он должен был размещать свои орудия в пригородах Панамы, но толстый лейтенант Карвахаль прекрасно подходил для хлопотных поручений подобного рода. Место идальго и сына идальго было среди его друзей кабальеро, на переднем плане боевых действий. Он привстал в стременах, оглядел плотно сомкнутые ряды пехоты, вооруженной пиками или мощными аркебузами. Далеко в стороне дон Эрнандо заметил отца, который прямо и гордо стоял слева от генерал-губернатора, потому что до того, как надеть одежду судьи, дон Андреас был военным офицером, и неплохим. Раздался громкий топот копыт, звяканье стремени, сбруи; но еще громче звучали голоса командиров, отдающих команды. Дон Франциско де Гарро смотрелся великолепно, когда так яростно пустил своего огромного серого жеребца вперед, что тот заржал и взвился на дыбы. Черные и красные перья развевались на каске командира, когда тот выкрикнул команду: — Пики наперевес, друзья, и вперед, за мной на защиту истинной веры. Вива! Да здравствует король! Позолоченные, но остро заточенные шпоры де Гарро впились в бока жеребца, и на них выступили капельки алой крови. Жеребец так рванулся вперед, что каска слетела с головы де Гарро и его черные волосы взметнулись на ветру, словно знамя. Не отрядами и не эскадронами, даже не выстроившись в шеренгу, испанская кавалерия помчалась по долине Матанильос длинной растянувшейся дугой, форма которой зависела от разной скорости скакунов. Они орали словно бешеные и размахивали яркими алыми и желтыми вымпелами на пиках. Когда передовые кавалеристы приблизились, в рядах пиратов наступило заметное замешательство. — Если бы у нас были пики, — пробормотал один из ветеранов немецких войн. — С ними можно быстро отбиться от кавалерии. — Готовьте огнестрельное оружие! — Полковник Принс повысил голос. Он командовал спокойно, но громко, так что его голос звучал словно труба. — Первая шеренга, опуститься на колено! Моррис, ради Христа, следи за нашим боевым порядком. Не стрелять, пока я не дам команду! В неторопливых командах Принса звучало что-то успокаивающее. Он повторил: — Первая шеренга, опуститься на колено! Вторая шеренга, стрелять поверх голов первой, потом опуститься вниз и перезаряжать, пока третья шеренга готовится. Барабанная дробь, выбиваемая копытами, становилась все ближе и громче. Позади Лоуренса Принса, на самом конце острого угла, образованного концом клина, которым были построены войска, стоял Джек Моррис и смотрел, как стремительно приближается туча копий. Боже, кони просто летели вперед! Вороные, буланые, пегие скакуны; Моррис заметил гнедого скакуна, который стремительно мчался впереди других, неся на себе богато одетого испанского офицера, который низко пригнулся в седле и держал наготове меч. Слышно было, как командиры подразделений и боцманы рявкали: — Спокойно, парни! И тут раздался громовой приказ полковника Принса: — Первые две шеренги, целься! — Немного неуверенно стволы мушкетов заняли горизонтальную позицию. Принс не отводил глаз от низкого кустарника, который рос примерно в семидесяти ярдах от первых стрелков его отряда. Когда первый всадник галопом промчался мимо, он заорал: — Огонь! На таком расстоянии даже самые плохие стрелки не могли промахнуться. Джек Моррис смотрел, как лошади ржали и падали, переворачиваясь через голову, всадники вылетали из седел, словно камни из пращи. Другие скакуны попытались повернуть в сторону и, сбившись в кучу, перекрыли дорогу обезумевшим лошадям в задних рядах. Всадники неслись к изрыгавшему огонь передовому отряду и погибали, потому что построенные треугольником пираты легко попадали в цель. Моррис поднял один из своих пистолетов и взял на мушку пышно одетого испанца, которому каким-то образом удалось выжить после первого залпа. Когда выстрелила третья шеренга, то клубы пыли и дыма ненадолго закрыли противника. Тогда, как и предвидел Морган, ветер погнал дым в сторону противника. Поднялся жуткий шум. Вопли раненых и умирающих лошадей смешивались с криками их изуродованных хозяев. В дыму мелькали смуглые лица с перекосившимися ртами и выпученными глазами. Словно былинки под осенним ветром, гнулись и дрожали пики, их острия сверкали в солнечных лучах. — Стреляйте в них! — ревел Принс. — Перезаряжайся, быстро! Ха! Получайте, испанские мерзавцы! Вот вам, папистские собаки, убийцы! Всадники по трое, по шестеро, по десять человек вылетали из дыма и тут же попадали под прицел сомкнутых рядов стрелков, которые действовали со смертоносной размеренностью. Запах свежей крови и разодранных внутренностей смешался с запахом пороха. Несколько лошадей без седоков прорвались и с раздувающимися ноздрями и полными ужаса глазами промчались мимо пиратского строя. А потом пороховой дым развеялся, открыв страшную картину агонизирующих лошадей, убитых и умирающих людей, которые валялись ужасающими грудами или поодиночке. Лишь немногие кавалеристы, словно жуткие чучела, шатаясь, поднимались на ноги среди упавших. — Ну, — заметил полковник Принс, спокойно перезаряжая пистолет, — по крайней мере, пятьдесят ублюдков уже никогда не бросятся на нас снова. Кто-нибудь ранен? — Никого! — гортанно крикнул высокий русоволосый рулевой с «Удовлетворения». — Никто не смог подобраться к нам ближе чем на двадцать ярдов. — Перезаряжайтесь и готовьте оружие, — предупредил Моррис. — Среди кабальеро есть настоящие безумцы — они еще вернутся. Эй ты, Марти, ступай на свое место, пока я не прибил тебя! Потный и грязный парень, который рванулся было к богато одетому офицеру, которого убил Моррис, презрительно фыркнул, но вернулся на свое место. Так что тело капитана Эрнандо де Мартинеса де Амилеты еще какое-то время пролежит нетронутым. — Готовьтесь, они возвращаются! — крикнул Моррис усиленно работающим шомполами флибустьерам. Под предводительством того же красивого черноволосого офицера на сером скакуне кавалеристы отступили на четверть мили и перестроились. Их воодушевляло то, что на левом фланге отряды де Алькодете вели перестрелку с правым флангом основного отряда пиратов, над которым развевались ненавистные цвета Британии — красный, белый и голубой. Морган, стоя на вершине холма, решил, что Джекмен вполне способен командовать правым отрядом и справится с подразделениями де Алькодете из Порто-Бельо, которого обманом вынудили начать преследование мнимых дезертиров, уже вернувшихся обратно к своим товарищам. Адмирал стоял на командном посту с Трибитором, Харрингтоном и двумя быстроногими адъютантами. Все они видели, как капитан де Гарро начал вторую атаку, как его полные решимости, свирепые кавалеристы снова приготовили пики длиной в десять футов и, дико визжа, помчались прямо на бандитов в изодранных лохмотьях, из которых состоял авангард ямайской армии. — Ха! Наши мерзавцы кое-чему научились, — заметил Морган, нервно постукивая по рукоятке пистолета. — Они не начинают стрелять до последнего момента. Несмотря на то, что и в этот раз залп пиратских мушкетов оказался смертоносным, кавалеристы продолжали нестись вперед и уже были на расстоянии удара пикой от первой шеренги пиратов, когда Франциско де Гарро, пронзенный тяжелой мушкетной пулей, свалился с седла. Оглушенный, он перекатился с бока на бок, задыхаясь, хватая ртом воздух, и замер у босых ног рыжебородого демона. Чтобы не тратить зря заряд, Джадсон выхватил абордажную саблю и, крякнув от усилия, одним ужасным ударом снес с плеч голову капитана. Рыча от восторга, он сорвал с его кровоточащей шеи тяжелую золотую цепь и сам надел ее. — Смотри, Гарри! — крикнул Харрингтон. — Будь я проклят, но папистские собаки зашевелились. Он был прав. Вся испанская армия в ярости бросилась вперед, стремясь отомстить за гибель своей любимой кавалерии. Морган набрал полную грудь воздуха, чувствуя, как его охватывает ужас, от которого волосы встают дыбом на голове. Конечно, такой мощный людской поток сметет, словно пылинку, крохотную ямайскую армию. Вначале медленно, а потом все быстрее и быстрее войска дона Хуана де Гусмана с развевающимися знаменами, под громкие звуки труб, барабанов, маврских цимбал и вопящих «Магнификат» монахов *["425], потрясая разнообразным оружием, двигались вперед. Капитан Трибитор прищурил блестящие темные глаза. — Видишь, Гарри? Видишь? Первые ряды собираются в колонну! Болото не дает им окружить нас или атаковать широким фронтом. Испанскую атакующую колонну возглавили капитаны Идальго и Санчес и под частым мушкетным огнем пали одними из первых. В то же время де Алькодете удалось собрать свои отряды, и он направил удар на правый фланг Моргана. Под губительным свинцовым ливнем — пираты стреляли не переставая, — устилая землю трупами, части испанцев удалось прорваться к рядам флибустьеров. Разгорелась жаркая сеча. Босые и обутые ноги наступали на павшие тела. Морган перестроил свой отряд, развернул и бросил в контратаку. Отряды Алькодете были отброшены. Испанцы откатились назад, зализывая раны и перестраивая ряды. — Сейчас они снова пойдут, Гарри, — орал Ахилл Трибитор, размахивая своей окровавленной рапирой. А пиратский авангард, состоящий из лучших стрелков, все так жеметодично продолжал уничтожать наступающую пехоту, как до этого разделался с кавалерией. С ужасом глядели на происходящее побоище стоящие в отдалении главнокомандующий и его свита. — А не пора ли напустить на проклятых английских лютеран наше «рогатое оружие»! — воскликнул Боргеньо. — Да, это правильно. Адъютант, передайте мой приказ погонщикам: «Обойти холм и направить стадо быков в тыл пиратам». Эти мощные животные просто сметут все перед собой. А следом за ними пустим индейцев; пусть добивают тех, кто останется в живых. И потом, паника в тылу всегда деморализует противника. Вы же, Боргеньо, соберите в кулак все наши разрозненные отряды и вместе с подразделениями Алькодете еще раз атакуйте правый фланг этого еретика, Моргана. Столбы пыли, поднявшиеся за холмом, заставили забеспокоиться командира арьергарда Бледри Моргана. До сих пор его отряд почти не принимал участие в сражении, отбивая лишь наскоки отдельных подразделений де Алькодете, пытавшихся зайти пиратам в тыл. Но сейчас происходило что-то непонятное. Однако через минуту все прояснилось. Перевалив холм, огромное стадо полудиких животных покатилось на флибустьеров. Сотни быков, угрожающе склонив лобастые головы, увенчанные огромными рогами, надвигались на пиратский арьергард. Ужас охватил разбойников при виде этой картины. Не боявшиеся ни Бога, ни черта бандиты сейчас помышляли лишь о бегстве и собственном спасении. Никто не знал, как бороться с подобным нашествием. Умереть под тяжелыми копытами животных или быть нанизанными на рога не хотел никто. Их строй дрогнул и начал рассыпаться. На разбойников не действовали даже грозные окрики боцманов и других командиров. Решение нашел не потерявший хладнокровия Бледри Морган. — Сенолв, и ты, Добсон! Успокойте людей! — гаркнул Бледри капитанам, размахивая выхваченным из ножен палашом. — Машите флагами и тряпками, парни! Мушкетерам выстроиться в линию. Словно в тяжелом кошмаре, он видел, как быки несутся вперед, а их огромные рога угрожающе наклонились вниз. Беззащитные перед такой атакой люди медленно попятились, а редкая цепь мушкетеров, с присоединившимися к ним ранеными, которые еще могли ходить и держать оружие, выдвинулась вперед. Грохот копыт нарастал, превращаясь в оглушающий гром. Наклонив головы и выставив рога, быки мчались неудержимой лавиной. Ощущая холод во рту, Бледри Морган приказал: — Стрелять левому флангу! Старайтесь заставить их повернуть вправо! Огонь! Первый залп не оказал никакого видимого эффекта, хотя несколько животных повернуло прочь от грохочущих мушкетов и аркебуз. Но после следующего залпа уже многие из головных быков попытались повернуть прочь от этой преграды из изрыгающих огонь мушкетов и машущих тряпок. Когда подразделение Бледри Моргана дало третий залп, то почти все вожаки стада оказались убиты, и быки повернули вправо, чтобы избежать лежащей впереди опасности. Скоро все стадо уносилось прочь от замыкающего отряда, мыча и сбивая с ног опешивших погонщиков. Бледри отчаянно завопил: — Сегодня мы вдоволь поедим мяса, парни. Отличная работа! Отличная работа! А теперь вперед, на соединение с главными силами. Испанская пехота справа от Моргана медленно начала новое продвижение вперед. Вытирая пот с покрасневших глаз, адмирал чувствовал, что испанцы шагают по своим же упавшим солдатам и что само их численное преимущество явилось главной помехой. — Не нарушать строя, жалкие псы! — слышал он вопли Морриса, но не мог различить среди голосов других командиров носовых интонаций Джекмена. Пираты, к счастью, сохраняли строй и продолжали со смертоносной меткостью стрелять по чернеющим рядам противника. И тогда в методично избиваемой панамской армии раздался громкий стонущий вопль. Плохо вооруженные индейцы, прекрасно понимающие собственную беспомощность, первыми бросились наутек. Когда городская милиция, уже ошарашенная потерей своей кавалерии, увидела, как ее индейские союзники удирают, то она швырнула на землю бесполезные пики и аркебузы и тоже бросилась бежать с воплями: — Храните нас святые! — Все погибло! — Спасайся, кто может! Вскоре вся равнина Матанильос оказалась заполнена бегущими и мечущимися в паническом ужасе людьми. Флибустьеры не верили своим глазам, глядя, как быстро рассеялось противостоящее им войско; только отдельные отряды все еще пытались отстоять свои позиции. Среди тех, кто последними начали отступление, были Альфонсо де Алькодете, истекающий кровью от двух ран, и дон Хуан Перес де Гусман, на лице которого сочился кровью шрам от осколка его жезла, выбитого мушкетной пулей. — В погоню! — прогремела команда Моргана. — Бейте их! Режьте их на куски! Словно стая гончих, пираты разбежались по полю битвы, приканчивая раненых и подавляя любые попытки к сопротивлению. Рыча, словно голодный лев, Кэтфут и другие его пошиба бросались на самых богато одетых из упавших. Жуткие крики тех, кого убивали, хриплые молитвы и испуганные, жалкие просьбы — все было напрасно. К одиннадцати часам армия Ямайки полностью овладела полем битвы.Глава 6 ЗАХВАТ ГОРОДА
Совершенно уверенные в численном превосходстве панамской армии, многие городские торговцы снова распаковали свои товары и стояли на улицах, невозмутимо прислушиваясь к отдаленному грохоту мушкетов на равнине Матанильос. Жители с удовлетворением думали, что, вне всякого сомнения, все святые помогают разгромить вторгшихся на их землю чудовищ и еретиков. Убежденные вдохновенными речами дона Андреаса, его домашние занялись своими повседневными делами и спокойно ожидали возвращения судьи, дона Эрнандо и его друзей кабальеро. Но тяжелые ворота виллы были заперты и задвинуты на засов, а изящные железные решетки, закрывавшие окна первого этажа, тоже стояли на своем месте. Донья Елена, долго и исступленно молившаяся за безопасность мужа и сына, достала вышивку и принялась за работу, но дониселла Инесса непрерывно бродила вокруг, нервно теребя кольца на изящных пальцах. Дон Фелипе, будущий священник, находился в своей комнате и молил благословенную непорочную Деву Марию поддержать армию защитников истинной веры. Что же касается дониселлы Мерседес, то она то прислушивалась к звукам сражения, то неподвижно сидела, уставившись в пространство в религиозном экстазе, а на коленях у нее примостился маленький рыжий котенок. «Могу ли я? — вопрошала она. — Смею ли я? Она облизала пересохшие от волнения губы кончиком языка. -Конечно, — думала она, — когда схватка закончится и доминиканцы вернутся, они вспомнят о бедном Давидо и сожгут его». О, как она мечтала увидеть его хотя бы один разочек, услышать его глубокий, спокойный голос и вновь заглянуть в его ясные темно-синие глаза. — Куда ты идешь? — Донья Елена подняла глаза от вышивки. — Нам лучше оставаться вместе. Ах, Боже! Ты слышишь эти выстрелы? Тебе не кажется, что они приближаются? — Нет. Я иду в свою комнату. Я… я скоро вернусь. Наверху Мерседес помедлила только для того, чтобы вытащить из маленькой шкатулки, которую она прятала у себя под кроватью, шесть золотых монет. Хватит ли этого, чтобы подкупить тюремщика? Хорошо, если хватит, у нее больше ничего не было. Завернувшись в мантилью и утешая себя тем, что сейчас ее черная вуаль привлечет мало внимания, Мерседес пробежала через кухонный сад, отперла ржавую калитку и выскользнула на улицу. Девушка заметила, что дверь соседнего дома Эбро была заперта, хотя она точно знала, что ее ближайшая подруга Анна не уехала из города. Улица Санто-Доминго казалась одновременно знакомой и совершенно чужой. Не было привычных, скрипящих фермерских повозок, доверху нагруженных товаром, не было вообще никого из торговцев. Ей встретился лишь небольшой отряд пехотинцев-самбо, которые шли по Калле дель-Обиспо. Она заслонила глаза от непривычно яркого солнца и подумала, что резкий ветер слишком бурно развевает ее платье и нижние юбки. Вдали, за Калле дель-Обиспо, велись траншейные работы и несколько солдат стояли у большой пушки, может быть, одной из пушек ее брата. Мерседес знала, что эту пушку не придется использовать, потому что свирепых пиратов не подпустят к пригороду Маламбо. Перед муниципальным зданием собралась большая толпа, все лица были обращены к балкону, с которого должны скоро объявить о победе; некоторые пристально наблюдали за выражениями лиц группки офицеров, которые с колокольни кафедрального собора смотрели в подзорные трубы. К величайшему удивлению Мерседес, она не увидела во дворе тюрьмы ни одного тюремщика или солдата. На дворе было пусто, хотя большая железная связка ключей висела на своем месте. Девушка совершенно точно знала, что эти ключи открывают десять или двенадцать камер, а также карцеры и подземелья. До смерти перепуганная, она все же сняла связку с крючка и проворно метнулась к ряду камер, приоткрывая глазки и становясь на цыпочки, чтобы заглянуть в них. Она увидела пленников разного возраста и в разном состоянии, но Давидо среди них не было. Увы! Может, Давидо перевели в маленькую каморку под помещением религиозного трибунала? Ее внимание привлекла спускавшаяся вниз лестница. — Давидо! — позвала она, вначале тихо, а потом громче и громче. — Давидо, ты здесь? На ее крик откликнулся хор жалких дрожащих голосов: — Еды, ради Бога! Воды! Я умираю от жажды! — Голоса неслись из всех камер. Похоже, тюремщики давно уже не выполняли своих обязанностей. Внизу было так темно, что Мерседес ничего не видела, и она замерла на месте, зажав нос от ужасающей вони. — Давидо! О Давидо! Ты можешь ответить мне? Где ты? И ей ответил сдавленный крик из второй камеры справа от нее: — Мерседес, я… я с ума сошел, или ты — Мерседес? — Ах, да славится Божья Матерь! — Мерседес бросилась вперед, перепрыгивая через охапки вонючей соломы. Наверху на Плаца Майор что-то закричала толпа, но Мерседес не обратила на это внимания, она только бормотала что-то, трясущимися руками пытаясь подобрать нужный ключ. Казалось, прошла вечность, когда раздался заветный щелчок и дверь открылась. Девушка распахнула дверь и увидела такое исхудавшее подобие Дэвида Армитеджа, что застыла в неописуемом ужасе. Потом, испустив слабый стон, Мерседес, не обращая внимания на его грязные лохмотья, косматую бороду и страшную вонь, бросилась к нему. — Любовь моя, — тихо простонал он. — Ты подвергаешь себя такой опасности… Я должен… — Тихо, — прервала она его, отчаянно стараясь найти ключ от цепей. — Вот он. Это шляпа и плащ одного из тюремщиков. Быстрее! Быстрее! Дрожащий пленник хрипло рассмеялся. — Я бы хотел, моя девочка, но у меня уже два дня ни крошки не было во рту, и я болен. — Тогда обопрись на меня. И пойдем… Они замерли при звуке шагов в караульной, и Дэвид застонал. Он не мог ей ничем помочь, так устало и слишком ослабло его тело. Ноги не слушались его. — Доверься мне и жди. — Огромные голубые глаза взглянули в лицо Мерседес, которая отшатнулась назад и вытащила золото, — Эй, друг, — позвала она, стараясь говорить уверенно, но чувствуя, что ее голос предательски дрожит. Человек, стоявший в начале лестнице, остановился. — Да помогут мне все святые! Что женщина делает в таком ужасном месте? Минутой позже появилась седая фигура в коричневой рясе. — Брат Пабло! — ахнула Мерседес, — Слава Богу. Вы должны помочь мне. Дон Давидо едва может ходить. Священник огляделся вокруг, а потом прошел туда, где Дэвид рухнул на колени в полуобморочном состоянии. — Я тоже пришел за тобой, сын мой, — прошептал францисканец. — Я беспокоился за тебя. Когда они втроем выбрались из зловонного мрака на солнечный свет, до их ушей донеслись протяжные стоны и вопли. Отец Пабло объяснил: — Сражение плохо оборачивается для нас. Ходят слухи, что панамская армия отступает. Глаза Мерседес в ужасе округлились. — Но… но это невозможно! Там папа и Эрнандо! — Тем не менее, — расстроенно ответил отец Пабло, — это так. Но мы надеемся, что форт Нативидад, траншеи и пушки отбросят неприятеля назад. — А кто их ведет? — выдохнул Дэвид. — Его зовут Морган — да будет он проклят Господом! Тот самый, который разорил Порто-Бельо. Дэвид слабо улыбнулся. Значит, он был прав. Морган решился на это невероятное дело. Улицы бурлили от беспокойно движущихся людей. Мимо галопом пронеслось несколько кавалеристов с безумными глазами. Они размахивали мечами и кричали: — Все на баррикады! Скоро лютеране снова нападут на нас. — Когда? — крикнул толстый торговец рабами, тащивший за собой шестерых закованных в цепи негров. — Через два часа. Из кафедрального собора выскочили служки и несколько францисканских монахов. Один пытался спрятать огромный золотой крест, который украшал алтарь, другие несли золотые чаши, канделябры, дароносицы, подносы и триптихи. Мерседес в изумлении смотрела, как несколько маминых друзей, обычно таких важных и спокойных, неловко трусцой бежали к порту, прижимая к себе какие-то поспешно захваченные драгоценности. Торговцы и лавочники орали, пытаясь погрузить самые ценные свои товары на осликов и мулов. Кучка солдат из гарнизона, охранявшего королевскую казну, перекрыла проход на мыс Матадеро. Только духовным лицам разрешалось проходить к воде, где стояло несколько мелких рыболовецких суденышек. Чиновников и богатых жителей с семьями тоже пропускали. Но напуганных приближением Моргана простолюдинов отталкивали кулаками, ругали и даже применяли против них пики. С каждой минутой людей на улицах все больше охватывала паника. Некоторые жители из последних сил пытались добраться до воды — в надежде уплыть на какой-нибудь лодке или пироге, но большинство бежало в джунгли, держа за руки или неся детей и таща за собой корову или поспешно нагруженного мула. Толпы плачущих беглецов выбегали по улице Эмпедрада на дорогу, ведущую в бедный пригород Педредевидас, или мчались по Санто-Доминго мимо дома дона Андреаса к равнинам за Королевским мостом и обителью Святой Анны. Их заветной целью был Порто-Бельо, но хорошо, если хотя бы сто человек добрались до него. На Плаца Майор никто не обратил ни малейшего внимания на священника, девушку и шатающуюся фигуру в плаще с капюшоном. Им пришлось остановиться, чтобы пропустить вереницу осликов с пожитками дона Xосе Гутиерреса, а потом няню с пятью маленькими детьми. Вокруг в панике метались козы, свиньи, куры и собаки. Примечательно, что почти не было видно индейцев; они просто растворились в низких зеленых холмах к западу от города. Старший сержант Хименес и огромный негритянский капитан Пардал пытались собрать людей. Им даже удалось отправить на баррикады несколько сотен солдат, и вскоре там уже начали громко рокотать пушки. Мерседес почувствовала невыразимое облегчение, заметив, что садовая калитка все еще открыта, потому что грохот канонады становился все слышнее. Они затащили Дэвида в калитку как раз вовремя, пока его не смял поток растрепанных кавалеристов, которые в ужасе мчались по улице, сметая всех на своем пути. Как только улеглась пыль, по улице на костлявом мерине проскакал дон Фортунато, один из богатейших торговцев золотом в королевстве. Он свирепо ругался и тащил за собой на веревке брыкающегося мула. На спине мула восседала его тучная жена, которая из последних сил пыталась удержаться и не свалиться с седла. Хотя ей пока удавалось держаться, она отчаянно вопила, что ее убивают. — Я отведу дона Давидо в часовню, — сказал брат Пабло. — Иди к своей матери. К величайшему изумлению Мерседес, она обошла виллу и увидела, что ее парадная дверь распахнута настежь. Там, вцепившись в дверной косяк, стоял молодой де Монтемайор, жених Инессы. На доне Карлосе отсутствовала шляпа, он был грязен, покрыт пылью и безоружен. Звякая шпорами, дон Карлос ввалился в холл и направился к донье Елене и ее дочерям. — Любовь моя! — взвизгнула Инесса. — Ты ранен? — Чудо, что нет, — охнул дон Карлос. — Мушкеты лютеран разили нас насмерть. Должно быть, они придумали новую, ужасную тактику ведения войны. Донья Елена протянула к нему бледные руки. — А что с Эрнандо? — Я не знаю. После первой атаки кавалеристов я его не видел. Де Монтемайор дико осмотрелся. — Почему вы не собираете вещи? Скорее! Вы должны бежать, пока еще есть такая возможность. — Бежать? Кто это сказал? — В открытой двери выросла фигура судьи Андреаса. — Эта семья не станет спасаться позорным бегством — как не будут и другие доблестные и законопослушные семейства. Этот город не может пасть. Нас все еще много, а врагов мало, и у них нет артиллерии. Его превосходительство губернатор приказал защищать Панаму до последней капли крови. Дон Андреас прошел вперед и нежно поцеловал жену и дочерей. — О Андреас, что с нашим сыном? Судья тряхнул бородой и поднял голову. — Я не сомневаюсь, что с ним все в порядке. Во всяком случае, дурных известий я не слышал. Оставайтесь здесь и мужайтесь, вы все. А я отправлюсь выполнять приказ капитан-генерала. — А где сам дон Хуан? — Пытается собрать наши войска в Капире. Вся наша армия, словно стайка зайцев, дала стрекача по северной дороге. — Старый испанец прикрыл рот рукой. — Это было позорное зрелище! Пиратов оказалось так ничтожно мало, и они были так ободраны, что совершенно не походили на солдат. Карлос де Монтемайор подбежал и обнял свою невесту. — Твой отец сошел с ума, — закричал он. — Не обманывайте себя! Мы не сможем удержать этих жутких дикарей. Пойдем, Инесса, у меня есть лошади, мы доскачем до Порто-Бельо; там крепкие стены и надежные войска. В ярости дона Андреаса было нечто внушающее благоговейный трепет, когда он выхватил из ножен меч и направил его острие на горло молодого человека. — Слава Богу, что я вовремя разглядел твое настоящее лицо, не то впервые за всю историю нашего рода мы приняли бы в свою семью дрожащего труса. Инесса, отойди в сторону, а ты, де Монтемайор, отправляйся выполнять свой долг на баррикадах, иначе я убью тебя! Судья был преисполнен такого решительного намерения привести в исполнение свою угрозу, что Монтемайор бросил на рыдающую Инессу последний отчаянный взгляд и бросился в толпу, которая бежала по Санто-Доминго. Он вскочил на лошадь и галопом помчался, но не к баррикадам, а в сторону Порто-Бельо. — Трусливая собака! — презрительно бросил дон Андреас. — Елена, закрой все двери и жди моего возвращения. А, брат Пабло, я рад, что вы здесь и сможете успокоить моих женщин. Брат Пабло перекрестился. — Идите, дон Андреас, и да охранит нас Святая Дева до конца этого дня. Спокойно, словно приказывая дворецкому приготовить обед, донья Елена сказала: — Мы сделаем так, как велел ваш отец, поэтому беги, Мерседес, позови Фелипе и попроси его запереть двери. А потом мы закроем железные решетки. Инесса, принеси мою вышивку. Выполняя поручение матери, Мерседес на секунду замешкалась в кухне, чтобы отрезать кусок хлеба и захватить флягу вина. Оттуда она забежала в семейную часовню, где на груде подушек лежал что-то бормочущий, в полубессознательном состоянии, Дэвид. Грязный голубой плащ распахнулся, и шляпа свалилась с головы, обнажив костлявую грудь и изуродованные кандалами запястья. — Давидо! Давидо! Он уставился на нее блестящими от лихорадки глазами. — Я уже умер? — пробормотал он. — Ты — ангел Божий? — Ох, нет, нет. Быстрее, Давидо, выпей это. Мы в ужасной опасности, и мне надо идти. Когда постепенно грохот защищавших Панаму пушек начал затихать и наконец совсем стих, слуги собрались в гостиной, с расширенными от ужаса глазами. Донья Елена строго взглянула на них. — Учитывая создавшееся положение, хорошо, что вы собрались здесь, но только прекрати реветь, Матильда, и поправь фартук. А ты, Хуанита, ради всего святого, приведи волосы в порядок. Арнальдо, — обратилась она к дворецкому, — иди, и посмотри, что видно с крыши. Мерседес, на цыпочках вернувшаяся из часовни, испытывала некоторое облегчение оттого, что дон Давидо выпил вина и проглотил кусочек хлеба до того, как провалиться в глубокий, спокойный сон. Но святая Тереза! В каком он ужасном состоянии — ходячий скелет с бесчисленными ранами и вывернутыми руками. Что же с ним делала святая инквизиция? С крыши раздался голос Арнальдо: — Ай! Я вижу, как неприятель карабкается на наши укрепления. Святая Дева, пожалей нас, чудовища-лютеране атакуют госпиталь Сан-Хуан! Инесса начала причитать: — О мама! Мама, мы должны были послушаться Карлоса. — Она в отчаянии огляделась с полными ужаса глазами, облизала губы. — Что же нам делать? Что будет со мной? — Конечно, Бог пошлет нам воинство ангелов. Пойдемте, дети, помолимся, — воскликнул брат Пабло. Он преклонил колена и сложил руки, а слуги и члены семьи собрались вокруг и тоже встали на колени посреди залитой солнечным светом комнаты. — К правительственным зданиям! — раздался приказ на улице. — Держитесь вместе и перезаряжайте ружья на бегу. Демоны наступают нам на пятки. С крыши Арнальдо крикнул: — Несколько небольших суденышек уходит из гавани. — Если бы волей Божьей мы были на борту! — охнула Мерседес. Впервые за все это время она почувствовала, как панический ужас холодными пальцами сжал ее горло. Как только может мама оставаться такой спокойной, как может она молиться, словно неприятель не стоит у самой ее двери. Поблизости раздался топот бегущих ног, и мимо двери дона Андреаса пронесся последний поток беженцев, который постепенно уменьшился. На улице остались потерянные и заблудившиеся дети, испуганные домашние животные и черные рабы, которые бродили по округе в надежде найти какую-нибудь драгоценность, выроненную во время бегства. Дэвид Армитедж смутно начал воспринимать крики, приказы и треск мушкетов и пистолетов. Шум звучал где-то рядом. — Что со мной? — пробормотал он, стараясь подняться на ноги, но не смог, и его исхудавшее тело откинулось обратно на алые подушки. Все завертелось перед его глазами, так что он не слышал отчаянного вопля перепуганного Арнальдо: «Боже! Боже! Демоны уже на нашей улице. Они атакуют, они ворвались в дом дона Педро Альварадо». Донья Елена вскочила с колен и выпрямилась, ее легкая фигура в голубом платье казалась прямее, чем всегда. Она мягко потрепала по плечам всхлипывающих, перепуганных служанок. — Что бы ни случилось, — успокаивала она их, — помните, что вы были хорошими католичками и что Бог примет вас в рай. Выглянув сквозь полосы жалюзи, Мерседес смогла увидеть солдат городской милиции, которые бежали к Плаца Майор.. Арнальдо торопливо скатился с крыши, его заплывшее жиром коричневое лицо посерело от страха. — Спасите меня, донья Елена! — бормотал он. — Пираты уже у нашей садовой ограды, а я… Его дрожащий голос прервался, заглушенный грохотом ружейных выстрелов со стороны хижины, в которой когда-то давно Дэвид занимался рисованием. — Горе нам, горе. — Брат Пабло воздел руки и начал молиться. Его длинная седая борода ярко вспыхнула в свете полуденного солнца. Вбежала одна из охотничьих собак дона Эрнандо, поджав хвост и подвывая от страха. Неожиданно Инесса вскочила и метнулась в одну сторону, а потом в другую. Даже в отчаянии она была все так же прелестна. — О, Боже праведный, что же будет со мной? — застонала она, ломая руки. — Если бы не безумие и гордость отца, я бы уже была в безопасности вместе с Карлосом. В первый и последний раз донья Елена дала пощечину своей дочери. — Тихо! Ты несчастное, погибшее создание. Дон Андреас сам знает, как будет лучше для тебя и всех нас. На улице прозвучали еще мушкетные выстрелы, а потом раздался крик такого звериного ужаса, что у Мерседес волосы встали дыбом, а руки похолодели и задрожали. «Если бы только дон Давидо мог подняться и поговорить с ними, — думала она, — может, он спас бы нас». — О-ох! — Прямо под окнами спальни началась перестрелка. Трясясь от страха, Мерседес повернулась к зеркалу и с трудом узнала в нем свое бледное лицо и белокурые волосы. На ней было простое черное платье, украшенное только брошью с жемчугом и топазами на высоком воротнике. И в этот момент за дверью заревел английский голос: — Вперед, Эндрю, я прикончу этого папистского ублюдка. Перезаряжай, Джон, мы еще не взяли город. Непреодолимое любопытство заставило Мерседес выглянуть сквозь жалюзи. Она увидела разбросанные группки пиратов, которые, визжа словно бешеные шакалы, с топотом мчались по улице, где жили ремесленники, изготовлявшие веревки. Грязные и почти обнаженные, они держали оружие наготове и тщательно осматривали все вокруг; вместо шляп у многих были повязаны платки. Ей бросился в глаза один темноволосый демон, который держал в одной руке мушкет, а в другой палаш с медной рукояткой. На пересечении улиц Карреро и Санто-Доминго командир остановился и осмотрелся, его сильная шея и мускулистые плечи были залиты потом. — Джекмен! Ты и твои ребята бегите туда и обезопасьте муниципалитет и таможню. Харрингтон, бери сотню людей и спускайся в порт, не дай испанским вшам разбежаться! Он обернулся, и в ужасе обхватившая лицо руками Мерседес навсегда запомнила выражение его лица, окаймленного длинными усами и бородой. — Коллиер, бери людей и обыщи тюрьму; а остальные за мной. — Говорящий исчез из виду, возглавив банду головорезов, которые протопали мимо под странным зелено-золотым знаменем. Когда необычайно высокий, темноволосый и бородатый лютеранин остановил свой отряд и подозрительно посмотрел на дом ее отца, сердце Мерседес чуть не остановилось от ужаса. — Здесь вполне могут спрятаться аркебузиры, — проревел он. — Давай, Дирк, и ты, Билли, Тод и Майк, посмотрим, что там внутри. А остальные пусть заглянут в соседний дом. — О нет, нет, нет! — ахнула Мерседес. — Это мой дом. Вы не можете войти. Конечно, Господь Бог пошлет молнию и воспретит вам это! На какое-то мгновение ей показалось, что ее надежды сбылись. В ушах у нее раздался громовой взрыв, и дом дона Андреаса так страшно содрогнулся, что пара хрустальных ваз и тяжелый канделябр перевернулись и упали, а с потолка посыпались пласты штукатурки. Закрыв глаза и заткнув уши, девушка покачнулась. С другого конца комнаты раздался дрожащий голос брата Пабло: — Неприятель взорвал пороховой склад! — Потом раздались еще взрывы, вдалеке и совсем рядом. — Это не лютеране, — очень медленно поправила его донья Елена. — Капитан-генерал поклялся дону Андреасу, что скорее уничтожит город, чем отдаст его во власть еретикам. Но пираты опомнились достаточно быстро и снова начали бить какими-то тяжелыми предметами в дверь дона Андреаса. Инесса пронзительно взвизгнула. Все уставились на тяжелые двери красного дерева. — О, Матерь Божья! Спаси меня — я пожертвую тебе все свои драгоценности. Хриплый голос скомандовал: — Открывайте, испанские крысы, или мы выкурим вас оттуда. Кто-то забыл задвинуть тяжелые засовы после ухода дона Андреаса, и медный замок вначале прогнулся под серией тяжелых ударов, а потом двери красного дерева распахнулись, и в дом ворвались клубы пыли и запаха пороха. — Спаси меня! Мама! Спаси меня! — Мерседес подбежала и вцепилась в голубое платье матери. Служанки пытались прикрыться фартуками или бросались к грубой коричневой рясе брата Пабло и хватались за него, бормоча неразборчивые молитвы. Расширившимися глазами дониселла Инесса смотрела, как на пороге выросла человеческая фигура. Потом в дверной проем просунулось дуло мушкета, и появились еще люди. Наконец ввалился и тот самый гигант, которого Мерседес видела на улице. К несчастью для всех домашних, это был Люк, бывший узник Порто-Бельо. Следом за ним на пороге появился коренастый мулат в красных кожаных сапогах, которые он завоевал себе в бою, и шотландской юбочке из зеленого шелка; а потом в комнату ворвалось еще шесть или восемь ужасающего вида фигур с пистолетами наготове и обнаженными саблями, с которых на мягкие ковры закапала кровь. Какое-то мгновение победители и побежденные молча смотрели друг на друга. А потом Люк медленно выступил вперед, его волосатая грудь тяжело вздымалась в такт его дыханию. Внимание доньи Елены привлекла его яркая красно-желтая перевязь, и, к своему великому ужасу, она узнала в ней ту, которую сама с гордостью подарила дону Эрнандо два долгих дня назад. Она дико вскрикнула. Пираты медленно подходили ближе, лохмотья одежды свисали с их плеч; от их босых ног на полированном паркете оставались грязные следы. Флибустьер-голландец облизал губы при виде таких роскошных ковров и полудюжины массивных серебряных светильников, которые покачивались на цепях. Никто не обращал внимания на все усиливавшийся резкий запах горящего дерева. — Вы все одна семья? — спросил широкоплечий парень, который пригнулся, словно собираясь прыгнуть. У него был жуткий вид, потому что он по примеру мусульман-мавров обрил голову, оставив только одну прядь на макушке, и отрастил узкую восточную бородку. На загорелой груди у него была татуировка «Лучше быть мусульманином, чем папистом». Гордо подняв голову, донья Елена выступила вперед из толпы служанок, которые распростерлись на полу и скулили, словно голодные щенки. — Эти молодые леди — дочери его чести, судьи Андреаса де Мартинеса де Амилеты, а я его жена! Один из мушкетеров перевел: — Старая ведьма говорит, что они все одна семья. — Это хорошо! — ухмыльнулся Люк, подергивая одну из мелких косичек, в которые была заплетена его борода. — Клянусь, что старый судья заплатит за них поодиночке больше, чем за всех вместе — они всегда так поступают, — так что оставим здесь старую клушу и заберем цыпляток. Он направился к Инессе, но брат Пабло неожиданно выступил вперед и поднял распятие. — Берегись, отродье сатаны, ты не посмеешь оскорбить священный образ. Люк хорошо понимал испанский, поэтому выхватил палаш из ножен и на мгновение замер. — Священный образ? Да, я помню один такой, который держали у меня перед глазами в Порто-Бельо, когда мерзкие святоши так выжгли мне спину, что я чуть не умер от боли. Так что, старый дурак, вот тебе твое пропятое идолопоклонничество! Тяжелое оружие неожиданно описало дугу и нанесло удар. По всему дому дона Андреаса разнеслись отчаянные вопли, когда рука монаха, все еще сжимавшая распятие, словно по волшебству отделилась от запястья и с громким стуком упала к загорелым, покрытым пылью, босым ногам Люка. — Ай! Иезус Христос! — ахнул монах, в ужасе глядя, как кровь хлынула из перерезанных артерий. — Молчать, проклятый папист, получи по заслугам за то, что вы творили со мной и другими. Пораженной Мерседес пришла в голову одна мысль. Только Давидо мог сказать этим еретикам, что брат Пабло — добрейший человек. Конечно, дон Давидо объяснит им, что дон Андреас де Амилета многим рисковал, спорил с архиепископом и даже оказал открытое неповиновение жестокому доминиканцу, чтобы спасти жизнь их соотечественника! Она бросилась вперед, но споткнулась о ноги распростертой на полу служанки. — Англичане! — крикнула она, пытаясь вспомнить и подобрать немногие известные ей английские слова. — Мы друзья Давидо Армитеджа — послушайте… — Боже мой! — ошарашенно произнес Люк. — Она говорит на человеческом языке. — Мы друзья! Друзья! — лепетала Мерседес, умоляюще протянув вперед руки. — Не надо обижать, друзья. Пират в лохмотьях когда-то белой в голубую полоску рубашки подошел поближе. — Черт с ней, Люк, мне хочется изнасиловать ее прямо сейчас! Лучше этой куколки я не видел со времен Mapакайбо! Внимание захватчиков привлек какой-то шум. — Тише, там кто-то есть… — Черт меня побери! — ахнул Люк, опустив саблю. — Ты призрак или кто? Покачиваясь, в дверях стояло самое тощее и изможденное человеческое существо из всех, которым когда-либо удавалось устоять на ногах. — Люк. — Дэвид изо всех сил старался не дать полу предательски ускользнуть из-под его ног. — По-послушай, ты… я… — Клянусь Богом, да это доктор Армитедж, — взорвался Люк. — Ребята, да его едва можно узнать. — Друзья… — Дэвид собирался сказать больше, сказать своим друзьям, чтобы они не причиняли вреда этим людям, но тут силы покинули его, колени у него подогнулись, и он свалился на пол. — Кровь Христова! — ахнул один из захватчиков. — Вы только гляньте, какие раны у него на запястьях и как распухли его суставы! Его пытали, и не кто иные, как эти проклятые испанцы. Хватай их! С горящими глазами, припомнив все, что когда-то произошло с ним, Люк медленно повернулся и махнул рукой двум мулатам. Мерседес тоненько взвизгнула и спряталась за юбками матери. Почему, ну почему дон Давидо свалился в обморок именно сейчас? Флибустьер-португалец произнес на грубом испанском: — Если наш доктор — пример того, как вы обращаетесь с друзьями, то, клянусь сатаной, я предпочитаю остаться вашим врагом. Черт! Из этого священника вытекло столько крови, словно из зарезанной свиньи! Смотрите, собаки! Сейчас мы ощиплем эту курочку. Иди сюда. Рука Люка вцепилась в иссиня-черные волосы Инессы и выдернула ее из общей кучи. С ревом другие пираты сгрудились вокруг, с нетерпением ожидая продолжения. Мгновенно, словно укус змеи, мелькнула в воздухе рука Инессы, но Люк, привыкший к такой реакции, резко отклонился в сторону, так что кинжал девушки лишь прорвал дыру на его лохмотьях. — Тебе нужно тренироваться, маленькая кошечка, у тебя слишком медленная реакция. Он подставил сзади колено и умелой подножкой свалил жертву и протащил по полу за волосы. Остальные пираты направили обнаженные мечи и пистолеты на других парализованных ужасом членов семьи. Люк вцепился в верхнюю часть лифа платья Инессы и рванул его, ткань надорвалась, и Инесса завизжала, но он придавил ее шею ногой и тянул до тех пор, пока не отскочили крючки и ткань не разорвалась, открывая полную грудь, которую лиф так тщательно скрывал и делал плоской. Под отчаянные вопли, раздававшиеся в гостиной, Люк, рыча от удовольствия, рывком поставил ее на ноги. Под треск разрываемой ткани он сорвал восемь нижних юбок, огромные сборчатые рукава, рубашку и всю одежду, кроме корсета. Только корсет, украшенный кружевом на животе, прикрывал ее наготу; и еще ее длинные черные волосы, из которых посыпались на пол украшенные драгоценными камнями гребни, их немедленно подобрали проворные мулаты. — Они тебе больше не понадобятся. — И Люк вырвал у нее из ушей серьги с жемчугом и бриллиантами. — Ну вот теперь, клянусь Богом, мне немного полегчало после Порто-Бельо. Мерседес не шевелилась, она была словно в каком-то оцепенении. Девушка смотрела, но отказывалась верить своим глазам. Ее строгая, любимая старшая сестра стояла голая, униженная и окровавленная? А брат Пабло с растрепавшимися седыми волосами распростерся на спине в растекающейся огромной луже крови, которая хлестала из отсеченной руки, и серыми губами бормотал молитвы. — Дай мне веревку, — крикнул Люк, — и, черт побери, Эндрю, помни о приказе, не начинай грабеж прямо сейчас! Дайте мне вон тот шнур от колокольчика. Нет, подождите. Флибустьер в голубой рубашке прибежал из сада и принес оттуда веревку, на которой обычно сушили белье. — Свяжи старую клушу и девчонок, они сгодятся для выкупа, — приказал Люк, — а вы, ублюдки, позаботьтесь об этих служаночках, на которых вы так умильно глазеете. Только не забудьте связать им руки, ребята. — А мужская прислуга? — Адмирал приказал гнать их на мыс. Заложников запрут в таможне, а всех остальных в Генуэзском доме -он внизу, в гавани. Черт, отчего так воняет гарью? Наверное, от взрыва начался пожар. Мерседес завизжала, когда грубая рука схватила ее; за запястье. — Давидо! Давидо! Спаси меня! Ей вывернули руки и крепко связали за спиной, и она, смирившись, попыталась держать себя так же, как ее мать, которая стояла с каменным лицом и стоически переносила ту же участь. Флибустьеры действовали быстро и умело и связали пленников друг с другом, накинув им петли на шею. Люк подошел туда, где стояла всхлипывающая и дрожащая Инесса, которая и в своем унижении все-таки была прекрасна. Он взял ее за плечо. — А эту курочку я сам отведу на городской рынок -хочу показать ее ребятам. — Нет, нет, — взмолилась донья Елена. — Бог не простит… Жестоко ударив ее по лицу, португалец заставил жену дона Андреаса замолчать, а Люк с довольным смехом удалился, неся на плече Инессу. Из других домов на Санто-Доминго доносился треск переворачиваемой мебели, звон бьющегося стекла и дикие крики хозяев. Подхватив так и не пришедшего в сознание Дэвида Армитеджа на плечи, пираты погнали своих пленников к Дому генуэзцев.Глава 7 ВЫКУП
В здании королевской таможни, в подвалах которой хранились ценности, предназначенные к отправке в Испанию, забаррикадировалась кучка солдат во главе со старшим сержантом Хименесом. Сложенное из крупного крепкого камня, с узкими окнами, напоминавшими скорее амбразуры, и мощными, обшитыми медным листом дверями, здание который час успешно отражало все попытки отряда Джекмена проникнуть в хранилище. Выставив в окна дула аркебуз и сменяя друг друга, солдаты успешно отстреливались, не позволяя пиратам даже приблизиться к дверям, Джекмен злился, бросал своих людей в атаку за атакой, пытаясь добраться до входа и, высадив двери, ворваться внутрь, но только напрасно терял людей. Наконец он не выдержал и разразился руганью: — Черт, ублюдки! Мне что, все нужно делать самому? Дэниэл, приготовь пороховой заряд побольше, сейчас мы их оттуда выкурим. А вы, корабельные крысы, следите за окнами да цельтесь получше. Кинув палаш в ножны, Джекмен взял в левую руку импровизированную гранату с торчащим длинным фитилем, а правой поднес горящую свечу. Фитиль разгорелся, и Джекмен рванулся к зданию с такой скоростью, как будто и не было тяжелейшего перехода через джунгли, долгого отчаянного сражения и потом преследования сломленного, поверженного врага. Босые ноги несли его по-молодому быстро. Навстречу рявкнула аркебуза, но тяжелая пуля ушла в сторону. Подбежав к окну, расположенному рядом с дверью, и убедившись, что фитиль почти догорел и вот-вот рванет, Джекмен зашвырнул гранату в окно и тут же плашмя упал на землю, стараясь вжаться в нее как можно плотнее. Страшный взрыв потряс все здание, посыпались камни, а от дверей полетели щепки и обрывки медных листов. Какое-то время на площадку перед зданием сыпался всякий мусор и пыль, потом все стихло. На месте двери зиял проем. Широко ухмыляясь, Джекмен встал на ноги, повернулся к своей команде и заорал: — Ну вы, оборванцы, что стоите, вперед! Нас ждут сокровища… Резкий звук пистолетного выстрела прервал речь капитана. Джекмен пошатнулся и, не договорив, медленно повалился в коричнево-красную пыль. Когда разъяренные пираты ворвались в здание, пощады не было никому. Раненого Хименеса вытащили из подвала, где он пытался забаррикадироваться, и гигант Шон сначала обрубил ему обе руки, а потом одним взмахом тяжелой абордажной сабли снес голову. — Гарри! Гарри! Там к тебе посланец от Джекмена. Он ранен и умирает. Джекмен лежал в саду на расстеленном матрасе, перенесенный сюда своими собратьями, и до его слуха доносился близкий шелест океана. Ночь вступала в свои права, на небо уже стали высыпать звезды, и луна, похожая на рыжий окорок, медленно накатывалась с востока. Чьи-то грубые, но заботливые руки прикрыли его от ночного бриза шелковым покрывалом. Ему почему-то было легко и спокойно, а память медленно разматывала жизненную ленту в обратную сторону. Вспомнилось детство, рыбалка, семья и тихий спокойный Ньюберипорт. Они все были там: отец, непреклонный как всегда, мать, уставшая и согнувшаяся под бременем частых родов, и все его братья и сестры. Все было знакомо — блестящая трава на лугу, берег, где во время отлива можно было насобирать себе устриц, серебристые туманы, которые превращали леса в таинственную и загадочную страну. Странно, но из тумана вышла Люси Уаттс, с каштановыми волосами, милая и невинная. Она тихо позвала: — Иди ко мне, Энох, нам пора спуститься вниз по реке и отдохнуть. — И взяла его за руку. С полными слез глазами, Морган упал на колени и схватил его руку. — О Энох! Энох! Не умирай! Обернувшись, он грозно крикнул всем свидетелям этой сцены: — Ну почему он должен был погибнуть вот так, в час нашего величайшего триумфа? Нет, я заставлю проклятых донов пожалеть об этом. — Люси? — Рука Джекмена дрогнула под ярким зеленым шелком. Стоящие вокруг люди тихо ругались и мяли в руках шляпы. Многие из команды Джекмена отворачивались и плакали. Его любили, любили его неизменное чувство юмора. — Нет, Энох, это Гарри Морган. — А, Гарри? — Адмирал низко нагнулся, чтобы уловить последние слова умирающего. — Мои сбережения, слушай, подели их пополам, половину тебе, половину моей команде. Бог пошлет тебе победу, а я должен… отдохнуть. Ты всегда был настоящим кровным братом. Перекличка показала, что при захвате этого богатого и славного города пираты потеряли больше тридцати человек убитыми и раненными в бою. Генри Морган все еще оплакивал потерю своего кровного брата, но все же не потерял головы и отдал приказ разыскать лошадей и отправить всех, кто мог держаться в седле, обшарить окрестности и привести в город беглецов. Под штаб-квартиру он отвел дворец губернатора. Там Морган смыл с побледневшего от усталости лица порох, золу и грязь. Он был страшно рад избавиться от бороды и кишащих в ней насекомых. Тот же негритенок-слуга, который прислуживал губернатору, разложил на огромной, накрытой желтым покрывалом постели дона Хуана многочисленные мундиры, принадлежавшие бежавшему гранду. Сейчас негритенок стоял и ждал, когда ему можно будет причесать волосы и усы победителя. Коллиер, посвежевший и великолепно выглядевший в ярком красно-синем мундире полковника испанской артиллерии, громко топая, вошел в комнату и по-кавалерийски уселся на стул. — Я слышал, что де Гусман находится в Нате и пытается вновь собрать свою армию. Ну и пусть. Ему понадобится чертовски много времени, чтоб убедить своих попугаевснова встретиться с нами. Прежде чем адмирал успел дать ответ, появился капитан Трибитор, черный от копоти, но при этом напевавший что-то себе под нос. — Клянусь Богом! Гарри, мы завоевали немного закопченное сокровище, — хмыкнул он. — Черт! Ну и пожар! — На его щеке виднелся огромный ожог, который он намазал маслом. — Какие из главных зданий у нас остались? — тяжело спросил Коллиер, прикрывая глаза. — Кроме правительственных зданий, обителей Ла-Мерседес и Сан-Хуан, от огня пострадали еще две или три сотни хижин в пригороде и полдюжины борделей у воды. — А что с кораблями? — спросил Морган, которого в этот момент стриг парикмахер. — Три приличных барки. — Пошли за Моррисом. Черт, где болтается этот проклятый старый сатир? Если Джек напился, то, клянусь Богом, я ему башку откручу. Но честный Джек Моррис не напился, он просто заснул и мирно похрапывал, развалившись в обшитом красным атласом кресле в комнате для аудиенций с губернатором. Когда его удалось разбудить, он потер красные глаза и в ярости набросился на всех. Морган спросил его: — Помнишь корабль, который мы заметили с холмов? Он отплыл из гавани. На борту он увез не меньше половины сокровищ этого города. Поэтому пошевеливайся, собери команду и отправляйся за ним. Говорят, что он отправился на Табогу, но я в этом сомневаюсь, скорее всего он ушел в Перу. И вы тоже, Ахилл, Сенолв и Добсон, отправляйтесь осмотреть эти острова вдоль побережья. Найдите лоцманов — и вперед. Коллиер подождал, пока вышли Трибитор, Моррис и остальные, а потом заговорил таким тоном, что Морган быстро повернулся к нему: — Гарри, теперь, когда эти тупицы ушли, взгляни на эту бумагу: мы нашли ее, когда грабили казну. — И он протянул Моргану свиток запечатанных бумаг. — Предположим, хотя бы на мгновение, что доны в Крусе и Сан-Лоренсо не лгали. В наполовину накинутой сборчатой рубашке, с босыми ногами, уютно утонувшими в мехе ковра из шерсти ламы, Морган бросил на своего командира жесткий взгляд. — Проклятье, что ты отыскал? — Официальную декларацию из испанского совета по делам Индий, переданную в Кастильо-дель-Оро. — Он говорил медленно и внушительно. — Там сказано, что Англия и Испания больше не находятся в состоянии войны — с прошлого июля! — Ерунда! — буркнул Морган и продолжил одеваться. — Том Модифорд сказал бы нам. — Да? Я сомневаюсь. — Пока адмирал застегивал рубашку, Коллиер прочел несколько строк. — Черт побери, Гарри, здесь сказано, и совершенно ясно, что война была прекращена между этими двумя странами с восьмого июля тысяча шестьсот семидесятого года. — Дай мне посмотреть. — Морган схватил бумагу, осмотрел красные и желтые восковые печати. Он читал по-испански не очень хорошо, но смысл смог уловить. — Ба, это подлог, — заявил он, швырнув бумагу на пол. — Я повторяю, что мы бы знали об этом. Коллиер уселся поудобнее. — Слава Богу, если ты прав, Гарри. Потому что если мы действительно нарушили прочный и официальный договор о мире, то в Англии нас ждет виселица, длинная веревка и короткое отпущение грехов. — И Тома Модифорда тоже, — напомнил Морган, пока мальчик-слуга завязывал подвязки на его бледно-желтых штанах. — Вот почему я совершенно уверен, что это подлог, придуманный де Гусманом. В любом случае нам уже поздно поворачивать назад, Эдвард, поэтому если мы не правы, то должны позаботиться о размере доли его величества, причем такой, чтобы даже его министры дважды подумали, прежде чем кинуть нас за решетку. Коллиер отчаянно зевнул, а потом потряс головой. — Эти самые министры будут злиться, что мы доказали им, что испанцы на самом деле вовсе не такие хорошие солдаты. Морган улыбнулся. — Англия будет гордиться нами. Подумай, наш переход через Панамский перешеек можно сравнить только с переходом старины Ганнибала через Альпы или с маршем десяти тысяч греческих наемников. Вице-адмирал приподнял кустистые брови. — Черт тебя побери с твоими книжками. Что за наемники? — Когда-то давно армия греческих наемников взбунтовалась против своих персидских хозяев, и они с боем прошли через всю Малую Азию. Коллиер тупо потер слипающиеся глаза. — Да, теперь я вспомнил, один французский офицер рассказывал об этом. Клянусь Венерой, то, как ты построил свои войска в сражении против де Гусмана, говорит о том, что ты просто гений тактики, вот что я думаю. Крайне польщенный, Морган протянул своему другу богато вышитый сюртук. — Вот, возьми и иди поспи. Отряды, осматривавшие город, уже привели пленных, так что я пойду вниз. Бесконечно тянулось томительное от жары время, а пленницы, которых заперли в обители Сан-Хосе, плакали, голодали и дрожали от страха при мысли о том, какая судьба их ждет в дальнейшем. Напрасно Мерседес пыталась утешить замеревшую от горя мать и успокоить страхи подруг и сверстниц. Потирая то место, где веревка натерла ей шею, она думала о том, что стало с Инессой. Хотя Мерседес несколько раз обходила забитое сотнями женщин всех оттенков кожи и возрастов помещение, но ее сестры никто не видел. Может, она, как несчастный храбрый Эрнандо, уже погибла? Флибустьеры заставили рабов перебирать уже остывшую золу и таким образом вытащили много слитков расплавленного серебра и золота, но еще более ценную добычу они достали со дна многочисленных колодцев и емкостей для воды. На бородатых лицах корсаров расцветали улыбки, когда конные отряды возвращались, гоня перед собой нагруженных мулов, лошадей и беглых рабов. Последние сгибались под тяжестью богатств, которые беглецы не смогли унести далеко в непроходимых джунглях. На полу королевской казны постепенно скапливались груды, целые горы драгоценных предметов интерьера, товаров и фламандских ковров. Медальоны, монеты, украшения и драгоценности тоже скапливались, но их пока было недостаточно. Пленники мужчины, которых собрали в помещении огромного рынка рабов, известного под названием Генуэзского дома, дрожали в страхе перед ожидающей их участью. Изучив ведомости по сбору налогов, найденные в административных зданиях, адмирал пиратов и его полковник имели прекрасное представление о денежных делах даже самых незначительных жителей разграбленного города. Доктор Дэвид Армитедж, который уже значительно окреп благодаря отличной еде и уходу, почувствовал, что его лихорадка отступает, хотя старший хирург Ричард Браун смотрел на своего коллегу с изумлением. — Ты просто живое чудо, Армитедж. Даже адмирал считал тебя мертвым после Порто-Бельо. Ты много выстрадал. Виргинец кивнул. — Да, но до падения Маракайбо со мной неплохо обращались. — Когда ты сможешь мне помогать? — спросил Браун. — Мой единственный помощник здесь — это Эксквемелин, а он либо строчит доносы, либо бегает в поисках добычи. Армитедж улыбнулся и откинулся на свернутый сюртук, который служил ему подушкой. — Дай мне еще несколько дней, Ричард. А как насчет моей доли — в дележе добычи в Порто-Бельо? Браун собрал инструменты в чемоданчик. — Не стоит расстраиваться: Гарри всегда заботится о своих людях. Эй, ты! — Он подозвал одного из прислуживающих негров. — Смотри, чтобы за этим джентльменом ухаживали как следует. — Нет, не уходи, — попросил виргинец. — Среди пленных должны быть члены семьи, которой я обязан жизнью. Прошу тебя, расскажи обо мне адмиралу и передай ему, что я прошу милости для судьи Андреаса де Амилеты и его семьи. Ричард Браун кивнул и забыл об этом — у него было столько хлопот. На, третий день после захвата города Генри Морган тихо бесился. Стало ясно, что «Тринидад» уплыл настолько далеко, что его уже невозможно было догнать, и вместе с ним уплыла значительная доля тех богатств, за которые столько боролась и страдала армия Ямайки. Просто купаясь в роскоши, пираты шныряли по тихим, замусоренным улицам и бросали подозрительные взгляды на шестьсот пленников-мужчин, не считая тех невезучих беглецов, которых все еще привозили с островов Табога и Табогилья. Растянувшись в огромном позолоченном кресле губернатора, Гарри Морган окинул туманным взглядом собранные за три дня военные штандарты, знамена торговых гильдий и флаги индейских племен, украшенные разноцветными перьями. Пол запылился и покрылся грязью, а часть стульев, на которых заседали двадцать четыре Гранда, куда-то растащили. Собравшиеся главные командиры и капитаны Моргана сидели или стояли, раскачиваясь на каблуках новых сапог и башмаков. Все они оживились, когда адмирал подозвал Барра. — Если у тебя под рукой бумаги о подоходных налогах, то мы можем начать допрос кого-нибудь из этих мерзавцев. Распахнулась дверь в конце той же самой залы заседания совета, в которой когда-то несчастный дель Кампо рассказывал о судьбе Маракайбо. В комнату втолкнули седовласого человека со связанными за спиной руками вместе с низеньким толстяком, которому почти совершенно лысая голова и выпученные глаза придавали сходство с лягушкой. — Поставьте их на колени! — приказал Морган. Старший испанец огляделся и заявил, что он встанет на колени только перед Богом или испанским королем, в ответ на что пират-француз просто пнул его ногой и, угрожая ему кинжалом, заставил опуститься на колени. — Перед нами, — объявил Барр, — некто Педро де Элизалде, главный судья суда по наследственным делам, и Мануэль Риберос, старший офицер королевской казны. — Так вот каких знатных птичек мы поймали? А теперь… — Морган неожиданно наклонился вперед и оглядел эту парочку. — Вы, грязные псы, считаете, это верх патриотизма — сжечь город? — По приказу его превосходительства, — запротестовал судья. — Приказ, который лишил английскую корону и меня чертовски большой доли добычи! Ну, я не потерплю такого безобразия. Поэтому вы, каждый из вас, должен собрать мне по пятьдесят тысяч золотом. Коленопреклоненные мужчины принялись было протестовать. — Если через пять дней вы не предоставите мне эту сумму, то я передам вас капитанам Моррису и Сенолву, а уж они найдут способ выбить из вас деньги, которые вы мне должны. Хэмфри, вытащи отсюда это отродье. Один за другим в залу швыряли купцов и требовали выкуп. Иногда обезумевшие пленные радостно соглашались, рассказывали о тайниках в конюшнях или дымоходах заброшенных каминов или закопанных у такого-то или такого-то камня. Другие же глупо, и чаще всего бесполезно, клялись, что у них все сгорело, что у них нет ни гроша, и тогда на берегу у воды их подвергали «допросу». Основным средством убеждения снова стала все та же старая пытка с веревкой. Мучители по примеру инквизиторов заставляли пленников смотреть на страдания своих друзей, родственников и соседей. Лишь немногие оказались действительно не в состоянии внести выкуп. Дэвид Армитедж нежился на солнце; после бессчетных недель в сырой и промозглой тьме он наслаждался несущими жизнь лучами солнца, которые ласкали его спину. Казалось, с каждым часом к нему возвращались силы и присущая ему жизнерадостность. Скоро он уже мог сам одеваться и попытался дойти до обители Сан-Хосе, где содержались пленницы в ожидании выкупа — остальных давно уже раздали победителям для забавы. Настойчивые расспросы и кое-какие взятки принесли ему информацию о том, что среди заключенных находились женщина средних лет и молодая девушка по фамилии де Амилета. — А еще одной девушки, по имени Инесса, там не было? — Может, да, а может, и нет, — уклонился от ответа рассказчик. На пятое утро после захвата Панамы Дэвид почувствовал себя значительно лучше. Даже постоянная боль, которую причиняли ему изуродованные плечевые суставы, немного ослабла. Наверное, он уже никогда не сможет отвести руки назад или поднять выше плеч. Слава Богу, что, по крайней мере, руки у него перестали дрожать; возможно, со временем они снова обретут твердость и уверенность, как было до того, как их ему связали за спиной, подвесили высоко над полом, а потом сбросили с высоты шести футов. — А, вот и доктор. — Завернувшись в женскую кружевную нижнюю юбку, словно в плащ, Люк, раскачиваясь, вошел в обитель Ла-Мерседес. — Готов? Хорошо. Сегодня мы увидим редкое зрелище. Будут делить симпатичных девчонок. — Делить? — не понял Дэвид. — Да. Тех, которые могут заплатить выкуп, мы вернем обратно; а с теми, которые не смогут, порезвимся. Клянусь бородой Иуды, ребята просто сохнут по тем милашкам, которых они высмотрели в Сан-Хосе. — Он пошел прочь, бормоча: — Если бы мне только отыскать ту девчонку, которую я схватил в первый же день. Маленькая ведьма сбежала от меня в дыму пожара. — В первый день? — Ему на память пришло ужасное воспоминание, что именно Люк был в тот день в вилле дона Андреаса. — Ее звали, ее звали… не Мерседес? — Нет. Что-то вроде Изабелла. Увидимся в Сан-Хосе. Поправляйся, Дэвид, хватит тебе время зря тратить. В зеленом сатиновом сюртуке с золотыми пуговицами, льняных штанах в белую и красную полоску, Дэвид вышел со двора, опираясь на выломанную из забора жердь. На террасе перед церковью обители Сан-Хосе установили широкий стол, небрежно накрытый ковром, Рядом стояло глубокое кресло. Там сидел Бледри Морган со свирепым красным лицом, раздувшийся от еды и вина, которые он ухитрился поглотить за это время. Под охраной отряда флибустьеров, бросавших на них плотоядные взгляды, сгрудилась толпа женщин; хорошенькие, простушки и страшненькие, большей частью смуглые, но попадались и белокожие; знатные дамы, жены младших чиновников и незамужние. Там были все возрасты от двенадцатилетних девочек до седых матрон, которым снова связали руки. Дисциплина, которая и всегда-то хромала в ямайской армии, теперь совершенно исчезла, когда адмирал перестал следить за перемещениями де Гусмана; докладывали, что губернатор отступил до Пенономе и слал курьеров по Камино Реал в гарнизон Порто-Бельо, чтобы оттуда организовали атаку на лютеран, которые теперь были заняты дележом добычи. Полковник Бледри Морган, очевидно, радовался порученному делу. По пыльному двору мелькали тени стервятников. Вперед вытолкнули красивую женщину лет тридцати, которая прихрамывала, потеряв одну из туфель. — Кто эта девка? — буркнул Бледри, разглядывая ее поверх золотой дароносицы, которую он использовал вместо кубка. — Кармен Пизарро, жена королевского знаменосца. — Это твое имя? Женщина испуганно уставилась на приземистую яркую фигуру под голубым с золотом шелковым навесом и кивнула. — У тебя есть кто-то, кто может тебя выкупить? Пленница отчаянно закивала. — О да, да! Ради моего спасения муж заплатит три тысячи песо. — Записать за этой Пизарро выкуп в четыре тысячи песо, — бросил Бледри писцу справа. — Спасибо! Спасибо, кабальеро. — Бормоча слова благодарности, пленница странной прихрамывающей трусцой побежала обратно в обитель. Следующей оказалась очень юная женщина с явными следами индейской крови в очертаниях изящного носа и бровей, а также в темных глазах. — Выкуп? — рявкнул на нее Бледри. Несчастная глухо простонала. — Увы, благороднейший судья, я несчастная вдова — вязальщица. Собравшиеся флибустьеры радостно заулюлюкали. Прошлой ночью цена этой девки повысилась до пяти сотен монет; обладатель первой бумаги на покупку протолкался на открытое место — мускулистый, рыжеволосый подонок. — Тебе повезло, Джо, — кричали его друзья. — Забирай ее, — проревел Бледри Морган. — Следующая! Темные глаза вдовы заметались из стороны в сторону, и она открыла рот, чтобы закричать, но, увидев красивого хозяина, неуверенно улыбнулась и направилась к нему так грациозно, как только ей позволяли связанные руки. — Добрый день, кабальеро, вы не будете обижать меня? — Не буду, утенок, если ты будешь хорошо себя вести. Собравшиеся пираты радостно гикали и вопили, когда новый хозяин, торопясь, вытащил кинжал, разрезал веревки и повел вдову прочь, вниз, к сапфировым водам Южного моря, нежно обнимая за талию. Немногие из тех, кто не мог заплатить выкуп, уходили так же охотно, как и вдова; некоторые сопротивлялись, падали на землю, и их владельцам приходилось тащить их. Доктор Армитедж постепенно пробрался вперед. Бледри увидел его, наклонился и пожал тощую руку Дэвида. — Господь Всевышний! Да это виргинец! Мальчик, я думал, что ты сгнил еще восемнадцать месяцев назад! Садись, Дэви, посмотри, как мы развлекаемся. Армитедж остался стоять, опираясь на палку. — Спасибо, но я еще слишком слаб. Я пришел отблагодарить тех, кто спас мне жизнь. — Я могу что-нибудь для тебя сделать? — Да. Могу я взглянуть на список пленниц и посмотреть, указаны ли там донья Елена де Амилета и ее дочь Мерседес? Это они и судья Амилета сделали мою жизнь в Панаме вполне сносной. Друзья в Панаме? Даже несчастные женщины, ждущие своей очереди, обернулись и посмотрели на него. Палец писца пробежал по списку и остановился. — Да, здесь есть имя Амилета. Бледри уставил на Армитеджа красные глаза. — Ну? — Я прошу тебя освободить их. Бледри Морган почесал шею. — Это может только Гарри. Но давайте взглянем на них. Пара аркебузиров выкрикнули имена и скоро вытолкнули вперед донью Елену и ее дочь. Последняя дико осмотрелась вокруг, а потом вскрикнула: — О дон Давидо! Спаси нас! Дэвид обошел вокруг стола и обнял ее за плечи. — Крепись, я сделаю все, что смогу. Бледри Морган облизал губы и повернулся к писцу. — Кто эта старая клуша? — Жена судьи этой провинции, очень богата. — Хорошо! Хорошо! Богатые жители — все, что нам нужно. Ну ладно, — Бледри выжидательно прищурился и откинулся назад в дубовом кресле, — что за выкуп может предложить твой муж? Глаза доньи Елены вспыхнули. — Я, я не знаю, сэр, сколько у нас еще осталось, но у нас есть земли и стада на севере. Если пять тысяч песо… — Клянусь печенкой Люцифера, нет! Тридцать тысяч! — Но… но это слишком много, — содрогнулась донья Елена и заплакала. Голод и веревки, которые врезались ей в руки, сломили дух гордой испанки. — Или это, или… — Бледри махнул украшенной кольцами рукой своим людям. Мерседес закричала: — О мама, ты ведь знаешь, что это приемлемая сумма. Прошу, ради меня. Донья Елена собралась с силами и взглянула Бледри в глаза. — Сумма выкупа, конечно, включает и мою дочь? — Пламя ада, нет! Это только за тебя. Тридцать тысяч — выкуп за старуху. Уберите ее. — Моя дочь, дон Давидо, спасите мою дочь! Армитедж вмешался: — Конечно, услышав мой рассказ, полковник, вы не выставите девушку на продажу! Полковник Морган цыкнул зубом. — Черт тебя побери, Дэвид, — буркнул он, — я не могу отпустить ее просто так, ребята мне не позволят. Не забудь, что ты не принимал участия в этой кампании. Дэвид размышлял, а потом вспомнил разговор с доктором Брауном. — Я уступлю не выплаченную мне долю за поход на Порто-Бельо. Пойдет? — А сколько это? — Понятия не имею, но уверен, что адмирал не станет жадничать. Бледри потер подбородок, мигнул и тихо произнес: — Я уступлю ее за две тысячи золотом; поговори об этом с Гарри. Единственное, что озарило эту грязную сцену, был свет, вспыхнувший в глазах Мерседес.Глава 8 ТРИУМФАЛЬНЫЙ ИСХОД
Еще почти тридцать дней Морган сидел в разрушенной Панаме. В это время было заплачено большинство выкупов. Постепенно сверкающая гора награбленного росла все выше и выше, пока даже самому скупому из флибустьеров не показалось, что этого вполне достаточно и потеря «Тринидада» не так уж значительна. Весь этот месяц они грабили и восстанавливали свои силы. Тщательная разведка показала, что Морган прав, заявляя, что нанес испанцам сокрушительный удар. Окрепшие и бодрые силы пиратов выступили по Камино Реал утром 17 февраля 1671 года. Большинство людей Моргана ехали на ослах, мулах и лошадях, а освобожденные испанцами негры, которых снова превратили в рабов, звеня цепями, тащили скарб своих хозяев. Негров набралось с тысячу, и они составляли значительную долю добытого богатства. Почти три сотни связанных, с отметинами хлыста пленников, выкуп за которых еще не пришел, всхлипывая, плелись по дороге и оглядывались на руины, заключавшие в себе столько счастливых воспоминаний. Вьючные животные, собранные по всей округе, числом в сто семьдесят пять голов, пошатывались под тяжестью поклажи. Адмирал Морган, в фетровой шляпе винного цвета с кроваво-красными страусиными перьями, представлял из себя колоритную, заметную фигуру. Он ехал на лошади рядом с Эдвардом Коллиером и в последний раз оглядел сцену сражения, к которому готовился столько лет. Именно здесь он завоевал ту победу, о которой будет говорить весь мир. Адмирал был весьма доволен благородным жестом, который он сделал прошлым вечером. Под белым флагом появился посланник, который печально сообщил, что выкуп за донью Елену де Амилету будет собран только на следующей неделе. Морган, торопившийся выступить в дорогу, велел привести к нему посланника и впервые отдал честь испанскому офицеру. — Пожалуйста, передайте мои комплименты его чести судье Андреасу де Мартинесу де Амилете и скажите ему, что я отпущу его жену и дочь на дороге в Нату, как только моя армия покинет эти края. Скажите судье, что я доверяю ему и прошу у него честного слова кабальеро, что он употребит эти невнесенные деньги на освобождение какого-нибудь пирата, который попадет в руки испанцев. Смуглый пехотный офицер, не веря своим ушам, уставился на него. — Но, ваше превосходительство, это… это такая щедрость, так неожиданно! — Скажи своим людям, что англичане не только отвечают ударом на удар, но и милосердием на милосердие. А теперь иди с Богом или проваливай отсюда к черту. Как угодно! Морган усмехнулся. Доны по достоинству оценят такой жест; кроме того, он утешался тем, что доктор Армитедж снова с ним. — Дэви, — пробурчал он, — я поручаю тебе освободить твоих друзей на дороге в Нату, и, кстати, не говори мне больше о том, чтобы деньги за выкуп удержали из твоей доли за Порто-Бельо. Доктор Армитедж тронул поводья бежавшего легкой рысцой мула, когда длинная колонна зашагала обратно в Сан-Лоренсо и к Северному морю. По непонятной причине виргинец не мог заставить себя обернуться на сожженный и разграбленный город. Где-то далеко позади Мерседес уже ехала на юг к отцу. Сколько она будет помнить еретика англичанина, который обнимал ее и который первым поцеловал ее чистые губы? Может, всю свою жизнь. То, что она действительно его любила, Мерседес доказала в тот памятный день захвата города, но эта любовь могла погаснуть в пламени новой; в конце концов, девушке было только шестнадцать. Армитедж закусил губу. Какая мука была скрывать свое чувство к ней, а потом строить безумные планы побега во Францию. Сможет ли он когда-нибудь забыть ее золотистые волосы и бархатистые нежные губы? Он сомневался в этом. Между ними встал непреодолимый религиозный барьер, который не даст им быть вместе даже в раю. Он любил ее и смирился с этим. Никогда за краткую, но бурную историю существования Порт-Ройяла в этом порту не было такого ликования. Лавочники торопливо ставили на место железные решетки и закрывали ставни, чтобы уберечься от беснующейся толпы. На башнях фортов Чарльз и Эдуард развевались все флаги, которые только смог найти гарнизон, и когда победный флагман адмирала вошел в пролив, то на салюты было израсходовано огромное количество пороха. Палили все батареи в гавани. Итак, Панама пала! Слава Богу, ужасная угроза испанского вторжения была уничтожена, по крайней мере на время. Подумать только, британская армия — пусть и пиратская — пересекла опасный перешеек и разграбила и стерла с лица земли прекраснейший город в Испанской колониальной империи. — Наш Гарри и правда великий полководец! — восклицали купцы, млея при мысли о новой добыче, которая пополнит их склады. — Да, — соглашались соседи. — Он сломал хребет поганым донам и показал им, что они просто хвастуны и пустомели. Теперь, по крайней мере, мы можем спокойно торговать. Сотнями появлялись воззвания, в которых люди благословляли адмирала и его капитанов — но некоторые удивлялись, почему за величественным флагманом Моргана следовало только одиннадцать кораблей. Вскоре выяснилось, что дележ добычи — причем ходило много слухов о том, как долго ее делили — состоялся в Сан-Лоренсо. И в результате большинство французских и все голландские суда расплылись в разные стороны. Морган был поражен, что сэр Томас не смог или не захотел найти крепких парней, которые решились бы постоянно остаться в Сан-Лоренсо и тем самым упрочить власть Британии на беззащитном сейчас Кастильо-дель-Оро. Самые молоденькие и симпатичные шлюхи в городе пробирались вперед и бросали цветы под ноги улыбающейся коренастой фигуре в темно-красном бархатном костюме. Для Моргана такая сердечная встреча была чуть ли не самым важным достижением его карьеры. И ничего удивительного, что они так приветствовали его. Привезенного им богатства хватит, чтобы купить так необходимые товары у североамериканских колоний, рабов в Африке и нанять в Англии опытных слуг. С этого момента Ямайка вполне по праву могла носить титул, который ей вскоре присвоили: «Сокровищница Вест-Индии». И снова Морган ловил себя на мысли, что ему хотелось бы, чтобы Анни Пруэтт стала свидетельницей его торжества и увидела, как сбылось все то, о чем он ей говорил тогда в винном погребе. Хорошо бы и если бы острый на язык сэр Эдвард Морган смог признать, что Лиззи не так уж плохо сделала, выйдя замуж за юного капитана пиратов. На мгновение у него мелькнула мысль, нет ли Карлотты в толпе, которая приветствовала его, когда он выбирался из гички на берег. Но он знал, что Карлотта — это уже пройденный этап его жизни. Морган, как обычно, махнул рукой, ожидая тишины, а потом заговорил, рассказав о доблести полковника Брэдли, стойкости пиратов и редких способностях Принса, Коллиера, Бледри Моргана и других капитанов. Он такими яркими красками расписал мужество французских братьев, что узкое лицо Трибитора расплылось от удовольствия в широкой улыбке. Когда команды, уже наполовину пьяные, толпясь, повалили на берег, горя желанием скорее поведать о своих подвигах, Морган незаметно ускользнул от беснующейся толпы и отправился в поместье Данке — к Мэри Элизабет. Конь был уже весь в мыле и тяжело дышал, когда он наконец въехал в свои ворота. — Лиззи! — закричал он. — Лиззи! Почти сразу же появилась его жена. Она выбежала на террасу и спустилась вниз к подъезду. На ее загорелом лице сияла радостная улыбка. Морган соскочил на землю и с громким криком заключил ее в железные объятья. Забыв о сбежавшихся слугах и тяжело дышавшей лошади, которая двинулась вперед, таща за собой поводья, они улыбались друг другу. — Теперь весь мир признает, какой ты великий человек, — прошептала Мэри Элизабет, — но я всегда это знала. По щекам Моргана проползли две слезинки. — Спасибо тебе, любимая, потому что твои слова — это самая дорогая, самая ценная награда за все, чего я достиг. Словно простой крестьянин, прогуливающийся с подружкой, Морган обнял жену за талию, и вместе они исчезли в прохладной темноте дома. Вся фигура Мэри Элизабет излучала гордость, когда она на следующее утро внесла в кабинет адмирала кипу портфелей, в одном из которых лежал план внушительного дома. — Это, — объявила она, — будет Пенкарн-холл. — Пенкарн? — Морган был глубоко тронут. — Но, Лиззи, так называлось мое родовое поместье, пока «круглоголовые» не сожгли его. Его жена кивнула и продолжала: — Работы уже начаты. — Боже Всевышний! А если бы я потерпел поражение в Панаме — а ведь еще немного, и так и было бы! Мэри Элизабет улыбнулась. — Я знала, что ты победишь — ты всегда побеждаешь. Поэтому, учитывая твои приобретения в Панаме, — как деликатно она избегала слова «добыча», — мы можем построить приличную резиденцию и… и купить еще землю под названием «Поместье Артура» — идеальное место для разведения сахарного тростника, а в Пенкарне можно выращивать кофе и какао. Стратегические таланты Моргана помогли ему оценить, как мудро Лиззи распоряжается его собственностью. — И во сколько мне обойдется «Поместье Артура»? — Всего в пять тысяч фунтов — золотом. — Думаю, я с этим справлюсь, — ответил он, — а как насчет какао? Когда я отплывал, разве у нас не погиб урожай? — Да, поэтому я планирую заменить эту культуру на индиго или коноплю. Она сжала его руки. — Гарри, обещай, что ты больше не уедешь на войну. Он опустил глаза, и его лицо посуровело. — Без поддержки королевской власти, нет. Между прочим, если бы не ангелы-хранители, кому ты молилась день и ночь и которым пришлось славно потрудиться в Панаме, ты бы сейчас была вдовой. Нет, Лиззи, я не дурак и не считаю, что фортуна будет вечно улыбаться мне. — Он заговорил серьезно, обдумывая слова: — Мне нужен флот настоящих боевых кораблей и дисциплинированные войска из Англии, и я намерен все это получить. Клянусь Богом, тогда я захвачу Картахену и Гавану! Мэри Элизабет решительно покачала головой. — Гарри, я… я боюсь и говорить об этом; но не обманывай себя. У тебя много могущественных врагов. — Она понизила голос. — Скажи, ты действительно не знал, что прошлым июлем был подписан мирный договор с Испанией? Морган оторвал взгляд от плана Пенкарн-холла. — Брэдли слышал об этом в Сан-Лоренсо, а я в Панаме, но решил, что это очередная выдумка испанцев. Кроме того, в Европе часто заключают мир, при котором можно вести военные действия в колониях. — Он фыркнул. — Представляю, как сейчас испанский королевский двор оплакивает Панаму. — Да, Гарри, об этом я и говорю. — Не расстраивайся, курочка. Я не скоро снова соберусь в поход — здесь слишком много дел, — к примеру, с землей. Морган прошелся по комнате и остановился перед зарешеченным окном, неподвижно глядя на разбитые внизу клумбы. Он задумчиво стукнул кулаком одной руки по раскрытой ладони другой, а потом резко развернулся. — Лиззи, — начал он, — я… ну, все эти планы и земля, к чему они? — Я тебя не понимаю. Морган рассматривал половицы у себя под ногами. — Мы должны признать тот печальный факт, дорогая, что у нас не будет наследников; виноват я, а не ты. Мэри Элизабет взглянула на него с глубоким состраданием; только она — и еще одна женщина — могли понять, чего стоило этому крепкому, полному сил мужчине признаться в этом. — Поэтому я подумал, что кто-нибудь нашей крови может принять мое имя — Боже Всевышний, Лиззи, я не могу вынести мысли, что имя, за которое я боролся, умрет вместе со мной. Морганы из Лланримни — древний и достойный род, их знают по всему Уэльсу. Женщина своим быстрым умом мгновенно схватила и оценила его намерение. — Ты хочешь сделать наследниками детей моей сестры? — Да, если кто-нибудь из детей мужского пола Биндлоссов или Арчбольдов примет фамилию Морган, то я… я завещаю им свои земли — после твоей смерти. — О Гарри, дорогой, я уверена, что ты найдешь приемного сына среди детей Арчбольдов или Биндлоссов. Их отцы так уважают и любят тебя, что, конечно, согласятся. — Она подбежала, и ее пальцы мягко коснулись его щеки. — Как ты мудр, у нас появится новый смысл в жизни, и дети будут нашей крови. — Твоей крови, — мягко поправил он. Однажды днем доктор Армитедж вышел на улицу и, несмотря на плохо сгибающиеся руки — след его плена, — поскакал к поместью Данке. Внешне врач держался непринужденно и вежливо, как обычно, но Морган мгновенно распознал в его поведении такую нервозность и тревогу, что как можно скорее увел Армитеджа в свой кабинет. — Значит, ты скоро уезжаешь учиться в Лондон? Что ж, это неплохо. — Морган улыбнулся. — Бог благословит твои занятия, Дэвид. Я предсказываю тебе, что ты скоро станешь известным врачом. Армитедж сжал широкую загорелую руку адмирала. — Спасибо, Гарри, за присланный кошелек с дукатами, но в нем не было необходимости, ты и так был щедр ко мне. Морган нахмурил брови. — Что тебя тревожит, старина хирург? У тебя такой вид, словно вот-вот лишишься богатого пациента. Армитедж стянул с головы платок и пригладил короткие волосы на голове. — Все гораздо хуже, Гарри. Я могу потерять двух богатых пациентов. — Ага, значит, снова начинается лихорадка? — Морган закурил трубочку и вопросительно посмотрел на своего гостя. — И кто эти два пациента? — Ты и сэр Томас Модифорд. Рука Моргана замерла. — Я сегодня в хорошем настроении, — сказал он, — продолжай свою шутку. — Я бы хотел, чтобы это была шутка, — честно признался Армитедж. — Ты знаешь, что из Англии только что прибыл фрегат королевских военных сил под названием «Желанный»? Морган фыркнул и затянулся трубочкой. — Что ж, давно пора лордам Торговой палаты послать сюда нам на помощь настоящий военный корабль. И что из этого? — Тебе это не понравится, — медленно и серьезно сказал Армитедж, — но фрегат прибыл вместе с сэром Томасом Линчем на борту. — Тьфу! Чума побери этого надоедливого пустомелю! — плюнул Морган, но голове его неожиданно стало холодно. — Мы были так рады избавиться от него в шестьдесят четвертом году. Армитедж наклонился вперед. — Лоцман, мой бывший пациент, подслушал разговор на борту, когда он вводил «Желанного» в гавань. Гарри, — он замолчал и взглянул на Моргана своими голубыми глазами, — Линч прибыл, чтобы сменить на посту сэра Томаса Модифорда! — Что? — И не только это. У Линча есть ордер на арест губернатора и обвинение в преступлении против мира и достоинства королевской власти. Морган не верил своим ушам. — Ты ошибаешься, Дэвид. Существует элементарная благодарность. — Может, ты слышал о «благодарности королей»? — заметил Армитедж. — Более того, если я не ошибаюсь, то речь идет и о тебе. Трубка Моргана упала на пол и разбилась. — Они не посмеют! Гори они адским пламенем, эти благородные рыцари в Лондоне! — С момента захвата Порто-Бельо Армитедж не слышал, чтобы адмирал так ругался. Виргинец сидел молча, пока не затих поток ругательств. — Говори что хочешь, но я боюсь, что это правда. Полковника Биндлосса и других уже прошиб холодный пот. Говорят, что испанский посол в Уайтхолле просто бесился от гнева и стыда, когда получил вести из Панамы. — И пускай бесится, папистский ублюдок. Англия — простые люди — поймут, что я воевал за них. Они поддержат меня! — Может, и так, но не забывай, что, с другой стороны, Англия сейчас не в том состоянии, чтобы развязывать еще одну большую войну. Казна его величества истощена, правительство недостаточно прочно сидит на своих местах, а сторонники парламента готовы в любой момент попытаться снова взять власть в свои руки. Испанский посол, граф де Молина, потребовал под угрозой войны, чтобы Модифорда и тебя, — он в отчаянии поднял на Моргана глаза, — вернули в Лондон и повесили за нарушение прочного договора о мире. Непроизвольно пальцы Моргана потянулись к шее. Здесь, в Карибском море, он научился, как распутывать нити политической интриги, как ценить друзей и врагов, но Лондон, до которого было три тысячи миль, казался ему коварной, непредсказуемой трясиной. — Ясно, что сэру Модифорду не выпутаться. Но, Гарри, в конце концов, виноват он, потому что не вернул твою экспедицию. Поэтому я и все твои друзья считаем, что тебе надо собрать все самое ценное и бежать на Тортугу, пока есть такая возможность. Морган хлопнул кулаком по столу. — Черт тебя побери, Дэйв, я думал, ты меня лучше знаешь. Ты думаешь, что я сбегу и оставлю Тома одного под угрозой виселицы? Никогда! Даже если после этого мне придется жариться в аду целую вечность. Брось, мы положим этому конец. Я уверен! Ямайка не допустит такой черной неблагодарности. Он выскочил в коридор и во все горло заорал, требуя лошадей и одежду. Информация Армитеджа оказалась почти достоверной. Ордера об аресте Моргана не было, но Модифорд оказался в опасности. Линч прекрасно понимал, что попытка публично арестовать такого популярного губернатора, как Модифорд, приведет только к волнениям и, возможно, бунту, поэтому он заманил сэра Томаса на борт «Желанного». Тогда, и только тогда, он опубликовал в Порт-Ройяле указ королевской власти, в котором он назначался вице-губернатором острова и временно исполняющим обязанности губернатора. Обстановка в городе накалялась, даже самые низкие души возмущались отказом Линча отпустить своего пленника под честное слово, чтобы навестить сына, умирающего в Испанском городе. Морган бурей ворвался в город и с удивлением узнал, что о нем самом не было опубликовано никаких распоряжений; в настоящий момент вся ответственность за атаку на Панаму была возложена на Модифорда, не только потому, что он выдал каперские поручения, но и потому, что не сообщил адмиралу о вновь подписанном мире. Поговаривали, что Морган и его ребята ворвутся на борт королевского фрегата и силой освободят любимого губернатора, но когда гарнизоны фортов проявили достаточную дисциплинированность и признали действия сэра Томаса Линча законными, друзья Моргана убедили его, что для защиты Модифорда будет лучше, если не оказывать физического сопротивления королевской власти. Утром 22 августа 1671 года Чарльз Барр вместе со своим хозяином смотрели на заштопанные паруса старого протекающего брига, который, словно в насмешку, назывался «Ямайский купец». В его трюме сидел в цепях глубоко несчастный сэр Томас Модифорд. Заплывшими, слезящимися глазами Морган проводил набиравший скорость и постепенно тающий вдали силуэт. Барр вздохнул. — Слава Богу, эти завистливые шакалы при королевском дворе не посмели так же несправедливо поступить с тобой, после всех сражений, которые ты для них выиграл. — Он подмигнул. — И богатства, которое ты заработал для королевской власти. Боюсь, Гарри, они вздернут беднягу Модифорда, чтобы умилостивить испанцев, но тебя… тебя они не тронут.Книга четвертая БЛАГОДАРНОСТЬ КОРОЛЕЙ
Глава 1 СПИТХЕД
Капитан Джон Кини, командующий фрегатом «Желанный» английских королевских военно-морских сил, резко окликнул своего квартирмейстера: — Возьми на две метки влево; проклятый дождь с туманом, я на расстоянии вытянутой руки ничего не вижу. В этот дождливый день 4 июля 1672 года ветра почти не было, чему Кини был рад, потому что дождь усиливался, а туман сгущался. Он скомандовал: — Убавить паруса! — Господь меня разрази, если я еще хоть раз выйду в море на этой развалюхе, — буркнул он. — Просто чудо, что она держится. Обшивка скрипела, угнетающе действовало на нервы постоянное чавканье помп, но в то же время капитан Кини поздравил себя с тем, что ему удалось проскользнуть через блокаду — уже третий раз начиная с мая прошлого года, после того как была объявлена война с Голландией. Когда судовой колокол прозвонил четыре склянки, капитан Кини оперся о перила мостика и крикнул: — Мистер Армстронг, вы можете вывести заключенного. Одновременно с этим возгласом из колеблющегося тумана выплыл огромный нос первого помощника Барклея. От холода и влажности он весь посинел и поблескивал. — Мы уже подходим, сэр? — прогнусавил он. — Нет еще, но мы должны войти в бухту Спитхед до заката, когда весь этот проклятый туман поднимется наверх. Снизу раздался топот ног, появились двое военных моряков и застыли в ожидании. — Неудивительно, если полковник Морган не придет, — заметил капитан Кини. — Говорят, что его так замучила дизентерия, что он и встать не может. Они оба смотрели, как Морган с трудом взбирается по лестнице. Хотя он попытался выпрямиться, как в начале их трехмесячного пути, одному из охранников пришлось поддержать его, чтобы он не потерял равновесие на качающейся палубе фрегата. Барклей громко высморкался. — Есть ли зрелище печальнее, чем вид впавшего в немилость героя? Скажите мне, сэр, неужели королевские министры повесят его? Капитан Кини не отводил взгляда от основного паруса — марселя. — Похоже на то. Пару капитанов Моргана уже повесили в прошлом январе — мерзавцев по имени Харрингтон и Рикс. Королевский военный бриг «Роза» перехватил их, когда они грабили испанцев на Кубе. Западный ветер усилился, наполнил залатанные паруса «Желанного», и тот быстрее двинулся через серебристо-серый туман. Ветер развевал лохмотья заключенного, которые когда-то были сюртуком. Генри Морган, уже не адмирал, но все еще в звании полковника, оперся на поручень, слегка подрагивая на свежем воздухе от холода. Однако его плечи не поникли от унижения, и хотя он согнулся от приступа кашля, но потом снова выпрямился и поднял голову. Немного передохнув, он начал прохаживаться по палубе туда и обратно, сцепив руки за спиной; один рукав лопнул по шву и висел, словно крыло подбитой птицы. Постепенно небо посветлело, и скоро дождь прекратился, оставив на палубе неглубокие лужицы. Словно по мановению руки кудесника, туман развеялся и проглянуло солнце, осветив линию побережья. Там лежала Англия. Руки Моргана вцепились в поручень, а красные глаза наполнились слезами. Да, это была Англия, о чьей величайшей славе и мощи он мечтал, за которую сражался и страдал; Англия, которая оказалась так безумна, что не протянула ему руку, в которую он уже собирался насыпать сокровища колониального мира. Его охранники изумленно взглянули на него, услышав горький, прерывающийся смех. Так вот каково триумфальное возвращение завоевателя — второго Дрейка? Вот уж повезло! В бледной морской воде выступили песчаные отмели. Появилось больше чаек, которые кружились над длинным красным вымпелом, трепыхавшимся на грот-мачте «Желанного». Морган стиснул поросшие щетиной челюсти. — Эти ублюдки могут повесить меня, но, клянусь славой Божьей, никто не сможет отрицать, что я поднял британский флаг в самом сердце испанских колоний! Вслед за лоцманом на борт поднялся тощий, с каменным выражением на лице майор кавалерии, некто Джон Тернбулл. Он не стал зря тратить время. — У вас на борту находится некто полковникГенри Морган? — скорее утвердительно, чем вопросительно осведомился он у капитана Кини. — Да. — Кини был краток. Как морской офицер, он ненавидел испорченную сторонниками парламента армию и ее офицеров, готовых в любой момент поменять свои убеждения. — Заключенный в хорошем состоянии? — В плохом. Мы плыли долго, и плавание было тяжелым. — Это меня не интересует. Приготовьте Моргана к высадке, как только бросите якорь. — Майор Тернбулл протянул свиток. — Вот приказ, передающий его в мое подчинение. Капитан Кини не мог удержаться, чтобы не полюбопытствовать: — А что будет с полковником Морганом? Майор мотнул красным длинным носом. — Говорят по-разному; но в целом, три к одному, — что он станцует джигу на виселице. Все зависит от того, какая из любовниц короля сейчас в силе. — Что? Как это? — Леди Кастлмейн, старшая в гареме, обязана чем-то испанскому послу, который поклялся на Священном Писании, что объявит войну, если не увидит на одной виселице нашего драгоценного друга Модифорда и пирата Генри Моргана. А если сейчас в фаворитках Нелл Гвин, то он может спасти свою шкуру и даже кое-что выиграть. Как только «Желанный» встал на якорь возле мыса, появился Морган, которого немедленно посадили в маленькую шлюпку майора Тернбулла; туда же сели двое крепких драгун с оружием наготове. Четверо матросов дружно взялись за весла, и гичка понеслась мимо виселицы, на которой раскачивался грязный, наполовину разложившийся труп повешенного. Морган глянул вверх, увидел труп и поклонился, не вставая с места. — Ага. Не сомневаюсь, еще один верный слуга королевской власти. Привет тебе! Спасибо, что встречаешь меня, друг. Майор Тернбулл открыл рот, чтобы сделать ему замечание, но вместо этого с любопытством спросил: — Скажите, полковник, вы правда захватили Панаму с отрядом меньше тысячи людей? — Меньше семисот, — последовал беззаботный ответ. — Если бы вы были там, сэр, я уверен, что мне пригодился бы ваш меч. Человек с невозмутимым лицом околачивался возле закрытой кареты и посматривал, что там творится. Майор Тернбулл искоса поглядывал на него. Несмотря на отвратительные предчувствия, Морган несколько раз глубоко и с удовольствием вздохнул. Как чудесно избавиться наконец от зловонных испарений, исходящих от прогнившего днища «Желанного». Как чудесно снова видеть солнце, пусть ему и не хватает тепла. Будет ли он когда-нибудь снова греться под жарким карибским небом? Как только карета выехала из порта в сопровождении четырех верховых драгун, поведение майора Тернбулла разительно изменилось. — В той корзине есть еда. Вы больны, полковник, поэтому я распорядился как можно быстрее ехать в Лондон. — Сэр Томас Модифорд содержится в Тауэре? Майор Тернбулл кивнул, а потом неожиданно извлек на свет Божий серебряную флягу. — Это французское бренди, одно название, а не выпивка, но лучше вам глотнуть. До Лондона еще далеко. Наступил второй день поездки. Закрытая карета начала подскакивать и переваливаться по плохой булыжной мостовой на окраинах Лондона. Майор Тернбулл вел себя дружелюбно, но был слишком сдержан и не отвечал ни на один из тех вопросов, на которые Генри Морган так жаждал получить ответ. Поведение кавалерийского офицера было загадочным. Взяв с Моргана честное слово, он требовал, чтобы тот немедленно отправлялся в отведенную ему комнату на многочисленных почтовых станциях. Похоже, он боялся появления других соглядатаев, вроде человека, встреченного в порту. Очевидно, больше всего майора Тернбулла заботило, чтобы никто не узнал загорелого лица его пленника, потому что каждый раз при приближении к какой-либо деревушке он плотно задергивал занавески на окнах кареты и приказывал четырем драгунам приблизиться. — Никогда не знаешь, что может случиться, — однажды обмолвился он. Зачем так мчаться, чтобы запрятать его в Тауэр? Моргана это удивляло, потому что, скорее всего, судебный процесс над ним будет всего лишь профанацией. Карета пробиралась сквозь запутанные переплетения улочек. За занавесками раздавались голоса, и несколько раз на лицо пленника падали красноватые блики от факелов, которые несли слуги впереди экипажа какого-нибудь богача. Каким огромным должен быть Лондон, раз карета так долго едет по улицам. Морган сложил руки на груди. Он отощал, живот у него подтянулся, как в былые времена, когда его в гичке сначала долго носило по волнам, а потом выбросило на берег Эспаньолы. Морган подумал, что сбросил половину прежнего веса со времени своего ареста. Наконец карета повернула влево, съехала с грязных булыжников на ровный, утоптанный двор. Откуда-то донесся громкий звук закрываемой железной двери. В этот момент майор Тернбулл выпрыгнул, отворил дверь кареты, которая остановилась прямо перед резным порталом и отделанной бронзой дверью. — Выходите, полковник, — тихо распорядился он, — и быстро проходите внутрь. После тьмы, царившей в карете, Моргана ослепил поток яркого света, который вырвался из высокой двери. Ему пришлось на ощупь нашарить ступеньки кареты ногой. Майор Тернбулл предупредительно подал ему руку. С плоской шляпой без перьев, прикрывавшей его давно не мытую голову, Морган, все еще щурясь, перешагнул через порог и решил, что у него началась белая горячка. Его уши оглушили звуки музыки и женский хохот, а в воздухе плыл запах табака, вина и вкусной еды. Чтобы успокоиться, заключенный, не отрывая глаз, уставился на свои растоптанные, грязные туфли. — Гарри! Слава Богу! — Подняв глаза, он увидел прямо перед собой лицо сэра Томаса Модифорда. Он совсем не был похож на висельника. Наоборот. Модифорд выглядел элегантно в тщательно завитом парике, накрахмаленной шелковой рубашке, ярко-оранжевом сюртуке с серебряными пуговицами, голубых сатиновых бриджах и красных туфлях на высоких каблуках. Он бросился вперед и обнял своего друга. — Слава Богу, ты в безопасности. Мы боялись, что испанская партия попытается перехватить тебя в пути. Отличная работа, Тернбулл. Из облака табачного дыма выступило еще полдюжины пышно разодетых фигур. С радостной улыбкой на тощем лице Модифорд показал на красивого юношу лет девятнадцати. — Милорд Альбемарль, могу я представить вам главного козла отпущения в хитросплетении интриг леди Кастлмейн? Леди и джентльмены, позвольте представить вам доблестного адмирала Генри Моргана, которого заслуженно прозвали «Сокрушителем испанцев», покорителя Порто-Бельо, Маракайбо и Панамы! Тупо моргая, слишком ошарашенный, чтобы поверить в реальность происходящего, Морган; стоял словно окаменевший, — грязная серая фигура среди раззолоченной толпы. Наконец он выдохнул: — Том, неужели это и правда ты? — Да, Гарри, и я горжусь, что мне выпала честь, встречать тебя. — Но… но я думал, что ты сидишь в Тауэре… — Я и сидел, — рассмеялся Модифорд, — но пока война с голландцами идет успешно, мы с тобой в безопасности. Испанцы не посмеют поддержать голландцев против Франции и остальных. Мужчины и женщины, обладатели пышных титулов, многие из которых Морган никогда не слышал раньше, подошли поближе и протягивали ему мягкие, великолепно ухоженные руки. Лорд Альбемарль свежим молодым голосом звучно произнес: — Мы и правда рады приветствовать величайшего солдата Англии на море со времен сэра Френсиса Дрейка. Надеюсь, что скоро мы сможем публично воздать вам почести. Раздались приветственные крики, и кто-то сунул Моргану в руку изящную золотую рюмку. Все еще не в силах поверить, что это не галлюцинация, он выпил и облизал губы. — Благодарю вас за теплое приветствие, джентльмены и леди, но я мог бы полнее насладиться вашим обществом, если бы не был так оборван и если бы от меня не пахло, как от торговца рыбой из Ньюгейта. Альбермарль кивнул. — Давайте вернемся в залу, а адмирал пока приведет себя в более подобающий его славе вид. Сэр Том, вы проводите нашего друга? Модифорд повел Моргана по широкой, залитой светом лестнице со словами: — У меня для тебя есть несколько сюрпризов, в том числе и приятных. Сквозь открытые двери спальни, залитой светом восковых свечей, Морган увидел полотенца, мыло, готовую оловянную ванну и — о, чудо из чудес — свой собственный сундук с одеждой! Модифорд хлопнул его по плечу. — Да не смотри ты так. Твоя жена выслала одежду и кругленькую сумму денег на корабле, который плыл побыстрее, чем «Желанный». Она отправила их с северного побережья, хотя могла бы послать и прямо из Порт-Ройяла. С удовольствием скинув грязную одежду, которую он не снимал почти четыре ужасных месяца, Морган глотнул еще вина и заявил: — Черт меня побери, если я понимаю, зачем была нужна закрытая карета, охрана и все такое. Модифорд посерьезнел. — Просто потому, что у испанского посла в Спитхеде есть шпионы и на дороге тоже. Если бы с тобой не обращались как с опасным преступником, которого везут на суд, то де Молина услышал бы об этом и поднял бы вой до самых небес. Как я уже говорил, мы в безопасности только на время. Бывший губернатор принялся объяснять, стараясь говорить понятнее, какие сложные интриги определяли жизнь европейских дворов. Гинсон подошел к огромной кровати и деликатно прокашлялся, прежде чем отдернуть тонкие шелковые занавески. Адмирал все еще спал, поэтому слуга снова откашлялся, а потом еще раз и наконец произнес: — Адмирал, сэр, почти десять утра, и ваш врач ждет. Поскольку спящий все еще не просыпался, то Гинсон тронул хозяина за плечо и шарахнулся в сторону, потому что Морган подпрыгнул, словно развернувшаяся пружина, и схватил его за запястье. — Отпустите меня, пожалуйста, сэр. Это я, Гинсон. — Гинсон? — Морган еще не проснулся и таращил глаза, поддергивая спадавшую с плеч ночную рубашку. — Ох, ох! Уйди, ради Бога. У меня голова просто раскалывается. — Как хотите, сэр, но ваш врач ждет. — Он все еще здесь? А? А разве гости еще не разошлись? — Да, сэр, кроме сэра Гарри Пауэрса, его светлости герцога Сомерсетского, и… э… графини Брэйн. — Проклятье! Я что, никогда от них не избавлюсь? — Он замолчал, потому что зевнул с риском вывихнуть челюсть. Боже! Как тут холодно. — Гинсон, давай одеваться. Знаешь, я все бы отдал, чтобы снова почувствовать тепло ямайского солнца. Слуга подал ему фланелевый халат с воротником из куницы. — Между прочим, заходил портной и поставщик свеч. — Заплати. Заплати им. — Морган яростно закашлялся. — Извините, сэр, мистер Барр говорит, что у нас нет средств. Морган вытаращил глаза. — Этого не может быть! Ведь только в последнем месяце я получил восемь тысяч фунтов. Гинсон попятился. — Я не знаю, сэр, но так сказал мистер Барр. Морган снова зевнул и потряс гудевшей головой. — Боже Всевышний! Разбили много? Гинсон подал оловянный таз с горячей водой, от которой шел пар. — Боюсь, сэр, что ваши гости вели себя не слишком вежливо. Две дамы чуть не подрались, хотя джентльмены их растаскивали. Леди Чартерис упала и, падая, сорвала розовые занавески из Дамаска, а милорд Беркли свалился на хрустальную чашу для пунша и разбил ее вдребезги. Морган снова закашлялся так, что на лбу у него выступили вены. Когда приступ кашля прошел, то он горько пожаловался Гинсону: — Эта чаша стоила мне сто гиней. А во сколько мне обойдется этот скандал? — Мистер Барр, говорит, что примерно в тысячу фунтов, сэр. — Господи! Это конец, Гинсон. Ничего не остается делать, как подавать петицию о помиловании его величеству. Я не могу два года ждать суда и жить при этом на свой счет. Еще несколько месяцев — и я окажусь полным банкротом и к тому же заболею. А теперь иди и позови врача. Хуже от него не будет, а проклятый ревматизм может пройти. Босиком он прошелся по комнате, подошел к окну и посмотрел на плотный туман и коричневый смог, который стелился по улице Кларж. Внизу плелся ободранный продавец угля, издавая безнадежные унылые вопли. За ним прошел трубочист и точильщик ножей. Потом проскакал человек в сером длинном плаще. Из окна второго этажа он смотрел на нескончаемые ряды дымовых труб, извергающих грязно-коричневый дым. Его охватило уныние, которое только усугубляло известие о том, что война с голландцами затянулась и дела идут из рук вон плохо. Неудивительно, что де Ронкильо, новый испанский посол, ведет себя все более заносчиво, потому что он прекрасно знает, что его величество Карл II практически разорился и поэтому вынужден любыми способами избегать войны с Испанией. Да, с момента неудачной битвы в бухте Сол 27 мая 1672 года над ним снова нависла тень виселицы. Он и Модифорд вскакивали при любом внезапном стуке и ждали, что за ними вот-вот придут солдаты. Морган уселся в кресло и снова почувствовал дергающую ревматическую боль в ногах. Раздался осторожный стук, и он пригласил нового врача войти. На пороге возникла фигура в простом темном сюртуке с белым воротником и круглой шляпе с темно-красным пером. — Боже мой! Да это же Дэйв Армитедж! И виргинец навсегда запомнил, как просияло лицо адмирала, как он бросился к нему с распростертыми объятиями и обхватил его за плечи. — Я рад тебе, как тропическому солнцу. Гинсон, чертов дурень, почему ты не сказал мне, что это доктор Армитедж? Слуга низко поклонился. В последнее время характер его хозяина сильно изменился к худшему, он стал чертовски вспыльчивым. — Но, сэр, я был не уверен… — А сейчас будь уверен, что тебе надо спуститься вниз, — пророкотал Морган, — и принести лучшего бренди, которое у нас еще осталось! А теперь, Дэйви, рассказывай, как твои дела. Армитедж поставил на пол чемоданчик с медицинскими принадлежностями и широко улыбнулся. — Конечно, Гарри, я слышал о том, что ты приехал, но в прошлом году я еще учился в Эдинбурге. И только вчера доктор Гарвей обратился ко мне, чтобы я помог ему разобраться в твоей болезни. — Холера побери мою болезнь! А как твоя учеба? — Превосходно. — Армитедж поморщился, расстегивая пряжку на плаще темно-зеленого цвета. Морган нахмурился. — Значит, те мучения, которые выпали тебе на долю в Панаме, все еще напоминают о себе и причиняют тебе боль? Врач криво усмехнулся. — Да. Я никогда уже не смогу отвести руки назад или поднять выше плеч, не вспомнив при этом заботливого обхождения святой инквизиции. А как твои дела? — С тех пор как я сошел на берег, меня замучил кашель. А еще у меня подагра. — Он показал багрово-красную, блестящую и слегка распухшую ногу. Армитедж улыбнулся. — Пить и есть в два раза меньше, и подагра пройдет. — Как я могу пить и есть меньше? Меня приглашают на все вечера и собрания, и я не могу отказываться, потому что тогда потеряю друзей, которые могут мне понадобиться во время проклятого процесса. — И ты до сих пор не знаешь, когда состоится суд? — Мне сказали, что меня выслушает не суд, — уныло сообщил Морган, — а совет лордов Торговой палаты. К сожалению, там у меня полно врагов. А как насчет кашля? — Единственное лекарство — отдых и солнце. Разве ты не можешь проехаться в Корнуолл или Девон? Ты и вправду болен, Гарри; нельзя допустить, чтобы бронхит стал хроническим. — Это невозможно, — объяснил Морган. — Я дал слово не покидать Лондон. Поджав губы, Армитедж извлек из чемоданчика эликсиры, порошки и травы и начал смешивать их в маленькой ступке. — Гарри, ты был в Бристоле? — Да. Именно оттуда я отправился, — скривился Морган, — покорять Индию для его королевского величества. — А ты не помнишь даму по имени Пруэтт? Морган резко повернул голову. — Пруэтт? Боже мой, девушка по имени Анни Пруэтт спасла меня от сторонников Кромвеля. Откуда ты ее знаешь? Она в Лондоне? Армитедж с улыбкой поднял на него глаза. — Она была дочерью хозяйки таверны, правильно? — Да, и у миссис Пруэтт оказалось такое крепкое испанское вино, что я славно искупался в нем. А что с Анни? — Ты, наверное, огорчишься, но Анни и ее муж умерли от холеры в шестьдесят пятом году. Морган помрачнел. — Умерли! Анни была славной девочкой, Дэйви. Я любил ее и подарил ей кольцо. Армитедж порылся в кошельке и вытащил кольцо с печаткой. — Это? — Да, клянусь Господом! Разве ты не узнаешь моего геральдического грифона? Откуда у тебя это? — У Анни и ее мужа был сын, он сейчас в море с флотом принца Руперта, да хранит его Господь, и дочь — она замужем за добропорядочным молодым членом гильдии торговцев мануфактурными товарами по имени Бристед. Не так давно я вправлял ему руку. Миссис Бристед поведала мне, что ты в Лондоне, и заявила, что ее мать часто и с любовью рассказывала о тебе и ценила кольцо больше всего на свете. Морган тщетно пытался надеть кольцо на палец. — Похоже, я здорово растолстел, поэтому верни его и передай ей, что я пришлю ей жемчужину, когда прибудет следующий корабль с Ямайки. Морган проглотил приготовленное Армитеджем снадобье и удрученно заявил: — А теперь мне нужно одеваться. Его высочество милорд Бэкингем дает прием в честь мусульманского посла, а раз турки ненавидят испанцев, то мне надо быть. Когда ты еще зайдешь? — Через два дня, — ответил Армитедж с широкой улыбкой. — Будет приятно поболтать о былом, и, Гарри, я все еще хочу поблагодарить тебя за ту долю панамской добычи, которую я не заработал. — Приходи почаще, прошу тебя, — взмолился Морган. — У меня полно знатных знакомых, но чертовски мало друзей. Казалось, холодная, сырая зима 1672/73 года тянулась вечно, и королевские финансы пришли в такое состояние, что банкиры и сборщики налогов были вынуждены выпустить извещение о «Приостановке платежей», обещая кредиторам выплаты когда-нибудь в далеком будущем. Кроме того, дела на войне пошли так плохо, что полумиллионное население Лондона тряслось от страха при мысли, что они могут снова услышать грохот голландских пушек в Мидвее. Морган с готовностью предлагал свои услуги, но в ответ на это лорды адмиралтейства постоянно притворялись глухими. Конечно, сейчас нечего было торопиться с судом. Доктору Армитеджу постепенно удалось облегчить приступы кашля у своего пациента, после чего он постепенно начал полнеть. Здоровье Моргана начало поправляться еще и потому, что его дом на улице Кларж больше не служил местом сбора бездельников из высшего света. Корабли с Ямайки привозили тоскующему по дому адмиралу все меньше и меньше денег. Снова какое-то заболевание уничтожило плантации какао, как писала ему Мэри Элизабет, а сахарный тростник в этом году пострадал от катастрофического нашествия крыс. Поэтому Моргану постепенно пришлось рассчитать своих слуг, а потом продать карету и четверку лошадей. «Когда же, любимый, — спрашивала Лиззи, — ты предстанешь перед судом? Твои друзья здесь, на Ямайке, постоянно просят своих родственников и друзей при дворе помочь тебе». Но ситуация не менялась, и почтительное прощение Моргана на имя короля, в котором он просил не откладывая организовать судебный процесс или назначить ему пособие, на которое он мог бы жить, осталось без ответа. В мае поступили сообщения о двух морских сражениях у Сконвельда, в которых соединенный, английский и французский, флот получил изрядную трепку от превосходящих сил противника, которыми командовали два грозных голландца, де Риттер и Ван Тромп. Эти сражения принесли пользу только в одном отношении — они показали англичанам, насколько бездарными оказались адмиралы Людовика Французского. Они трусливо избегали решительных действий, пока их не вынуждали к этому. КАБЭЛ *["426] — членами которого являлись лорды Клиффорд, Арлингтон, Бэкингем, Эшли и Лаудердейл, развязавший третью войну против голландцев, — понял, что власть ускользает от него, и Морган находил в этом слабое утешение. Как только испанцы убедятся в том, что Англия проигрывает эту войну, они немедленно потребуют расправы над человеком, который разграбил Панаму. К этому моменту он уже начал постепенно разбираться в политике Уайтхолла и, что было еще более важно, в тех пружинах, которые ею движут. Теперь он знал, на кого и как ему надо повлиять. И каждый непогожий день, а таких было много, он вспоминал Ямайку и ту империю, основы которой он заложил. Как человек практичный, он понимал, что бессмысленно надеяться, что королевская власть, по горло увязшая в смертельной схватке с голландцами, вышлет корабли или людей для того, чтобы навсегда уничтожить шаткое господство Испании. Поэтому он думал, переживал и беспокоился за свою безопасность. Впрочем, это беспокойство не мешало ему немало времени проводить с красивой и совершенно безнравственной леди Делицией Ноуэлс, которая во многом напоминала Карлотту, только волосы у нее были черные как смоль.Глава 2 ВОЗРОДИВШИЙСЯ ГРИФОН
В честь кровавого и только частично успешного сражения при Текселе сэр Томас Осборн послал гонца на улицу Кларж с приглашением полковнику Генри Моргану оказать ему честь своим присутствием на балу. — Лучше вам принять это приглашение, — посоветовал ему его светлость Альбемарль. — Я знаю из достоверных источников, что туда собирается пожаловать сам король, а для вас, мой друг, очень важно встретиться с его величеством неофициально, познакомиться с ним и разрушить планы испанской партии. Предложить Генри Моргану место в собственной великолепной карете было достаточно смелым шагом со стороны юного Альбемарля, потому что о подобной дерзости немедленно будет доложено послу его католического величества короля Испании. Какое-то смутное шестое чувство подсказывало Моргану, что этим вечером решится его судьба. Сейчас, когда голландцы оказались почти разбиты, испанцы сменили тактику. Альбемарль мрачно сообщил ему, что они согласны заключить союз с Англией на двух условиях: во-первых, придать католицизму статус государственной религии, а во-вторых — казнить Моргана. Идальго из Мадрида не забыли и не простили ему тех сокрушительных ударов, которые он нанес по кастильскому могуществу. В сумерках экипаж милорда под проливным дождем свернул на улицу Кларж. Карета сразу бросалась в глаза, потому что была отделана золотом с голубой эмалью. Она немедленно стала предметом восхищенного внимания прохожих. — Господи! Только гляньте на эти золотые украшения, — вздохнул помощник мясника. Когда знакомая широкоплечая фигура появилась на ступеньках, раздалось всего несколько приветственных криков — война с голландцами принесла с собой новых и более современных героев. — Ура адмиралу Моргану! — заорал пекарь, которому Морган был должен какую-то пустячную сумму. Если пират с Ямайки добьется успеха при дворе, то он заплатит. — Когда ты снова разгромишь испанцев, Гарри, как в Панаме? — пропищал мальчишка-посыльный, восторженно глядя на него, несмотря ни на что. Лошади герцога фыркали и пятились назад, невзирая на все усилия пышно разодетых грумов. Пара лакеев бросились, чтобы опустить подножку кареты. Генри Морган являл собой блестящее зрелище. На нем был светло-голубой с золотой отделкой костюм и огромные серьги с жемчугом в ушах. Он задержался на подножке и воскликнул: — Кто из вас, ребята, хочет отправиться на Ямайку? Кто хочет завоевать сокровища Нового Света? — Я! Я! Меня возьмите! — раздались возбужденные голоса, и небольшая кучка людей еще долго кричала вслед карете Альбемарля, которая, подпрыгивая на ухабах, удалялась по улице Кларж в сторону Темзы. За оградой из крепких железных прутьев, которая окружала двор внушительного каменного дома сэра Томаса Осборна, собралась плотная толпа простых горожан, которые перешептывались и от всей души наслаждались зрелищем сбора нарядных гостей. С помощью ливрейных лакеев на запятках кареты и кнутов, которыми ловко орудовали два загорелых кучера, голубой с золотом карете удалось подобраться ближе к подъезду, чем экипажам и повозкам менее знатных персон. Ряд факелов в железных петлях, укрепленных на перилах и сочащихся смолой, заливали все вокруг смутным оранжевым светом, придавая теплый оттенок резиденции будущего графа Денби. Может ли Осборн что-нибудь предпринять для того, чтобы раз и навсегда покончить с проклятым судом? Действительно ли здесь будет его величество? Когда Морган вошел в дом, на него обрушился водопад запахов, голосов и музыки. Он инстинктивно схватился за рукоятку шпаги, которая хоть и была очень прочна, но все-таки ей не хватало смертельного размаха и точности, присущих палашу. Повсюду в доме горели толстые высокие свечи, и от разноцветных жирандолей и подсвечников по залам тянулись полосы света. Постепенно Морган приободрился, увидев нескольких знакомых, но его немного обескуражило то, что лишь немногие из них ответили на его поклон, и еще меньше оказалось тех, которые рискнули с ним заговорить. «Или мои дела настолько плохи, или им просто надоело возиться со вчерашним героем? Ба! Да плевать на них. Эти щеголи и франты снова примчатся с воплями и будут вертеться вокруг, как только я затяну очередной узел на шее испанцев», — подумал Морган. Он не зря гордился своим экстравагантным костюмом. Хотя его одежда не отличалась таким великолепием, как сюртуки известных лордов, например лорда Клиффорда, герцога Ратлэнда или послов различных стран, но жемчуг у него в ушах и блестящие на коротких пальцах рубины были намного богаче драгоценностей других гостей. Графиня Линкольн, любопытная и злая старуха, — но его хороший друг, — поманила Моргана костлявым пальцем. — Ха! А вот наконец и Генри! Идите сюда, леди. — Она подозвала нескольких густо накрашенных фрейлин. — Вы должны помочь мне очаровать нашего доблестного Сокрушителя испанцев! Морган уже собрался ответить, когда появился сэр Томас Осборн, само изящество и любезность. Этот тщеславный джентльмен был в восторге от того, что под его крышей собралось столько именитых и прославленных людей. — Прошу вас, друзья мои, — позвал он, — пройти в бальный зал; Грейс Хортон, образец юной красоты и невинности, будет декламировать стихотворение. — Лопни мои глаза, ну и красотка! Чья она? — спросил за плечом Моргана какой-то человек с багровым носом и лицом сатира. — Эта милашка из сераля его милости Монмута, — сообщил ему ледяной женский голос, — поэтому, сэр Джозеф, смотрите-ка лучше в другую сторону. Слуги в ливреях разносили пирожные, сладости и конфеты, когда мажордом сэра Томаса дал знать, что в столовой накрыт великолепный стол. Когда Морган уже двинулся в столовую, чья-то рука опустилась ему на плечо, и голос Альбемарля прошептал: — Пошли. Приехал король. Быстрее, быстрее, пока эти болтливые мартышки ничего не пронюхали. Морган глубоко вздохнул и почувствовал себя почти так же, как в тот момент, когда он возглавил отряд на правом фланге на равнине Матанильос в Панаме. «Черт тебя побери, Гарри, — сказал он самому себе, — наконец ты предстанешь перед твоим королем, перед его величеством Карлом Стюартом, которому ты верно служил и за которого сражался много лет. Шевели мозгами, парень, и если будешь говорить, то говори то, что тебе на пользу». Но все равно ветеран Порто-Бельо и Панамы задрожал как молоденький рекрут; на лбу у него проступил пот и потек из-под парика вниз на широкий кружевной воротник. Когда они подошли к красивой резной дубовой двери, Альбемарль повернулся, и от него пахнуло ликером и табаком. — Смелее, Гарри. Его величество любит храбрых парней. Когда Альбемарль закрыл за ним дверь, шум и говор гостей стих, и Морган понял, что в маленькой библиотеке находятся всего лишь четыре человека: лорды Бэкингем и Альбемарль, вошедший вместе с ним, сэр Томас Осборн и Карл Стюарт, который сидел, непринужденно перекинув одну ногу через ручку алого бархатного кресла, и дожевывал кусок холодного пирога с говядиной. Морган застыл на месте, и в это мгновение в его памяти навсегда отпечатался портрет монарха, который он не забудет до самой смерти. К его удивлению, король оказался среднего роста, с тяжелыми, вытянутыми чертами довольно смуглого лица, которое выгодно оживляли блестящие темные глаза. Карл Стюарт был без парика, и в его иссиня-черных волосах уже показалась первая седина. Стройный, словно двадцатилетний мальчик, король далеко вытянул длинные, затянутые в темно-красный шелк ноги. — Сир, — низко поклонился Альбемарль, — я имею честь представить вашему величеству самого победоносного адмирала, который ни разу не потерял корабль и не проиграл ни одного сражения, который не стоил вашей казне ни цента, но шесть раз наполнял ее золотом. Карл выпрямился на стуле и вытер рот салфеткой. Когда король встал, Морган вспыхнул, словно школьник, упал на одно колено и склонил голову. — Черт, Кристофер, хотя ты и не назвал этого джентльмена по имени, — у монарха оказался звучный и высокий голос, — у нас есть только один подданный, который подходит под это описание. Адмирал Морган, встаньте, пожалуйста. — И Карл протянул руку. У Моргана сдавило горло, так что он не мог произнести ни слова из заготовленной речи. Но он твердо взглянул в повеселевшие глаза монарха. — Ваше… Ваше величество, я польщен оказанной мне честью. Карл ободряюще улыбнулся, обнажив желтые, редкие зубы. — Из-за проклятой политики мы не можем принять вас в Уайтхолле подобающим образом, но вы не должны считать, что мы не оценили по достоинству ваши великие дела. Да, адмирал, если бы не дон Педро де Ронкильо, последний подонок, которого наш испанский кузен прислал, чтобы шпионить за нами и строить козни, мы бы доказали вам нашу благодарность не только тем, что спасли от виселицы вас и сэра Томаса Модифорда. Морган рассмеялся. — Простите, сир, я оговорился. Но я действительно предпочитаю избавиться от веревки и, после естественной смерти, гнить в великолепном склепе в аббатстве. Карл Стюарт и другие громко расхохотались, найдя такое заявление весьма забавным. Король жестом пригласил Моргана присесть к столу. — Ну, адмирал, мы прочли ваши донесения о Порто-Бельо и Панаме. Скажите, — он неожиданно подмигнул, — разве испанцы не говорили вам, что между нашими правительствами был подписан мир? И Морган не смог удержаться, чтобы не подмигнуть в ответ. — Сир, доны, конечно, говорили, но ведь вы, ваше величество, знаете, что это за отъявленные лгуны! И снова Карл Стюарт рассмеялся. — Отлично! Просто отлично! Вы запомнили, Джордж? А вы, Кристофер? Конечно, вы правы, адмирал, и испанцы чаще всего лгут, но мы не можем сказать им это в лицо, или можем? Скажите нам, — потребовал король, — сколько надо войск, чтобы сломить власть испанцев в Вест-Индии? Морган почувствовал, как на него накатила теплая, ослепительная волна. Наконец! Наконец! Он уже набрал воздуха, чтобы ответить, когда в дверь громко постучали. — Прибыла ее светлость герцогиня Портсмутская и просит аудиенции у его величества. Король нахмурился. — Пожалуйста, скажите ее светлости, что мы немедленно ее примем. А что касается вас, адмирал, имейте терпение, и мы поговорим об этом в другой раз. — Он наклонился вперед и дотронулся пальцем до своего длинного прямого носа. — Хочу предупредить, адмирал, что этот де Ронкильо ненавидит вас даже больше де Молины и твердо решил избавиться от Гарри Моргана. Поэтому, наш добрый и верный подданный, берегитесь этого посла, которого мы знаем как отъявленного мерзавца и который готов напакостить нам при первой же оплошности с нашей стороны. Как заботливый хозяин, сэр Томас Осборн вначале прошел в бальную залу, убедился, что стража расставлена по местам, а потом вернулся и произнес: — Дорога свободна, ваше величество. Карл Стюарт обернулся и поманил за собой Моргана: — Пойдемте, адмирал, хотя мы не можем выказать вам благодарность публично, но, по крайней мере, можем показать всем, что мы виделись наедине. Морган вспыхнул и встал на шаг позади короля. Вслед за ним он вышел в ярко освещенную бальную залу. Монарх не сделал и трех шагов в освободившемся перед ним пространстве, как неожиданно прошептал: — Черт! Вот уж некстати. Король так резко остановился, что Морган, не успев отреагировать, выскочил вперед. Он услышал, как Бэкингем ахнул: — Боже Всевышний, здесь испанцы! Так получилось, что когда король и Морган появились с одной стороны прохода, с другой выступил высокий угрюмый человек с острой рыжей бородкой, в старомодном сборчатом воротнике. На маркизе де Ронкильо был черный костюм и золотистый плащ с крестом Сантьяго. Посол надменно поклонился королю Карлу, выпрямился и только тогда заметил Генри Моргана, стоящего рядом со своим монархом. Сухое лицо де Ронкильо вначале покраснело, потом побагровело, и по бальной зале пронесся тревожный шепот. Немедленно два камергера выступили вперед и загородили Моргана, но тот все же успел повернуться к послу и бросить на него такой же злобный взгляд. Сэр Томас Осборн в отчаянии махнул музыкантам. И те поспешно заиграли быструю мелодию. Когда по блестящему полу заскользили многочисленные пары, к Моргану подошли два морских офицера. — Лучше вам проявить осторожность и уехать пораньше в сопровождении кого-нибудь из друзей, — предупредил его один из них. — Де Ронкильо был смертельно оскорблен. Конечно, это частный вечер, а не официальный прием. Но для дона это был настоящий удар — увидеть, как вы вместе с его величеством вышли из библиотеки сэра Томаса, словно добрые старые знакомые. — Большое спасибо, друзья, — громко ответил Морган, стараясь, чтобы его услышала свита посла. — Я буду осторожен, хотя, клянусь Богом, с удовольствием прищемил бы чересчур любопытные испанские уши. Ранней осенью 1674 года уже можно было подводить итоги третьей войны с голландцами. Объединенные государства Нидерландов хотя и вели героическую оборону, но были практически оккупированы превосходящими по численности военными силами Франции. Они теряли рынок за рынком, уступая место капитанам торговых кораблей Британии, поэтому в пустых сундуках казны его королевского величества снова стали позвякивать золотые монеты. Искреннее недовольство, вызванное поражением французов при Сконвельде и Текселе, практически уничтожило когда-то прочный англо-французский альянс. В результате Людовик Четырнадцатый оказался прочно прикованным к суше, а английские военно-морские силы получили свободу наносить удар туда, куда их направит герцог Йоркский. Испания, управляемая раздражительной королевой-регентшей и мальчиком-королем, со злобным испугом наблюдала за этим неожиданным воскрешением британской мощи. Генри Морган тоже замечал наметившуюся тенденцию. Об этом ему рассказывали простые матросы в грязных трактирах, и об этом же говорили в изящных кофейнях вроде «Радуги» или его любимого «Дома ямайского кофе». Капитаны принца Руперта, вернувшиеся из плавания, охотно делились новостями. Леди Делиция с мягкими, певучими интонациями могла рассказать ему и рассказывала о том, какие товары провозят через королевскую таможню. И наконец полковник Генри Морган — с 1671 года он официально не являлся адмиралом — предстал перед советом лордов Торговой палаты, чтобы оправдать свои действия и, как следствие, свою жизнь. К удивлению многих присутствующих, защитник представил в качестве вещественного доказательства собственноручное письмо злейшего врага обвиняемого сэра Томаса Линча, в котором он писал: «Говоря по правде, Морган — смелый и честный малый». Не меньшее впечатление произвели хвалебные отзывы от Вильяма Моргана из Тредегара и теперь уже генерал-майора Баннистера, командующего вооруженными силами Ямайки. Потребовалось всего два коротких заседания, чтобы благородные лорды вынесли решение: полковник Морган атаковал Панаму, подчиняясь приказу; он не получал письменного уведомления о мире и действовал в этой войне вежливо, разумно и лояльно. Когда был оглашен оправдательный вердикт, то благородные лорды сгрудились вокруг крепкого кареглазого завоевателя, трепали его по плечам и обещали ему любую поддержку; но Морган уже давно обращал на их обещания мало внимания. Во время пребывания в Лондоне он научился ни в грош не ставить слова политиков, но при этом всегда оставался вежлив. Когда о вердикте стало широко известно, то перед домом на улице Кларж снова собрались восхищенные толпы и дюжина бывалых, но временно безработных армейских и морских офицеров, которые хотели бы отправиться на службу в Индии. Генри Морган где-то простудился в эти последние ноябрьские дни и сидел, кутаясь в шерстяной плед. От постоянной лондонской сырости у него ныл позвоночник. И в этот момент, словно вестник несчастья, перед ним возник высокий полковник кавалерии. — Полковник Морган, следуйте за мной, — произнес он. — Но, — запротестовал валлиец, — у меня сейчас много дел. — Дела могут подождать, и им придется подождать. Пожалуйста, наденьте плащ, сэр, и пойдемте. По спине Моргана пробежала дрожь сильнее, чем от ноябрьской сырости и холода. Дьявол побери такую жизнь! Он арестован? Проще угадать, где опустится пушинка, которую несет ураганом, чем предсказать судьбу политического деятеля. — Куда мы направляемся? Я бы хотел одеться соответствующим образом. Полковник покачал головой. — Я не имею права раскрыть вам место нашего назначения. Я получил приказ от коменданта Тауэра, и вы должны следовать за мной. Морган медленно выбрал плащ и шляпу: его худшие опасения начали сбываться. Когда он взялся за меч, полковник предупредил его: — Оставьте. Там, куда мы направляемся, он вам не нужен. Его ждала лошадь в окружении закованных в кирасы драгун. Сжав губы, Морган уселся в седло. Полковник отдал резкую команду, и мрачная кавалькада направилась к Тауэру. Морган раскашлялся от холодного ветра, дувшего с реки. «Да, в Панаме было веселее», — подумал он, глядя на забрызганные плащи кавалеристов, которые, в такт скачке, мерно вздымались и опадали перед его глазами. Полковник перевел коня на рысь, и под звяканье сабель и звон шпор его отряд сделал то же самое. У реки туман был гуще; скоро Морган уже не мог сообразить, где они находятся. Кавалькада постепенно перешла на шаг, а потом остановилась перед холодной железной оградой, выступающей из тумана словно черные кости скелета. Полковник спешился, борода и брови у него были влажными от сырости. — Слезайте с коня и идите за мной. Морган повиновался, почти механически перебросив поводья драгуну. Заметив, что стража наблюдает за ним, он гордо поднял голову и постарался держаться с достоинством. Никто не скажет, что Гарри Морган из Лланримни дрожал от страха и распускал сопли, когда решалась его участь. Они запомнят, что он шел гордо, потому что совершил великие дела. Над ним во мраке возвышались высокая стена и угловая башня со множеством амбразур. Под огромной аркой по приказу полковника отворилась тяжелая, с железными засовами дверь. Офицер, позвякивая шпорами и топая сапогами, шел по мрачным коридорам, в которых гуляло эхо, а стены блестели от сырости. Морган следовал за ним. Они поднялись по узкой лестнице, насквозь продуваемой ветром, и вступили в длинную галерею, куда туман заползал сквозь узкие стрельчатые окна. Чтобы продемонстрировать полнейшее равнодушие к своей судьбе, Морган не спешил вслед за кавалерийским офицером и дважды заставил его подождать, вызывающе глядя ему прямо в глаза. Наконец перед ними оказалась обитая кожей дверь. Начальник охраны снял шлем и, тяжело дыша, постучал. Дверь распахнулась, за ней оказалась комната с высокими потолками, освещенная двумя большими каминами. Морган замер на месте, когда у ближайшего камина заметил знакомую фигуру. — Ваше… Ваше величество! — воскликнул он. — Но… я считал… Карл рассмеялся. — Мы видим, что полковник Пойндекстер отлично выполнил наши приказания. Приветствуем вас, полковник Морган. Погрейтесь у огня. Оглядевшись, Морган узнал нескольких лордов Торговой палаты и секретаря мистера Уильямсона, который был очень похож на аиста из-за своего длинного красного носа. Принца Руперта он узнал по портретам, так же как и юного герцога Монмута, старшего незаконнорожденного сына Карла, очень похожего на отца. Там же находился и Альбемарль и Бэкингем. Они широко улыбались. Неожиданно они отступили назад, а Морган остался стоять посреди комнаты, в простой одежде, с взлохмаченным париком на голове. Король изящно отпил глоток из кувшина с горячим элем с пряностями, а потом улыбнулся. — Мы давно восхищаемся вашей неподдельной храбростью, полковник, и вашей преданностью, а еще больше — терпением, с которым вы вынесли то, что должно было казаться вам неблагодарностью и забвением. Карл повернулся к своему кузену принцу Руперту. — У тебя превосходный меч, не одолжишь ли мне его на минутку? Прославленный генерал улыбнулся, вытащил украшенное драгоценными камнями оружие из ножен алого бархата и подал его королю левой рукой, держа меч рукояткой вперед. — Спасибо, кузен. — В мерцающем огне каминов Карл Стюарт выглядел поистине царственно. Он провозгласил громким, чистым голосом: — Подойдите, Генри Морган с Ямайки, и преклоните колени. В голове Моргана разом пронеслось десять тысяч мыслей и воспоминаний. — Этого не может быть, — прошептал он. — Это плод моего воображения. В этот момент он уже опустился на правое колено и почувствовал, как меч Руперта легко коснулся сначала одного, а потом другого его плеча. Словно издалека до него донесся голос Карла Стюарта, который произнес: — Встаньте, сэр Генри Морган, вице-губернатор Ямайки.ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1635 год Рождение Генри Моргана. 1653 год Морган на Барбадосе. 1658 год Генри Морган перебирается на остров Тортуга. 1664 год Появление Моргана на Ямайке, где вице-губернатором назначен его дядя. 1664-1665 годы Первые экспедиции Генри Моргана. 1666 год Совместная, с Эдвардом Мэнсфилдом, экспедиция. Захват острова Санта-Каталина (ныне Провиденсия). 1667 год Моргана избирают адмиралом флибустьеров. 1668 год Генри Морган громит испанские поселения Пуэрто-дель-Принсипе и Порто-Бельо (Портобело). 1669 год Морган опустошает побережье Венесуэлы и грабит испанские города Маракайбо и Гибралтар. 1670 год Морган назначен главнокомандующим всеми английскими морскими силами на Ямайке. Война с Испанией. 1671 год Панамский поход Генри Моргана. 1671 год Арест Моргана и губернатора Ямайки Томаса Модифорда. Обвинение их в пиратстве. Морган в Англии. 1674 год Морган прощен королем Карлом II Стюартом, посвящен в рыцари и назначен вице-губернатором Ямайки. 1675 год Возвращение на Ямайку. 1681 год Морган возобновляет каперские операции. 1683 год Сэр Генри Морган отстранен от исполнения им государственных обязанностей. 1688 год Август. Смерть сэра Генри Моргана, великого пирата и талантливого военачальника.Асенси М Твёрдая земля
Глава 1
Мартин, мой младший брат, погиб, сражаясь против английских пиратов, которые большую часть ночи бомбардировали нашу галеру из пушек, а на заре бросили абордажные крюки и притянули наш правый борт, чтобы украсть из трюмов все товары, которые мы везли с рынков Севильи в колонии Твердой Земли *["427] в Новом Свете. Моему бедному брату исполнилось всего четырнадцать, но он владел шпагой лучше многих идальго и королевских солдат, поскольку наш батюшка, один из самых известных оружейников Толедо, сам его обучал и показал, как правильно с обращаться со шпагой. К несчастью, теми же самыми глазами, что я смотрю на эти строчки, когда их пишу, я видела, как проклятый англичанин нанес ему смертельный удар в голову железной дубинкой, так что мозги разлетелись по палубе. Пираты гнались за нами с самого заката, как голодные псы в ожидании объедков от пира. Однако, хотя наша каравелла составляла часть большого флота, известного как галеоны, ежегодно курсирующего в Картахену в Индиях, ни один капитан и адмирал пяти боевых кораблей, вооруженных для защиты торговых судов, повторяю, ни один, не пришел нам на помощь. Тогда я еще не знала причину, по которой генерал Санчо Пардо, командующий флотом, покинул нас, предоставив собственной судьбе таким отвратительным образом. Наша каравелла была старой и везла полные трюмы, поэтому плыла очень медленно, так что морские псы устроили на нас охоту, как только сумели воспользоваться случаем, и, разумеется, нас настигли. На борту судна было мало женщин, всего пять или шесть, и все спрятались в грузовом трюме, среди тюков, бочек и связок товаров, перепуганные до смерти и трепеща в ожидании будущего. Через какое-то время после начала атаки, в самый разгар сражения, тетушка Доротея, услышав издалека выстрелы аркебуз и всерьез опасаясь за наши жизни, отвела меня к своей койке и сказала: — Давай-ка, надень одежду твоего брата! Я была так встревожена шумом и опасностью, что стащила с себя чепец и положила руку на юбку из своего баула. — Только не в твоей одежде, Каталина! — крикнула тетушка, стаскивая с меня платье. Доротея была туповатой и плохо понимала, что происходит, но опасность пробуждает и самых недалеких, так что во мгновение ока тетушка преобразила меня в парня — в рубашке, замшевом хубоне *["428], кожаном камзоле и плундрах *["429], а на мою голову, подобрав длинные и гладкие черные волосы, она водрузила шляпу, которую брат купил на ярмарке в Толедо для моей свадьбы — широкополую красную шляпу с пером и широкой красивой каймой. Так ревностно милая тетушка оберегала мою честь. — Надень сапоги, — велела она, вешая мне на шею футляр с документами. Звон стали и мужские крики с каждым мгновением слышались всё ближе, уже на второй палубе. Тетушка, сжав в руках молитвенник, взывала к святым. Я уселась на один из ящиков и натянула замшевые сапоги Мартина, которого потеряла из вида, когда капитан приказал свистать всех наверх, чтобы с оружием в руках защищать судно. К счастью, ноги брата были ненамного больше моих — поскольку для женщины я довольно высокого роста, то все его вещи отлично мне годились. — А теперь идем, — поторопила меня Доротея, слегка поправив перевязь, где в ножнах болталась одна из трех прекрасных рапир, сделанных отцом, мы везли их в подарок моему незнакомому еще мужу, свекру и дяде Эрнандо. — Мне нужен еще и кинжал! — воскликнула я, остановившись. — Чего еще желает ваша милость? Аркебузу? — в отчаянии вымолвила Доротея. — Не помешала бы, — решительно сказала я. Может, и не одежка красит человека, но нарядившись в платье брата, я и сама изменилась. За все шестнадцать лет жизни я только и слышала, что о своих женских обязанностях, как я должна себя вести, чтобы найти хорошего мужа. По правде говоря, я была сыта этим по горло. Мне нужен был кинжал в левую руку. — Возьми же уже, наконец, свой кинжал и бежим отсюда! Да поможет нам Иисус в этом несчастье! Или ты не видишь, в какой мы опасности? Доротея схватила меня за руку и помчалась на корму между всякой утварью и снаряжением, загромождающими проход. Она не знала, ни куда направляется, ни чего хочет добиться, но я не стала возражать, потому что в то мгновение события казались мне весьма занимательными. Англичане нападут на меня...? Да пусть хоть всех мне оставят, я уж испробую свою шпагу, это ведь я, Каталина Солис, рожденная в Толедо, единственная законная дочь Педро Солиса и Херонимы Паскуаль, и, к сожалению, в недавнем времени по доверенности выданная замуж за некоего Доминго Родригеса, сына Педро Родригеса, делового партнера моего дядюшки Эрнандо в производстве латуни — предприятии, которым оба владели на Карибском острове Маргарита. По первому же трапу, на который мы натолкнулись, мы прямиком поднялись наверх, и как раз когда мы добрались до капитанской каюты, я увидела, как гнусный английский пират размозжил на тысячи кусочков голову моего брата. Я окаменела. Вся абсурдная веселость мигом испарилась. Мне показалось, что я мертва и расколота на кусочки, как и мой бедный Мартин. Английские и испанские сапоги топтались по его крови, волосам и мозгам на главной палубе, но тут рука Доротеи со всей силы потянула меня, чтобы увести от этого ужаса. — Идем, идем! — взмолилась она, дрожа и рыдая. Я последовала за ней, совершенно опустошенная, потому что мир для меня остановился. С этого мгновения мои воспоминания весьма смутные. Мы вошли в капитанскую каюту, и Доротея разбила окно, чтобы выкинуть с кормы маленький письменный стол. Без сомнений, она сохранила свою силу бывшей крестьянки. Потом она осенила меня крестным знамением, поцеловала и сказала что-то, что я не разобрала, после чего заставила выпрыгнуть в освежающие синие воды океана. На востоке вставало солнце, предвещая жару, которая в этих затерянных водах не оставляет надежд ни человеку, ни прочим живым созданиям. В то время я не умела плавать, так что когда мое тело погрузилось в море после падения, я решила, что захлебнусь. Однако вода сама вытолкнула меня наружу, на воздух, так что я набрала его полные легкие, а мои ноги и руки машинально сделали всё возможное, чтобы оставаться на плаву. Оружие весило прилично, одежда душила, красная шляпа плыла рядом, а еще чуть дальше — стол капитана ножками вверх, спокойно перекатываясь по волнам. Доротея закричала, пытаясь на что-то мне указать, но на таком расстоянии, в шуме сражения и постоянно судорожно барахтаясь на воде, я не в состоянии была ее понять. Мне показалось, что чья-то рука схватила ее за волосы и оттащила внутрь каюты. Таким образом, тетушка не прыгнула, и я, в отчаянии взмахивая руками, время от времени погружаясь и нахлебавшись воды, каким-то чудом добралась до деревянного стола. Течение отнесло меня от обоих кораблей довольно быстро, хотя и не настолько, чтобы я не успела заметить черный дым, поднявшийся в небо, когда пираты подожгли наше судно. Эта грустная картина долго не продлилась. Вскоре я качалась на волнах в пустом океане, такая одинокая, какой не была никогда в жизни, вцепившись в стол и погрузившись в угрожающее молчание. Слезы покатились по моим щекам. К счастью, мне удалось подобрать красную шляпу, иначе немилосердное солнце этих широт вскоре прожгло бы мне голову насквозь. Я также помнила, что эти воды кишат морскими животными огромных размеров, которые любили подплывать к бортам корабля, так что, изо всех сил пытаясь не перевернуть свое жалкое суденышко о четырех ножках, я взобралась на него и свернулась калачиком. В таком положении я провела три дня и три ночи, волны и течения тащили меня неизвестно куда. Горло горело от жажды, глаза болели, сожженные солью и солнечными бликами. Губы кровоточили и покрылись струпьями. Временами я засыпала, а иногда меня охватывало отчаяние, и я даже спрашивала себя, не стоит ли вознести одну из тех молитв, которым тетушка Доротея тайком обучила нас с Мартином, когда мы были детьми. Но я сопротивлялась этому, ибо не хотела таким путем оскорбить память отца, который ненавидел подобное. Сегодня я горжусь своей твердостью, тем, что бросила вызов страху и приготовилась умереть, как меня учили: в мире и спокойствии, без ханжества. И тогда, пока я была погружена в ночную дремоту, полную кошмаров, стол мягко на что-то натолкнулся и повернулся вокруг собственной оси. Я тут же вздрогнула. Стояла ночь, но лунного света было достаточно, чтобы кое-что различить. На фоне неба возвышался огромный черный силуэт, и я услышала, как волны разбиваются о берег. Земля! Я попыталась осторожно соскользнуть в воду, приготовившись подтолкнуть мое транспортное средство к этой громаде, но тут выяснилось, что до дна не больше ладони. Я удивленно встала и пошлепала к берегу. Это был пляж из тончайшего песка, белого как снег. Я вытащила свою импровизированную лодку на берег и рухнула, скорее мертвая, чем живая, от усталости трех дней неизвестности, страхов и бодрствования. Проснулась я от страшной жажды. Я огляделась, ослепленная солнцем, и не увидела нигде воды, а только лишь белый песок, а чуть дальше — нависшую вершину, которую заметила прошлой ночью. С тысячью стонов я поднялась и с охами и ахами, отгоняя жестоких москитов, кусавшихся просто как дьяволы, приложила все усилия, чтобы распрямиться и снять хубон и камзол, которые ужасно меня стесняли на этой жаре. Всё мое тело дрожало, но я смогла шаг за шагом добраться до покрывавших холм деревьев. Раз там деревья, сказала я себе, то где-то должна быть и вода. И вот я вошла в густую рощу странных растений, где услышала непрекращающуюся песню многих тысяч птиц. Я шла, а, вернее сказать, тащилась наверх довольно долго, раздвигая руками ветки, что преграждали путь и хлестали по лицу. Такая буйная растительности нуждается в хороших ливнях, сказала я себе, а вода наверняка собирается в какой-нибудь лужице. Через некоторое время мне повезло наткнуться на великолепный колодец — выемку в земле, чью глубину я не смогла оценить на глаз, полную чистой и прозрачной воды, которой я утолила трехдневную жажду. Я залпом и с закрытыми глазами выпила больше половины асумбре *["430]. Какой вкусной мне показалась эта вода, какой свежей! И как же хорошо было сидеть в лесной тени! Ко мне вернулась жизнь, нужно было лишь поесть, чтобы почувствовать себя, как прежде. Но как только я подумала о еде, тело перестало меня слушаться. То ли из-за воды, которую я так жадно пила, то ли из-за палящего солнца три дня подряд в океане я лишилась чувств, вздохнув и покрывшись мурашками. Мне показалось, что я вижу брата и родителей, и это было такое утешение — находиться рядом с ними. Когда я очнулась, покрывшись липким и холодным, словно мертвенным потом, день уже заканчивался. Меня трясло, пока я тащилась обратно к пляжу в поисках исходящего от песка тепла. Чего мне стоила эта прогулка — не передать. Видимо, мое здоровье совсем расстроилось, думала я, а поблизости я не видела никого, у кого можно было бы попросить помощь. Возможно, по другую сторону горы есть поселение, или на другом конце пляжа, но у меня не было ни сил, ни воли, чтобы отправиться туда на поиски помощи. Я снова приготовилась к смерти, когда теплый и белый песок пустынного пляжа примет меня в свои объятья. Понадобилось два дня, чтобы оправиться от странной лихорадки, которая вынудила меня лежать плашмя, с жутким видом и с еще худшим состоянием духа, на самом пустынном в мире побережье. За всё это время мне не встретилось ни души, никого, чтобы позаботиться обо мне, ни единого рыбака или пастушки. Когда меня одолевала жажда, как бесплотный дух я ковыляла к колодцу, и возвращалась к морю, как только начинала дрожать от холода. Вот так, бродя от солнца к тени, от холода к теплу, я наконец-то пришла в себя, хотя и была ужасно слаба — то ли от болезни, то ли от голода. Когда я снова стала хозяйкой своего тела и разума, я решила, что нужно срочно раздобыть пищу, чтобы восстановить силы, необходимые для поисков ближайшего поселения. Пока я находилась в этом месте, я не увидела ничего съедобного, но для поднятия духа сказала себе: что-то наверняка должно найтись, и стала искать фрукты или что-либо подобное, и не обнаружив ничего во время длительных поисков, пришла к мысли соорудить удочку для ловли рыбы, какие я видела в Толедо. Я вошла в воду, чтобы посмотреть, не плавает ли поблизости какая-нибудь палка или деревяшка, и обнаружила, что в море полно рыбы. Рот наполнился слюной, и я в отчаянии попыталась поймать что-нибудь руками, но это мне не удалось — я была слишком слаба, чтобы тягаться с этими созданиями. Я не заметила ни веток, ни досок, которые могли бы мне пригодиться. По контрасту с водами реки Тахо или Гвадалквивира, в этом море совершенно не было мусора и всяческих отходов — весьма прискорбная для меня потеря. Я двинулась вдоль берега и немного погодя к своей радости нашла скалы, где в мелких щелях, наполненных водой, застряла рыба. Или прибой и прилив оставили их для меня в таком легкодоступном месте. Но как же их приготовить? Как развести огонь? Как доставить в мой маленький редут поблизости от стола-шлюпки? Понадобится определенное время, чтобы решить эти проблемы, а я была голодна, так голодна, что посмотрела на рыбу, схватила одну руками и без особых раздумий отрезала ей голову кинжалом, выпотрошила и съела. Она произвела магический эффект. Каждая съеденная рыбина возвращала мне силы, и когда я поглотила шесть или семь, то воспрянула духом, а после тринадцати или четырнадцати была сыта и довольна. — Хватит, Каталина! — осадила я себя, вымыв окровавленные руки в воде и намочив шляпу, чтобы не напекло голову. Я чувствовала себя так хорошо, что, несмотря на дрожь в ногах, добежала до своего суденышка, как сорвавшийся с привязи скакун. В тот же день я отправилась в путь и прошла весь пляж до его западного края, в сторону заходящего солнца. Я обнаружила несколько бухточек и заливов, но никаких поселений, и в конце концов достигла того места, где песок заканчивался и начинались громадные скалы, круто спускающиеся к морю. Там береговое течение разбивалось о камни, создавая опасные водовороты. Я вернулась на то место, которое уже начинала считать своим домом, в готовности продолжить исследование, не зная отдыха, пока не пойму, где нахожусь. На следующее утро я пошла в противоположном направлении, ступая по белому песку на восток, и примерно через одну лигу *["431] добралась до таких же скал, как и днем ранее, только с другой стороны. Это сбило меня с толку. У меня не осталось другого выбора, кроме как подняться на вершину горы, чтобы убедиться в своих подозрениях: я оказалась на одном из маленьких и необитаемых Наветренных островов, о которых говорили моряки на галере, когда по вечерам рассказывали истории про пиратов и спрятанные сокровища. По их словам, островов было столько, что невозможно занести на лоции. На многие никогда не ступала нога человека, ни один корабль не швартовался в их водах. Лишь пираты и корсары знали эти места, потому что они служили им укрытием. Тогда мне показалось, что пляж, море и гора вращаются вокруг меня, как мельничные жернова, и еще не добравшись до вершины, я проливала слезы по своей горькой судьбе. Я снова оказалась рядом со своим источником прекрасной воды, но на сей раз продолжила подъем, шпагой и кинжалом помогая пробивать себе путь в зарослях. Растительность в этих широтах была трудным противником, не говоря уже о кусающих без устали москитах и прочих животных, которых я обнаружила на своем пути: зеленых ящерицах размером с мастифа с колючими гребнями и зобом, стрекозах, которых из-за размеров можно было спутать с птицами, дроздах, колибри, синих и оранжевых попугаях... Эта странная фауна была достойна созерцания, со всем своим многоцветьем и формами, и, к счастью, не выглядела опасной, обороняться от этой живности не было необходимости. Похоже, это было тихое местечко, единственной опасностью которого, в худшем случае, был неожиданный визит кошмарных пиратов — английских, французских или голландских. Добравшись до вершины, где дул приятный свежий ветер и было поменьше комарья, я с сожалением убедилась в том, чего и боялась: я оказалась на маленьком островке в форме полумесяца или, скорее, в форме четвертинки круглого сыра (учитывая высоту горы), с дугой белого, как молоко, песка длиной в пару лиг на берегу и падающими вниз, словно саван, скалами на юге. Остров окружало тихое море цвета сияющей бирюзы, протянувшееся примерно на пятьдесят вар *["432], такое прозрачное, что со своего места я могла различить цепочку рифов в морской глубине, а чуть дальше — темный и пустынный океан во всех направлениях. Цепочка рифов не была цельной, в одну из ее брешей и проник мой стол, доставив меня к пляжу. Смеркалось. Солнце спряталось на западе после самого впечатляющего заката, который я видела за свои шестнадцать лет, включая тот месяц, который провела в море, на борту каравеллы. Я опустилась на землю, не в состоянии отвести глаз от медленно поднимающейся на востоке прекрасной луны, и задумалась. Смерть Мартина и моя неизбежная гибель — наверняка результат проклятия или сглаза, которые навлек на нашу семью какой-то мерзавец, а началось всё с ареста моего отца два года назад, летом 1596 года: сначала он скончался из-за жестокой лихорадки, свирепствовавшей в темнице инквизиции Толедо, а потом и моя матушка Херонима не смогла пережить гибель мужа, сошла с ума и бросилась в воды Тахо в одно печальное зимнее утро сего, 1598 года, чем лишь прибавила семье бесчестья и навлекла на нас второе проклятье церкви. Потом гибель Мартина от рук пиратов, а скоро последует и моя, в одиночестве на этом острове, и о моем грустном конце не узнает никто, даже дядюшка Эрнандо. Ту ночь я провела под открытым небом на вершине горы. Там мне было более удобно, чем на пляже, из-за меньшего количества комарья, я лучше отдохнула. Я плакала, пока не запершило в горле, а глаза не опухли, пока мои рыдания не разбудили всех птиц острова, но мои крики лишь улетели в открытое море и погрузились в океанские воды. Я плакала так отчаянно, что провалилась в сон, даже не заметив этого, уверенная в том, что я — самое несчастное создание в этом мире. Но, должно быть, в ту ночь всё чувство жалости к самой себе испарилось, потому что когда наступил день, я проснулась с легким чувством голода и ощущая себя слегка побитой, но гораздо бодрее. Глядя на восход солнца, я дала торжественную клятву своим родителям и брату: я смогу о себе позаботиться, переживу все невзгоды и выберусь с этого островка, пусть мне понадобятся годы, чтобы построить примитивное средство передвижения, на котором я смогу добраться до морских путей, где ходит в Новый Свет флот — единственные, не считая пиратов, корабли в этих отдаленных испанских водах. Не стоило забывать также, что я сильная и решительная женщина, чья жизнь находится в самом разгаре, хозяйка своей судьбы и разума и, по правде сказать, испытавшая облегчение от того, что сбросила с плеч груз ненавистного брака, благодаря которому мы оплатили проезд в Новый Свет, однако я согласилась на него не по своей воле, а потому что об этом меня попросила матушка перед смертью. Возможно, сама судьба вырвала меня из рук мужа, некоего Доминго Родригеса, с кем я вообще не была знакома, и этот остров — желанное и посланное судьбой место. Воодушевленная этими мыслями, я спустилась к своей прибрежной кладовке и сытно позавтракала синебрюхой рыбой с желтым хвостом. Мне не доставляло особого удовольствия поедание сырой рыбы, но пока я не нашла способа развести костер — если такое вообще здесь возможно, — придется довольствоваться этим. Как же я пожалела, что не научилась читать и писать! Мартин уж точно смог бы развести огонь, построить хижину и плот, соорудить удочку и пику, чтобы поймать одну из этих прекрасных птиц в лесу на горе, чтобы хорошенько их поджарить — после всего, что вычитал в книгах. Я же, со своей стороны, провела многие годы, упражняясь с иголкой, вращая прялку и обучаясь готовке — в то время более полезным занятиям. Следующим шагом в то утро стало подстригание волос. Последний раз я мыла их с мылом на корабле, с помощью тетушки Доротеи, и поскольку теперь они превратились в колтун, и у меня не было желания подхватить вшей или других гнид, я прядь за прядью отрезала острым кинжалом свои длинные волосы, пока не осталось ничего, что можно было бы срезать. Какое мне дело до своей внешности, если меня никто не видит? И кроме того, у меня имелась шляпа для защиты от солнца, и хотя уже несколько дней я носила лишь сорочку и плундры (сапоги я надевала лишь когда забиралась на гору), я могла бы бродить по пляжу и голой, будь на то моя воля — ведь никто на меня не смотрел. По прошествии дней, недель и месяцев я стала такой же дикой и одинокой, как и мой остров. Наконец-то я хорошо его изучила. Я нашла тропы, пещеры и прекрасные заводи. Я изучила приливы, направления ветров и неожиданные и мощные ливни по вечерам. Из капитанского стола и толстой высохшей пальмы, сражаясь с ней шпагой и кинжалом, в широкой пещере под скальным выступом на вершине горы я соорудила хижину. Там я сделала постель из сплетенных пальмовых листьев, которые часто обновляла, и кладовку для продуктов — наблюдая за птицами и другими животными, я научилась распознавать съедобные желтые фрукты, очень сладкие, с черными шипастыми семенами, которые я использовала против ящериц, или крупные круглые плоды зеленого цвета, висящие на пальмах, как финики, и содержащие внутри покрытый коричневыми волосками орех, а если его разбить, то можно было добыть сладкую жидкость. Сами орехи были сочными и белыми, а скорлупа от них служила в качестве посуды для питья или для рагу. Подошвы моих ступней так огрубели, что через некоторое время я перестала нуждаться в сапогах, чтобы забираться на гору, так что я хранила их в глубине своей хижины, вместе с одеждой Мартина, которую уже никогда не надевала, и документами, напоминавшими, что когда-то у меня была другая жизнь. Поскольку на острове из-за жары и влажности я постоянно потела, то часто стирала сорочку и плундры в чистой воде ближайшей к моему убежищу заводи (всего их было три, та, из которой я пила в первый раз, находилась ниже остальных и ближе к пляжу). Волосы отросли, и я снова их безо всякой жалости обрезала, к тому времени прошлое в Испании казалось мне таким далеким, что я едва его помнила. Мой остров был храмом жары и влажности во все времена года, там не было ни лета, ни зимы. Погода всегда стояла одинаковая, лишь время от времени сменялись дождливые и сухие сезоны, когда уровень воды в заводях опускался на четыре ладони или больше. Я не знала точную дату, когда здесь очутилась, но примерно представляла, сколько времени провела на острове, потому что взяла за привычку каждый день делать зарубку на дереве перед домом, пока не обнаружила, что прошел уже целый год. Мне нетрудно было научиться плавать. Берег был таким широким, так мягко опускался к глубоким водам, а приливы такими слабыми, что я без страха заходила до самый границы, отмеченной рифом, и вскоре начала нырять так охотно и легко, что проводила многие часы с морскими звездами, моллюсками, громадными черепахами, ярко-красными кораллами в форме веера и косяками рыб всех цветов. У меня имелось прекрасное крепкое копье с острым наконечником, сделанное из обугленной ветки, которым я добывала самые аппетитные экземпляры. Я также сделала примитивный очаг, где разжигала огонь и поджаривала дичь и рыбу. Тот день, когда я поняла, как развести огонь, разделил мою жизнь на «до» и «после». Это случилось, когда я шла, отбрасывая шпагой валяющуюся на песке крупную гальку (весь день я просидела на скалах рядом с моими морскими «закромами»), когда навстречу выскочил рак, привлеченный блеском металла, и я, чтобы его напугать и позабавиться, с силой стукнула шпагой по камню. Перед моими глазами тут же возникла искра, хотя лишь через несколько секунд в голове пронеслась мысль: как же я корила себя, что до сих пор не вспомнила искры, разлетающиеся от наковальни отца, когда он делал оружие. Мне просто нужно было найти трут и повторить удар, но должна сказать, что жареная пища была не единственным, что принес мне огонь. Я быстро обнаружила, что от жара костра дерево становится крепче, и я могу согнуть его по своему вкусу, и таким способом я изготовила лук, добавив к нему хлопковую нить из сорочки Мартина. Стрелы я обтесывала кинжалом (должна сказать, что я заботилась о своем оружии с рвением дочери оружейника, поскольку от этого зависела моя жизнь) и вскоре уже охотилась на птиц и питалась, как королева. На пляже также имелись места, где черепахи откладывали яйца, оказавшиеся вкусными и питательными. Из высохших лужиц на пляже я при необходимости извлекала соль, и в результате то там, то сям набрала достаточно, чтобы засолить рыбу и хранить ее в своей кладовке. Но я никогда не забывала о двух важных вещах: прежде всего, о безопасности, поскольку меня ужасала мысль, что однажды меня застанет врасплох прибывший пиратский корабль, а кроме того, об устройстве плота, на котором я могла бы покинуть остров. Первая проблема разрешилась, когда однажды утром мне пришло в голову помыться в заводи. Моя кожа загорела и пересохла на солнце, так что я с головой бросилась в заводь неподалеку от дома, чтобы искупаться в более приятной воде. Когда я решила нырнуть до самого дна, то с удивлением обнаружила, что его нет, а по прямой линии до другого края острова идет тоннель. Благодаря продолжительным купаниям у рифа я научилась задерживать дыхание на долгое время и, раздув щеки, я набрала полные легкие воздуха и последовала по этому водному пути, неуклюже продвигаясь в темноте. Не скрою, мне потребовалось несколько попыток, чтобы добраться до конца прохода, из-за страха я поворачивала на полпути. Но решительность и любопытство победили трусость, и отталкиваясь руками и ногами от стен, в результате я вынырнула в другой заводи, внутри пещеры. Сюда проникал очень слабый свет, а странный гул какого-то живого существа вызвал у меня мурашки по коже, и в тот первый раз я сбежала оттуда в приступе паники. Когда я собралась с духом, чтобы вернуться, то взяла с собой шпагу, кинжал, лук и копье и тщательно выбрала час, когда солнце хорошо освещало вход в пещеру, чтобы хватило света до нее добраться. Я обнаружила, что вход в пещеру расположен на скалистой стенке как раз за горой и пляжем. Мысль о том, что существует место, которое мне еще незнакомо и где может скрываться опасность, была для меня невыносима. Я с большими предосторожностями вышла из воды, испугавшись глухого гула, и очень медленно выпрямилась, со шпагой в одной руке и копьем в другой, в готовности обороняться и убить любого при малейшем движении. Стоял ужасный холод, от которого я уже отвыкла, и кожа под мокрой одеждой покрылась мурашками, а зубы выбивали дробь. Пол пещеры был покрыт толстым слоем чего-то мягкого и темного — не грязью и не песком, но чем-то похожим и на то, и на другое сразу, и я погрузилась в эту массу до самых икр и двинулась к свету, не обращая внимания, что надо мной висят вниз головой тысячи толстых летучих мышей, следя за каждым моим движением и готовые взлететь, как только мое присутствие покажется им опасным. Но поскольку я их не видела и не имела представления об их существовании, то в конце концов выпрямилась и шла в полный рост, несмотря на холод. К тому, что произошло позже, привели два обстоятельства: на следующем шаге я споткнулась о какой-то твердый металлический предмет и поранила мизинец на ноге. Я вскрикнула от боли и, сама того не сознавая, копьем задела летучих мышей, так что все они черным пульсирующим одеялом ринулись к выходу, с безумным хлопаньем налетев на меня, так что я свалилась на пол, и пока они удирали, я рухнула ничком, и животом, ребрами и лицом приземлилась на железные трубки, так что поранила губы, и весь рот наполнился кровью. У меня перехватило дыхание, ушиб болел, но та девушка-плакса, которой я когда-то была, уже не существовала, так что я приподнялась и, вытерев кровь рукавом и стряхнув с лица и сорочки помет, окинула взглядом пещеру, теперь пустую и молчаливую, и снова взяла в руки оружие. Грот был просторным, в длину больше, чем в ширину. Озеро в глубине покрывало толстое одеяло экскрементов, а с другой стороны находился вход в пещеру, откуда слышался далекий шум моря. Я рассудила, что перед тем как высунуться и оценить обстановку, лучше узнать, обо что я ударилась. И каково же было мое удивление, когда я увидела четыре старых бронзовых фальконета *["433] с забитыми пометом дулами и без каких-либо опознавательных знаков или клейма, которые позволили бы определить их происхождение. У меня перехватило дыхание, когда я поняла, что впервые нашла на этом острове признаки присутствия других людей, к тому же не очень-то желанных, потому что пиратское происхождение этих пушек не вызывало сомнений, хотя меня долго мучила загадка — как они здесь появились и по какой причине. Они явно были негодными, но кучка аккуратно сложенных сбоку каменных ядер указывала на то, что пещера предназначалась для ведения сражения, хотя пушки и не были нацелены ни на вход, ни на озеро. Я спрашивала себя, не служили ли пушки когда-то для атаки приближающихся к берегу кораблей, хотя ни один корабль не стал бы подходить с этой стороны из-за опасных водоворотов и течений. Тогда мне не пришло в голову, как их могли использовать, и потому я не стала делать веревки, чтобы попробовать их поднять (задача весьма трудоемкая, учитывая отсутствие шкивов), а когда высунулась из входа в пещеру и увидела, на какой высоте нахожусь, стала еще меньше понимать, как же сюда затащили пушки. Нет, их невозможно поднять, подумала я. Однако я взглянула наверх, на вершину горы, и хотя расстояние тоже было немалым, выглядело более вероятным, что пушки спустили вниз на веревках и тросах. Недовольные моим визитом летучие мыши пытались вернуться на свои места, отдохнуть под каменным потолком, и быстро летали, резко и рассерженно разворачиваясь во всех направлениях. Я осмотрела пещеру в последний раз и решила, что это хорошее место для убежища, а если вдруг явятся хозяева забытых фальконетов, то я всегда могу ускользнуть через заводь, пока они будут спускаться с вершины, а другие и вовсе не смогут меня здесь найти. Вопрос безопасности был решен, но осталось другое важное дело — постройка плота, на котором я смогу уплыть с острова. Я приспособила укромное местечко между камнями в своей кладовке, чтобы складывать туда бревна, которые я терпеливо обтесывала шпагой и кинжалом у подножия горы. С помощью веревок, сделанных из кожи ящериц и пальмовых волокон, я волоком тащила дерево по тончайшему песку, затрачивая неимоверные усилия, которые иногда оказывались бесполезными. Этим я занималась по много часов в день, а когда уставала, то бросала эту работу на неделю или две, пока муки совести не заставляли меня вновь к ней приступить. От этих трудов я значительно окрепла и до сих пор обладаю сильным телом, которое приобрела в те далекие времена. В этих заботах прошел первый год. Первые тревоги уступили место спокойствию, поскольку я устроилась вполне удобно, хорошо питалась, была здоровой и находилась в безопасности. Всего у меня было в достатке, никто меня не ждал, я была уверена, что дядя и супруг давно сочли меня мертвой. Моя прежняя жизнь не особо отличалась от нынешней, тогда меня держали дома взаперти и без излишеств, чтобы сохранить честь для будущего мужа, и ему не на что было жаловаться. Я не скучала и по человеческому обществу, потому что все, кого я знала и любила, уже не ходили по бренной земле. Таким образом, я была свободна и счастлива, пока однажды утром до моего жилища на вершине горы не донеслись звуки, показавшиеся похожими на голоса. Это были зычные мужские голоса — голоса сидящих на веслах моряков и отдающего им приказы капитана. Я резко открыла глаза и поднялась с заколотившимся сердцем. Пираты! — трусливо подумала я. Я быстро оделась и схватила шпагу. Местоположение хижины под выступом скалы позволяло оглядеть пляж и риф, оставшись невидимой снизу. Я легла на землю и высунула голову. В одну из самых широких и глубоких брешей в рифе рискнул пройти трехмачтовый корабль. Паруса были подняты, а к берегу его тянула шлюпка с восемью матросами и двумя юнгами. Я сглотнула. Без сомнения, это пираты, кто же еще? Я подумала, что нужно собрать съестные припасы, потому что не знала, сколько времени придется скрываться в пещере с летучими мышами. В любом случае, пока еще слишком рано было уносить ноги. Сначала нужно разведать, каковы их намерения, потому что они могли бы отплыть и в тот же день, не узнав о моем существовании и не причинив мне никакого вреда. Шлюпка врезалась в пляж, и моряки вытащили ее из воды на песок. Капитан корабля — высокий сухопарый мужчина в длинном алом ропоне *["434], черной широкополой шляпе и со шпагой идальго на поясе — спустился по веревочному трапу, переброшенному через борт корабля, когда тот сел брюхом на песок. Я испугалась. Как они собираются снимать корабль с мели, чтобы отплыть? Или они вообще не собираются уплывать? Капитан направился к берегу с видом герцога или маркиза, пока его люди, одетые в скромные холщовые рубахи, короткие штаны, плетеные сандалии и с платками на головах, спускали на песок бочки, корзины, тюки и баулы в таком количестве, что просто удивительно, как все эти вещи поместились в шлюпке. Несомненно, это были украденные с испанских торговых судов товары, предназначавшиеся для обеспечения колонистов. Я медленно попятилась и снова вошла в свое жилище. С величайшими предосторожностями я собрала продукты и оружие, а чтобы спастись от холода пещеры, надела замшевый хубон, кожаный камзол и сапоги. Это затруднит плавание, зато я буду находиться в тепле. Я вышла и снова подползла к наблюдательному пункту, откуда посмотрела на пляж. Пираты устроили на песке лагерь. Не найдя ничего более подходящего, с помощью четырех палок и куска парусины они соорудили низкий навес и поставили под него свои баулы и сундуки, а также роскошное кресло, которое притащили с корабля, наверняка предназначенное для капитана. Вскоре все собрались под навесом, и я потеряла их из вида, но внезапно к своему изумлению услышала веселую мелодию, хорошо исполненную на музыкальных инструментах, а сильный голос во все легкие запел по-испански: Вам готов я услужить, Такова моя судьбина. Жизнь готов я положить, Коли буду я покинут. Я схожу с ума? Уже год я не слышала музыки, и это был последний звук, который я рассчитывала услышать. Певцу аккомпанировали на лютне и флейте. Грусть-печаль меня изводит Видеть ваши все измены. Я живу уж без надежды, Но без вас я жить не волен. Всё готов вам предложить, Мое слово дворянина, Жизнь готов я положить, Коли буду я покинут. Парализованная от удивления, я не заметила, что большой корабль, занимающий почти всю ширину рифа, начал заваливаться на бок. Начался отлив, корабль сел на мель и опасно накренился к одному борту, хотя команда не выказывала никаких опасений по этому поводу. Они продолжали петь и играть, словно принимали участие в веселом сельском празднике. Наконец, со скрипом дерева и дрожащими мачтами корабль полностью лег на правый борт. Я не могла поверить своим глазам (как и своим ушам), но с последним скрипом дерева музыка прекратилась. Все моряки кроме капитана покинули навес, разбрелись по пляжу и вошли в лес, откуда появились с хворостом и дровами, чтобы сложить на песке большой костер неподалеку от корабля. Как легко им это далось! Их было так много, что огромный костер был готов во мгновение ока, осталось лишь приблизиться к нему с фитилем от аркебузы, и пламя взметнулось к небу. Они тут же сделали для всех факелы, подошли с ними к корпусу корабля и стали проводить по нему факелами, словно писали кистью картину. Юнги, еще совсем дети, занялись нижней частью, но работы им досталось не меньше. Они пытались что-то подпалить, хотя я и не понимала, что именно. На это занятие они потратили много времени, так что от скуки я заснула. Меня разбудила лишь раздававшаяся из-под навеса музыка, мягкий меланхолический перезвон струн лютни — после того, как я целый год не слышала ничего подобного, она оказывала на меня завораживающий эффект. Я молча слушала с закрытыми глазами, вспотев под многочисленной одеждой, но довольная и умиротворенная музыкой. Я подумала, что, может, это и не пираты, а просто торговцы, потому что они пели по-испански и приплыли на мой остров не для того, чтобы спрятать награбленные сокровища, а для починки корабля или каких-то работ. И придя к такому выводу, я начала робко подумывать о том, чтобы спуститься на пляж и предстать перед возможными спасителями, которые окажут мне любезность и отвезут в цивилизацию, и тут чья-то железная рука с силой схватила меня за шиворот и бесцеремонно подняла, одновременно с этим удерживая мою шпагу. Я вскрикнула и начала наносить удары направо и налево, хотя встречались они только с воздухом. Все мои силы, а к тому времени я была весьма сильной, не пригодились. — Кто вы? — спросил меня из-за спины по-испански угрожающий голос. Я не могла повернуться, чтобы рассмотреть лицо нападавшего. Человек, держащий меня сзади, обхватил мои руки и резко пригнул головой к земле. Я решила, что не стану отвечать. Я не собиралась сотрудничать с врагом. Если они желают меня убить, то всё равно это сделают, от меня это не зависит. — Сеньор, назовите ваше имя, страну и происхождение, — настаивал голос. У него был странный акцент, как у иностранца. Я упрямо молчала. Из-за шока я даже не поняла, что меня приняли за мужчину. — Он не говорит, — раздался второй голос. — Давай отведем его к капитану. Наверняка это английский пират, которого оставили на острове его же товарищи. — Я не английский пират! — закричала я, снова попытавшись вырваться из крепкой хватки. Через несколько секунд молчания мне подняли голову и откинули волосы. Это были двое мужчин. Один держал меня, и я его не видела, а второй стоял напротив — крупный мулат, с интересом меня рассматривающий. — Вы испанец? — удивленно спросил он. Глаза у него были большими и налитыми кровью. — Да, так что отпусти меня, если не хочешь, чтобы тебя наказали! Негры и мавры, будучи рабами (лишь немногие имели свободу, по крайней мере, в Испании) не могли обращаться подобным образом с христианином, а в особенности с женщиной и госпожой. С женщиной и госпожой? Лучше об этом умолчать, подумала я, пусть продолжают считать, что я мужчина. — Кто накажет, сеньор? — спросил с усмешкой тот, который меня держал. Теперь его хватка ослабела. — Ваш хозяин! — рявкнула я, разозлившись, что он меня не отпускает. Я не знала, является ли тот, что меня держит, тоже мулатом, негром, мавром, индейцем или белым, но приняла как само собой разумеющееся, что раз он пришел с мулатом, значит, и сам такой же. — У нас с моим другом Антоном нет хозяина, сеньор, — ответил он, подталкивая меня вниз по холму. — Мы свободные люди и работаем на испанского капитана, который обращается с нами как с добрыми христианами. В общем, сеньор... — он пнул меня коленом по ноге, так что я споткнулась, — попридержите язык, если не хотите пожалеть о своих словах. Остаток пути до пляжа по неровной тропке был полон подножками, тычками и пинками. Это были плохие люди, воспользовавшиеся своим положением. Может, и не пираты, но вели они себя в точности так же, и потому заслужили мое презрение. Вскорости я оказалась перед капитаном под навесом, он бренчал на прекрасной лютне. Когда двое громил толкнули меня на песок, он даже не поднял голову. — Посмотрите, кого мы нашли на горе, сеньор Эстебан, — сказал один из них. Капитан наконец-то обратил на меня внимание и отложил инструмент. Это был человек преклонных лет, около шестидесяти, меня удивило даже не то, что человек такого возраста еще жив, как то, что он плавает по здешним водам, как юноша. Он снял алый ропон и черную шляпу и остался в элегантной красной рубашке, рыжих плундрах и кожаных сапогах. — Клянусь своей бородой, славно поохотились! — засмеялся он, и я поняла, что он-то и пел всё это утро. — Он христианин? — Так он сказал. — И испанец? — Утверждает, что да, сеньор. — Что ж, хорошо, сынок, — капитан обратился ко мне, — расскажи, кто ты такой, какого рода. — Я вам не сын и ничего не расскажу, — гневно ответила я, стараясь, чтобы голос звучал по-мужски. Обращение, полученное со стороны тех двоих, меня до крайности оскорбило. — Ладно, ладно... — пробормотал капитан, перестав смеяться. — Без сомнений, ты еще очень молод. Можешь по крайней мере сказать, как ты очутился на этом острове? — Нет, — заявила я, опустив голову, сама того не осознавая, поскольку воспитанные девушки должны смотреть вниз, разговаривая с мужчинами. Я ничего им не скажу, пока не узнаю, кто они такие и что здесь делают. Двое моих похитителей, по-прежнему стоящие за моей спиной, с удовольствием рассмеялись. — Так ты вынуждаешь меня представиться первым? — сообразил капитан, придвинувшись в кресле, чтобы приблизить свои глаза к моим. Это выбило меня из колеи. Он был очень необычным человеком, и не только из-за возраста: несмотря на восклицание «клянусь своей бородой», ни на щеках, ни на подбородке у него не была ни единого волоска, он обладал маленькими глазками и носом и кожей цвета спелого финика. Если этот старик — испанский идальго, то я — тот самый юноша, за которого меня принимают. — Ладно, парень. Меня не затруднитрассказать тебе о том, что ты просишь. Меня зовут Эстебан Неварес, я сын Гаспара де Невареса, который приехал в Индии вместе с Христофором Колумбом в его четвертом и последнем путешествии. Я же, таким образом, испанский креол, подданный его величества Филиппа III, рожденный в этих землях его империи, дворянин по происхождению — род моего отца ведет начало от графов де Леон, самых благороднейших испанских фамилий. Однако я горжусь тем, что являюсь капитаном этой прекрасной шебеки «Чакона», мы обычно заходим в эти мелкие воды, когда торгуем в испанских портах островов и континента, на нашей родине — Твердой Земле. Я, как ты уже мог догадаться, почтенный торговец и занимаюсь покупкой и продажей товаров по всем Карибам, а живо в прекрасном городке Санта-Марта у меня есть лавка. Я не поняла ничего из речи старика, кроме того, что он идальго и торговец — странная комбинация, по крайней мере в Испании, где большинство дворян старались не посвящать себя какому-либо ремеслу, считая это ниже своего достоинства. — А теперь, скажи мне, сынок... Сколько ты провел здесь времени? — спросил капитан. — Мы вышли из Севильи в октябре 1598 года, — объяснила я, — на борту каравеллы в составе флота генерала Санчо Пардо, и месяц спустя в широтах Наветренных островов наше судно атаковали английские пираты. Слушая меня, капитан кивал и, судя по удивленному выражению его лица, сам сосчитал время. — А какой день сегодня, сеньор? — поинтересовалась я, не отрывая взгляда от песка. — Что ж, парень... — пробормотал он, подняв брови, — сейчас одиннадцатый день февраля 1600 года. Почти на четыре месяца больше, чем считала я! Как оказалось, я отмечала на дереве не каждый день. Так что на самом деле мне исполнилось семнадцать с половиной лет. Я была взрослой женщиной, к тому же замужней, а меня приняли за недовольного мальчишку, покинутого на острове. И всего лишь потому, что на мне была одежда Мартина. — А теперь, если не возражаешь, — мягко продолжал капитан, — не будешь ли так любезен сообщить мне свое имя и происхождение? Я задумалась, не зная, как поступить. Что ему ответить, что я Каталина или Мартин? Моя честь могла бы быть поругана в то же мгновение, как только они узнали бы, что я женщина, я прекрасно знала, что моряки, много времени проведшие в море, не уважают ни вдов, ни старух. — Меня зовут Мартин Солис, я законный сын Педро Солиса, самого известного оружейника Толедо, и его супруги Херонимы Паскуаль, мои родители умерли еще до того, как я пустился в это путешествие в Индии. Я родился в упомянутом городе и добрался до этого острова на борту жалкого суденышка, на котором смог ускользнуть с каравеллы во время нападения пиратов. Пока я говорила, капитан всё больше хмурился, а когда замолчала, выглядел просто свирепым, причины такой перемены я не могла понять. — Врешь, мерзавец! — воскликнул тот, вскочив на ноги, так что ножны шпаги хлопнули по сапогам. — Я обращался с тобой с добрым сердцем, а ты отвечаешь двуличием и враньем. Я не знаю, кто ты, но ты точно мне солгал, — с этими словами он схватил меня за подбородок и притянул мое лицо ближе к себе. — Где волосы на твоем лице, парень? Кроме как на висках и между бровями у тебя их нет. Тебе не кажется это странным? Волосы у тебя черные и прямые, как у индейцев, кожа смуглая, и это точно указывает, что ты метис, койот или квартерон *["435] . Не в твою пользу говорит и то, что будучи юношей, ты сбежал с каравеллы во время нападения пиратов, вместо того чтобы драться с ними, как бы ты ни был мал, потому что лишь женщины свободны от этих обязательств. Это правда, что в конце 1598 года на Твердую Землю прибыли галеоны под командованием генерала Санчо Пардо, но это не означает, что ты плыл с ними. Также верно, что как раз в то время в этих водах у Наветренных островов на паташе *["436] «Джон Лондонский» плавал корсар Чарльз Ли, который нападал на отставшие от флота суда. Он быстро наклонился, чтобы подобрать с земли мою рапиру и кинжал, и тщательно их осмотрел. — Верно также и то, — продолжил он, — что это прекрасное оружие имеет клеймо с буквами О и Т, и это означает, что оно происходит из Толедо, а на самих клинках выбито имя... — он отодвинул сталь от глаз на всю длину рук, но не разобрал и с этого расстояния, вытащил из кармана очки и водрузил их на нос, — имя оружейника Педро Солиса. Он снял очки и снова внимательно посмотрел на меня. Я заметила по его лицу, как он борется с подозрениями и размышляет, расхаживая вокруг меня. — Антон, Мигель, — вскоре приказал он. — Займитесь кораблем. — И оставить вас наедине с ним, сеньор? — удивился один из них. — Успокойтесь. Мне ничто не угрожает. Ступайте. Моряки удалились по пляжу в направлении своих товарищей, который по-прежнему обжигали борт шебеки. — Что ж, сеньора, — внезапно произнес капитан серьезным тоном, опустившись передо мной на одно колено. — Может, теперь вы поведаете мне правду? Я онемела. Как этот старик прознал, что я женщина? — У вас есть документы? — осведомился он. — Наверху... На вершине горы, — пробормотала я. — В моем жилище. В жестяном футляре. Капитан поднялся, приложил руки ко рту рупором и прокричал: — Хуанито! Пойди-ка сюда! Мальчишка лет семи или восьми, черный как ночь, помчался в нашу сторону, бросив свой факел и перепрыгивая через приготовленные для костра дрова. — Чего изволит ваша милость? — спросил он, затормозив рядом со мной и разбросав песок. — Поднимись на вершину горы и найди жилище нашего гостя. Войди туда и поищи жестяной футляр, как те, в которых хранят документы. Принеси мне его побыстрее. Негритенок снова пустился бежать, пытаясь найти среди деревьев тропку, которую я проделала в зарослях за эти полтора года во время многочисленных хождений туда-сюда. Без сомнений, этот проход и привел ко мне двух похитителей-мулатов, а теперь сообразительный, как дьявол, старый идальго раскрыл, что я женщина. Я погибла. Вскоре моряки возьмут меня силой, чтобы удовлетворить свои желания. — Говорите! — велел мне капитан, снова усаживаясь и набивая тонкую глиняную трубку, лежащую рядом. Его поведение и манера разговаривать выдавали хорошее воспитание и образование. Казалось неподобающим, что человек его положения занимается торговлей. — Знайте, ваша милость, сеньор Эстебан, что я не солгала, — произнесла я, — я рассказала правду, за исключением одной детали: мое имя не Мартин, а Каталина. Мартин был моим младшим братом, он погиб во время нападения пиратов. Мои родители — именно те, кого я назвала, как и город моего рождения. Няня одела меня в платье брата, чтобы спасти мою честь от пиратов. — Хорошая мысль, — пробормотал он, спокойно набивая листьями табака трубку. — А скажите-ка, какова причина вашего путешествия в новые земли? Какой-нибудь родственник предложил вам кров после смерти родителей? — Так и есть, сеньор, — кивнула я. — У меня есть дядя, брат матери, он живет на острове Маргарита. Больше никто не пожелал протянуть нам руку помощи, когда мой отец умер в темнице толедской инквизиции. Капитан подскочил. — Что вы такое говорите? — удивился он с тревожным видом. — Это печальная история, — посетовала я. — Кто-то, мы так и не узнали кто, донес на моего отца в инквизицию, будто он не уважает священные узы брака. Вы знаете, что в последнее время церковь стала так же пристально следить за моральным обликом народа, как и за чужеземными ересями. Отец был не единственным добрым христианином, которого заперли в темнице за нарушение брачных клятв. В списках осужденных было много имен. — Да, вы правы. К счастью, здесь дела обстоят гораздо лучше, — сказал он, поднимаясь с кресла и приближаясь к костру, чтобы разжечь трубку. Потом он вернулся, время от времени выпуская изо рта и носа дым. — Инквизиция в этих землях пока не приобрела такого же могущества, хотя не из-за недостатка желания, это уж точно. — Оно и лучше для вас, потому что у нее нет сострадания. Когда мой отец заявил перед судом, что в обычном прелюбодеянии нет ничего незаконного, инквизиторы удвоили интерес и выяснили, что он не знает ни Символ веры, ни другие основные молитвы, и потому приказали обыскать наш дом и среди двадцати больших и малых книг обнаружили несколько запрещенных, согласно списку Кироги от 1584 года *["437]. — Вы хорошо знакомы с этим вопросом, — сказал капитан, снова сев в кресло. — Только в том, что касается меня, как в случае с отцом. Я не умею ни читать, ни писать, но хорошо запоминаю то, что мне интересно. — И какие же они нашли книги? Вы знаете названия? — Я помню лишь одну, поскольку, как я уже сказала, сеньор, я не умею читать. Если мне не изменяет память, она называется «Жизнь Ласарильо из Тормеса» или как-то в этом роде *["438]. — Отличная книга, как по мне! — не смог сдержаться капитан. Я удивленно уставилась на него. — Неужели вы ее читали? Кара за это, сеньор, — отлучение от церкви. — А что случилось с вашим отцом потом? — спросил он, уклонившись от ответа. — Он подхватил лихорадку и умер. Наша жизнь была разрушена. Наше имущество забрали, отобрали даже дом, кузницу закрыли, а оружие распродали по хорошей цене. Матушка просила помощи у должников и друзей, а также у своих родственников в Сеговии, но никто не хотел приютить семью, которую пометила инквизиция. Вы знаете, как это бывает. — Наслышан, — отозвался он, сменив позу. — А что случилось с вашей матушкой? — Точно мы этого так и не узнали, сеньор, — я столько времени не разговаривала, что у меня уже начало болеть горло, не только от избытка слов, но и из-за того, какую тоску навевали на меня воспоминания. — После смерти отца она изменилась. Мы поселились в убогой квартире, которую арендовали у гильдии оружейников Толедо, неподалеку от площади Сокодовер. С нами никто не разговаривал, даже не здоровались на улице, а медяки в кошельке кончались. Мне кажется, что она просто не выдержала, повредилась рассудком от горя и вины, и потому бросилась в реку. Мы погрязли в долгах, потому что тетушка Доротея приносила нам каждый день еду, хотя и брала ее в кредит. Капитан всё в большем беспокойстве ерзал в кресле, перекладывая тонкую глиняную трубку из одной руки в другую, словно она его обжигала. Если ему не нравится это слышать, то тогда зачем спрашивает? Хватит уже копаться в моей жизни. — И вот в этих печальных обстоятельствах, — сказал он, — появился дядя и спас вас. — Не совсем так. — Вы сказали, что вашу матушку звали Херонима Паскуаль? — Именно так. — И что у нее есть брат на острове Маргарита? — Мой дядя Эрнандо, именно так. — Эрнандо Паскуаль из Сеговии! — весело воскликнул он. Мое сердце ухнуло в груди. Он знаком с дядей? Отвезет меня к нему? — Уже многие годы я веду торговлю с Паскуалем и его компаньоном Педро Родригесом. Оба они — милейшие люди! Они владеют мастерской по производству латунных изделий на острове Маргарита и продают превосходную продукцию. Тут на пляже появился негритенок Хуанито, отправленный в мое жилище за документами, и возбужденно подбежал к капитану, держа в руке жестяной футляр. — Надеюсь, что вы меня не обманули, — пробормотал капитан, поднимаясь и направляясь к Хуанито, который даже не запыхался. — Вы это хотели, капитан? — отрывисто спросил он. — Да. Благодарю. Возвращайся к работе. Вернувшись на свое место, сеньор Эстебан открыл футляр и развернул документы. Наша длительная беседа удивила моряков, которые время от времени бросали на нас взгляды. Я заметила, что они стали расспрашивать Хуанито, как только он отошел от нас. — Что ж... — произнес сеньор Эстебан, просматривая бумаги. Выражение его лица изменилось. Он снова вытащил из кармана очки и поспешно их напялил, скривив рот, что мне совсем не понравилось. Он нашел мой брачный контракт? А коли так, может, ему это не понравилось, раз он был знаком с моим дядей и увидел имя сына его партнера рядом с моим в этом церковном документе. — Так вы замужем за Доминго Родригесом! — воскликнул он. — Заочно, сеньор, — кивнула я. — Мы заключили брак летом, перед путешествием, через несколько недель после смерти моей матушки. Такое условие поставил дядя, чтобы принять нас в своей семье на острове Маргарита. Но капитан меня не слушал. Он разразился таким потоком брани, какой я не слышала даже из уст матросов на каравелле, хотя они были людьми весьма грубыми. Его крики и проклятья привлекли внимание моряков, которые побросали факелы и побежали к навесу. Увидев это, сеньор Эстебан резко умолк и остановил их жестом, велев возвращаться к работе, а когда он повернулся ко мне, в его глазах читалась такая ярость, что мне показалось, будто на меня взирает сам Люцифер. — Вы знаете, что натворили, девочка моя? Знаете, что натворили? — повторял он. Я испугалась по-настоящему. — Говорите же, сеньор! — взмолилась я. Он, сам того не осознавая, уже протоптал вокруг меня глубокую канавку. — Доминго был здоровым и обычным ребенком, — начал он печальный рассказ, остановившись. — Я еще помню, как он бегал по улице рядом с латунной мастерской. Он во всем помогал отцу, пока в десять лет мул не лягнул его по голове, чуть не лишив жизни, и с тех пор он лишился рассудка. С того несчастного дня Доминго потерял дар речи и лишь пускает слюни, а когда он достиг возраста мужской зрелости, то стал преследовать и домогаться женщин. Его тело — как у взрослого мужчины, но разум — как у новорожденного младенца. Я настолько растерялась, что не могла вымолвить ни слова. — В одной из своих поездок на Маргариту я услышал от Педро Родригеса, — продолжал капитан, — что он готов положить в постель своего единственного сына хоть индианку или негритянку, да хоть портовую шлюху, лишь бы она родила ему здорового внука, который унаследует его часть предприятия. Проблема заключалась в том, что не нашлось ни негритянки, ни индианки, ни портовой шлюхи, которая бы согласилась лечь с этим пускающим слюни юнцом, омерзительным и похотливым, без одного уха и половины головы, и это в самом прямом смысле слова, потому что удар мула разбил ее на столько кусочков, что лишь некоторые хирургам удалось поставить на место. Отец держит его под замком, чтобы он не досаждал всем девицам Маргариты, а еще потому, что временами он ведет себя буйно. По моему телу градом лил пот, и не из-за привычной жаркой погоды. Меня охватила паника. И этот омерзительный тип — мой муж? Но о чем думал дядя, когда предательским образом вручил меня этому безумцу, который больше заслуживает жалости, чем положенного мужу уважения? Наверное, он решил, вот мерзавец, выдать меня на скорую руку, да на долгую муку. — Как я погляжу, — в дурном расположении духа закончил свою речь капитан, — похоже, вас заманили с помощью грязного трюка, чтобы вы дали жизнь внуку Педро Родригеса. Лучше бы вы оказались негритянкой, индианкой или портовой шлюхой. И он разразился еще одним потоком ругательств в сторону тех двоих с Маргариты, которые сделали меня несчастной до конца дней. Как бы я когда-то ни жаловалась, сейчас я поняла, что на этот остров меня привела удача. И до окончания путешествия я встретилась с ней еще тысячу раз. — Оставьте меня здесь, сеньор, — попросила я капитана. — Не заставляйте встретиться с кошмарной судьбой. Умоляю, сохраните в тайне мое пребывание на этом острове, когда закончите работы с кораблем, и плывите с миром. Я могу сама о себе позаботиться, как до сих пор и делала. Разъяренный и изможденный сеньор Эстебан рухнул в кресло. — Замолчите, сеньора! — велел он. — Дайте мне подумать. — Могу я пока вы раздумываете приготовить что-нибудь поесть? Ведь уже за полдень перевалило. Не знаю почему, но несмотря на все несчастья, я проголодалась. — Нет! — рявкнул он, не шевельнувшись. Я тоже осталась неподвижной и сидела на песке, наблюдая, как моряки выбрасывают свои факелы в костер, вытаскивают из котомок большие рубанки и точат их о камни, радостно напевая мадригалы и баллады. Несмотря на грубое поведение, они были веселыми людьми, получающими удовольствие от жизни. Возможно, подумала я, удача по-прежнему на моей стороне, раз я попала в руки того, кто может решить мои проблемы. — Вот что мы сделаем, сеньора, — внезапно произнес капитан, выпуская большое облако дыма. Недавно инквизиция выступила против курения табака, но, похоже, ничто не могло пронять тех, кто приобрел эту привычку. — Сохраните ваши документы в секрете. Вы больше не будете Каталиной Солис. Забудьте про нее. Твердая Земля — это огромное пространство, гигантское по размерам, но малонаселенное. И потому мы все друг друга знаем, хотя города и поселения отстоят далеко. Если Каталина Солис появится живой и здоровой, ваш дядя и свекр тут же потребуют вашего приезда, и вы не сможете ускользнуть от своей судьбы. Вы сами упомянули, что после Тридентского собора *["439] церковь стала весьма внимательно относиться к моральным устоям народа. Каким бы недоумком ни был Доминго Родригес, в глазах церкви он ваш супруг, которому вы обязаны хранить верность и делить ложе, чтобы зачать сына, таковы брачные клятвы, а юноша, без сомнения, превосходно может исполнять супружеские обязанности. Вы также не можете появиться как Мартин Солис, по той же причине — известия достигнут ушей вашего дяди, и он затребует вас к себе, как единственный родственник, поскольку Мартин еще несовершеннолетний. Так ведь? — У нас с братом была разница в два года и несколько месяцев, — с горечью ответила я, — так что теперь ему исполнилось бы пятнадцать. — Как я и сказал, — кивнул он. — Значит, и Мартином Солисом вы быть не можете. — Повторяю, сеньор, оставьте меня на острове, здесь я жила счастливо и в довольствии, пока вы не прибыли, и здесь могу прожить до конца своих дней, если меня оставят в покое. — Хватит болтать глупости! — резко оборвал меня он. — Как вы можете остаться на малюсеньком островке, положившись на милость судьбы? Разве вы не понимаете, что эти воды кишат английскими и голландскими пиратами, которые рано или поздно пристанут к этим берегам, как это сделал я? Ваш островок, сеньора, известен морякам — и испанским, и чужеземным. Эта бухта со спокойными водами великолепно подходит для ремонтных работ, а пираты всегда находятся в поисках мест вроде этого, чтобы прокилевать корабль или пополнить запасы пресной воды, набрать дров и разделить награбленное, потому что не всегда они могут или хотят везти всё обратно в свои страны, на случай, если изменения в законах или война переменит их судьбу. Ведут они себя, как пчелы, перелетающие от цветка к цветку, для них гораздо безопаснее разделить сокровища на мелкие части на таких островах (а подобных на Карибах множество), чем тащить всё с собой обратно, рискуя нарваться на испанский военный галеон. Понимаете? В тот день, когда будете меньше всего этого ожидать, вы можете попасть в лапы пиратов или корсаров, и они попользуются вами, прежде чем убить. — Но раз я не могу быть ни Каталиной, ни Мартином, так скажите же, в кого мне превратиться? Напоминаю вам, что у меня нет ни состояния, ни ремесла, я женщина и не знаю эти земли. — Я уже обо всём этом подумал, — обиженно объявил он, — и нашел решение. Как я уже говорил, из-за цвета кожи вы можете легко сойти за метиса, койота или квартерона, что автоматически означает, что вы происходите не из Испании. У местных индейцев к тому же отсутствует растительность на лице. Теперь-то я поняла, кто такой на самом деле Эстебан Неварес! Он назвал себя креолом, сыном испанца, рожденным в Индиях, но в его жилах течет смешанная кровь. Похоже, его мать была не христианкой, а индианкой, и потому у него нет на лице волос, а кожа — цвета спелых фиников. Эстебан Неварес — метис. — Таким образом, отсутствие растительности будет преимуществом, так же как и сросшиеся брови, волосы на висках и загорелая кожа. Вы достаточно высокого роста, волосы гладкие, руки мускулистые — вы легко превратитесь в моего незаконнорожденного сына, которого я прижил с индианкой пятнадцать лет назад и забрал от матери во время этого путешествия, чтобы сделать своим наследником. Не беспокойтесь о правдивости или лживости этой истории. Сыновья-метисы — это реальность в нашей части империи. Подумайте о том, что когда прибыли первые конкистадоры и колонисты, у них не было испанских женщин, и многим пришлось взять в жены дочерей местных вождей, и от них родились дети, которые хоть и зовутся креолами, да таковыми вполне законно и являются, на самом деле имеют в крови как чистоту испанских идальго, так и благородство индейских монархов, от коих происходят. Я чуть не рассмеялась. Эстебан Неварес рассказал мне собственную историю, не упомянув при этом себя. Да, как он и сказал с самого начала, его отец прибыл в Индии с адмиралом Колумбом в его последнем путешествии, а мы говорили о первых конкистадорах и первых колонистах, так ведь? И судя по его преклонному возрасту, цвету кожи, волосам и всему прочему, теперь я уже не имела сомнений, что его мать была одной из тех благородных дочерей вождей — что бы это ни значило — которые подарили конкистадором детей. Полагаю, что те испанцы хотели вручить своим сыновьям, хоть бы и метисам, свое наследство, так что признали их законными и назвали креолами, не беспокоясь о чистоте крови. Этот вопрос начал их беспокоить, лишь когда много лет спустя в Новый Свет стали прибывать испанки. Моряки Эстебана Невареса теперь столпились у корпуса корабля, соскребая с него обугленные остатки, оставляя с правого борта лишь гладкие и чистые доски. — В чем заключается килевание, о котором вы говорили, сеньор? — полюбопытствовала я. — Так что, мое предложение вас не заинтересовало, сеньора? Хотите оттянуть время этими вопросами, чтобы еще над ним поразмыслить? Я на мгновение задумалась и сказала: — Я приняла ваше предложение в тот самый миг, когда вы его сделали, сеньор Эстебан. Что еще мне остается? Я не возражаю превратиться в вашего сына, хотя и придется перестать быть женщиной, кем я предпочла бы оставаться. Однако я прекрасно понимаю, что в этой игре сама судьба сдает карты, и я лишь могу принять и согласиться с тем, что, безусловно, является сейчас для меня наилучшим. — Хорошие слова, сеньора. Начиная с этой минуты и с вашего разрешения я буду считать вас своим сыном Мартином Неваресом, называть вас так и обращаться как с сыном даже наедине, как и перед всем светом, чтобы не совершить ошибку. С этого самого мгновения вы перестанете думать о себе как о женщине и навсегда забудете имя Каталины Солис. Согласны? — Конечно, сеньор. Я весьма вам признательна. — Не называйте меня ни сеньором, ни сеньором Эстебаном. Вы обязаны, хоть вам это и сложно, называть меня отцом и вести себя как сын отныне и навсегда. Знайте, что хотя вы и не унаследуете после меня никакого, даже скромного имущества, но во всем остальном будете моим сыном и должны откликаться на имя Мартин Неварес. И первым делом должны забыть про привычку смотреть в пол и научиться глядеть мужчинам в глаза, потому что с этой минуты вы — мужчина. При воспоминаниях о настоящем отце меня охватила грусть, но он был бы доволен этой заменой, потому что, несомненно, это было для моего же блага. — А ваши моряки... отец? — я так стеснялась произносить это слово по отношению к незнакомцу, что почувствовала, как покраснела до корней волос, но подняла голову и посмотрела ему в глаза. — Они ведь знают, что вы нашли меня здесь. — О них не беспокойся, сынок, — ответил тот на удивление уверенно, учитывая то, насколько неловкой для нас обоих была эта ситуация. — Как и о хозяюшке, которая дала свое имя этому кораблю, Марии Чакон, и о всей ее родне, с которой ты познакомишься. — Вы женаты? — Не в церкви, как ты. Но женат по совести и в ее глазах, и только это имеет значение. Я провел с этой чертовкой больше двадцати лет, — продолжил он, растянув губы в широкой улыбке, словно внебрачное сожительство было самым лучшим выбором, и, снова сев в кресло, взял в руки лютню. — Я ни разу об этом не пожалел. Хотя, несомненно, инквизиция приговорила бы меня за это, как поступила с вашим отцом. И тронув струны, он запел своим приятным голосом ту же песенку, что я слышала утром из хижины: Вам готов я услужить, Такова моя судьбина. Жизнь готов я положить, Коли буду я покинут. Услышав это, моряки бросили работу и приблизились к нам. Некоторые достали из корзин буханки хлеба, сыр, говяжью и свиную солонину и сушеную рыбу, а кто-то притащил еще и бутылки с вином. Мы уселись в кружок на песке под навесом, за исключением сеньора Эстебана, сидящего на стуле, и перед тем как приступить к трапезе, мой новый отец обратился к своим людям: — С сегодняшнего дня и навечно, — торжественно объявил он, — для всех вас этот молодой человек без дальнейших объяснений превратится в моего сына Мартина Невареса. Когда мы вернемся на Санта-Марту и во всех портах, куда мы зайдем, если вас спросят, вы будете всем объяснять, что я прижил его с индианкой из племени араваков в Пуэрто-Рико и забрал его во время этого плавания. Все кивнули. — А что скажет сеньора Мария? — спросил один из них с некоторым беспокойством. — Поначалу, наверное, поднимет крик до небес, как вы можете себе представить, — спокойно согласился капитан, — но потом он просто станет еще одним ее сыном, и она будет оберегать его и заботиться, пока вконец не избалует. Моряки расхохотались и, обмениваясь шутками, начали довольно утолять голод. Тогда я впервые смогла рассмотреть их без спешки. Один юнга, Хуанито, был негритенком лет семи или восьми, а второй, Николасито, индейцем не старше шести. Из восьми моряков те, что схватили меня, Антон и Мигель, были мулатами (Антон был плотником и конопатчиком, а Мигель — коком), штурман Гуакоа был индейцем и почти не размыкал губ, разве что для еды, всегда держась в сторонке, остальные пятеро — негр Томе, индеец Хаюэйбо и испанцы Матео Кесада, урожденный в Гранаде, Лукас Урбина из Мурсии и Родриго из Сории — все отличные ребята и умелые работники, как я позже смогла убедиться. В тот же день после трапезы я присоединилась к команде как еще один моряк. Килевание состояло прежде всего в том, чтобы сжечь толстый слой ракушек и водорослей, которые прилипали к корпусу во время плавания и делали корабль более медленным и тяжелым. Потом с помощью скребков эту обугленную массу счищали и обрабатывали древесину смолой и серой, чтобы защитить ее от стихии. Наконец, чтобы закрыть щели и придать кораблю большую скорость, нужно было вручную положить толстый слой вонючего жира. Новый отец ничего не сказал про жалованье, но будет он мне платить или нет — я всё равно наслаждалась этим занятием. Когда прилив снова поставил корабль на воду, мы отправились спать, а мне разрешили отдохнуть в своем жилище на холме в последний раз. Несмотря на усталость и боль от мозолей на руках, прежде чем рухнуть в постель, я собрала узелок с моим скудным имуществом и с грустью попрощалась с этим местом. На следующий день, на заре, оба юнги, Хуанито и Николасито, вошли в мое жилище, чтобы меня разбудить, помогли перенести мой стол-шлюпку и снова приставили к работе, поскольку мужчины, воспользовавшись первым отливом, начали опаливать правый борт корабля, лежащего теперь на левом борту. Мы трудились весь день, а с наступлением сумерек, когда начался прилив, корабль снялся с якоря и покинул риф. Я уплыла с острова так же, как и прибыла туда: ночью и вымотанная до предела, но теперь я была довольна, что плыву на прекрасной шебеке, которую уже немного считала своей, потому что вложила в нее столько сил. Я пока не была с ней знакома изнутри и ничего не знала о грузе, особенностях и мореходных качествах. По правде говоря, я не имела ни малейших представлений об искусстве мореплавания, но первое плавание на «Чаконе» было поучительным и принесло много открытий. Пока мы отдалялись от острова, я поклялась, что сколько бы времени это ни заняло, когда-нибудь я на него вернусь.Глава 2
Подгоняемые сильными ветрами, на следующий день мы пришвартовались в Тринидаде и в тамошнем порту сеньор Эстебан поприветствовал торговцев и жителей острова, которые пришли, как только узнали о нашем прибытии, и продал им продовольствие, что мы привезли: масло, мед, уксус, вяленую говядину, миндаль, вино и крепкое спиртное, каперсы, а из прочих товаров — часы, картины, мыло, буквари для детишек, чтобы учились читать и писать, железные фонари, сверла, зеркала, ножницы, иглы, нитки, кружева и шляпы, ткани, ножи, мотыги, лопаты, гребни, нотные листы и тексты песен, подушки, плуги, упряжь для мулов и лошадей, бумагу, молотки, духи и одеколоны, лекарства, и, что самое главное, — воск для освещения домов и церквей и парусину для починки кораблей. Многие эти вещи отдавались не за деньги, а в обмен на другие товары, потому что, как мне сказали, в Индиях не хватало наличных, поскольку все металлы отправлялись в Испанию, как золото и серебро, так и медь, отсутствовал также жемчуг, который миллионами добывали на Твердой Земле, как и любые другие ценные предметы, которые можно было бы использовать в качестве монет. По этой причине мы загрузили в Тринидаде большое количество какао, гипса, говядины, кокосов (это оказались те самые орехи с белой сочной мякотью, покрытые коричневыми волосками), домашнюю птицу, деготь и уголь. Ветра и течения в этом районе были направлены в сторону побережья, к Санта-Марте, так что плавание было быстрым и приятным, а расстояние между городами показалось довольно небольшим. После Тринидада мы проплыли мимо необитаемых островов Лос-Тестигос и всего через два дня прибыли на Маргариту. Глашатай объявил о нашем появлении, и вскоре порт наполнился торговцами и местными жителями, заинтересованными в наших товарах. Отец запретил мне сходить на берег, чтобы не никоим образом не рисковать нарваться на дядю Эрнандо, так что я осталась на корабле одна, наблюдая, как все весело удаляются в шлюпке. Я воспользовалась этим, чтобы опорожнить мочевой пузырь без обычных опасностей, поскольку во время плавания мы должны были пройти до гальюнной фигуры *["440] на носу и оттуда свеситься в море — к счастью, там мы находились не на виду, что позволяло мне справлять нужду, поскольку бьющиеся о борт корабля волны всё смывали. В ожидании возвращения моего нового отца и товарищей я сильно скучала, правда, по крайней мере, получила возможность осмотреть весь корабль в свое удовольствие. «Чакона» была старой шебекой с тремя мачтами, без марселей (бизань на корме, грот посередине и фок на носу с маленьким развевающимся вымпелом), с латинским парусом *["441], легким корпусом и единственной палубой, с неглубокой осадкой, высоким носом, а на юте возвышалась бизань, под которой находилась каюта моего отца, корабль был так быстроходен, что с легкостью мог опередить любой другой. «Чакона» была водоизмещением около шестидесяти тонн и составляла тридцать вар в длину, двадцать в высоту и восемь в ширину. Ее корпус, как я позже выяснила, был обит бронзой с помощью деревянных шпилек, так что это был отличный корабль, надежный и с хорошими мореходными качествами. Ниже палубы находились кормовой и носовой трюмы, где хранились товары, отсек для припасов, якорное и канатное отделение и каюта боцмана, которую раньше использовали для хранения оружия и пороха, а теперь она превратилась в мою личную каюту. Если моряки сеньора Эстебана и возражали простив этой исключительной привилегии, которой капитан одарил незнакомого юношу, то ничего не сказали по этому поводу. Они спали на палубе, под открытым небом, в странных постелях, купленных у индейцев, которые звали гамаками. Гамаки делались из тонких хлопковых тканей и были длиной в две-три вары и отлично сшиты. С их концов свисали веревки, которые привязывали к такелажу, постель висела в воздухе, как качели. Днем они их снимали, расчищая палубу, чтобы можно было заниматься обычными делами. Жизнь на борту была очень простой. Утром мы просыпались еще до зари, мылись в ведрах, завтракали, вычерпывали собравшуюся за ночь воду, проверяли и зашивали паруса (на море ни одна ткань долго не выдерживала) и осматривали такелаж. Только штурман Гуакоа не принимал участия в этих занятиях, потому что не мог оставить свой пост в рубке. Ближе к полудню мы обедали. У нас всегда была вода или вино, кукурузные галеты вместо хлеба, иногда мы ели рыбу с горохом или фасолью, а в другие дни — солонину с кашей. По воскресеньям дополнительно был сыр в оливковом масле. Мулат Мигель, кок, готовил пищу в большом железном чане в очаге, который стоял прямо под открытым небом около грот-мачты. По вечерам мы скребли палубу с уксусом и солью и окуривали нижние отсеки и трюмы серой, чтобы не завелись крысы и тараканы. Потом мы ужинали тем же, что было на обед, а перед сном отец с моряками пели, аккомпанируя себе на лютне и флейте (на ней играл Лукас Урбина), или играли в карты — длинные и эмоциональные партии в короля, которые иногда заканчивались криками и ударами по столу. Родриго из Сории несколько лет был хозяином игорного дома в Севилье и владел всеми шулерскими приемами в карточных играх: он знал, как крапить карты, прятать и добавлять нужные во время партии, как сдавать себе лучшие и подменить одну колоду на другую, как обмануть при тасовании, как подавать сигналы и прочее в таком же духе. По этой причине он никогда не принимал участия в игре и ограничивался лишь ролью судьи в спорах, коих было бесконечное множество. Хорошо хоть они играли не на деньги, иначе это могло бы довести до беды. К счастью, тот долгий день в порту Маргариты, проведенный в одиночестве, с наступлением сумерек закончился, когда на корабль вернулась шлюпка с водой для плавания и новыми выменянными товарами: кукурузой, просом, маниокой, картошкой и ананасами — всё это было для меня незнакомо, но очень вкусно и питательно, в чем я убедилась в последующие дни, когда Мигель добавил их к рациону. Еще они привезли хлопок, табак и кофе, но не очень много, потому что, как оказалось, эти товары редкие и дорогостоящие. От всех этих мелких торговых сделок в портах корона имела приличную часть. Отцу приходилось платить большие налоги, но самым серьезным был налог под названием альмохарифасго — десятая часть с каждой продажи, что откусывало весьма существенную долю. Города могли оказаться всего лишь кучкой домов из глины и дерева, без солдат и пушек для защиты от пиратов, а колонисты не имели ни продовольствия, ни одежды, но там всегда присутствовала пара чиновников королевского казначейства, занимающаяся таможенным осмотром и не позволяющая пронести мимо своего носа ни единой курицы без уплаты по тарифу. — Я думал, что в этих землях все богачи, — сказала я отцу в ту ночь, — но, как я погляжу, здесь столько же бедности и нужды, как и в Испании. Почему у людей ничего нет? — Потому что ежегодный флот не приходит, когда должен приходить, — объяснил он, остановившись на минутку рядом со штурманом Гуакоа, который спросил, какой румб брать в сторону Кубагуа, нашего следующего места назначения. — Лишь Испания может поставлять все необходимые припасы на рынки Индии. Ни одна другая страна не имеет разрешения здесь торговать, так что если испанских товаров недостаточно, чтобы нагрузить ими корабли, или получены известия о пиратах на пути следования флота, то отправка задерживается до полной загрузки или до исчезновения английской, французской или голландской угрозы, таким образом, нам постоянно всего не хватает. — Но ведь отсюда происходят горы золота, серебра и жемчуга для короны, — возразила я. Что-то ведь да остается. — Ошибаешься, — очень серьезно ответил он. — Колонисты в этих поселениях всегда нуждаются во всем. Для чего нужно золото, если на него нечего купить? А кроме того, если ты обладаешь золотом, серебром, жемчугом или драгоценными камнями, которые тоже здесь имеются, пираты отнимут всё во время своих регулярных рейдов на города. То небольшое богатство, которое остается, растрачивается на войны с индейцами, поскольку корона не предоставляет в достаточном количестве ни корабли, ни солдат, ни оружия, ни пороха; не строит достаточно крепостей для защиты своих подданных от атак еще непокоренных племен, ведь ей приходится вести войну за католическую веру в Европе. За всё местные жители расплачиваются своим имуществом, вдобавок, хотя земли здесь плодородные и благоприятны для возделывания и разведения скота, жители не могут получить к ним доступ, так как они принадлежат немногим богачам, которым выдала землю корона, заинтересованная лишь в добыче золота и серебра. Более того, если что и могло бы уменьшить бедность жителей этих земель, так это плоды собственного труда, но люди вроде меня платят в королевское казначейство высокие налоги. Так что, по правде говоря, для колонистов ничего не остается. На Кубагуа я была почти освобождена от дел торговли и обращения с весами. По правде говоря, там почти не осталось жителей — недавно там исчерпались запасы жемчужниц, и жители покидали дома в поисках лучших мест для проживания, но я чувствовала себя королевой (или королем), продавая товары вместе с отцом. Кубагуа славился ловкостью своих индейцев, ныряющих за жемчугом. — Об этом тебе может рассказать Хаюэйбо, — объявил отец за ужином. Он отсюда. Матрос Хаюэйбо оторвал глаза от тарелки и через левый борт посмотрел на остров. В его взгляде читалась мука. Как и штурман Гуакоа, матрос Хаюэйбо был не слишком разговорчивым. Оба индейца оказались молчаливыми и замкнутыми людьми, хотя Хаюэйбо чаще смеялся и делил повседневные заботы с товарищами, а Гуакоа всегда держался отстраненно, с серьезным лицом и в молчании. Он безусловно был превосходным штурманом, который не нуждался ни в лоциях, ни в картах, чтобы вести корабль, днем он ориентировался по солнцу, а ночью — по звездам, но его молчаливость и осторожное поведение вызывало у меня определенное беспокойство. Хаюэйбо, происходящий из племени гуайкери, вел себя по-другому. — Целый день мы плавали под водой, — начал хрипло объяснять он. Он был еще довольно молодым человеком, лет двадцати семи или двадцати восьми, с острым орлиным носом. — Целый день без отдыха... — печально повторил он. — С самого утра и до заката. Мы ловили ракушки на глубине в четыре или пять саженей *["442], вытаскивая корзины, заполненные до отказа, как и наши легкие. Многие друзья и родные так никогда и не вынырнули из-за акул, которые здесь водятся. Энкомендеро *["443] заставляли нас погружаться без отдыха, — добавил он с горечью. — Хаюэйбо — превосходный ныряльщик, — весело вставил отец. — И к тому же — свободный человек. Сейчас он законный подданный короны и добрый сын церкви. Через несколько мгновений молчания все разразились смехом, включая самого Хаюэйбо и даже Гуакоа. Тогда я поняла скрывавшуюся в словах отца иронию. Вскоре я поняла, что больше всего в Новом Свете страдали индейцы, которые уже находились на грани исчезновения из-за привезенных из Европы и с востока болезней и изнурительной работы под гнетом энкомендеро. Система энкомьенды функционировала по всем Индиям и состояла в том, что завоеванных туземцев корона распределила между испанской знатью и прочими почетными гражданами. Индейцы были обязаны работать на них за жалованье, а также приобщались к христианскому учению, таким образом находились необходимые работники для извлечения богатств Нового Света. Хотя по закону индейцы были свободными людьми, на самом деле энкомендеро обращались с ними как с малоценными рабами, поскольку они ничего не стоили, в отличие от негров, которых приходилось покупать на рынке. Следуя за ветрами, курсом на Куману, после Кубагуа мы прибыли в Борбурату — прекрасное место, хотя и малонаселенное по вине постоянных пиратских набегов. В ее порту многочисленные команды чинили корабли, пополняли припасы и набирали воду в ближайшей реке Сан-Эстебан. Там мы поменяли наши товары на другие, столь же странные, что и приобретенные в предыдущих портах, моим любимцем стал вкуснейший фрукт под названием банан. Также мы купили соль и апельсины. Через четыре дня после Борбураты мы добрались до островов Коро, Кюрасао и Бонэйр, где наполнили трюмы сахаром, имбирем, медом, пшеницей, кукурузой, мясом, жиром и шкурами. Я в жизни своей не пробовала сахара, и мне он показался весьма вкусной приправой, которую я быстро полюбила. Воды здесь были гораздо более беспокойные и бурные, чем на остальном побережье. Корпусам кораблей угрожали страшные рифы, и Гуакоа пришлось проявить мастерство и осторожность, ведя судно через узкие бреши в коралловом барьере в гавань. На Кюрасао я впервые увидела, что отец отвергает работорговлю. Один его знакомый из Буэнос-Айреса предложил по хорошей цене шесть превосходных рабов: двух мужчин, двух женщин и двух детей, негров с побережья Гвинеи. — Я никогда не практикую эту подлую торговлю, — прошептал он мне на ухо, — недостойно приличному человеку владеть другим, как вещью. По природе своей все люди свободны, вне зависимости от цвета кожи. И сказав это, он подошел к неграм и резким жестом оторвал пуговицы на рубахе одного из мужчин, обнажив его торс. — А где клеймо? — раздраженно крикнул он продавцу. — Не вижу на этом рабе клейма королевского казначейства. Как вы смеете продавать незаконный товар, за который не уплачено налогов короне? Эй, сюда! — обратился он к чиновнику таможни, прохаживающемуся по рынку и жующему фрукты. — Сюда! — Убирайтесь отсюда! — рявкнул продавец живого товара. — Вечно вы устраиваете переполох, где бы ни появлялись, Эстебан Неварес! — Ступайте с Богом, сеньор Алонсо Лопес, — высокомерно ответил отец, сделав чиновнику знак, чтобы тот не приближался. Плотник Антон Мулато, кок Мигель Малемба, матрос по прозвищу Черный Томе и юнга Хуанито Гунгу посмотрели на моего отца с восхищением. Я поняла, что они без лишних раздумий отдали бы за него свою жизнь. Как я убедилась в последующие дни, это относилось и ко всей остальной команде. По этой причине, а также по другим, о которых я еще расскажу, они уважали моего отца больше, чем можно себе представить. Эстебан Неварес был человеком чрезвычайной честности и достоинства, с чистой совестью, которого возмущала несправедливость. Отплыв с Кюрасао, мы прошли неподалеку от Арубы, Маракайбо и мыса Вела, не приближаясь к ним, и через два дня ходапри сильных северо-западных ветрах прибыли в Риоачу. Мы уже находились совсем рядом с Санта-Мартой, как сообщил однажды вечером отец, и сеньора Мария уже учуяла наш корабль и начала готовиться к приему. — И откуда она знает, когда мы приплывем? — удивилась я. — За двадцать лет мне так и не удалось это выяснить, — ответил отец, ухватившись за снасти, чтобы подойти к штурвалу, — но она никогда не ошибалась. Риоача была важным центром добычи жемчуга, где мы наторговали почти на тридцать пять песо и восемь реалов серебром, то есть на десять тысяч мараведи. Глашатай созвал всех колонистов на берег, поскольку уже несколько недель сюда не заходил ни один другой торговец, и отец преуспел в торговле, что мы отметили, выпив рома в одной из таверн города. В тот день я многому научилась: первое, что ром — это отличная выпивка, сделанная из сахарного тростника; второе, что в тавернах не подают еды, только вино, ром, чичу и самогон, и по этой причине туда часто заходят всякие бродяги и преступники; третье — что в тавернах мужчины только и делают, что болтают всякую чепуху и глупости, сидя на скамьях или стульях; а четвертое и последнее — что то ли из-за того, что я женщина, то ли из-за недостатка опыта, но я не могу выпить столько же, сколько отец и мои товарищи. Я не помню, ни как закончился вечер, ни как я добралась до корабля, ни даже как оказалась в своей койке, накрытая одеялом. Я лишь знаю, что на следующий день, когда мы уже направлялись к Санта-Марте, меня одолевали приступы тошноты, так что я многократно опустошала желудок и чуть не выблевала за борт свои кишки, как при чумной лихорадке; меня мучила такая головная боль, что разбивающиеся о борт корабля волны отдавались в ушах грохотом барабанов. Я помню, как смотрела на береговую линию, состоящую из ущелий в красной глине, пока мы удалялись от Риоачи. — Умунулуну! Умунукуну! *["444], — закричал Гуакоа тем вечером, когда я несла четырехчасовую вахту, а остальные драили палубу. Вытянутой рукой он указал на громадные горы, без сомнения, самые высокие в мире, чей силуэт вырисовывался на горизонте. Все стали кричать и радоваться и побросали свои занятия, чтобы подойти к борту и посмотреть на огромные вершины. Прямо перед нами находился маленький островок. Гуакоа повернул, чтобы войти в невидимый проход между островом и побережьем, и обогнув скальный выступ, на котором стояла хижина, мы вошли в прекрасную бухту с бирюзовыми водами и красивым пляжем в форме морской раковины, где располагался городок с рядами низких домов из тростника и соломы. Вокруг домов простиралась широкая равнина, а за ней — дикие джунгли, густое зеленое одеяло, быстро поднимающееся по отрогам гор до громадных заснеженных вершин, что окружали Санта-Марту. Отец, которого я уже начинала ценить, приблизился ко мне и положил руку на плечо. — Тот островок, который мы только что прошли — это Морро. Бухта, где мы находимся, называется Кальдера. Горы, которые Гуакоа назвал Умунукуну, это Сьерра-Невада. Она выходит оттуда, — махнул он в сторону устья реки, спускающейся с гор справа от поселения. — Это Мансанарес, она течет на юго-запад и названа так в честь одного мадридца, который много лет прожил в этих краях. Сейчас сухой сезон, и уровень воды низкий, но вот увидишь, какой она станет с июня по октябрь, во время сезона дождей. Вскоре ты посетишь и болота с трясинами, что находятся на другом берегу Мансанареса. Они самые большие в мире. Этот город, сынок, первый из тех, что основали в Новом Свете. Говорят, что им была Кумана, но это вранье. Первой была Санта-Марта в 1525 году, ее основал конкистадор Родриго де Бастидас. Раньше у нас было больше жителей, но после многочисленных нападений пиратов осталось лишь семьдесят. Похоже, отец внезапно разозлился. — Знаешь... Санта-Марту много раз грабили и сжигали дотла английские пираты. Всего пять лет назад корсар Фрэнсис Дрейк напал на город, отсюда, из Кальдеры, опустошил его и поджег. Лишь мой дом и дом губернатора уцелели. Мы еще не оправились от этого несчастья, когда немного погодя, в том же самом году, нас посетил омерзительный Энтони Ширли, еще один проклятый англичанин, укравший то немногое, что еще оставалось. Следуя по прямой и подняв паруса, «Чакона» направилась к пристани, где стояли еще два корабля (каравелла и каррака), и все мы выстроились в готовности для маневров по причаливанию. Жители городка стали собираться на пляже небольшими группами. Как только мы бросили якорь и спустили трап, отец мигом сошел на берег, чтобы поприветствовать соседей, которые бросились к нему с распростертыми объятиями и хлопали его по плечам и по спине. Он отвечал широкими улыбками, как король, позволяющий подданным себя развлекать. Мои товарищи по команде махали руками с палубы и непрерывно расхаживали туда-сюда, спеша закончить суету с причаливанием. Я не знала, что делать. Несомненно, сказала я себе, я последую за отцом, куда он захочет, пытаясь остаться как можно более незаметной. — Смотрите, соседи! — воскликнул сеньор Эстебан, указывая рукой на меня, я как раз наполовину высунулась за борт. — Вот мой сын Мартин Неварес. Стройная и изящная женщина с широким лицом и острым носом, примерно сорока с лишним лет, одетая в желтую юбку, белую блузку и корсаж, на котором сиял прекрасный шелковый платок, медленно приблизилась к отцу с выражением горечи на лице. — И когда это ты завел сына, о котором мне ничего не известно? — громко спросила она, и многие жители быстрым шагом направились обратно в город. Отец посмотрел на нее и улыбнулся. — Какая радость снова с вами увидеться, моя госпожа! — воскликнул он, раскинув руки, словно на распятии. — Повторяю вопрос, сеньор, если вдруг вы меня не слышали, — настаивала женщина угрожающим тоном, теперь уже множество соседей поспешили скрыться. — Откуда взялся этот сын, о котором я ничего не слышала до сегодняшнего дня? Отец, не прекращая улыбаться, решительным шагом приблизился к ней, снял черную шляпу и отвесил элегантный поклон. — Идемте, сеньора, сделайте милость, забудьте на время эти вопросы и примите меня как всегда, с радостью и удовольствием. — Какой радости и удовольствия вы просите, купец дьявола! Не вы ли уверяли меня, что никогда мне не изменяли, мерзкий негодник? Я в жизни не слышала подобного спора между мужчиной и женщиной, да еще и на улице, перед другими людьми. Мои родители, разумеется, никогда не разговаривали так грубо и непристойно. Но самое удивительное заключалось в том, что, насколько я знала, они даже не были женаты. — Мартин, — обратился ко мне отец с удовлетворением, — это та самая Мария Чакон, прекрасная госпожа моих потаенных мыслей, моя королева и сеньора до самой смерти, которой я вверил себя с того дня, как мы познакомились. Двое или трое отважных зевак, оставшихся, чтобы понаблюдать за этой сценой, ошеломленно молчали, как и я, поскольку просто потеряла дар речи при виде того, как отец смело обольщает создание, которое ждет ответа молча и мрачно подбоченясь. Мои товарищи на корабле собрались вокруг грот-мачты, подальше от глаз стоящей на причале Марии Чакон. Я уже начала по-настоящему тревожиться. Долгим взглядом обведя собравшихся, сеньор Эстебан сказал: — Пятнадцать лет назад в Сан-Хуане на Пуэрто-Рико я навестил одну индианку из племени араваков, служанку самого важного в городе человека, и, как мне сказали, в тот же день она забеременела и родила моего сына, которого назвали Мартином. Вот этот сын, — сказал он, театральным жестом ткнув в мою сторону пальцем, — именно в этом качестве вам следует его рассматривать и обращаться. Госпожа (хотя, по правде говоря, ее нельзя было назвать госпожой, поскольку она не была замужем) ревностно осмотрела его с ног до головы, а потом подняла голову, чтобы поглядеть на меня. В таком положении она оставалась некоторое время, переводя глаза с одного на другого, пока, наконец, не устала, после чего надменно дернулась, повернулась на каблуках и отправилась прочь, с силой погружая ноги в песок. — Жду вас дома, сеньор! — бросила она отцу. — Нам нужно поговорить! — Как пожелаете, сеньора, — ответил тот, весьма довольный. Мои товарищи тем временем с явным облегчением снова начали двигаться, поднимая из трюмов припасы и товары, которые предстояло отнести на склад при лавке, а другие чистили корабль и заканчивали прочие дела на нем, собирая свои пожитки. — Спускайся, Мартин! — приказал мне отец с берега. Я натянула свою прекрасную красную шляпу и молнией спустилась, встав рядом с ним на пристани. Отец по-прежнему удовлетворенно улыбался. — Всё прошло без сучка без задоринки, — сказал он, снова положив руку мне на плечо и подталкивая в сторону городка. — Вы уверены, отец? — Ты не знаешь ее так же хорошо, как я, — ответил он. — Она поумнее многих, уверен, что к этому времени она уже поняла почти всю правду. Ей не хватает кой-каких фактов, и она спросит о них, как только мы войдем в дом, но будь спокоен, она уже точно знает, что я ей не изменял и выдумал эту историю. Отец оперся о мое плечо, как слепой, и таким образом мы прошли по пляжу, оставив позади пристань, и вступили на площадь в форме квадрата, с домами справа и слева и зданием ратуши напротив, с окнами в сторону моря — на северо-запад, в ту сторону, где пряталось солнце. Вскоре на шести имеющихся в городе улицах уже не осталось света. — Завтра мы посетим ратушу и отдадим дань уважения дону Хуану Гуиралю, — провозгласил отец, — губернатору и военному наместнику этой провинции. Если он не в одном из своих походов против индейцев, я сообщу ему о твоем прибытии и о том, что ты будешь здесь жить. Мы прошли мимо ратуши и вступили в небольшую сеть узких пыльных улочек, словно собирались покинуть город с противоположной стороны. Более того, как раз когда я уже увидела перед собой тень от джунглей, отец свернул вправо и остановился перед входом в единственный, за исключением ратуши, дом, построенный на каменном фундаменте, с покрытыми белой штукатуркой стенами и черепичной крышей. Несомненно, это был самый роскошный и большой дом в Санта-Марте, насколько я до сих пор могла судить, и занимал площадь, равную двум или трем другим домам. Здесь я увидела деревянную дверь, которая, как сказал отец, вела в лавку, а чуть дальше находилась другая приоткрытая дверь, откуда слышались музыка и смех. — Предприятие сеньоры Марии, — с улыбкой объяснил отец. — Предприятие? — удивилась я. — Мария — владелица этого публичного дома, самого известного на Карибах. Ты разве не видел большие корабли у причала? Я бы и хотела ответить, да не смогла: узнав, что Мария — проститутка, матрона девушек, служащих для развлечения, я просто окаменела. Я никогда не знала ни единого подобного человека, а судя по тому, что мне рассказывала тетушка Доротея, они были кошмарными женщинами, бесформенными и старыми, которых многочисленные сношения с мужчинами и самих превратили в подобие мужчин, с бородой на подбородке, широкими плечами и кадыком на шее. — Но... но, отец, — пробормотала я. — Она же потребовала от вас верности у причала. — Как и я от нее с тех пор, как мы вместе, — довольно ответил он. — Я же сказал тебе, это ее предприятие, а не ремесло. Чтобы ты знал, Мария была самой известной куртизанкой Севильи целых десять лет. В собственном доме она принимала важных торговцев, дворян, духовенство и самых значительных персон, включая даже военных из королевской армады. В те времена она заработала больше, чем я за всю жизнь. Мы вошли на крыльцо и увидели подпирающие толстые балки крепкие столбы из черного дерева. Это был великолепный дом — чистый, полный свежести и растений. Музыка и крики из борделя доносились издалека, из-за стены. Здесь стояли мул и огромная гнедая лошадь, привязанные к кольцам и жующие кукурузу. Отец подошел к ним и ласково погладил. — Смотри, сынок, мула зовут Вентура, а это Альфана, мой скакун. Умеешь ездить верхом? — Нет, сеньор. — Значит, скоро научишься, — объявил он, подойдя ко мне и вновь положив руку на плечо, чтобы направить меня ко входу в жилое помещение. Мы прошли в огромную гостиную, протянувшуюся вправо и влево, в центре которой виднелся длинный деревянный стол с канделябрами по краям. Канделябры имелись и на стенах. Везде горели свечи, прекрасно освещая помещение с полом из влажной и твердой земли. У завешенных гобеленами стен стояли железные стулья с кожаными сиденьями и небольшие столики, так что комната выглядела элегантно. И это дом торговца и куртизанки? А кроме того, насколько я помнила, сеньор Эстебан сказал на моем острове, что у него нет имущества. Если у него ничего нет, то как же он может себе позволить такую роскошь? — Мария наверняка ждет нас в своем кабинете, — прошептал отец, направляясь к двери слева. Я не слышала ничего, кроме постоянного жужжания мошкары, такая тишина стояла в этой части дома. Если Мария Чакон и правда знала о нашем прибытии за несколько дней с помощью какого-то магического трюка или мистического предвидения и всегда организовывала радостный прием, то почему же как по волшебству исчезли все следы того праздника, который для нас готовили? Отец открыл тяжелую дверь кабинета, и мы вошли. Я не могла понять, какими делами могла заниматься подобная женщина в этом месте. Сеньора Мария сидела за письменным столом из темного дерева, откуда сияла свеча, и внимательно нас разглядывала, вдыхая дым из прелестной трубки, состоящий из длинного мундштука и крохотной чаши. Маленькая обезьянка с коричневой (или, может быть, сероватой) шерстью балансировала на ее плече и время от времени крепко обнимала ее за шею, словно испугавшись. — Сядь здесь, — приказал мне отец, подтолкнув к резной деревянной скамейке, стоящей напротив стола, под окном, откуда просачивался свет и музыка из прилегающей комнаты. Сам он сел с другой стороны стола, в кресло, явно принадлежащее хозяину, как и то, в котором сидела Мария, и тогда обезьянка с радостным криком длинным прыжком перескочила с плеча Марии на плечо отца. Наверное, она совсем слепа, раз не заметила его раньше, видимо, уже старая. — Привет, Мико! — поприветствовал обезьянку отец, погладив ее по спине. Животное забралось ему на голову, перелезло на другое плечо, вернулось обратно и снова прыгнуло к хозяйке. Похоже, моего присутствия обезьяна не замечала. — Ты никогда не добирался до Пуэрто-Рико, — начала женщина, отложив трубку на глиняное блюдо и скрестив пальцы на столе. — И прекрасно знаешь, что даже лучшие лжецы мира не заставят меня поверить в такую невероятную историю о страсти на одну ночь с горничной-индианкой, которая ни с того ни с сего вручила бы тебе сына пятнадцати лет. А что ты скажешь о том долгом и пристальном взгляде на соседей, когда они это выслушивали? Выглядит как советы старой вруньи, ложь и мистификация, Эстебанито. Кто этот метис, который ни капельки на тебя не похож? Отец снова довольно рассмеялся, что, похоже, рассердило сеньору Марию, которая вскочила на ноги и, взяв в руки свечу и оставив обезьянку на спинке кресла, поспешила ко мне, словно торнадо. — Вставай, мальчик! — грубо приказала она. Я умирала от страха лишь при мысли о том, что передо мной бывшая севильская проститутка и, более того, хозяйка борделя. Если бы мои благочестивые и настоящие родители могли меня видеть в тот момент! — Ты что, меня не слышал? — повторила она, поднося пламя к моему лицу, пока сеньор Эстебан продолжал посмеиваться за ее спиной. — Да, сеньора, — нервно забормотала я, прилежно приподнявшись и бросив шляпу на сиденье. — Твои волосы... — произнесла она, поднеся руку к моей голове и проведя ей по волосам. — твои волосы, хотя и прямые, слишком шелковистые для индейца, а лицо у тебя слишком круглое, да ты и сам слишком привлекателен, чтобы быть... У тебя хорошая фигура и приятные манеры... Да ты же... да ты же женщина! Я посмотрела на отца в поисках помощи, но он продолжал смеяться так рьяно, что чуть не лопался. — Да, сеньора, — пролепетала я, умирая от страха. А ноги у меня дрожали, так что я долго бы не устояла. — Девушка! — ошеломленно воскликнула Мария. — И тебе, наверное, семнадцать или восемнадцать лет, по меньшей мере, правильно? — Да, сеньора. — Эстебанито! — рявкнула она, повернувшись к отцу, который уже согнулся от смеха, а на глазах у него выступили слезы. Увидев его в таком состоянии, сеньора Мария подошла к столу, резко схватила трубку, сунула ее в рот и, рассерженно повернувшись к отцу, снова посмотрела на меня. — Откуда ты взялась, черт возьми? Эстебан, прекращай хохотать или сейчас же убирайся отсюда! Но он не сделал ни того, ни другого, а продолжал веселиться, пока я рассказывала Марии, которая села рядом со мной на скамейку, всю свою историю и как меня спасли с острова две недели назад. Когда я закончила, отец, к счастью, уже пришел в себя и слушал нас. — Теперь-то ты понимаешь, — спросил он Марию, когда я закончила рассказ. — Эти мерзавцы Эрнандо Паскуаль и Педро Родригес выдали ее замуж за бедного дурачка Доминго. Невозможно же было на такое согласиться, ведь правда? Единственное, что мне пришло в голову, чтобы ее спасти, это превратить ее в своего сына и привезти сюда, чтобы ты за ней присмотрела. Не думал же отец, что я стану работать в борделе? Я встревожилась. Более того, испуганно повернувшись к сеньоре Марии, я увидела, что по ее лицу скатились две слезы. — Она ведь никогда не станет... — всхлипнула сеньора Мария, прикрыв глаза одной рукой и опустив другую, с зажатой в ней дымящейся трубкой, на юбки. — Ты ведь это знаешь, правда? — Ну конечно же, знаю, — согласился он, поднявшись с кресла и встав перед ней на колено, в то время как Мария отняла руку от лица и погладила его по голове. — Никогда. Она может стать приятной компаньонкой, если ты решишь сделать ее своей помощницей. Тебе следует забыть, что речь идет о женщине, и обращаться с ней, как с юношей, пока каким-либо образом не закончится ее брак с Доминго Родригесом. Без сомнений, ее считают погибшей, но если она появится, то она пропала. Но мы уже нашли способ это поправить. — Сеньора Мария бросилась к нему, утирая слезы. — Так и будет! — ответила она. — Но не думаю, что на нашем побережье можно вести размеренную жизнь. У нас тоже хватает проблем. Поищи ей какую-нибудь работу, Эстебан, что-нибудь подходящее юноше, но в то же время достаточно приличное для девушки из хорошей семьи. — Предоставь это мне, — предложил он, вставая. Мария тоже поднялась и тут же застыла посреди комнаты, рассматривая меня с молчаливой сдержанностью. Пристальный взгляд этих бездонных черных глаз был не очень приятным. Я беспокойно заерзала на скамейке, и, казалось, это движение положило конец чарам. — Еще кое-что, девочка, — пробормотала она с подозрительным взглядом. — В инквизицию на твоего отца донесла твоя дорогая тетушка Доротея. — Что вы такое говорите? — оскорбленно бросила я. Эта женщина, что, совсем рехнулась? — Конечно, она сделала это из любви к вашей матери и к вам двоим, — продолжила она с жалостью. — Своим скудным умишком она вообразила, что если священники как следуют испугают вашего отца, он станет подлинным и благочестивым христианином. Простые умы почти всегда совершают ошибки в суждениях, — мне показалось, что она говорит с оттенком превосходства. — Это ведь она научила вас с братом молиться еще в детстве, потому что в вашем доме отец запрещал молитвы и ритуалы. В ее глазах он был великим грешником, который поставил под угрозу ваши души. Она должна была что-то предпринять, да к тому же видела, как ваша мать страдает от измен мужа. Не осуждай ее. Идея уж точно не принадлежала ей, и она, разумеется, не рассчитывала на то, что произойдет в дальнейшем. Она не хотела, чтобы твой отец заболел и умер, ни тем более чтобы мать покончила с собой. Она лишь хотела, несомненно, под влиянием пылких проповедей толедских святош, чтобы твой отец прекратил грешить и вернулся в лоно церкви и чтобы вы получили хорошее христианское воспитание. Тайный донос наверняка был идеей ее исповедника или еще какого-нибудь священника из прихода. Не веря своим ушам, я затрясла головой. Доротея? Тетушка Доротея причинила все эти несчастья? Слова сеньоры Марии казались правдивыми и уверенными, но всё равно причиняли боль. Еще какую. — Успокойся, Мартин, — воззвал ко мне отец. — Я же говорил, что Мария — человек сдержанный и хорошо понимает, как всё происходит в мире. Ты привыкнешь. С ней всегда так. Не принимай близко к сердцу, она не хотела причинить тебе боль. — И мне всё равно придется называть ее Мартином, даже когда я знаю, что это женщина? — посетовала сеньора Мария, взяв на руки обезьянку, прежде чем выйти из комнаты. Ту первую ночь я провела на жестком матрасе, положенным на четыре гладкие доски, покоящиеся на двух скамейках. Эту первую кровать установили в маленькой зале между двумя комнатами в глубине дома, дверь из нее вела в большую гостиную. Прислуга, как объяснила сеньора Мария, сейчас занята другими делами, и я поняла, что работающие в борделе девушки также служат горничными в этом великолепном доме и к тому же называют Марию матерью, доверительно и совершенно не стесняясь этого. На следующий день Мария Чакон выделила мне маленькую комнату, примыкающую к ее собственной и выходящую в кабинет, но находилась она, строго говоря, уже в самом борделе. Хозяйка приказала запечатать вторую дверь, выходящую в публичный дом, и сменить мебель на более простую, строгую и подходящую молодому человеку с хорошим образованием. Мой стол-шлюпка занял почетное место. Как мало я подозревала, когда плыла на нем по океану или накрывалась от солнца на пляже, что проведу за ним долгие часы за учебой, потому что мой новый отец посчитал, что лучшей работой для меня будут книги и счета. Лукас Урбина, матрос из Мурсии, играющий на флейте, помимо многих других занятий на новых землях, был учителем начальных классов в школе Гаваны, что на Кубе, откуда он уехал, потому что, по его словам, ему мало платили, хотя ему и нравилась эта работа. И потому каждый день, не пропуская ни единого, он пунктуально покидал комнату, где жил с одной из девушек борделя, Росой Кампусано, и пересекал кабинет сеньоры Марии и большую гостиную, чтобы подождать меня в кабинете сеньора Эстебана, с серьезностью, которой он не отличался на корабле, перебирая кустистую бороду и листая страницы книг и книжиц, которые отец выделил для моего образования. Когда куртизанки сеньоры Марии видели меня, убежденные в том, что я — юноша, да к тому же сын сеньора Эстебана («Как он на вас похож, сеньор! Одно лицо с вашей милостью. Никто не усомнится в вашем отцовстве»), то отпускали шуточки и лезли обниматься, а одна даже попыталась меня покорить в самые первые дни моего пребывания в этом безумном доме, хотя потом, увидев мое сопротивление, отступила, показывая обиду и раздражение, хотя я ничем этого не заслужила. С самого начала марта я сосредоточилась на учебе. Отец решил, что помимо грамоты и арифметики, которым меня обучил мурсиец, я должна научиться ездить верхом и владеть шпагой, для чего велел, чтобы на рассвете я сначала на муле Вентуре, а потом на скакуне Альфане делала большой круг на окружающей город равнине. Затем матрос Матео Кесада из Гранады, который, по словам отца, был лучшим фехтовальщиком на Твердой Земле, показал мне секреты своего искусства. Во время этих занятий с меня сходило семь потов, но как я ими наслаждалась! Мой истинный родитель наверняка вертелся в гробу, видя, как его дочь пользуется шпагой и кинжалом, делая выпады и нанося удары направо и налево, но он, вероятно, оценил бы мое прирожденное проворство и то, как я быстро овладела искусством обращения с оружием, а мне это напоминало о собственных корнях, о доме, том доме в Толедо, который я уже не помнила, как и холод, снег, обмороженные пальцы, изморось на окнах и теплую одежду... И вот однажды вечером, в конце апреля, во время ужина в маленькой столовой сеньора Мария спросила: — Эстебанито, ты приготовил всё для Мельхора? В свете двух толстых восковых свеч я увидела, как отец побледнел и оторвал взгляд от тарелки. Каждое произнесенное слово давалось ему с трудом. — Мне не хватает тридцати восьми песо до двадцати пяти дублонов. Уверен, что не смогу продать за четыре дня столько товаров. Воцарилось тяжелое молчание. Не нужно было обладать большим умом, чтобы прийти к выводу, что отец должен денег некоему Мельхору, и день платежа близок, а он не располагает необходимыми деньгами (двадцать пять дублонов!). — Не волнуйся, — виновато попросила Мария. — Мы добудем недостающее. — Я сделаю всё, что смогу, — очень серьезно заявил он. — Знаю. Я поговорю с девочками. Успокойся. На следующее утро, до того, как вывести на улицу Альфану, отец сказал мне: — Приготовься, Мартин. Завтра на заре мы отплываем. — И куда, отец? — спросила я. — В Картахену — продать то, что осталось в трюмах корабля, и посетить одного приятеля. — Как скажете. Прогулка на Альфане не развеяла мое беспокойство. У отца имелись проблемы, о которых мне ничего не было известно, а поскольку ни он, ни Мария никогда не говорили при мне о деньгах, я не знала, означает ли мое присутствие в этом доме, как мне начинало казаться, дополнительные расходы, которых они не могли себе позволить, несмотря на наружность обеспеченных людей и приносящие прибыль бордель, лавку и корабль. Я решила как можно скорее это выяснить. Если я для них — тяжкая ноша, то мне следовало об этом знать, и немедленно. Я поняла, что отец не скажет ни слова, хоть бы я приставала с расспросами до конца своих дней, и решила, что в Картахене не буду отставать от него ни на шаг, даже для исполнения срочных потребностей организма. Я превращусь в его тень с самой швартовки и до того времени, как мы снова поставим паруса, вот так я и выясню, что на самом деле происходит. Два дня спустя мы бросили якорь в огромном порту Картахены, всего в тридцати лигах пути от Санта-Марты, нагрузили в шлюпку товары и пошли на веслах к пристани. Сколько же здесь было судов и фрегатов! И какие гигантские верфи для строительства великолепных кораблей и галер! Очень похоже на порт Севильи в тот день, когда мы отплыли вместе со флотом. — Это крупнейший торговый город в Индиях, — объяснил отец. — Сюда прибывают, чтобы вести дела, из всех внутренних провинций Нового королевства Гранады *["445], со всего побережья Твердой Земли и даже из Новой Испании *["446], Перу и Никарагуа. Картахена была огромной, с прекрасным дворцом, служившим ратушей и резиденцией губернатора, изысканными особняками знати, арсеналом, домами для судей и чиновников, тюрьмой с охраняющими ее солдатами, элегантными гостиницами, кафедральным собором и многочисленными церквями и монастырями. И всё это было построено из толстенных каменных блоков, что совершенно удивительно в мире дерева и глины, каким являлись Карибы. С другой стороны, в ее кварталах и пригородах обитали не меньше двух тысяч человек, не считая рабов, свободных негров, метисов, мулатов, индейцев и представителей прочих каст. Санта-Марта же, со своими шестьюдесятью жителями, была просто жалкой деревушкой. Мы ходили на рынок на Морскую площадь продавать свои товары, и торговля шла бойко. На Твердой Земле вечно всего не хватало. Если бы король позволил торговцам из других стран снабжать нас самым необходимым, когда Испания не могла этого сделать, то Новый Свет расцвел бы так мощно, как деревья в джунглях. Потому работа торговцев вроде моего отца была так важна, они забирали товары, которых в данном месте было в достатке, и увозили в другое, а потом наоборот, и начинали всё с начала. Только благодаря им колонии и выживали. После второго утра на рыночной площади нам уже нечего было продать или выменять, и мы стали собирать свои пожитки. Не хватало только матроса Родриго, который испросил у отца разрешения пойти сыграть несколько партий в кости и карты в один известный игорный дом, коих в Картахене имелось множество, и Лукаса Урбины, моего учителя, который пошел побриться и подровнять бороду. Остальные, включая двух юнг, работали изо всех сил, чтобы успеть до уже приближающейся полуденной жары. Остальные торговцы, лавочники и лоточники закрывали свои лавки, чтобы заранее найти тень где-нибудь в уголке. — На корабль, — приказал отец. — Мы закончили. Это мне показалось несколько странным. — Но не все в сборе, и к тому же ваша милость собирались в Картахене посетить друга, вы же сами мне это сказали в Санта-Марте вечером накануне отплытия. Хотите, чтобы я пошел с вами? Он искоса бросил на меня взгляд, словно не веря моим словам, а потом неопределенным жестом руки отверг мое предложение. — Отправляйся на корабль вместе с остальными, — велел он. — пусть Матео и Хаюэйбо вернутся на пристань и подождут Родриго и Лукаса в шлюпке, а я найму другую, чтобы вернуться на корабль, когда мне понадобится. Я кивнула, словно послушалась, и продолжила работу, но как только он распрощался и ушел, покинула площадь, надела шляпу и сказала товарищам, чтобы выполняли, что велел капитан, а Матео и Хаюэйбо подождут на пристани и меня. — Осторожней, Матрин, — предупредил меня Матео. — Ты еще очень молод, чтобы в одиночку ходить по Картахене. Твой отец рассердится, когда об этом узнает. — Отец не должен ничего узнать! — крикнула я, свернув в тот же переулок, по которому удалился он. Он был не больше чем в пятидесяти шагах, так что я последовала за ним, не выдавая своего присутствия. Мы пересекли центр квартала знати, улицы стремительно пустели под полуденным солнцем. Я боялась, что в конце концов мы с отцом останемся одни на пустынных улицах, потому что ни один человек, ни даже животное не осмелятся выйти на этот горячий воздух, которым невозможно дышать. Через некоторое время мы покинули центр города, вышли за стены, пересекли болото и оказались в бедном пригороде, состоящем из домов, сооруженных из кривых палок и с крышами из пальмовых листьев, такие даже индейцы считают лачугами. Позже я узнала, что этот жалкий квартал называется Гефсиманским, и там живет картахенская беднота. Из-за влажной жары грязь на улицах здесь никогда не просыхала, смешиваясь с помоями, мусором и прочими человеческими отходами. Мы миновали лесопилку, фабрику черепицы, склады, кожевенные мастерские... все они в это время дня были закрыты. Но отец всё сворачивал на разные тропинки, обходил стада и пересекал пустыри, так что мне пришлось скрываться, где только можно (за тростником, кустарниками и кактусами, которые впивались в меня своими жуткими шипами), и, наконец, он добрался до гасиенды, расположенной на огромной поляне, расчищенной в джунглях, где находилось много индейцев и черных рабов, скованных цепями на шеях. Эти несчастные тяжко трудились под палящим солнцем, одни рубили деревья, другие долбили огромные каменные глыбы кирками, лопатами, зубилами и молотками, а третьи засовывали поленья в странные и очень высокие печи в форме стаканов, откуда через многочисленные коленца вырывались языки пламени. Стоял жуткий грохот, усиливающийся по мере приближения. Насколько я могла разглядеть, снизу из этих высоких стаканов высыпался шлак, попадающий в небольшие водоемы. Без сомнения, здесь занимались извлечением драгоценных металлов. И вот тогда, находясь менее чем в броске камня от этого места, отец остановился и повернулся ко мне. — Я знаю, что это ты, Мартин, — сказал он сердито. — Могу я узнать, какого дьявола ты здесь делаешь? Я вышла из-за своего жалкого укрытия, удивившись его проницательности. — Следую за вашей милостью, отец. — А теперь подождешь меня здесь, ни шагу дальше. — Как вы узнали, что я за вами слежу? — умоляюще спросила я. — Думаешь, что можешь спрятаться, в этой-то своей красной шляпе? — рассмеялся он, отправившись к гасиенде и оставив меня жариться под палящим солнцем посреди поляны. Я увидела, как на тенистом крыльце большого белого дома с крепкими воротами он заговорил с отдыхающим в гамаке мужчиной. Они были далеко, и я могла лишь разглядеть, что мужчина, очевидно, хозяин всего вокруг, не принес гостю стул, вынудив его оставаться на ногах, пока сам удобно лежал. Произошел молчаливый обмен: отец дал ему кошель с монетами, который вытащил из кармана, а взамен мужчина протянул ему листок бумаги. И всё. Потом отец сухо простился и вышел оттуда. Я видела, как он возвращается, удрученный и задумчивый, таким усталым шагом, словно несет на себе сотню бочек, хотя при нем не было груза. Вскоре он поравнялся со мной и, положив руку мне на плечо, как он любил, в полном молчании направился к городу, отказавшись отвечать на мои вопросы или комментарии. Что бы ни произошло в этой гасиенде, это точно было что-то плохое. Как я и просила Матео с Хаюэйбо, они ждали меня на пристани вместе с Родриго и Лукасом, выпивая и дурачась, чтобы скоротать время. Завидев наше приближение, они стали как можно быстрее отвязывать шлюпку, повернувшись к нам спиной, чтобы скрыться от отцовского взгляда, но тот, однако, пребывал в такой задумчивости, что не обратил внимания на то, что они не выполнили его приказ. При виде Родриго мне пришла в голову одна идея. — Родриго, — сказала я ему на ухо, — вытащи из кармана моего отца сложенную бумагу и дай ее мне. Родриго из Сории отказал мне, быстро покачав головой, и попытался от меня скрыться, вцепившись в весло, словно вся его жизнь зависела от этого, но я не могла позволить, чтобы бывший севильский игрок и мастер шулерских трюков, чьи мозолистые пальцы могли заставить исчезнуть и появиться карты и даже целые колоды, словно по мановению волшебной палочки, отверг мою просьбу, какое бы уважение не питал к моему отцу. Так что я сама взялась за весло и уселась рядом с ним. — Родриго, дружище, — взмолилась я шепотом, — не бойся совершить неправедный поступок или получить наказание. Уверяю тебя, что если ты отдашь мне письмо, которое прячет отец, ты поможешь предотвратить несправедливость. — Оно от Мельхора де Осуны? — к моему величайшему изумлению спросил он. — Что ты знаешь об этом Мельхоре? — Вы оба, замолчите! — рявкнул отец с носа. Мы уже подплыли к кораблю и маневрировали между многочисленными судами картахенского порта. — Гребите молча, мы здесь не для того, чтобы вы чесали языками. Родриго хмыкнул и больше не открыл рта, но когда мы взошли на палубу, он схватил меня под руку и потащил в якорный отсек. — Вот, читай, — протянул он бумагу. Я восхищенно посмотрела на него. Я так и не поняла, когда он успел вытащить письмо, но он был очень проворным мошенником. Его лицо было серьезным, а на загрубевшей коже пролегли белые линии вокруг глаз. Я заметила, что он недоволен. — Читай быстрее, пока нас не застукали. — Я бы прочитала, — разозлилась я, — но на это потребуется время — я ведь еще учусь. Лучше ты мне скажи, что там. Он даже не моргнул, а свернул бумагу, и она исчезла в его громадной ручище. — Это платежный документ. Мельхор де Осуна объявляет, что получил от твоего отца двадцать пять дублонов за первую треть сего года в счет долга, который за ним числится. — Что за долг? — Мне кажется, Мартин, — ответил Родриго, разворачиваясь, — что мне не следует разговаривать с тобой об этих вещах. Это дела твоего отца, и если он захочет, то сам расскажет. Я набросилась на него, как хищный зверь, и схватила за рубаху, чтобы он не ушел. — Хорошо тебе говорить, Родриго, и ты произносишь правильные слова, но ты ведь знаешь, что мой отец держит эти вещи в секрете, и я уже понял, что сам он мне ничего не расскажет. Я лишь знаю, что сеньора Мария в последние дни была очень встревожена, поскольку, по-видимому, не хватало денег на выплату долга. Они оба мучились, а я ничем не мог им помочь. Мне показалось, что если ты мне обо всём расскажешь, я пойму, как поступить, когда выдастся случай, и кто знает, может, я в чем-то и помогу. Видел бы ты лицо отца, когда он выходил из гасиенды этого Мельхора. Мои слова, похоже, тронули угрюмого Родриго, он несколько мгновений раздумывал, а потом тревожно сказал: — Сейчас не время для разговора. Подожди меня здесь, я верну бумагу капитану, пока он ее не хватился. Он ушел и очень быстро вернулся. — Что ты хочешь узнать? — спросил он, уже успокоившись и усаживаясь на бухту каната. — Кто такой Мельхор де Осуна? — спросила я, усевшись рядом. — Самый отвратительный мерзавец на Твердой Земле. Проклятый жулик, обкрадывающий твоего отца под прикрытием закона и суда. Если бы он не был родственником братьев Курво, я бы лично уже давно врезал бы ему по ребрам. — Такой мерзавец? — охнула я. — Худший из людей. — А братья Курво? Это кто такие? — Братья Ариас и Диего Курво, выходцы из Лебрихи, что в Севилье. На Твердой Земле их знают как братьев Курво. Они самые могущественные и богатые торговцы Картахены. Мельхор де Осуна — их кузен, они покровительствуют ему и его делам. Такие влиятельные семьи обычно прибегают к помощи родственников, когда им нужны доверенные служащие, и оказывают им всяческие услуги. В Севилье живет другой их брат, Фернандо, который собирает у родни заказы и отправляет их на Твердую Землю Ариасу и Диего. Фернандо числится в списке поставщиков товаров в Индии и отправляет их своим братьям на кораблях, что путешествуют с ежегодным флотом. — И почему отец должен этому Осуне? — мои тревоги всё возрастали. Когда встаешь на пути богатых и могущественных, то твои дела плохи, если ты в положении низшего. Родриго стер испарину с лица. — Твой отец подписал с Мельхором контракт на поставку определенного количества парусины и ниток для шитья парусов, которые должен был привезти на склады этого мерзкого мошенника на Тринидаде, в Борбурате и Коро. Это был очень выгодный контракт, от которого капитан получил бы хорошую прибыль, но всё пошло наперекосяк. Испанские галеоны каждый год привозят парусину и нитки в достаточном количестве, и потому твой отец хотел купить их по хорошей цене на ярмарке в Портобело, что открывается, когда прибывает флот из Испании, и отвезти товар на склады Мельхора, чтобы разжиться деньгами. Но по несчастному стечению обстоятельств в том году, 1594, флот не привез этих товаров, и Мельхор де Осуна, вместо того, чтобы войти в положение, воспользовался условиями договора, по которым в случае невыполнения сеньор Эстебан должен был выплатить неустойку за причиненный ущерб. Я с трудом поняла, о чем толкует Родриго, потому что никогда не сталкивалась с подобными вещами, хотя я сообразила, что шесть лет назад отец не смог выполнить торговое соглашение и по этой причине ему приходится выплачивать Мельхору определенную сумму. — Этот Осуна, — продолжал Родриго, — пошел к чиновнику в Картахене, который зарегистрировал контракт, и потребовал конфисковать всё имущество сеньора Эстебана и передать в его владение, это называется исполнение договора по размеру общих активов. Чиновник призвал альгвасилов, и твой отец потерял дом в Санта-Марте, корабль и право на торговлю. Он остался ни с чем. Всего за день они с сеньорой Марией остались без гроша в кармане, потому что бордель тоже закрылся из-за конфискации дома. Но тогда Мельхор де Осуна притворился щедрым и предложил твоему отцу другой выход: постоянный контракт, от которого он не сможет отказаться до конца своих дней. Ему оставлялось всё имущество в пользование до тех пор, пока он три раза в год выплачивает определенную сумму — семьдесят пять дублонов. — Семьдесят пять дублонов *["447]! — в ужасе воскликнула я. Да на такую сумму можно много лет кормить целую семью. Это же целое состояние. — Он должен платить без опозданий, иначе отправится на галеры именем короля. Поэтому твой отец продолжает трудиться, несмотря на преклонные года. Если он хочет сохранить свой дом и корабль, то должен вручать Мельхору двадцать пять дублонов каждые четыре месяца. Иногда ему это удается, а иногда нет, тогда сеньора Мария добавляет недостающее, а если и у нее нет денег, то просит взаймы у девушек из заведения, и мы, моряки, тоже добавляем до нужной суммы для этого проклятого прощелыги, чтобы его черти взяли. Если бы матушка не имела стольких девушек, — он имел в виду сеньору Марию, — то долг не удалось бы выплачивать. А хуже всего, что в тот день, когда сеньор Эстебан умрет, всё имущество перейдет в руки этого плута, поскольку в глазах закона он владелец всего состояния твоего отца. — А разве ростовщичество не запрещено? Этот ежегодный платеж в семьдесят пять дублонов выглядит... Ростовщичество было запрещено и преследовалось по закону. Христиане не могли им заниматься, по католическим устоям оно считалось еврейской профессией. — Это не ростовщичество, Мартин, это называется торговлей. Ты еще слишком молод, чтобы уловить разницу. Я всем сердцем опечалилась. Эти добрые люди приняли меня в своем доме и защитили от несчастной судьбы, не говоря уж о том, что спасли от одиночества на острове. Они давали мне хлеб, кров и постель, а тем временем едва наскребали деньги для выплаты разорительного долга, который высасывал из них все соки. Родриго понял мое горе и, вставая, утешительно хлопнул меня по спине и молча удалился, оставив меня в одиночестве среди канатов, тросов и якорей. Нужно что-то предпринять. Наверняка есть какое-то решение. Убийство Мельхора, как объяснил Родриго, было бы неправедно, хоть и весьма заманчиво. Я мало смыслила в контрактах и законах. Королевское правосудие было неумолимым, все знали, что невозможно оспорить решение чиновников, прокуроров и судей, когда речь идет о влиятельных людях, а в случае с Мельхором де Осуной вдобавок имелись и его кузены, братья Курво, так что сеньор Эстебан попал в ловушку, как мотылек в паутину, и ни свидетели, ни доказательства ему бы не помогли. Так я и сидела, погрузившись в раздумья, когда с палубы меня громко окликнул отец: — Мартин! Вот несносный мальчишка! Где тебя носит? Ты что, решил отлынивать от работы? Даже и не думай, бородой клянусь! Корабль отчаливает, и нам нужны твои хилые ручонки! — Иду! — откликнулась я, вскакивая. Приличные люди должны платить добром на добро, и я хотела так и поступить со своим приемным отцом, пока меня не покинут последние силы, так что сейчас для меня не имели значения ни его крики, ни грубые слова. В тот миг я поклялась, что спасу сеньора Эстебана и сеньору Марию из ловушки Мельхора де Осуны, или не зваться мне Каталиной Солис... или Мартином Неваресом... В конце концов, как бы меня ни звали, в данном случае это неважно. На закатемы отправились в обратный путь к Санта-Марте, но плыть на запад — это совсем не то же самое, теперь ветер и течение нам не благоприятствовали, так что на тридцать лиг в Картахену нам понадобилось чуть более одного дневного перехода, а на те же тридцать лиг в обратном направлении — по меньшей мере два или три дня. Гуакоа пришлось управлять кораблем, постоянно меняя галсы, чтобы поймать ветер, а остальные моряки работали не покладая рук с такелажем и парусами, чтобы не сбиться с курса и не налететь на скалы у побережья. Хорошо хоть труды на острове меня закалили, а поскольку я выглядела как паренек лет пятнадцати или шестнадцати, никто не ждал от меня многого. Незадолго до прибытия в порт, когда уже почти опустилась ночь, юнга Николасито, несущий в котелке ужин, вдруг вскрикнул в тревоге, и все повернули головы в его направлении. У правого борта, со стороны земли, перемещались огоньки, похоже, кто-то взмахивал факелами и фонарями, чтобы привлечь наше внимание. Гуакоа бросил молчаливый взгляд на капитана, а тот с непроницаемым выражением лица приказал убрать паруса и остановиться, хотя ничего не сказал о том, чтобы бросить якорь или спустить шлюпку. — А что, если это ловушка, Матео? — спросила я стоящего рядом моряка, не сводя глаз с загадочных огней. — Это бухта Таганга, — ответил он, опершись руками о борт и кивнув в ту сторону, — она так близко к Санта-Марте, что группа жителей вполне могла убежать оттуда в случае нападения пиратов на город. — Или это сами пираты, — предположил испуганный юнга Хуанито. — Лукас, — сказал отец, — окликни-ка их по-английски, посмотрим, ответят ли. Я удивилась, узнав о том, что мой учитель Лукас говорит на языке врагов Испании, поскольку мы находились в состоянии войны с Англией уже двенадцать лет, с тех пор как англичане разбили Непобедимую Армаду в водах Ла-Манша. Мурсиец поспешил выполнить приказ своим зычным голосом и выкрикнул несколько слов, которых я не поняла. С пляжа никто не ответил. Огни замерли на несколько мгновений, а потом снова начали свой танец. — А теперь по-французски и по-фламандски, — велел отец. И Лукас, хотя я не поняла ни слова, так что с тем же успехом он мог бы кричать и по-турецки, также повиновался, но снова никто не откликнулся, и, как и раньше, огни застыли, но потом снова начали двигаться из стороны в сторону. Вскоре до нас донесся голос: — Эстебан Неварес! Это вы? Отец не ответил. — Сеньор Эстебан, хочу с вами поговорить! — Осторожней, отец! — встревожилась я, вспомнив злодеев, пробирающихся по пляжу Сокодовер в Толедо. — Это может оказаться какой-нибудь пройдоха и убийца. — А еще раб, — пробормотал отец, перегибаясь через борт, чтобы рассмотреть, кто окликнул его с берега. — Я здесь! — крикнул он. — А вы кто такой и чего вам надо? Огни застыли. — Я король Бенкос! Мои товарищи изумленно открыли рты. Черный Томе, Антон Мулато, кок Мигель и юнга Хуанито сгрудились у правого борта с радостными восклицаниями. Отец, весьма раздраженный, велел им заниматься своим делом. — А ну, прочь отсюда, придурки! — набросился он на них. — Если бы в вас выстрелили из аркебузы или мушкета, вы бы уже были мертвы! — Так ведь темно и ни зги не видать! — возразил Хуанито. — Эстебан Неварес! — настойчиво повторил голос с берега. — Вы еще здесь или померли с испугу? — Да больно ты известен вместе со своими подвигами, чтобы я испугался беглого раба вроде тебя! — Тогда высадитесь на берег, купец! У меня есть к вам дельце! Отец погрузился в раздумья. — И какие ты мне дашь гарантии? — спросил он наконец. — А какие надо? — Пошли вплавь кого-нибудь из своих людей, и моя шлюпка подберет их на полпути. Они останутся на корабле, пока мы с тобой будем разговаривать. — Годится! — согласился некий король Бенкос. — Более того, в качестве заверений моих добрых намерений я пришлю вам в заложники одного из своих сыновей! — Спустить шлюпку! — приказал отец. — Но в качестве гарантий с вашей стороны, — продолжал король, — я попрошу привезти вашего сына Мартина. — Стоять! — рявкнул сеньор Эстебан, прекратив маневр. — Откуда беглому рабу знать, что у меня есть сын? — пробормотал он. — Так вы согласны, сеньор? — спросил король. — На этом наши переговоры закончены! Откуда ты знаешь, что у меня есть сын и как его зовут? — Я король Бенкос, — крикнул тот. — Все черные рабы Твердой Земли доносят до меня слухи, сеньор купец! Я знаю всё и всех, и потому здравый смысл говорит мне, что мы придем к соглашению! Отец скривился, словно увидел привидение или призрак. Похоже, он сомневался, но в конце концов быстро махнул рукой, чтобы шлюпку все-таки спустили на воду, и приказал Хаюэйбо и Матео забрать из воды заложников, но слишком близко к берегу не приближаться. Мы бросили якорь и молча стояли, прислушиваясь к плеску весел. Когда шлюпка вернулась, стукнувшись о корпус корабля, я поняла, что вот-вот произойдет нечто важное. Об этом говорило мне чутье и липкий пот, выступивший на теле, несмотря на свежий ночной бриз. На палубу прыгнули четверо вымокших и босых негров в лохмотьях и с непокрытыми головами, а с их кудрявых волос стекала вода. Они недоверчиво огляделись. Оружия при них не было, но мы всё равно с ними не справились бы, поскольку они были крепкими, высокими, широкоплечими и с мускулистыми руками. Одному из четверых, видимо, сыну короля Бенкоса Бьохо, было всего четырнадцать или пятнадцать (столько же, сколько моему брату в день смерти), и он имел самую гордую осанку и смотрел уверенно. Его кожа и черные кудри блестели, словно он намазался маслом. — Давай, Мартин, — позвал отец. — Пошли. Некоторое время мы молча гребли к берегу вместе с Хаюэйбо и Матео, разбивая воды веслами. Когда огни на берегу стали служить не только для того, чтобы указывать путь, я смогла различить в центре пляжа человек пятнадцать-двадцать — негров с короткими пиками и шпагами за поясом, которые пристально вглядывались в нашу сторону. Единственной одеждой на них были изодранные и грязные штаны, а торсы они оставили обнаженными. Перед ними стоял старый, но крепкий мужчина, босой, как и все остальные, погрузив ноги и кончик пики в песок в ожидании. Ему было лет сорок, но казалось, что его не сокрушит и ураган, так высокомерно он держался. Без сомнений, это и был король Бенкос. Хаюэйбо и Томе спрыгнули в воду, когда до берега оставалось десять шагов, и подтащили шлюпку к пляжу. — Приветствую вас, сеньор Эстебан! — воскликнул Бенкос, приблизившись и склонившись перед отцом, который уже направился ему навстречу. — И тебя, — добавил король, обращаясь ко мне. — Несомненно, ты и есть Мартин Неварес, его сын, уж больно похож. Проходите же и присядьте с нами. Кружок беглых рабов раздвинулся, чтобы дать нам пройти, и кто-то развел костер из заготовленной кучки хвороста. Рядом ожидали два пустых стула, приготовленные для беседы. Отец и король Бенкос сели. К ним подошел негр с двумя стаканами вина. Остальные уселись на песок. — Как идет торговля, сеньор Эстебан? — с улыбкой поинтересовался король, подняв стакан с вином. — За ваше здоровье! Отец тоже отпил и вытер губы ладонью. — Мои дела уж точно идут лучше, чем твои, Доминго. Ты очень скоро попадешь в руки закона. — Меня зовут Бенкос, — обиделся тот. — А когда ты прибыл в Картахену, крестили тебя именем Доминго. — Когда я прибыл в Картахену, я превратился в скелет под ударами хлыста, живого места на теле не осталось. Я даже не понял, что произошло, когда тот монах окунул меня с головой в воду прямо в порту. Я не понимал по-испански, сеньор, и согласия у меня не спрашивали. В Африке я был королем и никогда вновь не стану рабом, ни в какой части света. Меня зовут Бенкос Бьохо, и если хотите оставаться со мной в добрых отношениях, так меня и называйте. — А с какой стати мне вести с тобой дела? Меня очень удивило, что отец, противник рабства, ведет себя подобным образом. Тогда я еще не понимала, что эта ситуация для нас опасна, нас превосходят числом, и отец лишь пытается показать силу, которой не обладает. — Мы оба в этом нуждаемся, сеньор, — заявил король с насмешливой улыбкой. — Вы должны выплачивать Мельхору де Осуне двадцать пять дублонов три раза в год, а мне необходимо оружие, чтобы защищать наши жилища. У меня есть для вас дублоны, а вы можете купить для меня аркебузы и мушкеты. — Что еще за жилища? — шепотом спросила я Черного Томе, сидящего рядом. — Поселения беглых рабов. Многие рабы бегут в болота и горы вслед за королем Бенкосом и основали там несколько поселений, где живут по своим африканским обычаям. — А ты не хочешь уехать в одно и них? — с любопытством спросила я. — Я — свободный человек, — гордо прошептал Томе. — капитан купил меня и выдал бумагу об освобождении уже много лет назад. Мне нет нужды сбегать и прятаться. — А позволь узнать, — спросил отец, — где я раздобуду арбалеты, стрелы, аркебузы, мушкеты и порох в нужном тебе количестве, не возбуждая подозрения властей? Да и кроме того, Доминго, ты ведь знаешь, что в прошлом году галеоны не приплывали, а в нынешнем, хотя я и не хочу впадать в грех прорицательства, но боюсь, что тоже не прибудут *["448]. Откуда мне взять это оружие, если его и колонистам-то не хватает? — Конечно же, незаконным путем, — улыбнулся король Бенкос. — Контрабандой! — воскликнул отец, рассердившись. — Ты выжил из ума, Доминго! Ты же знаешь, какое наказание полагается за торговлю с другими странами. Могут отправить на галеры, откуда уже не вернуться, или даже на эшафот. — Или можно заработать столько денег, чтобы выплатить долг Осуне и жить как князь до самой смерти в покое и уюте. — Мой долг Осуне невозможно выплатить, — с достоинством возразил отец. — Даже если и так, вы могли бы позабыть о нужде и страданиях, когда приходится собирать причитающиеся выплаты. Многие из тех, кого называют пиратами и корсарами, что нападают на это побережье, не кто иные, как обычные чужеземные торговцы, превратившиеся в контрабандистов лишь потому, что отказываются подчиняться королевскому запрету. Свяжитесь с ними и привезите мне то, что поможет защитить мой народ. — Этим оружием вы будете убивать испанцев, — заявил отец. — И как испанцы убивают своих рабов? Сами знаете, да это известно всем, что я уже как год с лишком сбежал из Картахены и ни разу ни на кого не нападал, только защищался. Когда сторонники предупреждают меня, что наши бывшие хозяева устроили на нас охоту, мы убегаем в болота, джунгли или горы, куда не смогут добраться лошади и собаки. Но нам надоело сбегать. Мы хотим защищаться, чтобы нас боялись и больше не беспокоили. — А что это за сторонники такие? — Все рабы Твердой Земли! — воскликнул король Бенкос, грубо расхохотавшись. — Все, сеньор, все рабы Твердой Земли подслушивают, а потом передают новости из уст в уста, пока через несколько часов они не достигают и самого отдаленного поселения. Нас никогда не могут поймать, потому что все негры хотят, чтобы мы оставались на свободе, живые и невредимые, в надежде когда-нибудь к нам присоединиться. Но нам нужно оружие, сеньор, — продолжал настаивать он, отхлебнув большой глоток из стакана. — Оружие и ваша помощь, чтобы его добыть. Мы хорошо заплатим. У нас есть серебро, которое перейдет в ваши руки в качестве благодарности за услуги и в уплату за ту опасность, которой вы подвергаетесь. Что скажете, сеньор? Ответа не последовало. Тишину прерывал лишь шум прибоя. Сидящие вокруг костра двадцать человек даже не кашлянули. Через некоторое время король Бенкос потерял терпение. — Сеньор, — напирал он, — так что вы решили? — Я бы не согласился, если бы так не нуждался в средствах, — пробормотал отец, понурив голову. — Но будь что будет, я согласен, — он поднял глаза и твердо посмотрел на беглого раба. — Приготовь это проклятое серебро, Доминго, потому что я собираюсь рискнуть своей жизнью, жизнью сына и команды, — голос его звучал хрипло от злости на самого себя. — Я заключу сделку с чужеземными еретиками, нарушив целую кучу законов короны, займусь запрещенной контрабандой, обману королевское казначейство, в общем, совершу всё это, Бенкос, и тебе придется хорошо мне заплатить. Тот удовлетворенно улыбнулся. — Привезете мне оружие, а я расплачусь добрым серебром из Перу, что перешло в мои руки прямиком от черных рабов, которые переносили его на своих плечах в Картахену и Портобело, потеряв по пути множество жизней, из самого рудника Серро-Рико, что в Потоси, чтобы их хозяева, энкомендеро и испанские торговцы, могли надуть королевское казначейство, укрыв это богатство от налогов. А теперь как вы смотрите на то, чтобы скромно отпраздновать наше маленькое соглашение? Отец, хоть и немного удрученный, приказал шлюпке вернуться на корабль, чтобы забрать заложников и моряков, ждущих там развития событий. Тем временем негры вытащили мясо, вино, сыр, хлеб и фрукты в таком количестве, что мне показалось достаточным для королевского угощения. И правда, это было угощением короля, короля Бенкоса Бьохо, который когда-то правил в Африке целым народом, а теперь по странному капризу судьбы повелевал всё возрастающим числом подданных, беглыми рабами, скрывающимися в болотах Матуна в Новом Свете.
Глава 3
Думаю, что последующие месяцы потребовали от отца всей твердости и силы, в противном случае мы бы не прошли через многочисленные трудности и опасности и не выполнили бы своих намерений. В глазах окружающих всё шло своим чередом, будто ничего не изменилось. Каждые полтора или два месяца мы отплывали, чтобы совершить привычный маршрут из Санта-Марты на Тринидад и обратно. Когда мы возвращались домой, где проводили пару недель, отец заставлял меня заниматься, и в результате я быстро выучилась довольно бегло читать и писать, и лишь тогда он показал мне книги, которые держал в секрете — те самые, что были запрещены списком Кироги от 1584 года и будили во мне дурные воспоминания. Он сказал, что их печатали на испанском в лютеранских странах, и привозили их чужеземные контрабандисты, заключившие контракт вроде того, на который согласился он, получая хорошую цену, потому что в Новом Свете те идеи, что находились под запретом в Испании и процветали в Европе отступников, вызывали живейший интерес, в особенности антиклерикальные, а также открытое обсуждение народной нищеты, как в книге «Ласарильо из Тормеса». Отец покупал их не таясь на маленьких рынках во время остановок, где прежние владельцы продавали прочитанные книги, боязливо стремясь от них избавиться. По приказу отца в мои занятия с Лукасом Урбиной включили также начала латыни, поскольку все научные трактаты писались именно на ней, и если бы я ей не овладела, то упустила бы половину мировых знаний. Не знаю, чего он от меня ожидал, я ведь всего лишь обычная женщина, которую учеба заставляет понервничать, не потому что не нравится, а как раз наоборот. Когда начались затруднения с арифметикой, меня стала учить ей сеньора Мария, она сама вела все счета своего предприятия. Вскоре я привыкла называть ее матушкой, как и все остальные девушки заведения, живущие в доме, хотя это слово для меня всегда значило не больше, чем просто обязанность, потому что в глубине души я хранила образ родной матери, о которой так грустно было вспоминать. Упражнения со шпагой и кинжалом, должно быть, являлись попыткой выработать у меня дисциплину, и я весьма ловко овладела этим искусством, как и верховой ездой и мореплаванием — отец, уж не знаю по какой причине, велел Гуакоа научить меня основным принципам навигации, и я проводила ночи напролет на пляже с молчаливым штурманом, учась управляться с астролябией, компасом, квадрантом, песочными часами и лотом. Морских лоций у него не было, как и ни у кого другого помимо штурманов флагманских кораблей королевского флота, более того, карты считались столь ценным имуществом, что пираты во время нападений охотились за ними, как за сокровищами. Однако Гуакоа считал карты и портуланы *["449] бесполезными, как, впрочем, и остальные инструменты своего ремесла, используя их не для мореплавания, а во время лекций о небесных светилах, чтобы запечатлеть в моей памяти названия и расположение всех созвездий (Скорпиона, Рака, Рыб, Лебедя, Льва, Пегаса...), как и самых ярких звезд на небосклоне (Антареса, Проциона, Плеяд, Денеба, Регула...), тех самых, что индейцы, хотя и под другими именами, используют с начала времен, чтобы пересекать воды Карибского моря. Как сказал Гуакоа, с ними я никогда не заблужусь и смогу вернуться домой, когда только пожелаю. Только Гуакоа не знал, что у меня нет родного дома, куда я могу вернуться, здесь я лишь временно и однажды покину этот дом. Но мне очень нравилось запоминать названия звезд, нарисованных на песке во время этих прекрасных южных ночей. Однако я так и не поняла, зачем мне столько всего учить. Я не собиралась всю жизнь оставаться Мартином Неваресом, а Каталине эти знания были бы ни к чему. Нет образа более смехотворного, говорила я себе, потирая после занятий усталые глаза, чем мой собственный в женской одежде и с секстантом или астролябией в руках. Но жаловаться отцу мне было неудобно, ему и так хватало проблем (а с тех пор как мы повстречались с королем Бенкосом в бухте Таганга, он был более энергичен, чем когда либо), так что я молча училась, считая всё это бесполезным занятием и потерянным временем. Вот так обстояли дела, когда однажды во время сезона дождей мы вышли из Санта-Марты с полными трюмами бананов, кешью, имбиря, папайи, тростникового вина, кожи и табака, и отец собрал всех на палубе и провозгласил с кормы: — Не пристало больше заставлять Бенкоса ждать, иначе он найдет другого купца для исполнения своего заказа. В последние месяцы я слушал и вникал, как вести незаконные дела в этих водах. Мои товарищи по команде кивнули. И действительно, в последнее время мы зачастили в портовые таверны, где отец вел долгие беседы с владельцами, пока мы пили. Я, к счастью, научилась растягивать содержимое своего стакана, чтобы не пить много вина, рома или чичи, которых не выносил мой организм, и никогда не выпивала больше квартильо *["450], зная, когда следует остановиться, чтобы не шумело в голове и не выворачивало внутренности. Что доставило мне еще больше неприятностей и трудностей, так это курение, но я приучилась втягивать ртом дым, чтобы не огорчать товарищей, а со временем мне даже стал нравиться табак, который к тому же, как утверждали индейцы, имел целебные свойства. — Что ж, прекрасно, — продолжал отец, — после долгих раздумий я решил, что мы найдем пиратов и корсаров, прибывших на Твердую Землю из мятежных провинций Фландрии. Как я знаю, предыдущий король, Филипп II, покарал их за неповиновение и завершил долгую войну, закрыв португальские порты, после того как овладел Португалией в 1581 году *["451]. Это решение серьезно сказалось на фламандцах, поскольку они добывали соль в Сетубале для засолки рыбы, а это, как вы знаете, их основное занятие и главный источник доходов, ведь они продают всем остальным народам мира селедку, колбасу, сало и сыры, коими кормятся команды кораблей. Это наказание не испугало фламандцев, они взялись за дело и вскоре нашли новые источники соли взамен Сетубалю. На кораблях под названием флейты *["452] они достигли африканских островов Кабо-Верде и стали привозить соль оттуда, пока два года назад король не наложил новый запрет, так что они обратили взоры к нашим землям. Первый соляной флот фламандцев прибыл несколько месяцев назад и нашел необходимый источник соли в том месте нашего побережья, который мы всегда игнорировали и презирали, считая бесплодным и пустынным, но им, как оказалось, он как раз пригодился. Я говорю о полуострове Арайя, всего в трех лигах к северу от Куманы. — Арайя? — удивился Матео. — Но там же ничего нет. Это выжженная солнцем земля, на которой нет места жизни. Там нет воды, нет деревьев, растений, даже жалкой тени, чтобы укрыться, и то не найдешь. — Но там есть соль. И много, как говорят те, кто видел фламандские гукоры *["453], нагруженные солью по самые реи. Это подтверждает слухи, что соляные копи там — самые обширные в мире. — Что за гукоры, капитан? — спросил Хаюэйбо. — Огромные торговые суда, — объяснил отец. Они широкие и пузатые, с высокими бортами, те, кто их видел, говорят, что у них всего две мачты. Начиная с сегодняшнего дня внимательно следите, не появятся ли похожие корабли, потому что, как я сказал, мы собираемся вести дела с фламандцами, более того, не сомневаюсь, что такие вместительные корабли не могут идти из Фладрии пустыми. Наверняка они везут груз контрабанды, который продают на Маргарите, Кумане и Кубагуа. Но есть и другая важная причина, чтобы иметь дело именно с фламандцами. Что еще помимо соли они производят и продают в больших количествах? Все молчали, потому что это был риторический вопрос. — Оружие, — заключил отец. Фламандцы делают самое качественное оружие. Уверен, что на своих гукорах они привозят много оружия на продажу. Мы поплыли курсом на полуостров Арайя и прибыли туда почти через две недели по вине встречных ветров и течений. Останавливались мы только чтобы запастись водой и дровами на одном пустынном пляже, и капитан велел мне постоянно оставаться в рубке с Гуакоа, если я не несла вахту или не учила, опять же по его приказу, фламандский язык, который знал Лукас Урбина, хотя и не слишком хорошо, по его же признанию: — Достаточно, чтобы понимать врагов, когда я служил солдатом. — Но сможем ли мы договориться с пиратами? — Когда на кону всё имущество, Мартин, то обо всем можно договориться. Однажды я спросила отца, какова разница между контрабандистом, пиратом и корсаром. Он улыбнулся. — Пираты нападают и грабят, — объяснил он. Корсары тоже нападают и грабят, но говорят, что у них есть на то письменное разрешение своего сюзерена. Контрабандисты ведут незаконную торговлю, но при случае тоже грабят и тогда превращаются в пиратов или корсаров, если получают королевское позволение. Пират, прежде чем грабить, когда-то торговал. Как и корсар. А контрабандист раньше, может, и грабил, чтобы потом мог торговать. Я понятно объяснил? — Что ж, отец... там видно будет, — пробормотала я. — Именно, — радостно отозвался он, отвесив мне легкий подзатыльник. Похоже, он полностью позабыл о существовании Каталины Солис. — Взять фламандцев, которых мы ищем. Они прибыли сюда, чтобы забрать соль. Они крадут? Разумеется, потому что эта соль им не принадлежит, они берут ее, не имея никаких прав и не выплачивая налоги. Если они крадут ее, не имея от короля корсарского патента, а у нас с ними один король, и он запрещает трогать соль, то значит, они пираты. Если бы у них был патент, то они стали бы корсарами, а их так и называют, потому что многие их мятежные дворяне выдают такие патенты. Если они ведут незаконную торговлю, а так оно и есть, то они контрабандисты. Ну так кто же на самом деле эти фламандцы, ворующие соль с Арайи? — Пираты? — предположила я. — Возможно, сынок, возможно... За время путешествия мы не заметили ни одного гукора, но как обычно встретили на пути несколько торговых судов вроде нашего в районе бухты Маракайбо и небольшой посыльный корабль, быстрый как ветер, который меньше чем за три недели пересек море, чтобы привезти из Испании королевские письма и указы из Совета по делам Индий, а также почту для губернаторов и других высокопоставленных лиц Твердой Земли, Никарагуа и Перу. С корабля нам прокричали, что за ними следует еще забра *["454], посланная севильской Палатой по делам колоний, с письмами для самых крупных торговцев Твердой Земли и Новой Испании. Это были такие важные письма, что послали эти быстроходные корабли, а бумаги не только были написаны шифром, но их следовало выбросить в море, если корабли атакуют и захватят пираты или враги. Письма же обычных граждан перевозились на кораблях ежегодного флота, так что многие колонисты ничего не знали о своих семьях в Испании (а те — о них) уже больше года. Окликнувшие нас моряки также видели корабли английских пиратов у Подветренных островов, но обладали большей скоростью и смогли без проблем улизнуть от больших и тяжелых британских кораблей. Прежде чем они скрылись вдали, отец спросил, не привезли ли они известия о выходе галеонов, но те ответили, что ничего об этом не знают, они не слышали об отправке флота к Твердой Земле и не видели кораблей в севильском порту. — Очень скоро, — с грустью сказал отец, — начнет ощущаться недостаток необходимых товаров. Положение усложнится. — Да, я уже видел, — произнес фехтовальщик Матео, — как народ носит одежду из одеял и штор. — Точно, и я тоже, — подтвердил Хаюэйбо. — Так значит, скоро снова увидишь, — откликнулся отец, направившись на корму, в свою каюту. На всем изнурительном пути к Арайе нас сопровождал дождь, заставив откачивать воду не только по утрам, но и весь день кряду, больше того, у Борбураты нас настиг страшный шторм, так что пришлось крепко-накрепко привязать груз к бортам и позволить кораблю плыть навстречу волнам с убранными парусами, доверившись верной руке Гуакоа у румпеля, противостоящего воле волн. Хуанито и Николасито страшно страдали от морской болезни, и отец отправил их в трюм, присмотреть за товаром, поскольку, по его словам, такое постоянно происходит то с одним, то с другим, и в конечном счете мы все почувствуем себя плохо. Мы вышли из шторма неподалеку от Арайи и, устранив повреждения корабля, сразу же поставили паруса и направились в сторону соляных копей в надежде натолкнуться на фламандский гукор и по-быстрому решить нашу проблему. Но, как мы позже выяснили, гукоры пересекали моря в составе флотилий из шести или восьми кораблей, держась вместе весь путь туда и обратно, и потому невозможно было наткнуться лишь на один из них. Напротив, стоило нам вскоре после полудня приблизиться к порту Арайя, мы увидели полную флотилию пузатых судов, выстроившихся в оборонительную позицию, с выкаченными и готовыми к выстрелу пушками. Громовой раскат пушечного выстрела предупредил, чтобы мы не двигались дальше. Это был предупредительный выстрел, каменное ядро погрузилось в море, подняв гигантский столб воды, примерно в шестидесяти варах от нашего носа, со стороны правого борта. — Останемся здесь, — сказал отец, оглядывая фламандский флот, — а не то потопят. — Возможно, стоит с ними поговорить, капитан, — предложил Лукас. — Вот и займись этим. Сообщи, что мы хотим торговать. Лукас залез на бушприт, что располагается на носу, и, обхватив его ногами, словно мартышка, приставил ладони ко рту и прокричал свою галиматью. Фламандцы что-то крикнули в ответ. Потом Лукас спустился с бушприта и вернулся к отцу. — Сеньор Эстебан, они просят прислать парламентера. — Так и сделаем, — ответил отец с серьезным выражением лица. Всё это ему не нравилось, и лишь грядущее разорение заставило его прибегнуть к подобным сделкам, а хуже всего, что с того мгновения, как он заключал договор с фламандцами, сам он становился в глазах закона контрабандистом, что для такого гордого и благородного идальго было тяжким грузом, не говоря уже о том, что отцу пришлось заключить соглашение с беглецами, разыскиваемыми законом. Столько неприятностей, да еще в таком преклонном возрасте, я даже начала опасаться за его жизнь и здоровье, потому что видела, как день ото дня он ослабевает и иссыхает. Мы спустили на воду шлюпку, и отец, Лукас, Хаюэйбо и Антон отправились к главному судну флотилии. Они довольно долго не возвращались. Дождь усилился, и все оставшиеся на «Чаконе» играли в карты, хотя в тот вечер даже Родриго казался «невинной овечкой» — так, по его словам, называли в картежных притонах новеньких и наивных игроков. Когда Николасито, следивший за фламандцами, прокричал, что шлюпка возвращается, все побросали карты, тут же вскочили и выглянули за борт, не успели еще карты упасть на палубу, до того всех снедало беспокойство. Отец первым поднялся на борт. Однако, не проронив ни слова, он с задумчивым видом проследовал в свою каюту. Хаюэйбо и Антон остались, чтобы поднять шлюпку, а мой учитель Лукас уселся на мокрой после дождя палубе, чтобы поведать нам о том, что произошло. — Сдается мне, что с этими фламандцами трудновато вести дела, — начал рассказ мурсиец, поглаживая бородку. — Говорят, что взамен оружия им нужен лишь табак, а больше никакие товары их не интересуют, и хотят они его много. — Не знаю, сможем ли мы столько найти, — встревоженно заявил Родриго. — В шлюпке я всё твердил капитану, — продолжал рассказ Лукас, — что на те припасы, что мы храним в трюмах, мы сможем купить табак на рынках Картахены, Кабо-де-ла-Велы, Куманы и Маргариты, где расположены основные плантации Твердой Земли. Сколько сможем раздобыть табака, много или мало, столько и привезем этим фламандцам. Они дадут нам оружие, а мы вручим его беглым рабам, которые, в свою очередь, заплатят нам серебром Потоси. С этими деньгами мы, по возможности, на сей раз отправимся к плантаторам, выращивающими табак в упомянутых местах, и поскольку по всей Твердой Земле не хватает денег, а мы привезем достаточно серебра, то сможем заключить соглашение о приличных количествах и по хорошей цене, и если повезет, получим товар за меньшие деньги. Загрузим корабль табаком, вернемся сюда и начнем всё сначала. С каждой поездки будем выручать немного больше. — Но вы выпросили хоть немного оружия? — поинтересовалась я. — Нет, эти мерзавцы отказались от всех предложений, — ответил мой учитель, — но сказали, что чем больше табака, тем больше оружия. На этом пузатом двухмачтовом судне есть один человек из Мидделбурга по имени Мушерон *["455], он и командует на этой земле. Похоже, он больше всех склонен торговать. Другие капитаны гукоров говорят, что на соли уже зарабатывают достаточно, так что ежели нам нужно оружие, придется купить им достаточно табачного листа — товара, что на антверпенских рынках продается на вес золота. Они злы на короля Испании, утверждая, что тот по совету губернатора близлежащей Куманы, дона Диего Суареса де Амайи, подумывает о том, чтобы отравить соляные копи, дабы они не могли добывать соль. — А почему вместо того, чтобы портить соляные копи, — удивленно спросила я, — не добывать соль самим, чтобы Испания могла продавать ее другим странам? От этого все только выиграют, поскольку корона получит свой доход от налогов, а добытчики соли заработают свои мараведи. — Ты многого не знаешь о жизни, Мартин, — лукаво произнес Родриго. — Тебе следует знать, что король хочет всеми средствами повергнуть этих мятежных фламандцев, чтобы сохранить единство империи, так что помимо войны, которую ведет армия, он закрыл для них рынки и запретил торговать с Испанией. Лишь в нынешней войне потратили уже больше трех с половиной миллионов дукатов *["456], эти деньги поступают от доходов казны, и потому королю вечно не хватает средств на подданных, у него нет денег и приходится занимать у европейских банкиров. Более того, Испании не хватает мужчин для армии и флота, не хватит никаких отцов, братьев и сыновей, ни детей, ни родителей, чтобы их насытить. Мы потеряем Фландрию, Мартин, в этом можешь быть уверен, но тем временем Испания снова и снова будет ее разрушать, как уже и происходит, и возможности для выгодной торговли, как здесь, в соляных копях Арайи, оказались в руках людей более сообразительных, чем мы. Предложи губернатору Суаресу де Амайе, чтобы отправил своих людей работать на соляных копях, и он ответит, что не может, потому что должен добывать жемчуг и не располагает людьми для защиты от фламандских пиратов, ведь сам король требует от него как можно больше жемчуга для казны и не присылает ни солдат, ни кораблей, ни оружия в достатке. Так что, Мартин, мы потеряем Фландрию, потеряем соль Арайи, потеряем империю, а Испания навсегда останется банкротом. — Хватит, Родриго! — голос моего отца прозвучал как гром от той грозы, которая только что снова разразилась над нашими головами. — Я тебе много раз твердил, что не желаю выслушивать эти причитания! За работу! Отходим курсом на Маргариту. На обратном пути зайдем в Куману. Клянусь, что те годы бесконечной работы, контрабанды, ссор с фламандцами из-за оружия (им вечно было мало табака), страха перед законом, тайных встреч с Бенкосом, торговли с плантаторами, плаваний вдоль побережья Твердой Земли, что в хорошую погоду, что в плохую, постоянной боязни наткнуться на английских пиратов с грузом табака для Мушерона из Мидделбурга, который играл роль посредника между нами и капитанами гукоров, или же встретиться с властями или другими знакомыми торговцами, будь то друзья или враги, включая и королевских таможенников, клянусь, что те годы для всех были крайне сложными, но несмотря на это я должна тайно признаться, что они также были для меня самыми радостными и полными приключений, и по сравнению с годами, проведенными в Толедо, я чувствовала себя счастливейшей из женщин, наслаждаясь свободой и равноправием и возможностью жить такой же полной опасностью жизнью, как и все вышеназванные персоны. Мои чувства, вероятно, были похожи на то, что ощущали беглецы короля Бенкоса, когда стремились из рабства к свободе болот и гор. Однако для моего отца дела обстояли по-другому. Он немало заработал, без сомнений, но состояние его духа, прежде радостное, стало горьким, нрав ожесточился, а вести он себя стал, как усталый старик. Матушка (сеньора Мария) так за него переживала, что окружила его излишней, почти материнской заботой, накликав его гнев, на который он стал теперь скор, и вызывая многочисленные ссоры, от которых я сбегала через кухонную дверь вместе с Мико, маленькой старой обезьянкой, которую тоже пугали крики хозяев. Каждые четыре месяца мы посещали Мельхора де Осуну, чтобы заплатить ему положенную треть суммы, и я обещала себе, что однажды спасу отца от этого пройдохи, хотя, поскольку теперь у нас водились деньги, нам не сложно было выплачивать требуемые двадцать пять дублонов. Не то чтобы мы купались в роскоши или стали такими же крупными торговцами, как братья Курво, кузены Мельхора, с чьей славой я познакомилась на рынках и в городах Твердой Земли, но все же жили мы хорошо, если не считать того, что мы постоянно опасались, что нас раскроют. Ради этого контракта мы забросили всю остальную торговлю и покупали только табак, так что скоро разнеслась молва, что сеньор Эстебан стал контрабандистом. У нас оставалось совсем немного времени, и единственное что имело значение — это отсрочить то мгновение, когда власти и альгвасилы найдут достаточные доказательства против нас или готовых говорить свидетелей. На Санта-Марте, что вполне естественно, все соседи (за исключением губернатора) знали о перемене в интересах отца, хотя настолько его уважали, что никогда не болтали об этом. Поскольку меня считали его сыном и в основном любили, многие горожане подходили ко мне, чтобы сообщить завуалированными фразами, что им нет дела до того, чем занимается мой отец, так что они ничего не знают и не скажут. Чтобы не закрывать лавку, матушка посадила туда одну из своих девушек и тайком покупала товар у торговцев, посещающих бордель. В конце сухого сезона 1601 года мы едва ускользнули от английского корсара Уильяма Паркера, который появился у берегов Маргариты как раз когда мы отплывали с грузом табака. На выходе из бухты мы столкнулись с кораблем «Пруденс» водоизмещением в сотню тонн, а за ним следовал семидесятитонный «Перл», но, к счастью, они нас проигнорировали. Отец приказал поднять все паруса и искать попутный ветер, чтобы как можно скорее оттуда уйти и дать знать о присутствии в наших водах корсара всем кораблям, с которыми мы встретимся по пути, и во всех городах, куда зайдем. Так мы и поступили, однако это ничем не помогло, поскольку, как мы позже узнали, следуя тем же курсом, что и мы, после нападения и разграбления Маргариты и Кубагуа Паркер высадился в Кумане, сразился с маленьким отрядом солдат и перерезал их, после чего забрал приличное количество жемчуга. После Куманы он направился на Кабо-де-ла-Велу, где взял на абордаж португальское судно с грузом из трехсот семидесяти черных рабов, и пока мы стояли на якоре в Санта-Марте (которую он, по счастью, миновал), взял Картахену, где, несмотря на многочисленных солдат и оборонительные сооружения, почти не встретил сопротивления, и уплыл оттуда со значительной добычей. Из Картахены он двинулся к Портобело, завладел королевской казной, взял более десяти миллионов дукатов, и, как я впоследствии выяснила, вернулся обратно в Англию. Но Паркер был не единственным, кто угрожал нашим берегам в тот год. В середине сезона дождей другой британец атаковал Кюрасао, Арубу и Портете. Мы так и не узнали его имени. Вскоре после этого корсар Саймон Бурмэн опустошил все поселения между Куманой и Риоачей. Хорошо еще, что этого схватили. И в довершение всего, как будто нам было недостаточно грабежей со стороны англичан, фламандцы тоже начали заниматься таким прибыльным промыслом, как похищения и грабежи. Когда отец при помощи Лукаса упомянул об этом Мушерону, который в тот день пригласил нас посетить соляные копи, тот сказал, усердно почесывая голову, что это деяния голландцев из других провинций, и пусть берут то, что им по вкусу, потому что раз его величество закрыл рынки империи, они вольны делать всё, что душе угодно. Этот Мушерон мне совсем не нравился, хотя должна справедливо признать, что он был хорошим управляющим и организатором работ на копях. Положив мне руку на плечо, словно был моим отцом или добрым другом, он провел нас, освещая дорогу факелом, по огромным доскам, служившим мостками над гигантскими соляными копями, составляющими полторы лиги в поперечнике. Стояла ночь, поскольку днем невозможно было там ни работать, ни вообще находиться из-за всепоглощающей жары, которая, по его словам, могла убить. Но что под солнцем, что под луной, соль была такой едкой, что разъедала толстые кожаные подметки башмаков и оставляла язвы на ногах рабочих, так что им приходилось использовать деревянные сабо, да и те служили недолго. Мушерон показал, как работают фламандцы: некоторые кирками и ломами долбили камень, а другие поднимали готовые блоки с помощью больших железных рычагов и грузили их на баржи, которые тянули к мосткам пятеро или шестеро сильных мужчин. Оттуда в маленьких двухколесных тележках, запряженных лошадьми, соляные блоки отвозили к берегу, на расстояние примерно в семьсот шагов, чтобы погрузить в шлюпках на гукоры, в чьих трюмах соль покоилась до прибытия во Фландрию и продавалась там по хорошей цене. — Не могу не думать о том, — с негодованием пробормотал Родриго, — что эта соль наша, и у нас ее попросту крадут. — Забудь об этом покуда, — отозвался отец, тоже вполголоса. — Король пришлет войска, и всё решится. А нам просто нужно оружие. И мы его получили, и очень хорошее. Превосходное, по правде говоря. С этим оружием король Бенкос защищал свои всё увеличивающиеся в числе поселения, раскинувшиеся от Картахены до Риоачи. Какие-нибудь из них постоянно подвергались нападению, о чем предупреждали его сторонники, и Бенкос просил нас продолжать поставки. Мы отправляли ему прекрасные аркебузы с колесцовым замком, мушкеты с колесцовым замком и с пружинным фитильным замком, именно их он больше всего жаждал, а также в больших количествах порох, свинцовые пули и фитили. Ближайшее к Санта-Марте поселение основал его сын на правом берегу реки Магдалены, и Бенкос подолгу там задерживался, во время этих его постоев отец, поскольку мы жили всего в нескольких часах езды верхом, наносил ему длительные визиты. Теперь он разделял с королем Бенкосом нечто важное — оба скрывались от правосудия, а их жизнь была отмечена страхом попасть на королевские галеры, это еще в лучшем случае, а в худшем — на эшафот. Иногда я его сопровождала, получая удовольствие от танцев и странных африканских церемоний, которые устраивали беглые рабы, счастливые тем, что могут вести себя согласно древним традициям, вдали от плохого обращения, наказаний и обязательств чуждой им религии. Матушка тоже время от времени ездила с нами и вскоре подружилась с женой Бенкоса (одной из жен Бенкоса, главной, поскольку имелись и другие), так что, когда в сухой сезон 1602 года тогдашний губернатор Картахены дон Херонимо де Суасо Касасола собрал многочисленное войско, чтобы атаковать поселения в Матуне, король Бенкос, предупрежденный об этом, оставил детей и женщин селения в Санта-Марте, на попечении матушки, и встретился с людьми губернатора в суровом сражении, которое длилось несколько дней. Если бы не превосходное оружие, которое мы ему продали, он потерпел бы поражение, однако благодаря этому оружию ни единый беглый раб не попал в руки солдат, и после победы, увидев разрушенные хижины и погубленные поля, Бенкос решил сменить место, найти более отдаленное и труднодоступное, подальше от Картахены. Именно тогда он основал большое поселение в горах Марии, что на юго-востоке, которое так никогда и не покорили. В тот год случилось и еще одно важное событие. Однажды, когда я занималась учебой, наслаждаясь пребыванием дома после плавания на «Чаконе», отец вошел в мои покои с бумагой в руке. Он улыбался — весьма редкая вещь в те времена, к нему вернулась прежняя живость и решительность, как в прежние времена. — Что произошло, отец? — спросила я, тоже улыбнувшись. — Хочешь послушать, о чем говорится в этом письме? — Если ваша милость того желает, разумеется, — ответила я, усаживаясь поудобнее и отложив книгу на свой стол-шлюпку. Преимущество штанов заключается в том, что можно без проблем положить ноги на кровать, во всех этих юбках это сделать затруднительно. Он сел на другой стул и надел очки. — Писано тридцатого мая 1602 года, — начал он читать своим громоподобным голосом. — Эстебан Неварес, идальго, житель города Санта-Марта, расположенного в провинции Твердая Земля, испросил у его величества разрешения признать законным своего сына, которого прижил с индианкой из племени араваков в Пуэрто-Рико, незамужней, как и он сам, и подданной его величества, чтобы тот смог унаследовать всё его имущество и земли, поскольку других законных наследников он не имеет. Эстебан Неварес признает тем самымсвоего сына, и тот имеет право наследовать и получить все прочие титулы и свободы, как если бы был рожден в законном браке. Просьба рассмотрена его величеством, и его величество приказывает ее удовлетворить. Он поднял глаза от бумаги, проглядел ее поверх очков и добавил: — Документ подписан и заверен мной и писарем Балтасаром де ла Вегой и направлен его величеству Филиппу III. Мне отдали лишь копию, поскольку оригинал две недели назад отправили на корабле в Севилью. — Благодарю, отец.... — пробормотала я. У меня стоял такой комок в горле, что я не могла вздохнуть. — Как я погляжу, вы просто сумасшедший. — Тебе от этого будет не легче, — довольно ответил он. — Я просто ставлю тебя в известность о том, что тебя касается. — И что со мной станет? — улыбнулась я со слезами на глазах. — Вы хотите усыновить Мартина Невареса шестнадцати лет, который на самом деле не кто иной, как Каталина Солис, замужняя женщина двадцати лет. Потому я и говорю, что ваша милость просто сошли с ума и совершаете одни безумства. — Какое королю Филиппу дело до того, что Мартин — это Каталина или Каталина — это Мартин? Если со мной приключится беда, — серьезно заявил он, — я хочу, чтобы ты, как мой сын, звать тебя Мартин или Каталина, позаботился о Марии, как о собственной матери, а также о моряках с «Чаконы» и девушках из борделя, и чтобы доделал все незавершенные дела. Хочу, чтобы вы все держались вместе, чтобы процветали и были счастливы, а всего этого, если у тебя не будет документов о законном наследовании, ты не достигнешь. Ты же знаешь, что когда я умру, Мельхор де Осуна заберет дом, лавку и корабль. Ты должен будешь позаботиться о наших людях и двигаться дальше вместе с ними, кем бы ты ни был. Таков мой договор. Принимаешь его или нет? Прими его, мальчик мой, иначе я выкину тебя в окно. — Принимаю, отец, принимаю, — улыбнулась я. — Так тому и быть! — довольно воскликнул он, поднялся и с любовью потрепал меня по голове. — Твои новые документы прибудут через несколько месяцев. Дела по усыновлению из Нового Света обычно не встречают трудностей при дворе. Все получают одобрение, так что тебе следует подготовить другой футляр для бумаг с твоей новой личностью, — он посмотрел на меня с еще более широкой улыбкой, чем когда вошел. — Кто знает? Может, однажды ты используешь обе личности, как тебе будет удобно. И если такое случится, мне бы хотелось до этого дожить, чтоб взглянуть хоть одним глазком. Он расхохотался и вышел, оставив меня растроганной и в слезах. Бумаги прибыли в следующем, 1603 году, в тот год, когда умерла Елизавета, королева Англии, и это могло означать заключение мира с этой страной, что положит конец проклятым набегам пиратов и корсаров. Сей год обернулся особенно тяжелым для короля Бенкоса из-за участившихся нападений на его поселения и травли злобными собаками, выдрессированными для охоты в горах и зарослях тростника на чернокожих, которых они раздирали на части. Но тем не менее с каждым днем становилось всё больше беглых рабов, присоединяющихся к Бенкосу, и их хозяева начинали впадать в отчаяние. Чиновники в Картахене и Панаме много раз обсуждали, как разрешить эту проблему, и в результате решили засылать к беглым рабам агентов, которые получали свободу за то, что вели солдат тайными тропками к поселениям. Таких нелегко было найти, несмотря на призывы и уговоры по всей Твердой Земле, но всех, кто соглашался на роль Иуды, находили зарезанными на тех самых улицах, куда они мечтали вернуться, обретя свободу за счет чужих жизней. В 1603 году мы тяжко трудились. Мы бессчетное число раз совершали плавания на «Чаконе», поскольку фламандцы хотели всё больше табака за то же количество оружия. Мушерон, гордо раскуривая свою тонкую изогнутую трубку и притворно улыбаясь, предупредил, что однажды, если мы не привезем больше, он лично донесет о нашем контрабандном промысле испанским властям и позаботится о том, чтобы нас поймали, при этом безо всякого риска для себя, потому что его отношения с этими властями были просто превосходными благодаря заключенному с ними незаконному соглашению. Отец переменился в лице и сглотнул с таким видом, будто принял яд, но промолчал. Я знала, что в тот год флот под предводительством адмирала Херонимо Португальского привез очень мало товаров и плохого качества, и на ярмарке в Портобело почти нечего было купить. Колонисты, включая власти, не имели другого выхода, как прибегнуть к контрабанде. С тех пор, если это был не сезон сбора урожая, мы стали пользоваться поездками в Картахену для выплат, чтобы купить там несколько арроб *["457] табака низкого качества, испорченного во время сушки. Раз Мушерон хотел больше табака по той же цене, мы без зазрения совести примешивали в недавно собранный табак низкосортного. Также с той поры наше плавание пролегало между Пуэрто-Рико и Санто-Доминго, что на острове Эспаньола *["458], в поисках больших табачных плантаций, раз уж мы не могли изменить законы природы и собирать три урожая в год вместо двух, как бы мы в этом ни нуждались. Так что с сентября по ноябрь и с апреля по июнь мы не отдыхали ни дня, пересекая Карибское море с востока на запад и с севера на юг. После стольких плаваний к концу сухого сезона 1604 года «Чакона» продвигалась уже с трудом, слишком погружаясь в воду из-за водорослей и ракушек, наросших на корпусе. Потому через несколько дней после того, как мы забрали груз табака в Кабо-де-ла-Веле и находились в нескольких часах хода от Борбураты, отец решил заняться кораблем в живописной мелководной бухте под названием порт Консепсьон. Мы все обрадовались этой новости, поскольку в Борбурате, где добывали жемчуг, в ее лучшие времена находился полный жизни порт. Это была маленькая деревушка, окруженная стеной, хотя и бедная, чье гостеприимство привлекало многочисленные суда, нуждающиеся в ремонте. По этой причине по порту всегда слонялось так много моряков. Находящаяся неподалеку река Сан-Эстебан позволяла пополнить запасы воды, местные игорные дома не просто славились по всем Карибам, но и слыли превосходным местом, чтобы обменяться новостями с Твердой Земли и встретиться со старыми знакомыми. Там имелся и бордель, хотя не пользовался той же славой, что и заведение моей матушки. В первый день пребывания в Борбурате мы надрывались, отскабливая корпус корабля, с тех пор как начался первый отлив. Мои товарищи, по примеру Гуакоа и Хаюэйбо, ничуть не стесняясь помочились на руки (индейцы утверждали, что моча отлично заживляет раны, царапины и ожоги), а мне пришлось по-тихому удалиться, чтобы приложить к пальцам тряпку и унять боль. Наконец, на закате, наскоро поужинав на пляже, мы уже больше не могли продолжать и направились на площадь, где столько раз посещали рынок, прежде чем превратились в контрабандистов. Многие прохожие приветствовали отца, а многие, наоборот, старались, чтобы два альгвасила, гордо прогуливающиеся вверх-вниз по узким переулкам Борбураты, не увидели их в компании моего отца. Альгвасилы следили за пьяными моряками, уличными музыкантами, попрошайками, бродячими торговцами и задирами со шпагами, которые тут крутились. Вскоре мы разделились, все нашли себе место по вкусу. Отец по привычке направился в самую оживленную таверну, а меня, следующую за ним по пятам, вдруг остановил окрик Родриго: — Братец Мартин! — позвал он, прибавив еще что-то неразборчиво. — Братишка! Хочешь зайти в игорный притон? Отец, услышав, посмотрел на меня и покачал головой. — Отец, сделай милость! — попросила я, загоревшись идеей посещения настоящего игорного дома. — Даю слово, что не потеряю благоразумия. Я лишь хочу посмотреть, клянусь. — Как можно потерять то, чего не имеешь, голубчик? — ответил он, смягчившись. — Честно, отец, я правда лишь хочу взглянуть! — пылко взмолилась я и поклялась, что буду вести себя хорошо и осторожно, призвав в свидетели Родриго, который дал слово за мной присмотреть, так что с моей головы и волос не упадет. Мы оба так настаивали, что отец наконец сдался и дал мне разрешение. — Но никаких игр, Родриго, — велел он, повернулся и пошел прочь. — Он не прикоснется ни к одной карте, капитан. Клянусь. — Правда? — огорченно прошептала я. — Правда, Мартин, — подтвердил бывший игрок, потащив меня по оживленным улицам. — Тебе не повредит увидеть игорные дома и научиться тем штучкам, которыми там занимаются, чтобы избегнуть того зла, которое приносят карты, они стольким разрушили жизнь, но я беру тебя туда только лишь для этого, чтобы, став мужчиной и действуя по собственной воле, ты знал об опасностях игры. Я не это хотела услышать, но если он решил прочитать мне нотацию для успокоения совести, то пусть читает, лишь бы не жалел о том, что взял с собой. Я не возражала против того, чтобы выслушать его советы в качестве расплаты за посещение одного из известных игорных домов, которые также называют притонами или логовами льва. По дороге мы столкнулись со множеством зазывал, которые занимались ни чем иным, как заманивали игроков, чтобы опытные шулеры могли их обчистить. Игорный дом, в который мы вошли, представлял собой большой барак и состоял из множества комнаток, которые все называли будками. В каждой из таких будок под свисающим с потолка канделябром имелся стол, покрытый толстой тканью, он занимал центральное место. За ним сидели игроки с картами в руках, далекие от всего, что их окружает, а вокруг них стояла толпа зевак, лишая воздуха. Я последовала за Родриго по узким и темным коридорам, по обеим сторонам которых располагались «будки», пока, наконец, мы не добрались до одной из них, где как раз начиналась партия. Насколько я поняла, в этот вечер за всеми столами играли в примеру *["459], а я знала, что Родриго в этой игре нет равных, и потому развеселилась. Родриго уселся на незанятый стул и положил на стол деньги. Там играли короткие партии и на деньги, а потому никто не шутил и не подначивал других игроков, как это было на «Чаконе». Все сидели с серьезными лицами, а быстро начавшие собираться зрители группировались по кучкам, как вражеские армии. Тут же появился и хозяин игорного дома — мужчина суровой внешности в сопровождении не то помощников, не то слуг, и среди этих людей с дерзкими физиономиями я заметила ростовщика, который вручил деньги человеку, сидящему справа от Родриго. Он не дал ему на подпись никакой бумаги — похоже, что тому всё равно не удалось бы выбраться отсюда, не выплатив долг или не расставшись с жизнью. Позже я узнала, что среди всех людей, работающих в игорном доме, есть один, называемый счетчиком, он помнит все счета проигравших и выигравших во всех партиях и все одолженные суммы, выданные и уплаченные хозяину. Как я уже сказала, вошел хозяин и положил на стол новую колоду. — Играем без шулерства, подтасовок и обмана, дорогие сеньоры, — заявил он, и некоторые зрители зловеще заулыбались, хотя и не отводили глаз от стола. Родриго взял колоду и неуклюже ее перетасовал. Я поняла, что он хочет сойти за невинную овечку, хотя сомневалась, что он решит накапливать прибыль от партии к партии, скорее, он задумал получить все одной удачной партией, когда никто не будет к этому готов. Помимо того, кто рисковал на заемные деньги, за столом сидели еще двое игроков, один — и вправду невинная овечка, старый фермер из Сантьяго-Де-Леона *["460], весьма воспитанный и вежливый, которого завлекли в игорный дом интриганы-торговцы, а второй был местным, из Борбураты, управляющий с какой-то гасиенды, недавно получивший жалованье, так что карманы его оттопыривались от монет. Этот бедняга, молодой и сильный квартерон, однако не очень сообразительный, был вдрызг пьян и не придумал ничего лучшего, как попросить одного из зрителей принести ему еще рома, хотя стакан перед ним был полон. По традиции зрители обслуживали игроков, когда те просили, а по окончании партии игрок давал им чаевые, поскольку зеваки были слишком бедны и не имели никакого другого способа заработать на хлеб. Несмотря на это, обслуживающий управляющего человек вскоре устал выполнять его распоряжения и выносить презрение и насмешки, и, поскольку у Родриго и остальных уже имелись свои прислужники, покинул комнату в поисках другой партии и другого игрока, менее пьяного и грубого. В общем, тем вечером моему товарищу предоставилась прекрасная возможность подзаработать деньжат. Родриго сдал карты, и игра началась. Несмотря на видимое невежество, Родриго с изяществом искусно не давал смотреть в свои карты тем, кто стоял за его спиной, и когда через довольно долгое время на последней раздаче ход перешел к фермеру (как и деньги), я поняла, что он заманивает противников в игру. Играющий в кредит улыбнулся, словно знал, что происходит, а много потерявший пьяный управляющий закричал, что у него был флеш (самая удачная комбинация, при которой всегда выигрывают — четыре карты одной масти, следующие подряд), хотя на самом деле всего лишь примера (четыре карты, по одной каждой масти). Вторая партия была гораздо более захватывающей, чем первая, и наша комната наполнилась любопытными. Я не знала и не могла понять, какие трюки использует Родриго, но была уверена, что использует, хотя до сих пор он еще ни разу не выиграл. Теперь, после часа игры, фермер из Сантьяго-де-Леона снова открыл карты с пятьюдесятью пятью очками. Игрок в кредит больше не мог продолжать и церемонно поднялся и простился с присутствующими, его место занял капитан каравеллы, которая стояла здесь уже неделю, нуждаясь в ремонте. Но когда в третьей из длинных партий этого вечера мой товарищ наконец-то забрал со стола весь выигрыш, пьяный управляющий загрохотал, как бомбарда *["461], изрыгая оскорбления и стукнув кулаком по столу, и стал угрожать убить всех присутствующих. — Мошенники! — заорал он, словно сам дьявол. — Меня ограбили! Немедленно позовите альгвасила! За этим столом шулер, и я вырву у него сердце собственными руками! Никто не смеет надувать Иларио Диаса, управляющего на службе у Мельхора де Осуны, что в родстве с братьями Курво из Картахены! Призываю слуг закона! — продолжал он кричать. — Альгвасилы, стражники, здесь грабят верного хранителя склада, который лишь хотел честно сыграть на несколько мараведи! Когда пьяница упомянул Мельхора де Осуну, я впилась взглядом в Родриго. Тут же появился хозяин игорного дома со своей свитой. Кто-то схватил квартерона, который теперь направил кулак в сторону старика-фермера из Сантьяго-де Леона. — Вы... мерзавец, мошенник! Шулер, лишивший меня денег! Верните их сейчас же, сукин сын! — Заткни пасть! — огрызнулся хозяин, посторонившись, чтобы его люди могли вытащить Иларио Диаса из помещения. — Ты мне всех клиентов распугаешь! — Альгвасилы, стражники! Через мгновение удар в челюсть закрыл ему рот, игрок затих и мешком повис между двумя помощниками хозяина. Родриго, во время этой суматохи державшийся рядом со мной, прошептал: — Помнишь, я рассказывал тебе о контракте, который десять лет назад подписал твой отец с Мельхором де Осуной? Разумеется, я это помнила. Отец должен был поставить на склады Мельхора в трех городах Твердой Земли определенное количество полотна и ниток для шитья парусов. Без сомнения, Иларио Диас был главным хранителем склада на Барбурате, бригадиром поденщиков, работающих на Осуну. Поскольку флот в 1594 году не привел этих товаров, отец не смог выполнить договор, и Мельхор потребовал конфискации всего принадлежащего отцу имущества, присвоив его себе. — Лучшие трюки шулера, — вполголоса сказал Родриго, — это те, которые позволяют узнать карты противника, а из них самый главный — тот, когда сообщник держит зеркало за спиной соперника. Не превратить ли нам этого пьянчугу в зеркало, чтобы увидеть то, что скрывает Мельхор де Осуна? — спросил Родриго. — Лучше и не придумаешь, — ответила я, схватив свою красную шляпу. Родриго быстро забрал деньги, засунул их в карман и распрощался с присутствующими, бросив несколько мараведи в воздух на радость зрителям и служащим. Мы быстро вышли из игорного дома и снова оказались на улице, в этот час опустевшей, увидев, как служители игорного дома выкинули наружу Иларио, который приземлился в лужу у кучи отбросов. — Помоги мне! — велел Родриго. Мы оба бросились к бригадиру и вытащили его из вонючей воды, куда он уже погрузился по самый нос и чуть не захлебнулся. Бедолага квартерон больше не ругался, а закашлялся и опустошил желудок, оказавшимся и без того пустым. Он застонал, словно под пыткой. — В порт, Мартин. Ему нужно освежиться. Если бы не наша помощь, бедняга квартерон к рассвету утонул бы на улицах Борбураты, так что, с какой стороны ни посмотри, у нас было право с ним прогуляться, как мы того и хотели. По пути мы стянули с него грязный коричневый плащ и черный камзол, оставив только в хубоне и плундрах, грязные чулки свалились почти до самых ступней. Море было теплым, Родриго окунул его несколько раз, пока не смылась грязь с лица и одежды. Вскоре его взгляд немного прояснился, и он начал приходить в себя. — Что такое? — изумленно спросил он. Индейская кровь наградила его слегка раскосыми глазами и острым длинным носом, а испанская — белой мраморной кожей с многочисленными веснушками. Мы усадили его на берегу, а сами сели рядом на песок, лицом к морю, так что скудные огни города падали на лицо бригадиру, а мы оставались в тени, освещенные лишь лунным светом. Тень «Чаконы» вырисовывалась в сотне шагах вглубь моря, среди прочих кораблей, стоявших там на якоре. — А то, что нынче ночью мы спасли тебя от неминуемой смерти, — объяснила я. — Вы что, женщина? — удивился он. Мой голос, темнота и остатки рома приоткрыли истину. — Следи за языком, паскуда! — поспешно взвилась я. Родриго промолчал. — Я мужчина, более того, мужчина, который может дать тебе такую оплеуху, что позабудешь собственное имя! Он пробормотал какие-то извинения и потер глаза, словно пытаясь проснуться и увидеть реальность вместо фантазий. — Поговорим о твоем хозяине, Мельхоре де Осуне, — сказал Родриго. — О моем хозяине? Зачем? — Потому что мы так хотим. — А кто вы такие? — Не твоего ума дело, важно лишь то, что мы говорим, — ответила я с достоинством, пытаясь восстановить свою мужскую честь бравадой и прочей чепухой. — Ну, тогда я ухожу, — заявил он, поднимаясь на ноги. — Куда это ты собрался? — буркнул Родриго, пнув его по коленям, так что тот споткнулся и упал. Бригадир перепугался. — Позвольте мне уйти, сеньоры, не задерживайте меня, Бога ради! — взмолился он. — Чего от меня хотят ваши милости? — Мы уже сказали, придурок, — хохотнул Родриго. — Хотим поговорить о Мельхоре де Осуне. Рассказывай, что знаешь, то да сё, нам интересно всякое. — Но, но... вы же меня убьете! — Ну как же мы можем тебя убить, идиот ты эдакий, мы же твои добрые друзья и желаем тебе только добра! Говори, и мы не причиним тебе вреда. — Врете! Собака свою кость не выпустит! Мой товарищ потерял терпение, и в ту ночь я получила ценный урок: если человек не хочет говорить, приставь ему нож к горлу, и он запоет, как канарейка. Иларио Диас пел охотно и сладко. Больше его уговаривать не пришлось, и помимо всякой путанной чепухи относительно своего происхождения — оказалось, что этот карибский квартерон сам из семьи Осуны, брат Мельхора и состоит в родстве с Курво, и слезливых рассказов о несчастьях, оскорблениях и унижениях, которые причинил ему обожаемый хозяин на протяжении всей жизни, он поведал нам многочисленные сплетни и слухи о Мельхоре: что тот содержит несколько любовниц, что выбил глаз своей жене во время ссоры, что много играет в карты и однажды потерял десять миллионов мараведи разом, что у него семьдесят детей-метисов, что он хладнокровно убил двух человек... — Расскажи о его делах, — потребовала я, устав от стольких подробностей. — Что за товары он держит на складе, который находится под твоим присмотром? Квартерон повернулся и покрылся испариной, он явно был взволнован. — Какие товары я храню? — возмутился он с дрожью в голосе. — Обычные, как и у всех, на любом складе или в лавке. Родриго ткнул кинжалом, и квартерон завопил. — Дружище Иларио, — произнес он с сарказмом, — погляди, как мне легко тебя прикончить, тем более, что, выйдя из притона, ты сам чуть не утонул в канаве. Если будешь кричать, я перережу тебе глотку. — Нет надобности мне угрожать! — выкрикнул бригадир, откинув голову назад, подальше от острия. Ладно. Я расскажу всё, я уж понял, что вы хотите знать. Конечно, вы интересуетесь товарами, которые мой хозяин продает по хорошей цене, когда их не хватает из-за того, что флот их не привозит, так ведь? — О чем это ты? — удивилась я. Мой спутник пожал плечами. — Объяснись-ка, шельмец! — Клянусь, сеньоры, я не знаю, как так выходит, что у моего хозяина всегда в достатке товаров, но дело в том, что когда он накапливает на своих складах крупные партии плугов, к примеру, или полотна из Сеговии, или воска, или посуды... всегда выходит так, что следующий флот не привозит этих товаров. Потому он и продает их так дорого, ведь их нет и в ближайшем времени не предвидится. Вас это заботит, сеньоры? Что пытается рассказать этот мерзавец? Что Мельхор де Осуна заранее знал, каких товаров не будет хватать на Твердой Земле? Что он заранее знал, что привезет флот? Если это правда, хотя кажется настоящим безумием, то, несомненно, речь идет о мошенничестве гигантского масштаба, потому как эти сведения Мельхор мог получить только через своих покровителей и кузенов, братьев Курво. Но как, в свою очередь, их добывали братья Курво? Более того, кто в Испании решал с целью извлечения собственной выгоды, какие товары отправить в Новый Свет, а затем каким-то образом сообщал об этом братьям Курво? У меня голова пошла кругом, как и у Родриго, который глядел блуждающим взглядом, словно вставший на дыбы конь. — Ты уверен в том, что говоришь, мерзкий ты прохвост? — накинулась я на бригадира. — Смотри, если всё это враки, то твоя голова будет насажена на пику еще до восхода солнца! — Я лишь говорю о том, что вижу на собственном складе, не более! Я знаю, что туда поступает, сколько времени хранится и когда продается, так что не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сложить два и два. — И ты уверен, что тебе не известно, откуда твой хозяин заранее узнает, каких товаров будет не хватать? — спросил его побледневший Родриго, пытаясь выглядеть незаинтересованным. — Да откуда ж мне знать? — возмутился бригадир, но это возмущение было явно фальшивым, он, несомненно, врал. — Думаете, я могу заставить такого знатного хозяина, как мой господин, рассказать мне столь важные вещи? Охотники, превратившиеся в дичь — вот кем были мы с Родриго. Если бригадир начнет болтать, мы покойники. Это было не в его интересах, но если однажды по какой-то причине он всё же проболтается, Мельхор де Осуна и его влиятельные родственники отправят нас на дно морское с привязанным к ногам камнем. — Возможно, — робко добавил квартерон, — конечно, в случае, если вы решите убрать кинжал от моей шеи, возможно, я рассказал бы вам еще кое-что, что вас заинтересует. Мой товарищ, полумертвый от страха, кивком подал мне знак, что мы отклоняем предложение, и безжалостно нажал на кинжал, порезав шею бригадиру, так что тот застонал от ужаса. — Хватит, братец! — воскликнула я. — Пусть говорит. — Во имя...! — Хватит, говорю же! Отпусти его, и пусть говорит. Родриго опустил руку с кинжалом. — Весьма признателен, сеньор, — промычал квартерон, погладив кадык. — Говори! — приказала я. — Говори, а не то не выйдешь отсюда живым. — Уверен, вы захотите узнать, — начал рассказ квартерон, — что мой хозяин, воспользовавшись своими знаниями о том, что привезет флот, годами надувал некоторых купцов Твердой Земли, подписывая с ними контракты на поставку товаров, которых как раз и не будет. И когда эти купцы не могли выполнить условия контракта, он по закону завладевал всем их имуществом, а поскольку все они уже были в годах, главную прибыль получал, заставляя их выплачивать ежегодную ренту за то, что сдавал внаем их же собственное имущество, так что эти люди всю недолгую оставшуюся им жизнь были связаны по рукам и ногам и боялись попасть на галеры. Эти деньги были значительным довеском к его прибылям. Могу указать троих из таких торговцев: Фернандо Веласко из Коче, ныне покойного, Эстебана Невареса из Санта-Марии и Фелипе Альмагро из Риоачи, также скончавшегося от старости. Знаю точно, что есть и другие, но мне неизвестны их имена. Я не не могла поверить в то, что рассказывает этот прохиндей. Мельхор де Осуна, действуя в одиночку, чтобы не впутывать своих прославленных кузенов, был бессердечным мошенником и вероломным вором, заслуживающим повешения на главной площади Картахены. Мой отец стал не только жертвой обмана, который вынудил его сделаться вопреки своей совести контрабандистом, но и попал в ловушку могущественного семейства мерзавцев, бандитов и лжецов. На Твердой Земле были и другие несчастные вроде него, по меньшей мере два или три торговца, из которых Осуна до самой смерти высасывал всю кровь, и, видимо, они принесли ему не меньшую прибыль. Я ощутила, как в груди вскипает ярость, хотелось закричать, наброситься на Осуну со шпагой, побежать за альгвасилами и вручить им этого подлеца Иларио Диаса, чтобы они выслушали его рассказ, как слушали мы, и чтобы Осуна, братья Курво и все прочие подобные им очутились в темнице, перед лицом закона, на эшафоте и в аду. Но мне было понятно, что только по свидетельству пьяного бригадира ни один судья не выступит против родственника братьев Курво, даже если этот пройдоха доживет до суда, что весьма маловероятно. Если Осуна и правда хладнокровно убил двух человек, то чего ему стоит убить еще одного, тем более своего служащего и квартерона? Будучи женщиной, всю кипевшую во мне ярость я выплеснула в слезах, к счастью, сумерки их скрыли, так что ни Родриго, ни омерзительный бригадир ничего не заметили, и именно тогда я начала хладнокровно ковать план, идею необходимой, справедливой и жестокой мести. — И что теперь будем делать? — спросил меня Родриго. — Отпустим его. — Благодарю вас, благодарю, сеньор! — Что, вот так просто? Завтра же он обо всем донесет хозяину. — Я не скажу ни слова! Что я могу сказать, сеньоры, ведь он тут же обвинит и меня! — Он не проболтается, братец, — ответила я очень спокойно, вытерев слезы, как стирают пот. — Его жизнь зависит от этого. — Я скорее проглочу собственный язык, чем скажу хоть слово! Клянусь, сеньоры! — Мы полагаемся на милость этого пропойцы, братец. Подумай над этим. — Он даже не знает наших имен, — напомнила я, в этом я была уверена, поскольку мы ни разу не назвали друг друга по имени в его присутствии. Проблема заключалась в том, помнил ли он, что играл с Родриго в карты. — Чем ты занимался нынче вечером, прежде чем оказался здесь с нами? — спросила я. — Ну... не помню... — он задумался и, похоже, искренне. — Я поужинал дома, это я помню, и очутился в таверне, а потом пошел в игорный дом, по крайней мере, вышел из таверны с этим намерением, чтобы сыграть на полученное жалованье, а потом ничего не помню. Нужно сосчитать мараведи в карманах. Нас он не помнил. Тем лучше для него. — Братец, — сказала я Родриго, — надавай ему столь пинков и оплеух, сколько пожелаешь, избей до полусмерти, чтобы никогда не забыл эту ночь и наш разговор. И чтобы почувствовал из твоих рук, что если проболтается, если хоть раз что-нибудь скажет, мы его найдем — мы или наши друзья, где бы он не скрывался, вытащим из убежища и заткнем рот навечно. — Я ничего не скажу! — заныл трус. — Что я этим получу, кроме вреда и убытков? Хозяин меня живьем на куски порвет, если узнает, что я вам понарассказывал. Он же уверен, что я просто дурачок и простофиля. Отпустите меня! Родриго посмотрел на меня немного удивленно, то ли оттого, что я дала ему такой приказ, то ли потому что сомневался, что я и правда имею это в виду, но мое молчание его убедило. Устало махнув рукой, он поднялся, проворно отряхнул песок и задал бригадиру такую трепку, что под конец тот действительно выглядел мертвым, а одежда Родриго насквозь промокла от пота и чужой крови. — Достаточно? — спросил меня он, облизав раны на костяшках пальцев. — Он жив? — Как по мне — жив, хотя уже совсем близко к воротам святого Петра. — Ну и оставь его, пусть его найдут поутру. — А если мы столкнемся с ним на улице, и он нас узнает? — Мы отплывем из Барбураты, прежде чем он снова сможет ходить. Я говорила так холодно, что Родриго посмотрел на меня с тревогой. Да я и сама была встревожена. Я не знала, что со мной происходит и сомневалась в своем рассудке, пока мы шли в сторону таверны, где остался отец и остальные. Вероятно, они уже беспокоились о нашей задержке. — А ты подумал, Мартин, что Осуна получает сведения о флоте от своих кузенов Курво? — прошептал мне Родриго, пряча окровавленные руки за спину. — Разумеется, — ответила я, замедлив шаг. До двери таверны оставалось меньше тридцати шагов. — А откуда их получают Курво? Об этом ты подумал? — Мне не пришло в голову ничего другого, кроме как что от третьего брата, того, что живет в Севилье и руководит семейным предприятием. — Фернандо? — Он самый, — кивнула я. — Фернандо Курво наверняка имеет связи в севильской Палате по делам колоний, а именно там, насколько я знаю, определяют, сколько кораблей войдет в состав флота и сколько и какие товары они повезут. Родриго остановился прямо посреди улицы. — Определяют, говоришь. Определяют в Палате по делам колоний, но кто на самом деле решает, так это Консульство в Севилье. — Консульство? Что за консульство? — Консульство по торговле с Индиями *["462]. Все торговые сделки между Севильей и Новым светом должны быть записаны в его книги. Тем самым отстраняют от таких сделок иностранцев. В последние годы его власть так возросла, что именно консульство, а не Палата по делам колоний организует флот, и тот, что отправляется из Новой Испании в Веракрус, и галеоны, прибывающие в Картахену и Портобело, и с тех пор как король начал предлагать должности в Палате по делам колоний на продажу, богатые купцы завладели всем. — И как это король допустил, чтобы такая важная торговля ускользнула из его рук? — Бога ради, Мартин! А сам-то как думаешь? Ради денег, разумеется, как и всегда! Консульство в Севилье делает существенные подношения королю Филиппу, чтобы заполучить его благоволение, и потому он прощает разные огрехи в торговле, в особенности мошенничество с учетом, потому как ему одалживают значительные суммы, которые его величество и не думает возвращать. Не говоря уже о тех многочисленных случаях, когда король просто отбирает товары, привезенные флотом в Севилью. В общем, ради этого король и продал права Палаты по делам колоний за многие тысячи дукатов. — Филипп II тоже так делал? — Филипп II, его отец Карлос I, а теперь и Филипп III. Все эти проклятые Габсбурги! Им вечно не хватает денег на войну за какие-то далекие земли! Испания в долгах, как в шелках, и всё по их вине, как и по вине основных европейских банкиров: Фуггеров, Гримальди, Грилло... — Ладно, — сказала я, — вернемся к нашему делу. Предположим, что Фернандо Курво имеет в Севилье доступ к решениям Консульства относительно флота. — Не сомневайся. — Согласен. Фернандо получает эти сведения, — кивнула я. — И из Севильи отправляет братьям письма в Картахену на тех посыльных кораблях, которые снаряжает Палата по делам колоний для торговцев Твердой Земли и Новой Испании, тех самых, что мы столько раз встречали в этих водах, а в письмах сообщает, каких товаров не будет. Курво собирают эти товары на складах. — И не забудь, что у них есть и собственные торговые суда, — добавил Родриго. — Что ты этим хочешь сказать? — А то, о каком серьезном мошенничестве идет речь, если выяснится, что Фернандо, принимающий решения, что отправить из Севильи с флотом, сам имеет в собственности торговые суда. Я поразмыслила над этим несколько секунд. — А мы можем узнать, не покупал ли он какой-нибудь груз в Палате по делам колоний или в Консульстве? — И как мы это узнаем? — удивился Родриго. — Фернандо Курво — в Севилье, а мы — на Твердой Земле. Он — один из самых известных торговцев, а мы, если я правильно помню, бесславные контрабандисты. — В Картахене кто-нибудь наверняка знает, — возразила я. — Естественно. Его братья, Ариас и Диего Курво. Собираешься их спросить? Раздраженное ворчание отца из-за двери таверны застало нас врасплох. Я увидела его, резко и рассерженно жестикулирующего и зовущего нас. Родриго тут же умолк, ожидая моего ответа с озорной ухмылкой. — Может, и спрошу, братец, может, и спрошу, — ответила я. — И сделай милость, не рассказывай ничего моему отцу. — Почему это? — удивился он. — Для него это важно! — Доверься мне, Родриго. Я знаю, что делаю. — Это же предательство! Отец по-прежнему голосил во всю глотку, подзывая нас, несмотря на то, что мы остановились. Вскоре все жители Борбураты выбегут на улицу с оружием в руках, решив, что на город напали пираты. — Нет, Родриго. Ты же знаешь, что отец никогда не решит проблему с Мельхором. Ты знаешь, что он вынужден будет платить ему до конца своих дней. Более того, ты наверняка знаешь, что некоторое время назад он попросил меня позаботиться о матери, о вас и девушках борделя после его смерти, потому что мы останемся без дома, лавки и корабля. Родриго засопел, и я поняла, что до него начинают доходить мои намерения. — Не выдавай меня. Позволь мне подумать обо всем, что нам рассказал нынче ночью этот подлец Иларио Диас, и найти способ выбраться из этой трясины, а ты тем временем сохрани тайну. На загорелом лице бывшего игрока, любителя трюков за карточным столом, появилась улыбка. — Ладно, — ответил он. Но я тоже с тобой. Ты должен рассказывать мне всё. — Клянусь честью, так и будет, — сказала я, пустившись бежать в сторону отца. Три месяца спустя мы вернулись на Санта-Марту, с шебекой, нагруженной оружием и порохом до самых бортов. Стоял август, сезон дождей был в самом разгаре, а это означало жесточайшие шторма, тайфуны и ураганы, бушующие в Карибском море. Отец не торопился отдать груз Бенкосу. Он сказал, что устал и хочет наконец-то обедать в собственном доме и спать в своей постели. Вопреки его желаниям, в скором времени подходил срок выплаты очередной трети ежегодного платежа. До наступления тридцатого дня месяца нам следовало явиться в Картахену, чтобы посетить Мельхора и вручить ему двадцать пять дублонов. При нашем появлении матушка просияла. Она подготовила нам королевский прием, праздник длился целых два дня кряду. Она была так рада, что даже у отца поднялось настроение и он немного позабыл о своих заботах. Музыканты нашей команды присоединились к оркестру борделя и по вечерам играли на улицах Санта-Марты импровизированные концерты перед соседями, которые болтали у дверей своих домов, гуляли по берегу или направлялись к реке Мансанарес, чтобы окунуться. Чича, ром и самогон разогрели сердца, и девушки работали без устали, пока остальные танцевали, пировали или дремали во время сиесты — в те часы, когда нещадно жгло солнце. Неделей спустя после нашего приезда из джунглей явились пьяные соседи, которым было невдомек, что праздник уже закончился. Вскоре после окончания пирушки, во вторник утром, матушка вызвала меня к себе в кабинет. Когда я вошла, отец мирно разговаривал с ней о доходах и расходах борделя. Для моего обучения арифметике матушка использовала вместо учебника свои учетные книги, и оба знали, что я в курсе всех дел борделя. — Проходи, Мартин, — сказала матушка, покуривая толстую сигару. — Садись, сынок. Я подтащила кресло и села рядом с отцом. — Ну вот, вы оба здесь, — произнесла матушка, бросив на нас довольный взгляд. — Хочу вас порадовать, ибо в последние годы, когда вы занимались контрабандой, мы собрали достаточное количество денег, чтобы вытащить наше имущество из рук Мельхора де Осуны. Отец задумчиво склонил голову. С тех пор как меня удочерили, точнее, усыновили, матушка обращалась со мной с любовью, почти как родная мать. Но всё же между нами всегда оставалась стена, которую ни одна из нас не хотела ломать. — Зачем ты упорствуешь, Мария? — обратился к ней отец, едва сдерживая гнев. — Ты же знаешь, что нашу собственность невозможно выкупить. — Нет ничего невозможного, Эстебан. — До моей смерти это невозможно, разве я когда-нибудь тебе врал? — закричал он. — Когда это случится, то Осуна всё продаст. Прибереги эти деньги, Мария. Сохрани их до той поры, а в день моей смерти отдай Мартину. Он знает, как ими воспользоваться. — Да чтоб мне пропасть, Эстебан, если ты не потерял рассудок! Что мы потеряем, если попытаемся? Ты столько твердишь о своей смерти и не задумываешься, что, может, Осуна уже ее заждался. А ты что скажешь, Мартин? — неожиданно спросила матушка, судя по выражению ее лица, ожидая, что я ее поддержку. С того вечера, когда мы разговаривали с Иларио Диасом в Борбурате, голова у меня шла кругом. Мы с Родриго никому ничего не сказали, но время от времени тайно встречались в отсеке для якорей и канатов, где в скудном освещении, проникающем через клюзы, терзались воспоминаниями о бесчинствах братьев Курво и Мельхора. Родриго тысячи раз повторял, что подписанный отцом контракт, позволяющий использовать дом, лавку и корабль до самой его смерти — это вещь неизменная и законная, его невозможно отменить кроме как по воле Осуны, который наверняка имеет подкупленных судей и королевских чиновников в Картахене, чтобы нотариусы официально признали эти контракты. Мы думали, что Курво наверняка кому-нибудь из них платят. — Мне кажется, — пробормотала я, — что отец прав, матушка. Мельхор де Осуна не позволит выкупить наше имущество, потому что тогда он потеряет деньги. — Какие деньги он потеряет? — возмутилась она, выпустив изо рта струю дыма. — Мы лишь хотим, чтобы он сам назвал сумму и сделал нам предложение! — И сколько же дублонов мы собрали? — поинтересовался отец. — Четыреста. Я смогла сберегать по сотне в год, помимо выплаты семидесяти пяти Мельхору. Отец помрачнел. — Он и слышать ни о чем не захочет за такие деньги, — сказал он. Я вздрогнула. Я знала, что Осуна не хочет ничего продавать, но чтобы даже за четыреста дублонов? Боже ты мой! Знает ли отец, сколько это будет в мараведи? — Он попросит по меньшей мере вдвое больше, — продолжил он. — И что еще? — рассмеялась матушка. — Испанскую корону? Трон небесный? — Я же сказал, что он не хочет продавать! — взорвался отец. — Так попробуй! — в свою очередь выкрикнула матушка. — Чего тебе стоит спросить? Сделай это ради меня, Эстебаньито! Я не хочу ждать твоей смерти, чтобы получить обратно свой дом! — она помолчала несколько мгновений, а потом пылко поправила себя: — Наш дом, Эстебан. Разве ты забыл, что здесь родился наш маленький Алонсо и здесь провел свою недолгую жизнь, в этих комнатах? Я онемела от удивления. У отца и Марии Чакон был сын, который незнамо когда умер, еще в детском возрасте. Я никогда не слышала и не знала об этом ребенке, никто не произносил о нем ни слова, словно его имя и существование были стерты из воспоминаний. Но благодаря своей хорошей памяти я припомнила одну маленькую деталь из того дня, когда впервые вошла в этот дом и в этот кабинет. Узнав, с помощью какой хитрости мне удалось избежать брака с несчастным Доминго Родригесом, матушка тогда сказала, что как бы мне не хотелось сойти за сына Эстебана Невареса, я никогда не стану как... И тут она остановилась. Отец быстро поднялся со стула, встал перед ней на колени и погладил лицо. Без сомнений, оба думали об одном и том же, но в тот день ничего не сказали, как и потом. Теперь, однако же, сеньора Мария упомянула об этом болезненном воспоминании, чтобы отец отправился на переговоры к Мельхору де Осуне. — Ты слышал меня, Эстебан? — настаивала матушка. — Я слышал тебя, женщина, — грустно ответил он. — И что ты решил? Отец казался таким старым и усталым, как никогда, он посмотрел на нее, слегка кивнув. — Я попробую, — наконец произнес он. — Но Осуна не уступит. Матушка вышла из себя. — Предложи ему четыреста дублонов! Вот увидишь, он от них не откажется. Кто бы мог отказаться от целого состояния! Отец пожал плечами, медленно поднялся на ноги, сделав над собой усилие, и направился к двери. — Идем, Мартин, — приказал он мне. — Нам нужно осмотреть груз на шебеке. Я не хочу, чтобы произошло несчастье, слишком много пороха на борту. Матушка, отрешившись от своих смутных грез, тут же отреагировала. — Ты должен был отвезти оружие Бенкосу, а не держать его столько времени в Санта-Марте! — Так я и поступлю! — ответил он уже из большой гостиной. — Мартин, я тебя жду! Я собиралась уже бежать, но на секунду задержалась. — Мне жаль, что не смог вам помочь, матушка, — пробормотала я. — Иди же. Оставь меня. — Я с ним поговорю, — сказала я, прежде чем выбежать из кабинета. — Предоставлю ему самые веские аргументы самыми убедительными словами, и он с большей готовностью согласится переговорить с Мельхором и убедить его. Она взглянула на меня и попыталась спрятать свою благодарность за плотным облаком дыма от сигары. — Знаешь, что сказал бы любой другой мужчина на месте Эстебана в самом начале этого разговора? Что он будет делать то, что хочет, а обязанность женщины — склонить голову и слушаться его, не споря, повиноваться его желаниям. Ты не сможешь предоставить отцу больше аргументов, Мартин, это дело слишком его беспокоит. Он прекрасно знает, как обращаться с Осуной. Он же не просто так посещал его все эти десять лет. — Да, матушка. — Так что ступай на корабль и веди себя тактично, — попросила она.
Глава 4
Мы отплыли в Картахену, и, как было заведено в последнее время, когда подходили к концу ежедневные заботы, а небо еще оставалось светлым, отец усаживал меня на палубе вместе со всеми моряками вокруг и читал вслух какую-нибудь из своих любимых книг. Таким образом он прочитал пять книг о бесстрашном и непобедимом рыцаре Тиранте Белом, четыре книги об Амадисе Гальском, книгу об Оливеросе Кастильском, хронику кабальеро Сифара и историю прекраснойМелосины, которые все слушали с огромным удовольствием, поскольку не было книг более занимательных, чем те, что рассказывали истории о рыцарских приключениях. С тех пор как мы занялись контрабандой, наше пребывание в Картахене стало очень коротким. Первым делом мы все вместе отправлялись в шлюпке на берег, за исключением Гуакоа и Николасито, они оставались сторожить корабль. В порту юнга Хуанито шел в мастерскую плотника, один из рабов которого передавал наши сообщения королю Бенкосу. Этот раб передавал послание другому, которого мы не знали, тот, в свою очередь, еще одному, а тот — следующему, и так, через множество курьеров, быстроногих и знающих горы и болота, сообщение достигало Бенкоса чуть более чем за день, так что на обратном пути, когда мы проходили мимо устья большой реки Магдалена, беглые рабы уже нас поджидали, чтобы забрать товар. Пока Хуанито передавал послание, остальные, наняв в порту мулов, направлялись вместе с моим отцом в дом Мельхора. Мы взяли в привычку ждать у двери, пока отец не закончит, это не занимало много времени, а мы находились близко к плантации, с которой вели дела. Покинув этот дом, мы нагружали мулов табаком, отец расплачивался с управляющим, и мы возвращались в порт Картахены, где за несколько приемов переправляли тюки на шлюпке и складывали их в кладовку для припасов, потому что к этому времени наши трюмы были заполнены оружием для Бенкоса. Мы ужинали и проводили в порту ночь, а на рассвете отплывали из Картахены. В тот день, однако, кое-что изменилось. Во-первых, отец задержался в гасиенде Мельхора дольше обычного. Я знала, что он обсуждает выкуп нашего имущества, и потому не стала волноваться. Однако, когда он покинул дом и пошел к нам, спотыкаясь, словно пьяный, у меня ёкнуло сердце и отхлынула кровь. Я поспешно шагнула вперед, но не могла ничего произнести. — Отец, — только и пробормотала я. Он поднял голову, глаза его были затуманены. — Мартин! — удивленно воскликнул он. — Что ты здесь делаешь? — Вы хорошо себя чувствуете, отец? Он пошарил в хубоне, словно что-то искал. — Нет, — буркнул он. — Безусловно, нет. Принеси-ка мне выпить. — Но... Мы должны забрать табак с плантации! — Я сказал — принеси мне выпить! — гневно рявкнул он. Я махнула рукой своим спутникам, и они подошли ближе, весьма обеспокоенные. — Ваша милость, дайте Лукасу деньги, чтобы он смог расплатиться за табак, — попросила я, — а я принесу вам выпивку из таверны. Отец не стал спорить, вытащил кошель с деньгами и вручил его моему бывшему учителю грамматики. — Идите с мулами на плантацию. Заберите табак и расплатитесь, а потом возвращайтесь в порт, — приказала я остальным. Вообще-то, поскольку стоял конец августа, речь шла о табачной крошке, которую мы потом подмешаем в хороший табак и продадим Мушерону. Лукас помедлил несколько мгновений, поглядывая на кошель, развернулся и молча ушел вместе с Родриго, Томе, Матео и Хаюэйбо. Я осталась наедине с отцом. После разговора с Мельхором де Осуной он словно лишился рассудка и превратился в новорожденного младенца. — Что произошло в гасиенде Мельхора? — спросила я, медленно подойдя к нему, в тайном страхе, который никогда не забуду. — Мельхор де Осуна! — заорал отец в ярости. К счастью, мы были одни среди зарослей тростника. — Вор, мерзавец, сукин сын! Знаешь, что он мне сказал, Мартин? — Нет, отец. И что он сказал? — Что каждый день молится о моей смерти, что он и так уже прождал слишком много времени и что когда предлагал мне подписать контракт на аренду, то не ожидал, что я проживу так долго. Если и для меня слова Мельхора были как кинжал в сердце, то что же они значили для отца, который услышал их из уст человека, лишь жалеющего его оскорбить, потому что во время этого столь долгого, по его словам, ожидания Мельхор получил кучу денег. Я поклялась, что Осуна заплатит за оскорбления, сколько бы времени мне ни понадобилось, я не остановлюсь, пока не отомщу. — Он не хочет возвращать мне имущество, — продолжил объяснения отец, хотя настолько был охвачен негодованием и яростью, что заикался. — Он сказал, что не желает четырехсот дублонов, что он зарабатывает больше губернатора и даже за миллион мараведи не расстанется с «Чаконой», лавкой и домом в Санта-Марте. Сказал, что хорошая мебель или недвижимость его привлекают больше, чем металл, потому как монет он уже имеет в избытке, а дома, корабли и лавки — это богатство, которое с течением лет лишь прибавляет в цене. — Успокойтесь, ваша милость, — взмолилась я, потянув его за собой, потому что он вдруг остановился, — и не волнуйтесь ни из-за Мельхора де Осуны, ни из-за кого другого. Мы продолжим всё как раньше. Будем платить каждые четыре месяца и поглядим, чем закончится эта история. — Но, Мартин, разве ты не видишь, сынок? Я умру, не вернув в собственность ни корабль, ни дом. И что скажет Мария? Материнское имя, казалось, вернуло ему здравомыслие. Он поднес руку ко лбу, словно был ранен в голову, а когда опустил ее, лицо и дух успокоились. Он оглядел тростник по обеим сторонам дороги и повернулся ко мне. — А где остальные? А табак? — Вы не помните, отец? — от жалости к нему у меня кольнуло в груди. — Ваша милость сказали, что вам нужно пойти в таверну и выпить и велели... — Выпить, в такой-то час? — удивился он. — Но ведь мы должны забрать табак! — Ваша милость отдали деньги Лукасу, чтобы он купил табак от своего имени. — Да чтоб мне провалиться! Я отдал деньги Лукасу? — Да, отец. И раз вы не желаете пить, то я провожу вас в порт, и там найму шлюпку, чтобы вернуться на корабль, а вы обещайте, что ляжете спать и отдохнете до обеда. Я найду остальных, и мы вернемся с табаком. — Боюсь, они подумают... — посетовал он, но не стал отклонять моего предложения отдохнуть у себя в каюте, хотя я этого и опасалась. — Ничего такого они не подумают, — ответила я. — Они знают, что ваша милость — не какой-нибудь там мальчишка. Я поступила именно так, как и сказала: отвела его в порт, наняла шлюпку, заплатила лодочнику и подождала, пока шлюпка скроется среди многочисленных кораблей в гавани. После чего я бросилась бегом по улицам под палящим солнцем, и вылетела из города в поисках товарищей. Я застала их на последней плантации, с почти полностью нагруженными мулами. Все хотели знать, как себя чувствует капитан. Я объяснила, что он пришел в себя и отправился на корабль отдыхать, но с ним всё в порядке. — Братец Родриго, мне нужна твоя помощь, — вполголоса обратилась я к своему товарищу. — Можешь навестить вместе со мной кой-кого в Картахене? — Естественно, братец. Я коротко поведала ему, что случилось в доме Мельхора, и объяснила, чего хочу. Он выглядел вполне довольным и готовым на всё. Когда мы с мулами прибыли в порт, мы с Родриго покинули остальных и направились на рынок, где торговали старые друзья отца — купец Хуан де Куба и лавочник Кристобаль Агилера. Мы переговорили кое с кем, посетили несколько таверн и пару игорных домов и еще до захода солнца узнали, что братья Курво занимаются теми же делами, что и Мельхор: как болтают злые языки, когда флот прибывает в порт Картахены, рабы братьев Курво разгружают их корабли со всей возможной спешкой, чтобы королевские чиновники, имея в эти дни слишком много дел, не могли проверить записи, оценить товары и собрать приличествующие налоги. Поскольку, согласно королевскому указу, торговцы не обязаны показывать содержимое тюков, ящиков, сундуков, бутылок и бочек, задекларированных в Севилье перед отплытием, то никто не знал, что на самом деле выгружают Курво, знали лишь, что рабы очень торопятся, чтобы доставить все эти товары на большие склады за пределами Картахены. Поговаривали, хотя и шепотом и с оглядкой, что хотя Фернандо, севильский брат Курво, и заявлял, будто отправляет всякую мелочевку вроде фитилей для свечей, холстины или пакли, на самом деле на этих кораблях везли парчу, шелк и атлас из Дамаска. Все также были уверены, что у Курво всегда имелись в достатке любые товары, и что в тот год, когда не флот приплывал или не привозил необходимого, они, в отличие от всех остальных крупных торговцев, старались продать свои товары подороже, чаще всего торговцам из Перу, поскольку у тех имелось серебро из Серро-Рико, что в Потоси, и они единственные обладали достаточной наличностью, чтобы заплатить такую цену. Все это не могли обсуждать открыто, но нам с Родриго хватило и знания того, что Мельхор де Осуна лишь подражает своим могущественным и жуликоватым братьям, явно не являющимися примером честных торговцев. Я должна была освободить отца от этих людей. Все четыре года, что я провела рядом с ним, я видела, как его пожирает это несчастье. Он был человеком преклонных лет, но Курво и Осуна превратили его в настоящего старика. Его здравый рассудок пошатнулся, и я не могла терпеть, чтобы его последние дни были наполнены сознанием вины и неудачи. — Я должен что-то предпринять, Родриго, — сказала я своему другу по дороге обратно в порт. — И поскорее, иначе отец не доживет до следующего года. — Осторожней, Мартин! Что ты задумал? — Ты ведь так много знаешь о трюках и обмане в картах, мог бы мне посоветовать. — Хотел бы я! Но гораздо легче надуть азартного игрока, чем Курво, это уж точно. Они опасные люди. — Опасные или нет, но им придется иметь со мной дело. Родриго вздохнул. — Ты не понимаешь, что говоришь! Не только у твоего отца затуманился разум. Эти слова почему-то напомнили мне о трюке с зеркалом. Всё-таки разум мой был не так уж плох, как считал мой приятель. — Бегом в порт! — воскликнула я. — У меня есть дело для Хуанито. — Для Хуанито? Я не ответила, а помчалась по улице в сторону моря, словно у меня горели пятки. Наш юнга, которому шел двенадцатый год, превращался в сильного и привлекательного юношу. Он терпеливо дожидался нашего возвращения к шлюпке, сидя на последних тюках с табачной крошкой, которые следовало отвезти на корабль. Увидев, как я мчусь к нему во всю прыть, он тут же вскочил на ноги и схватился рукой за кинжал. — Спокойно, Хуанито, ничего не случилось, — сказала я. — А почему ты бежишь? — Сделай мне одолжение. — Конечно, — твердо ответил он. — Говори. — Ты никому не должен рассказывать о том, что я тебя сейчас попрошу. — Даю слово. — Если проболтаешься, юнга, — добавил Родриго, согнувшись, чтобы отдышаться, — я с тебя шкуру спущу. Хуанито и Николасито очень уважали Родриго, думаю, из-за его грубоватого обращения, он вечно их бранил. — Я ничего не скажу, — с опаской повторил мальчишка. — Хочу, чтобы ты вернулся в мастерскую плотника и сказал нашему эмиссару, чтобы отнес Бенкосу мое послание, — велела я. — А сообщение такое: капитан попал в переделку, и ради его блага я прошу Бенкоса помочь мне, чтобы его уши в Картахене стали моими. Понял? — Да, но что он должен узнать? — Про братьев Курво, Хуанито. Я хочу знать о них всё, особенно то, что они скрывают: их секреты, пороки, стремления и незаконные дела. Хочу знать то, что они ни за что в жизни не хотят открыть. — Ясно. Иду в мастерскую. — Погоди! Еще кое-что. Король Бенкос должен хранить это в секрете. Эти сведения могу узнать только я. Никто больше, понятно? Ни капитан, ни матушка. А теперь иди. Беги быстрее в мастерскую и поскорее возвращайся. Юнга бросился бежать, а отдышавшийся Родриго бросил на меня суровый взгляд. — То, что ты делаешь, — пробурчал он, — это такое безрассудство, что мне кажется, будто ты выжил из ума. Это опасная игра, Мартин, более того, ты останешься в долгу перед Бенкосом Бьохо, королем изгоев. — По счастью, я не нуждаюсь в твоих советах, — язвительно ответила я. Хотя в глубине души знала, что он прав, я и сама говорила себе то же самое. Но всё равно я должна была рискнуть, что же касается обязательств перед королем Бенкосом, то это была небольшая цена за то огромное одолжение, которое он сделал бы мне, если согласится. Слухов, гуляющих на рынке, мне не хватало для того, что я собиралась предпринять. В Санта-Марту мы вернулись в печали. Матушка огорчилась, узнав новости про наше имущество. В последующие дни она обдумывала, не купить ли новый дом, не хуже нашего, где-нибудь в другом месте на Карибах, чтобы перевезти туда бордель и лавку. Она сказала, что устала бороться с Мельхором и склонялась к тому, что лучше прекратить выплачивать ему причитающееся, и пусть мерзавец заявится к альгвасилам и потребует реквизировать собственность. Она бы так и поступила, если бы это не означало также, что ее любимого Эстебана могут отправить на галеры. Несмотря на охватившее весь дом уныние, отец оправился и восстановил способность рассуждать здраво. Он сказал, что не помнит, как вышел из гасиенды Мельхора, и пришел в себя лишь рядом со мной, на дороге у зарослей тростника. Словно он задремал, объяснил он матушке, которая не открыла рта, но на ее лице отразилось вся горечь, которую она чувствовала. Хорошо хоть, что до середины сентября нам не было нужды выходить в море, чтобы снова покупать табак второго за год урожая. Эти две недели очень пригодились отцу, чтобы он смог отдохнуть. Однажды вечером, через несколько дней после возвращения из Картахены, послышался стук в парадную дверь, я вышла из своей комнаты и направилась к крыльцу, чтобы узнать, кто явился в столь поздний час. Наверняка какой-нибудь заблудившийся моряк, который не может найти вход в бордель, решила я. Но это оказался не моряк. Приоткрыв дверь, я уже хотела что-то сказать, но столкнулась лицом к лицу с негром в рванине и со сломанным носом, который обычно передавал капитану сообщения от короля Бенкоса. Это могло означать лишь одно: Бенкос находится неподалеку от Санта-Марты, и беглый раб воспользовался темнотой, чтобы проникнуть в город и передать отцу приглашение. Курьер как всегда пришел безоружным и с непокрытой головой, он поднес руку ко лбу в качестве тайного знака, хотя в этом и не было необходимости. Я открыла дверь, чтобы позволить ему войти, но он приблизился и прошептал: — Попозже идите к реке Мансанарес по дороге к садам. Там вас ждет полный отчет о вашем дельце. Он говорил так быстро и тихо, что я не была уверена в том, что он сказал, но он уже проскользнул в большую гостиную. Не придя в себя от удивления, я закрыла дверь и вернулась в дом, где он разговаривал с отцом, уже успевшим натянуть на голову ночной колпак. Он извинился перед отцом за то, что король Бенкос немного приболел и не сможет пригласить его в свое поселение. Я призадумалась о том, как выбраться из дома незамеченной. Когда беглый раб удалился, снова растворившись в ночи, отец вернулся к себе, а матушка направилась в бордель, чтобы провести некоторое время с девушками и клиентами. Я не знала, что делать. Я колебалась — улизнуть незаметно или придумать какой-нибудь предлог для матушки, но чтобы добраться по джунглям до реки, мне был необходим конь, так что не оставалось другого выхода, как поговорить с ней. Я пошла в бордель, поприветствовала музыкантов и попросила у матушки дозволения выйти. Я лишь хочу немного прогуляться верхом по окрестностям города, объяснила я, пытаясь не смотреть ей в глаза. Её весьма удивила моя просьба, и хотя я и решила, что она мне не поверила, матушка не стала мне препятствовать, но только лишь велела взять оружие и двух молодых псов, Фулано и Мирона, которые вместе со скакуном, мулом, обезьянкой и двумя живущими в борделе попугаями составляли все увеличивающееся поголовье домашних животных. И вот я с Фулано, Мироном и Альфаной выехала на улицу и направилась к Мансанаресу, по дороге к садам. К счастью, в последнюю минуту я позаботилась о том, чтобы захватить из лавки хороший факел и хоть немного осветить темную тропу, накрытую густым куполом спутанных ветвей, через который не проникал ни свет луны, ни звезд. Я слышала близкое журчание воды, и вдруг из ниоткуда возникло несколько фигур, преградивших мне путь. — Мартин! Это был голос Сандо, младшего сына Бенкоса, мы познакомились, когда его взяли в заложники во время нашей первой встречи с беглыми рабами в Таганге. — Я тебя не вижу, — сказала я. Он засмеялся. — Слезай с коня, дружище, и я подойду. Мы прекрасно тебя видим, с этим-то факелом. Я спешилась и привязала Альфану к дереву. Сандо явился в сопровождении молодого испуганного негра, в страхе оглядывавшегося по сторонам. Он выглядел образованным и галантным в поведении и манерах. Одежда его была из дорогой ткани, хотя грязная и порванная, к тому же, к несчастью, бывшие хозяева решили поставить клеймо на его левой щеке, изуродовав привлекательное лицо. — Вот, Мартин, это Франсиско, еще неделю назад паренек работал в доме Ариаса Курво. Уже много месяцев Франсиско просил нас его освободить, но твоя просьба о помощи вынудила нас на время оставить его в Картахене. Он еще очень напуган, ведь с тех пор, как покинул хозяина, он постоянно в бегах и никогда прежде не бывал ни на болотах, ни в горах. Он расскажет тебе обо всем, что тебе интересно. Он родился в доме Ариаса и там прислуживал ему и много чего слышал. Похоже, Франсиско не замечал порванной рубахи. Темнота джунглей и их ночные звуки заставляли его трястись. Он вздрагивал и подпрыгивал каждый раз, когда шуршала листва или раздавался крик какой-нибудь обезьяны. Он походил на элегантного кабальеро, вырванного из бального зала. — Ты знаешь, чего я хочу, Франсиско? — спросила я, чтобы привлечь его блуждающее внимание. — Да, сеньор, — пробормотал он, немного успокоившись, — и я могу помочь вам в этом, потому что никто лучше меня не знает братьев Курво. Какая жалость, что ему испортили лицо клеймом. У него был тонкий нос, как у индейца, и тонкие маленькие губы. Скорее всего, он был темнокожим самбо — сыном негра и индианки. Без клейма он был бы очень привлекательным. — Расскажи мне о них, Франсиско. Расскажи про их секреты, те, за которые они готовы убить. — Их столько, сеньор! — выдохнул он. — Лучше бы вы объяснили, зачем вам эти сведения, тогда бы я рассказал что-нибудь нужное. — Рассказывай всё! — потребовала я. Он снова вздохнул. — Нам и трех дней на это не хватит, сеньор, но могу предложить вам то, что наверняка вам пригодится. Самый последний трюк хозяина, если о нем станет известно, то это подорвет всю его торговлю и запятнает его имя. — Именно это мне и надо! — воскликнула я. — Ну тогда слушайте внимательно, сеньор, — начал он. — На самом деле семья Курво — это пять человек, хотя об этом почти никто не знает. Три брата и две сестры. Они принадлежат к известному севильскому роду. Фернадо, старший из пяти, занимается торговлей с Индиями и владеет в Севилье торговым домом. Ариас и Диего, другие два брата, представляют его интересы на Твердой Земле. Фернандо много лет назад женился на Белисе де Кабра. Знаете, о ком речь? Вам о чем-нибудь говорит эта фамилия? — Совершенно ни о чем. — Белиса де Кабра — единственная дочь Бальтасара де Кабры, севильского аптекаря, который благодаря торговле с Индиями превратился в самого богатого и могущественного банкира города. Используя свои сбережения, Бальтасар де Кабра начал под десять процентов ссужать деньги капитанам, нуждающимся в средствах для оснащения кораблей, и торговцам, которым недоставало денег для покупки товаров. Тем самым он так обогатился, что закрыл аптеку и стал ростовщиком, то есть занимался тем же самым, но только уже законным образом. Сейчас он владеет самым могущественным торговым домом в Севилье, и многие корабли берут кредиты лишь у него, разумеется, впоследствии возвращая эти ссуды с большой прибылью. Мы с Сандо не смогли сдержать изумленных восклицаний. Это были серьезные слова. — Вижу, что произвел на вас впечатление, — довольно заявил Франсиско, — нам стоит присесть, а то история будет долгой. Мы последовали его совету, воткнув факел прямо в середину тропы, и расселись втроем вокруг вместе с собаками. Животные вели себя спокойно. Если бы кто-нибудь появился поблизости, они бы подняли лай. — Семья Курво, — продолжал Франсиско, не выказывая больше страха перед окружающими нас джунглями, — много внимания уделяет брачным союзам. Старший, Фернандо, женился на Белисе де Кабра, вторая сестра из их пятерки, Хуана, вышла замуж за Лухана де Коа, вы его тоже не знаете, да? Мы покачали головами. — Лухан де Коа возглавляет севильское Консульство. Вы когда-нибудь слышали о севильском Консульстве? Я кивнула, а Сандо не пошевелился. — В таком случае, сеньор, раз вы знаете, что такое Консульство, вам не составит труда связать концы с концами и понять, как оно связано с торговлей братьев Курво здесь, на Твердой Земле. Уж конечно, мне это не составило труда! Хуана Курво была источником ценной информации относительно флота и его грузов, и именно по ее наущению на Твердой Земле вечно не хватало нужных товаров. Для жены главного консула это совсем не сложно. Как мы с Родриго и предположили в Борбурате после разговора с Иларио Диасом, Фернандо Курво знал относительно флота всё, мы лишь не могли вычислить, что эти сведения передавала ему сестра, выданная замуж за главного консула. Я еще до конца не переварила эту новость, когда Франсиско начал говорить о третьем брате Курво. — После Фернандо и Хуаны следует Ариас, мой хозяин... бывший хозяин. Ариас прибыл в Новый Свет двадцать лет назад. Он был всего лишь юнцом, когда покинул Севилью, чтобы работать в качестве энкомендеро у одного важного торговца из Мексики, что в Новой Испании, дальнего родственника его матери, который хотел, чтобы племянник выучился секретам профессии торговца. От имени своего покровителя он совершил три или четыре плавания между Севильей и Новой Испанией, налаживая дружеские связи и знакомясь с тонкостями ремесла и всеми торговцами Нового Света. С помощью материнского родственника он вскоре женился на Марселе Лопес де Пинедо, дочери известной семьи торговцев из Новой Испании, получив значительное приданое. С этим приданым он переехал в Картахену и обосновался там, став подрядчиком своего брата Фернандо. — Как удачно женились все Курво! — воскликнула я. — Вы и представить себе не можете, сеньор, — кивнул Франсиско. — Но удачнее всего был брак другой сестры — Исабель вышла замуж за Херонимо де Монкаду, главного судью и счетовода севильской Палаты по делам колоний, главу Трибунала по уплате пошлин... Знаете, что это такое? — спросил он, увидев наши недоумевающие лица. — Нет? В общем, есть налоги, которые платят все отправители грузов, чтобы разделить между собой расходы на галеоны, охраняющие флот и армады, защищающие плывущие в Индии корабли. Так вот, вернемся к Херонимо де Монкаде. Могу сказать, что именно он сделал своих шуринов богатыми, потому что те представляли его во всех вопросах и сделках в Новом Свете, а их было немало. Как видите, семейные связи и интересы братьев Курво так обширны, что обо всем и не расскажешь. Занятия Херонимо де Монкады в Палате по делам колоний тесно связаны с делами Лухана де Коа в Консульстве по делам торговли, также как и с Бальтасаром де Каброй, ростовщиком и банкиром, дающим флоту кредиты. Все трое вместе обладают такой властью, которая и не снилась королям и министрам, но очень немногие осведомлены об этих обстоятельствах. — Да чтоб мне пропасть! — выругалась я. Знал бы это Родриго! Я представила Фернандо и Белису в его севильском доме вместе с Луханом, Хуаной и Херонимо. Все шестеро ужинают за роскошным столом и за бокалом вина принимают чудовищные решения, которые влияют на жизнь всех бедолаг Нового Света: сколько и какие товары отправить, сколько кораблей выйдут с ближайшим флотом, чтобы Ариас и Диего, своевременно получившие весточку в письме, отправленном на быстром корабле (причем принадлежащем самой Палате по делам колоний), могли собрать на своих складах нужные товары и продать их по завышенным ценам. — Что ж, ладно, — продолжал Франсиско, не ведающий о моих размышлениях, — теперь остается рассказать только о браке младшего брата, Диего Курво, еще одного представителя торгового дома Фернандо в Картахене. Поскольку я служил личным камердинером Ариаса и знаком с самыми интимными сторонами его жизни, я давно уже узнал о его амбициозных планах относительно женитьбы Диего, эта свадьба вознесет семью Курво на самую вершину. Есть одна прелестная девушка шестнадцати лет по имени Хосефа, дочь покойного графа Риасы, она и есть тайная невеста Диего. Тайная, потому что помолвка и свадьба зависят от решения матери девушки, вдовствующей графини Беатрис де Барболья, а она примет его, если Диего Курво предоставит в королевскую канцелярию в Санта-Фе, что в Новой Гранаде, грамоту о чистоте крови и дворянстве. Дело в том, что юная Хосефа, выйдя замуж, получит право на наследование всех земель и титула и потеряет его, если не заключит брак. У семейства де Риаса нет денег, граф ничего им не оставил перед смертью, разве что позволил девушке благородного происхождения выйти замуж за простого торговца, потребовав, чтобы тот был по крайней мере христианином без примеси крови мавров, евреев или негров, и чтобы тоже имел хоть какие-то дворянские корни. — И...? — поторопила его я. Франсиско наслаждался, рассказывая эти истории и вдавался в подробности, которые мне не казались особо важными. Он говорил о Курво с гордостью, будто член семьи, а не с естественной ненавистью раба. Фальшивый блеск хозяев словно бы возвеличивал и его самого. — Ну, что касается Курво, сеньор, то никакие они не дворяне, и даже христианами стали не так давно, как я слышал, их предками были евреи. — Вот мошенники! — засмеялась я. — Своего не упустят. — Так и есть, сеньор, и вам следует знать, что Курво, чтобы разрешить эту проблему, отделяющую их от дворянства, самого заветного и грандиозного желания, заказали услуги Педро де Саласара-Мендосы, знаменитого кастильского специалиста по генеалогии, попросив того подправить кое-какие их корни, то есть сфальсифицировать происхождение за приличную сумму. С помощью старшего брата Фернандо они попросили помощи у Педро де Саласара, чтобы состряпал фальшивые доказательства и бумаги, которые превратят Диего в дворянина и покажут чистоту его крови. А Диего, как только получит грамоту, сможет представить ее в королевскую канцелярию в Санта-Фе и в результате брачных уз получит титул и поместье своей супруги, вознеся всю семью на новый уровень в обществе. Я задумалась. Курво обладали огромной властью и неисчислимыми денежными средствами, но всё равно оставались лишь плебеями. Получение дворянства с помощью младшего брата стало бы их последним и решительным прыжком в те круги, доступ к которым сегодня был им закрыт. Для них это была важнейшая операция, в которую, несомненно, вовлечена вся семья с многочисленными финансовыми ресурсами, все их знакомые и партнеры, а также использованы все привычные трюки и плутовство. — Вот где кроется слабость Курво, — произнесла я вслух. — Учитывая их стремление возвыситься на новую ступень в обществе, любой скандал, запятнавший их честь, может лишить Диего шанса стать графом. — И вся семья будет об этом сожалеть, — добавил Франсиско, — ведь этот брак откроет им новые двери и подарит очень важные связи с людьми, которые нынче на них и не взглянут. Я знаю, что они вынашивают грандиозные планы на будущее, когда Диего женится на юной Хосефе, но не знаю, какие именно. Я лишь слышал, как мой хозяин... бывший хозяин сказал как-то, что эта свадьба — словно те пушки, которые пираты прячут на необитаемых островах. — Пираты прячут пушки на необитаемых островах? — удивился Сандо. Я онемела от удивления. Как и мой приятель, я не знала, о чем говорит Франсиско, но прекрасно помнила тот день, когда я находилась на своем острове, в пещере летучих мышей на вершине горы, и ударилась о старые бронзовые фальконеты. — И с какой же целью? — поинтересовался Сандо. — Ваши милости никогда не слышали поговорки «Я бы отдал всё за пиратскую пушку»? Мы с Сандо отрицательно покачали головами. Франсиско посмотрел на нас с жалостью, и я решила, будто он подумал, что свобода рядом с такими невежественными людьми — это совсем не то, о чем он мечтал, будучи камердинером в богатом доме. — Что ж, сеньоры, всем известно, что пираты используют старые негодные пушки вместо сундуков для сокровищ, чтобы спрятать награбленное на многочисленных необитаемых островах. Один купец из Маракайбо несколько лет назад нашел старые бомбарды, закопанные в песке на одном пустынном острове, куда высадился, чтобы пополнить запасы воды. И внутри оказались несметные сокровища в золотых монетах, серебре и драгоценных камнях. Он так разбогател, что смог купить еще кораблей и вернулся в Испанию весьма преуспевающим человеком. Бронза пушек защищает сокровища гораздо лучше, чем дерево сундуков, которые уже через несколько месяцев начинают гнить из-за высокой влажности и дождей. Теперь я поняла, почему эти фальконеты поместили в такое странное месте — в пещере на моем острове! Когда я их нашла, дула покрывал слой экскрементов, и мне не пришло в голову, что внутри может быть что-то еще. Более того, наличие рядом каменных ядер окончательно сбило меня с толку, и я решила, что пушки притащили сюда, на такую высоту, чтобы стрелять по приближающимся к берегу кораблям, хотя было очевидно, что ни один корабль не рискнет пристать с этой стороны, поскольку здесь гора резко обрывалась в море, образуя опасные водовороты и буруны. Прямо под ногами у меня лежали пресловутые пиратские сокровища, которые позволили бы отцу бросить занятия контрабандой, а я оставила их из-за своего невежества. Дура! Дура! Дура! — в тысячный раз повторяла я, постаравшись, однако, чтобы эти мысли не отразились на моем лице. Мне совершенно не хотелось, чтобы кто-нибудь заметил мое изумление и недовольство. — Теперь ваши милости понимают, — сказал Франсиско, и я подпрыгнула от неожиданности, — почему мой бывший хозяин говорил, что свадьба Диего с Хосефой де Риаса — это как пиратская пушка? Он говорил о том, что этот брак принесет огромные богатства и удачу всей семье. — Мне кажется, что нам пора, Франсиско, — провозгласил Сандо. — Хочешь узнать что-то еще, Мартин? — Благодарю, Сандо, этого достаточно, — с трудом выдавила я. — Если понадобится от Франсиско что-то еще, то знай — он живет в моем поселке. Отец сказал, что он должен оставаться как можно дальше от Картахены. Он очень ценный раб, такие стоят в Индиях очень дорого, и Ариас Курво непременно пошлет отряд солдат на его поиски. Сандо неторопливо встал и расправил плундры, я тоже поднялась и стряхивала грязь с одежды. Франсиско, в свою очередь, поднялся очень элегантным и утонченным образом. Мне было печально увидеть на его лице прежнее выражение страха. — Сожалеешь о том, что сбежал, Франсиско? — спросила я. — Нет, сеньор, — пробормотал он. — Возможно, свобода оказалась и те такой комфортной, как та жизнь, что я до сих пор вел, но никто не отхлещет меня кнутом, не оскорбит и не обольет мочой из ночного горшка просто потому, что встал не с той ноги. — А знаешь, что самое интересное, Мартин? — добавил Сандо, пока я развязывала поводья Альфаны. — Франсиско — родной сын Ариаса. Я резко повернулась и снова взглянула в изуродованное лицо паренька. Этот нос и тонкие губы, которые я приняла за индейские, вполне могли быть и испанского происхождения. — Ариас Курво — твой отец? — изумленно спросила я. — Точно, сеньор, — кивнул юный камердинер. — Вы наверняка знаете, что в обычаях у хозяев — спать со своими черными рабынями, чтобы приносили побольше детей, поскольку рабство передается по материнской линии. — Я этого не знал. Да как можно такое вообразить? — Вот так всё и происходит в Новом Свете, Мартин! — воскликнул Сандо, перед тем как потащить испуганного Франсиско обратно в джунгли. — Разве не лучше спать со своими рабынями, чем покупать негров на рынке за приличные деньжата? Будь осторожен, братец, и надеюсь, ты сможешь вытащить своего отца из той передряги, в которую он попал. — Спасибо за всё, Сандо, — ответила я, садясь на Альфану, хотя не видела ни его, ни Франсиско. Уже с седла я наклонилась, чтобы подобрать воткнутый в землю факел. Собаки вели себя тихо, и теперь довольные побежали перед скакуном. Этой ночью сон не шел ко мне. Мне было что обдумать, и в особенности услышанное из уст незаконнорожденного сына и раба Ариаса Курво. Я въехала во двор, спешилась, привязала Афану к коновязи рядом с мулом и проследила, как собаки улеглись под столом в большой гостиной, где им всегда нравилось спать. Из борделя доносилась музыка, но никаких голосов, и я решила, что девушки закончили работу в своих комнатах, а матушка ушла спать. Но я ошиблась. Я направилась к себе через ее кабинет, и к моему удивлению, стоило мне открыть дверь, как глаза ослепил свет. — Мартин? — окликнула меня матушка. Не произошло ли с отцом какого-нибудь несчастья? — Да, матушка, — отозвалась я, войдя в кабинет. Бедняжка Мико дремал прямо на столе. — Где ты был столько времени? — спросила она прямо, с тем хмурым взглядом, что пугал даже самых смелых мужчин. Я слишком устала, чтобы изобретать отговорки. Конечно, я могла бы это сделать, но зачем? Как всегда говорил отец, матушка — человек крайне разумный и может разложить всё по полочкам, более того, у нее просто нюх на ложь. Так что я просто попробовала улизнуть от ответа. — Я всё расскажу вам завтра, матушка. Если я начну говорить сейчас, то не закончу до рассвета. — Значит, до рассвета. Садись. — Клянусь бородой, которой никогда не имела! От этой женщины невозможно скрыться! Я говорила и говорила без передышки, пока и правда не встало солнце. Под конец матушка знала всё, начиная с того, что нам поведал Иларио Диас на Барбурате, и до того, что мне разъяснил нынче ночью юный Франсиско, а также то, что мы с Родриго разузнали в Картахене. Судя по ее вопросам, матушка хотела во всем разобраться досконально.
Глава 5
В середине сентября мы вышли из Санта-Марты, чтобы забрать табак нового урожая. Но начиная с нашего первого места назначения, Кабо-де-ла-Велы, все плавание пошло не так. Мы спокойно шли курсом на север до Санто-Доминго, что на Эспаньоле, и через некоторое время по несчастной случайности пересекли курс флота из Испании под командованием генерала Хуана Гутьерреса де Гарибая, который направлялся в Картахену и заставил нас лечь в дрейф на целый день, чтобы уступить ему дорогу. Когда мы наконец прибыли в Санто-Доминго, то обнаружили, что нашествие гусениц покончило с урожаем табака на всем острове. Лучше бы мы поплыли в Пуэрто-Рико, тогда бы этим гусеницам не хватило времени, чтобы сожрать всё, а теперь мы не могли купить нужное количество табака. После многодневного плавания на юг мы наконец-то прибыли на Маргариту, но лишь для того, чтобы нас встретило там другое кошмарное известие — что порт закрыт из-за эпидемии оспы, унесшей множество жизней. Губернатор поставил в гавани шлюпки, чтобы ни один корабль не мог зайти в порт. С Маргариты мы двинулись к Кумане, но нас опять преследовали неудачи — когда мы приплыли, другие торговцы уже скупили весь табак, так что нам пришлось заплатить вчетверо, чтобы приобрести нужное количество. Почти уже не имело смыла идти к полуострову Арайя для сделки с Мушероном, но отец все же решил выполнить соглашение. Разумеется, тот дал нам от ворот поворот и оставил себе тот табак, что мы приобрели в Кабо-де-ла-Веле и Пуэрто-Рико, заявив, что это подарок в честь нашей дружбы и грядущих сделок. Мушерон был таким же сукиным сыном, как и Мельхор, и всегда заставлял платить вперед. Когда в середине ноября мы вернулись в Санта-Марту, наши трюмы были пусты. Я не особо беспокоилась, потому что у нас имелось достаточно денег, чтобы дожить до следующего урожая, и не учла, какие кошмарные последствия это возымеет — ведь мы оставили Бенкоса без нужного оружия и пороха для защиты поселений. Мы должны были сообщить ему ужасные новости как можно раньше, чтобы он мог принять меры и подготовиться. Если послать ему весточку через Сандо, то она дойдет только через пять или шесть дней, ведь как бы быстро не бегали его курьеры, им приходилось преодолевать горы и болота. Для нас же, на «Чаконе», наоборот, до Картахены был всего день пути, и отец решил, что не будет дожидаться декабря, чтобы выплатить Мельхору положенное, а воспользуется этим предлогом прямо сейчас, дабы сообщить о произошедшем Бенкосу. Я в тот вечер я сидела за своим столом-шлюпкой и писала королю беглых рабов длинное письмо, в котором объясняла всё в подробностях (король не умел читать, но в его поселке были те, кто умеет), и на заре мы отплыли в Картахену, попрощавшись с матушкой и девушками борделя, которые пришли в порт нас проводить. Ветер был попутный, и плавание приятным. Казалось, само море нас подгоняет, благоволит нашему путешествию, так что тридцать лиг выглядели как две или три, и в тот же день около полуночи мы прошли мимо острова Каксес, приближаясь к Картахене. Мы немного поспали, слушая шум, долетающий от этого большого и оживленного города: голоса стражи, колокола и молитвы священников, вопли пьяных и даже грохот драки из портовой таверны. На следующее утро сразу после завтрака мы отправились в шлюпке на берег и не выходя из нее вручили Хуанито письмо, написанное мной дома, чтобы он отдал его рабу из мастерской плотника, велев ему сказать, что это срочно и чтобы все курьеры постарались добраться до Бенкоса как можно скорей. Затем, поприветствовав друзей с рынка, которые поделились с нами новостями, привезенными флотом из Испании (что наконец-то был подписан мир с Англией), Лукас, Родриго, Матео и я вместе с отцом направились к гасиенде Мельхора, а Хаюэйбо, Антон, Томе и Мигель остались охранять шлюпку. День выдался солнечным и жарким. Отец прикрыл голову черной шляпой, а я — своей красной, у остальных же имелись лишь пропитанные потом платки, и вскоре мы уже начали шутить — не украсть ли зонтик у первой же попавшейся на пути дамы. Когда мы наконец оказались в сотне шагов от гасиенды, отец приказал нам остаться в тени высоких кокосовых пальм. — Хватит, — заявил он. — Проводили меня до этого места, а дальше я уж как-нибудь сам. Он решительно двинулся дальше, жестом велев нам успокоиться. Он понимал, что мы боимся, как бы он снова не потерял рассудок, что малейшая тревога может вызвать новый приступ. Мы уселись на землю под пальмами и прождали довольно долго, громко болтали и шутили, словно находились на борту «Чаконы» и никто не мог нас услышать, через час отец еще не вернулся, и я, несмотря на его запрет, поднялась на ноги. Солнце слепило глаза, я схватила шляпу и прикрылась ей, но все равно нигде не могла разглядеть фигуру отца. — Он уже должен был выйти, — встревоженно пробормотала я, не переставая всматриваться в дорогу к гасиенде и крыльцо дома. — Это точно, — согласились мои товарищи, встав рядом. — Нам нужно пойти туда и спросить, в чем дело, — сказал Родриго, прикрыв глаза от солнца. — Ну так пошли! — воскликнул Матео, положив руку на эфес шпаги и двинувшись вперед. Я возглавила процессию, и мы быстрым шагом пересекли земли гасиенды. Рабы — чернокожие и индейцы — были скованы вместе цепями и без устали трудились, разбивая каменные глыбы, чтобы добыть руду или драгоценные камни, или что там еще находилось, и стоял такой грохот, что, проходя мимо, мы даже не могли друг друга расслышать. К счастью, по мере приближения к большому белому дому звуки становились тише. На крыльце теплый ветер раскачивал гамак Мельхора де Осуны. Дверь была открыта. Мы находились шагах в десяти от нее, когда вышел негр с аркебузой и горящим фитилем в руках и двумя огромными прыжками оказался прямо напротив нас. — Чего вам надо? — спросил он угрожающе. — Это так твой хозяин принимает гостей? — отозвался Лукас, расправив плечи. — Убирайтесь! — мрачно выкрикнул негр. — Мы никуда не уйдем, пока не узнаем, где Эстебан Неварес. — Не знаю, о ком вы говорите. — Не знаешь, о ком я говорю, мерзавец? — возмутился Лукас, выставив вперед кулаки и приблизившись к рабу. — Я говорю о том торговце, что вошел в этот дом больше часа назад, чтобы выплатить твоему хозяину долг, и который с тех пор так и не вышел. Негр несколько секунд раздумывал, а потом сказал: — Он уже ушел. — Врешь! — рявкнул Лукас. — Я не вру, — нервно отозвался тот. — Торговец, о котором вы говорите, и правда появился здесь больше часа назад. Вошел, побыл недолго с хозяином в гостиной, отдал деньги и ушел. — А мы ждали его снаружи, — сказала я, вставая рядом с Лукасом, — и не видели, как он выходил. Мы сидели под вон теми пальмами, — показала я. — Объясни-ка, как мой отец мог покинуть гасиенду, так что мы не заметили? — А мне почем знать? — испуганно воскликнул он. — Убирайтесь немедленно, или я выстрелю, как приказал хозяин. — До чего ж твой хозяин смел! — воскликнул фехтовальщик Матео. — Так передай ему, чтобы не прятался за спину раба, а вышел сам, как мужчина. Атмосфера накалялась. У меня возникло чувство, что всё это плохо кончится. И тут в дверях появился сам Мельхор де Осуна. Я еще не видела его вблизи. Он был небольшого роста и плотным, обвислые щеки покрывала тощая седая борода. Как я считала, раз уж он был кузеном братьев Курво и находился под их покровительством, он должен был оказаться моложе. — Что здесь происходит? — поинтересовался он. На нем были черные плундры и белая сорочка с рукавами-буфами, поднятыми выше локтей. Я вышла из-за спины Лукаса и оказалась прямо перед Осуной. Человеком, который был если не самым большим мерзавцем Твердой Земли, то одним из главных претендентов на этот титул. Но клянусь прахом моего настоящего отца, это ему дорого обойдется. — Они говорят, что Эстебан Неварес не выходил из этого дома, — объяснил ему негр, не поворачивая головы и не сводя глаз с Лукаса. — Как это не выходил? — хмыкнул Осуна с непроницаемым видом. — Давно уже ушел. — Я им и сказал, что он уже ушел, но они не верят. Я постаралась скрыть свою ярость и тревогу и вызывающе посмотрела на своего врага. — Мой отец пришел заплатить вам, Мельхор, и я требую, чтобы вы сию же минуту сказали, что с ним сделали и где он. — Убирайся к дьяволу, парень! — рявкнул он, повернувшись спиной. — Твоего отца здесь нет. Я схватила его за жирную руку и изо всех сил дернула. Он не сдвинулся с места. Однако потом по собственной воле, скорее всего от удивления, повернулся в мою сторону. — Хочешь получить затрещину? — пригрозил он. Мои товарищи быстро шагнули вперед. Рабостановил Родриго, наставив аркебузу ему в грудь, но тот быстро пнул его в пах, и негр со стонами распластался на полу. Мельхор де Осуна презрительно посмотрел на меня. — Последний раз, когда отец к вам приходил, — произнесла я полным ненависти голосом, — вы сказали ему, что каждый день молитесь о его смерти, что ваше ожидание затянулось, и вы не рассчитывали, что он проживет так долго, когда предлагали ему подписать контракт на аренду имущества. Осуна побледнел. Должно быть, он никогда не думал, что я с такой точностью повторю слова, которые он произнес несколько месяцев назад, чтобы оскорбить и ранить моего отца. — Вы устали дожидаться его смерти? — продолжала я. — Решили ее ускорить, чтобы завладеть его имуществом в Санта-Марте? Глаза Мельхора де Осуны налились кровью, он стал пунцовым, и я подумала, что он готов совершить что-то отчаянное. Мои товарищи шагнули ближе, чтобы меня защитить. — Вон из моего дома! — заорал он, и, словно они дожидались этого приказа, откуда ни возьмись, появилась группа из пары десятков вооруженных ломами чернокожих, окружив нас со всех сторон. — Немедленно убирайтесь! И больше не попадайтесь мне на глаза! Матео выхватил шпагу, но с такой толпой мы вряд ли могли справиться. К сожалению, этот жест, безусловно неуместный, окончательно вывел из себя Осуну, тот махнул рукой, и его маленькое черное войско набросилось на нас. Я вытащила шпагу из ножен, а в левую руку взяла кинжал, в готовности обороняться от этих мерзавцев, так же поступили и мои товарищи. Мы дрались яростно, сопротивляясь из последних сил, но их было больше, они дрались решительно, так что многие из нас получили ранения и переломы. В какой-то момент этой неравной битвы четырех против двадцати я потеряла сознание и рухнула на землю, получив удар по голове. Не знаю, сколько времени я провела без сознания. Когда я снова открыла глаза и ощутила боль в теле, я лежала на дороге среди тростника, покрытая запекшейся грязью и кровью, в окружении своих товарищей, которые выглядели мертвыми. Голова так болела, что я едва могла двигаться, но все-таки убедилась, что Лукас, Родриго и Матео живы. Все трое дышали, несмотря на многочисленные раны и ушибы по всему телу, порванную, заляпанную кровью одежду и такие изуродованными побоями лица, что их трудно было узнать. Я тряхнула их, одного за другим, и они вскоре пришли в себя. Как и у меня, у них имелись ранения в голову, и у всех были сломаны ребра или разорваны уши. Будь проклят Мельхор де Осуна и вся его родня! Тысяча проклятий! Где мой отец? Я задавала себе этот полный тревоги вопрос, лежа на земле, ибо по-прежнему не в силах была пошевелиться. Вскоре солнце зашло, и опустилась ночь. Мы много часов провели без сознания, приспешники Мельхора бросили нас посреди дороги, как мусор. — И что будем делать? — с болью в голосе поинтересовался Матео. — Вернемся на корабль, — ответила я, стараясь, чтобы боль не заставила меня заговорить слабым или женственным голосом. — Нам нужна корпия, мази, винный уксус и розмарин... Сегодня уже поздно, но завтра на рассвете мы отправимся к властям Картахены и заявим об исчезновении. Мы не можем позволить, чтобы Мельхору де Осуне это сошло с рук. Мы с вами обыщем всю Твердую Землю в поисках отца, если понадобится. Вдруг раздался жуткий вопль, от которого мы все вздрогнули. Это был Лукас, который, никого не предупредив, решил вставить на место сломанный нос, чтобы навсегда не остаться кривым. Когда он наконец-то замолчал, мы услышали, как кто-то зовет нас издалека. — Хаюэйбо! — воскликнул Родриго. — Они пришли за нами, — с облегчением прошептал Матео. Оказывается, Хаюэйбо и остальные, увидев, что уже близится вечер, а от нас нет никаких известий, вышли из Картахены с намерением нас найти. Они были уверены, что с нами что-то стряслось, хотя и не понимали, что именно, пока не услышали наши стоны и как мы зовем друг друга по имени, и тогда бросились бежать по дороге, пока не наткнулись на нас. С их помощью и не желая проводить ночь в таком виде посреди поля, мы с трудом поднялись на ноги и с охами, стонами и кровоточащими ранами дошли до окраин Картахены, где призвали на помощь индейцев и чернокожих Гефсиманского квартала — они взвалили нас на плечи и доставили в порт. Неподалеку от главной площади к нашей жалкой процессии приблизились альгвасилы, поинтересовавшись причиной подобного положения. Как мы и подозревали, услышав имя Мельхора де Осуны, они попытались увильнуть и даже угрожали отправить нас в тюрьму, если мы немедленно не покинем город. В весьма печальном состоянии мы добрались до «Чаконы», где о нас позаботились Гуакоа и юнги. Тогда-то и начались настоящие мои проблемы. Как позволить Хуанито, Николасито, Антону, Томе, Мигелю, Гуакоа или Хаюэйбо снять с меня одежду, чтобы перевязать раны? Я собрала все оставшиеся силы и нетвердым шагом добралась до корпии и всего остального и направилась в отцовскую каюту, которая была побольше моей и с более удобным ложем, выслушивая по дороге протесты своих товарищей, которые не могли понять мое странное поведение. Только лежащий на палубе Родриго крикнул, чтобы меня оставили в покое, что я — испанский идальго (а так оно и было с тех пор как отец меня усыновил), а идальго никогда не позволит, чтобы какой-то простолюдин, вульгарный плебей, видел его в таком неприглядном состоянии, и что они должны восхищаться моим мужеством и смелостью и уважать волю человека благородного лечиться самостоятельно. Это была не очень хорошая выдумка, но так или иначе она спасла меня от проблем. Я была так слаба, что даже не сообразила, что раз Родриго оказал мне такую любезность, это означает, что он в курсе моего секрета. Я сделала всё, что было в моих слабых силах, чтобы перевязать раны, и рухнула на отцовскую постель, испытывая такую страшную боль, что, как мне рассказали на следующий день, даже не слышала громкий стук в дверь, когда Гуакоа хотел спросить, как я себя чувствую. Когда поутру я вышла из капитанской каюты, трое других раненых спали в своих гамаках. Солнце уже несколько часов как встало, но наши товарищи, к моему неудовольствию, оставили нас отдыхать и не собирались будить, пока мы не проснемся сами. Однако я собиралась посетить городской совет Картахены. Я должна была заявить о странном и тревожном исчезновении своего отца, дабы закон сделал то, что нам не под силу: заставил Мельхора открыть правду. На завтрак я съела немного хлеба и сыра, а вино придало мне бодрости. Передвижение в одиночку оказалось непосильной задачей, хотя, в отличие от остальных, у меня не было ни единой сломанной кости, и я попросила помощи у Хаюэйбо и Хуанито, вместе с ними, а также с Антоном и Мигелем, я сошла на берег на Морской площади Картахены. На пристани царила суматоха, а рынок был полон народа. Некоторые знакомые торговцы, увидев, что я хромаю, подошли с расспросами. Со слезами на глазах я рассказала о том, что произошло — столько раз, сколько просили, и слухи разнеслись по всему рынку. Торговец Хуан де Куба, добрый друг моего отца, закрыл свой прилавок и вызвался меня сопровождать, а с ним и некоторые другие: Кристобаль Агилера, Франсиско Сердан, Франсиско де Овьедо. Почти все те, кого мы с Родриго расспрашивали по поводу братьев Курво. Исчезновение отца и мои жуткие раны тронули их сердца и разбудили гнев. Заботливость, с которой эти добрые люди отнеслись к отцу, принесла мне утешение. И вот, в сопровождении этой внушительной толпы, я вышла из порта. Хуанито и мулаты остались присматривать за шлюпкой, а Хаюэйбо, обняв меня за талию и крепко схватив за руку, которую я перекинула ему через плечо, осторожно вел меня вперед, пока, вынырнув из переулка, мы не очутились на главной площади, где располагалась прекрасная резиденция губернатора, дона Херонимо де Суасо Касасолы, там же собирался и городской совет. Мы подошли к кафедральному собору и свернули к колоннаде, под которой собирались писцы, и когда я почувствовала, что больше не могу сделать ни шагу и вот-вот грохнусь в обморок, мы наконец-то подошли к дверям резиденции. Вход охраняли два аркебузира. Увидев, что приближается столько народу, а нас было не меньше пятнадцати человек, они закрыли собой двери. — Мне нужно повидаться с алькальдом Картахены, — сказала я со всей твердостью, которое позволяло мое состояние. — А эти люди, вас сопровождающие? — спросил один из стражников, подняв забрало, чтобы их рассмотреть. — Это мои друзья, — ответила я. — Я пришел, чтобы предъявить наши требования. — Все пройти не смогут, — заявил другой стражник — крепкий юноша с длинным усами. — Я войду один, но мне понадобится помощь, — я показала на Хаюэйбо. — Хорошо, но только индеец. А остальные останутся здесь. Я повернулась к торговцам и сказала: — Подождите нас здесь, друзья. Я скоро вернусь. Мы с Хаюэйбо двинулись внутрь, следую указаниям солдат, пересекли зал и огромную приемную и оказались в прекрасной галерее, выходящей на восток, поднялись по каменным ступеням и вышли в другую галерею, идентичную той, что и на первом этаже, и там прямо перед нами находилась дверь кабинета алькальда, дона Альфонсо де Мендосы-и-Карвахаля, ее тоже охраняли аркебузиры. Они скривились, когда я заявила, что хочу предъявить требование, словно в их обязанности входило принимать меня и разрешать мои проблемы, но в конце концов, прождав довольно долгое время, за которое я несколько раз чуть не упала, я встретилась лицом к лицу с Альфонсо де Мендосой. Алькальд был высоким и худощавым человеком с белой кожей, острой бородкой и напомаженными усами. Он восседал за столом в удобном кресле и оглядел меня с любопытством и нетерпением. По его бокам сидели писцы с кипой документов и принадлежностей для письма. Услышав, как мы вошли, секретарь за столом у окна повернул голову. — Я хочу заявить требование, — произнесла я в третий или четвертый раз. — И чего же вы хотите? — поспешно спросил секретарь. Я отдала шляпу Хаюэйбо и левой рукой сняла с шеи футляр с документами и протянула ему. Он явно был раздражен тем, что приходится вставать, чтобы их забрать, но я была не в состоянии сделать еще шаг. Секретарь был одет во всё черное, за исключением белых чулок и пышного белого воротника, а на туфлях красовались большие черные банты. С моими бумагами он приблизился к дону Альфонсо и произнес: — Речь идет о Мартине Неваресе, ваше превосходительство, законном сыне идальго Эстебана Невареса, торговца и жителя Санта-Марты. — И чего вы хотите, юноша? — спросил алькальд. — Я заявляю, что мой отец вчера вечером исчез из дома Мельхора де Осуны, жителя Картахены. Перья писцов остановились, секретарь сглотнул, а дон Альфонсо побледнел и насупился. В кабинете воцарилась мертвая тишина. — Мне кажется, вы немного торопитесь, юноша, — сказал наконец алькальд. — Мельхор де Осуна — почтенный торговец и имеет в этом городе хорошую репутацию, и вы не можете обвинять его без доказательств и свидетелей. — У меня есть доказательства и свидетели, ваше превосходительство, — заявила я. После моих слов снова на долгое время повисла тишина. Никто не пошевелился. — Лучше присядьте, сеньор Мартин, — сказал дон Альфонсо, встревоженно почесав бороду. — Расскажите обо всем, что случилось, попонятнее, и я решу, удовлетворить ли ваше требование и принять ли ваших свидетелей и доказательства или отправить вас в тюрьму за клевету на честного человека. Честного человека! Я испытывала искушение рассмеяться, но серьезность положения и угроза тюрьмы заставили меня сохранять спокойствие. Мельхор де Осуна — честный человек! Мог бы и не показывать свое бессилие так очевидно. С многочисленными стонами я позволила Хаюэйбо помочь мне сесть на стул, который писец поспешно поставил для меня перед столом алькальда. Я объяснила про долг моего отца и аренду потерянного имущества. Сказала, собрав всю боль и ярость, скопившиеся в моем сердце, что накануне вечером отец отправился на гасиенду Мельхора, чтобы выплатить последнюю треть ежегодного платежа, и больше не вышел из дома, что свидетелями тому были мои товарищи с корабля, испанцы Лукас Урбина, выходец из Мурсии, Матео Кесада из Гранады и Родриго из Сории, все христиане, уважаемые люди, чьему слову можно верить; что мы вчетвером находились перед гасиендой всё то время, пока отец отсутствовал, и он не мог бы оттуда выйти, чтобы мы этого не заметили, а мы его не видели; что когда мы приблизились к дому, чтобы расспросить о нем, нам сказали, что он ушел, и это явно было враньем, и что, когда мы не приняли эту ложь, двадцать рабов Мельхора по его приказу избили нас самым жесточайшим образом, как можно наблюдать по моему состоянию, а мои товарищи пребывают еще в худшем и даже не могли покинуть корабль; что мы очнулись, когда уже стемнело, и люди из Гефсиманского квартала помогли нам добраться до пристани, потому что идти мы не могли, и, наконец, я упомянула об унизительных словах Мельхора, которые он бросил моему отцу, когда тот платил ему в августе. — Он сказал, что постоянно молится о его смерти, — с ненавистью выговорила я, — что ожидание слишком затянулось и что, когда он предлагал контракт на аренду имущества, он не рассчитывал, что отец проживет так долго, — прошептала я. — После событий вчерашнего дня у меня не было времени поразмыслить, да я и не хотела думать о том, что отец погиб от рук Мельхора, но, несмотря на то, что горе меня просто оглушило, я не могу не задаваться вопросом — что еще могло случиться с отцом, который вчера не вернулся на корабль, если, по словам этого пройдохи Мельхора, и правда таинственным образом ушел с гасиенды, так что мы не заметили. Если даже он потерял рассудок по причине своего преклонного возраста, ваше превосходительство, кто-нибудь наверняка вернул бы его на корабль. Но он до сих пор не вернулся. И по этой причине я уверен и повторяю вашей милости, что на гасиенде Мельхора с моим отцом стряслось что-то ужасное, и требую от вас, как от судьи Картахены, использовать все ваши возможности и власть, чтобы выяснить, где мой отец и что произошло. Сами понимаете, сколько горя и тревоги причинит эта новость Марии Чакон, его спутнице жизни, когда дойдет до Санта-Марты. Писцы, секретарь и алькальд переглянулись, а потом опустили глаза, их лица были бледны, как у покойников, а на лбу блестели капельки пота. Через некоторое время алькальд поднял голову и обратился ко мне со всей серьезностью, в то время как я пыталась сдержать свое беспокойство, сжав кулаки. — Никак не могу понять, любезный сеньор, — сказал дон Альфонсо несколько вызывающе, — с какой стати Мельхору де Осуне причинять вред вашему отцу. Разве он не выплачивает приличные суммы за аренду дома, лавки и корабля, по вашим же словам? Я изо всех сил зажмурилась, чтобы сдержать слезы. — Именно так, ваше превосходительство, — ответила я дрожащим голосом. — По словам этого негодяя, десяти лет выплаты за аренду вполне достаточно. Он хотел получить обратно имущество, поскольку, как он нагло заявил, денег он уже имеет достаточно, больше губернатора. Однако он и за миллион мараведи не хотел отказываться от права владения нашим домом в Санта-Марте, кораблем и лавкой, потому что хорошая мебель и недвижимость со временем лишь растут в цене. Я знала, что в эти мгновения происходит у них в головах. Фамилия Курво не прозвучала, но витала в воздухе. Дон Альфонсо де Мендоса уже видел опасность для своей позиции и должности, но всё же не мог под каким-либо предлогом отвергнуть мое требование, потому что закон был на моей стороне и скандал мог разлететься очень далеко — я собиралась, если отец не объявится или будет найден мертвым, дойти с этим делом до королевской канцелярии в Санта-Фе, а это то же самое, что представить дело лично королю Филиппу. И дон Альфонсо знал, как знала я и все остальные, какие последствия это возымеет: если он проигнорирует мое требование и не предпримет никаких мер для расследования исчезновения испанского идальго, его могут навсегда лишить права занимать какие-либо государственные должности в Индиях и даже бросить в тюрьму или изгнать из Нового Света. Как бы ему ни хотелось этого избежать, придется начать расследование и принять свидетельские показания от обеих сторон. — Хорошо, сеньор, — ответил он, вытерев лоб изящным платком из тонкого голландского полотна. — Мои писцы запишут ваше требование, а вы тем временем подождите снаружи. Вас позовут, чтобы подписать бумагу, когда они закончат. Вы умеете писать, сеньор? Мне пришлось сжать кулаки, чтобы подавить внутреннее негодование. — Дон Альфонсо, случаем не решили ли вы отказаться от поисков моего отца? На его лице отразились все противоречивые чувства, которые он ощущал. В свои двадцать два года я ни разу не видела такого трусливого поведения со стороны такого важного человека. — Конечно же нет, сеньор Мартин Неварес, — неохотно признал он. — В ближайшие дни мы организуем отряды, чтобы поискать вашего отца в окрестностях Картахены. — Клянусь жизнью, ваше превосходительство! — негодующе воскликнула я. — Не могу понять ваших действий! Вы что, решили не искать его в доме Мельхора де Осуны, где, скорее всего, он и находится? Соберите эти отряды, когда его не окажется на гасиенде, но сейчас, ваше превосходительство, нужно обыскать дом Мельхора. Я была уверена, что в эту секунду алькальду хотелось меня задушить. — Так я и сделаю, — пробормотал он. — Я немедленно прикажу отряду солдат этим заняться, а тем временем сообщу сеньору Мельхору о вашей просьбе. В этих словах мне послышалась скрытая угроза, хотя, возможно, дело было лишь в моем боязни реакции Осуны. Без отца мы с командой «Чаконы» стали легкой добычей для мерзавца вроде Мельхора. А кроме того, половина команды ранена. Я сказала себе, что по возвращении на корабль следует установить строгое расписание вахты, чтобы предотвратить ту опасность, которой я страшилась. Я не стала терпеливо дожидаться, пока меня вызовут подписать бумаги. С трудом передвигая ноги, при помощи Хаюэйбо я вышла на улицу, чтобы сообщить о случившемся добрым друзьям с рынка, ожидающим снаружи. Негодование поведением алькальда было беспредельным. Они тут же, испросив у меня разрешения, отправились собирать торговцев с Морской площади. Нельзя было прождать еще целый день, пока дон Альфонсо будет обыскивать окрестности, заявили они. Еще до полудня они сами вместе со всеми, кто пожелает помочь, займутся этим делом. Мой отец или его тело, с грустью добавили они, появится еще до наступления ночи, если солдаты не найдут его в доме Мельхора де Осуны. Один из торговцев, весьма возбужденный, громко объявил свое недоверие подобному обыску, но другие молчали и не стали его поддерживать. Когда меня наконец вызвали обратно в алькальду, на пристани уже собрались отряды для поисков, и, как мне сказали, весьма многочисленные, потому что печальное известие быстро распространилось по Картахене, и многие решили присоединиться. Торговые дома, лавки, таверны, игорные притоны, бордели и цирюльни закрыли свои двери, а их хозяева, служащие и рабы присоединились к торговцам с рынка. Капитаны стоящих в гавани кораблей решили, что их долг — сотрудничать с горожанами, и меня уверили, что еще до полудня сотни человек прочешут окрестности Картахены. Метисы и индейцы бедных кварталов тоже присоединились к поискам, и к вечеру весь город искал моего отца, кроме солдат, губернатора и алькальда, знати, судей и королевских чиновников, писцов, епископа и священников и, разумеется, самых крупных торговцев вроде Курко и их людей. Я вернулась на «Чакону», чтобы сообщить товарищам обо всем, что произошло в ратуше и происходит в это самое время в Картахене. Эти решительные и закаленные во многих драках люди не могли скрыть своих чувств, когда узнали, как высоко ценят их капитана. — Как бы он был рад это узнать! — воскликнул Лукас, голос которого звучал гнусаво из-за сломанного носа. Те члены команды, которые не были ранены, дали слово, что будут нести вахту, и никто не поднимется на борт без нашего разрешения. Лукас, Родриго и Матео, отдыхающие в своих гамаках, заявили, что тоже будут присматривать за палубой. Я удалилась в отцовскую каюту, чтобы наложить новую порцию мазей на раны и поменять повязки. Но стоило мне закрыть за собой дверь, как мной овладела такая усталость и тоска, что я расплакалась и рыдала горше, чем даже в тот далекий день четыре года назад, когда я плакала на моем острове из-за неизвестности и одиночества. Наверное, я так и уснула в слезах, потому что с наступлением вечера меня разбудил настойчивый стук в дверь. Я ошеломленно открыла глаза, раны еще причиняли мучительную боль. К тому же после завтрака я ничего не ела, и мне срочно нужно было перекусить. — Кто там? — спросила я, приподнимаясь на постели. — Гуакоа, капитан. Я улыбнулась. Либо Гуакоа ошибся, либо повысил меня в звании без моего ведома. — Входи. Штурман, высокий и стройный, как все индейцы племени тайрона, пригнул голову, чтобы войти в дверь. — Прибыла шлюпка с солдатами и торговцами, капитан. Они хотят поговорить с вашей милостью. — С каких это пор я стал капитаном, Гуакоа, и с каких пор ты так со мной разговариваешь? — Вы — сын своего отца, капитан. Кто же еще, если не вы, теперь командует на этом корабле? — Хватит болтать глупости, — ответила я с горечью и с трудом поднялась. — Иду. Гуакоа вышел и закрыл за собой дверь. Я не хотела становиться капитаном «Чаконы», не хотела, чтобы случилось то, что произошло. Во второй раз в жизни я осталась без отца и желала лишь, чтобы он немедленно вернулся и всё стало как прежде. Я вышла из каюты и увидела на палубе солдатов и торговцев, о прибытии которых объявил штурман. Хватило одного взгляда на их лица, чтобы понять, что они не нашли отца. Именно эти солдаты обыскивали дом Мельхора. По их словам, а я могла лишь верить им на слово, они заглянули под каждый камешек гасиенды, но так ничего и не нашли, они клялись, что осмотрели даже печи, которые по их приказу потушили рабы, дабы убедиться, что там не находятся обугленные останки. Глава отряда также добавил, что по требованию закона Мельхора де Осуну поместили под стражу, и сейчас он находится в камере городской тюрьмы и останется там, пока дело не будет раскрыто. Он не рассказал, как на всё это отреагировал Мельхор, и я посчитала, что не стоит спрашивать его об этом, чтобы не выдать своих опасений, что люди Мельхора или его кузенов решат отомстить и разделаться со мной, чтобы покончить с расследованием. Не стоило давать им понять, что я ожидаю подобного. Хуан де Куба, Франсиско Сердан и Кристобаль Агилера, приплывшие в шлюпке вместе с солдатами торговцы, сообщили, что им тоже повезло не больше. Они искали моего отца везде в радиусе половины лиги от Картахены, добрались даже до болота Теска, но не нашли ни единого намека на то, что он там проходил, хотя я не должен падать духом, заверили они, поиски не окончены, и многие хотят к ним присоединиться. Если будет необходимость, они доберутся и до реки Магдалена, которая протекает в двенадцати лигах от берега, и не остановятся, пока не найдут его или его тело. У меня в глазах выступили слезы, когда я благодарила их за усилия и пригласила разделить с нами ужин. Они с радостью приняли приглашение, а солдаты тем временем возвратились в порт. На следующий день многочисленные отряды, вышедшие на заре, к вечеру вернулись ни с чем. И то же самое произошло через день и через два. Мельхора де Осуна, как человека порядочного, по словам алькальда, выпустили из тюрьмы и позволили ему вернуться домой, поставив на страже двух солдат, чтобы предотвратить возможный побег. Торговцы помогли нам удвоить стражу на корабле, поскольку, как и я, они тоже опасались реакции семьи Курво и поделились со мной своими тревогами, а также желанием помогать во всем. Через неделю, когда я уже была полностью уверена, что отец не появится, а по городу распространились слухи, что его тело наверняка находится в болотах Теска и не всплывет на поверхность до ближайшего сезона дождей, я отправила матушке письмо с рассказом об этих печальных событиях. Я не могла больше это откладывать, как бы мне ни было сложно. В конце письма я молила ее не совершить никакого безумства и не появляться в Картахене, поскольку я сама обо всем позабочусь, а также попросила ее оказать любезность и прислать денег нам на жизнь, пока не закончится процесс, который, казалось, никогда не завершится, ведь дон Альфонсо, по всей видимости, занимался другими, более неотложными делами. Наконец, в понедельник, двадцать девятого ноября, меня вызвали к алькальду для дачи показаний. В его кабинете, в присутствии Мельхора де Осуны, который глядел на меня с нескрываемой ненавистью, представляющего его адвоката, некоего Андреса де Арельяно, и многочисленных любопытствующих горожан (свидетельские показания являлись публичной процедурой) я повторила точь-в-точь те слова, что произнесла в первый день, ничего не прибавив и не убавив, а потом ответила на вопросы алькальда и адвоката. Мое выступление длилось всё утро, а после полудня настала очередь Мельхора, который, выслушав все мои аргументы, полностью их отрицал и пытался принизить значение моих слов, выставив меня безумцем, пытавшимся ворваться в его дом с намерением затеять драку, поскольку именно мой человек первым вытащил шпагу, заставив его защищаться. После такой паутины лжи я хотела спросить, как возможно, лишь защищаясь, нанести нам такие раны, в то время как у него не оказалось ни одной, но раз у меня не имелось адвоката (для нас нанять его было слишком дорого), то и некому было задать этот вопрос, так что я попросила Матео, Родриго и Лукаса, когда придет их очередь давать показания, воспользоваться этой возможностью, чтобы добавить эту мысль к своим словам. На следующий день, во вторник тридцатого числа, утром настал черед Матео. Во второй день собралось столько народу, чтобы послушать выступления, что пришлось перенести процесс из кабинета алькальда в приемную дворца, и там всё равно не хватило места для всех. Адвокат Арельяно набросился на Матео с коварными вопросами, ведь именно он первым обнажил шпагу, после чего началась драка, и адвокат возвращался к этому снова и снова. Наш товарищ признал свою вину в том, что первым обнажил шпагу, но отразил все прочие инсинуации, заявив, что речь идет не о том, кто спровоцировал драку, а о том, что произошло с капитаном Эстебаном Неваресом, который не выходил из гасиенды Мельхора де Осуны после того, как выплатил ему долг. Адвокат и алькальд пытались увильнуть от главного преступления, сосредоточив внимание на драке, которая была лишь его последствием, и делали вид, что считают, будто эту драку, такую важную для них, спровоцировали мы, а не Мельхор. После полудня Лукас твердо и четко объяснил, спокойно почесывая бороду, мы не двигались с места, дожидаясь капитана, и находились в сотне шагов от входа в гасиенду, в тени кокосовых пальм, так что Эстебан Неварес никак не мог выйти незамеченным. На вопрос адвоката Арельяно о том, почему, по его мнению, солдаты не смогли отыскать моего отца на гасиенде Осуны, Лукас с видом премудрого учителя, каковым он и являлся, заявил, что гасиенда находится за пределами Картахены и что обвиняемый имел достаточно времени, пока мы израненные лежали на дороге, чтобы вытащить капитана из дома, живого или умирающего, и перенести его в одно из своих многочисленных владений на Твердой Земле, а если он был уже мертв, то избавиться от трупа в окружающих город болотах. Одобрительный шепот прокатился по всем уголкам большой приемной, и услышав его, алькальд и адвокат, чтобы сменить тему и дать Мельхору преимущество, вызвали его управляющего, того негра по имени Мануэль Ангола, что встретил нас в дверях дома с аркебузой. Поскольку Мануэль Ангола был рабом, ему не предложили сесть, и он оставался на ногах, пока говорил, повернувшись спиной к публике. Непонятно, почему дон Альфонсо де Мендоса разрешил рабу давать показания, это и незаконно, и не принято, но они совершили уже так много нарушений, что еще одно не имело значения. Мануэль Ангола был к тому же единственным свидетелем со стороны Мельхора, совершенно уверенного в том, что выиграет это дело с помощью алькальда, настроенного весьма благосклонно в отношении кузена братьев Курво. Раб начал с того, как мы прибыли на гасиенду, и рассказал всё, что произошло потом, вплоть до того момента, когда нас бросили на дороге посреди зарослей тростника. Затем адвокат Арельяно спросил, правда ли, что, как утверждает его хозяин, торговец Эстебан Неварес вышел из гасиенды после уплаты долга, на что Мануэль громко и четко ответил, что нет, и это поразило всех присутствующих. Столпившиеся в приемной горожане стали подниматься и кричать, на что алькальд, побледнев, как покойник, приказал солдатам установить тишину. Адвокат, ошеломленный ответом раба, сказал, что тот, должно быть, как человек невежественный, не понял вопроса, и задал его снова. Теперь он говорил со свидетелем так, словно тот был ребенком, спросив его, вышел ли Эстебан Неварес из дома, отдав деньги. Мануэль Ангола совершенно невозмутимо ответил, что нет. Лицо Мельхора де Осуны исказилось, словно он узрел дьявола. Его озарила ярость, а кулаки Осуны сжались на коленях с такой силой, будто он собирался кого-то убить. Шум в приемной стал таким громким, что солдатам пришлось ткнуть пиками в нарушителей спокойствия, чтобы они замолчали. Дон Альфонсо, полумертвый от ужаса, спросил раба, известно ли тому местонахождение сеньора Эстебана, и тот ответил, что он не знает, где тот находится, но уверен, что он не покидал дом, поскольку всегда присматривает за входом и видел, как тот входил, но не видел, как выходил. Адвокат Арельяно нервно потеребил воротник и поинтересовался, уверен ли тот в серьезности своего заявления и знает ли о том ущербе, которое оно нанесет его хозяину, на что Мануэль Ангола ответил, что да, но он добрый христианин и, посоветовавшись со своим исповедником, решил рассказать правду, поскольку меньше страшится гнева сеньора Мельхора, чем гнева Господнего, который может осудить его на вечные муки, ежели солжет. Своим добрым сердцем он заслужил симпатии публики, и ему зааплодировали, как на театральном представлении. После этого адвокат Арельяно заявил, что Эстебан Неварес мог бы ускользнуть через конюшни, на что Мануэль Ангола ответил, что это невозможно, потому что конюшни в доме Мельхора огорожены высоким забором и оттуда нет другой двери кроме как на кухню, а бревна в частоколе больше трех вар в высоту, чтобы рабы гасиенды не воровали животных или заготовленного для них корма. В конце концов у адвоката не осталось другого выхода, кроме как спросить, не знает ли он, что сталось с Эстебаном Неваресом и что произошло, на это он ответил, что не знает, он присматривал за дверью и мог лишь разобрать отдельные слова, которые выкрикивал его хозяин, а потом появились мы вчетвером, интересуясь моим отцом, и он солгал нам по приказу Мельхора де Осуны. Выкрики присутствующих стали столь громкими, а скандал — таким неминуемым, что алькальду пришлось прервать процесс и оставить свидетельства Родриго на следующий день. Пораженные тем, что только что произошло, мы вышли на площадь в сопровождении друзей, которые радостно кричали, словно было что праздновать. Вся Картахена интересовалась этим делом. На площади собралась толпа в ожидании новостей о событиях. Через некоторое время по всему городу уже разнеслась молва о заявлениях раба, и когда наконец мы прихрамывая добрались в порт, все владельцы таверн и лавок приглашали нас выпить стаканчик рома или чичи, но мы отказались от всех приглашений — хотя люди и считали, что можно праздновать победу и Мельхор де Осуна обречен, у нас не было настроения праздновать, даже несмотря на то, что это веселье устроили в нашу честь и в честь моего отца. Мы забрались в шлюпку и молча гребли до «Чаконы», пока до наших ушей доносились поздравления и радостные крики людей, понимавших нашу боль, но не готовых отказаться от веселья. Не каждый же день выигрываются сражения против таких людей, как Мельхор де Осуна, который той же ночью наверняка вернется в темницу, откуда вышел по причине своей «порядочности». Теперь он уже не сможет отвертеться, и признаюсь, я чувствовала глубокое и мстительное удовлетворение. Мы прибыли на корабль, и все, кто был в состоянии работать, занялись будничными делами. Не годится мужчинам бездельничать и позволять «Чаконе» наполняться водой или превращаться в рассадник крыс, вшей или тараканов. Мигель взялся за приготовление ужина, а остальная команда разделила задачи и принялась за дело. Я же заперлась в отцовской каюте и села за стол, чтобы написать длинное письмо, что, несомненно, займет добрую часть ночи. На следующий день, ровно в десять утра, мы вернулись ко входу во дворец, окруженные толпой, не перестающей веселиться, словно на празднике в честь какого-нибудь святого. Этим утром пришел черед Родриго давать показания, и хотя он мало что мог добавить к уже сказанному, он обязан был сделать заявление и ответить на вопросы, если их зададут. Мы договорились, что если увидим, как Мельхор попытается избежать наказания с помощью какого-нибудь ловкого трюка, я подам знак, чтобы Родриго рассказал о нашем приятеле Иларио Диасе, управляющим складом в Борбурате, обо всем, что он поведал нам в ту ночь. Солдатам пришлось отогнать столпившихся вокруг зевак, чтобы мы могли добраться до стульев неподалеку от алькальда, рядом с которым, ко всеобщему изумлению, сидел губернатор и военный наместник, дон Херонимо де Суасо, занявший сегодня место председательствующего. Его присутствие, как и два капитана пехоты, командующие большим отрядом вооруженных людей, заставили всех зрителей подозревать худшее, но я решила не подавать виду, что чего-то боюсь. Мне было всё равно, что сегодня в этом зале присутствует губернатор, раз ему так захотелось... по крайней мере, я так думала, чтобы не позволить панике взять надо мной верх. Дон Херонимо со всей придворной галантностью взял на себя труд объяснить публике, что находится здесь из-за того огромного интереса, который пробудило это дело у горожан, и что его первейшая обязанность — присутствовать на этом процессе, поскольку в любой момент вице-король может попросить у него отчета. От этого разумного объяснения мне не стало спокойней, но я постаралась взять себя в руки и поблагодарила его за оказанную честь. Родриго предстал перед публикой и с учтивым жестом занял отведенное для свидетелей кресло. Он скромно повторил то, что и так уже все знали, время от времени бросая на меня косые взгляды. Я оставалась невозмутимой. У нас еще было время. Я хотела услышать вопросы — как от дона Альфонсо, так и от адвоката Арельяно. В то утро Мельхор де Осуна не присутствовал в зале. Во мгновение ока из человека «порядочного» он превратился в заключенного. Уже скоро он окажется на галерах, если еще раньше его не повесят на главной площади. Всё зависело то того, что произойдет нынче утром. И тут я почувствовала, как кто-то похлопывает меня по плечу, пытаясь привлечь внимание. Я обернулась и подняла голову. Ко мне склонился негр с забрызганным грязью лицом и в лохмотьях и прошептал на ухо: — Это для вас. Я гордо протянула руку и взяла то, что он мне протягивал. Негр тут же выпрямился и скрылся в толпе. Родриго продолжал рассказывать, как нас избивали двадцать рабов Мельхора. Я сломала сургучную печать и прочитала документ, после чего повернулась к Хуанито, который на сей раз вместо того, чтобы остаться у шлюпки, пошел с нами на слушания, и сделала ему знак одними бровями. Юнга тихонько прошмыгнул к выходу. Когда Родриго снова бросил на меня взгляд, я улыбнулась. После его показаний весь город притих в ожидании вердикта дона Альфонсо де Мендосы, который, без сомнений, провел худшие мгновения своей жизни и все последние часы совещался как с губернатором, так и с руководителями Святой эрмандады *["463], судьями и королевскими чиновниками, двенадцатью членами городского совета и даже с епископом. Наконец, в полдень субботы, четвертого декабря, до «Чаконы» из порта донеслись громкие крики. Мы через оба люка высыпали друг за другом на палубу и высунулись за борт, чтобы рассмотреть, что происходит и кто кричит, увидев на пристани огромную толпу, люди махали руками и бросали в воздух шляпы. Несколько наполненных людьми шлюпок направлялись к нашему кораблю, и к нашему величайшему удивлению, мы услышали пушечный салют с близлежащих бастионов Санта-Каталина и Сан-Лукас. Сердце в моей груди гулко забилось и наполнилось радостью, потому что это могло означать только хорошие новости. Наша команда собралась у борта, наполовину высунувшись через борт, и выкрикивала вопросы гребцам в шлюпках, но те их не слышали на фоне всеобщего гама. Хуанито и Николасито, проворные, как неуловимые ящерицы, бегали с кормы до носа, спуская веревочные трапы и открывая шпигаты, чтобы прибывшие гости не намокли. Наконец, когда первую шлюпку от нашего корабля отделяло меньше двадцати вар, Хаюэйбо радостно вскрикнул: — Капитан! — Что? — спросила я. Отец! В шлюпке плыл отец! Он поднял руку и поприветствовал нас. Он выглядел усталым, но счастливым, а на его лице сияла удовлетворенная улыбка. Отец, живой и невредимый, и к тому же довольный! Юнги визжали и подпрыгивали, а мои товарищи кричали, выстрелы же артиллерии звучали так, будто Картахену посетил сам король. Я тоже не могла удержаться и завопила: — Отец! Отец! Сюда, отец! — Мартин! — крикнул он, пройдя на нос шлюпки, чтобы забраться на корабль. — Мартин! Когда корпуса шлюпки и корабля столкнулись, отец схватился за трап и без какой-либо помощи начал быстро подниматься на «Чакону». Выглядело это так, словно у него выросли крылья на сапогах, хотя они были порваны, так что торчали пальцы. Ни чулок, ни подвязок на нем не было, а плундры порвались и были заляпаны грязью. Рубашка же почернела и превратилась в лохмотья, обнажив кожу. Вся остальная его одежда и шляпа пропали, и если бы на его лице, руках и ногах было хоть чуть-чуть больше грязи, его можно было бы принять за глиняную статую. Он весь был изранен, но так крепко меня обнял, что я тут же поняла — с его здоровьем всё в порядке, более того, он никогда так хорошо себя не чувствовал, хотя воняло от него, как от стада свиней или от кожевенной мастерской. Он точно нуждался в хорошей ванне. — Отец! — радостно воскликнула я, обняв его в ответ. — Какая радость! — повторял он, счастливый оттого, что вернулся на свой корабль. Когда он отошел от меня, чтобы обнять моих товарищей, я помогла взобраться на борт Хуану де Кубе и остальным торговцам и всем мужчинам из шлюпки. Все были счастливы, и пока меня сжимали в объятьях и поздравляли с чудесным возвращением отца, слезы навернулись мне на глаза. В последней шлюпке прибыл официальный представитель городского совета, одетый в черные плундры, короткий коричневый плащ и сорочку с большим воротником. При первой же возможности он пожал мне руку и отвел в сторонку. — Вашего отца, — сказал он серьезным тоном, — захватил опасный беглый раб по имени Доминго Бьохо. Он находился в его власти всё это время. Увидев написанное на моем лице изумление и испуг, он кивнул. — Он едва избежал смерти, с ним обращались грубо и жестоко. Нам следует возблагодарить небеса, за то что он остался живым и невредимым. — Это уж точно, сеньор, — отозвалась я, нахмурившись. — По всей Твердой Земле не сыщешь такого мерзавца, как этот Доминго Бьохо. Шесть лет он насмехается над законом, и если не убил вашего отца, то только лишь потому, что с его помощью передал сообщение дону Херонимо де Суасо, губернатору Картахены. — Сообщение? — удивилась я. — Уверен, что вы всё узнаете, — ответил тот любезно, с вежливой улыбкой на серьезном лице, — после празднования этой счастливой встречи, а я лишь могу сказать, что вашего отца нашли нынче утром на заре, брошенного на старой туземной тропе. Группа индейцев из деревни Тубара шла в Картахену на рынок и услышала из-за скал стоны и стенания. Они тут же решили посмотреть, в чем дело, и обнаружили вашего отца лежащим на земле с кровоточащими ранами. С величайшей осторожностью они подняли его на мула и отвезли в больницу Святого Духа, где вашего отца узнали братья ордена Святого Хуана и назвали его по имени, а потом сообщили городским властям. Напившись и наевшись, ваш отец начал приходить в себя, отказался от дальнейшего лечения и попросил немедленно отвести его к губернатору, потому что у него имеется важное сообщение. Меньше чем через час он оказался у дона Херонимо и алькальда, дона Альфонсо, после чего получил разрешение покинуть дворец и отправиться в порт. К тому времени слухи о его чудесном появлении уже разошлись по всей Картахене, и на главной площади собралась толпа, которая теперь переместилась в порт. Несколько секунд чиновник молчал, наблюдая за собравшимися на пристани людьми, не прекращающими кричать, но потом сказал мне кое-что еще. — Вы должны знать, сеньор, — произнес он со всей серьезностью, — что Мельхор де Осуна на свободе. Я кивнула. — Вполне справедливо, сеньор. — Хорошо. Вижу, что вы человек совестливый. Мельхора выпустили из тюрьмы, как только узнали, что ваш отец жив. — А как отец выбрался из его дома в тот день, сеньор, могу я поинтересоваться? — Ваш батюшка заявил, что когда он пересекал двор, чтобы присоединиться к вам, то получил сильный удар по голове и потерял сознание, а после этого ничего не помнит. Можно лишь предположить, воспользовавшись логикой, что Мануэль Ангола, управляющий Мельхора де Осуны, устроил во вторник спектакль, поскольку после выхода из дворца он исчез, и хотя тогда все решили, что сделал он это из страха, теперь можно предположить, что он был человеком Доминго Бьохо, работал на него в городе, и что тот расплатился с ним за эту услугу, приютив в одном из своих поселений. В общем, сеньор Мартин, управляющий защищал самого себя, когда заявлял о том, что ваш отец не покидал дома Мельхора. Чиновник бросил на меня задумчивый взгляд. — Мануэль Ангола, видимо, по-тихому оттащил вашего бездыханного отца в укромное место, а потом отдал его беглым рабам Доминго. Я закрыла глаза и вздохнула. И тут услышала громкие раскаты смеха, доносившиеся со стороны команды и друзей с рынка. — Не хочу даже думать о том, что пережил отец в эти кошмарные недели, сеньор. Теперь он расскажет нам об этом, не сомневаюсь, потому что, судя по словамвашей милости об ударе по голове в первый день и о ранах, с которыми его нашли индейцы, должно быть, он побывал в настоящем аду. Я решила, что пора распрощаться с чиновником и присоединиться к радостному кружку вокруг отца. — Благодарю вас, сеньор, за то, что добрались до корабля и сообщили мне обо всем. Передайте от моего имени дону Альфонсо и губернатору, что я в долгу перед ними за неоценимую помощь и всё то добро, которое они нам сделали. — Я передам. — Скажите им также, что как только я высажусь на берег, то немедленно засвидетельствую им свое почтение лично. — Вы можете сделать это нынче же вечером, сеньор, — заявил он. — Учитывая интерес и симпатии к вашему отцу всего города, дон Херонимо Суасо решил устроить сегодня, в субботу, и завтра, в воскресенье, народные гулянья, где будут танцевать, устраивать поединки, читать стихи и метать кольца. — Дон Херонимо умеет всё устроить, — улыбнулась я. — Это точно, сеньор Мартин, — согласился чиновник, отвесив горделивый поклон на прощанье. — Об этом уже оповестили весь город. Я ответила на поклон и проводила его до борта корабля, чтобы помочь спуститься по трапу. Как только он оказался в шлюпке, я повернулась к отцу и прислушалась к его словам. — ... и тогда дон Херонимо сказал: «Сеньор Эстебан, вы выказали мужество, достойное не просто испанского идальго, а испанского кабальеро», а я ответил: «Это точно, дон Херонимо, потому что я сильно сомневаюсь, что какой-нибудь другой человек моего возраста мог бы выдержать такое, ведь эти проклятые изгои били и хлестали меня кнутом каждый день». «Вы получите компенсацию, сеньор Эстебан», — заверил губернатор и велел принести подушек для моего кресла, на что я ответил: «В этом нет необходимости, дон Херонимо, с меня хватит и того, что я выбрался из этого мрачного и грязного поселка живым, потому что, когда меня не пытали, то кусали крысы и змеи». Я сдержала улыбку, хотя не переставала думать о том, как отец страдал эти две недели в поселении Бенкоса, питаясь как король, наслаждаясь праздниками и африканскими танцами и отдыхая на удобном ложе в сухом и комфортном жилище, при неустанной заботе какой-нибудь молодой и благодарной беглой рабыни, выученной прислуживать в главной усадьбе. Безусловно, он тяжко страдал. — И что сказал губернатор, когда вы вручили ему послание главаря беглых рабов? — спросил заинтригованный Кристобаль Агилера. — Ты что, не понял, дружище? — разозлился отец. — Я ничего не вручал дону Херонимо. Я же сказал, что меня заставили выучить его наизусть кнутом и ударами. — Хорошо, пусть так, — согласился тот. — И что он сказал? — Ничего. Он молчал. Но хотя он молчал, в голове дона Херонимо несомненно роились мысли. Он лишь попросил, чтобы я повторил это длинное послание, и писцы могли записать его на бумаге своим четким почерком. — Наверняка сейчас эту бумагу изучают все власти, — заметил Родриго. — Это уж точно, — отозвался отец, — потому что послание касается важных вещей. — Не знаю, как такое может быть, Эстебан, — возразил его друг Хуан де Куба. — О каких таких важных вещах может сообщить губернатору Картахены беглый преступник? Насколько я понял, губернатор немедленно собрал отряд солдат, чтобы атаковать поселения беглых рабов, поскольку ты предоставил им новые сведения. — Замолчи, приятель, — рявкнул отец, — ты что, повредился в уме? О каких еще сведениях ты говоришь? Я что, разве четко и ясно не сказал, что в тот день, когда меня похитили, мне так дали по голове, что я потерял сознание, а очнулся уже в поселке? Разве я не объяснил, что после очередного избиения меня бесчувственного взвалили на мула индейцы и отвезли в больницу? Какие сведения я мог дать дону Херонимо? — Сам заткнись, шельмец! — улыбнулся Хуан де Куба. — Помолчи и устыдись своих слов! Ты что, еще не понял? Разве ты не видишь, что означают твои слова? Что поселение этого проклятого беглого раба, этого дьявола во плоти, находится в нескольких часах от Картахены, еще до реки Магдалены, и губернатор уж точно это заметил и не замедлит выехать с солдатами, чтобы снова прочесать окрестности. Именно на это мы и рассчитывали — чтобы солдаты отправились как можно дальше от того места, где на самом деле находилось поселение. — И в чем же заключалось это длинное послание, отец, которое велел передать Доминго губернатору? — осведомилась я. — Ах, Мартин, сынок, иди сюда! — воскликнул он, распахнув объятья. — Как же я тобой горжусь, мальчик мой! Как ты обо всем позаботился! Он взял меня за плечи и крепко обнял. Несомненно, две недели в поселении пошли ему на пользу. — Хочешь знать, что содержалось в послании этого мерзкого беглеца? — спросил он с широкой улыбкой. — Да, отец, — ответила я, напустив на себя непонимающий вид, хотя я лично составляла это послание в Санта-Марте, накануне отплытия в Картахену. — Ну так слушай внимательно, я повторю его целиком только для тебя. — Нет, капитан, Бога ради, только не целиком! — Мой сын имеет право его услышать! — рявкнул отец, получающий удовольствие от окружающего его внимания. — В этом нет необходимости, — сказала я. По правде говоря, это был длинный текст, содержащий несколько петиций и договор. — Ваша милость может рассказать вкратце. — Ладно, — согласился он, насмешливо глядя на меня. — Я сокращу до главного. Слушай внимательно. В послании Доминго Бьохо губернатору говорилось, что, поскольку он нанес поражение всем посланным для его поимки солдатам, и раз эти поражения будут происходить и в дальнейшем, он считает, что настало время предложить властям сесть за стол переговоров. Этот бандит попросил у дона Херонимо документы об освобождении для всех живущих в его поселениях, без каких-либо обязательств бывшим хозяевам и с правом беспрепятственно входить и выходить из городов. Он попросил, чтобы его поселения были признаны законными, и войска больше на них не нападали, но белые люди не смогут в них жить, они будут управляться по африканским традициям, если те не противоречат испанским законам. — Кем он себя возомнил? — негодующе воскликнул Франсиско Сердан, еще один старый друг отца. — Следующая петиция... — Следующая петиция? — удивленно воскликнула я. Я не помнила, чтобы добавляла другие петиции. Только договор. — Да, сынок, — сказал отец, сделав нетерпеливый жест. — Проклятый Доминго хочет иметь право одеваться, как испанский кабальеро, носить шпагу и кинжал, и чтобы солдаты его за это не арестовали. Он также требует от испанских властей, чтобы с ним обращались, как с королем. — Сдается мне, отец, — изумилась я, — что у этого короля гордость хлещет через край. — Хорошие слова, мальчик мой! — заявил Хуан де Куба. — Нужно побыстрее покончить с ним и со всеми этими подлецами. С теми сведениями, что твой отец дал губернатору... — Вот же упрямец! — воскликнул отец. — Точно, с того самого дня, как меня родила матушка, — довольно согласился тот. — Что ж, отец, — продолжила я. — Этот король наверняка должен был что-то предложить взамен, раз столько просит. — Он и предложил, сынок. Во-первых, больше не похищать добропорядочных горожан, представителей властей и влиятельных персон, как он похитил меня, хотя заявляет, что если с ним не станут вести переговоры, то будут и другие жертвы, и живыми они не вернутся. — Вот подонок! — взорвался Кристобаль Агилера. — Сукин сын! Да как он смеет? Угрожать всем жителям города! Так он заставит все знатные семьи Картахены умолять губернатора начать переговоры. — И еще кое-что. Он говорит, что после подписания договора не станет принимать в своих поселениях больше ни единого беглого раба. — И всё? — поинтересовался Кристобаль Агилера. — Ну и дела! — И это вполне серьезно, сеньор Кристобаль, — возразила я. — Вы знаете, сколько негров, мулатов, самбо и представителей прочих каст сбежали из городов Твердой Земли за последние пять лет, чтобы присоединиться к Доминго Бьохо? И не сосчитать. И все подчиняются этому человеку, называющему себя королем. Припомните сходы в Картахене и Панаме в начале прошлого, 1603, года, когда власти, понуждаемые отчаявшимися рабовладельцами, хотели разрешить проблему с помощью рабов-предателей, которые отводили солдат в поселения в обмен на свободу. — Это верно, — признал сеньор Кристобаль. — И как вы помните, ваша милость, это плохо кончилось, — добавила я. — Предателей находили на улице мертвыми, с перерезанным горлом и отрезанным языком. Каждый день бегут десятки рабов, каждую неделю — сотни, а каждый год — тысячи, сеньор. Закрыть поселения для новых беглецов — это щедрое предложение, которое весьма благосклонно воспримут хозяева рабов. — Твой сын хорошо соображает, Эстебан, — сказал Франсиско де Овьедо. — И весьма! — гордо подтвердил отец. — Ты даже и представить себе не можешь, дружище Франсиско, насколько он сообразителен!
Эпилог
Всё это пришло мне в голову в тот день, когда отец повредился умом, выйдя из дома Мельхора де Осуны. Увидев его таким потерянным и удрученным, я поняла, что он не проживет и года, если я не придумаю способ добиться справедливости и наказать Мельхора де Осуну, заставив его вернуть отцу имущество, чтобы он не провел свои последние дни в унынии и печали. Я стремглав помчалась на поиски Родриго, который грузил табак вместе с остальной командой, и попросила его сходить со мной на рынок и расспросить людей. Мы не нашли иного способа покончить с Осуной, кроме как обвинить его в серьезном преступлении, чтобы за дело взялись власти, а его могущественные кузены не могли вмешаться и спасти его. Но он не только должен был попасть в руки закона, но и я собственными слабыми руками должна была изловчиться и добиться того, чтобы Курво не пошевелили и пальцем для его спасения, а лишь убедили бы его вернуть дом, лавку и корабль. И всё это должно было случиться в нужное время, чтобы Мельхор не улизнул. Прежде всего мне предстояло выяснить все подробности про могущественных братьев Курво, и в то время я решила, что лучшим способ это сделать будет послушать разговоры в порту. Когда мы обнаружили, что никто не знает, какие товары привозят торговые суда Курво из Севильи, и что братья всегда имеют в запасе товары, которые не провозит ежегодный флот, я поняла, что мы имеем дело с серьезными и очень богатыми противниками, и усилиями скромных торговцев вроде нас с ними не справиться. Но всё же, раз это не было направлением, на котором можно преуспеть, наверняка найдется другое — с такими мошенниками можно разобраться только с помощью какой-нибудь уловки или ловушки. Поэтому я решила разузнать о них как можно больше и, вспомнив про трюк с зеркалом, тот самый, который мой товарищ устраивал, чтобы увидеть карты противника, я решила, что, поставив зеркало перед Мельхором, смогу вызнать самые тайные слабости его кузенов, при этом сбив их с толку нашими ложными действиями, так мы сможем загнать в капкан их всех и добиться желаемого. Тогда я решила, что никто не должен знать о моей задумке, потому что, если кто-нибудь развяжет язык, то всё пойдет прахом. Именно потому я была так разочарована, когда матушка перехватила меня, когда я возвращалась после встречи у речушки Мансанарес с Санто и перепуганным Франсиско, незаконнорожденным сыном Ариаса. Однако, выслушав мой рассказ о том, что нам с Родриго поведал Иларио Диас в Борбурате, что мы оба выяснили в Картахене и что мне рассказал той ночью у реки бедолага мулат, матушка воодушевилась и сказала, что она придумала выход, ведь никто не знает о Курво столько, сколько мы двое, и если мы отправимся к вдовствующей графине Беатрис де Барболья и расскажем ей, что документ о чистоте крови, выданный Диего Курво, является фальшивкой, а в его венах течет еврейская кровь, то свадьба с юной Хосефой де Риаса не состоится, и Курво навсегда лишатся заветной возможности стать дворянами и подняться на вершину социальной лестницы. Эта идея была не так уж плоха, хотя я сомневалась, что подобное заставит Мельхора де Осуну вернуть нам имущество, скорее наоборот, мы навлечем на себя гнев братьев Курво, которые могут сильно осложнить наше положение, если у них появится такое желание. Задача заключалась в том, чтобы загнать их в ловушку, и они не смогли бы причинить нам вреда. Через некоторое время у меня не осталось больше идей, но вдруг матушке пришла в голову другая мысль — обратиться не к графине, а к самим братьям Курво. Дело было за малым: в чем обвинить Мельхора де Осуну, чтобы пришлось вмешаться закону и поместить его в тюрьму, а потом и на эшафот, и чтобы никто не мог этому воспрепятствовать? В убийстве. Но кого? Человека, которого Осуна имел причины убить в припадке ярости. У него имелись причины убить моего отца — из-за денег, и это подходило лучше всего. И вот так, за разговором с матушкой той ночью, мы связали все ниточки, собрали все кусочки мозаики. Несомненно, всё начнется, когда придет срок выплаты. В этом году оставалась лишь одна, в декабре, но катастрофа с табаком и отказ Мушерона продать нам оружие заставили меня отправиться в путь раньше предусмотренной даты: нужно было оповестить короля Бенкоса о случившемся, чтобы он не рассчитывал на привычное количество оружия для защиты своих поселений. Тогда-то я и поговорила с отцом, рассказав о задуманном. Поначалу он дал категорический отказ и назвал меня безумцем, но когда матушка тоже стала настаивать, эта идея уже показалась ему неплохой, и он решил, что мы должны ее придерживаться, раз ничего лучшего всё равно не придумали. Заметив мое раздражение, матушка сказала, что если однажды мне доведется вступить в брак, то я всё пойму, а до тех пор мне следует сохранять спокойствие. Я и правда успокоилась, хотя, честно говоря, испробовав свободу, мне не очень-то хотелось отдать ее мужу, который запрет меня в доме до конца дней. Вот так отец без дальнейших объяснений согласился принять участие в обмане, и ночью накануне отплытия в Картахену я закрылась у себя в комнате и начала писать длинное послание для короля беглых рабов, где объясняла, что через два дня в его поселение прибудет мой отец, и я буду весьма ему благодарна, если он отправит людей, чтобы помочь ему добраться, ведь он уже в летах, и дорога через горы и болота для него слишком трудна. Эта часть меня беспокоила больше всего. Я знала, что король без промедления пошлет навстречу отцу самых сильных из своих подданных, но представляя, как отцу придется провести на болотах по меньшей мере день или полтора, в его-то возрасте и состоянии духа, я весьма тревожилась. Я также объяснила Бенкосу причины того, что собираюсь сделать, и снова попросила его о помощи, в особенности это касалось раба, служащего у Мельхора, который увидит моего отца входящим в дом, чтобы отдать платеж, а на судебных слушаниях раб должен поклясться, что отец не выходил. Я знала, что Бенкос без труда найдет подходящего человека, потому что не было на Твердой Земле раба, не готового продать душу ради свободы. Главное, чтобы этот раб не испытывал угрызений совести, когда будет лжесвидетельствовать перед властями, поклявшись своей христианской верой, ведь его показания приведут Мельхора де Осуну на эшафот. Всю ночь я провела за своим столом-шлюпкой, поскольку написала еще и послание с требованиями короля Бенкоса к губернатору Картахены. Я знала, что Бенкос хочет начать переговоры и положить конец войне. Его позиция была сильной, потому как он ни разу не проиграл ни одного сражения, а испанцы проиграли все. Так не могло больше продолжаться. Зная это его желание, я решила воспользоваться исчезновением отца и расплатиться с Бенкосом за многочисленные услуги, поспособствовав его переговорам с губернатором, и предложила способ испугать власти и влиятельных горожан, чтобы те заставили дона Херонимо разговаривать с Бенкосом. Я отправила ему отлично написанное прошение со всеми его требованиями и предложениями, но не могла себе представить, что Бенкос добавит к нему собственные невероятные притязания, такие как одеваться по испанской моде и вооруженным входить в города. Это уже была целиком его идея. На заре, простившись с матушкой и девушками, пришедшими в порт, мы отплыли из Санта-Марты, уже зная, что вернемся нескоро и что до этого произойдет много невероятных событий, а также, что если что-то пойдет не так, наше возвращение не будет таким счастливым, как мы надеялись. Но к тому времени как моряки, так и девушки борделя уже знали ситуацию. Отец собрал их в большой гостиной, пока я писала у себя в комнате, и рассказал обо всем, поскольку их помощь и молчание много для нас значили. Сообщить обо всем девушкам решила матушка, она заявила, что все они — члены семьи, даже животные должны присутствовать, чтобы выслушать предложение. Отец как всегда с ней согласился. Всё было хорошо продумано. Как только мы сошли на берег в Картахене, я тут же послала Хуанито в плотницкую мастерскую с посланием для короля Бенкоса, наказав ему умолять тамошнего раба, чтобы доставил сообщение как можно быстрее. Четверым испанцам выпала задача сопровождать отца до гасиенды Мельхора. Раз именно нам потом придется обращаться к алькальду, исполняющему также роль судьи, то мы должны быть христианами и испанцами, закон не позволяет игнорировать наши требования и свидетельства. Так что Хаюэйбо, Антон, Черный Томе и Мигель стали ждать в порту, на случай, если нам понадобится их помощь, чтобы вернуться на корабль, ведь мы знали, что Мельхор де Осуна наверняка велит своим людям нас избить, чтобы силой изгнать из гасиенды. Когда мы оказались на нужном расстоянии, отец оставил нас под кокосовыми пальмами — в тенистом месте, где мы могли бы прождать и час, не боясь палящего солнца. Лукас, Родриго, Матео и я очень беспокоились, мы не знали, чем закончится этот необычный день и выйдет ли всё так, как мы планировали. А я к тому же думала о страданиях отца, пробирающегося в одиночестве по опасным горам и жутким болотам, пока с ним не встретятся люди Бенкоса. Мы сели на землю в тени и стали болтать и шутить, а когда увидели, как отец выходит из гасиенды и направляется прямиком в джунгли, то сделали вид, будто его не заметили, чтобы потом в этом поклясться, а затем продолжили смеяться, больше чтобы успокоить тревоги, чем от настоящего веселья. Когда прошел еще час, мы заявились в дом. Всё должно было выглядеть по-настоящему, чтобы, когда настанет черед говорить, из нас не могли вырвать иное признание. Мы подошли к дому, познакомились с Мануэлем Анголой, тем рабом, что позже станет нашим главным свидетелем на суде (хотя тогда мы этого еще не знали, как и он), и столкнулись с Мельхором, который, естественно, решил, что мы рехнулись, и задал нам трепку. Может, нам и удалось бы ее избежать, если бы Матео не вытащил шпагу из ножен, но Матео всегда трудно было удержаться, когда доходило до драки, и в результате из этого приключения мы вышли израненными и сильно избитыми, гораздо сильнее, чем я рассчитывала. Но тем не менее, всё получилось как нельзя лучше, в точности так, как мы и планировали, лишь жуткая боль по всему телу мешала мне ощутить себя совершенно счастливой, а также, разумеется, той ночью я слишком сильно волновалась за отца, чтобы насладиться своей первой победой. На следующее утро, избитая и встревоженная, я приступила к исполнению второй части этого трюка. С помощью Хаюэйбо, Антона, Мигеля и Хуанито я сошла на берег и направилась на рынок, повидаться с людьми. В особенности я хотела, чтобы в таком печальном состоянии меня увидели некоторые наши друзья торговцы, и по возможности те, что не побоятся пойти против властей, чтобы я рассказала им о случившемся, и молва разнеслась по всей Картахене. Лишь при поддержке толпы я могла получить необходимые силы для того, чтобы бросить вызов братьям Курво. Чем громче окажется скандал, тем меньше вероятность, что они осмелятся нас тронуть, и тем скорее алькальд дон Альфонсо примет во внимание мои требования. Я взяла с собой Хуана де Кубу и других (Кристобаля Агилеру, Франсиско Сердана и Франсиско Овьедо) — самых крупных торговцев. Все были людьми преклонных лет, весьма известными в Картахене, а кроме всего прочего — дебоширами и скандалистами. Именно то, что нужно. Пока мои товарищи мучились от ран на корабле, я нанесла визит дону Альфонсо де Мендосе-и-Карвахалю, городскому алькальду и судье, и представила ему свои требования, зная, что он попытается от них отвертеться, поскольку они касались богатого торговца, да к тому же родственника самого влиятельного семейства на Твердой Земле и в Новой Испании. Но я не собиралась ему это позволить. Я предусмотрела всё, чтобы он не мог изобрести никакого предлога. Я знала, что перед алькальдом должна говорить лишь об исчезновении отца, и что, по моему мнению, он погиб от рук Мельхора, дав при этом достаточно оснований для начала расследования. Если бы я обвинила братьев Курво в какой-либо связи с грязными делишками их кузена, те не замедлили бы вмешаться всеми своими силами и ресурсами, ведь речь шла об их деятельности и богатстве, они не позволили бы поставить свое достояние под угрозу. Моим врагом должен был быть только Мельхор де Осуна, что до братьев Курво, то они не чувствовали в этом никакой угрозы себе и предпочли предоставить кузена собственной участи и отдать его в руки закона. Мне следовало придерживаться только темы об исчезновении отца, и помимо имеющихся у Мельхора личных мотивов — денег и собственности, я рассчитывала и на заявление раба, которому надлежало появиться на суде. По этому поводу я не беспокоилась, доверяя Бенкосу и его возможностям. Кому я не доверяла, так это Осуне, тот мог и попытаться нас убить, если вдруг ярость затуманит его разум. По этой причине я установила на «Чаконе» вахты и попросила торговцев и всех тех, кто был в курсе событий, разнести эту историю по всему городу, чтобы народ возмутился, пошли слухи и разговоры и собрались отряды для поисков моего отца, которые, похоже, не очень-то стремился организовывать алькальд. Когда столь многочисленные группы горожан покинули свои дома и закрыли лавки, чтобы отправиться обыскивать окрестности, я начала успокаиваться. Если Мельхор и попытается на нас напасть, то тем самым только окажет себе медвежью услугу. Поиски отца лишь укрепят подозрения в убийстве, потому что тело так и не найдут, и все поверят, что Мельхор затащил его в какое-нибудь болото, где, как перешептывались люди, когда-нибудь и отыщется тело Эстебана Невареса. Через неделю поиски еще продолжались, а я отправила письмо матушке, чтобы якобы поведать ей о случившемся. на самом же деле я сообщала ей, что всё идет хорошо («Не приезжайте в Картахену») и отец наверняка целым и невредимым прибыл в поселение Бенкоса («Пришлите денег на жизнь»), ведь его тело и вправду не было найдено. Если бы дела пошли наперекосяк, то я попросила бы матушку лично явиться в Картахену, а если бы с отцом что-нибудь произошло во время побега, то я написала бы, что денег нам хватает, потому что мы скоро собираемся возвращаться. В понедельник, двадцать девятого ноября, наконец-то начали выслушивать показания свидетелей. Приближалась развязка. Когда появился проинструктированный Бенкосом раб Мельхора, он сделал последний выстрел. Когда я увидела в зале суда Мануэля Анголу, то испугалась, что всё закончится плохо. Вряд ли нам так повезет, что тот самый управляющий гасиендой, который помешал нам войти в дом и в присутствии Мельхора сказал, что отец уже ушел, теперь присягнет, что отец никогда не покидал дом. Я почувствовала такой же страх, как в тот миг, когда тетушка Доротея выкинула меня, не умеющую плавать, в ужасные океанские воды. И потому, услышав, как он четко и ясно произносит «нет» в ответ на вопрос адвоката Арельяно, выходил ли мой отец из гасиенды, я едва сдержала вздох облегчения, чтобы его никто не услышал, а сердце гулко забилось. Я поняла, что Мельхор не может поверить своим ушам и то ли взорвется от ярости прямо в это мгновение, то ли убьет раба при первой представившейся возможности (но ее не оказалось, потому что в тот же день Мельхора заключили по стражу). И я начала наслаждаться местью, вне зависимости от остальных выступлений, я была счастлива и чувствовала удовлетворение. Осуна вместе со всей своей мелочностью и жадностью был повержен к моим ногам. Я своего добилась. Теперь я должна была как можно быстрее вернуться на корабль, чтобы написать письмо, уже составленное в уме в день нашего появления в Картахене. На улицах Картахены народ праздновал поражение Мельхора, а мы с товарищами вернулись на корабль, где я, даже не поужинав, заперлась в отцовской каюте, села за стол, взяла перо и бумагу и начала писать свое первое личное послание Ариасу и Диего Курво, это был первый контакт с ними из тех многих, что последуют позже. Я начала с того, что описала свое происхождение (в качестве Мартина), а затем рассказала братьям все известные мне сведения об их кузене Мельхоре, о его торговле и о том, как ему удалось разбогатеть. Сообщила, что контракт об аренде, заключенный с моим отцом в результате обмана, был не единственным, пострадали и другие торговцы Твердой Земли, я упомянула имена, которые дал нам с Родриго Иларио Диас в ту ночь в Борбурате. Я также сообщила о складах Мельхора на Тринидаде, в Борбурате и Коро и заявила, что подобные удивительные знания о том, каких товаров будет не хватать на Твердой Земле из-за того, что их не привезет следующий флот, наверняка получены от них, Ариаса и Диего, поскольку до меня дошли слухи об удачных браках их сестер с людьми, отвечающими за торговлю с Индиями: Хуаны Курво с Луханом де Коа, главой севильского Консульства, а Исабель Курво — с Херонимо де Монкадой, судьей и главным счетоводом Палаты по делам колоний, что находится напротив Трибунала по уплате пошлин. Сообщила я и о том, что любой судья трибунала королевской канцелярии в Санта-Фе в Новой Гранаде сочтет неоспоримым, что они получили преимущества благодаря своим сестрам и зятьям и их решениям в Консульстве и Палате по делам колоний по поводу кораблей и товаров в ежегодном флоте, да к тому же держали весь Новый Свет в нужде и при отсутствии самого необходимого. Я закончила письмо, заявив, что имею неопровержимые доказательства подделки документа о чистоте крови Диего Курво, заказанного Фернандо у известного испанского геральдиста по имени Педро де Саласар-Мендоса, которого уже арестовывали за фальсификацию генеалогического древа, а также мне известно, что в жилах братьев течет еврейская кровь, и потому судьба брака Диего с юной Хосефой де Риаса находится в моих руках, достаточно отправить записку вдовствующей графине. Мое молчание, как и молчание других людей, которым всё известно, имеет цену: я хочу, чтобы на следующий же день, без промедления, пока Родриго из Сории будет давать свидетельские показания, мне принесли новый, подписанный Мельхором договор, где он вернет отцу в собственность дом в Санта-Марте, лавку и шебеку «Чакона», стоящую сейчас на якоре в порту Картахены, и что по этому договору любые долги и обязательства моего отца перед Мельхором, если таковые появятся, будут аннулированы. В случае, если я не получу этого договора, Родриго из Сории расскажет о торговле Мельхора и его складах, что, без сомнения, забрызгает грязью и братьев Курво. Я хотела, чтобы нам дали отплыть из Картахены и позволили вести привычную спокойную жизнь торговцев, а при малейшей попытке причинить нам вред гарантировала, что всё рассказанное мной станет доступно публике, но мы лишь хотим, чтобы нас оставили в покое, и ожидаем того же и от братьев Курво — если они нас забудут, то мы забудем их. Когда я подписалась, уже начало светать, и я приказала спустить шлюпку и отправить в порт Хуанито, чтобы он вручил письмо братьям Курво лично в руки. Вернувшись, Хуанито рассказал, чего ему это стоило. В такой ранний час в этом роскошном доме слуги не желали будить хозяина, Ариаса Курво, чтобы перед ним предстал грязный чернокожий юнга. Выдержав целое сражение, Хуанито смог добиться своего и увидел, как побледнел Ариас, прочитав письмо. Хуанито просто вышвырнули на улицу, не удостоив и взглядом, и он вернулся на корабль. Остальное уже известно. Пока Родриго давал показания, ожидая моего сигнала, чтобы пролить свет на грязные трюки Мельхора и братьев Курво, я получила заверенный нотариусом договор и позволила Родриго на этом закончить показания. Выйдя из дворца, я отправила сообщение королю Бенкосу, что отец уже может возвращаться, мы добились желаемого. И вот, три дня спустя считающийся покойным Эстебан Неварес появился в Картахене на спине мула и заляпанный кровью. Кровь и правда была его собственной, потому что Бенкос и его люди, чтобы обман не раскрылся, перед отъездом устроили ему легкую взбучку с парой ударов хлыстом по второстепенным частям тела вроде ключиц и ягодиц. На Рождество девушкам борделя выпало много работы, но еще до окончания сухого сезона в новом, 1605 году, когда мы оправились от стольких событий, сначала неблагоприятных, а потом удачных, пришли важные новости. Во первых, говорили, что нападения на поселки после Рождества прекратились. Дону Херонимо пришлось унизительно признать, что постоянные поражения военных в битвах с Бенкосом — это не тот аргумент, с помощью которого он может убедить влиятельных горожан Картахены, что способен предотвратить грабежи и похищения, таких как похищение моего отца, или даже смерть, как угрожали беглые рабы. В жарком феврале, во время посещения Сандо в его поселке, где мы провели несколько дней, нам рассказали, что по окончании праздников Мельхор де Осуна отплыл обратно в Испанию на одном из посыльных кораблей Палаты по делам колоний. Похоже, как сообщали наши доверенные лица, братья Курво не имели представления о грязных делишках Мельхора, пока не получили мое письмо, и лишь тогда узнали, что их протеже тайком использовал сведения, которые они держали в таком секрете. Узнав, что родственник их обманывает и злоупотребляет доверием, Курво отняли у него всё, за исключением жизни, и силой посадили на корабль, чтобы тот вернулся в Севилью. На этом же корабле отправилось и письмо для Фернандо, где рассказывалось о случившемся, ему велели присмотреть за Мельхором, чтобы тот никогда не смог вернуться в Новый Свет. Как же мы обрадовались, узнав об этом! Но в тот год нас ждали и другие сюрпризы. В апреле Бенкос попросил нас привезти груз оружия и пороха, поскольку не доверял затишью и спокойствию губернатора, подозревая, что тот готовит большую атаку на поселения. Раз урожая табака не ожидалось раньше мая, я попросила отца, чтобы мы отплыли загодя, чтобы вернуться на мой остров. — Могу я узнать, какого дьявола ты там потерял? — серьезно спросил он. Я не рассказала ему об открытии, что сделала в ту ночь с Сандо и Франсиско поблизости от Мансанареса, о фразе «Я бы отдал всё за пиратскую пушку», так что теперь пришлось поведать ему всё. — Помнит ли ваша милость, — начала я, — ту старую историю о торговце из Маракайбо, который много лет назад нашел несколько зарытых на необитаемом острове старых бомбард, в которых обнаружил несметные сокровища, сделавшие его богатым человеком? Он рассеянно посмотрел на меня и поднял брови, словно не понимая, о чем речь. — Да, конечно. Это был Луис Тельес, житель Маракайбо. Но я не понимаю... — А известно ли вашей милости, что пираты прячут сокровища в старых негодных пушках на многих необитаемым островках в наших карибских водах? — Ну разумеется, да. — А знаете ли вы... — Хватит! — рассерженно рявкнул он. — Могу я узнать, о чем ты пытаешься рассказать? — Простите, отец. Я лишь хотел сказать, что на моем острове, в пещере, полной летучих мышей, за много месяцев до вашего прибытия я нашел четыре фальконета, скрытые под слоем покрывающего пол помета. Глаза отца сверкнули. — Четыре фальконета? — заинтересовался он. — Да, отец. Он тут же нахмурился. — И какое клеймо было выбито на дулах? — Никакого, отец. Или они были такими старыми, что оно стерлось. — Мартин! — довольно воскликнул он. — Ты нашел пиратские сокровища! — Я тоже так думаю, отец. — Так, значит, ты его не видел? — Нет, отец, не видел. Дула были забиты пометом, а тогда я не знал, что может скрываться внутри, и не посмотрел. Я совершенно окоченел и сильно ударился о фальконеты, так что упал, к тому же летучие мыши начали возвращаться. Поэтому я подумал, — заключила я, — что мы могли бы заглянуть на мой остров до того, как отправиться за табаком, и если там и вправду сокровища, мы купим оружие у Мушерона на обратном пути, не останавливаясь на плантациях. Даже сделавшись богачами, мы не могли бросить Бенкоса, если он попросил о помощи, ведь он не покинул нас, когда мы обращались за помощью к нему. — Так тому и быть! — согласился отец. — Но ты должен знать, что по возвращении из плавания я хочу отойти от дел. Я в последний раз отправлюсь на «Чаконе» в качестве капитана. Я онемела от удивления. — Я стар, Мартин, — объяснил он, выглянув в окно кабинета, в котором мы сидели. — Скоро мне исполнится шестьдесят пять лет. В моем возрасте не следует командовать кораблем, — он немного помолчал, а потом рассмеялся. — Это уж точно, ни одного капитана моего возраста не сыщешь! В общем, я хотел сказать, мальчик мой, что возлагаю заботы о «Чаконе» на тебя. Хочу, чтобы ты стал ее капитаном. — Капитаном «Чаконы»? — еле выговорила я. — А почему же нет? Ты мой законный сын, хороший моряк и торговец, ты сообразителен, как прекрасно это показал, и честен, как никто другой. Так какие еще нужны добродетели? Я задумчиво замолчала. — Единственная добродетель, которой мне не хватает, отец, это быть мужчиной. Где это видано, чтобы кораблем управляла женщина? Отец рассердился. — Ты что, не можешь позабыть эту несчастную Каталину Солис? — воскликнул он, стукнув кулаком по столу, а потом фыркнул и снова посмотрел в окно. — Не можешь, правда ведь? — Не могу, отец. Я Каталина Солис, хотя имя для меня никогда не имело значения, но я женщина, и сменив одежду и документы, я всё равно не превратилась в вашего сына Мартина. Я женщина, отец, я Каталина, хоть и выгляжу как парень. Мы оба погрузились в печальное молчание. Он хотел иметь сына, а я упрямо называла себя женщиной. — Ладно! — рявкнул он, стукнув по столу еще раз. — Оставайся Каталиной! Но ты должна знать, что были и другие женщины, управляющие кораблями, более того, адмиральши, командующие целым флотом его величества. Я открыла рот от изумления. — Ты никогда не слышал о донье Исабель Баррето, супруге дона Альваро де Менданьи, первооткрывателя Соломоновых островов, которая была адмиралом и первой обнаружила множество островов? Десять лет назад, после смерти ее мужа во время плавания, она переоделась в его платье, взяла его оружие и повела галеоны на Филиппины, причем даже сама держала румпель во время шторма. Что скажешь, а? И она не единственная, уверяю тебя. Есть и другие, менее известные, поскольку занимали не такое высокое положение. Так значит, я не единственная нахожусь в таком безумном положении? Адмиральша флота его величества! Вот кем я хотела бы стать! Так я и заявила отцу, и теперь он разинул рот от изумления. — А до тех пор, может, тебя устроит позиция капитана «Чаконы»? — Разумеется, отец. — Так тому и быть! — воскликнул он, поднимаясь, чтобы меня обнять. Мы отчалили на следующей неделе и через пятнадцать дней плавания Гуакоа провел «Чакону» через гряду рифов, окружающих тихие лазурные воды моего острова. Мы бросили якорь и высадились в шлюпке на пляж. В моей памяти не сохранилось почти ничего из прошлого. Моя жизнь началась в тот день, когда я прибыла на этот белый пляж на борту стола-шлюпки, и вернувшись сюда, я почувствовала, будто вернулась домой, что этот остров — мой потерянный дом. Мы поднялись на холм и добрались до ближайшей к моей хижине заводи. Хаюэйбо, бывший ловец жемчуга из Кубагуа, вызвался меня сопровождать. По всей видимости, он сомневался в моей способности набрать достаточно воздуха в легкие, но я скоро показала, что он ошибся. Мы добрались до пещеры летучих мышей одновременно, и при всем своем опыте он дольше пытался отдышаться. Старинные фальконеты по-прежнему лежали там. Хаюэйбо палкой вспугнул омерзительных животных, свисающих с потолка, а я тем временем вытаскивала помет, забивший дула пушек. Я не поверила своим глазам, когда очистила первую. А в особенности, когда опустошила вторую. Что уж говорить про третью и четвертую: золотые серьги с жемчугом, гранатовые ожерелья, медальоны, золотые цепочки, браслеты с кораллами, золотые булавки и кольца с изумрудами, прекрасные столовые приборы из золота с инкрустацией драгоценными камнями, пятьдесят или шестьдесят золотых слитков и десять или пятнадцать серебряных, а еще дублоны и дукаты, заполняющие пустоты. Целое состояние. Капитан или адмирал, но всю оставшуюся жизнь я буду очень богата, поскольку, как заявил мне отец, предупредив об этом и других членов команды, всё найденное в фальконетах будет принадлежать только мне. Мы с Хаюэйбо несколько раз пересекли связывающий пещеру с заводью тоннель, пока не вытащили все сокровища. Остальные, как ни пытались, не могли оставаться без воздуха столько времени, чтобы добраться до цели. Всё сложили в мою каюту, таково было желание отца, этим он хотел показать, что ничего не достанется ни ему, ни остальным, но я всё же разделила дублоны на всех, выдав каждому сумму согласно рангу, чтобы не возникли споры. Расставаясь с моим островом, я плакала, как плакала в тот день, когда покидала Севилью и Испанию, уверенная, что мне не суждено вернуться. Этот клочок земли, затерянный в океане, дал мне так много, не только сделал меня сильной и независимой, но и превратил в богатейшего на Твердой Земле человека. Опираясь руками о борт корабля, я смотрела, как остров уменьшается на горизонте, пока совсем не исчез. На «Чаконе» царило безудержное веселье, мои товарищи жаждали поскорей явиться в первый же порт, чтобы потратить дублоны на свои прихоти. Они чувствовали себя такими же богачами, как и я, но, похоже, стремились избавиться от денег, потратив их на увеселения и пирушки. Однако на Маргарите нас с отцом поджидал другой сюрприз. Как обычно, когда мы там причаливали, я осталась на борту, чтобы избежать риска столкнуться со своим дядей, таким образом я оказалась на корабле одна, пока остальные спустились на берег, чтобы повеселиться. Примерно около полуночи шлюпка с командой вернулась. Почти все были пьяны, а их карманы опустели, но все были счастливы и довольны. Поднявшись на борт, отец схватил меня за руку и потащил в свою каюту. — Доминго Родригес мертв! — воскликнул он, не успев толком закрыть дверь. Полусонная, я не сразу его поняла. — Ты овдовела! Ты что, не слышишь меня? Твой кошмарный муж мертв! Оказывается, во время эпидемии оспы, обрушившейся на остров в прошлом году, когда мы плавали в поисках последнего табака по всем Карибам, мой муж, Доминго Родригес, скончался от этой болезни. И он оказался не единственным умершим членом семьи, поскольку дядя Эрнандо тоже скончался, как и его партнер и мой свекр Педро Родригес. — Ты наследница своего дяди и супруга! — объяснил мне отец. — Начиная с прошлого сентября латунная мастерская принадлежит тебе. Мне сказали, что в живых не осталось ни одного члена семьи, и поэтому в этом году ее продадут на торгах. Что ты намерена делать? Ошеломленная этой новостью, я пыталась пробудить разум, чтобы ответить отцу. Если я снова стану Каталиной Солис, то смогу остаться на Маргарите, занявшись латунным производством, и вести мирную и обычную жизнь богатой вдовы, если же останусь Мартином, то могу стать капитаном и адмиралом. Весьма сложное решение в такое время суток. На меня нашло какое-то наваждение, потому что тогда мне казалось вполне разумным, что я смогу совместить и то, и другое. Почему бы нет? У меня бы получилось. У меня имелись документы Каталины и документы Мартина. Почему бы не использовать обе мои личины? — Да это просто безумие, — заявил отец, когда я ему рассказала. — А разве не ваша милость подкинули мне эту идею, когда усыновили два года назад? — Я? — удивился он. — Припомните, отец, у меня ведь хорошая память. В тот день, когда вы объявили, что усыновили меня, прежде чем выйти из комнаты, вы весело рассмеялись и сказали, что хотели бы дожить до того дня, когда я стану пользоваться обоими именами по своему выбору. Разве это не так? — Так, — хмыкнул он, и по его лицу я поняла, что эта двойная игра его искушает и веселит. Как и меня. Почему бы нет? Мы добрались до полуострова Арайя, еще не зная, что этот раз станет последним, когда мы видимся с фламандцами, потому что еще до конца года, в ноябре, несколько военных галеонов, известных под именем Армада океанских морей, напали на Арайю, застав всех врасплох, изгнали оттуда добытчиков соли, торговцев и гукоры и покончили с Мушероном и многими другими. Мушерона казнили за пиратство, а мы и не возражали. Сожалели ли мы о его смерти? Не знаю, мне кажется, что нет, хотя в тот же день, загружая на корабль оружие, мы еще совершенно не представляли, чем всё закончится. Мушерон обращался с нами без какого-либо уважения, и увидев, что мы не привезли табак, разорался как бешеный, но был изумлен, когда мы показали ему драгоценности, которыми собираемся расплатиться. Сияние золота и драгоценных камней погасило его возмущение и запечатало рот. Немного погодя мы вручили оружие Бенкосу в устье реки Магдалена, хотя на сей раз нас поприветствовал Сандо, когда мы сошли на берег. Впервые с ним не было короля Бенкоса. — Отец тайно встречается с доном Херонимо де Суасо, губернатором Картахены, — объявил Сандо с очевидной гордостью. — Король Бенкос в Картахене? — поразилась я. — Нет, братец Мартин, отец не такой дурак. Он уже во второй раз встречается с доном Херонимо посреди джунглей, между болотами, и место выбирают и согласовывают оба, чтобы обеспечить собственную безопасность. — Так значит, — довольно заметил отец, — они пришли к соглашению. — Похоже на то, сеньор Эстебан. Хотя есть один пункт, по которому они никак не могут прийти к соглашению. Губернатор готов пойти на всё, но только не обращаться с моим отцом по-королевски, как он того требует. Говорит, что на одной территории не может быть двух королей, а Филипп III — единственный король на этой земле. Если отец отступится, а он ни под каким видом на это не идет, то для наших поселений настанет мир. — Неужели он не может отказаться от титула короля ради жизни своих подданных?— удивилась я. Лицо Сандо приняло скучающее выражение. — В Африке он был королем, братец! — воскликнул он, раздраженно фыркнув и оглядывая своих людей, складывающих оружие и порох в каноэ, которые затем направлялись вверх по Магдалене. — С самого рождения я от него ни о чем другом и не слышал. Никто не заставит его отречься. Но всё же мне почему-то кажется, что он об этом подумывает. Надеюсь, он так и поступит. — И я надеюсь, — сказал мой отец. В понедельник, двадцать восьмого июля 1605 года, Бенкос Бьохо, известный также как Доминго Бьохо, король беглых рабов Твердой Земли, свободно вошел в Картахену, чтобы подписать соглашение о мире, которое, кроме всего прочего, делало законными поселения беглых рабов, предоставляло им всем свободу и, что самое важное, позволяло Бенкосу одеваться как благородному испанцу. Он отказался от своего титула короля, но не от уважения, которое заслуживал правитель, и не от чувства собственного достоинства. Проведя несколько недель в Санта-Марте за долгими беседами с отцом и матушкой, которая, конечно же, не могла не вмешаться в такое важное решение, много гуляя вдоль Мансанареса и посвятив много часов чтению, я задумала следовать принятому на Маргарите решению: стать и Мартином и Каталиной одновременно. Я заявлю о своих правах на латунную мастерскую (сказав, что провела много лет на необитаемом острове, после чего меня спас торговец), обоснуюсь там, в доме покойного дяди, и стану Каталиной Солис, юной вдовой двадцати трех лет. Когда я буду посещать Санта-Марту или плавать на «Чаконе» вместе с ее командой, я останусь Мартином Неваресом, молодым человеком чуть моложе двадцати. Причин для такой неслыханной дерзости было множество, но самыми весомыми для меня оказались две: во-первых, отец хотел иметь сына Мартина, наследника и продолжателя благородного рода, который позаботится о его имуществе и большой семье, когда его не станет. Лишь так он может упокоиться с миром, сказал отец. Во-вторых, я хотела вернуть собственную личность, хотела перестать быть Мартином, хотя бы время от времени ощущать себя Каталиной, женщиной, лишь так я могла чувствовать себя хорошо, хотя и ненавидела унизительное и рабское положение, в котором пребывали женщины. Я нуждалась в свободе Мартина и сущности Каталины. Чего бы мне это ни стоило, я стану двумя одновременно. Чего я не могла предугадать в 1605 году, когда приняла свое решение, что и Мартин, и Каталина обретут широчайшую известность во всем Новом Свете, что Мартин будет управлять пиратским кораблем, а Каталина... Хотя нет, больше ни слова. Ведь это уже другая история.
Даниэль Дефо Жизнь и пиратские приключения славного капитана Сингльтона ***
Великие люди, чьи жизни замечательны и деяния требуют передачи потомству, обычно много рассказывают о своем происхождении, дают подробные отчеты о своих семьях и об историях своих предков, и я, чтобы быть точным, также последую их примеру, хоть родословная моя очень короткая, как вы сами сейчас увидите. Если верить женщине, которую я привык называть матерью, то меня, маленького мальчика двух примерно лет и очень хорошо одетого, чудесным летним вечером нянька вынесла однажды на поле к Ислингтону *["464], чтобы, как она говорила, ребенок подышал свежим воздухом; ее сопровождала соседка, двенадцати или четырнадцатилетняя девочка. Нянька — по условию или случайно — встретилась с парнем, вероятно, своим возлюбленным; он увел ее в кабачок угостить пивом да пирожным; а покуда они забавлялись внутри, девочка держала меня на руках и прогуливалась в саду и у дверей, то на виду, то отходя подальше, ничего не подозревая дурного. Тут подошла женщина, которая, видно, занималась воровством детей. Такое дьявольское занятие было тогда не редкостью: воровали хорошо одетых маленьких детей, или же детей побольше, для продажи на плантации. Женщина взяла меня на руки и стала целовать и играть со мной. Она увела девочку довольно далеко от дома и рассказала целую историю, попросила ее пойти сказать няньке, где и с кем ребенок; что знатной даме понравился ребенок, и она с ним играет и целует его; что бояться нечего, что они здесь недалеко. Когда же девочка ушла, то она меня утащила. Затем меня продали нищенке, которой нужен был хорошенький ребенок, а потом цыганке, у которой я и был лет до шести. Хотя с этой женщиной и таскался я из одного конца страны в другой, но не нуждался ни в чем и звал ее матерью; она же сообщила мне, что она мне не мать, а купила меня за двенадцать шиллингов у другой женщины, которая рассказала, где достала меня, и сообщила ей мое имя: Боб Сингльтон. Добрая моя мать, цыганка, наверное, потом за какие-нибудь художества попала на виселицу; так как я в то время был слишком мал, чтобы нищенствовать, то приход (какой — я этого не помню) взял меня на свое попечение. У меня осталось в памяти, как я ходил в приходскую школу и как благочинный убеждал меня быть хорошим мальчиком; что хотя, мол, я и бедный мальчик, но, если я буду знать катехизис *["465] и служить Богу, то могу сделаться хорошим человеком. Думаю, что я часто кочевал из города в город, так как приходы спорили о том, где было последнее местопребывание моей предполагаемой матери. Последний город, где я жил, находился недалеко от моря. Там я понравился одному корабельщику, который отвез меня в местечко недалеко от Саутгэмптона. Это был, как я потом узнал, Бэсльтон; там помогал я плотникам и всякому люду, строившему для него корабль. А потом, хотя мне не было и двенадцати лет, он увез меня с собой в путешествие на Ньюфаундленд. *["466] Жилось мне неплохо, хозяину я полюбился так, что он называл меня своим мальчиком; я бы называл его отцом, да он запретил, потому что у него были собственные дети. Я совершил с ним три или четыре поездки и стал рослым и дюжим юнцом, но однажды, при возвращении с ньюфаундлендских отмелей, мы попались алжирскому *["467] разбойничьему военному кораблю. Если не ошибаюсь, это случилось в 1695 году, но точно не помню, так как журнала я, понятно, не вел. Хозяина моего турки прикончили, меня же пощадили, только избили беспощадно палками по пяткам, да так, что я несколько дней не мог ни ходить, ни стоять. Но счастье улыбнулось мне. Ведя на буксире *["468] призом *["469] наше судно, турецкий *["470] корсар *["471] на пути к Гибралтару *["472], в виду Кадикского *["473] залива, встретил два больших португальских *["474] военных корабля, был захвачен и отведен в Лиссабон. *["475] Я не понимал, какие последствия могло иметь мое пленение, и поэтому не очень обрадовался освобождению. Да настоящим освобождением для меня оно и не было, так как я голодал в чужой стране, где я не знал никого и не мог ни слова сказать на тамошнем языке. Когда же всех наших отпустили, куда кто хочет, я, так как мне идти было некуда, оставался еще несколько дней на корабле, покуда не заметил меня один из офицеров и не осведомился, что делает здесь этот английский щенок и почему его до сих пор не согнали на берег. Я догадался, о чем он говорит, и испугался, так как не знал, чем я буду добывать себе пропитание. Тогда корабельный лоцман *["476], старый моряк, говоривший на ломаном английском языке, забрал меня с собой. Прожил я с ним около двух лет, покуда он не покончил своих дел и не поступил старшим лоцманом, или рулевым начальником, к дону Гариса де Пиментесиа де Карравалльяс, капитану португальского галлеона *["477] или каррака *["478], направляющегося в Гоа *["479], в Ост-Индию *["480]. Получивши назначение, он взял меня на судно, чтобы я следил за его каютой, которую он нагрузил настойками, наливками, сахаром, пряностями и другими запасами для услаждения в пути, а, кроме того, порядочным количеством европейского товара: тонким кружевом, полотном, бязью, шерстяной тканью и тому подобным, под видом собственной одежды. Я слишком мало смыслил в деле, чтобы вести путевой журнал, хотя мой хозяин — для португальца он понимал дело хорошо — уговаривал меня заняться этим. Но мне мешало мое незнание португальского языка; по крайней мере, так я оправдывался. Впрочем, скоро я стал заглядывать в его карты и записи. И так как писал я неплохо, знал немного латынь, то скоро стал разбираться в португальском языке и получил поверхностные познания в навигационном деле *["481], недостаточные, впрочем, для такой полной приключений жизни, как моя. В общем, в плавании с португальцами я научился кое-чему, главным же образом научился быть бродячим вором и плохим моряком; а смею сказать, что во всем мире для обоих этих дел не сыскать учителей лучше португальцев. Но по пословице: с волками жить — по-волчьи выть — я приспосабливался к ним, как мог. Хозяин мой разрешил, чтобы я прислуживал капитану. Так как за мою работу капитан положил хозяину полмойдора *["482] в месяц и занес в корабельные книги, я и ожидал, что в Индии, когда заплатят жалованье за четыре месяца, мой хозяин даст что-нибудь и мне. Но он, видно, решил иначе. Когда я в Гоа, где уплатили жалованье, заговорил с ним об этом, то он разъярился, назвал меня английской собакой, молодым еретиком и пообещал выдать инквизиции *["483]. Тогда я решил бежать от него, но это было невозможно, потому что в порту не было ни одного европейского судна, а только два или три персидских корабля из Ормуза *["484], так что, убеги я от него, он захватил бы меня на берегу и силой привел бы на борт; приходилось терпеть до поры, до времени. Но он так плохо обращался со мной, так бил и мучил меня за каждый пустяк, что, словом, мне стало невмоготу. Жестокое обращение и невозможность бежать заставили меня придумывать всякого рода злодейства, и, наконец, убедившись в бесплодности этого, я решил убить его. С этой дьявольской мыслью я проводил ночи и дни, стараясь привести ее в исполнение. Но я не мог совершить убийства, так как у меня не было ни пистолета, ни сабли; думал я и о яде, но не знал, где достать его; а если бы и знал, то не сумел бы спросить на чужом языке. Об обратном плавании я ничего рассказать не могу, так как журнала я не вел. Помню, что у мыса Доброй Надежды *["485] мы были остановлены яростной бурей с западо-западо-юга *["486], шестеро суток гнавшей нас на восток, покуда через несколько дней мы не бросили, наконец, якоря у берегов Мадагаскара *["487]. Тут среди экипажа вспыхнул бунт *["488] из-за какой-то нехватки в пайке, и дошло до того, что мятежники угрожали высадить капитана на берег и увести корабль назад, в Гоа. Я от всего сердца желал этого, потому что был озлоблен. Хотя я был еще, по их словам, мальчиком, но я разжигал мятеж, как мог, и так открыто примкнул к нему, что еле избежал повешения, ибо капитан заметил, что кто-то из шайки решил убить его. И вот, действуя подкупом и обещаниями, а также угрозами и пытками, он склонил двух парней к откровенности и, выпытывая у них имена, хватал людей. Так как один выдавал другого, то в кандалы попало не менее шестнадцати человек, в том числе и я. Капитан, разъяренный опасностью, решил очистить корабль от своих врагов, судил нас, и мы были приговорены к смерти. Я был слишком молод, чтобы разобрать, как шел суд. Но судовой комиссар *["489] и один из пушкарей были повешены немедленно, и я ожидал того же и для остальных. Впрочем, я не особенно этим огорчался. Однако капитан ограничился казнью двоих, а остальных, ввиду их просьб и обещаний исправиться, помиловал, но некоторых, в том числе и меня, приказал высадить на берег *["490] и там оставить. Был я парень молодой, всего лет семнадцати или восемнадцати. Однако, узнавши, что мне предстоит, я не растерялся и спросил, что сказал на это мой хозяин, и услышал, что он пустил в ход все свое влияние, чтобы спасти меня, а капитан отвечал, что предоставляет на его усмотрение, сойти ли мне на берег, или же оставаться на судне и быть повешенным. Тогда я оставил всякую надежду на помилование. Я не очень был благодарен хозяину за его просьбы обо мне, зная, что он заботится не обо мне, а о себе самом, желая сохранить мое жалованье, около шести долларов *["491] в месяц, включая и те деньги, что капитан положил за мое прислуживание лично ему. Узнав, что мой хозяин так добр наружно, я спросил, нельзя ли мне с ним поговорить; мне сказали, что можно, если он сойдет ко мне, но мне нельзя пройти к нему; тогда я попросил сказать хозяину, чтобы он пришел ко мне, и он пришел. Я упал перед ним на колени и просил прощения за все проступки; чуть было уже не сознался в намерении убить его, но благоразумно воздержался от этого. Он сказал, что старался добиться прощения у капитана, но неудачно, и мне остается покориться судьбе; если же ему у мыса Доброй Надежды придется встретиться с каким-нибудь португальским кораблем, то он попросит капитана того корабля подобрать нас. Тогда я попросил отдать мне мою одежду. Он сказал, что боится, что она принесет мне мало пользы, так как не знает, как проживем мы на острове: он слыхал, что обитатели его — каннибалы, или людоеды (хотя это утверждение было безосновательно), и что нам среди них не выжить. Я отвечал, что боюсь не этого, а голодной смерти; а что до каннибалов, то скорей мы их съедим, чем они нас, только бы нам до них добраться, Но меня удручает, — сказал я, — что оружия у нас нет и нечем защищаться, и я прошу дать нам мушкет *["492], саблю, пороха и пуль. Он улыбнулся и сказал, что это не поможет, так как вряд ли мы уцелеем среди многочисленного дикого племени, населяющего остров. Я ему ответил, что он хоть тем облегчит нашу участь, что нас убьют и съедят не сразу, и очень просил дать мушкет. Наконец он сказал, что не знает, позволит ли ему капитан дать мне мушкет, а без разрешения он не смеет, но обещал постараться получить это разрешение; он добился его и на следующий день прислал для меня мушкет и припасы к нему, но сказал, что капитан не позволит выдать нам их, покуда нас не высадят на берег и не начнут ставить паруса. Он прислал мне также мою одежду. Два дня спустя нас высадили на берег; остальные мои товарищи, услышавши, что я получил мушкет, порох и пули, попросили себе того же. Просьба их была уважена, и нас оставили на берегу на произвол судьбы. Судно провело еще недели две в тех краях, исправляя повреждения после последней бури и набирая топливо и воду; и все это время лодка часто ходила на берег, привозя нам всякую еду, и туземцы, думая, что мы — люди с корабля, вели себя мирно. Жили мы на берегу в шалаше, который сложили из ветвей, а на ночь уходили в ближайший лес, чтобы туземцы думали, что мы на корабле. Скоро мы обнаружили, что они свирепы и коварны и сдерживаются лишь из страха, и мы боялись, что, как только корабль уйдет, мы попадемся им в руки. Мысль об этом доводила товарищей моих по несчастью чуть не до помешательства; и один из них, плотник, в припадке безумия, ночью подплыл к кораблю, стоявшему в лиге *["493] от берега, и так жалобно молил, чтобы его взяли на борт, что капитан наконец разрешил подобрать его, после того, как пловец промаялся три часа в воде. Как только его доставили на палубу, он стал просить капитана и остальных офицеров за нас, оставшихся на берегу, но до последнего дня капитан был неумолим. Когда же, наконец, стали готовиться к подъему парусов и был отдан приказ поднять шлюпку на палубу, все моряки явились на шканцы *["494], где гулял капитан с несколькими офицерами, и боцман*["495] вышел вперед и, упавши на колени перед капитаном, попросил подобрать всех четырех, предлагая либо возложить на него ответственность за их поведение, либо держать их в цепях до Лиссабона и там выдать правосудию, но только не оставлять их на верную смерть. Капитан не обращал внимания на моряков, приказал арестовать боцмана и пригрозил поставить его за такие речи к кабестану *["496]. Тогда один из моряков, посмелее остальных, все еще сохраняя должное почтение к капитану, попросил у его чести — так он назвал капитана — разрешить желающим сойти на берег и умереть с товарищами или, если возможно, помочь им сопротивляться дикарям. Капитан, не успокоенный, но еще более разозленный этим, подошел к перилам шканцев и сдержанно обратился к команде (если бы он говорил грубо, то корабль покинуло бы две трети команды, а может быть, и весь экипаж). Он сказал, что поступил так сурово не столько для своей, сколько для их безопасности; что мятеж на борту судна — то же, что измена во дворце, и, будучи ответственен перед своими хозяевами, он не может допустить ко вверенным ему судну и грузу людей, питавших гнусные замыслы; что он сам желал бы высадить их на берегу там, где они подвергались бы меньшей опасности от дикарей; что он мог бы, если бы хотел, казнить их на берегу, как двух первых; что хотел бы выдать их гражданскому суду или покинуть среди христиан, но все же лучше подвергнуть опасности их, нежели все судно, и что он не примет их на борт, хотя бы остался на корабле один. Речь была настолько хорошо сказана, так последовательна, горяча и заканчивалась таким решительным отказом, что на время удовлетворила большинство экипажа. Все же моряки не успокаивались несколько часов, — сходились по несколько человек и перешептывались; под вечер ветер упал, и капитан распорядился не поднимать якоря до утра. В ту же ночь двадцать три человека, в том числе младший пушкарь, лекарский помощник и два плотника, заявили, что они пойдут умирать с товарищами; что в подобных условиях меньшего сделать нельзя; что единственный способ спасти их жизнь — в том, чтобы увеличить их число, так, чтобы они могли обороняться от дикарей до тех пор, покуда не смогут возвратиться на родину. Согласно с этим за час до рассвета все двадцать три, захвативши по мушкету, по тесаку, по несколько пистолетов, три алебарды *["497] и добрый запас пороха и пуль, но без съестных припасов, кроме полусотни хлебов, зато со всем своим добром: сундуками и одеждой, орудиями, инструментами, книгами и так далее, погрузились в лодку так тихо, что капитан заметил это лишь тогда, когда они были на полдороге от берега. Итак, у нас составился порядочный отряд в двадцать семь хорошо вооруженных человек. У нас было все, кроме съестных припасов. Среди нас было два плотника и пушкарь и, что важнее всего, лекарь или врач, который состоял лекарским помощником в Гоа и причислен был на судне сверхштатным. Плотники захватили с собой все свои орудия, лекарь — все свои инструменты и лекарства, и у нас оказалось много поклажи, хотя у многих не было ничего, кроме одежды, как, например, у меня. Так как нас, как я сказал, было достаточно для того, чтобы защищаться, то мы сразу же дали друг другу клятву не расставаться ни при каких обстоятельствах, но жить и умереть вместе; делить все съестное поровну; подчиняться во всем решениям большинства; избрать капитана и повиноваться ему под угрозой смерти, однако капитан не должен предпринимать ничего без решения большинства. Выработавши эти правила, мы решили раздобыть пищи и устроить доставку ее туземцами. Оказалось, что они не очень заботятся или волнуются о нас. Они даже не попытались проверить, здесь ли мы или уехали с судном, которое утром, после того, как мы вернули баркас, взяло курс на юго-восток и через четыре часа скрылось из виду. На следующий день двое пошли в одном направлении осматривать местность, а двое в другом. Мы скоро узнали, что местность приятная и плодородная, и, в общем, здесь можно хорошо жить; только населяют ее какие-то почти не похожие на людей существа, с которыми нельзя войти ни в какие сношения. Мы обнаружили, что местность богата скотом, но не знали, можно ли им воспользоваться. И хотя нам очень нужна была еда, но никто не хотел накликать на нас целое племя чертей, и потому некоторые решили попытаться, если удастся, сговориться с туземцами, чтобы выяснить, как с ними держаться. Выслали одиннадцать хорошо вооруженных человек. Они сообщили, что встретили туземцев, которые держались предупредительно, но робко и испуганно, увидавши мушкеты; так что нам стало ясно, что туземцы знают, что такое мушкеты и зачем они служат. Наши знаками попросили пищи, и туземцы принесли травы, коренья и молоко; но очевидно было, что они хотят продать, а не отдать, и знаками спрашивают, что наши дадут в обмен. Это поставило наших в тупик, потому что выменивать им было не на что. Один из наших вытащил нож и показал им, и те обрадовались так, что готовы были перегрызться из-за ножа. Моряк, видя это, решил продать нож подороже; они долгое время торговались, одни предлагали кореньев, другие — молока; наконец один предложил козу, на что моряк согласился. Тогда другой моряк показал им нож, но за него никто ничего не мог предложить, и, наконец, один из них объяснил знаками, что кое-что принесет. Наши ожидали три часа, покуда те не вернулись обратно, ведя с собой низкорослую, толстую, жирную и вкусную корову, которую отдали ему за нож. Обмен был выгодный, но, к несчастью, товара у нас не было. Ведь ножи были нам нужны так же, как и им, и наши люди не расстались бы со своими ножами, не будь у нас такой крайности с пищей. Как бы то ни было, вскоре мы обнаружили, что леса полны дичи, которую мы можем убивать, не ссорясь с туземцами. Мы целыми днями ходили на охоту и всегда приносили что-нибудь с собой. Обмениваться же с туземцами нам было нечем. А на бывшие у нас деньги мы долго не просуществовали бы. Мы созвали общий совет, подсчитали и сложили вместе все наши деньги. Но и деньги принесли нам мало пользы, потому что племя не знало ни цены их, ни назначения и не умело сравнивать золото с серебром. Так что все наши деньги, которых и в общей сложности было немного, были бесполезны, то есть не годились на то, чтобы купить съестного. Мы не знали, как и куда уйти из этого проклятого места; совещание порешило, что раз с нами два плотника с полным набором инструментов, то мы должны постараться соорудить лодку и отправиться в Гоа или высадиться в каком-нибудь более подходящем месте. Разговоры на той сходке были малозначительны, но явились как бы введением ко многим более замечательным приключениям, происшедшим в тех краях под моим руководством много лет спустя, поэтому полагаю, что не лишенным занимательности будет этот прообраз моих грядущих предприятий. Я не возражал против постройки лодки, и мы немедленно взялись за работу. Но сразу же возникли большие затруднения; не было пил, чтобы выпиливать доски; гвоздей, болтов и скоб, чтобы скреплять части; дегтя, вара и смолы, чтобы крепить и смазывать швы и тому подобное. Наконец один из нас предложил, вместо того, чтобы строить барк *["498], или шлюп *["499], или шалуп *["500], что трудно, сделать большую пирогу *["501], или каноэ *["502], что очень легко. На это возражали, что нам никогда не удастся сделать достаточно большое каноэ для переезда через океан; что идти нам нужно к Малабарскому *["503] побережью; что каноэ не только не перенесет морского перехода, но и груза не выдержит. Ведь нас двадцать семь человек, поклажи много, да еще придется взять съестные припасы. Я на сходках обычно не говорил, но на этот раз, видя, что они не знают, какое судно лучше построить и как строить его, и что нам годится, я заявил, что они все заблуждаются. До Гоа на Малабарском побережье в каноэ не доплыть, так как каноэ хоть и вместит нас всех и вынесет морской переход, но не подымет наших запасов, особенно воды. Пускаться на такое приключение — значит идти на верную смерть. И все же я стоял за каноэ. Они отвечали, что все, мною сказанное, и так ясно, но им непонятно, чего я добиваюсь, говоря сперва о том, как опасно плыть в каноэ, а потом, советуя строить его. На это я отвечал, что дело наше вовсе не в том, чтобы совершить в каноэ все путешествие. Ведь на море не одно наше судно, а на берегах живут племена, хотя и дикие, но в чем-нибудь выходят же они в море. А потому наше дело — плыть вдоль острова и захватить первое судно, которое только окажется лучше нашего, а потом — следующее. И так, авось, мы доберемся до хорошего корабля, который доставит нас куда угодно. — Прекрасный совет! — говорит один. — Превосходный совет! — говорит другой. — Да, да, — говорит третий (это был пушкарь), — английский пес дал прекрасный совет, но это прямой путь на виселицу. Негодяй дал нам чертовский совет заниматься воровством, покуда от маленького суденышка мы не доберемся до большого корабля, и так мы сделаемся заправскими пиратами *["504], конец которым виселица. — Называй нас пиратами, если хочешь, — говорит другой, — и, конечно, если мы попадем в дурные руки, с нами и расправятся, как с пиратами. Но мне наплевать. Я буду пиратом, да и чем угодно. Ей-богу, лучше повиснуть, как пирату, чем подыхать здесь с голоду. Я считаю, что совет правильный. И все закричали: — Давай каноэ! Пушкарь подчинился большинству. Но когда совещание окончилось, он подошел ко мне, взял за руку, поглядел серьезно на ладонь, на лицо *["505] и заговорил: — Парень, ты рожден, чтобы натворить гору бед. Рано ты начинаешь пиратствовать. Но берегись виселицы, молодой человек. Берегись виселицы, говорю, потому что ты станешь выдающимся вором. Я рассмеялся и ответил, что не знаю, кем стану, но пока положение наше такое, что я без зазрения совести заграбастаю первое попавшееся судно, лишь бы выбраться на свободу. Только бы попалось судно и только бы добраться до него. Во время этого разговора один из наших, стоявших у дверей хижины, услыхал, как плотник крикнул с холма в отдалении: «Парус! Парус!» Мы тут же все выбежали. Но хотя даль и была ясная, мы не увидели ничего. Однако плотник продолжал кричать нам: «Парус! Парус!» Мы выбежали на холм и оттуда отчетливо увидали корабль. Только он находился на очень далеком расстоянии, слишком далеком, чтобы мы могли подать сигнал. Как бы то ни было, мы развели на холме костер, навалили дров, сколько удалось собрать, и дымили, что только было возможности. Ветер спал, и было почти тихо. Тем временем пушкарь увидал в подзорную трубу, что корабль, распустивши паруса под норд-остом, не обращая внимания на наш сигнал, повернул к мысу Доброй Надежды, так что утешения в том корабле для нас не было. И потому мы немедленно принялись делать наше каноэ. Выбрав большое дерево, какое нам понравилось, мы принялись за него. В нашем распоряжении было три добрых топора, с помощью которых нам удалось свалить его, правда, после четырехдневной непрерывной работы. Я не помню теперь, какой породы было это дерево, и каких размеров, но помню, что было оно огромное, и что, когда мы спустили его на воду и оно поплыло ровно, не переворачиваясь, мы обрадовались, как не радовались бы, пожалуй, если бы получили настоящий военный корабль. Каноэ оказалось таким большим, что легко подняло нас всех и могло бы вынести еще две-три тонны груза. Мы стали даже раздумывать о том, не идти ли морем прямо на Гоа, но нам пришлось отказаться от этого намерения по многим причинам. Так, нам не хватило бы съестных припасов и не было бочек для свежей воды; не имели мы и компаса, а также необходимого прикрытия на случай непогоды или чрезмерного солнца и тому подобное. Таким образом, все охотно согласились с моим предложением покрейсировать поблизости и посмотреть, что из этого выйдет. Итак, чтобы потешиться, мы однажды все вместе вышли в море в нашем каноэ и чуть было не погибли совсем. Мы прошли не более полулиги от берега, как вдруг поднялось изрядное волнение, — хотя и без большого ветра, — и наше каноэ так закачалось, что мы были уверены, что оно перевернется. Мы дружно принялись гнать его к берегу. Постепенно оно пошло ровнее, и после немногих хлопот нам удалось причалить его. Так оказались мы в весьма бедственном положении. Правда, туземцы относились к нам довольно хорошо и часто приходили побеседовать с нами. Один из наших, то ли точильщик, то ли токарь, спросил раз плотника, нет ли у него напильника. — Есть, — отвечает плотник, — только маленький. — Чем меньше, тем лучше, — говорит тот. Тут же он берется за работу: на огне кует кусок старого сломанного долота, а затем напильником делает себе нужные инструменты. Потом берет три или четыре монеты, молотом расплющивает их на камне и выделывает из них фигуры птиц и зверей, цепочки для запястий и ожерелий и выдумывает еще многое другое, что и не перескажешь. Недели две он занимался выделкой таких изделий, и тогда мы убедились в успешности его выдумки. Когда туземцы вновь явились к нам в гости, мы были поражены блажью этих простаков. За кусочек серебра в форме птицы они нам давали две коровы, и для нас было бы выгоднее делать вещь из меди, так как тогда она ценилась бы дороже. За одно только запястье цепочкой мы получили всякого добра столько, что в Англии это стоило бы верных пятнадцать или шестнадцать фунтов *["506]. Монета стоимостью в шесть пенсов, превращенная в безделушки и украшения, стоила во сто раз более своей настоящей ценности, и за нее мы получали все, что угодно. Так прожили мы, примерно, год, но нам это так наскучило, что мы решили попытаться уехать, во что бы то ни стало. Мы устроили уже три добрых каноэ, и так как муссоны *["507] (или торговые ветры) дуют в этих краях шесть месяцев в одном направлении, а другие шесть месяцев — в обратном, то мы решили, что сумеем сносно управиться на море. Но каждый раз, когда мы принимались за дело, нас останавливало то обстоятельство, что нам не хватит пресной воды, ибо путешествие предстояло продолжительное, и ни один человек не смог бы проделать его без питья. Таким образом, раз благоразумнее было отказаться от мысли об этом путешествии, то нам оставалось еще два пути, а именно: либо пойти в обратном направлении, то есть на запад и добраться до мыса Доброй Надежды, где рано или поздно мы должны встретить португальские суда, либо же направиться к африканскому материку и затем или взять по суше, или же поплыть вдоль побережья до Красного моря *["508], где рано или поздно встретили бы корабль той или иной национальности, который подобрал бы нас, или мы взяли бы его, — как все время думалось мне. Это предложение внес наш изобретательный точильщик, которого мы прозвали «серебряных дел мастером». Но пушкарь сказал, что он бывал уже на малабарской шлюпке в Красном море и знает, что, если мы попадем туда, нас либо убьют арабы, либо захватят и обратят в рабство турки. Потому он возражал против этого пути. Тогда я воспользовался случаем, чтобы снова высказать свое мнение. — На каком основании, — сказал я, — говорим мы о том, что нас убьют арабы или обратят в рабство турки? Разве сами мы не можем взять на абордаж *["509] любое судно, какое только ходит в этих водах? Не они захватят нас, но мы их. — Ловко, пират, — сказал пушкарь (тот, который смотрел на мою ладонь и предсказал мне, что я попаду на виселицу). — Но по совести, и мне кажется, что это единственное, что нам осталось. — Нечего, — говорю, — толковать о пиратах. Мы и не только пиратами, а чем угодно станем, лишь бы убраться из этого проклятого места. Словом, все решили, по моему совету, поехать на розыски. — В таком случае, — обратился я к ним, — сперва мы должны узнать, знакомы ли с мореходством обитатели этого острова, и какие у них лодки. И если окажется, что лодки у них большие и лучше наших, — заберем их. Понятно, больше всего мы хотели достать парусное палубное судно, — лишь тогда мы могли бы сберечь наши припасы. К великому нашему счастью, один из наших оказался помощником повара. Он вызвался изобрести способ сохранить мясо без бочек и без засолки. И он добился своего, провяливши мясо на солнце в селитре, которой на острове оказалось премного. Таким образом, прежде, нежели нашли мы способ ехать, мы успели провялить мясо шести или семи коров и буйволов и десяти или двенадцати коз, и мясо это было так вкусно, что мы не давали себе даже труда варить его, а ели лишь провяленным. Однако главное затруднение — с пресной водой — оставалось, ибо не было у нас посудины даже для того, чтобы набрать ее, а не только, чтобы сохранить на время путешествия. Но, так как наш путь намечался вокруг острова, мы решили пренебречь этим обстоятельством, каковы бы ни были вытекающие из этого опасности. И вот, чтобы запастись насколько возможно водою, наш плотник в самой середине каноэ сделал углубление, которое основательно заделал, чтобы там могла держаться вода. Углубление было так велико, что вмещало добрых шестьдесят галлонов *["510] воды. Оно сильно напоминало углубление в английских рыбацких лодках, куда рыбаки складывают свой улов. Только в тех оставляют нарочно дыры, чтобы туда проникала морская вода, а наше было, наоборот, крепко заделано. Думается мне, что то первая удачная выдумка по этой части. Но нужда, как известно, — мать изобретательности. Теперь для того, чтобы окончательно пуститься в путь, требовалось еще немножко лишь поразмыслить. Первоначально мы решили только обойти остров и посмотреть, нельзя ли раздобыться каким-нибудь судном, в котором мы могли бы все разместиться, а не то воспользоваться какой-нибудь возможностью переправиться на материк. Поэтому мы решили поплыть вдоль внутренней или западной стороны острова, где в одном, по крайней мере, месте земля тянулась довольно значительно на юго-запад, и оттуда не так велико было расстояние до африканского побережья. Мне кажется, никто никогда не переживал такого путешествия и с таким отчаявшимся экипажем. Ведь, вдобавок ко всему, мы плыли как раз вдоль того берега острова, где нельзя встретить ни одного европейского судна, так как морские пути проходят в стороне отсюда. Однако мы пустились в море, погрузивши все наши запасы и поклажу. На две большие пироги мы поставили по мачте, а третью вели на веслах, а когда затем поднялся ветер, мы взяли ее на буксир. Мы, хорошо шли несколько дней, и ничто нам не мешало. Видели туземцев, удивших рыбу с челноков, и подчас пытались подойти к ним и сговориться, но каждый раз они пугались нас и поспешно удалялись к берегу. Наконец один из наших вспомнил знак дружественного приветствия, с которым обращались к нам обитатели южной части острова, а именно — подымали длинный шест, и высказал предположение, что, быть может, для них это обозначает то же, что белый флаг для нас. Мы решили испытать это. Итак, как только мы увидели рыбачьи лодки в море, мы подняли шест в каноэ без мачты и загребли к ним. Люди в лодках, увидавши шест, остановились, и, когда мы приблизились, сами загребли нам навстречу. Подойдя вплотную, они показали, что очень рады нам, и подарили какие-то большие рыбы; как они назывались, мы не знали, но были они очень вкусны. К несчастью, мы ничего не могли дать им взамен, но наш изобретатель, о котором я уже говорил, дал им две тоненькие, вычеканенные из серебряного осьмерика *["511] пластинки. Были они вычеканены четырехугольником, точно бубновая масть, с длиною больше ширины и в одном из длинных углов была просверлена дырка. Пластинка так понравилась туземцам, что они заставили нас дожидаться, покуда они вновь не вытащат сетей и лесок, и тогда надавали нам рыбы до отказа. Все это время мы разглядывали их лодки, соображая, не пригодятся ли они для наших целей. Но лодки были жалкие, с парусами из больших циновок *["512], и только один, из какой-то хлопчатой ткани, более или менее годился; а веревки были скручены из непрочных водорослей. Итак, мы решили, что наши лодки лучше, и оставили туземцев в покое. Мы двинулись прямо к северу, держась двенадцать дней вдоль берега, и так как ветер был с востока и с севера, то шли мы хорошо. На берегу мы не замечали городов, но часто видели на скалах, поднимавшихся над водой, по несколько хижин, и возле них народ, который сбегался поглядеть на нас. Это было самое странное путешествие на свете. Мы составляли маленькую эскадру в три лодки и армию в двадцать семь опаснейших людей, когда-либо встречавшихся в тех краях. Знай туземцы, кто мы такие, они отдали бы все, что угодно, лишь бы избавиться от нас. С другой стороны, однако, мы были так несчастны, как только могли это сделать обстоятельства, в которые мы попали. Ведь находились мы в пути, и, в сущности, без всякого пути, шли к какой-то цели, или вернее — ни к какой цели; как будто и знали, что собираемся делать, но по существу не знали, что делаем. Мы шли все вперед, держа курс на север, и по мере нашего продвижения жара усиливалась и становилась непереносимой, особенно для нас, находившихся на воде без всякого прикрытия от жары или дождя. К тому же находились мы в южном полушарии в октябре *["513] или около того и с каждым днем приближались к солнцу *["514], a солнце приближалось к нам, покуда не остановилось на широте *["515] в двадцать градусов. А так как пять-шесть дней назад мы перешли тропик *["516], то еще через несколько дней солнце окажется в зените *["517], над самыми нашими головами. Принимая все это во внимание, мы решили отыскать на берегу подходящее место, где могли бы разбить палатки и выждать, покуда спадет жара. К этому времени мы уже оставили позади половину острова, и подошли к той части его, где берег заворачивал к северо-западу, обещая сократить переход к Африке намного больше, чем мы рассчитывали. Но, несмотря на это, мы имели достаточно оснований предполагать, что расстояние это все же около ста двадцати лиг. Итак, мы решили причалить из-за жары; к тому же припасы наши истощились, оставалось их всего на несколько дней. Приставши рано поутру к берегу, — как мы поступали обычно раз в три-четыре дня, — чтобы возобновить запасы воды, мы уселись и принялись обсуждать, продолжать ли нам путь, или продлить нашу стоянку здесь. Но по многим соображениям, которые было бы долго пересказывать сейчас, мы места этого не одобрили и решили на несколько еще дней пуститься в дальнейший путь. Проплывши дней шесть на северо-северо-запад под добрым ветром с юго-востока, мы заметили на значительном расстоянии большой мыс *["518], или выступ земли, выдававшийся далеко в море. И, так как всем нам очень хотелось узнать, что находится за мысом, мы порешили не становиться на якорь, покуда не обогнем мыса. Мы продолжали путь при попутном ветре, но и то лишь через четыре дня достигли, наконец, мыса. Невозможно выразить отчаяние и печаль, охватившие нас, когда мы добрались туда; ибо, обогнувши оконечность мыса, мы неожиданно увидели, что по ту сторону берег отступает так же резко, как выдается по эту сторону. Короче говоря, решись мы двинуться через море к Африке, мы должны были бы пуститься в путь отсюда, ибо, чем дальше, тем все больше расширялось море, и какой достигло бы оно ширины, — нам было неизвестно. Покуда мы размышляли над этим новым обстоятельством, нас захватила ужасная гроза: яростный ливень, гром и молния, совершенно непривычные и страшные для нас. В такой беде мчимся мы к берегу и, ставши ветром у самого мыса, заводим наши фрегаты *["519] в бухту, где, как мы заметили, земля была густо покрыта деревьями. Сами же поторопились устроиться как-нибудь на берегу, так как были мы совершенно мокры и истомлены жарой, громом, молнией, и дождем. Тут же считали мы положение наше поистине бедственным, и потому наш изобретатель, о котором я столько говорил, водрузил на холме, отстоявшем на милю от конца мыса, огромный деревянный крест со следующими словами на португальском языке: «Мыс Отчаяние. Христос, смилуйся!» Мы начали строить шалаши и сушить одежду. Сноситься с туземцами нам было необходимо, и искусный наш токарь вырезал уйму серебряных ромбов, которые мы выменивали у чернокожих на то, в чем нуждались. Они приходили в восторг от этих безделушек, и, таким образом, в нашем распоряжении было сколько угодно провизии. В первую же очередь добыли мы около пятидесяти голов крупного скота и коз, и наш повар постарался провялить их и высушить, засолить и прибавить к нашему основному запасу. Сделать это было не трудно, так как соль и селитра были хороши, а солнце — отменно жарко. И тут мы прожили около четырех месяцев. Южное солнцестояние прошло, и солнце пошло к равноденствию, когда мы стали обдумывать следующее наше предприятие: добраться морем до Зангебара *["520], как называют его португальцы, и высадиться, если удастся, на африканском материке. Об этом мы говорили со многими туземцами, но все, что могли узнать, сводилось к тому, что за морем великая страна львов, и путь туда долог. Мы не хуже их знали, что путь действительно далек, но о протяжении все же много спорили. Одни считали, что в нем четыреста лиг, другие — что не более ста. Один из нас показал нам на карте, которую он хранил при себе, что туда не более восьмидесяти лиг. Одни говорили, что весь путь усеян островами, к которым можно приставать; другие — что никаких островов нет *["521]. Что до меня, я ничего не смыслил в этом деле и слушал без интереса. Как бы то ни было, от слепого старика, которого сопровождал мальчик-поводырь, мы узнали, что, если мы дождемся августа, ветер будет благоприятен, и море тихо во все времяперехода. Это нас несколько подбодрило. Но выжидать нам было не по сердцу, потому что к тому времени солнце должно было снова повернуть на юг, что не нравилось нашим. Наконец мы созвали общую сходку. Споры на ней были слишком скучны, чтобы передавать их. Нужно только заметить, что когда дошло до капитана Боба (так называли меня с тех пор, как я стал одним из вожаков), то я не стал ни на чью сторону. — Я ломаного гроша не дам, — заявил я, — ни за то, чтобы отправиться, ни за то, чтобы остаться. У меня нет дома, и все места на свете для меня одинаковы. Так я предоставил им решать дело самим. Словом, всем стало ясно, что делать нечего, раз у нас нет судна. Если цель наша — есть да пить, — лучшего места во всем свете не найти. Если же наша цель — выбраться отсюда и попасть на родину, то не найти худшего места. Признаюсь, мне местность очень полюбилась, и тогда уже захотелось мне поселиться здесь в будущем. Не раз говаривал я своим друзьям, что, будь у меня двадцатипушечный корабль *["522], да шлюп, да добрые экипажи на них обоих, я бы не выбрал на всем свете лучшего места, чтобы разбогатеть по-королевски. Но вернемся к нашему совещанию о том, куда двинуться. В общем, порешили отважиться на переезд к материку. Мы и отважились, да сдуру, потому что выбрали самое худшее время года для подобного переезда: так как ветры там с сентября по март дуют на восток, а вторую половину года на запад, и тогда дули они нам прямо в лоб. Так и оказалось, что, пройдя под береговым ветром лиг этак пятнадцать-двадцать, то есть, смею сказать, достаточно для того, чтобы погибнуть, мы попали под ветер с моря, дувший с запада, юго-запада-запада или юго-запада через запад и более от запада не отклонявшийся. Словом, мы ничего не могли с ним поделать. Суда, которыми мы располагали, не могли идти против ветра. Годись они для лавирования *["523], мы могли бы отклониться на северо-северо-запад и, как мы впоследствии обнаружили, встретить по пути много островов. Однако как мы не пытались идти против ветра, нам это не удалось, а один раз мы чуть не погибли, и вот каким образом: держа курс к северу, возможно ближе к ветру, мы позабыли об очертаниях и местоположении острова Мадагаскара, равно как и о том, что мы уже успели отойти от мыса, расположенного приблизительно в середине острова и выдававшегося далеко в море. А теперь, когда нас отогнало лиг этак на сорок к северу, берег острова находился от нас более чем в двухстах милях к востоку, и мы оказались в открытом океане, между островом и материком, лигах в ста от обоих. Правда, как выше было сказано, ветер с запада дул ровно, и море было гладко, и мы решили, что лучше всего пойти по ветру. Поэтому, взявши меньшее каноэ на буксир, мы повернули к берегу, поставивши по возможности все паруса. Предприятие это было отчаянное; ведь налети малейший порыв ветра, мы все погибли бы, так как наши каноэ сидели глубоко и не могли двигаться по неспокойному морю. Как бы то ни было, путешествие это продолжалось всего одиннадцать дней, и, наконец, израсходовавши большую часть провианта и всю припасенную воду до капли, мы, к великой нашей радости, завидели землю, правда, в десяти или одиннадцати лигах. Нас встретил береговой ветер, дувший нам в лоб еще двое суток на исключительной жаре, без капли воды и только с небольшим количеством спиртного, оказавшимся у одного из нас в ящике с бутылками. Это приключение живописало нам то, что могло бы случиться, если бы мы пустились в путь при слабом ветре и плохой погоде, и отбило у нас окончательно охоту переправляться на материк, покуда мы не обзавелись лучшими судами. Поэтому мы снова высадились на берег, и, как прежде, разбили становище, возможно лучше укрепивши его против возможных нападений. Но здесь туземцы оказались исключительно вежливыми и значительно более радушными, чем обитатели юга острова. И хотя ни мы не могли понять их, ни они нас, нам все же удалось втолковать им, что мы мореходы и чужестранцы и нуждаемся в съестных припасах. Первым доказательством их доброты было то обстоятельство, что, как только они увидели, что мы высадились на берег и принялись строить себе жилище, один из их предводителей, или царьков (мы не знали, как называть его), явился с пятью или шестью мужчинами и несколькими женщинами и привел с собою пять коз и двух жирных бычков, которых и отдал нам даром. А когда мы предложили им что-то взамен, предводитель, или царек, запретил прикасаться к чему бы то ни было или брать что-нибудь у нас. Часа два спустя явился другой царек, или предводитель, и с ним сорок или пятьдесят человек. Мы испугались было их и взялись за оружие. Он же, заметивши это, приказал двум людям выйти вперед, возможно выше подымая в руках два длинных шеста, — мы быстро признали это за знак мира. Эти два шеста они потом стоймя воткнули в землю, и царек и все его люди, подойдя к шестам, воткнули свои копья в землю и стали подходить без оружия, так как оставили вместе с копьями свои луки и стрелы. Это было сделано для того, чтобы убедить нас, что они явились к нам как друзья, чем мы были весьма обрадованы, потому что нам не хотелось ссориться, если только можно было избежать этого. Предводитель отряда увидал, что наши строят себе хижины и справляются с этой работой неуклюже; тогда он подал знак своим людям помочь нам. Немедленно человек пятнадцать или шестнадцать подошли и смешались с нашими, принявшись работать за нас. И, право же, они были лучшими работниками, нежели мы, ибо в одно мгновение соорудили для нас три или четыре хижины, которые к тому же были много красивее наших. Затем они надавали нам молока, плодов и уйму превкусных кореньев и зелени и затем ушли, не взявши у нас ничего. Один из наших поднес царьку, или предводителю, чарочку, которую тот выпил, весьма одобрил и попросил еще; мы дали ему еще. Словом, после этого он являлся к нам не менее двух, а то и трех раз на неделе, и всегда что-нибудь да приносил с собой. А раз прислал даже семь голов черного скота, часть которого мы провялили вышеописанным способом. Здесь я непременно должен упомянуть об одном обстоятельстве, которое впоследствии принесло нам немалую пользу. Дело в том, что мясо коз и коров, но особенно коз, будучи провялено, становилось красным на вид и жестким, как голландская сушеная говядина. Туземцам оно так нравилось, что сходило за лакомство, и они охотно выменивали его у нас, не зная и даже не подозревая, что это такое. Так за десять-двадцать фунтов *["524] копченой говядины они давали нам целого быка или корову, или вообще то, что мы захотим. Здесь мы заметили нечто, что показалось нам не только странным, но и важным для нас. Во-первых, мы обнаружили, что у них много глиняных изделий, и пользуются туземцы ими не хуже нашего; у них в ходу длинные, высокие глиняные горшки, которые они зарывают в землю, и хранящаяся в них питьевая вода остается свежей и приятной на вкус. А во-вторых — что каноэ у них больше, нежели у их соседей. Тогда мы поторопились узнать, нет ли у них судов еще больше, чем те, которые мы видели, или нет ли таких у иных островитян. Они объяснили нам, что лодок больших, чем эти, у них нет, но на другой стороне острова имеются лодки побольше, — и с палубой и с большими парусами. И это заставило нас решиться обойти остров, чтобы увидеть лодки. Мы снарядились, запасшись съестными припасами для путешествия, и, словом, в третий раз вышли в море. На это путешествие у нас ушел месяц, а то, пожалуй, и все шесть недель, при чем за это время мы не раз высаживались на берег в поисках за водой и съестными припасами, и туземцы были щедры и вежливы по отношению к нам. Но вот однажды, ранним утром, мы удивились, когда один из наших — в то время мы были в самом конце северной части острова — закричал: «Парус! Парус!» Тут мы увидели вдалеке судно. Мы смотрели на него в подзорные трубы и изо всех сил старались разобрать, что оно собой представляет, но так-таки и не поняли; ибо то не был обычный парусник, ни кэч *["525], ни галера *["526], ни галиот *["527], и вообще не походил ни на одно из виденных нами судов. Словом, мы скоро потеряли его из виду, так как не в состоянии были гоняться за ним. Но, судя по тому, что мы успели заметить, и по тому, что мы видели потом, это было арабское судно, ведшее торговлю с Мозамбикским побережьем *["528] или Занзибаром, с теми местами, куда мы отправились впоследствии, как вы услышите. Я не вел дневника нашего путешествия, да и вообще в то время понимал в мореходстве не более того, что требуется от рядового моряка. Поэтому не буду говорить ни о широте и долготе тех мест, в которых мы побывали, ни о том, какое расстояние мы проходили и сколько миль делали в день. Но помню я твердо, что, обогнувши остров, мы направились вдоль восточного побережья к югу, как шли к северу вдоль западного побережья. Я не заметил, чтобы туземцы сильно разнились от тех, которых мы видели на другом берегу, цветом ли кожи, поведением ли, обычаями ли, вооружением ли, или чем иным. Они были на этой стороне берега так же добры и любезны с нами, как и те. А все же нам не удалось обнаружить каких-либо сношений между обоими побережьями. Мы продолжали путешествие на юг много недель, хотя с частыми остановками, — когда сходили на берег за пищей и водой. Наконец, огибая выступ берега, выдававшегося на целую лигу больше, чем обычно, мы были приятно удивлены зрелищем, которое, несомненно, было столь же неприятно для тех, кто оказался участником его, сколько было приятно для нас. То был врак *["529] европейского судна, выброшенного на скалы, которые в этом месте далеко выдавались в море. Мы ясно видели, что во время отлива большая часть корабля подымается высоко над водою. Но даже и в приливы не весь корабль покрывался водой. К тому же он был расположен меньше, чем в лиге от берега. Легко поверить, что любопытство заставило нас, — благо тому и ветер и погода благоприятствовали, — подойти вплотную к кораблю. Сделали мы это без всякого труда и обнаружили, что корабль голландской стройки и находится в этом состоянии, видимо, не очень давно, раз большая часть его кормовых сооружений *["530] оставалась еще крепка, и бизань *["531] осталась на месте. Корма была зажата между двумя скалами и потому уцелела, а вся передняя часть судна разбита в куски. Во враке не нашли мы ничего такого, что могло бы нам пригодиться. Но мы решили высадиться на берег и пробыть в этих краях некоторое время, с тем, чтобы постараться разузнать, что, собственно, произошло с кораблем. Надеялись мы также узнать какие-нибудь подробности об экипаже, а может быть, даже и найти на берегу кого-нибудь с корабля и тем увеличить наш отряд. Сойдя на берег, увидели мы весьма приятное зрелище — все следы и признаки корабельной плотницкой. Там были спусковые полозья и люльки, подмостки и обшивные доски, и обрезки досок, — остатки, свидетельствующие о постройке судна. Словом, уйма вещей, явно приглашающих нас проделать то же самое. Мы вскоре поняли, что экипаж погибшего судна спасся и, переправившись, очевидно, в лодке на берег, построил себе барку или шлюп и вновь вышел в море. Мы узнавали у туземцев, каким путем отправился экипаж, и они указывали на юг и юго-запад, из чего мы легко заключили, что экипаж ушел к мысу Доброй Надежды. Никто не вообразит, что мы были настолько тупы, чтобы не сделать тут же вывода, что сами можем спастись тем же способом. Так решили мы сперва попытаться соорудить какое-нибудь судно и затем выйти в море, а там будь, что будет. Согласно с этим решением мы сразу же поручили нашим плотникам осмотреть оставленный голландцами строительный материал и выяснить, что из него может пригодиться нам. Среди прочего материала обнаружили они одну вещь, которая весьма пригодилась нам, и к которой я был приставлен. То был котел, в котором осталось немного смолы. Когда мы взялись за работу вплотную, оказалось, что она и хлопотлива и трудна, так как инструментов у нас было немного, железных же изделий, оснастки и парусов не было совсем. То есть, попросту говоря, для того, чтобы что-нибудь построить, мы должны были стать одновременно кузнецами, канатчиками, парусниками и вообще заняться десятком ремесел, о которых мы знали мало или не знали вообще ничего. Как бы то ни было, нужда — мать изобретательности, и мы сделали многое такое, что прежде считали неосуществимым в наших условиях. Наши плотники, сговорившись о размерах судна, которое они будут строить, погнали нас всех на работу: послали в лодках расщепить врак и привезти все, что удастся, а в особенности постараться привезти бизань, которая оставалась в своем гнезде. Мы — нас было четырнадцать человек — это выполнили с огромными трудностями после более чем двадцатидневной работы. В то же время мы повыдергали много железных поделок, как-то: болтов, скрепов, гвоздей и так далее, из которых наш изобретатель, о котором я уже говорил и который теперь стал весьма умелым кузнецом, понаделал нам гвоздей и петель для руля и скрепы нужной величины. Но нам необходим был якорь; но будь даже у нас якорь, мы не смогли бы сделать канат. Таким образом, нам пришлось удовлетвориться тем, что при помощи туземцев мы свили несколько веревок из того же, из чего они плетут циновки, а из веревок сделали нечто вроде каната или швартова для того, чтобы привязывать корабль к берегу. Этим на время пришлось удовлетвориться. Коротко говоря, мы провели здесь четыре месяца и работали, не покладая рук. По истечении этого времени мы спустили на воду наш фрегат, который, хотя и был с недостатками, все же, если учесть условия, при которых строили его, оказался, в общем, не плох. Корабль наш представлял собою нечто вроде шлюпа, водоизмещением около восемнадцати или двадцати тонн *["532]. И будь у нас мачты и паруса, стоячий и бегучий такелаж *["533], как полагается в таких случаях, и все прочее, — корабль доставил бы нас куда только нашей душе было бы угодно. Но основная беда заключалась в том именно, что не было у нас смолы или дегтя для того, чтобы пройти швы и укрепить киль. Правда, мы делали, что могли, и из топленого сала и растительного масла намешали что-то взамен смолы, но эта смесь не вполне могла удовлетворить нас. И судно, когда мы спустили его на воду, оказалось таким утлым и так быстро набирало воду, что мы решили, что вся наша работа пойдет насмарку, так как поддерживать корабль на воде стоило слишком много хлопот. А насосов у нас не было, и сделать их было тоже не из чего. Но, наконец, один из туземцев, черный негр, показал нам дерево *["534], которое на огне выделяло липкий сок, вязкий, как деготь. Сок этот мы варили, и он вполне заменил нам смолу, а больше нам ничего не требовалось. Теперь наш корабль оказался прочен и крепок, так что ни деготь, ни смола нам более не были нужны. Знание этого дерева не раз впоследствии помогало мне в тех местах. Достроивши, таким образом, корабль, мы из бизани врака соорудили изрядную мачту для корабля и прикрепили, как могли лучше, к ней свои паруса. Затем мы сделали руль и румпель *["535] и, словом, все, что требовалось в первую очередь. Нагрузивши корабль съестными припасами и запасшись водою, насколько могли (бочек у нас все еще не было), мы при попутном ветре вышли в море. В этих скитаниях и в этой работе мы провели еще год. Уже наступило, как говорили наши, начало февраля; солнце быстро уходило от нас, к нашему удовольствию, ибо жара стояла исключительно сильная. Ветер, как я сказал, все время благоприятствовал нам, ибо, как я узнал впоследствии, когда солнце уходит на север, ветры начинают дуть на восток. Теперь мы стали спорить, какое нам выбрать направление, и никогда, казалось, люди не бывали столь нерешительными. Одни высказывались за то, чтобы идти на восток и прямо к малабарскому побережью. Но другие, лучше представлявшие себе продолжительность такого путешествия, только качали головами, прекрасно понимая, что ни наших съестных припасов, ни особенно запасов воды и, наконец, ни самого корабля не хватит, чтобы проделать такой конец. Ведь это около двух тысяч миль пути. Эти стояли за то, чтобы двинуться на африканский материк, где, по их словам, можно добиться многого и наверняка разбогатеть, каким ни двинуться путем, стоит только выбраться оттуда — сушей ли, по морю ли. А впрочем, при таком положении дел выбора у нас не было. К тому же стояло неподходящее время года для путешествия на восток: пришлось бы дожидаться апреля, а то и мая для того, чтобы выйти в море. Под конец, так как ветер дул с юго-востока и юго-юго-востока, и погода стояла благоприятная, — мы все согласились с последним предложением и решили идти к африканскому побережью. О том, чтобы обогнуть остров, нам спорить не пришлось, так как мы находились на стороне, обращенной от Африки. Итак, мы направились на север и, обогнувши мыс, взяли курс на юг, идя с подветренной стороны острова и рассчитывая достичь западной оконечности, которая, как я уже говорил, выступает к Африке настолько, что сократила бы нам путешествие почти на сто лиг. Но, пройдя лиг тридцать, мы обнаружили, что ветры здесь переменные, и тогда мы решили держать курс прямо, ибо в таком случае мы имели бы ветер попутным, — ведь судно наше не очень-то могли идти под косым ветром или иначе, как только прямо по ветру. Итак, решившись на это, мы пристали к берегу, чтобы снова запастись свежей водой и всем прочим, и, примерно, в самом конце марта, идя больше на авось, чем по расчету, пустились к африканскому побережью. Что до меня, я ни о чем не тревожился. Мы поставили себе целью добраться до той или иной земли; но я не беспокоился, ни что это за земля, ни где она, ибо в то время не представлял себе своего будущего и мало задумывался над тем, что со мною вообще может случиться. Со всем, что предлагалось, — как бы ни было рискованно предложение и как бы ни был сомнителен успех, — я соглашался со свойственным моему возрасту легкомыслием. Путешествие это, предпринятое от большого невежества и отчаяния, осуществлялось таким же путем — без излишнего расчета и размышления, ибо знали мы о курсе, который держали, лишь то, что направление его на запад, с колебаниями на два-три румба к северу или югу, да к тому же у нас не было и компаса, если не считать чисто случайно оказавшегося у одного из наших маленького медного карманного компаса, так что курс, как видите, мы держали не слишком точно. Как бы то ни было, ветер дул ровно, с юго-востока и через восток, и в силу этого мы считали, что прямой курс на северо-запад через запад не хуже всякого другого, и шли им. Путешествие оказалось гораздо продолжительнее, чем мы предполагали. К тому же и наш корабль, имевший явно недостаточные паруса, продвигался помаленьку и шел очень тяжело. Естественно, что никаких происшествий не приключилось с нами в пути, так как мы оказались в стороне от чего бы то ни было занимательного. А что до встречных судов, то за все время путешествия нам не представлялось случая даже окликнуть кого бы то ни было, ибо мы не встретили ни одного, ни большого, ни малого судна, так как море, по которому мы шли, лежало вне торговых путей. Дело в том, что население Мадагаскара знало об африканских берегах не больше нашего, — знало только, что там страна львов, как они говорят. С попутным ветром шли мы под парусами восемь или девять дней. Вдруг, к великой нашей радости, один из наших крикнул: «Земля!» Радоваться этому у нас были причины основательные, так как воды оставалось у нас в обрез, на два или три дня, и то при уменьшенном пайке. Хотя землю мы заметили рано поутру, достигли мы ее лишь с наступлением ночи, так как ветер упал почти до штиля *["536], а корабль наш, как я сказал, был не особенно ходкий. Мы жестоко огорчились, когда, подойдя к земле, увидели, что это не материк Африки, а какой-то остров, к тому же необитаемый *["537]; по крайней мере, мы обитателей на нем найти не могли. Скота на нем также не было, кроме нескольких коз, из которых мы убили только трех. Как бы то ни было, у нас оказалось свежее мясо, и к тому же мы нашли превосходную воду. Лишь пятнадцать дней спустя мы подошли к материку, причем подошли к нему, что очень существенно, как раз, когда наши припасы кончились. Собственно, припасы кончились еще раньше, так как последние два дня на человека приходилось лишь по пинте воды в сутки, но, к великой нашей радости, мы еще накануне вечером завидели землю на большом расстоянии и, идя всю ночь при попутном ветре, к утру оказались всего в двух лигах от берега. Без всяких размышлений высадились мы в том самом месте, к которому пристали, хотя, будь у нас немного больше терпения, мы нашли бы, несколько на север, прекрасную реку. Укрепивши в земле, подобно причальным столбам, два больших шеста, мы пришвартовали наш фрегат, и на сей раз наши слабые канаты, сделанные, как я уже сказал, из циновок, вполне исправно послужили нам. Осмотревши немного окрестность, мы набрали свежей воды, запаслись съестным, которого здесь оказалось очень мало, и со всеми запасами вернулись на корабль. Все, добытое нами, сводилось к нескольким птицам и чему-то вроде дикого буйвола, весьма малорослого, но очень вкусного. Итак, погрузивши все это, мы решили двигаться вдоль берега, тянувшегося на северо-северо-восток, покуда не наткнемся на какой-нибудь залив или какую-нибудь реку, по которым нам удалось бы проникнуть в глубь страны, ближе к какому-нибудь селению и людям. У нас было достаточно причин считать, что местность населена, — мы не раз видали в различных сторонах, на довольно большом расстоянии, огни и дым. Наконец мы вошли в большой залив, в который впадало несколько малых ручьев или речек. Смело поднялись мы по первой же из них; вскоре, заметивши на берегу хижины и возле них дикарей, мы отвели корабль в бухточку и подняли длинный шест с белой материей на нем в знак мира. Оказалось, что дикари прекрасно поняли нас; мужчины, женщины, и дети целой толпой сбежались к нам, при чем большинство из них ходило совершенно обнаженными. Сперва они стояли, глазея на нас и дивясь, точно мы какие-то чудовища, но вскоре мы обнаружили, что настроение их дружелюбно. Чтобы испытать их, мы приложили руку ко рту, точно пили что-то, давая понять, что нам нужна вода. Они немедленно поняли нас; три женщины и два мальчика побежали куда-то и вернулись, приблизительно, через полчетверти часа, неся глиняные, довольно красивые горшки, обожженные, должно быть, на солнце. Горшки эти были наполнены водою. Туземцы поставили эти горшки возле самого берега и отошли немного назад, чтобы мы могли свободно их взять, что мы и сделали. Некоторое время спустя они принесли нам кореньев, трав и каких-то плодов и предложили нам это. Но когда выяснилось, что нам нечего им дать взамен, мы обнаружили, что они не так щедры, как обитатели Мадагаскара. Наш токарь взялся за работу и из остатков железа, вытащенного из врака, понаделал много безделушек: птиц, собачек, булавок, крючков и колец. Мы помогали нанизывать их на веревочки и шлифовали до блеска. Когда мы дали несколько таких вещиц туземцам, они взамен надавали нам много съестного, — коз, свиней и коров; и еды у нас оказалось вдоволь. Итак, мы высадились на африканском материке, самом безотрадном, пустынном и неприветливом месте на свете, не исключая даже Гренландии *["538] и Новой Земли *["539], с той только разницей, что даже худшая часть этого материка оказалась населенной. Впрочем, если принять во внимание характер и свойство некоторых здешних обитателей, лучше, пожалуй, было бы для нас, если бы их не было вовсе. Здесь именно приняли мы одно из самых поспешных, дичайших, одно из самых отчаянных решений, какое когда-либо принимал человек или группа людей. Решение это было — пересечь самое сердце страны, пройти сухим путем от мозамбикского побережья на востоке Африки до берегов Анголы *["540] или Гвинеи *["541] на западе, у Атлантического океана, то есть покрыть, по меньшей мере, тысячу восемьсот миль. В этом путешествии нам предстояло переносить неимоверную жару, пересекать непроходимые пустыни, не имея для поклажи ни повозок, ни верблюдов, ни вообще какой-либо вьючной скотины; встречаться с бесчисленными количествами таких диких и хищных животных, как львы, леопарды, тигры *["542], крокодилы и слоны. Нам предстояло проходить по линии равноденствия; мы, следовательно, находились в самом центре палящей зоны. Нам предстояло встречаться с дикими племенами, чрезвычайно свирепыми и жестокими, бороться с голодом и жаждой, — словом, предстояло столько ужасов, что они могли бы отбить охоту у храбрейших сердец. Однако, не страшась всего этого, мы решили отважиться и сделать для нашего путешествия все те приготовления, какие только позволяла эта местность и повелевала наша осведомленность в ней. Уже некоторое время, как мы привыкли босиком ступать по скалам, булыжнику и щебню, по траве и прибрежному песку. Но так как нам предстояло ужасное путешествие по сухому выжженному песку в глубь страны, то мы запасались подобием башмаков. Делали мы эти башмаки из высушенных на солнце шкур диких зверей, оборачивая шкуры волосами внутрь: шкуры просыхали на солнце, и подметки оказывались толстыми и крепкими, и их хватало надолго. В общем, мы понаделали себе, как я это назвал, — и думаю, что название подходящее, — перчатки для ног, и они оказались вполне соответствующими назначению и удобными. С туземцами, которые были достаточно дружелюбны, мы поддерживали сношения. Я не знаю, на каком языке они разговаривали. Поскольку они могли понимать нас, мы говорили с ними не только о наших припасах, но и о задуманном предприятии; мы расспрашивали, какие края лежат на нашем пути, указывая при этом на запад. Туземцы мало что годного сообщили нам; но после их рассказов мы поняли, что таких ли, иных ли людей мы найдем повсюду; что встретим много больших рек, много львов, тигров, слонов и свирепых диких кошек (это были, как потом оказалось, цибетовые кошки *["543]). Мы интересовались также, не ходил ли кто-нибудь в том направлении. Они ответили, что кто-то уже направлялся туда, где солнце ложится спать (подразумевая под этим запад), но кто — сказать не смогли. Мы предложили кому-нибудь из них повести нас, но они стали пожимать плечами, как это делают французы, когда боятся предпринять что-нибудь. При наших расспросах о львах и диких зверях они рассмеялись и сообщили прекрасный способ отделаться от них: нужно развести костер, это их отпугнет. Впоследствии, по проверке на деле, это подтвердилось. Получивши эти подбадривающие сведения, мы пустились в путь. К этому понуждало нас много соображений. В сущности, будь предприятие само по себе осуществимо, мы подлежали бы значительно меньшему осуждению, чем кажется. Вот только некоторые из этих соображений. Во-первых, у нас не было решительно никаких возможностей иным путем совершить наше освобождение; мы находились в таком месте африканского побережья, куда европейские корабли не заходят; так нам нечего было и думать о том, что нас освободят из этих краев, что нас подберут земляки. Во-вторых, если бы мы отправились вдоль мозамбикского побережья и безотрадных берегов Африки на север, до Красного моря, то единственное, на что мы могли надеяться, — это то, что нас там захватили бы арабы *["544] и продали бы в рабство туркам *["545]. Это всем нам представлялось немногим лучше, чем смерть. Мы не могли также построить судна, которое перевезло бы нас через Великое Аравийское море *["546] в Индию; не могли мы достичь и мыса Доброй Надежды, так как дули переменные ветры, а море в этих широтах слишком бурное. Но мы знали, что если нам удастся пересечь материк, то мы можем достичь какой-нибудь из больших рек, текущих в Атлантический океан; а на берегах такой реки мы можем построить себе каноэ, которые повезут нас по течению хотя бы и на тысячи миль. В этом случае нам не понадобится ничего, кроме пищи, а ее мы могли себе раздобывать при помощи мушкетов в достаточном количестве. Вдобавок, — размышляли мы, — помимо избавления, мы можем набрать столько золота, что оно, в случае благополучного исхода, бесконечно вознаградит нас за все перенесенные тяготы. Не могу сказать, чтобы я на наших совещаниях высказывался бы об основательности или достоинстве какого-нибудь предприятия, какое мы до сей поры зачинали. Мне казалось, что хороша моя прежняя точка зрения: двинуться к Аравийскому заливу или к устью Красного моря и там, дождавшись первого судна, — а их проходит много, — завладеть им силой. Мы, таким образом, не только обогатимся его грузом, но сможем на нем отправиться, куда только нам угодно будет. От разговоров же о пешем путешествии в две или три тысячи миль по пустыне, среди львов и тигров, у меня, признаюсь, кровь застыла, и я пустил в ход всевозможные доводы, чтобы разубедить товарищей. Но они твердо решились, и разговоры были бесполезны. Итак, я подчинился, заявив, что не преступлю нашего основного закона — повиноваться большинству. Мы постановили отправиться в путь. Первым же делом мы произвели необходимые наблюдения, чтобы установить, где, собственно говоря, мы находимся. Наблюдения показали нам, что мы находимся на двенадцати градусах тридцати пяти минутах южной широты. Затем мы взялись за карты, чтобы отыскать тот берег, к которому стремились. Оказалось, что побережье Анголы простирается от восьмого до одиннадцатого градуса южной широты, а побережье Гвинеи и реки Нигер *["547] от двенадцатого до двадцать девятого градуса северной широты. Мы решили направиться к побережью Анголы, которое, судя по нашим картам, лежало почти на той же широте, на которой находились и мы; следовательно, нам нужно было идти прямо на запад. Будучи уверены, что встретим на пути реки, мы имели в виду с их помощью облегчить себе путешествие, особенно если удастся пересечь одно великое озеро или внутреннее море, которое туземцы называют Коальмукоа *["548] и из которого, говорят, начинаются истоки Нила *["549]. Но расчет наш оказался не вполне правильным, как вы увидите из дальнейшего моего повествования. Нам пришлось призадуматься над тем, каким образом нести свою поклажу, которую мы с самого начала решили не оставлять. Мы ни в коем случае не могли нести ее сами, так как одно лишь необходимое боевое снаряжение, от которого зависело не только наше пропитание, но и безопасность при нападении зверей и диких людей, являлось слишком тяжелым грузом в такой жаркой стране, где и собственное тело окажется изрядным бременем для каждого. Мы узнали, что здесь в окрестностях нет вьючных животных, то есть, нет ни лошадей или мулов, или ослов, ни верблюдов или дромадеров. Единственно пригодные для нас создания, — это буйволы, или домашние быки, вроде того, что мы убили. Эти буйволы были у туземцев настолько ручными, что слушались приказаний своих хозяев, приходили или уходили по одному только зову. Они были приучены носить грузы; на них туземцы переплывали реки и озера, так как эти животные плавали ровно и хорошо. Но мы-то совершенно не знали, как управлять подобными созданиями, как взваливать на них грузы. Поэтому вопрос о поклаже оставался неразрешенным. В конце концов, я предложил способ, который после некоторого обсуждения был признан вполне подходящим. Способ этот был следующий: поссориться с несколькими туземцами, захватить человек десять или двенадцать в плен, превратить их в рабов и повести за собой в качестве носильщиков нашей поклажи. Этот способ, как я считал, был хорошим во многих отношениях: носильщики будут показывать нам дорогу и служить переводчиками при встречах с другими туземцами. Мой совет был, правда, не сразу принят, но вскоре сами туземцы подали повод к тому, чтобы не только одобрить его, но и к тому, чтобы привести в исполнение. Дело в том, что малая наша торговля с туземцами основывалась на нашем доверии к первоначальной их добропорядочности. Но под конец мы натолкнулись на подлость с их стороны. Один из наших купил у них скот в обмен на безделушки, которые, как я говорил, выделывал наш токарь; в цене покупатель с продавцами разошелся, и те решили дело по-своему: забрали себе безделушки, угнали скот из-под самого носа, да еще насмеялись над ним. На это насилие наш громко закричал, зовя на помощь находившихся неподалеку товарищей; негр же, с которым он имел дело, запустил в него копьем, да так запустил, что, не отскочи наш товарищ с большой ловкостью в сторону, оно попало бы ему в самую грудь. Оно только поранило ему руку. На это же наш товарищ в ярости поднял фузею и застрелил негра на месте. Остальные негры, как стоявшие возле убитого, так и находившиеся на расстоянии, были так перепуганы вспышкой огня, шумом и тем, что их сородич убит, что сперва на некоторое время застыли на месте обалдело и растерянно. Но, когда они немного оправились от испуга, один, стоявший в изрядном от нас отдалении, внезапно издал резкий крик, очевидно, служивший у них условным боевым призывом. Остальные ответили на его зов и подбежали к нему. Мы же, не зная, что обозначает этот клич, стояли на месте, как дураки, и смотрели друг на друга. Наше неведение скоро рассеялось. Прошло не более двух или трех минут, и мы услыхали, как этот призыв пронзительным ревом катится от одного места к другому, по всем туземным селениям, да даже и на другом берегу реки. Внезапно увидели мы толпу обнаженных людей, сбегавшихся отовсюду к тому месту, где раздался крик. Они бежали точно на условленное свидание. И менее чем в час их собралось, как мне кажется, около пятисот человек; некоторые были вооружены луками и стрелами, но большинство — копьями, которые они мечут на изрядное расстояние так ловко, что могут убить птицу на лету. На размышления у нас оставалось весьма немного времени. Их толпа росла с каждым мгновением, и я твердо уверен, что, если бы мы долго оставались на месте, их в короткий срок набралось бы до десяти тысяч. Нам оставалось делать одно из двух: либо бежать к нашему кораблю или барку, где нам удобно будет защищаться, либо же перейти в наступление и посмотреть, чего нам удастся добиться посредством одного или двух мушкетных залпов. Мы немедленно решились на последнее, рассчитывая на то, что огонь и ужас, наводимый стрельбою, в скором времени обратят туземцев в бегство. Потому, выстроившись в ряд, мы смело пошли им навстречу. Туземцы отважно ожидали нашего приближения, рассчитывая, как я полагаю, уничтожить нас своими копьями. Но мы, не дойдя к ним на бросок копья, остановились и, рассыпавшись на большом расстоянии друг от друга, чтобы возможно больше растянуть линию, стали приветствовать их пальбой. Последствием первого залпа было то, что, не считая неизвестного нам числа раненых, шестнадцать человек оказались убитыми на месте; кроме того, у троих ноги были так подбиты, что они свалились ярдах *["550] в двадцати или тридцати от остальных. Как только мы выстрелили, туземцы испустили отвратительный вой, подобного которому я никогда не слыхивал. Выли раненые, выли и те, которые оплакивали тела убитых. И я никогда, — ни прежде, ни потом, — не слыхивал подобного. Как вкопанные, остались мы на месте после залпа, перезаряжая наши мушкеты; и так как туземцы не сдвинулись с места, мы выстрелили снова. Вторым залпом мы убили человек, должно быть, девять. Но так как туземцы теперь стояли не такой плотной толпой, как прежде, мы стреляли не все сразу, но семерым нашим было приказано воздержаться от выстрелов и выйти вперед, покуда остальные выстрелят, чтобы те могли перезарядить мушкеты. Давши второй залп, мы крикнули как можно громче; тогда семеро наших продвинулись вперед к туземцам ярдов на двадцать и выстрелили вновь. В это время находившиеся позади успели спешно перезарядить мушкеты и двинулись следом. Туземцы же, видя, что мы приближаемся, стали убегать прочь от нас со стенаниями, точно одержимые нечистой силой. Подойдя к месту боя, мы увидали на земле большое количество тел. Убитых и раненых оказалось гораздо больше, чем мы предполагали, даже больше, чем мы выпустили пуль при залпах. Этого мы долго не могли понять. Но, в конце концов, разобрали в чем дело, а именно: туземцы были напуганы до потери сознания и, более того, даже многие из тех, что лежали мертвыми, были только испуганы насмерть, и даже не были ранены. Некоторые из них, которые так, как сказал я, были запуганы, придя в себя, приблизились к нам и стали кланяться. Они принимали нас то ли за богов, то ли за дьяволов, — право, не знаю, да это нас и не занимало. Одни становились на колени, другие падали ниц, делая какие-то диковинные телодвижения и всем видом своим выражая глубочайшую покорность. Тут мне пришло в голову, что, согласно законам войны, мы можем набрать сколько нам угодно пленников и повести их с собой в путешествие в качестве носильщиков нашей поклажи. Как только я предложил это, все согласились со мною. Мы выбрали, примерно, шестьдесят дюжих молодцов и объяснили им, что они должны будут пойти за нами. Они, видимо, согласились на это очень охотно. Но перед нами стал другой вопрос: можем ли мы доверять им, так как здешнее население совершенно не похоже на мадагаскарцев, — оно свирепо, мстительно и коварно. Поэтому мы могли рассчитывать на их лишь рабское услужение, и их послушание будет продолжаться лишь до тех пор, покуда они будут чувствовать страх перед нами, и работать они будут лишь из-под палки. Прежде чем продолжать рассказ, я должен сообщить читателю, что с этого времени я стал несколько более интересоваться своим положением и состоянием наших дел. Хотя все товарищи мои были старше меня, я обнаружил, что на дельный совет никто из них не способен; у них не хватало выдержки, когда доходило до выполнения какого-нибудь дела. Первым случаем, доказавшим мне это, была последняя их стычка с туземцами. Принявши уже решение наступать, они, видя, что после первого залпа негры не побежали (как того ожидали), настолько оробели, что, будь наш барк где-нибудь под рукою, они, я уверен, все до единого убежали бы. Правда, среди них было два-три неутомимых человека, чьим мужеством и упорством держались все остальные. Естественно, что эти стали с самого начала вожаками. Это были пушкарь и токарь, которого я называю искусным изобретателем; а третий, — тоже парень неплохой, хотя и хуже первых двух, — один из плотников. Эти трое были душою всех остальных, и только благодаря им остальные во многих случаях проявляли решимость. Но с тех пор, как мне удалось повести за собой наших, растерявшихся в схватке, все трое дружески приняли меня и стали относиться ко мне с особенным почтением. Пушкарь этот был превосходный математик, хорошо образованный человек и отменный моряк. После того, как мы с ним подружились, я выучился от него основам тех познаний, какими только я располагал в науках, полезных для мореходства и, особенно, по части географии. Но вернемся к делу. Пушкарь, отметивший мои заслуги в битве и услыхавший о моем предложении удержать часть пленников для нашего путешествия, при всех обратился ко мне: — Капитан Боб, я считаю, что вы должны стать нашим предводителем, ибо всем успехом предприятие обязано вам. — Нет, нет, — сказал я, — не льстите мне. Нашим Seignior Capitanio *["551], нашим генералом должны быть вы. Я слишком молод для этого. Таким образом, все согласились на том, что он будет нашим предводителем. Но он не хотел принять это звание один и принуждал меня разделить его с ним. Так как все остальные согласились с пушкарем, я вынужден был уступить. Первая же обязанность, которую они возложили на меня, была такая, что труднее не придумаешь: мне поручили следить за пленными. Впрочем, за это дело я взялся, не унывая, в чем вы сейчас убедитесь. Но значительно важнее было обсудить вопросы, стоявшие на очереди: во-первых, каким путем двинуться, и, во-вторых, как запастись съестными припасами для путешествия. Был среди пленных рослый, статный, красивый парень, к которому все остальные относились с глубоким почтением; он, как мы узнали впоследствии, был сыном одного из туземных царьков. Отец его, кажется, был убит первым нашим залпом, а сам он ранен одним выстрелом в руку, другим — в самую ляжку или бедро. Вторая пуля попала в мясистую часть, и рана сильно кровоточила, так что парень был полумертв от потери крови. А что до первой пули, она раздробила ему запястье, и обе эти раны сделали его никуда не годным, так что мы решились уж бросить его, предоставить ему умереть. Поступи мы так, он через несколько дней умер бы. Но, заметивши почтительное отношение к нему, я решил извлечь из него пользу, сделать его, скажем, чем-нибудь вроде начальника над остальными. Поэтому я поручил нашему лекарю осмотреть его, а сам постарался приласкать беднягу, то есть, сколько мог, знаками объяснил ему, что мы его вылечим. Это снова внушило туземцам уважение к нам; они решили, что мы не только умеем убивать на расстоянии чем-то не видимым для них (а пуль они, понятно, не видели), но также умеем и вылечивать. Тогда молодой князек (так мы впоследствии называли его) подозвал к себе шесть или семь дикарей и что-то сказал им. О чем они говорили, мы не знали, но все семеро немедленно подошли ко мне, упали на колени, подняли руки и стали делать умоляющие знаки, указывая на место, где лежал один из убитых. Прошло немало времени, прежде чем я или кто-нибудь из нас мог понять, в чем дело. Но вот один из них подбежал и поднял труп, показывая на рану в глазу: человек был убит пулей, прошедшей через глаз. Другой негр стал указывать на лекаря. Наконец мы поняли: они добивались того, чтобы мы исцелили также убитого нами князькова отца, сраженного пулей в голову, как сказано. Мы поняли их, и не сказали, что не можем сделать это, но объяснили, что убиты те, которые первыми напали на нас и вызвали нас на бой. Этих людей мы ни в коем случае не оживим. Если другие поступят так же, мы убьем и их. Но если он, князек, пойдет с нами по доброй воле и будет поступать так, как мы ему прикажем, мы недадим ему умереть и вылечим его руку. В ответ на это он приказал своим людям принести длинную палку или посох и положить ее на землю. Когда они принесли палку, мы увидели, что то была стрела. Он взял ее в левую руку (правая не действовала из-за раны), направил на солнце, затем, переломивши стрелу пополам, направил острие себе в грудь и дал его потом мне. Это обозначало, как я узнал впоследствии, клятву: пусть солнце, которому он поклоняется, убьет его стрелою, если он перестанет быть мне другом. Острие же стрелы, переданное мне, обозначало, что я являюсь тем человеком, в верности которому он поклялся. И ни один христианин никогда не был верен клятве так, как он, ибо много трудных месяцев служил он нам верой и правдой. Я доставил его к лекарю. Тот немедленно перевязал рану в его бедре или ягодице и при этом обнаружил, что пуля не застряла, а, зацепивши только мясо, вышла наружу. Эта рана вскоре зажила, точно ничего и не бывало. Что же касается руки, оказалось, что одна из передних костей, соединяющих запястье с локтем, сломана. Эту кость он соединил, завязал в лубки, поместил руку в повязку, конец которой надел ему на шею, и знаками объяснил, что руку не нужно шевелить. Князек так исправно слушался, что сел и двигался лишь тогда, когда лекарь разрешал ему это. Немалых трудов стоило мне объяснить негру, каково наше предприятие, и на что мы решили использовать людей князька. В частности, трудно было научить его пониманию нашей речи, в особенности словам, хотя бы таким, как «да» и «нет», и тому, что они обозначают, и приучить его к нашим способам разговаривать. Он очень охотно и хорошо учился всему, чему я обучал его. В первый же день он понял, что мы решили нести с собою наши съестные припасы. Он знаками объяснил, что это ни к чему, так как в продолжение сорока дней пути мы повсюду будем находить достаточно еды. Очень трудно нам было понять, когда он хотел выразить «сорок», ибо цифр он не знал и заменял их какими-то словами, с которыми негры обращались друг к другу и понимали. Наконец один из негров, по его приказанию, разложил один за другим сорок камешков, чтобы показать нам, в течение скольких дней пути у нас будет достаточно еды. Тогда я показал ему нашу поклажу. Она была очень тяжела, в особенности же порох, пули, свинец, железо, плотничьи и мореходные инструменты, ящики с бутылками и прочий хлам. Кое-какие вещи он брал в руку, чтобы прикинуть вес, и покачивал головой. Я сказал нашим, что придется разложить вещи по небольшим узлам: так их легче будет нести. Так наши и поступили. Благодаря этому нам удалось оставить все наши ящики, которых было общим числом одиннадцать. Затем князек знаками объяснил, что добудет нам буйволов, или бычков, как я называл их, для перевозки поклажи, и еще объяснил, что, если мы устанем, буйволы повезут и нас. Но это мы отклонили; мы удовольствовались вьючными животными, так как их, если на то пойдет, можно будет съесть, когда они перестанут служить нам. Затем я доставил его к нашему барку и показал ему, что у нас еще есть. Он был поражен видом нашего барка, так как никогда прежде не видал ничего подобного; ведь их суда так жалки, что я хуже никогда не видывал: они без носа и без кормы, сшиты из козьих шкур, скреплены сушеными козьими и овечьими сухожилиями и по« крыты каким-то вязким составом, в роде древесной смолы и растительного масла с отвратительным, тошнотворным запахом. Передвигаются эти сооружения по воде отвратительно; хуже ни в какой части света не бывает; каноэ по сравнению с ними — первостепеннейшее сооружение. Но вернемся к нашему кораблю. Мы доставили князька на борт, при этом помогли ему взобраться, так как он хромал. Мы знаками сообщили ему, что его люди должны нести наше имущество, и показали ему все, что у нас есть. Он ответил: «Si, Seignior», или: «Да, сударь» (этому выражению и его значению мы уже обучили его) и, поднявши узел, показал нам, что, когда его рука поправится, он сам будет для нас носильщиком. Я опять знаками объяснил ему, что он должен заставить своих подданных таскать вещи, и что ему мы не дадим таскать тяжести. Всех пленников мы согнали в одно место, перевязали их циновочными веревками и, натыкавши вокруг них шесты, сделали что-то вроде изгороди. Переправивши князька на берег, мы вместе с ним подошли к пленным и знаками приказали спросить, согласны ли они идти с нами в страну львов. Он послушно произнес им длинную речь, из которой мы поняли, что, в случае согласия, они должны произнести: «Si, Seignior». При этом он, должно быть, объяснил им, что это обозначает. Они немедленно же отвечали: «Si, Seignior» и, сложивши ладони, взглянули на солнце. Это, как объяснил нам князек, являлось клятвой в верности. Но как только клятва была дана, один из них обратился к князьку с длинной речью. По его диковинным телодвижениям мы поняли, что они чего-то просят у нас и чем-то очень озадачены. Я, как умел, спросил его, чего они хотят от нас. Князек знаками рассказал, что они просят нас сложить ладони и обратиться к солнцу (то есть поклясться), что мы не убьем их, будем давать им чиарук (хлеб), не будем мучить их голодом и не дадим львам пожрать их. Я сказал ему, что мы обещаем это. Указавши на солнце, он сложил ладони, знаками призывая меня сделать то же самое, что я и сделал. Тогда все пленные упали ниц и затем, поднявшись на ноги, стали испускать такие странные и дикие крики, какие мне никогда еще не приходилось слышать. Когда с этой церемонией было покончено, мы занялись вопросом, где добыть пропитание как для нас самих, так и для наших пленников. Мы объяснили это князьку. Он знаками передал мне, что, если я отпущу одного из пленных в поселение, он принесет съестное и добудет вьючных животных для перевозки нашей поклажи. Я сомневался, верить ли ему. Видя, что я раздумываю, не сбежит ли посланный, князек знаками выразил совершеннейшую верность, собственными руками повязал вокруг своей шеи веревку и передал мне конец ее, давая понять, что я могу повесить его, если пленный не вернется. Тогда я согласился. Князек отдал посланному множество приказаний и отпустил его, указывая на солнечный свет, что, очевидно, должно было обозначать указание, в котором часу вернуться. Парень пустился бежать, как бешеный, и не убавлял хода, покуда не скрылся из виду. Из этого я заключил, что ему предстоял немалый путь. На следующее утро, часа за два до назначенного времени, черный князек (так я всегда называл его) поманил меня рукой и, окликнувши на свой обычный лад, пригласил следовать за ним. Он указал мне на пригорок, милях в двух от нас, и я ясно различил небольшое стадо и при нем несколько человек. Это — знаками сообщил мне князек — посланный, несколько человек с ним и скот для нас. Точно в назначенный час посланный приблизился к нашим хижинам, пригнавши с собой много коров, ягнят, около шестнадцати коз и четырех бычков, которые были обучены носить грузы. Таким образом, съестных припасов оказалось у нас достаточно. Что же до хлеба, то мы были вынуждены обходиться кореньями, которыми пользовались и прежде. Мы стали подумывать теперь об изготовлении больших мешков, вроде солдатских ранцев, чтобы неграм было в чем, да и удобнее, носить поклажу. Когда козы были зарезаны, я распорядился, чтобы их шкуры растянули на солнце, и в два дня они высохли как нельзя лучше. Нам удалось таким образом сделать нужные нам мешки, и мы принялись распределять по ним свою поклажу. Но когда черный князек узнал о назначении мешков и испробовал, насколько удобно нести в них на спине груз, он только улыбнулся и снова послал куда-то своего человека. Тот пришел еще с двумя туземцами и принес целый груз шкур, выделанных лучше, чем наши, и были то шкуры каких-то других зверей, так что мы даже не знали, как эти шкуры назвать. Эти двое доставили черному князьку также и два копья, вроде тех, какие пускаются в ход при сражениях, но тоньше, чем обычные. Они были сделаны из гладкого черного дерева, красивого, как эбен *["552], и заканчивались оконечностью зуба какого-то зверя — какого зверя, — мы не знали. Наконечник был прочно надет, а зуб, хотя и не толще моего большого пальца, был так крепок и так заострен, что я ничего подобного нигде на всем свете не видел. Мы уже готовились пуститься в путь, когда князек явился ко мне и, указывая на все стороны света, знаками спросил, куда мы собираемся идти. Когда я показал ему, что путь наш к западу, он тут же сообщил, что несколько севернее есть большая река, по которой наш барк сможет пройти на много лиг прямо на запад. Я сразу же понял его и расспросил об устье реки. Оно, как я понял, находилось на расстоянии однодневного пути; в действительности же оно, по нашим расчетам, оказалось в семи лигах расстояния. Я считаю, что это и есть та большая река, которую наши картографы помещают на крайнем севере Мозамбика и которая называется Квиллоа *["553]. Итак, посовещавшись, мы решили поместить князька на фрегате и, сколько удастся, напихать пленных туда же и двинуться вдоль берега к реке. А восемь из нас, в полном вооружении, отправятся берегом, чтобы на реке повстречаться с остальными. Дело в том, что князек вывел нас на возвышенность, откуда мы ясно в одном месте увидали указанную им реку не далее, чем в шести милях. Мне выпало идти по суше и быть начальником всего каравана *["554]. Со мной было восемь наших и тридцать семь пленных, но без поклажи, так как вся наша поклажа находилась еще на борту. Мы гнали с собой бычков; никогда не видал я скотины более кроткой, более охочей к работе и к носке тяжестей. Негры ездили на них, по четверо на одном, и бычки шли совершенно покорно. Они ели из наших рук, лизали нам ноги и были послушны, как собаки. Мы гнали с собой шесть или семь коров для еды. Но наши негры ничего не знали о том, как сохранить мясо засолкой и вялением, покуда мы им не показали, как делать это. И тогда они охотно взялись за это занятие, насколько хватало соли, и охотно несли соль долгое время, когда выяснилось, что больше она нам не будет попадаться. Нам, отправившимся берегом, переход к реке был легок, и добрались мы туда всего лишь в один день, так как расстояние, как было уже сказано, не превышало шести английских миль. Благодаря этому мы дошли до места на добрых пять дней раньше, чем пустившиеся по воде, так как тем мешал ветер, да и самый путь по реке, шедший вдоль большой извилины или загиба, равнялся, приблизительно, пятидесяти милям. Свободное время мы потратили на то, чтобы привести в исполнение мысль, поданную теми двумя туземцами, которые принесли копья князьку, а именно, сделать из козьих шкур бутыли для свежей воды; как видно, туземцы предвидели, что нам придется испытать в ней нужду. И негры сделали это так ловко из принесенных ими шкур, что прежде, чем прибыло наше судно, у каждого была бутыль, вроде пузыря, для свежей воды. Эта бутыль надевалась через плечо на ремешке из шкуры, шириной дюйма в три, похожей на ремешок фузеи. Наш князек, чтобы заверить нас в миролюбии его подданных во время перехода, приказал связать их по двое запястьями, подобно тому, как мы в Англии надеваем ручные кандалы на арестованных. Он настолько сумел убедить их в необходимости этого, что поручил четырем из них связать остальных. Но, заметивши, что пленные так тихи и, главным образом, так покорствуют ему, мы, отойдя немного от их родины, освободили их. Впрочем, когда князек вновь оказался с ними, он опять связал их, и так, связанные, они шли довольно долго. Местность на речном берегу была возвышенная, совершенно без болот и трясин. Вокруг была хорошая трава, всюду, куда мы ни шли или ни глядели, пасся скот. Правда, не было здесь деревьев, по крайней мере, поблизости от нас. Но в некотором отдалении мы видели прекрасные дубы, кедры и сосны, при чем некоторые из них были изрядной величины. Река шла широким открытым руслом, шириной, приблизительно, с Темзу *["555] под Грэйвзендом *["556], и как раз вошли мы в прилив, который нес нас около шестидесяти миль. Русло было глубоко, и воды оказалось вполне достаточно на долгий путь. Словом, мы бодро шли вверх по реке при попутном ветре, все еще дувшем с востока и с востоко-востоко-север. Легко преодолели мы также и отлив, особенно потому, что река была широка и глубока. Но, когда мы перевалили за черту прилива и нам пришлось иметь дело с обычным течением реки, мы убедились, что оно нам не под силу, и стали подумывать о том, чтобы бросить наш барк. Но князек ни за что не хотел соглашаться с этим. На судне был изрядный запас веревок, изготовленных, как я уже описывал, из циновок и водорослей; он и приказал всем находившимся на берегу пленным взяться за эти веревки и вести нас на буксире, идя берегом. И когда мы в помощь им подняли паруса, негры потащили нас с отменной быстротой. Так река несла нас, по нашим подсчетам, около двухсот миль. Затем она стала быстро сужаться и достигла ширины Темзы в окрестностях Виндзора *["557]. И еще через день добрались мы до изрядно перепугавшего нас великого водопада или падунца. Вся масса воды, как мне кажется, падала разом с отвеса, примерно, в шестьдесят футов высоты, с таким шумом, что можно было от него оглохнуть. Мы слышали этот шум еще за десять миль до того, как добрались до водопада. Здесь пришел конец пути. Теперь наши пленные впервые все вышли на берег. Поработали они очень много и охотно, сменяя друг друга; усталых сажали на барк. Будь у нас каноэ или лодки, мы могли бы в маленьких судах при помощи людской силы пройти еще двести миль вверх по реке. Наше же судно дальше идти не могло. Окрестность все время была в зелени и приятна глазу и полна скотом, но людей мы видали очень мало. Теперь мы заметили, что местные люди понимали наших пленных не лучше, чем нас. Очевидно, они принадлежали к различным народностям и языкам. До сих пор мы не видали хищных зверей, по крайней мере, поблизости, если не считать случая, произошедшего за два дня до достижения нами водопада. Тогда мы увидели трех чудеснейших леопардов; они стояли на самом берегу реки по северной стороне, в то время как все наши пленные находились по другую сторону. Пушкарь первый заметил хищников, побежал за мушкетом, забил в дуло лишнюю пулю сверх заряда *["558] и подошел ко мне: — Ну-с, капитан Боб, где ваш князек? Я вызвал его. — Ну, — сказал ему пушкарь, — передайте, чтобы ваши подданные не пугались. Они увидят, как эта штука у меня в руках заговорит огненным языком с одним из этих зверей и заставит его погибнуть. Бедные негры, несмотря на все объяснения князька, глядели так, точно их сейчас убьют. Они только уставились глазами, ожидая, чем все это кончится. Внезапно пушкарь выстрелил. Будучи отменно метким стрелком, он двумя жеребейками угодил зверю в голову. Леопард же, почуявший ранение, взметнулся на задних лапах, прыгнул вверх и, растянувши широко в воздухе передние лапы, упал навзничь, ревя и содрогаясь, и немедленно издох. Остальные два, испуганные огнем и шумом, бежали и вмиг скрылись из виду. Но испуганные леопарды и наполовину не так перетрусили, как наши пленные. Четверо или пятеро из них упали, словно подстреленные; многие попадали на колени, протягивая к нам руки, то ли молясь нам, то ли прося не убивать их, — не знаем. Мы сделали князьку знаки, чтобы он приободрил их, но привести их в разум удалось ему только после долгих хлопот. Да и сам князек, несмотря на то, что мы его подготовили, подскочил на месте, точно хотел прыгнуть в реку. Увидевши, что хищник убит, я захотел заполучить его шкуру и знаками приказал князьку послать людей снять ее. Как только он произнес одно слово, четверых, добровольно вызвавшихся, отвязали; они тут же прыгнули в реку, переплыли ее и взялись за работу. Князек изготовил ножом, который мы подарили ему, четыре деревянных ножа так искусно, что я в жизни подобных не видел. Меньше, чем через час, люди принесли мне шкуру леопарда. Она оказалась чудовищно большой: от ушей до хвоста в ней было около семи футов, да в спине, в ширину, — около пяти футов; пятна на ней были расположены чудесно. Шкуру этого леопарда я много лет спустя привез в Лондон. Теперь, можно сказать, наше дальнейшее продвижение кончилось. Мы оставались без корабля; наш барк дальше не плыл и был слишком тяжел для переноски. Но так как речной поток продолжался еще на значительное расстояние, мы спросили наших плотников, нельзя ли разобрать барк и из его частей сделать три или четыре маленьких лодки, в которых можно будет продолжать путь. Плотники ответили, что это возможно, но что работа будет очень долгой, да к тому же у нас нет смолы или дегтя, которые необходимы, чтобы сделать лодки водонепроницаемыми, нет и гвоздей, которыми надо скрепить доски. Но один из плотников сказал, что как только доберется до какого-нибудь большого дерева, неподалеку от реки, то в срок, вчетверо меньший, он обещает сделать нам один или два каноэ, которые будут служить нам при всяких обстоятельствах не хуже, чем лодки. К тому же, если мы где-либо наткнемся на водопад, каноэ можно вытащить на берег и милю или две пронести посуху на плечах. Таким образом, мы бросили всякие помыслы о нашем фрегате и, заведя его в одну бухточку или заливец, где в реку впадал небольшой ручей, оставили его там для первого пришедшего и двинулись дальше. Мы провели почти два дня за тем, что распределяли нашу поклажу и грузили ее на наших буйволов и негров. С порохом и пулями, о которых мы заботились больше всего, мы распорядились вот как: во-первых, мы рассыпали порох по кожаным мешочкам, то есть по мешкам, изготовленным из высушенных шкур, шерстью внутрь, чтобы порох не отсырел. Эти мешочки мы в свою очередь вложили в другие, из буйволовой шкуры, шерстью наружу, так что сырость никак не могла проникнуть внутрь. Это средство оказалось настолько хорошим, что в самые сильные ливни, под которые мы попадали — а некоторые из них были очень обильны и продолжительны — порох у нас всегда оставался сухим. Кроме этих мешочков, служивших нам главным запасом, мы каждому роздали еще по четверти фунта пороха и по полуфунту пуль для ношения на себе. А так как этого количества было достаточно для наших каждодневных потребностей, то мы не хотели в жару носить на себе больше тяжестей, чем необходимо. Мы по-прежнему все время держались речного берега и поэтому имели мало сношений с жителями окрестностей. К тому же, так как барк наш был обильно нагружен съестными припасами, то нам не приходилось их пополнять. Но теперь, когда пришлось нам двинуться пешком, часто вынуждены мы бывали пускаться в поиски за продовольствием. Первым местом на реке, у которого мы задержались на некоторое время, было негритянское поселение, хижин в пятьдесят, с числом жителей человек в четыреста; они все высыпали из хижин и дивились на нас. Когда появились наши негры, местные обитатели стали хвататься за оружие, думая, что наступают враги. Но наши негры знаками (так как местного языка не знали) объяснили, что они безоружны, связаны по двое, что они сами взяты в плен и что за ними идут люди, которые явились с солнца *["559], и могут, если захотят, перебить всех и затем снова оживить. Эти люди не причинят им вреда, а идут с миром. Понявши это, жители сложили копья, луки и стрелы, воткнули в землю двенадцать больших шестов в знак мира и поклонились нам, выражая покорность. Но, неожиданно увидевши белых бородатых людей, они в ужасе, с криками, убежали прочь. Мы держались в отдалении, чтобы вид наш не стал им привычен, и появлялись не более чем по двое, по трое. Наши пленники объяснили туземцам, что нам требуются съестные припасы. Те пригнали нам несколько штук крупного скота, ибо у них в окрестности было множество коров, буйволов и оленей. Наш токарь, у которого имелся теперь большой запас собственных изделий, подарил им разные безделушки, серебряные и железные пластинки, вырезанные в виде ромбов и в виде колец; все это очень понравилось туземцам. Они принесли еще всякие неизвестные нам плоды и коренья, которые наши негры стали охотно есть. Увидевши, что негры едят это, мы последовали их примеру. Набравши здесь столько мяса и кореньев, сколько можно было снести, мы разделили груз между неграми с таким расчетом, чтобы на человека приходилось от тридцати до сорока фунтов; это был, по нашему мнению, достаточный груз для передвижения по жаркой местности. И негры не протестовали против этого, но подчас они даже помогали друг другу, если замечали, что кто-нибудь из них начинал уставать. К тому же, главная часть нашей поклажи состояла из съестного, и потому с каждым днем убывала в весе, подобно эзоповой корзинке с хлебами *["560], покуда мы не возобновляли запасов. Кстати, нагрузивши негров, мы развязали им руки, но зато связали их по двое, нога к ноге. На третий день пути наш главный плотник остановил нас и заставил соорудить хижины. Он нашел несколько понравившихся ему деревьев и решил тут же построить каноэ. Мне объяснил он, что, после того, как мы покинем реку, нам будет предстоять достаточно много ходьбы, и потому он решил передвигаться пешком только в случае крайней необходимости. Не успели мы распорядиться о постройке малого нашего становища и разрешить неграм сложить поклажу, как они сами уже принялись за постройку хижины. Хотя они и были связаны, но все же управлялись так ловко, что просто поразительно. Здесь мы дали части негров свободу, то есть совсем развязали их, имея залогом поруку, данную за их верность князьком. Одних мы приставили помогать плотникам, и они после нескольких указаний работали очень ловко; других мы послали выяснить, нет ли поблизости продовольствия. Трое из них вернулись, принеся вместо еды два лука со стрелами и пять копьев. Не легко было выяснить, откуда они это добыли. Только и удалось понять, что они в каких-то хижинах обнаружили негритянок (мужчин же не было), и в хижинах или домах нашли эти луки и копья; при этом женщины и дети убежали, завидевши наших негров, точно от разбойников. Мы очень разгневались на них и приказали князьку спросить, не убили ли они кого-нибудь из женщин и детей, при чем убедили их, что за это мы их тоже убьем. Но они утверждали, что невиновны, и мы их простили. Тогда они, по знаку их черного князька, подали нам луки, стрелы и копья. Мы же вернули им луки и стрелы, позволивши вновь отправиться поискать какой-нибудь дичи для еды. При этом мы разрешили им обороняться, а именно, если кто-нибудь нападет на них, выстрелит или захочет применить насилие, они в праве убить его. Но они не должны пытаться убить или ранить того, кто предложит им мир, или кто сложит оружие; не должны также ни при каких обстоятельствах трогать женщин и детей. Таков был наш воинский устав. Не прошло трех-четырех часов с момента ухода этих трех парней, как один из них прибежал без лука и стрел, еще издали крича и зовя нас: «Окоамо! Окоамо!» — что, как видно, обозначало: «Помогите! Помогите!» Остальные негры торопливо поднялись и по двое, как могли, побежали к товарищу узнать, в чем дело. Ни я, ни кто-нибудь из наших ничего не понимал. Князек глядел так, словно приключилось что-то недоброе, а часть наших взялась за оружие, чтобы на всякий случай быть наготове. Но негры вскоре догадались, в чем дело, — мы увидали, как четверо их тащат большой груз мяса на спине. Оказалось, что вышедшие с луками и стрелами повстречали на равнине большое оленье стадо и изловчились убить трех оленей. Один из негров прибежал просить помощи, чтобы перенести добычу. Это была наша первая лесная добыча за весь путь, и мы досыта наелись. Тут впервые убедили мы князька поесть мяса, приготовленного по-нашему. После этого подданные последовали его примеру; до этого они ели мясо почти сырым. Мы жалели уже, что не захватили с собой больше луков и стрел, когда имели возможность к тому. Мы стали так доверять нашим неграм и так привыкли к ним, что часто отпускали их, или большую их часть, несвязанными. Мы были уверены, что они нас не оставят, и что без нас они не сумеют разыскать нужное направление. Только одно дело мы решили не доверять им: заряжение мушкетов. Они по-прежнему думали, что в мушкете сидит небесная сила, которая посылает огонь и дым, производит ужасающий шум и убивает на расстоянии, — стоит нам только ей это приказать. Приблизительно в восемь дней мы закончили сооружение трех каноэ. В них мы погрузили белых, поклажу и черного князька с несколькими пленными. Мы сочли полезным, чтобы несколько наших всегда находилось на берегу, не только для того, чтобы управлять неграми, но и для того, чтобы защищать их от врагов и хищных зверей. Во время этого перехода случилось множество мелких происшествий, описанием которых невозможно перегружать рассказ. В частности, мы теперь встречали больше хищных зверей, чем прежде; мы видели несколько слонов и двух или трех львов, — прежде мы их вовсе не встречали. Наши негры боялись их значительно больше, чем мы, главным образом потому, что у них не было ни луков со стрелами, ни копьев, — обычного их вооружения, владеть которым они обучаются с детства. Но мы излечили их от страхов тем, что всегда были наготове с огнестрельным оружием. Правда, мы хотели беречь порох, и убивать этих зверей нам было ни к чему, так как их шкуры были слишком тяжелы для переноски, а мясо их в пищу не годилось; мы решили поэтому не заряжать мушкетов, а давать только холостые выстрелы. И стоило пороху вспыхнуть на полке, как хищники, даже львы, вздрагивали, завидевши вспышки, отбегали и немедленно оставляли нас в покое. Здесь, в верхней части реки, мы прошли мимо многих населенных мест, и при этом через каждые почти десять миль мы подходили к новой народности. У каждой из них был свой язык, по крайней мере, сильно различающиеся наречия, так что друг друга туземцы не понимали. Во всех встречных селениях, особенно в прибрежных, было множество скота. А на восьмой день этого второго речного плавания мы наткнулись на негритянское поселение, обитатели которого выращивали какой-то злак, вроде риса *["561], очень сладкий на вкус. Получивши его от туземцев, мы сделали превосходное тесто, развели костер и затем, когда он погас, испекли на углях из этого теста превосходные хлебы. Таким образом, с тех пор мы не нуждались решительно ни в чем. Негры наши тянули каноэ на буксире, и мы подвигались хорошим ходом, по нашим подсчетам, не меньше, чем двадцать или двадцать пять английских миль в день. Река же все время была широка и достаточно глубока, но на десятый день мы наткнулись на другой водопад. Цепь высоких холмов перегораживала все речное русло, и вода ниспадала по скалам с одного яруса на другой странным образом, так что то была, в сущности, целая цепь водопадов, вроде непрерывной вереницы каскадов, только пороги здесь подчас отстояли на добрую четверть мили друг от друга, и шум был глухой, ужасающий. Теперь, казалось, нашему речному передвижению пришел решительный конец. Но трое наших, вместе с двумя неграми, взобрались на холмы в сторонке, чтобы осмотреть речное русло, и обнаружили, что всего в полумиле хода русло реки превосходно и судоходно еще на изрядное расстояние. Мы все взялись за работу, выгрузили поклажу и вытащили все каноэ на берег, чтобы выяснить, удастся ли нам перенести их. Испытание показало, что они очень тяжелы, но наши плотники, потратив на работу целый день, срубили с бортов каноэ столько дерева, что они оказались намного меньше, плавать же в них можно было не хуже, чем прежде. Когда работа была закончена, десять человек подняли одно каноэ на шесты и без всякого труда понесли его. Мы приставили к каждому каноэ по двадцать человек с тем, чтобы один десяток сменялся другим. Таким способом мы перенесли наши каноэ и снова спустили их на воду; затем перетащили поклажу и погрузили ее снова в каноэ; со всем этим мы управились в один день. И на следующий день рано поутру вновь двинулись в путь. После того, как мы прошли еще четыре дня на буксире, пушкарь, бывший нашим лоцманом, стал замечать, что мы идем не совсем точно по выбранному нами направлению; что река несколько отклоняется на север; об этом он, как полагается, сообщил нам. Как бы то ни было, мы не могли лишаться преимуществ водного передвижения, по крайней мере, до тех пор, покуда мы к этому не оказались принуждены. Мы закачались дальше, и река понесла нас еще дюжин на пять миль. Но затем, пройдя устья многих впадавших в нее ручьев и речек, мы заметили, что она стала уменьшаться и мелеть. Под конец и сама она превратилась в ручей. Все же мы двигались вверх по реке, покуда только лодки в состоянии были плыть. Мы шли так еще два дня, в общем же по последнему участку реки мы подымались около двенадцати дней, облегчив лодки тем, что вытащили из них всю поклажу, которую дали нести неграм. Самих же себя мы старались не утруждать, сколько это возможно. Но к концу этих двух дней воды в реке оказалось столько, что даже лондонский ялик *["562] не мог бы в ней плыть. Нам предстояло теперь сухопутное путешествие, без каких бы то ни было надежд на передвижение по воде. Единственная теперь наша забота о воде заключалась в том, чтобы обеспечить себе запасы для питья. Поэтому мы взбирались на вершину каждого встречного холма, чтобы осмотреть близлежащие местности и возможно лучше выбрать путь, который держался бы низменных мест и возможно ближе к водному потоку. Вокруг по-прежнему простиралась зеленеющая окрестность, вся усеянная деревьями, обильно пересеченная реками и ручьями и довольно густо населенная. Так продолжалось в течение тридцати, примерно, дней после того, как мы оставили каноэ, и дела наши обстояли вполне хорошо. Мы не связывали себя определенным сроком отправления и отдыха, но располагали их так, как нам было удобно и как требовали того здоровье и благополучие наше и наших слуг. Приблизительно на середине этого перехода мы вступили в низменную равнину, в которой оказалось больше обитателей, чем в какой-либо из пройденных нами местностей. Но, что было много хуже для нас, эти обитатели оказались свирепым, диким народом. Сначала они приняли нас за разбойников и собирались большими толпами, чтобы напасть на нас. Наши негры сразу же испугались их и выказывали необычайный страх. Даже черный князек оказался сильно расстроенным, но я улыбнулся и, указав на мушкеты, спросил, неужели он думает, что мы, убившие пятнистую кошку (так они на своем языке называют леопарда), не сможем в один прием убить тысячу этих голышей. Тогда он рассмеялся и ответил, что да, верит этому. — В таком случае, — сказал я, — передайте вашим подданным, чтобы они не боялись этих людей. Мы скоро дадим им попробовать то, что приготовили для них, если только они захотят связываться с нами. Но все же мы приняли во внимание, что находимся в самой середине обширной страны, и что нам неизвестно, сколько людей и сколько различных народностей окружает нас. Главное, мы не знали, придется ли нам нуждаться в дружественных отношениях с теми, в чьей среде мы находимся, поэтому мы приказали нашим неграм пустить в ход все возможные средства для того, чтобы сдружиться с ними. Согласно с этим трое негров, у которых были луки и стрелы, и еще двое, которых мы снабдили копьями князька, и еще пятеро с длинными шестами пошли вперед. За ними выступили к ближайшему негритянскому поселению десятеро наших. Мы же все держались наготове, чтобы в случае надобности прийти им на помощь. Подойдя довольно близко к постройкам, наши негры во весь голос окликнули обитателей своим обычным пронзительным криком. На этот призыв ответило и вышло несколько мужчин; немедленно следом за ними появилось все поселение — мужчины, женщины и дети. Наши негры с длинными шестами выступили несколько вперед, и, воткнувши все шесты в землю, отступили. Это у них на родине являлось знаком мира, но те не поняли значения этого. Тогда трое наших негров сложили луки и стрелы, вышли вперед безоружными и начали делать знаки мира. Это, наконец, было туземцами понято. В ответ трое из них также положили луки и стрелы, и вышли вперед к нашим. Наши продолжали им делать всяческие знаки мира, какие только приходили им на ум, прикладывая руки ко рту в знак того, что им нужны съестные припасы. Туземцы же, делая вид, что они обрадованы и настроены дружественно, возвратились к своим сородичам, некоторое время разговаривали с ними, затем снова выступили вперед и стали показывать знаками, что до захода солнца они доставят съестное. Итак, наши негры вернулись на этот раз очень довольные. За час до захода солнца наши снова отправились к туземцам тем же порядком, что и в первый раз. Те явились, согласно условию, и принесли с собой оленину, коренья и тот самый злак, похожий на рис, о котором я уже упоминал. Наши же негры дали им безделушки, которыми снабдил их наш токарь, и которыми туземцы были бесконечно обрадованы, так что пообещали на завтра доставить еще больше съестного. На следующий день они явились опять, но наши люди заметили, что их было много больше, чем накануне. Впрочем, нас не легко было захватить врасплох, так как десять человек, вооруженных огнестрельным оружием, всегда стояло наготове, и все наше войско было на виду. К тому же измена врагов была совсем не так тонко задумана, как это могло бы случиться при иных обстоятельствах, ибо они смогли, прикрываясь мирными намерениями, окружить посланным нами негров, которых было всего только десять человек. Негодяи же лишь только увидели, что наши негры подошли уже к месту, на котором они встретились еще накануне, сразу же схватили свои луки и стрелы и, точно фурии *["563], набросились на наших негров. Десятеро наших белых, завидевши это, приказали неграм возвратиться; этому приказу негры повиновались с величайшей торопливостью и поспешили укрыться позади наших. Туземцы же наступали им вдогонку и выпустили вслед около сотни стрел, которыми двое наших негров были ранены, а третий, как мы решили, — убит. Дойдя до пяти шестов, которые воткнули в землю наши негры, туземцы приостановились и, сгрудившись вокруг них, стали их рассматривать и щупать, точно недоумевая, что они обозначают. В это время мы, стоявшие в отдалении, отправили посланца к десяти нашим с предложением стрелять в туземцев, покуда те стоят так плотно. Мы предложили заложить мушкеты, помимо пуль, также и картечь и сообщили, что тотчас же присоединимся к ним. Наши изготовились, как было сказано, но лишь только они собрались стрелять, черное войско, бродившее вокруг шестов, стало шевелиться, точно собираясь наступать, хотя вид новых людей, стоявших позади наших негров, несколько смутил его. Они не могли понять, что мы собой представляем, и как с нами поступить. Еще менее могли они понять это тогда, когда наши, видя их продвижение вперед, выпалили в самую их гущу. А залп был дан с расстояния в сто двадцать ярдов, судя на глаз. Невозможно описать ужас, стоны и вопли этих жалких созданий после первого же залпа. Мы убили шестерых и ранили одиннадцать или двенадцать человек, то есть стольких нам удалось сосчитать; в действительности же картечь рассыпалась по густо стоящей толпе, и у нас были основания думать, что мы поранили также и многих стоявших в отдалении, ибо наша картечь состояла из кусочков свинца, кусочков железа, шляпок от гвоздей и прочего, что изготовил наш трудолюбивый мастер, искусный токарь. Видя убитых и раненых, остальные дикари были поражены так, что и представить себе нельзя. Они никак не могли понять, что же уложило их товарищей, так как не видели на телах мертвых и раненых ничего, кроме неизвестно откуда взявшихся отверстий. Огонь и шум ошарашили всех их, и мужчин, и женщин, и детей, и испугом отшибли им разум. Дико выпучив глаза и воя, бегали они кругами, точно безумные. Все же испуг не заставил их бежать, чего мы так добивались. Никто из них также не умер от страха, как то было в первой битве. Поэтому мы решили дать второй залп, а затем продвинуться вперед, подобно тому, как мы поступали прежде. В это время подошли все наши, стоявшие в запасе, и мы решили стрелять по трое в раз, одновременно двигаясь вперед, словно войско плутонгами *["564]. Так, выстроившись в один ряд, мы стали стрелять; сперва трое на правом крыле, затем трое на левом, и так далее. И каждый раз мы убивали и ранили по несколько туземцев, но они все же не обращались в бегство, хотя были так перепуганы, что даже не пускали в ход свои луки, стрелы и копья. И казалось нам, что число их растет у нас на глазах, — особенно это казалось благодаря их шуму. Я крикнул поэтому нашим остановиться, приказал дать по ним общий залп, а затем кричать, как мы поступили в первом сражении, наброситься на них и бить их мушкетными прикладами. Но туземцы оказались слишком умны для того, чтобы дожидаться этого. Как только мы дали первый залп и вскрикнули, они все — мужчины, женщины и дети — побежали прочь с такой быстротой, что через несколько мгновений на виду не осталось ни одного живого существа, если не считать раненых, которые, стеная и плача, валялись там и сям на земле. Когда мы заняли поле битвы, то обнаружили, что убили тридцать семь человек, в том числе трех женщин, и ранили шестьдесят четырех, среди которых оказались две женщины. Под ранеными я подразумеваю тех, которые были так изувечены, что не в состоянии были уйти. Потом наши негры прикончили их подло и хладнокровно, чем мы были очень рассержены. Мы пригрозили прогнать их, если они еще раз так поступят. Поживиться тут было нечем, потому что все, мужчины и женщины, были голые, только у некоторых в волосах торчали перья, а у других на шее висело нечто вроде запястья. Но наши негры набрали боевую добычу, которой мы очень обрадовались. То были луки и стрелы побежденных; оружия оказалось столько, что некуда было девать его. Все это оружие, принадлежавшее убитым и раненым, мы приказали подобрать, и оно оказалось впоследствии очень полезным для нас. После боя, после того, как негры оказались вооружены луками и стрелами, мы разослали их отрядами разведать, что здесь имеется, и они принесли нам съестного; но, что лучше всего, они пригнали еще четырех бычков, или буйволов, обученных работе и тасканию тяжестей. Негры узнали это, как кажется, по их вытертым от тяжести спинам, так как в той стране не знают седел. Скотина не только облегчила нашим неграм труд, но и дала нам возможность захватить большие запасы съестного. Наши негры безжалостно нагрузили их здесь мясом и кореньями, в которых мы сильно нуждались впоследствии. В этом негритянском поселении мы нашли совсем молоденького леопарда *["565], ростом в две пядени *["566]. Он был ручной и по-кошачьи мурлыкал, когда мы гладили его; очевидно, негры воспитывали его вроде домашней собачонки. Кажется, наш черный князек, обходя покинутые хижины, наткнулся на это создание. Зверь ему понравился, и князек дал ему кусочка два мяса, и зверь пошел за ним, как собака. Дальше я еще расскажу о нем. Среди убитых в этом сражении негров оказался один, у которого на лбу, на скрученном куске сухожилия, висела тонкая пластинка золота, величиною с шестипенсовую монету. Из этого мы заключили, что то какой-нибудь важный человек среди туземцев. Мало того, этот кусочек заставил нас весьма тщательно искать золото в этих краях. Но золота мы не нашли. В этой местности мы шли еще пятнадцать дней. Тут оказалось, что мы вынуждены перебраться через цепь высоких, страшных на вид гор, впервые повстречавшихся нам по пути. Так как никакого путеводителя, кроме маленького карманного компаса, у нас не было, мы не могли, конечно, располагать сведениями, какая дорога хуже, какая лучше. Мы должны были выбирать путь на глаз и пробираться наудачу. Еще на равнине, до того, как мы добрались до гор, мы встретили несколько различных диких племен, ходивших нагишом; они оказались немногим приветливее и дружелюбнее тех чертей, с которыми мы были вынуждены сражаться. Хотя от этих людей мы могли получить мало сведений, мы все же узнали по знакам, которые они нам делали, где, как говорили наши негры, много льва, много пятнистой кошки (так они называли леопардов). Знаками они объяснили нам также, чтобы мы взяли с собой воды. У последнего из встречных племен мы запаслись таким количеством продовольствия, какое только могли нести, ибо мы не знали, что предстоит нам испытать, и какой длины путь предстоит нам пройти. А чтобы возможно больше знать нам о дороге, я предложил захватить в плен кого-нибудь из жителей последнего встреченного племени для того, чтобы они вели нас через пустыню, помогали нам нести съестные припасы и, если понадобится, раздобывали их. Мой совет был слишком важен для того, чтобы им пренебречь. Итак, узнавши, путем немых знаков, что еще до начала пустыни, у подножия гор по другой стороне имеются жители, мы решили при помощи любых средств, честных или подлых, обеспечить себя там провожатыми. По умеренным нашим расчетам, мы находились теперь в семистах милях от того морского берега, откуда мы выступили. В этот день черный князек был освобожден от повязки, в которой висела его рука; наш лекарь превосходно излечил ее. И князек показывал своим сородичам совершенно здоровую руку, чему они немало дивились. Стали поправляться и наши негры, — раны их быстро зарастали, так как лекарь весьма искусен был во врачевании их. С бесконечным трудом взобравшись на возвышенности, мы получили возможность оглядеть расположенную за ними местность, и этот вид мог потрясти самое мужественное сердце. Перед нами расстилалась мертвая пустыня *["567]. Не было видно ни деревца, ни реки, ни клочка зелени. Вокруг, куда ни посмотри, ничего не было, кроме раскаленного песка, который при дуновении ветра носился такими облаками, что они могли ошеломить человека и животное. Конца пустыни мы не видели, — ни прямо перед собой, куда лежал наш путь, ни по правой, ни по левой стороне. Это было такое зрелище, что наши упали духом и заговорили о том, чтобы возвращаться. Действительно, мы не могли решиться вступить в то ужасное место, которое лежало перед нами, и где мы видели только верную смерть. Зрелище повлияло на меня так же сильно, как и на остальных. Но, несмотря на это, я не мог примириться с мыслью о возвращении. Я сказал, что мы прошли семьсот миль нашего пути, и лучше уж умереть, чем думать о возвращении. А если все уверены, что пустыня непроходима, то лучше переменить направление: пойти на юг и добраться до мыса Доброй Надежды, или взять на север, к странам, лежащим по Нилу, откуда, может быть, нам удастся найти тот или иной путь к западному побережью. Не может же быть, чтобы всяАфрика была пустыней. Пушкарь, который, как я уже сказал, был нашим руководителем во всем, что касалось расположения мест, не знал, что и сказать на предложение пойти к мысу Доброй Надежды. Он сообщил, что мыс Доброй Надежды отстоит от места, где мы находимся, не менее, как на полторы тысячи миль. По его расчетам, мы сделали уже треть пути к берегу Анголы, где мы выйдем к западному океану и найдем пути для возвращения домой. С другой стороны, — заверял он нас, показавши карту, — если идти к северу, то надо учесть, что западный берег Африки выступает в море больше, чем на тысячу миль, так что нам в дальнейшем придется пройти по суше еще добавочную тысячу миль. К тому же мы о тех местах ничего не знаем, и земля там может оказаться такой же дикой, безлюдной и пустынной, как и здесь. Поэтому он и советует пойти через пустыню и, быть может, она окажется вовсе не такой уж большой, как мы опасаемся. Во всяком случае, он советует рассчитать, насколько хватит наших припасов и особенно воды. Мы должны в пустыне зайти не далее половины того расстояния, на которое нам хватит воды. Если тогда не окажется конца пустыни, мы должны в полной сохранности возвратиться. Совет этот был так разумен, что мы все одобрили его. Мы подсчитали, что еды нам хватит на сорок два дня, воды же мы можем захватить только на двадцать дней, и то она наверняка начнет протухать еще до истечения этого срока. Поэтому мы пришли к заключению, что, если мы в продолжение десяти дней не доберемся до какого-нибудь источника, то возвратимся обратно. Если же нам удастся обновить запас воды, мы можем путешествовать двадцать один день; если и в этом случае не увидим конца пустыне, то возвратимся. Так, установивши заранее предохранительные меры, мы спустились с гор и только на второй день достигли краев равнины. Здесь, однако, как бы в вознаграждение за наши тяготы, мы нашли чудесную маленькую речонку с превосходной водой, уйму крупной дичи и обнаружили какое-то животное вроде зайца *["568], только не такое юркое, чье мясо нам очень понравилось. Но сведения нам сообщили ложные — людей мы не нашли. Таким образом, у нас не оказалось лишних пленников для переноски поклажи. Бесчисленное множество оленей и других животных, которых мы нашли здесь, собралось, по-видимому, из-за соседства с пустыней, откуда некоторые животные забегали сюда для прокорма и отдыха. Здесь мы запаслись мясом и различного рода кореньями, которые заменили нам хлеб и в которых наши негры разбирались лучше, чем мы. Запаслись мы также и водой на двадцать дней из расчета одной кварты в день на каждого негра, трех пинт в день на каждого из нас и трех кварт на каждого буйвола. Так, нагрузившись для долгого изнурительного перехода, мы пустились в путь. Все были совершенно здоровы и бодры, хотя не все одинаково могли переносить усталость. Но главное наше горе заключалось в том, что у нас не было проводника. С того момента, как мы вступили в пустыню, настроение сразу же сделалось подавленным, так как песок оказался таким глубоким и так обжигал жаром наши ноги, что, с трудом проковылявши, сказал бы я, а, не пройдя по нему семь или восемь миль, мы все смертельно устали и ослабели. Даже негры легли на землю и тяжело вздыхали, точно загнанные вьючные животные. Тут оказалось, что и условия ночлега весьма вредоносны для нас. Прежде мы строили себе хижины и спали в них, прикрытые от ночной свежести, которая в этих жарких краях особенно губительна. Здесь у нас не было ни прикрытия, ни крова после такого тяжелого перехода; не было здесь поблизости от нас и деревьев, ни даже кустов. Но, что было особенно устрашающе, мы к ночи услыхали волчий вой, львиное рычание, рев диких ослов и много других отвратительных и никак нам не знакомых звуков. Мы подумали тогда о своей неосторожности: ведь мы, по крайней мере, могли бы захватить с собой шесты или жерди и на ночь окружать себя частоколом, чтобы хоть спать в безопасности, каковы бы уже ни оказались прочие неудобства. Как бы то ни было, мы под конец все же нашли способ, несколько облегчивший нам положение. Сперва мы воткнули в землю все имевшиеся у нас копья и луки, затем мы кое-как соединили их верхние концы и развесили на них плащи; и оказалось что-то вроде скверной палатки. Все это мы перекрыли леопардовой шкурой и еще несколькими имевшимися у нас шкурами. В итоге вышло довольно сносно. Мы улеглись спать и в первую, по крайней мере, ночь спали превосходно. На всякий случай мы выставили хорошую стражу, состоящую из двух наших, вооруженных фузеями, их мы сменяли сперва каждый час, а затем каждые два часа. Оказалось, что поступили мы совершенно правильно, ибо часовые обнаружили, что пустыня кишит всякого рода хищными зверями; причем некоторые из них приближались прямо к самому входу в нашу палатку. Но часовым было приказано не тревожить нас ночной стрельбой, а только встречать зверя холостыми выстрелами. Так они и поступали; и этого оказывалось Достаточно, так как хищники, завидевши вспышки, подчас ревя или завывая, немедленно убегали искать какую-нибудь другую добычу. Если мы устали от дневного перехода, то не меньше мы устали и от ночного сна. Но черный князек утром заявил нам, что хочет дать один совет. Совет его действительно оказался превосходным. Он заявил, что если мы будем путешествовать дальше таким же образом по этой пустыне без всякого прикрытия на ночь, то это погубит нас. Поэтому он советует вернуться к речке, у которой мы провели прошлую ночь, и там оставаться до тех пор, покуда мы не построим себе такие, как он выразился, дома для ночевки, которые мы сможем переносить с собой. Так как он немного владел уже нашей речью, а мы к тому же превосходно усвоили его знаки, мы легко его поняли: он советовал нам вернуться и сплести большие циновки, а мы вспомнили, что видели у речки много циновочника или тростника, из которого туземцы плетут циновки. Этими циновками мы на ночь сможем накрывать наши палатки. Мы все одобрили его совет и немедленно решили вернуться, рассчитавши при этом, что лучше нести меньше съестных припасов, зато иметь с собой циновки для прикрытия на ночь. Несколько человек, самых подвижных, вернулось к реке значительно быстрее, чем мы шли от нее накануне. Остальные, так как торопиться было некуда, сделали по пути привал, переночевали еще раз и подошли к нам на следующий день. Но на своем обратном пути, продолжавшемся два дня, наши товарищи встретились с чрезвычайно поразившим их обстоятельством, которое научило их быть осторожнее впредь, когда разлучаются с остальными. Дело было вот в чем: утром второго дня, пройдя с полмили и обернувшись назад, они увидели в воздухе большое облако пыли, какое бывает у нас летом, когда очень пыльно и передвигается большое стадо. Только это облако было значительно больше. Они ясно увидели, что облако идет им вслед и что оно приближается значительно быстрее, чем они успевают уходить от него. Песчаное облако было так велико, что нельзя было разглядеть, кем оно поднято, и они было решили, что их преследует целое войско врагов. Но потом сообразили, что идут из огромной необитаемой пустыни, и невозможно, чтобы какое-нибудь племя получило сведения о них и о пути, которым они идут. Следовательно, если это войско, то оно, подобно им, лишь случайно идет тем же путем. С другой же стороны, зная, что в этом краю нет лошадей, и видя быстроту, с какой облако надвигалось, они заключили, что это, должно быть, огромная стая хищных зверей, движущихся, быть может, к холмам на водопой и корм. В этом случае стая всех их пожрет или растопчет множеством своим. Обдумавши все это, они внимательно высмотрели, в каком направлении движется облако, и свернули с пути, немного к северу, надеясь, что так оно минует их. Отойдя в сторону, приблизительно на четверть мили, они остановились посмотреть, что представляет собой облако. Один из негров, более подвижный, чем остальные, отошел немного назад и через несколько минут стал возвращаться, убегая так быстро, как только позволяли тяжелые пески. Он знаками объяснил, что это большое стадо чудовищно огромных слонов. Так как наши подобного зрелища никогда не видали, то поэтому им захотелось посмотреть на слонов, хотя они немного и побаивались возможной опасности. Слон, правда, создание тяжелое и неповоротливое, но в глубоком песке, который ему нипочем, он движется с большой скоростью. И наши легко утомились бы, если бы им пришлось идти далеко или бежать от преследовавших слонов. С ними был пушкарь; ему страшно хотелось подобраться к крайнему слону, приставить ему мушкет к уху и выпалить. Дело в том, что он слышал, что никакая пуля не может пробить слоновую кожу. Но все остальные отговорили его от этого, боясь, что слоны на шум обернутся и бросятся на них. Пушкаря убедили оставить эту мысль и дать слонам пройти своим путем, что, несомненно, было самым лучшим исходом при обстоятельствах, в каких находились наши. Слонов было числом около двадцати-тридцати штук, и все они были особо крупных размеров. Они не раз показывали нашим, что видят их, но не сворачивали с пути и уделяли нашим внимания лишь настолько, чтобы дать им, можно бы сказать, возможность посмотреть на себя. Мы, находившиеся впереди, видели облако пыли, поднятое слонами, но решили, что то наш собственный караван, и поэтому не обратили на пыль никакого внимания. И так как слоны изменили несколько курс, примерно на один румб к югу от востока, в то время как наши шли прямо на восток, то они и прошли мимо наших в некотором отдалении. Мы, таким образом, их не видели и ничего не знали о них до вечера, покуда к нам не присоединились наши и все не рассказали. Как бы то ни было, это оказалось полезным уроком для следующих наших переходов в пустыне, как вы услышите в надлежащем месте. Теперь мы принялись за работу. Наш черный князек был главным надсмотрщиком, потому что сам он был превосходным циновочным мастером. Все его подданные также хорошо знали это дело, и вскоре они изготовили нам около сотни циновок. Так как каждый человек — я разумею негров — нес одну циновку, это не дало почти никакой прибавки груза, и мы ни на унцию не уменьшили нашего запаса съестного. Тяжелее всего было нести шесть длинных шестов, не говоря уже о коротких жердях. Но негры воспользовались и этим. Они сложили шесты по два, образовавши таким образом три пары носилок, и привязали к ним запасы съестного; этим они облегчили себе переноску поклажи. Как только мы увидели этот способ, то также извлекли из него пользу для себя. Так как у нас было на три или четыре бутыли больше, чем людей для носки их (под бутылями я подразумеваю мехи для хранения воды), то мы наполнили их водой и понесли этим же способом. Это позволило взять запас воды на день путешествия, да и с лишком. Итак, закончивши работу, приготовивши нужные циновки, совершенно пополнивши запасы всего необходимого нам и наплетши для повседневного употребления множество веревочек, мы снова пустились в путь. В общем, мы для всего этого прервали наше путешествие на восемь дней. К великому нашему счастью, накануне нашего выступления выпал весьма яростный ливень, следствия которого мы ощутили в песках. Хотя жара в течение одного дня высушила песок до прежнего состояния, он в глубине стал тверже, не так тяжел и более прохладен. Мы прошли поэтому, по нашим подсчетам, четырнадцать миль вместо семи и со значительно меньшими трудностями. Когда дело дошло до ночевки, все у нас к этому было уже готово, потому что мы еще на месте ставили и испытывали палатку. Менее чем в час нами была разбита большая палатка с внутренним и внешним отделениями и с двумя выходами. В одном лежали мы, в другом наши негры — все на легких изящных циновках и прикрытые такими же циновками. Снаружи было у нас, сверх того, отведено отделение для буйволов. Они заслуживали наших забот, так как были нам очень полезны и несли весь потребный им запас корма и воды. Корм их состоял из корней, которые мы собрали по указанию нашего черного князька. Корни эти походили на пастернак *["569], были сочны и питательны; их мы в изобилии находили повсюду, за исключением только этой ужасной пустыни. Когда утром настала пора сниматься с лагеря, наши негры убрали палатку и выдернули шесты. На то, чтобы прийти в движение, потребовалось не больше времени, чем на установку палатки. Таким образом шли мы восемь дней, не замечая в пути никаких изменений; все казалось таким же диким и заброшенным, как в начале. Единственное только и имелось изменение, что песок был не так глубок и тяжел, как в первые три дня. Мы решили, что причиною этому является дующий здесь шесть месяцев в году восточный ветер (другие шесть месяцев он дует с запада), который нагоняет песок к тому краю пустыни, откуда мы вышли. А так как горы очень высоки, то восточные муссоны не могут с такой же силой отгонять песок обратно. Это предположение подтвердилось тем, что на западном краю пустыни мы встретили песок такой же глубины. На девятый день нашего пути по пустыне мы увидели большое озеро *["570]. Можете не сомневаться, что это чрезвычайно подбодрило нас, так как воды у нас оставалось не больше, чем на два-три дня, да и то при урезанном пайке. Я подразумеваю, конечно, запас воды на один конец. Ведь возможно, что нам пришлось бы вернуться. В общем, воды у нас хватало на два дня больше, чем срок, который мы себе наметили. Объяснялось это тем, что наши буйволы дня два-три там находили какое-то стелющееся по земле, растущее в песке растение, вроде широкого, плоского чертополоха, только без колючек *["571]. Им они наедались вволю; оно заменяло им и корм и пойло. На следующий день, десятый от нашего выступления в путь, мы добрались до края озера. К счастью для нас, мы вышли к южной его оконечности, ибо к северу мы другого конца его не могли различить. Мы пошли вдоль озера, три дня держась его берегов. Это принесло нам большое облегчение, так как облегчило нашу поклажу: нам не нужно было нести воду, мы шли все время рядом с ней. Но, несмотря на то, что здесь было столько воды, облик пустыни не переменился. Не было ни деревьев, ни травы, никаких растений, кроме этого чертополоха, как я называю его, да еще двух-трех неизвестных нам растений, покрывавших пустыню. Хотя и были мы освежены и укреплены соседством этого озера, но зато попали теперь в среду такого огромного количества хищных обитателей пустыни, подобного которому, я в этом уверен, никогда не видывал человеческий взор. Так же твердо, как я убежден, что с самого потопа *["572] ни один человек эту пустыню не пересекал, так же твердо уверен я, что нет во всем свете подобного сборища хищных, свирепых и прожорливых созданий, то есть нигде нет такого скопления их в одном месте. За день до того, как мы достигли озера, и в течение всех тех трех дней, что мы проходили вдоль него, мы заметили, что земля усеяна совершенно невероятным количеством слоновьих клыков. Некоторые из них лежали здесь столетиями, и так как объем их от времени почти не уменьшился, я думаю, они могут так пролежать до скончания веков. Величина отдельных клыков показалась тем, кому я их описывал, столь же неправдоподобной, как и их количество, но я могу заверить вас, что среди них было много столь тяжелых, что самые сильные из нас не могли их поднять. Что касается их количества, то для меня нет сомнения, что ими можно нагрузить тысячу вымпелов самых больших кораблей на свете. Этим я хочу сказать, что количество их нельзя себе и представить. Они лежали на пространстве, которое можно было только охватить глазом больше чем на восемьдесят миль впереди нас, и на такое же расстояние виднелись направо, и на такое же влево от нас, и, возможно, во много раз больше еще, ибо нам это неизвестно. Ибо, как кажется, слонов в этих краях необычайно много. В одном месте мы нашли череп слона с торчащими клыками; это был один из самых больших, какие я когда-либо видел. Мясо и остальные кости этого слона истлели, понятно, в течение многих сотен лет. Но череп с клыками не могли поднять трое сильнейших наших людей. Большой клык весил, как мне кажется, по меньшей мере, триста тридцать фунтов. Но что особенно, на мой взгляд, примечательно, это то, что весь череп был такой же прекрасной кости, как и клыки; и вместе они весили, как мне кажется, не меньше шестисот шестидесяти фунтов. Понятно, я толком не знаю, но выходит, что все кости слона могут быть слоновой костью. Но, думается мне, настоящим возражением против этого является то, что я увидел, ибо, будь это так, сохранились бы перед моими глазами также и все остальные кости этого слона. Так как мы прошли, не останавливаясь, четырнадцать дней, и у нас покамест было все совершенно исправно и благополучно по части пищи, а вода имелась рядом, то я предложил пушкарю немного отдохнуть и в то же время поискать какой-нибудь дичи. Пушкарь, у которого сообразительности по этой части было больше, чем у меня, согласился с моим предложением, сказавши, что мы могли бы попытаться половить рыбу в озере. Но перед нами тотчас же встал вопрос: откуда добыть крючки; это обстоятельство чуть было не поставило нашего изобретателя в тупик. Однако после некоторых трудов и хлопот он все же сделал их, и мы наловили свежей рыбы различных пород. Мы наловили ее достаточно для своего пропитания, но еще и провялили на солнце много больших рыб совершенно неизвестных мне пород, что значительно увеличило наши запасы съестного. А солнечный жар так превосходно высушил их без соли, что они оказались сразу и вялены, и сухи, и тверды, и все за один день. Мы отдохнули пять дней. В продолжение этого времени у нас было много забавных приключений с дикими зверями, — слишком много для того, чтобы пересказывать их. Одно из них особенно интересно; это была погоня львицы за большим оленем. Олень, по своей природе, животное подвижное и пролетел мимо нас, как ветер, опередив львицу ярдов, должно быть, на триста. Но львица, благодаря своей силе и крепости легких, нагоняла его. Они пронеслись в четверти мили от нас, и мы Долго следили за ними, но потом бросили это занятие. Но каково было наше удивление, когда час спустя мы увидали, как они с топотом проносятся в обратном направлении, причем львица была уже в тридцати или сорока ярдах от оленя. Оба они напрягали последние свои силы. Но вот олень, добравшись до озера, погрузился в него и поплыл, спасая жизнь, со всех ног, как раньше со всех ног бежал. Львица вслед за ним погрузилась в воду, проплыла некоторое расстояние, но затем воротилась. Выбравшись на берег, она издала самый ужасный рев, какой мне когда-либо приходилось слышать; она была в ярости, что лишилась добычи. Мы продвигались теперь вперед только по утрам и вечерам. Днем мы отдыхали в палатке. Но однажды рано утром мы увидали иную погоню, которая уже больше, чем прежняя, затронула нас. На нашего черного князька, шедшего несколько ближе к берегу озера, чем остальные, напал громадный, рослый крокодил, бросившийся из озера. Хотя князек и был легок на ноги, ему еле удалось спастись. Он бросился прямо к нам, и мы, по правде говоря, не знали, что делать, так как слышали, что пуля не пробивает крокодиловой шкуры. Это подтвердилось: трое наших выстрелили в крокодила, но он даже не обратил на это внимания. Но мой друг пушкарь, малый решительный, смелый и весьма хладнокровный, подошел к крокодилу так близко, что засунул дуло мушкета ему в пасть, выстрелил и, бросивши мушкет, тотчас же отбежал. Зверь долгое время бился; он обратил всю свою ярость на мушкет и даже оставил на стволе следы зубов, но через некоторое время ослабел и сдох. Все эти дни наши негры шарили по берегам озера, ища дичи; наконец, они добыли нам трех оленей, одного очень большого и двух очень маленьких. На озере водилась также и водяная птица, но нам никак не удавалось подойти к ней достаточно близко для выстрела. Нигде, кроме этого озера, мы в пустыне больше птиц не видели. Мы точно так же убили и двух или трех цибетовых кошек, но мясо их оказалось хуже всякой падали. На далеком расстоянии мы видели большое количество слонов, причем заметили, что они всегда идут в превосходном обществе, то есть, что их всегда помногу вместе и выстроены они в исправном боевом порядке. Говорят, что так обороняются они от своих врагов: если львы, тигры, волки или какие-либо другие хищники нападают на них, они, вытянувшись боевым строем, иногда в пять или шесть миль длиной, давят все, что попадается на пути, разбивают все на части хоботами или хоботами же взметают на воздух. Поэтому даже сотня львов или тигров, встречая подобный строй слонов, всегда бежит назад, ища возможности улизнуть куда-нибудь направо или налево. В противном случае ни одному из них не удалось бы спастись, ибо слон хотя и грузный зверь, но так искусно и проворно орудует хоботом, что легко может поднять им самого тяжелого льва или другого какого-нибудь хищника, переметнуть в воздухе через спину и насмерть затоптать ногами. Мы видели не один такой боевой ряд слонов, А однажды нам попался такой длинный, что конца его нельзя было различить: в нем было тысячи две слонов в ряду или строю. Слоны — не хищники, они питаются растениями, подобно быкам, причем, говорят, что слону, несмотря на его большие размеры, требуется корму даже меньше, чем лошади. Количество слонов в тех краях было безгранично. Это можно вывести хотя бы из того невероятного множества клыков, которые, как я сказал, мы обнаружили в этой обширной пустыне. Действительно, нам попадалось по сотне слоновых клыков на один костяк какого-нибудь другого животного. Однажды вечером мы были сильно напуганы. Большинство наших уже улеглось спать на своих циновках, когда часовые вдруг вбежали к нам, перепуганные внезапно раздавшимся рядом с ними львиным ревом. Так как ночь была темная, они, очевидно, львов не заметили, покуда те не подошли вплотную. Это был, как оказалось, громадный старый лев с целым семейством — с ним была львица и три львенка, не считая старого царя, который чудовищно велик. Один из малышей — а все они были добротные, большие и рослые — прыгнул на одного из наших негров, стоявшего на часах, прежде чем тот заметил его. Негр был страшно перепуган, закричал и вбежал в палатку. У другого часового, имевшего при себе мушкет, не хватило сообразительности тут же застрелить льва; он ударил зверя прикладом, от чего львенок сперва завизжал, потом грозно зарычал. Тогда парень отступил. Мы все переполошились, трое наших схватили мушкеты, побежали к выходу палатки и увидавши старого льва по блеску его глаз, тут же выстрелили, но, очевидно, промахнулись. Они, по крайней мере, не убили его, так как все львы отступили, поднявши отвратительный рев. Это было как бы призывом к помощи. На рев сошлось огромное количество львов и, в довершение к ним, еще каких-то других хищников, каких мы не знали, так как в темноте не могли рассмотреть их. Но только со всех сторон начались шум и рев, и вой, и дикая музыка, точно все звери пустыни собрались, чтобы сожрать нас. Мы спросили нашего черного князька, что нам делать. — Пойти, — говорит он, — и испугать их всех! Он схватил две или три самых худших циновки, попросил одного из наших высечь огонь и повесил циновки на конце шеста и поджег. Циновки запылали, осветив вокруг изрядное пространство. При виде этого, все звери отступили; мы услышали их рычание и рев на большом расстоянии от нас. — Что ж, — говорит пушкарь, — это средство годится, жаль только жечь циновки, ведь они служат нам и подстилками и покрывалами. Не мешайте мне, — говорит он, возвращается в палатку и принимается изготовлять нечто вроде искусственных петард *["573] и тому подобное. Несколько штук он передал нашим часовым, чтобы они имели их под рукою на всякий случай, а одну большую прикрепил к тому самому шесту, к которому были привязаны циновки, и поджег ее. Она горела так долго, что на этот раз все дикие звери оставили нас в покое. Как бы там ни было, но общество зверей стало утомлять нас, и, чтобы отделаться от них, мы вновь пустились в путь на два дня раньше, чем собирались. Пустыня все еще не кончалась, даже не было видно признаков ее конца. Но мы теперь обнаружили, что почва вся покрыта какой-то зеленью; благодаря этому наш скот не голодал. Во-вторых, обнаружили мы также, что в озеро впадает много речонок; таким образом, покуда местность была низменная, мы находили достаточно воды, и это очень облегчало нашу поклажу. Мы шли так еще шестнадцать дней, но не добрались до лучших мест. Затем местность стала понемногу повышаться, из чего мы заключили, что воды нам не хватит, и так, запасаясь на случай беды, мы наполнили ею все наши пузыри-бутыли. Мы продолжали так незаметно подниматься в продолжение трех дней, покуда внезапно не обнаружили, что находимся на вершине большой цепи возвышенностей, хотя и не столь высоких, как первая. Взглянувши вниз, по другую сторону холмов, мы, к великой нашей радости, увидели, что пустыня кончилась, и что дальше местность обильно покрыта зеленью, деревьями и пересечена большой рекой. Мы не сомневались в том, что найдем там также людей и скот. Теперь, по словам нашего пушкаря, ведшего подсчеты, мы прошли около четырехсот миль по зловещей пустыне, сделавши переход в тридцать четыре дня. Таким образом, мы в общем прошли около тысячи ста миль намеченного пути. Мы охотно в тот же вечер спустились бы с холмов, но уж было слишком поздно. На следующее утро мы передохнули в тени каких-то деревьев; это было для нас весьма усладительно, ибо солнце больше месяца пекло нас, и на пути не было даже деревца, чтобы укрыться. Местность нам очень понравилась; особенно же по сравнению с той, откуда мы пришли. Здесь мы убили нескольких оленей, которых водилось много в лесах. Убили мы также какое-то создание, вроде козы, мясо которого оказалось очень вкусным; но то была не коза. Мы нашли также множество птиц, похожих на куропаток, но несколько меньших по величине и почти ручных. Словом, мы зажили здесь хорошо. Людей, однако, здесь не оказалось; по крайней мере, мы не встречали их в продолжение нескольких дней пути. Как будто для того, чтобы сбавить нам радость, каждую ночь нас тревожили львы и тигры. Слонов же здесь мы не видали совершенно. После трех дней пути мы подошли к реке, увиденной еще с холмов и названной нами Золотой рекой. Оказалось, что течет она к северу *["574], это была первая на нашем пути река, протекавшая в этом направлении. Течение реки было очень быстрым. Наш пушкарь, вытащивши свою карту, уверял меня, что либо река эта Нил, либо же она впадает в то большое озеро, откуда, говорят, Нил вытекает. Он разложил свои планы и карты, в которых я, благодаря его урокам, стал хорошо разбираться, и заявил мне, что постарается убедить меня в этом. Действительно, он все это так ясно объяснил, что я пришел к тому же заключению. Я все же никак не мог взять в толк, зачем пушкарь так интересуется этим, но он продолжал развивать свою мысль и заключил так: — Если эта река — Нил, почему бы нам не понастроить еще каноэ и не спуститься вниз по реке, вместо того, чтобы рисковать на пути к морю и встретить еще какие-либо пустыни и палящие пески? Да если бы мы и добрались до моря, нам оттуда попасть домой будет так же трудно, как и с Мадагаскара. Рассуждения эти были хороши, не имеется здесь возражений разного рода, на которые никто из нас не мог ответить. Но, в общем, предприятие было такого рода, что каждый из нас считал его невозможным, и по ряду различных причин. Наш лекарь, сам человек ученый и начитанный, хотя и не знакомый с мореходством, воспротивился этому, и часть его возражений, помню, сводилась вот к чему: во-первых, длина пути, как признавали и он и пушкарь, благодаря руслу и изгибам реки окажется не меньше чем в четыре тысячи миль; во-вторых, в реке бесчисленное множество крокодилов, которых нам никак не удастся избегнуть; в-третьих, по пути имеются ужасные пустыни. И, наконец, приближается период дождей, во время которого нильские воды будут особенно яростны; они вздуются так высоко, разольются вдоль и вширь по всей равнине, что мы никогда не сможем знать, находимся ли мы в русле реки или нет. Нас наверняка часто будет выбрасывать на берег, переворачивать и топить. По такой опасной реке совершенно невозможно двигаться. Последнюю эту причину изложил он нам так ясно, что мы и сами стали признавать ее и согласились отказаться от замысла пушкаря и продолжать путь в первоначальном направлении — на запад и к морю. Но, как ни хотелось нам скорее отправиться, мы все же, под предлогом отдыха, лодырничали еще два дня на этой реке. В течение этого времени наш черный князек, который очень любил бродить, явился как-то вечером и принес нам много кусочков чего-то. Что это — он не знал, но вещицы эти были тяжелые и на вид приятные. Он решил показать их мне, думая, что это какая-нибудь редкость. Я ему не подал вида, что заинтересован, но, отойдя и подозвавши к себе пушкаря, показал ему принесенное, высказавши при том свое предположение, а именно, что это золото. Он согласился со мной как в этом, так и в следующем: мы решили завтра захватить с собой черного князька, чтобы он показал нам то место, где нашел золото. Если там много золота, мы сообщим об этом всем нашим товарищам, если же мало, то мы сохраним дело в тайне и прибережем золото для самих себя. Но мы забыли посвятить в эту тайну князька; он же по простоте своей столько наболтал всем остальным, что те, догадавшись, в чем дело, пришли к нам поглядеть. Обнаруживши, что дело раскрыто, мы стали заботиться лишь о том, чтобы никто не заподозрил нас в желании утаить золото. Высказавши свое мнение, мы позвали нашего изобретателя, который тут же согласился с тем, что это золото. Тогда я предложил идти всем вместе к месту, где князек нашел его; и если там окажется значительное количество золота, провести там некоторое время, чтобы добыть его. Так мы и пошли всем скопом, так как никто не желал оставаться на месте, раз сделано открытие такого рода. Мы обнаружили золотоносное место на западной стороне реки, но не в главном ее русле, а в другой речонке или потоке, бежавшем с запада и впадавшем в эту реку. Мы принялись ворошить песок и промывать его в пригоршнях. Почти из каждой горсти песка мы вымывали себе в руку по несколько кусочков золота величиной с булавочную головку, а то и с виноградное зернышко. Через два-три часа у каждого набралось немного золота. И мы решили идти пообедать. В то время, как мы ели, мне пришла в голову мысль, что раз так охотно работаем мы ради столь важной, многозначительной вещи, как золото, этой главной приманки в мире, то десять против одного, что оно рано или поздно приведет нас к раздору, разрушит наши добрые правила, наши соглашения и заставит нас разбиться на отдельные отряды, а то и натворить что-либо похуже. Поэтому я и сказал товарищам следующее, что хоть я в отряде и самый младший, но так как они всегда позволяли мне высказывать свое мнение, иногда даже милостиво следовали моим советам, то сейчас хочу кое-что предложить, что пойдет, по моему мнению, на общее благо и всем, вероятно, придется по сердцу. Мы находимся в стране, сказал я им, где имеется много золота и куда весь мир посылает за ним корабли. Но, в сущности, не зная, где золото находится, мы можем добыть его и много, и мало. Я и предлагаю: не лучше ли будет для нас, если, сохраняя в своем сердце доброе согласие и дружбу, царившие до сей поры и для нашей безопасности крайне необходимые, мы все найденное нами соединим в единый запас и под конец поделим его поровну между собою. Не надо идти на опасность раздора, могущего возникнуть из-за того, что один найдет больше золота, а другой меньше. Я уверял, что, будучи все на равных основаниях, мы охотнее возьмемся за работу; да, помимо этого, мы можем поставить на работу наших негров и воспользоваться плодами как их труда, так и нашего. А раз мы будем в равных долях, то и не окажется у нас разумного основания для ссор и взаимных обид. Они одобрили мое предложение. Поднявшись, они единодушно подали друг другу руки и поклялись, что не утаят ни малейшей крупинки золота от остальных. Если же у кого-нибудь найдется припрятанное золото, все обнаруженное должно быть у него отобрано и впоследствии поделено между остальными. Наш пушкарь же добавил еще одно совершенно правильное и справедливое условие: если кто-либо из нас в продолжение пути, вплоть до самого возвращения в Португалию, выиграет у другого деньги или золото, или стоимость их путем пари, состязания, заклада или игры, он должен быть вынужден возвратить выигрыш, под угрозой быть обезоруженным, прогнанным и лишенным нашей поддержки. Это необходимо было для того, чтобы предупредить заклады и азартную игру, в чем наши всячески изощрялись, хотя не имели при себе ни карт, ни костей. Заключив это здравое соглашение, мы весело принялись за работу, показав неграм, чего нам от них требуется. Мы работали в верхнем течении реки, на обеих ее берегах и на дне; около трех недель провели мы так, плескаясь в воде. За это время, постепенно подвигаясь вперед по нужному направлению, мы прошли миль шесть, не больше. И все время, чем выше мы поднимались, тем больше находили золота; покуда, наконец, пройдя мимо ската одного холма, не обнаружили внезапно, что золото иссякло и что дальше его нет ни крупинки. Мне пришла вдруг на ум мысль: не смыто ли найденное нами золото со ската этого холма? Мы возвратились тотчас же к холму и принялись исследовать его. Земля оказалась рыхлая, желтовато-глинистого оттенка; в некоторых местах попадался белый твердый камень; когда впоследствии я описывал его некоторым знающим людям, те сказали мне, что это — плавиковый шпат *["575], который находится в руде и окружает золото в залежах. Но будь это даже чистое золото, у нас все равно не было орудий, чтобы его добыть. Мы так и оставили его. Разрывая рыхлую землю пальцами, мы добрались до одного поразительного места, где около двух бушелей земли обвалилось чуть ли не от одного прикосновения, обнаруживши в себе большое количество золота. Мы заботливо подобрали землю и хорошо промыли ее в воде; в наших руках остался чистый золотой песок. Но замечательнее всего то, что, снявши весь рыхлый слой земли, мы добрались до твердого камня и там уже не было ни единой крупинки золота. К ночи мы сошлись, чтобы подсчитать, сколько золота добыли. Оказалось, что в сегодняшней глыбе земли мы нашли около пятидесяти фунтов золотого песка, да еще тридцать четыре фунта собрали мы за все время нашей работы в реке. Разочарованием счастливого свойства было для нас, что работа наша приходила к концу. Ибо, найди мы хотя бы еще малейшее количество золота, да и покажись оно только, я не знаю, когда мы бросили бы работу. Обшаривши все место и нигде, кроме той рыхлой глыбы, не обнаруживши ни крупинки золота, — ни здесь в земле, ни в других местах, — мы тотчас же вернулись на речку. Мы вновь стали обследовать ее вдоль и поперек, покуда еще находили хоть что-нибудь. И во второй раз мы добыли еще шесть или семь фунтов. Тогда мы перешли на первую реку и прощупали ее как вверх, так и вниз по течению, — и по тому и по другому берегу. Вверх по течению мы не нашли ничего, ни единой крупинки; вниз по течению мы нашли очень мало, не более, чем пол-унции на две мили работы. Так возвратились мы вновь на Золотую реку, как мы справедливо назвали ее, и еще по два раза прошли ее вверх по течению и вниз по течению и каждый раз находили немного золота и, возможно, оставайся мы там по сей день, продолжали бы находить еще, но под конец количества были такие малые и работа настолько трудна, что мы с общего согласия бросили ее, не то утомили бы как себя, так и наших негров настолько, что не годились бы для дальнейшего пути. Вся наша добыча дала нам в общем по три с половиной фунта золота на человека. Вес этот был установлен изобретательным нашим токарем; меры он, понятно, подобрал приблизительно, но уверял, что они скорее преувеличены, чем преуменьшены. Впоследствии это подтвердилось, ибо оказался перевес около двух унций на фунт. После раздела осталось еще семь или восемь фунтов золота, которые мы согласились отдать токарю для того, чтобы он приготовлял из золота подобающие вещички; их мы решили раздавать встречным народам в обмен на съестные припасы, а то и на дружбу и тому подобное. Кроме того, мы около фунта отдали нашему черному князьку. Он собственной рукой, при помощи нескольких орудий, которые одолжил ему наш искусный мастер, перековал золото и изготовил из него шарики, круглые, как четки, но не вполне такие на вид. Затем он просверлил в них отверстия и, нанизавши шарики на нитку, надел их на свою черную шею. Уверяю вас, они на нем имели превосходный вид, только возился он с ними много месяцев. Так окончилось наше первое золотое приключение. Тут стали мы обнаруживать то, о чем прежде совсем не заботились. Мы поняли, что, какова бы то ни была местность, в которой мы находимся, мы в течение долгого времени не сможем значительно продвинуться вперед. После пятимесячного с лишком нашего путешествия погода стала меняться. Мы видели по природе, что находимся в таком климате, где наравне с летом бывает и зима, хотя и не похожая на зиму нашей родины. Предстоял период дождей *["576]. А в это время нельзя путешествовать как из-за самих дождей, так и из-за вызываемых ими повсеместных разливов. Хотя мы уже с дождливыми периодами познакомились на острове Мадагаскар, но с начала путешествия мы о них как-то не думали; ведь мы выступили в путь около времени солнцестояния, то есть тогда, когда солнце было дальше всего к северу от нас, и этим обстоятельством в пути и воспользовались. Но теперь солнце быстро приближалось к нам, и начало дождить. По этой причине мы созвали общую сходку, на которой обсудили положение: идти ли на вперед или выбрать на берегу нашей Золотой рек столь счастливой для нас, подходящее место и там разбить становище на зиму? В общем, было решено оставаться на месте. Это было немалой причиной наших удач, как вы увидите в соответствующем месте. Решивши так, мы сразу же поставили наших негров на работу, на постройку хижин или домов для жилья. Они очень ловко управились с этим. Только мы переменили первоначально намеченное место, полагая — и так оно и оказалось — что река может залить его при внезапном дожде. Становище наше было подобно небольшому городу, посреди которого стояли наши хижины. В середине их была одна, в которую выходили все наши отдельные жилища, так что единственный путь для каждого в свое помещение вел через общественный шатер. В нем мы вместе ели и пили, сходились и держали советы. Наши плотники понаделали нам столов, скамей и табуретов во множестве, сколько могло нам понадобиться. Очаги не нужны были нам, — было достаточно жарко и без огня. Но, в конце концов, мы были вынуждены по особой причине поддерживать каждую ночь костер. Хотя во всех остальных отношениях место было и приятное и удобное, но здесь непрошенные хищные звери тревожили нас, пожалуй, даже больше, чем в самой пустыне. Так как олени и прочие травоядные животные сходились сюда для прикрытия и прокорма, то львы, тигры и леопарды посещали эти места ради добычи. Мы, обнаруживши это, сперва так встревожились, что подумали даже о перемене места. Но после многих споров решили так укрепиться, чтобы оказаться в полной безопасности. Этим занялись наши плотники. Сперва они огородили все наше становище вокруг длинными шестами, ибо дерева было у нас достаточно. Шесты эти были воткнуты друг возле друга не в правильном порядке, как и изгороди, но вразбивку. Их было великое множество; в толщину они составляли около двух ярдов, причем одни были выше, другие ниже, — все заостренные на верхушке и в футе расстояния друг от друга. Прыгни через них какая-нибудь тварь, она повисла бы на двадцати или тридцати кольях, разве только она начисто перемахнула бы через них, но это было очень трудно. Вход был усажен еще большими шестами, так расположенными, что они образовали три или четыре крутых поворота; по этим поворотам не могло пройти ни одно четвероногое размером больше собаки. Для того чтобы какая-нибудь стая не напала на нас и не потревожила бы наш сон, чтобы нам не пришлось тратить боевое снаряжение, которое мы скупо берегли, — мы поддерживали каждую ночь перед входом в изгородь большой костер. А для двух часовых, находившихся против костра, в самом входе была сделана хижина, прикрывавшая их от дождя. Для поддержания костра мы нарубили огромное количество дров и сложили их грудой для просушки. Из зеленых ветвей мы сделали вторую покрышку для хижины; покрышка была так высока и плотна, что впитывала в себя весь дождь, и мы оставались всегда в сухости. Едва управились мы со всей этой работой, как пошли такие яростные и непрерывные дожди, что у нас не было почти возможности ходить на охоту. Понятно, нашим неграм, не носившим одежды, дожди были нипочем. Но для нас, европейцев, нет ничего более опасного в этом жарком климате. В этом положении пребывали мы четыре месяца, то есть от середины июня до середины октября. Ибо хотя дожди прошли, или, по крайней мере, к равноденствию прошла главная их ярость, мы все же решили, так как солнце было над нашими головами, несколько подождать, покуда оно хоть немного отойдет к югу. Во время всей стоянки у нас было много приключений с хищниками. Не поддерживай мы постоянно костра, неизвестно, укрыл ли бы нас забор, хотя мы и укрепили его впоследствии двенадцатью или четырнадцатью рядами шестов, если только не более. Тревожили хищники нас всегда по ночам; они иногда являлись в таких количествах, что казалось, будто все львы, тигры, леопарды и волки Африки собрались напасть на нас. Наутро, после одной светлой лунной ночи, часовой сообщил нам, что мимо нашего маленького становища прошло, как он совершенно твердо уверен, до десяти тысяч различного рода хищников. Завидевши огонь, эти хищники отступили, но, уж во всяком случае, проходя мимо, выли или ревели и издавали всевозможные звуки. Эта музыка ни в коей степени не была приятна для нас; она подчас была настолько нестерпимой, что не давала нам спать. Частенько часовые вызывали всех бодрствующих выйти наружу и поглядеть. Однажды они всерьез вызвали всех нас в ветреную бурную ночь, сменившую дождливый день. Тогда сбежалось к нам такое неисчислимое количество этих чертовых созданий, что наши часовые уже решили, что они нападут на нас. Звери не подходили к той стороне, где был огонь, и, хоть мы считали себя в безопасности, мы все же поднялись и взялись за оружие. Светила почти полная луна, но небо было усеяно летучими облаками, и ужас ночи довершала какая-то странная буря. Оглянувшись на заднюю сторону нашегостановища, я увидел внутри наших укреплений какого-то метавшегося зверя. Он, действительно, кроме своих задних лап, был весь уже внутри. Он, как оказалось, сделал прыжок с разбега, переметнулся через всю нашу изгородь, но напоролся на крайний кол, который был выше остальных. Всей своей тяжестью зверь повис на шесте, и острие кола вошло ему в одну из задних ляжек с внутренней стороны. Так висел он, ревя и грызя дерево от ярости. Я выхватил копье у стоявшего рядом со мною негра, подбежал к зверю и, нанеся ему три или четыре удара, прикончил его; я не хотел стрелять, так как задумал дать залп по остальным хищникам, которые, я видел, плотно толпились снаружи, точно стадо буйволов, которых гонят на ярмарку. Я вызвал наших и показал им все увиденные мной предметы ужасов. Без долгих рассуждений мы дали по зверям общий залп, причем большинство наших мушкетов было заряжено двумя или тремя жеребейками или пулями зараз. Среди зверей произошла ужасная суматоха, и они пустились со всех ног убегать. Лишь некоторые из них отходили более важно и торжественно, чем прочие, будучи меньше напуганы шумом и огнем. Мы разглядели также некоторых валявшихся, очевидно, в предсмертных корчах на земле, но мы не посмели выйти наружу, чтобы ближе посмотреть на них. Хотя хищники бежали, мы всю ночь слышали ужасающий рев; то, должно быть, ревели раненые. Лишь только рассвело, мы вышли поглядеть, какое побоище мы произвели. Зрелище, действительно, было странное. Насмерть убито было нами три тигра и два волка, не считая того хищника, которого я убил в изгороди и который оказался каким-то ублюдком, чем-то средним между тигром и леопардом *["577]. Кроме того, в живых остался благородный старый лев, у которого были перебиты передние лапы; он не мог убраться прочь, всю ночь бился и этим чуть не уморил себя. Мы решили, что спать так сильно мешал нам своим громким ревом именно этот раненый воин. Наш лекарь глянул на льва и улыбнулся. — Вот, — говорит он, — будь я уверен, что этот лев окажется так же милостив ко мне, как один из предков его величества к римскому рабу Андроклу *["578], я непременно вложил бы в лубки обе его лапы и вылечил бы его. Истории Андрокла я не слыхал, и лекарь тут же подробно рассказал мне ее. Мы же указали лекарю, что единственный способ узнать, как поступит лев — это вылечить его и положиться на его благородство. Но лекарь в это благородство не верил и, чтобы покончить со львом и избавить его от мук, он выстрелил ему в голову и убил его. С той поры мы всегда называли нашего лекаря цареубийцей. Наши негры нашли на некотором расстоянии от становища еще не менее пяти павших от ран хищников, среди них оказался один волк, один превосходный пятнистый молодой леопард, а остальные — такие звери, что мы не знали даже, как они называются. Хищники еще не раз сходились к нам впоследствии, хотя подобные массовые их свидания возле нас больше не повторялись. Но все это имело для нас дурное следствие: хищники отогнали от нашего становища оленей и других животных, общества которых мы желали значительно больше и которые были нам необходимы для существования. Как бы то ни было, наши негры все же каждый день ходили на охоту, и не бывало почти дня, чтобы они чего-нибудь не принесли с собою. В частности же мы обнаружили в этих краях множество дикой птицы, какая водится и в Англии: уток, чирков, свищей и так далее, также гусей и также много других еще никогда не виденных нами птиц. Эту дичь мы частенько били. В реке мы также ловили много свежей рыбы, так что в съестном не нуждались. Если мы в чем-нибудь и нуждались, так это в соли. Ее у нас оставалось немного, и мы расходовали ее бережно; наши негры в рот ее не брали и очень неохотно ели все, что было приправлено ею. Теперь погода стала улучшаться, дожди прошли, потоки уменьшились, и солнце, перешедшее через зенит, продвинулось на изрядный кусок к югу. Мы приготовились пуститься в дальнейший путь. Двинулись мы вперед двенадцатого октября или около того. Так как местность, по которой пролегал наш путь, была, в общем, удобна и обильно снабжала нас пищей, хотя все еще не имела обитателей, то шли мы бодрее и покрывали иногда, как вычислили, двадцать или двадцать пять миль в день. За одиннадцать дней ходьбы мы не останавливались ни разу, если не считать одного дня, когда мы строили плот, чтобы переправиться через речку, набухшую от дождей и еще не опавшую. Переправившись через эту речку, кстати, также протекавшую на север, мы встретили на пути большую гряду холмов. Правда, далеко направо мы увидели открытую местность, но так как мы точно держались своего курса — прямо на запад, то не пожелали отклониться значительно от пути для того только, чтобы избежать нескольких холмов. Поэтому мы прошли прямо. Но тем более были мы удивлены, когда один из наших, вместе с двумя неграми опередивший нас, в то время как мы еще не добрались до вершины, воскликнул: «Море! море!» *["579] — заплясал и запрыгал от радости. Пушкарь и я очень удивились этому, так как еще утром вычисляли, что до морского берега не менее тысячи миль и что нечего надеяться добраться до него раньше следующего дождливого сезона. Поэтому, когда тот закричал «море», пушкарь рассердился и сказал, что тот, кто кричал, сошел, видимо, с ума. Но оба мы удивились так, что больше удивиться невозможно, когда, взобравшись на вершину холма, хоть и было это очень высоко, не увидали ничего, кроме воды, как перед собою, так и справа и слева. Ибо то было огромное море, не ограниченное ничем, кроме как горизонтом. Мы спустились с холма со смущенными мыслями, будучи не в состоянии понять, где мы, так как все наши карты показывали, что море находится еще на большом расстоянии. От холмов до берега, или края моря, не было и трех миль, и, добравшись туда, мы обнаружили, что вода пресная и приятная на вкус. Словом, мы не знали, на что решиться. Море, каковым мы его считали, совершенно преграждало нам путь (я подразумеваю на запад), ибо лежало на самой нашей дороге. Тотчас же возник вопрос, в какую сторону поворотить, — в правую или в левую, но он быстро разрешился. Ибо, не зная размеров озера, мы считали, что наш путь, если это действительно море, должен идти к северу и тем самым, какое бы расстояние мы ни прошли к югу, на такое же расстояние мы отдаляемся от нашей цели. Так, проведши изрядную часть дня в удивлении по этому поводу и в совещаниях, что предпринять, мы выступили к северу. Мы шли по берегу этого моря добрых двадцать три дня, прежде чем могли понять, что же это такое на самом деле. Однажды рано поутру один из наших моряков закричал: «Земля!» И это не было ложной тревогой, ибо мы ясно видели вершины каких-то холмов на очень большом расстоянии, по той стороне воды, прямо к западу. Но хоть это и успокоило нас в том смысле, что перед нами не океан, а внутреннее море или озеро, мы все же к северу не видели земли или, вернее, не видели конца воде и должны были пройти еще восемь дней или, приблизительно, еще сто миль, покуда добрались до конца озера. И тут мы обнаружили, что это озеро или море заканчивается очень большой рекой, текущей на север или на север с уклоном на восток, подобно той реке, о которой я уже говорил раньше. Мой друг, пушкарь, поразмыслив, сказал, что, видимо, прежде он ошибался и что это на самом деле река Нил, но что он по-прежнему разделяет общее наше мнение о невозможности плыть этим путем в Египет. Потому мы решили пересечь реку, что, однако, было не так легко, так как река текла очень быстро и притом в очень широком русле. Поэтому нам целую неделю пришлось устраивать перевозку на тот берег как самих себя, так и нашего скота, ибо хотя деревьев здесь было много, но ни одно не было достаточно велико для того, чтобы сделать из него каноэ. В продолжение нашего пути по берегу этой реки мы очень устали и потому проходили меньше миль в день, нежели прежде, так как огромное количество речонок с восточных холмов впадало в этот залив. И воды их были высоки, так как дожди прошли только недавно. За последние три дня пути мы встречали кое-каких обитателей, но узнали, что живут они на холмах, а не на берегу воды. Но и нас на пути подогнало к ней, так как за четыре или пять дней мы не имели никакой добычи, кроме рыбы, которую выуживали из озера, да и той было уже не такое количество, какое бывало раньше. Но зато, как бы в виде воздаяния за все наши бедствия, на всем протяжении этого озера нас не потревожил ни один дикий зверь. Единственной неприятностью этого рода было встреченное нами в сырых местах возле озера безобразное ядовитое отвратительное пресмыкающееся, или змея *["580]. Она не раз преследовала нас, точно собираясь напасть, а когда мы били ее или что-нибудь бросали в нее, она подымалась и шипела так громко, что ее было слышно далеко. Вид у нее и голос были адские и мерзкие, и наших никак нельзя было разубедить в том, что это дьявол. Только мы никак не могли понять, что делать сатане здесь, где нет людей. Было весьма примечательно то, что мы уже прошли тысячу миль, не встретивши никого, в самом сердце африканского материка, там, где, наверняка, не ступала человеческая нога с тех пор, как сыны Ноя распространились по лицу всей земли. В этих, кстати, местах наш пушкарь сделал наблюдения градштоком *["581], чтобы определить широту места, где находились мы, и обнаружил, что мы, после того как шли к северу около тридцати трех дней, находимся на шести градусах двадцати двух минутах южной широты. Перейдя с великими трудностями эту реку, мы попали в странную дикую местность, которая несколько испугала нас. Правда, то была не пустыня с сухим раскаленным песком, какую мы пересекали прежде, а местность гористая и бесплодная и переполненная самыми свирепыми хищными зверями, которых было больше, чем где бы то ни было на нашем пути. На поверхности почвы торчала, правда, жесткая трава, да время от времени попадалось несколько деревьев или, вернее, кустов. Но людей мы не видали и стали сильно уже беспокоиться о съестном, так как давно уже не убивали четвероногих, а жили, главным образом, рыбой и птицей, — все у берегов воды, — теперь же не видели ни того, ни другого. Но более всего смущало то обстоятельство, что здесь нельзя было сделать запасов, как прежде, но приходилось выступить с немногими припасами и без уверенности в том, что удастся пополнить их. Как бы то ни было, помочь нам не могло ничего, кроме терпения. Убивши несколько птиц и провяливши несколько рыб, так, чтобы урезанного пайка хватило бы на пять дней, мы решили отважиться на переход и двинулись в путь. И, видно, не беспричинно предчувствовали мы опасность, так как шли все пять дней, не встретивши ни рыбы, ни птицы, ни четвероногого, мясо которого было бы годно в пищу, и уже с ужасом предвидели, что умрем с голоду. На шестой день мы почти постились: съели все крохи того, что осталось, и к ночи улеглись на свои циновки, не поужинав, с тяжелым сердцем, а на восьмой день были вынуждены убить одного из наших верных бедных слуг, одного из буйволов, несших нашу поклажу. Мясо этого животного было очень приятно на вкус, и ели мы его так расчетливо, что его хватило нам как раз на три с половиною дня. И тут уже собирались мы зарезать второго буйвола, как увидали перед собой местность, сулившую лучшее, так как была она покрыта высокими деревьями, и в самой середине ее прорезала большая река. Это приободрило нас, и мы поспешили к берегу реки, хотя на пустой желудок шли мы почти в беспамятстве и ослабелые. Но прежде еще, чем добрались мы до реки, мы, на наше счастье, повстречали молодых оленей, то есть то, о чем мечтали уже давно. Словом, убивши трех оленей, мы стали набивать себе брюхо; не давши даже времени мясу остыть, сожрали его. Да хорошо еще было, что мы хоть убили оленей, а не сожрали их живьем, так как мы, попросту говоря, почти умирали с голоду. По всему этому негостеприимному краю встречали мы беспрестанно львов, тигров, леопардов, цибетовых кошек и множество всяческих животных, нам не знакомых. Слонов мы не видали, хотя от поры до времени натыкались на лежащие на земле слоновые клыки, и иные из них выглядывали, полузарытые, из земли, — такое количество времени пролежали они здесь. Придя к берегу реки, мы обнаружили, что и она течет на север, как и все прочие, с той только разницей, что в то время как направление тех было на север через восток или на северо-северо-восток, направление этой было на северо-северо-запад. На дальнем берегу реки завидели мы кое-какие признаки поселенцев; но в первый день не встретили никого. На второй день мы вступили в населенную местность, жители которой были все негры и без всякого стыда ходили голыми одинаково — и мужчины, и женщины. Мы делали им дружественные знаки и убедились, что народ этот очень смел, любезен и дружелюбен. Они подошли к нашим неграм без всяких подозрений, и не было также оснований подозревать их в каком-нибудь коварстве, как бывало с другими. Мы сделали знаки, что голодны, и тотчас же несколько голых женщин сбегали куда-то и принесли нам множество кореньев и нечто вроде пышек, которые мы ели без всякого разбора. Затем наш искусный мастер показал им кой-какие из сделанных им безделушек — железные, серебряные и золотые. У тех хватило рассудительности на то, чтобы предпочесть серебряные железным. Но, показавши им золото, мы обнаружили, что его они ценят меньше, чем серебро или железо. За несколько этих вещиц они принесли нам еще съестного и еще три живых существа, величиною с телят, но только не той породы. Подобных мы никогда еще не видели. Мясо их было очень вкусно. А потом туземцы пригнали нам еще дюжину таких же существ и каких-то мелких созданий, вроде зайцев. Все это было нам как нельзя более приятно, так как у нас и вправду совсем плохо обстояло дело с пропитанием. С народом этим мы сошлись близко, и действительно это был самый любезный и самый радушный народ, какой мы когда-либо встречали, и мы им также очень понравились. И, что было очень странно, они много легче понимали нас, нежели те туземцы, которых мы встречали прежде. Наконец, мы стали расспрашивать их о дальнейшем нашем пути, указывая на запад. Они легко дали нам понять, что этим путем мы идти не можем, но показали нам, что мы можем двинуться на северо-запад, так что мы поняли, что на нашем пути встретится еще одно озеро *["582], и это в дальнейшем оказалось действительно верным, ибо через два дня мы ясно увидали его, и оно преграждало нам путь, покуда не перешли мы равнодействующую линию. В продолжение всего нашего пути лежало оно у нас по левой руке, хотя и на большом расстоянии. Так шли мы к северу, и наш пушкарь был сильно озабочен нашим путешествием. Ибо он уверил всех нас и мне объяснил при помощи карт, — понимать которые он учил меня, — что, когда мы дойдем до широты в шесть градусов к северу от экватора, земля отступит от нас к западу на такое расстояние, что до морского берега мы сможем добраться только пройдя на тысячу пятьсот миль больше, нежели если мы пойдем прямо к стране, которую хотим достичь. Я спросил пушкаря, не встретим ли мы по дороге судоходных рек, впадающих в западный океан; по их течению сможем мы проплыть, будь там и тысяча пятьсот миль или даже вдвое больше, лишь бы хватило нам съестных припасов. Тогда он снова развернул передо мной карты и показал, что по дороге не видно никакой реки, которая — по протяжению своему — могла бы быть нами использована, разве только, что в двухстах или трехстах милях от побережья. Единственное исключение, пожалуй, только Рио-Грандэ *["583], как ее называют; эта река расположена к северу от нас, по крайней мере, на семьсот миль, да и то он не знает, через какие края нам придется проезжать по этой реке. Ибо, сказал он, по его мнению, жара к северу от экватора невыносимая и вся местность более бесплодна, опасна и дика, нежели местность, лежащая на той же широте, к югу от экватора. И если мы попадем к неграм северной части Африки, ближе к морю, особенно к тем, кто знал и торговал с европейцами — голландцами *["584], англичанами *["585], испанцами *["586] и так далее — то большинство этих негров так в то или другое время пострадало *["587] от них, что наверняка выместят на нас всю свою накопившуюся против европейцев злобу. На основании всех этих соображений пушкарь и присоветовал, чтобы мы, как только минуем озеро, повернули бы немедленно на юго-западо-запад, то есть, чтобы немного отклониться к югу, и тогда в надлежащий срок мы наверняка выйдем к великой реке Конго *["588], по которой и побережье также называется Конго. Это побережье расположено несколько к северу от Анголы, куда сперва мы намеревались идти. Я спросил его далее, бывал ли он когда-нибудь на побережье Конго. Он сказал, что да, бывал, но никогда не сходил на берег. Тогда я спросил, как попадем мы к побережью, куда приходят европейские суда. Ведь раз страна на тысячу пятьсот миль отклоняется к западу, нам придется пройти весь этот берег, прежде чем обогнуть западную оконечность его. Он сказал мне, что десять против одного за то, что мы встретим какой-нибудь европейский корабль, который подберет нас, так как европейские корабли часто посещают побережья Конго и Анголы для торговли с неграми. А если и не встретим корабля, то, — если мы только добудем там продовольствия, — сможем пройти вдоль по берегу не хуже, чем вдоль реки, покуда не дойдем до Золотого Берега *["589], который, — сказал он, — лежит не далее, как на четыреста или пятьсот миль к северу от Конго, не считая изгиба материка к западу еще на триста миль. Этот Золотой Берег расположен на широте в шесть или семь градусов, и на нем имеются сеттлементы *["590] или фактории *["591] англичан, голландцев или французов, а может, и то и другое, и всех трех одновременно. Признаюсь, я склонялся скорее, — вопреки всем его доказательствам, — к тому, чтобы идти на север и поплыть по Рио-Грандэ или, как торговцы называют его, Рио-Нэгро, или Нигеру. Я знал, что эта река, в конце концов, выведет нас к Зеленому Мысу *["592]; где помощь нам обеспечена, в то время как до побережья, к которому мы теперь направлялись, нам предстояло еще проделать как водою, так и сушею изрядный путь; причем не было уверенности в том, что нам удастся без насилия добыть себе съестных припасов. Но в то время я придержал язык, дабы не оспаривать своего наставника. Но когда, по его желанию, мы должны были, пройдя второе большое озеро, свернуть к югу, наши стали волноваться и поговаривать, что теперь-то мы наверняка сбились с пути, что уходим мы прочь от дома и что и так достаточно удалились от него. Но мы шли не более двенадцати дней, из которых в течение восьми мы огибали озеро, а в течение четырех — продвигались на юго-запад для того, чтобы попасть к реке Конго, как принуждены были решительно остановиться, так как вступили в край столь пустынный, страшный и дикий, что не знали просто, о чем подумать и что предпринять. Не говоря уже о том, что местность представляла собой ужасную и безграничную пустыню, — без лесов, деревьев, рек и обитателей; подобно тому, как и находились мы в необитаемых местах, мы к тому же оказались лишенными возможности добыть для себя съестных припасов, которых хватило бы для того, чтобы пересечь эту пустыню, как поступили мы перед тем, как пересекли первую пустыню. В результате нам не оставалось ничего другого, как только вернуться на четыре дня пути обратно, туда, где мы обогнули озеро. И все же, несмотря на все эти соображения, мы отважились идти дальше. Ибо для людей, прошедших такие дикие места, какие прошли мы, не было вообще ничего слишком отчаянного, на что нельзя было бы решиться. Итак, мы отважились и главным образом потому, что на пути в большом отдалении видели высокие горы и воображали, что, где горы, там должны быть и ключи и реки, а где реки, там должны быть деревья и травы, а где деревья и трава, там должен быть скот, а где скот, там должны быть и какие-нибудь люди. Наконец, вследствие таких умозаключений, мы вступили в пустыню, располагая большим запасом кореньев и разных растений, каких надавали нам туземцы вместо хлеба, а также весьма небольшим количеством мяса, соли и совсем малым запасом воды. Мы шли два дня по направлению к возвышенностям, но они, казалось, оставались по-прежнему в том же отдалении, как и раньше, и лишь на пятый день мы добрались до них. Правда, продвигались мы вперед очень медленно, потому что было исключительно жарко, и мы находились возле самой линии равноденствия. Наш вывод о том, что, где находится возвышенность, там должны быть ключи, оказался правильным. Но мы были не только удивлены, но даже испуганы, когда первый же ключ, к которому мы подошли и который на вид был чист и прекрасен, оказался солон, как морская вода. Это было для нас ужасным разочарованием, наведшим на печальные размышления о будущем. Но пушкарь, человек, которого ничем не смутишь, сказал нам, что нечего тревожиться, что, наоборот, нужно благодарить судьбу, ибо соль — добыча для нас не менее заманчивая, чем, что бы то ни было, другое, и нет сомнений в том, что в дальнейшем мы найдем еще и пресную воду, как нашли уже соленую. А тут вмешался еще и наш лекарь и ободрил нас словами о том, что, если мы не знаем, он покажет нам, как сделать из соленой воды пресную. Это, понятно, подняло общее настроение, хотя и не понимали мы, как он это сделает. Тем временем наши, не дожидаясь приказа, искали в окрестности других ключей, и нашли их много, но все они также были соленые. Из этого мы заключили, что в этих горах должна быть соляная скала или минеральная руда, а может, и все горы были из соли. Но я все же не мог понять, каким волшебством искусный наш лекарь превратит эту соленую воду в пресную, и все томился, как бы поскорее увидеть опыт, — странный, по правде говоря. Но лекарь взялся за дело так уверенно, точно проделывал его уже на этом самом месте. Он взял две большие циновки и сшил их. Образовалось что-то вроде мешка, в четыре фута шириною, три с половиной длиною и, приблизительно, полтора фута толщиною после наполнения. Затем он велел нам наполнить этот мешок сухим песком и умять его возможно плотнее, но так, чтобы не порвать циновок. Когда таким образом мешок был наполнен, так что до края оставалось пространство с фут, он набрал какой-то другой земли и, заполнив это пространство, утоптал мешок, как мог плотнее. Управившись с этим он проделал в верхнем слое отверстие, шириной с тулью большой шляпы или немного шире, но не такое глубокое, и приказал негру наполнить его водой, а как только вода просочится, наливать снова и проделывать это все время, дабы отверстие оставалось беспрерывно заполненным. Еще до этого он положил мешок на два обрубка дерева, примерно, в один фут высоты над землей, а под мешком приказал разложить какую-нибудь шкуру, непроницаемую для воды. Приблизительно через час, не ранее, из-под низа мешка начала капать вода и, к нашему великому удивлению, оказалась она совершенно пресная и вкусная, и так продолжалось много часов. Лишь под конец вода стала несколько солоновата. Мы сказали об этом лекарю. — Ну что ж, — отвечал он, — вытряхните песок и наложите новый. Откуда взял он этот опыт — из собственного ли воображения или прежде видел его — не помню. На следующий день мы поднялись на вершины гор. Вид оттуда был действительно поражающий, ибо насколько только хватал человеческий взгляд, на юг или запад, или северо-запад, простиралась обширная дикая пустыня без деревьев, без рек, без какой бы то ни было зелени. Поверхность, подобно пройденным нами накануне местам, была покрыта чем-то вроде толстого мха, черновато-мертвенного цвета, но не видно было ничего, что могло бы послужить пищей для человека или животного. Будь у нас достаточно съестных припасов да пресной воды для того, чтобы десять или двадцать дней идти по этой пустыне, у нас хватило бы, пожалуй, мужества пуститься в путь, если бы даже пришлось потом возвращаться, ибо не было у нас уверенности в том, что к северу не встретим мы того же. Но у нас припасов не было, а местность была такая, что здесь их невозможно было достать. У подножья гор мы убили несколько диких животных, но только два из них, каких мы раньше никогда не видали, оказались годными в пищу. Животные представляли собой нечто среднее между буйволом и оленем, но не походили ни на того, ни на другого в отдельности; рогов у них не было, ноги были огромные, как у коровы, тонкие голова и шея, точно у оленя *["593]. Убили мы также, в разные времена, тигра, двух молодых львов и волка, но, к счастью, еще не дошло до того, чтобы питаться мясом хищников. После того, как мы увидали это страшное зрелище, я возобновил свое предложение повернуть к северу и направиться к реке Нигеру, или Рио-Грандэ, а там повернуть на запад к английским сеттлементам, расположенным на Золотом Берегу. Все охотно согласились с предложением, кроме пушкаря, который действительно был нашим лучшим проводником, хотя на этот раз и ошибся. Он выдвинул такое предположение: раз наш берег расположен на север, то мы можем взять немного наискось, на северо-запад, и там, пересекая страну, быть может, доберемся до какой-нибудь реки, которая или впадает на север в Рио-Грандэ или течет на юг к Золотому Берегу. Такой путь облегчил бы нам трудности. Ведь если страна обитаема и плодородна, то только на берегах рек, и только там можем мы запастись продовольствием. Совет был хорош и настолько благоразумен, что трудно было не согласиться с ним. Но первой нашей задачей было как-нибудь выбраться из ужасного места, в котором мы находились. Позади нас была пустыня, которая уже стоила нам пяти дней дороги, но теперь у нас не оставалось достаточно припасов, чтобы проделать обратно такой же путь. Но цепь гор, на которых мы находились и которые, очевидно, шли к северу, на изрядный конец обнаруживала кое-какие признаки плодородия, и мы решили поэтому пуститься вдоль ее подошвы по восточной стороне и идти до тех пор, покуда только сможем, и тем временем старательно выискивать пищу. Таким образом, мы и пустились в путь на следующее же утро, так как мы не могли терять долее времени, и, к величайшему нашему утешению, в первый же утренний переход добрались до превосходных ключей пресной воды. Чтобы не испытывать недостатка в ней в дальнейшем пути, мы наполнили ею все наши пузыри-бутыли, какие несли с собой. Должен также заметить, что наш лекарь, превративший соленую воду в пресную, воспользовался тогда представленной возможностью — солеными ключами — и наготовил нам запас в три или четыре гарнца *["594] очень хорошей соли. В третий переход мы получили неожиданную возможность запастись и пищей, так как холмы кишели зайцами. Последние несколько отличались от наших английских зайцев, — были больше и не так прытки, но их мясо было превкусным. Мы настреляли их много. Маленький ручной леопард, которого мы захватили в разгромленном нами негритянском городке, охотился за ними, как собака, и каждый день бил их для нас, но сам он не ел их, разве только если ему давали, что, по правде говоря, при наших обстоятельствах, было очень любезно с его стороны. Зайцев мы засолили и потом всей тушей провялили на солнце и таскали за собой странную поклажу. Думается мне, запасли мы без малого сотни три, так как мы не знали, попадутся ли нам еще зайцы или какая-нибудь другая пища. Мы с большими удобствами шли по этим возвышенностям еще восемь или девять дней, когда увидали, к великому своему удовлетворению, что местность перед нами приобретает несколько лучший вид. Что же касается до западной стороны холмов, мы не исследовали ее до того дня, когда трое из наших — остальные остановились передохнуть — снова взобрались на холмы, чтобы удовлетворить свое любопытство. Они увидели, что местность все прежняя и не видно ей конца, в частности, и к северу, — путь, который мы держали. Так, на десятый день, увидев, что возвышенность заворачивает и ведет прямо в обширную пустыню, мы оставили ее и продолжали наш путь на север. Местность хотя и была несколько пустынна, но не утомительно однообразна. Так мы добрались, по наблюдениям нашего пушкаря, до широты в восемь градусов и пять минут, и на этот путь у нас ушло девятнадцать дней. В продолжение всего этого пути мы не встречали людей, но зато видели немало диких хищных зверей, к которым так привыкли, что уже больше почти не обращали на них внимания. Мы каждое утро и ночь видели в изобилии львов, и тигров, и леопардов, но, так как они редко приближались к нам, мы предоставляли им идти по своим делам. Если же они пытались приблизиться, мы давали холостой выстрел из любого незаряженного мушкета, и они уходили сразу же, только завидевши огонь. Пища у нас в продолжение всего этого пути была разнообразна: так, подчас мы били зайцев, подчас каких-то птиц, но я ни за что не мог бы назвать их, за исключением одной птицы вроде куропатки, и другой — похожей на нашу горлицу. Время от времени нам попадались стада слонов. Эти создания прохлаждались главным образом в лесистых частях местности. Этот продолжительный переход сильно утомил нас, и двое из наших тяжело заболели; мы решили, что они умрут; а один из наших негров умер внезапно. Наш лекарь сказал, что это апоплексический удар *["595], но добавил, что удивляется, откуда он взялся, ибо на чрезмерное питание пожаловаться не может. Другой негр был также очень болен. Но наш лекарь с большими хлопотами убедил его, или даже вернее, принудил позволить пустить себе кровь, после чего он выздоровел. Здесь мы задержались на двенадцать дней ради наших больных, и наш лекарь уговорил меня и еще трех или четырех наших пустить себе кровь в продолжение стоянки. Это средство, в добавление к лекарствам, которые он дал нам, в значительной степени поддержало наше здоровье в столь тяжелом переходе и при столь жарком климате. В продолжение всего перехода мы каждую ночь разбивали свои циновочные палатки, и это было нам весьма удобно; мы делали это, хотя в большинстве случаев у нас были для покрова деревья и леса. Нам казалось очень странным, что во всех этих местах мы все еще не встречаем населения. Но главною причиною этого являлось то обстоятельство, что как мы узнали впоследствии, держа путь сперва на запад, а потом на север, мы зашли слишком глубоко внутрь страны, в пустыню, в то время как туземцы живут главным образом между рек, озер и низин, как к юго-западу, так и к северу. Встреченные нами на пути маленькие речонки были так маловодны, что воду в них можно было видеть разве только в колдобинах, и то немногим больше, чем в обычной луже. И, в сущности, скорее они служили лишь признаком того, что в дождливые месяцы речонки эти имеют видимое русло. Но по этому же признаку мы легко могли понять, что нам предстоит еще немалый путь. Но это нас не пугало, поскольку у нас имелись еда и сносный над головою кров от ужасной жары, которая, думаю я, была теперь много сильнее, нежели когда солнце стояло прямо над нашими головами. Когда наши оправились от болезни, мы снова пустились в путь, изрядно запасшись пищей и водой. Мы несколько отклонили наш путь от севера и направились позападнее в надежде встретить речку, которая могла бы поднять каноэ. Но такую реку мы нашли только после двадцати дней пути, включая сюда восьмидневный отдых. Дело в том, что наши очень ослабели, и потому мы часто отдыхали, особенно же охотно в таких местах, где находили скот, птицу или еще что-нибудь годное в пищу. За эти двадцать дней пути мы продвинулись на четыре градуса к северу, не считая кое-какого меридионального перемещения на запад, и по дороге встречали множество слонов, а главным образом разбросанные в лесистых местах слоновьи клыки; валялись они там и сям, но в основном в лесистых местах, и некоторые из них были очень велики. Но они не были добычей для нас; мы искали пищи и обратной дороги из этих краев. С нашей точки зрения, лучше было встретить доброго жирного оленя и убить его, чтобы прокормиться, нежели найти сто тонн слоновых клыков. И все же, как вы сейчас услышите, добравшись до начала водного пути, мы стали подумывать о том, не построить ли нам большое каноэ для того, чтобы нагрузить его слоновой костью. Но то было, когда мы ничего не знали о местных реках, о том, как опасны и трудны предстоящие нам переходы по ним, и, наконец, не представляли себе, какой груз мы собираемся спустить на воду рек, которыми поплывем. К концу двадцатидневного путешествия, как сказано, на широте в три градуса шестнадцать минут, мы открыли в долине, на некотором от себя расстоянии, вполне сносный поток, который, полагали мы, заслуживает названия реки и который шел в направлении на северо-северо-запад, то есть туда, куда нам нужно было. Так как мы сосредоточили все наши помыслы на водном пути, мы сочли этот поток за подходящее для подобного опыта место и направили путь прямо в долину. На самом нашем пути стояла небольшая купа деревьев, мимо которой мы прошли, не подозревая ничего дурного, как внезапно один из наших негров был опасно ранен в спину стрелою, вонзившейся между плечами. Это обстоятельство заставило нас немедленно остановиться. И тут же трое наших совместно с двумя неграми, рассыпавшись по роще, — благо, она была невелика, — нашли негра с луком, но без стрел. Этот негр убежал бы, но наши, найдя его, застрелили в отместку за зло, которое он причинил нам. Так мы лишились возможности взять его в плен. Удайся же нам это и отошли мы его домой после ласкового с ним обхождения, мы заручились бы благосклонным отношением к нам его земляков. Пройдя несколько дальше, мы добрались до пяти негритянских хижин или домиков, построенных совсем не так, как виденные нами прежде. Возле двери одной из хижин лежало семь слоновых клыков, сложенных у стены или бока хижины, точно для продажи. Мужчин не было, но было семь или восемь женщин и около двадцати детей. Мы не применили к ним никакого насилия, а дали каждой из них по кусочку расплющенного, как я раньше рассказывал, серебра, вырезанного в виде ромба или в виде птицы, чему женщины обрадовались донельзя и надавали нам за это много пищи, причем какой именно — мы разобрать не могли; то было нечто вроде пирожков, которые они пекут на солнце и которые очень вкусны и сделаны из толченых в муку кореньев. Мы прошли несколько дальше и разбили становище на ночь, не сомневаясь в том, что хорошее наше обращение с женщинами, безусловно, даст свои плоды, когда их мужья вернутся домой. Так и вышло. На следующее утро женщины и с ними одиннадцать мужчин, пять мальчиков и две взрослые девушки явились в наше становище. Прежде чем подойти к нам, женщины закричали, издавая странный визгливый звук. Они хотели, видимо, вызвать нас, и мы вышли на зов. Тогда две женщины, показавши нам то, что мы дали им вчера, и, указывая на стоявшую позади них толпу, стали делать знаки, которые должны были обозначать дружбу. Тогда выступили мужчины, вооруженные луками и стрелами, положили их наземь, наскребли песка и посыпали им себе голову. Затем обернулись трижды, держа руки на макушке. Это, очевидно, должно было обозначать торжественную клятву в дружбе. После того мы руками поманили их к себе. Тогда они сперва прислали к нам мальчиков и девушек для того, очевидно, чтобы те дали нам еще пирожков и какие-то зеленые съедобные травы. Мы приняли подарки, а затем подняли на руки и расцеловали детей. После этого подошли к нам мужчины и, усевшись наземь, подали нам знак, чтобы мы сделали то же самое. Мы уселись. Они много о чем говорили друг с другом, но мы понять их не могли, не могли мы добиться и того, чтобы они поняли нас: ни того, куда мы направляемся, ни того, что нам нужно. Поняли они только то, что мы нуждаемся в пище. После этого один из них оглянулся туда, где в полумиле виднелась возвышенность, вскочил, точно испуганный, и бросился к месту, где были сложены луки и стрелы. Затем, схвативши лук и две стрелы, он, как беговая лошадь, понесся в направлении возвышенности. Добравшись туда, он выпустил обе стрелы и с той же быстротой вернулся к нам. Мы же, видя, что он вернулся с луком, но без стрел, стали допытываться, в чем дело. Туземец, ничего не отвечал нам, поманил с собой одного из наших негров; и мы приказали ему идти. Тогда туземец отвел его к тому месту, где лежало животное, похожее на оленя, пронзенное двумя стрелами, но не убитое насмерть, и вдвоем они принесли его нам. То был подарок, и, надо сказать, подарок весьма желанный, так как оставшиеся у нас запасы были очень скудны. Эти туземцы ходили все совершенно голые. На следующий день к нам пришли около ста человек, и женщины делали нам те же нелепые знаки, которые должны были показать их дружеские отношения к нам. Они плясали и всячески проявляли свою радость, оставивши под конец нам все, что имели. Мы и представить себе не могли, как мог тот человек в лесу так кровожадно и грубо стрелять в одного из наших, не попытавшись прежде вступить с нами в сношения, не могли понять этого, так как здешние жители были просты, добродушны и безобидны. Отсюда мы двинулись вниз по берегам упомянутой мной речки, возле которой, как я узнал, мы должны были встретить весь негритянский народ. Только заранее мы не могли быть уверенными, насколько дружелюбно отнесется этот народ к нам. Река долгое время оказывалась непригодной для каноэ, строить которое мы все время замышляли; и мы еще пять дней проходили окружающую местность, покуда наши плотники, видя, что поток все увеличивается, не предложили нам разбить становище и начать, наконец, делать каноэ. Но после того как мы принялись за дело — срубили два или три дерева и потратили пять дней на работу, несколько наших, прошедших дальше вниз по реке, сообщили нам, что поток скорее уменьшается, нежели увеличивается. Он растекается в песках или иссыхает от солнечного жара, так что река, очевидно, не сможет поднять и самого малого каноэ, какое может быть полезно нам. Таким образом, мы были вынуждены бросить начатое предприятие и двинуться дальше. В дальнейшей части этого пути мы шли три дня прямо на запад, так как местность к северу была необычайно гориста и более бесплодна, чем все, что мы видели до сих пор, в то время как к западу мы обнаружили приятную долину, тянущуюся между двумя большими горными цепями. Горы имели вид ужасающий, так как на них не было ни деревьев, ни травы, и были они совершенно белы от сухого песка. В долине же имелись деревья, трава, кое-какие животные, годные в пищу, и некоторое население. Мы проходили мимо их хижин или домов и видели возле них людей, но эти люди, как только замечали нас, убегали в горы. В конце этой долины мы вышли в населенную местность, но сперва призадумались, вступать ли в нее или же свернуть на север, к холмам. И так как цель наша, по существу, была прежняя — пробраться к реке Нигер, мы склонились к последнему, держа путь по компасу на северо-запад. Так шли мы без передышки еще семь дней. Мы не старались завязывать сношения или знакомства со здешними обитателями, кроме тех случаев, когда мы нуждались в них для получения пищи или для того, чтобы получить указание о дороге. Так что, хотя мы и заметили, что край этот начинает становиться очень многолюдным, особенно по нашей левой руке, то есть к югу, мы тем круче придерживались северного направления, идя по-прежнему на запад. На нашем пути нам попадались различные животные, которых мы убивали и съедали, и это всегда удовлетворяло всем нашим потребностям, хотя и не испытывали мы такой сытости, как тогда, когда выступили впервые. Итак, отклоняясь, чтобы избегать населенных местностей, мы, наконец, пришли к очень приятному и удобному потоку, недостаточно, однако, большому, чтобы называться рекой, и текущему на северо-северо-запад, то есть как раз в выбранном нами направлении. На противоположной стороне этого ручья мы увидали несколько негритянских хижин и в небольшой низине растущий маис *["596], или индийскую пшеницу. Это навело нас на мысль, что обитатели этой местности менее дики, нежели встреченные нами в тех местах, где мы побывали. Мы двигались вперед целым караваном, и тут шедшие впереди наши негры закричали, что увидели белого человека. Мы сперва не очень удивились, так как считали, что парни попросту ошиблись, и спросили их, что они хотят сказать. Но один из них подошел ко мне и указал на хижину, расположенную на дальнем склоне холма, и я с удивлением увидал действительно белого человека, но совершенно обнаженного. Он возился у двери своей хижины и нагибался к земле, что-то держа в руке, точно работал над чем-то. Так как он был обращен спиной к нам, то нас не видел. Я дал неграм знак не шуметь и подождал, покуда ко мне подойдут еще наши, чтобы посмотреть и проверить, не ошибаюсь ли я. И мы вскоре убедились в этом, так как человек, услыхав какой-то шум, выпрямился, пристально поглядел на нас и пришел в такое же, естественно, удивление, как и мы, неизвестно только, от испуга ли или надежды. Однако не он один увидал нас. Все остальные обитатели, окружавшие его хижину, сбились в одну кучу и издали глядели на нас, отделенных от них небольшой впадиной, по которой бежал ручей. И белый, как и все остальные, — так впоследствии рассказывал он сам, — не знал толком, оставаться ли ему на месте или бежать. Как бы то ни было, тут мне пришло на ум, что раз среди туземцев имеются белые, то нам много легче будет дать туземцам понять, чего мы хотим — мира или войны. Потому, привязавши какую-то белую тряпку на конец палки, мы послали с ней к речке двух негров с приказом нести эту палку возможно выше над головою. И нас немедленно поняли: двое туземных негров и белый подошли к противоположному берегу. Однако так как белый не говорил по-португальски, они могли объясниться друг с другом только при помощи знаков. Но наши дали ему понять, что с ними идут белые люди, на что, по их словам, белый рассмеялся. Как бы то ни было, коротко говоря, наши вернулись и сообщили, что вошли в дружеские отношения с белым; через час, примерно, уже четверо наших, два негра и черный князек, направились к речке, и белый вышел к ним. Не провели они там и четверти часа, как ко мне прибежал негр и сказал мне, что белый — инглэзэ *["597], как называет себя. Тут же я помчался с негром назад к речке, можете быть уверены, достаточно рьяно, и убедился, что белый действительноангличанин, как говорит, он страстно обнял меня, и слезы струились по его лицу. Это был человек средних лет, не старше тридцати семи или тридцати восьми, хотя борода его сильно отросла, и волосы его головы и лица покрывали ему до середины спину и грудь. Он был бел, и кожа его была очень тонка, хотя и обесцвечена, а в некоторых местах вздулась волдырями и покрылась какими-то темно-коричневыми чешуйчатыми струпьями, что было следствием опаляющего солнечного зноя. Он был совершенно голый и так ходил, как сказал нам, больше чем два года. Он был так невероятно взволнован встречей с нами, что в продолжение целого дня не мог толком разговаривать. А когда он на время удалялся от нас, мы видели, что он расхаживает и проявляет всякие чудачливые признаки радости, с которой не в силах совладать. Да и впоследствии в продолжение многих дней, стоило кому-нибудь из нас или ему самому проронить слово о его освобождении, как слезы выступали у него на глазах. Поведение его было таким вежливым и располагающим, какого я никогда не видел ни у кого, и во всем, что он делал или говорил, проступали явственные признаки изысканного хорошего воспитания, и все наши очень привязались к нему. Он был человек образованный и математик. Правда, по-португальски он говорить не умел, но он разговаривал по-латыни с нашим лекарем, по-французски с одним из моряков, по-итальянски с другим. Наши разбили становище на берегу речки, как раз напротив жилища белого, и он стал осведомляться, каковы наши запасы съестного и как собираемся мы пополнить их. Узнавши, что запас наш мал, он сказал, что поговорит с туземцами, и у нас окажется достаточно еды. Ибо, сказал он, они самые хорошие и добродушные изо всех обитателей этой части страны, что доказывает хотя бы то обстоятельство, что он так благополучно живет среди них. Первое же, что сделал для нас этот англичанин, действительно принесло нам много пользы, ибо он, во-первых, в точности сообщил нам, где именно мы находимся, и какой путь нам лучше всего держать, во-вторых, он научил нас, как добывать себе достаточно съестных припасов, и, в-третьих, он служил совершеннейшим нашим переводчиком и миротворцем в сношениях со всеми туземцами, которых стало немало вокруг нас, при чем то был народ более свирепый и развитой, нежели встречавшиеся нам ранее. Их не так легко было испугать нашим оружием, и не были они столь невежественны, чтобы отдавать свои съестные припасы и зерно в обмен на наши игрушки, какие, я уже сказал прежде, делал наш искусный мастер. Это все я говорю о тех туземных неграх, в среду которых мы скоро попали. Что же до тех бедняков, среди которых он жил, они мало разбирались в вещах, так как жили на расстоянии больше, чем в триста миль от берега. Они только собирали на северных возвышенностях слоновые клыки и относили их на шестьдесят или семьдесят миль к югу, где обычно встречались с другими торгующими неграми, и те давали им бусы, стекляшки, ракушки и каури *["598], какие сами получали от европейских торговцев — англичан, голландцев и других. Теперь мы стали сходиться ближе с новым нашим знакомым. И в первую же очередь, хотя сами имели жалкий вид в смысле одежды, — не имели ни обуви, ни чулок, ни перчаток, ни шляп и лишь малое количество рубах, — все же одели нашего англичанина, как могли. Наш лекарь, у которого были ножницы и бритвы, побрил его и подстриг ему волосы. Шляпы, как я сказал, в запасах наших не имелось, но он сам сделал себе, и весьма искусно, шляпу из куска леопардовой шкуры. Что же до башмаков или чулок, то он столько времени обходился без них, что не нуждался даже в полусапожках или ножных перчатках, какие я описал выше. Как он любопытствовал выслушивать всю повесть о наших приключениях и был неимоверно захвачен рассказом о них, так и мы, в свою очередь, проявляли не меньшее любопытство к истории его приключений и к тому, как он один попал в это чуждое место и как дошел до состояния, в котором мы нашли его, как сказано. Отчет обо всем этом сам по себе был бы хорошим предметом для интересной книги, и он был бы, наверное, так же длинен и занимателен, как и отчет о наших приключениях, так как заключал бы в себе много странных и необычайных происшествий. Но у нас нет места, чтобы пускаться в столь длинное отступление. Суть истории вот в чем. Он был фактором Английской Гвинейской Компании *["599] в Сиерра Леоне *["600] или каком-то другом сеттлементе, который затем захватили французы, забравши у него все его вещи заодно со всем, что было вверено ему Компанией. Потому ли, что Компания не возвратила ему отобранного у него, потому ли, что отказалась от дальнейших его услуг, он бросил эту службу и стал работать у тех, кого называет независимыми торговцами *["601], а затем, лишившись службы и здесь, стал торговать за свой счет. Тогда-то, попав по неосмотрительности в один из сеттлементов Компании, он то ли был выдан в руки каких-то туземцев, то ли еще иначе, но, словом, попался им *["602]. Во всяком случае, так как они его не убили, он ухитрился вскоре спастись от них и бежал к другому туземному племени, которое враждовало с первым и потому по-дружески обошлось с ним; и здесь он прожил некоторое время. Но так как место пребывания или общество ему не понравилось, он снова бежал и много раз менял хозяев. Иногда его умыкали силой, иногда его угонял страх — различные бывали обстоятельства (разнообразие их требует своей отдельной истории), покуда он не добрел до места, откуда возвратиться оказалось невозможным, и не поселился здесь, где его хорошо принял царек племени. Он же за это научил племя ценить продукты своего труда и запрашивать правильную цену у негров, которым они продавали слоновую кость. Подобно тому, как был он гол и лишен всякой одежды, так же был он лишен и оружия для защиты. Не было у него ни мушкета, ни меча, ни дубины, ни вообще чего-либо, чем мог бы он обороняться от нападения хищных зверей, которыми была полна местность. Мы спросили его, как дошел он до такого полного безразличия к опасностям, угрожавшим его жизни. Он отвечал, что для него, так часто желавшего смерти, жизнь не стоила того, чтобы ее защищать, а к тому же, так как зависел он всецело от милости негров, они более доверяли ему, видя, что у него нет оружия, которым он мог бы причинить им вред. Что же до хищных зверей, об этом он мало тревожился, так как очень редко вообще и отходил-то от своей хижины. А если и уходил, то с ним шли негритянский царек и его люди, а все они вооружены луками и стрелами, и копьями, при помощи которых могут убить любого хищника, будь то лев или иной зверь. Но хищники редко выходят днем. А если неграм случается оказаться где-нибудь в пути ночью, они всегда строят себе хижину и разводят у входа костер, и это совершенно достаточная защита. Мы спросили у него, что нам предпринять для того, чтобы добраться до побережья. Он сказал нам, что мы приблизительно в ста двадцати английских лигах от берега, на котором расположены почти все европейские сеттлементы и фактории, и который называется Золотым Берегом, но что по пути туда столько различных негритянских племен, что десять против одного за то, что мы либо будем вести с ними постоянные бои, либо же умрем от недостатка в съестных припасах, но что имеется два других пути, по которым он сам собирался идти, будь у него только подходящее для этого общество. Один путь — идти прямо на запад. Хотя эта дорога длинная, но в этом направлении народу меньше, и будет он к нам радушнее, или биться с ним будет легче. Другой же путь — это добраться, если возможно, до Рио-Грандэ и спуститься вниз по течению в каноэ. Мы сказали ему, что этим путем мы решили идти еще перед тем, как повстречали его. Но тогда он сказал нам, что на этом пути предстоит пересечь огромную пустыню и пройти густыми лесами, прежде чем можно добраться до реки. И через пустыню в лес нужно идти не менее чем двадцать дней, и притом так быстро, как только мы можем. Мы спросили у него, нет ли в стране лошадей или ослов, или хотя бы быков или буйволов, которые могли бы пригодиться нам в таком пути, и показали ему наших буйволов, которых оставалось всего три. Он ответил, что нет, во всей стране не имеется ничего подобного. Далее он рассказал нам, что в том большом лесу водится огромное количество слонов, а в пустыне — великое множество львов, рысей, тигров, леопардов и так далее, и что в этот лес и в эту пустыню негры ходят за слоновой костью, которую всегда находят в большом количестве. Мы расспрашивали особенно о пути к Золотому Берегу и о том, нет ли рек, чтобы сплавить по ним нашу поклажу. Мы сказали ему, что нас не очень тревожит то, что негры будут сражаться с нами; не боимся мы и голодной смерти, так как если у негров имеются съестные припасы, то и мы получим свою долю их. И поэтому, если он только осмелится повести нас этим путем, то мы осмелимся пойти им. А что касается его лично, то мы сказали ему, что будем жить и умирать вместе — ни один из наших не оставит его. Он очень взволнованно сказал нам, что если мы решились идти и отважимся на этот путь, то можем быть уверены, что и он разделит нашу судьбу. Но он постарается повести нас таким путем, чтобы повстречать более или менее мирных дикарей, которые отнеслись бы к нам хорошо и, может быть, даже поддержали бы нас против других, менее сговорчивых. Словом, все мы решили идти прямо на юг к Золотому Берегу. На следующее утро наш англичанин снова явился к нам и, когда мы все собрались на совет, — если можно будет назвать так наше совещание, — он весьма серьезно обратился к нам с речью. Он сказал, что, как мы теперь, после долгого пути, подошли к концу наших страданий и так любезно предложили ему захватить его с собою, он всю ночь размышлял о том, что ему и всем нам нужно сделать, чтобы как-нибудь вознаградить себя за все понесенные тяготы. И в первую же очередь, сказал он, должен он сообщить мне, что мы находимся в одном из богатейших краев вселенной, хотя во всех иных отношениях это — огромная безнадежная пустыня. — Ибо, — говорит он, — любая здесь река несет золото, и любое место пустыни без пропашки дает урожай слоновой кости. Какие золотые рудники, какие необъятные запасы золота содержат те горы, откуда текут эти реки, или берега, которые омывают эти воды, мы не знаем, но можем представить себе, что они неописуемо богаты; ведь одного того, что вымывают водные потоки, оказывается достаточным для того, чтобы удовлетворить всех торговцев, которых посылает сюда европейский мир. Мы спросили у него, как далеко заходят они, так как знаем, что суда ведут торговлю лишь с побережьем. Он сказал нам, что прибрежные негры обследуют реки на расстоянии в сто пятьдесят или двести миль и проводят за этой работой месяц или два или три за один прием, и всегда возвращаются домой достаточно вознагражденные. — Но, — говорит он, — так далеко они никогда не заходят, а золота и здесь имеется не меньше, чем там. После этого англичанин сказал нам, что, как ему кажется, он мог бы собрать сто фунтов золота за то время, что здесь находится, если бы только потрудился поискать его; но так как не знал он, что делать с этим золотом, и давно уже окончательно отчаялся выйти из своего бедственного положения, то этим совсем не занимался. — Ибо, что мне была бы за польза, — сказал он, — и чем был бы я богаче, если бы владел целой тонной золотого песка и катался бы в нем? Все богатство это не дало бы мне одного мига счастья, не освободило бы от нынешней нужды. Нет, как все вы видите, оно не купило мне ни одежды, чтобы ею покрыться, ни капли воды, чтобы спастись от жажды. Здесь оно не имеет цены, здесь, в этих хижинах, много людей, которые охотно обменяют золото на несколько стеклянных бусинок или на ракушку и дадут вам пригоршню золотого песка за пригоршню каури. Сказавши так, он вытащил что-то в роде обожженного на солнце глиняного горшка. — Вот, — сказал он, — немного здешней грязи и, пожелай я, у меня могло бы быть ее много больше. И показал при этом нам, как мне кажется, что-то от Двух до трех фунтов золотого песку, такого же рода и Цвета, что и добытый нами, как сказано раньше. После того, как мы поглядели некоторое время на золото, он, Улыбаясь, сказал нам, что мы его избавители, и все, что у него есть, включая и его жизнь, принадлежит нам. И так как золото может пригодиться нам, когда мы попадем на родину, то поэтому он просит нас принять его в подарок; теперь он впервые раскаивается в том, что не набрал больше. В качестве переводчика я передал товарищам его заявление и от их имени поблагодарил его. Но, обратившись к своим по-португальски, я попросил их отложить принятие его любезного подарка до следующего утра. Ему я заявил, что более подробно мы поговорим об этом завтра. Так мы расстались на время. Когда он ушел, я обнаружил, что все мои товарищи были необычайно взволнованы его речью и благородством его натуры, равно как и щедростью его подарка, которая в ином месте показалась бы чрезмерной. В общем же говоря, чтобы не задерживать читателя на подробностях, мы все порешили, что теперь он входит в число наших и что подобно тому, как мы для него подмога, — поскольку спасаем его из отчаянного положения, в котором он находится, — так и он подмога для нас, так как будет теперь служить нам проводником через оставшуюся часть страны, будет служить переводчиком в наших сношениях с туземцами и давать нам указания, как обращаться с дикарями и как обогатиться за счет золота страны. А поэтому мы должны присоединить его золото к общему нашему запасу, и каждый должен отдать ему столько, чтобы его доля была равна доле каждого из нас, и в дальнейшем мы должны на все идти совместно и взять с него торжественное обещание, данное раньше друг другу о том, что никто из нас не укроет от других ни крупинки найденного им золота. На следующем совещании мы ознакомили его с приключениями на Золотой реке и с тем, как поделили между собой найденное там золото, так что у каждого из нас имеется доля больше, нежели его пай, и поэтому мы решили ничего не брать у него, а вместо этого каждый даст ему немного из своей доли. Он, видимо, обрадовался тому, что нам так повезло, но не хотел взять у нас ни единой крупинки. Под конец, однако, после многих наших настояний, он сказал нам, что согласен принять золото таким образом: когда мы найдем золото, он возьмет из первой же находки столько, чтобы его доля стала вровень с нашими, и тогда уже мы будем делить дальнейшее поровну. И на этом мы сошлись. Тогда он сказал нам, что не безвыгодно будет перед тем, как пуститься вперед и уже набравши полный запас съестного, сходить на север, к границе пустыни. Оттуда наши негры могут принести по большому слоновому клыку каждый, и он может достать еще негров на подмогу им. Клыки же, после не очень долгой носки, можно будет в каноэ доставить к побережью, и они там дадут очень большую прибыль. На это я возражал, так как имел в виду другой наш замысел — добыть золотого песка. К тому же наши негры, верные нам, как мы знали, добудут для нас золота в реках на много большую стоимость, нежели, таская большие клыки в полтораста фунтов весу на протяжении в сто или больше миль, что для них окажется непереносимым после и без того очень тяжкого путешествия и, наверное, убьет их. Он согласился с справедливостью такого ответа, что чуть было не потащил нас смотреть лесистые части холмов и край пустыни, чтобы мы увидели, как валяются там слоновые клыки. Но когда мы рассказали ему о том, что видели, он замолчал. Мы пробыли здесь двенадцать дней, и все это время туземцы были очень обходительны с нами, приносили нам плоды, травы и какие-то овощи, вроде моркови, но совсем другого, хотя и приятного вкуса, и каких-то птиц, названия которых мы не знали. Словом, они носили нам щедро все, чем располагали, и жили мы очень хорошо, давая им взамен по-прежнему все те же мелочи, понаделанные нашим токарем, который имел их теперь полный мешок. На тринадцатый день мы выступили, захватив с собой нашего нового спутника. На прощание негритянский царек послал ему двух дикарей с подарком — сушеным мясом, но я не помню каким. А англичанин дал ему взамен трех серебряных птиц, которых предоставил ему наш токарь. Уверяю вас, то был подлинно королевский подарок. Теперь мы шли к югу, несколько к западу, и здесь мы нашли первую, на более чем двухтысячемильный путь, реку, протекавшую к югу, в то время как все остальные текли на север или запад. Мы шли вдоль этой реки, величиною не больше хорошего английского ручья, покуда она не стала увеличиваться. Время от времени замечали мы, как наш англичанин втихомолку подходил к воде исследовать почву. Наконец, после дня пути вдоль реки, он подбежал к нам с руками, полными песку, говоря: — Смотрите! Поглядевши, мы увидели, что в речном песке рассыпано много золота. — Теперь, — говорит он, — мы можем, кажется, приняться за работу. Итак, он разделил негров попарно и поставил их на работу: исследовать и промывать песок и производить поиски в самой воде, если она не глубока. За первый же день с четвертью наши люди все вместе набрали фунт и две унции золота, или около того, и мы обнаружили, что золото все прибывает, чем дальше мы идем. Мы спускались вдоль речки около трех дней до того места, где с нею сливается другая маленькая речка. Исследовавши ее, мы и в ней обнаружили золото. Поэтому мы разбили становище в углу, образованном соединением рек, и развлекались, смею это так назвать, тем, что промывали речной песок и добывали съестные припасы. Здесь провели мы еще тринадцать дней, в продолжение которых было у нас много забавных приключений, слишком длинных, чтобы здесь рассказывать о них, и слишком грубых для пересказа, ибо некоторые наши повольничали немножко с туземками, что привело бы их к войне с их мужьями и со всем их племенем, не вмешайся наш новый проводник и не установи он мир с одним из мужей ценою семи тонких кусочков серебра, которые наш токарь отчеканил в форме львов и рыб, и птиц и проделал в них дырочки, за которые их можно подвесить (бесценное сокровище). В то же время, как мы занимались вымыванием золотого песка и тем же занимались наши негры, наш изобретательный токарь ковал и чеканил, и стал столь искусным в своем ремесле, что выделывал любые изображения. Он чеканил слонов, тигров, цибетовых кошек, страусов, орлов, журавлей, мелких птиц, рыб и вообще все, что угодно, из тонких пластинок кованого золота, так как серебряные и железные запасы его почти истощились. В одном из городков этих диких племен, тамошний царек очень дружелюбно принял нас. Ему очень понравились игрушки нашего мастера, и тот продал ему за неимоверную цену слона, вырезанного из золотой пластинки, толщиною в шестипенсовую монету. Царьку это изображение так понравилось, что он не успокоился, покуда не дал токарю почти целую пригоршню золотого песку, как его называют; песок этот весил, как мне кажется, добрых три четверти фунта. Кусок же золота, из которого был сделан слон, мог весить столько же, сколько пистоль *["603], и скорее меньше, чем больше. Наш токарь был так честен, что хотя труд и мастерство было всецело его, однако, все полученное им золото он принес и сдал в общий запас. Но у нас, понятно, никакого смысла не было жадничать, ибо, как сказал нам новый наш проводник, раз были мы достаточно сильны для того, чтобы защищаться, и располагали временем (ибо никто из нас не спешил), то мы могли собрать любое желательное нам количество золота, хотя бы по сотне фунтов на человека. И наш англичанин добавил, что, хотя страна ему опротивела не менее, чем любому из нас, все же, если мы согласны несколько отклониться к юго-востоку и добраться до подходящего для нашей штаб-квартиры места, мы там найдем достаточно съестных припасов и два-три года сможем повелевать во всей стране, и быстро обнаружим выгоды этого. Предложение это, как ни было оно выгодно для имевшихся в нашем стане стяжателей из нашего числа, никого из нас не удовлетворило, так как все мы предпочитали богатству возвращение домой. Мы были чересчур утомлены напряженным, непрерывным, продолжавшимся более года блужданием среди пустынь и диких зверей. Но в речи нового нашего знакомого таилось какое-то волшебство, и он применял такие доказательства и владел такой силой убеждения, что нельзя было ему противиться. Он сказал, что было бы нелепо не пожать плоды всех наших трудов, раз добрались мы до урожая; что мы должны вспомнить, как рискуют европейцы судами, людьми и затрачивают большие средства для того, чтобы добыть хотя бы немного золота, и что безрассудно было бы нам, находящимся в самом сердце золотой страны, уйти с пустыми руками; что, наконец, мы достаточно сильны для того, чтобы пробиться через целые племена, потом сможем направить путь к любой части побережья. Он говорил, что впоследствии мы никогда не простим себе, если приедем на родину с какими-нибудь пятьюстами золотых пистолей, в то время как мы могли бы так же легко иметь пять или десять тысяч, или сколько нам вообще угодно; что он ничуть не более жаден, чем мы, но только видит, что в наших возможностях — сразу вознаградить себя за все пережитые несчастья и обеспечить себя на всю жизнь. Поэтому он не может считать, что отплатил нам за все добро, которое мы сделали ему, если не укажет нам преимущества, которыми мы располагаем. И он заверил нас, что мы в два года, при разумной постановке дела и с помощью наших негров, сможем набрать по сто фунтов золота на брата, да к тому же, может быть, двести тонн слоновых клыков; в то время как, если мы пойдем прямо к побережью и там разойдемся, — мы никогда более уже не увидим этого места и сможем лишь мечтать о нем. Наш лекарь был первым, кто уступил его рассуждениям, а затем пушкарь — и оба они также имели на нас большое влияние, но все же никто из остальных не желал оставаться, и я в том числе, так как вообще не понимал значения большого количества денег, ни того, что мне делать с самим собою, ни что делать с деньгами, будь они даже у меня. Я считал, что их у меня и так достаточно, и единственно, чего желал, — это, попавши в Европу, потратить их возможно скорее, купить себе одежду и снова пуститься в плавание, опять прежним же горемыкой. Как бы то ни было, краснобайством своим он убедил нас остаться в этой стране хоть на шесть месяцев, и если тогда мы решим уйти, то он подчинится. С этим мы, в конце концов, согласились, и он провел нас к юго-востоку на пятьдесят английских миль. Там оказалось много речонок, которые бежали, очевидно, с большой горной цепи на северо-востоке. По нашим вычислениям, это должно было быть начало того пути к великой пустыне, избегая которую, мы были вынуждены двинуться на север. Край этот был достаточно бесплоден, но по указаниям нашего нового проводника мы добывали себе достаточно пищи, ибо окрестные дикари в обмен на безделушки, о которых я уже столько раз упоминал, давали нам все, что имели. Здесь нашли мы к тому же маис, или индийскую пшеницу, которую негритянки выращивают так же просто, как мы сажаем в садах растения, и немедленно новый наш поставщик пищи приказал нашим неграм посадить маис, который тотчас же дал ростки, и, благодаря частой поливке, меньше чем через три месяца мы собрали урожай. Устроившись и разбивши становище, мы принялись за прежнюю работу — выуживали в речках золото, и наш англичанин так хорошо руководил разведками, что нам почти не пришлось трудиться даром. Однажды, поставив нас на работу, он спросил, не позволим ли мы ему отлучиться с четырьмя или пятью неграми на шесть или семь дней — попытать счастья и посмотреть, не найдет ли он чего в окрестностях. При этом он заверил нас, что все, что он ни найдет, пойдет в общий запас. Мы все изъявили свое согласие и дали ему мушкет, и, так как двое наших захотели пойти с ним, они захватили с собою шесть негров и двух буйволов, проделавших с нами весь путь. Взяли они с собою восьмидневный запас хлеба, но мяса не взяли, кроме только запаса сушеного на два дня. Они отправились на вершину горы и оттуда увидали (как потом уверяли нас) ту самую пустыню, которой мы справедливо испугались, когда находились по той ее стороне. Пустыня эта, по нашим расчетам, должна была быть не менее, как трехсот миль в ширину и более шестисот миль в длину, при чем неизвестно, где она кончалась. Подробности их путешествия слишком многочисленны для того, чтобы здесь их пересказывать. Они отсутствовали пятьдесят два дня и принесли с собою семнадцать с лишним (ведь точного веса у нас не было) фунтов золотого песку; имелись и кусочки золота, при чем много большие по размерам, нежели те, что мы находили до сих пор, и, кроме того, около пятнадцати тонн слоновой кости. Англичанин, частью уговорами, а частью насилием, заставил тамошних дикарей добыть ее и снести с гор, а других — отнести до самого нашего становища. Действительно, мы только дивились да гадали, что может это обозначать, когда увидали нашего англичанина, сопровождаемого двумястами негров, но он скоро рассеял наше удивление, заставивши их всех свалить свою поклажу в одну кучу у входа в становище. Сверх того, они принесли две львиные, и пять леопардовых шкур, все очень большие и превосходные. Англичанин попросил у нас извинения за долгую отлучку и за то, что не принес большей добычи, но сказал, что ему предстоит еще одно путешествие, которое, надеется он, даст лучшие результаты. Так, отдохнувши и вознаградивши дикарей, принесших ему клыки, кусочками серебра и железа, вырезанными в форме ромбов, и двумя, вырезанными в виде собачек, он отослал носильщиков вполне удовлетворенными. Когда он отправился во второе путешествие, с ним пожелало идти еще несколько наших, и они образовали отряд в десять человек белых и десять дикарей, с двумя буйволами для переноски съестных и боевых припасов. Пустились они в том же направлении, но не вполне по тому же пути, и были в отлучке всего тридцать два дня, за каковое время убили не менее, чем пятнадцать леопардов, львов и много других зверей и принесли нам двадцать четыре фунта и несколько унций золотого песку, и слоновых клыков только шесть, но зато очень больших. Наш друг англичанин показал нам теперь, с какой пользой провели мы время, так как за пять месяцев пребывания здесь мы набрали столько золотого песку, что, когда дошло до дележки, у нас оказалось по пять с четвертью фунтов на человека, не считая того, что было у нас прежде, и не считая шести или семи фунтов, которые мы давали нашему токарю, чтобы он делал из них безделушки. А теперь мы заговорили о том, чтобы двинуться к побережью и закончить, таким образом, наше путешествие, но на это наш проводник рассмеялся: — Ну, теперь вы пойти не можете, так как в будущем месяце начнутся дожди, и тогда нельзя будет двинуться. Это замечание, как должны были мы согласиться, было вполне разумно, и потому мы решили тем временем обеспечить себя съестными припасами так, чтобы во время дождей нам не приходилось бы слишком много выходить. Мы разошлись в разных направлениях, насколько каждый осмеливался забираться, для того, чтобы запастись пищей. Наши негры убили несколько оленей, которых мы, как могли, провялили на солнце, так как соли у нас теперь не было. К этому времени начались дождливые месяцы, и мы в продолжение двух месяцев едва могли высунуть нос из хижины. Но это было еще не все. Реки так вздулись от разливов, что мы еле могли отличить маленькие ручьи и речки от судоходных рек. Представлялась теперь полная возможность сплавить все водой, но оказалась очень большая куча, ибо, так как мы всегда чем-нибудь награждали дикарей за работу, то даже женщины при каждом удобном случае приносили нам клыки, и подчас даже случалось, что две женщины тащат один большой клык. Таким образом, наш запас возрос до двадцати двух тонн. Как только погода снова стала хорошей, наш англичанин заявил, что не будет убеждать нас оставаться дольше, так как нам, видимо, безразлично, добудем ли мы еще золота, или нет, что мы действительно первые, когда-либо в жизни встречавшиеся ему люди, которые сами говорят, что у них достаточно золота, и о которых достоверно можно сказать, что золото лежит у них под ногами, и они не нагибаются, чтобы подобрать его. Но раз дал он нам обещание, то не нарушит его и не будет убеждать нас оставаться долее. Все же он обязан предупредить нас, что именно теперь, после разлива, находят обычно особенно много золота. Если мы останемся здесь еще хоть на месяц, то увидим, как всю равнину покроют тысячи дикарей, и они будут вымывать золото из песка для европейских судов, которые придут к побережью; что так поступают потому, что разливы всегда вымывают из гор большое количество золота; и если мы воспользуемся тем преимуществом, что находимся здесь прежде прочих, то неизвестно, какие чудеса найдем. Речь англичанина была так убедительна и так доказательна, что по лицам всех видно было, что все согласны с ним. Поэтому мы сказали, что остаемся. Ибо, хотя правда, что все мы стремились на родину, все же очевидности столь выгодной будущности нельзя было противостоять. Он, видимо, сильно ошибся, считая, что мы не хотим увеличить наш запас золота. Мы решили до самого конца использовать имевшиеся у нас преимущества и оставаться здесь до тех пор, покуда будет здесь золото, хотя бы потребовался для этого еще год. Англичанин едва мог выразить свою радость по этому поводу. И, как только наступила хорошая погода, мы принялись под его руководством искать золото в реках. То, что мы нашли сперва, поощрило нас мало, но совершенно ясно было, что причина этому та, что вода еще спала не вся, и реки не вошли в свои обычные русла. Но через несколько дней мы были вознаграждены полностью. Мы нашли золото, и много больше, чем находили сначала, и большими кусками. Один из наших вымыл из песка кусок золота, величиною с маленький орех, по нашим предположениям, почти в полторы унции. Эта удача сделала нас чрезвычайно прилежными, и немного более чем в месяц, мы, все вместе, набрали около шестидесяти фунтов золота. Но затем, как говорил наш англичанин, появилось множество дикарей, — мужчины, женщины и дети, — и они обшаривали каждую речку, каждый ручей и даже сухую землю холмов в поисках золота, так что теперь мы ничего не могли поделать, особенно по сравнению с тем, что сделали раньше. Но наш искусный мастер нашел способ заставить других искать для нас золото, чтобы мы сами не трудились. Когда дикари стали появляться, у него уже было заготовлено изрядное количество безделушек: птиц, зверей и так далее. Англичанин служил ему переводчиком, и он поражал дикарей своим товаром. Таким образом, оборот у него получился изрядный, и вполне понятно, что продавал он свой товар за чудовищную цену. Он получал унцию, а подчас и две унции золота, за кусочек серебра ценой не более, как в грот *["604]. Кажется невероятным, какое огромное количество золота добыл этим путем наш мастер. Словом, чтобы закончить рассказ об этом счастливом путешествии, следует сказать, что мы так увеличили за три добавочных месяца пребывания здесь наш запас золота, что когда начали делить, то роздали еще по четыре фунта каждому. И тогда мы двинулись к Золотому Берегу для того, чтобы найти какой-нибудь способ переправиться в Европу. В продолжение этой части нашего пути случалось много замечательных происшествий в связи с тем, насколько дружественно или враждебно принимали нас различные дикие племена, встречавшиеся нам. Мы освободили из плена одного негритянского царька, облагодетельствовавшего нашего нового проводника и теперь в благодарность получившего с нашей помощью обратно свое царство, которое, кстати, насчитывало, вряд ли больше, чем триста человек подданных. Он угощал нас и приказал своим подданным пойти вместе с нашим англичанином, забрать всю слоновую кость, которую мы были вынуждены бросить, и отнести ее к реке, название которой я забыл. На этой реке мы построили плоты и спустя одиннадцать дней доплыли до одного из голландских сеттлементов на Золотом Берегу, добравшись туда в добром здоровье и к великому нашему удовлетворению. Что до нашего груза слоновой кости, мы продали его голландской фактории и получили за это одежду и вообще все, что требовалось для себя и для тех наших негров, которых мы сочли возможным оставить при себе. И тут нужно заметить, что к окончанию нашего путешествия у нас осталось четыре фунта пороха. Негритянского царька мы отпустили на свободу, одели его из общего запаса и дали ему единолично полтора фунта золота, с которым он прекрасно умел обращаться. И здесь мы все расстались как нельзя более дружественно. Наш англичанин оставался некоторое время на голландской фактории и, как я слыхал, впоследствии умер там с горя, ибо он послал в Англию через Голландию тысячу фунтов стерлингов, чтобы иметь их в своем распоряжении, когда вернется к друзьям, а корабль, на котором были посланы деньги, был захвачен французами, и весь груз погиб. Остальные мои товарищи отправились в португальские фактории возле Гамбии, расположенной на широте четырнадцати градусов. Я же, с двумя неграми, которых оставил себе, отправился к Кэйп-Кост-Кэстлю *["605], откуда переправился в Англию и прибыл туда в сентябре. Так окончилась первая моя растрата молодых сил. В дальнейшем растрачивал я их с еще меньшей пользой. В Англии не было у меня ни друзей, ни родных, ни знакомых, хотя и была она моей родиной. Следовательно, у меня не было никого, кому бы я мог довериться, или кто бы мог посоветовать мне, как сберечь или сохранить мои деньги. Я попал в дурное общество, доверил трактирщику в Розерхайзе *["606] значительную часть моих денег и быстро стал спускать остальную, так что та большая сумма, которую набрал я со столькими трудностями и опасностями, утекла в течение немного больше чем двух лет. Теперь от одной мысли о том, как безрассудно была она растрачена, прихожу я в ярость, но об этом незачем рассказывать здесь. Остальное нужно закрыть румянцем стыда, так как спустил я эти деньги во всяких безумствах и кутежах. Об этой части моей жизни можно сказать, что началась она бунтом и кончилась развратом; печальный выход в свет и еще худшее возвращение. Примерно год спустя заметил я, что мои средства истощаются и что пора подумать о дальнейшей моей судьбе. К тому же и мои развратители, как я называю их, уже давали мне понять, что по мере того, как убывают мои деньги, уходит и их уважение ко мне, и что я ничего не могу ожидать от них, кроме того, что добывается при помощи денег, да и это ни мало не зависело от того, сколько я ради них тратил прежде. Это сильно поразило меня, и я почувствовал справедливое отвращение к их неблагодарности. Но и оно прошло. И я не испытывал тогда ни малейшего сожаления о том, что растратил такую огромную сумму денег, какую привез с собой в Англию. Тогда я поступил, и, верно, в недобрый час, на шедшее в Кадикс судно. В то время как проходили мы мимо испанского побережья, сильный юго-западный ветер принудил нас зайти в Гройн *["607]. Здесь я попал в общество мастаков по части дурных дел, и один из них, еще более ловкий, чем остальные, завязал со мною тесную дружбу, так что мы называли друг друга братьями и друг другу рассказывали все о себе. Звали его Гаррис *["608]. Парень этот явился как-то утром ко мне и спросил, не съезжу ли я вместе с ним на берег, на что я согласился. Мы получили у капитана разрешение воспользоваться лодкой и отправились вместе. Когда мы оказались одни, Гаррис спросил, не хочу ли я пойти на одно приключение, которое вознаградит меня за все прошлые неудачи. Я отвечал утвердительно, ибо мне безразлично было, куда идти. Мне нечего было терять и некого покидать. Тогда он потребовал от меня, чтобы я поклялся все, что скажет он мне, хранить в тайне, и если я не соглашусь на то, что он предложит, то никогда не выдавать его. Я охотно связал себя этим обещанием, наговорив самые торжественные клятвы и божбы, какие только могли изобрести дьявол да мы оба. Тогда он сказал мне, что на том корабле, — он указал на одно стоявшее в гавани английское судно, — есть отважный парень, который в компании с некоторыми из экипажа решил завтра утром поднять мятеж и бежать, захватив судно. Если мы наберем достаточно сил среди экипажа нашего корабля, мы можем поступить так же. Предложение мне очень понравилось, а Гаррис набрал к нам еще восьмерых ребят и сказал нам, что мы должны быть готовы взбунтоваться, как только его друг примется за дело и овладеет кораблем. Таков был замысел Гарриса. Я же, ни мало не смущаясь, ни подлостью подобного поступка, ни трудностью осуществления замышленного плана, немедленно вступил в гнусный заговор. Но осуществить нашу часть замысла не удалось. Как было уговорено, в назначенный день сообщник Гарриса на другом корабле, по имени Вильмот, принялся за дело: захватил помощника капитана и других офицеров, завладел судном и подал нам сигнал. Нас на корабле было всего одиннадцать участвовавших в заговоре. Поэтому мы все покинули корабль, сели в лодки и отправились к тем, чтобы к ним присоединиться. Нас, покинувших таким образом корабль, на котором я находился, с величайшей радостью принял капитан Вильмот и его новая шайка. Были мы вполне готовы ко всяческого рода злодеяниям, будучи смелы, отчаянны (я говорю о себе), не испытывал я ни малейших угрызений совести в том, что предпринимал; и уже совсем не представлял я себе, каковы могут быть последствия всего этого. Итак, говорю я, таким образом, я вступил в состав того экипажа, — обстоятельство, которое, в конце концов, привело меня к сношениям с самыми знаменитыми пиратами того времени, часть которых закончила свой жизненный путь на виселице. Поэтому я думаю, что отчет о некоторых дальнейших моих приключениях может составить занимательный рассказ. Но я заранее осмеливаюсь сказать и даю в том честное слово пирата, что не сумею припомнить все, нет, даже и сколько-нибудь значительную часть из того огромного разнообразия, которое являет собою одна из самых омерзительных историй, когда-либо поведанных миру. Я же, бывший, как прежде уже говорил, прирожденным вором и уже давно, по склонности, пиратом, находился теперь в своей стихии и в жизни никогда ничего не предпринимал с большим удовлетворением. Что касается капитана Вильмота (так отныне предстоит нам называть его), завладевшего кораблем тем способом, который вам уже известен, то ему, вполне понятно, совершенно незачем было оставаться в порту, дожидаясь либо возможных попыток предпринять что-либо против него с берега, либо возможных перемен в настроении экипажа. Наоборот, с тем же отливом подняли мы якорь и вышли в море, направляясь к Канарским островам *["609]. На корабле у нас было двадцать две пушки *["610], но возможно было поставить тридцать; военного же снаряжения в количестве, полагающемся для купеческого судна, было достаточно теперь для нас, в особенности на тот случай, если нам придется завязать бой. Поэтому мы направились в Кадикс, то есть, точнее говоря, стали в заливе на якорь. Здесь капитан и парень, которого мы назвали капитаном Киддом [Капитан Виллиам Кидд. Дата рождения неизвестна (около 1645 г.). Выслужившийся из низов капитан английского военного флота, посланный в мае 1696 г. в карательную экспедицию против тихоокеанских пиратов и каперскую (см. примеч. 347) против французов. Корабль был снаряжен для него лордами Белламонтом (генерал-губернатор Новой Англии), Соммерсом (государственный канцлер), Орфордом (морской министр), Ромнеем (министр иностранных дел), герцогом Шрусбири (министр юстиции) и некоторыми другими. Корабль был передан на таких условиях: четверть добычи идет экипажу, а три четверти делятся так: одна пятая Кидду и его посреднику Ливингстону, четыре пятых — лордам. Если доля лордов не окупает их расходов по снаряжению, Кидд и Ливингстон доплачивают разницу из своей доли, если итог добычи превышает 100 000 ф. ст., корабль со снаряжением становится собственностью Кидда и Ливингстона. Это сугубо капиталистическое предприятие (экипаж не получал жалования) оказалось вскоре настолько малоприбыльным, что экипаж принудил Кидда, захватившего уже два французских корабля, стать пиратом. Несмотря на то, что в приказе конца 1698 года король Виллиам III объявил помилование всем пиратам, которые явятся с повинной, кроме капитанов Эйвери (см. примеч. 218) и Кидда, — Кидд рассчитывал как на то, что ему удастся доказать, что вышел он в море канером и пиратом стал поневоле, так и на то, что высокопоставленные арматоры (лица, снаряжающие корабль) выгородят его. В июле 1699 г. он добровольно предался в руки правосудия и вручил взятые им на первых захваченных кораблях французские бумаги. Благородные лорды отступились от своего доверенного лица; бумаги же на суде вообще не фигурировали. Да и самый суд разбирал не пиратские деяния Кидда (иначе выплыла бы история с арматорами), но приговорил Кидда к смертной казни за убийство, не преднамеренное и в запальчивости, судового офицера, еще в самом начале экспедиции. 23 мая 1701 г. казнен. Зарытый им на Гардинер-Айлэнд (под Нью-Йорком) клад и захваченные при аресте ценности расценивались в общей сложности около 14 000 ф. ст. Розыски клада капитана Кидда являются частой темой приключенческой беллетристики (самый знаменитый и хронологически первый рассказ — «Золотой жук» Э. По).] (он был пушкарем), еще несколько человек, которым можно было доверять, в том числе мой товарищ Гаррис, назначенный вторым помощником, и я, назначенный лейтенантом [Корабельные офицеры были следующие: капитан; лейтенант (заместитель, помощник) или штурман (лоцман); шкипер (заведующий такелажем) и каптенармус (заведующий боевыми припасами); подштурман, пушкарь, боцман и плотник; мичмана и старшие матросы. В одной каперской (см. прим. 347) экспедиции (1708 г.) призы делились так: капитан — 100 фунтов; лейтенант и т. д. — 80 ф.; подштурман и т. д. — 40 ф.; мичман и т. д. — 20 ф.; матрос — 10 ф. ст. у пиратов: капитан и штурман получали по две доли; помощник капитана, боцман и пушкари — по полторы; остальные офицеры — по доле с четвертью.], высадились на берег. Мы захотели захватить с собою на продажу несколько тюков английских товаров, но мой товарищ, великий знаток своего дела, предложил нам иной способ. Он уже прежде бывал в этом городе и сказал нам, что закупит пороху, ядер, ручного оружия [Ручное оружие — пистолеты, ружья и различного рода холодное оружие (сабли, пики, абордажные топоры и т. д.).] и вообще все, в чем мы нуждаемся, на слово, с тем, чтобы расплатиться имеющимися у насанглийскими товарами, когда закупленное будет доставлено на борт. Несомненно, предложение было дельное, и он с капитаном отправились на берег и, поторговавшись, как нашли лучше, вернулись через два часа, привезя с собою только Бэт [Бэт — бочка емкостью в 126 галлонов (560, 796 литров).] вина да пять бочек брэнди [Брэнди — английская водка.]; мы все также вернулись на борт. На следующее утро явились торговать с нами две глубоко груженных barcos longos *["611]с пятью испанцами на борту. Наш капитан продал им за гроши английские товары, а они сдали нам шестнадцать баррелей *["612] пороху, двенадцать малых бочонков пороху для ручного оружия, шестьдесят мушкетов *["613], двенадцать фузей *["614] для офицеров, семнадцать тонн пушечных ядер, пятнадцать баррелей мушкетных пуль, несколько сабель и двадцать пар хороших пистолетов *["615]. Кроме того, они доставили тринадцать бэтов вина (ведь мы все теперь превратились в важных бар и стали презирать корабельное пиво *["616]), также шестнадцать пэнчонов *["617] брэнди да двенадцать баррелей изюма и двадцать ящиков лимонов. За все это мы платили английскими товарами, и вдобавок сверх всего перечисленного капитан получил еще шестьсот осьмериков наличными. Испанцы хотели приехать еще раз, но мы больше не могли оставаться. Оттуда мы направились к Канарским островам, а оттуда далее, к Вест-Индии *["618], где совершили несколько набегов на испанцев, добывая себе съестные припасы грабежом. Захватили мы также несколько призов, но ценная добыча не попадалась в продолжение того срока, что я оставался с ними, что в тот раз было недолго. На побережье Картагены *["619] захватили мы испанский шлюп, и мой друг подал мне мысль попросить у капитана Вильмота, чтобы он пересадил нас на этот шлюп, выделивши нам соответствующую долю оружия и боевых припасов, и пустил бы нас поискать своего счастья, так как шлюп более подходил для нашего дела, чем большой корабль, и лучше ходил под парусами. На это капитан согласился, и мы назначили себе место свидания Тобаго *["620], заключивши условие, что все, захваченное одним кораблем, должно делиться между командами обоих. Условие это мы свято соблюдали и соединили суда, приблизительно, пятнадцать месяцев спустя на острове Тобаго, как сказано выше. Мы около двух лет крейсировали в тех морях, нападая главным образом на испанцев. Впрочем, мы не пренебрегали и захватом английских судов, или голландских, или французских, если они попадались нам на пути, и, в частности, капитан Вильмот напал на судно из Новой Англии *["621], шедшее из Мадеры *["622] на Ямайку *["623], и на другое, шедшее из Нью-Йорка на Барбадос *["624] со съестными припасами; последний приз был нам большим подспорьем. Но с английскими судами мы старались связываться возможно меньше по тем причинам, что, во-первых, если эти суда могли оказывать какое-нибудь сопротивление, то дрались до последних сил; и, во-вторых, потому, что на английских судах — обнаруживали мы — добычи оказывалось всегда меньше, в то время как у испанцев обычно бывали деньги, — а этой добычей мы лучше всего умели распоряжаться. Капитан Вильмот, естественно, бывал особенно жесток, когда захватывал английский корабль для того, чтобы в Англии узнали о нем как можно позднее и не так скоро приказали бы военным кораблям отправиться в погоню за ним. Но эти дела я предпочитаю укрыть в молчании. За эти два года мы значительно увеличили наше состояние, так как на одном корабле захватили шестьдесят тысяч осьмериков, а на другом сто тысяч. Разбогатевши, мы решили стать также и могущественными, ибо захватили построенную в Виргинии *["625] бригантину *["626], превосходный корабль и прекрасный ходок, способный нести двенадцать пушек, а также большой испанский корабль стройки, похожей на фрегатную, который плавал также чудесно и который мы впоследствии, при помощи хороших плотников, снарядили так, что он мог нести двадцать восемь пушек. А теперь нам требовались еще люди, и поэтому мы направились к Кампешскому *["627] заливу, не сомневаясь, что сможем там навербовать столько народу, сколько потребуется. Так и оказалось. Здесь мы продали шлюп, на котором я находился. Так как капитан Вильмот оставил за собою свой корабль, я принял в качестве капитана испанский фрегат, а старшим лейтенантом взял моего товарища Гарриса, смелого, предприимчивого парня, каких мало на свете. На бригантину мы поставили кулеврину *["628]; итак, у нас было теперь три крепких судна, с хорошим экипажем и припасами на двенадцать месяцев, так как мы захватили два или три шлюпа из Новой Англии и Нью-Йорка, шедших на Ямайку и Барбадос, груженых мукою, горохом и бочонками с говядиной и свининой. Дополнительные запасы говядины сделали мы себе на берегу острова Кубы *["629], где били скота, сколько угодно, хотя соли у нас было мало для того, чтобы заготовить мясо впрок. Со всех захваченных нами кораблей мы отбирали порох, ядра и пули, ручное огнестрельное оружие и тесаки, а что до людей, то мы всегда забирали, в первую очередь, лекаря и плотника, как людей, которые могут пригодиться нам во многих случаях. И они не всегда шли к нам неохотно, хотя ради собственной безопасности, на всякий случай, могли легко утверждать, что их захватили силой; забавный пример этого я привожу в дальнейших моих приключениях. Был у нас один веселый парень, квакер *["630], по имени Виллиам Уолтерз, которого мы сняли со шлюпа, шедшего из Пенсильвании *["631] на Барбадос. Был он лекарем, и называли его доктором; он не служил лекарем на шлюпе, но отправился на Барбадос, чтобы там «получить койку» *["632], как выражаются моряки. Как бы то ни было, на борту находилась вся его лекарская поклажа, и мы принудили его перейти к нам и захватить с собою все свои причиндалы. Был он, право, парень преуморительный, человек с отличнейшей здравой рассудительностью и, кроме того, превосходный лекарь. Но, что самое ценное, был он всегда жизнерадостен, весел в разговорах и к тому же смел, надежен, отважен, не хуже любого из нас. Виллиам, как мне показалось, не имел ничего против того, чтобы двинуться с нами, но решился произвести это так, чтобы переход имел вид насильственного захвата его, и потому он явился ко мне. — Друг, — говорит он, — ты говоришь *["633], что я должен перейти к тебе, и не в моих силах сопротивляться, если бы я захотел того. Но я прошу, чтобы ты заставил хозяина шлюпа, на котором я нахожусь, собственноручно удостоверить, что я взят силой и против моего желания. И сказал он это с таким довольным выражением на лице, что не понять смысла сказанного никак нельзя было. — Ну, что же, — говорю я, — против вашей воли это или нет, но я заставлю его и всех его подчиненных выдать вам такое удостоверение, не то захвачу их с собой и продержу в плену, покуда они его не выдадут. Итак, я самолично написал удостоверение, в котором было сказано, что захвачен он в плен пиратским судном при помощи грубой силы, что вначале забрали его поклажу и инструменты, а потом связали ему руки за спиной и силой толкнули его в лодку к пиратам. Это было засвидетельствовано хозяином шлюпа и всеми его подчиненными. Сообразно с этим я набросился на Виллиама с проклятиями и приказал моим людям связать ему руки за спиной; связанного мы взяли его к себе в лодку и увезли. Когда мы попали на судно, я подозвал Виллиама к себе: — Ну-с, друг, — говорю я, — я, правда, увел вас силой, но не думаю, чтоб сделал я это так уж против вашей воли, как это кажется прочим. Полагаю, — говорю я, — что вы можете быть полезным для нас, мы же с вами будем обращаться очень хорошо. Я развязал ему руки и тут же приказал возвратить ему все его вещи; а наш капитан поднес ему чарочку. — Ты по-дружески обошелся со мною, — говорит Виллиам, — и прямо скажу тебе, по доброй ли я воле явился сюда. Я постараюсь быть тебе полезным, чем только смогу, но знаешь сам, когда ты будешь сражаться, — не мое дело вмешиваться. — Нет, нет, — говорит капитан, — зато вы можете вмешаться, когда мы будем делить деньги. — Это полезно для пополнения лекарских запасов, — сказал Виллиам и улыбнулся, — но я все же буду умерен. Словом, Виллиам был очень приятный товарищ. Но у него было то преимущество, что, если бы нас захватили, то всех бы наверняка повесили, а он, несомненно, избежал бы наказания, — и это он твердо знал. Но, короче говоря, был он парень бойкий и мог бы стать лучшим капитаном, чем кто-либо из нас. Мне придется часто упоминать о нем в продолжение всего этого рассказа. Долгое наше крейсирование в этих водах стало теперь известным настолько, что не в одной только Англии, но и во Франции и в Испании всенародно оглашали наши похождения. Всюду рассказывали много басен о том, как мы хладнокровно убиваем людей, связываем их спиной к спине и бросаем в море. Половина этих россказней, впрочем, была неправдой, хоть делали мы больше, чем уместно здесь пересказывать. Следствием этого, во всяком случае, явилось то, что несколько английских военных судов было послано в Вест-Индию с приказом крейсировать в Мексиканском*["634] и Флоридском *["635] заливах и вокруг Багамских островов *["636] с целью, если возможно, напасть на нас. Мы были не так уже неосторожны, чтобы этого не ожидать после того, как столько времени провели в здешних краях. Но первое достоверное сообщение об этом получили мы в Гондурасе *["637]; там шедшее с Ямайки судно передало нам, что два английских военных корабля в поисках нас движутся прямо сюда с Ямайки. В это время мы как раз были заперты в заливе и, если бы англичане пошли прямо на нас, мы не смогли бы даже и пошевельнуться, чтобы улизнуть. Но случилось так, что кто-то осведомил их, будто мы находимся в Кампешском заливе, и они отправились прямо туда. Благодаря этому мы не только освободились от них, но и оказались на таком расстоянии с наветренной стороны от них, что они не смогли бы сделать попытку напасть на нас, даже если бы знали, где мы находимся. Мы воспользовались этим преимуществом и направились на Картагену. Оттуда с великими трудностями, мы, держась некоторого расстояния от берега, прошли к острову святого Мартына *["638], добрались до голландского берега Кюрасо *["639] и оттуда направились к острову Тобаго, который, как сказано прежде, служил нам местом свиданий. Остров этот был пустынным, необитаемым и часто являлся для нас убежищем. Здесь умер капитан бригантины, и командование его принял капитан Гаррис, в то время мой лейтенант. Мы пришли к решению уйти к бразильскому *["640] побережью, оттуда к мысу Доброй Надежды и, таким образом, добраться до Ост-Индии. Но Гаррис, который, как я уже сказал, теперь был капитаном бригантины, заявил, что судно его слишком мало для столь длинного пути. Но, если капитан Вильмот разрешит, он отважится еще на один набег и последует за нами на первом же захваченном им корабле. Мы условились с ним встретиться на Мадагаскаре. Это было сделано на основании моих рекомендаций этого места и в виду имеющихся там запасов съестного. Как и было уговорено, Гаррис ушел от нас, и в недобрый час. Он не захватил судна, на котором мог бы последовать за нами, а был захвачен, как я слыхал впоследствии, английским кораблем, закован в кандалы и умер от горя и досады прежде еще, чем добрался до Англии. Лейтенант же его, как я слыхал, был казнен в Англии за пиратство. Таков был конец человека, который первый приучил меня к этому несчастному ремеслу. Мы отошли от Тобаго три дня спустя, направляя курс к бразильскому побережью, но не провели на море и одних суток, как нас разлучила ужасная буря, продолжавшаяся три дня почти без перерыва или передышки. При этом случилось, к несчастью, что капитан Вильмот находился у меня на корабле, к великому своему неудовольствию, ибо его корабль мы не только потеряли из виду, но вообще больше не встречали, покуда не добрались до Мадагаскара, где он оказался выброшенным на берег. Лишившись в этой буре нашего формарса *["641], мы были вынуждены возвратиться на остров Тобаго, там укрыться и исправить повреждения, чуть не приведшие нас к гибели. Только успели мы высадиться и приняться за поиски подходящего для починки формарса дерева, как увидали, что к берегу идет английский тридцатишестипушечный военный корабль. Это явилось для нас величайшей неожиданностью, так как мы были почти беспомощны. Но, к великой удаче, наше судно стояло так тесно и плотно за высокими скалами, что военный корабль не заметил его и продолжал свой путь. Приметивши, куда он идет, мы ночью, бросивши работу, решили выйти в море, держа путь в обратном направлении. Это была, как мы обнаружили, удачная мысль, так как больше мы его не видали. Была у нас на корабле старая бизань, и она временно служила нам вместо формаса. Итак, мы пошли на остров Тринидад *["642] и, хотя там на берегу находились испанцы, мы перевезли в лодке на берег несколько человек и те срубили превосходную пихту *["643] для формарса. Там же добыли мы немного скота и увеличили наш запас продовольствия. Созвавши всеобщий военный совет, мы решили на время покинуть эти моря и отправиться к бразильскому побережью. Сперва мы пытались только раздобыть пресной воды, но услыхали, что в заливе Всех святых *["644] в полной готовности стоит направляющаяся в Лиссабон португальская флотилия и ждет только попутного ветра. Это заставило нас залечь возле, чтобы высмотреть, как флотилия отправится, — с конвоем или без него, — и в зависимости от этого либо напасть на нее, либо постараться ее избегнуть. Вечером с юго-запада через запад подул свежий ветер. Так как он оказался для португальской флотилии попутным, а погода была тихая и хорошая, мы вскоре услыхали сигнал подымать якоря. Зайдя на остров Си *["645], мы взяли на гитовы *["646] главный парус *["647] и форзейль *["648], спустили марсели *["649] на эзельгофт *["650], взявши их также на гитовы, для того, чтобы могли стоять возможно более потаенно в ожидании выхода флотилии. Как и следовало ожидать, на следующее утро мы увидели выход всех судов, но при этом не испытали никакого удовольствия, ибо флотилия состояла из двадцати шести вымпелов; в большинстве суда были сильные и большого водоизмещения, равно как купеческие, так и военные корабли. Видя, что тут ввязываться нечего, мы притаились, где стояли, покуда флотилия не скрылась из виду, а затем уже отправились в путь сами, в полной надежде встретить другую добычу. В скором времени мы заметили какой-то парус и немедленно пустились за ним. Но то оказался превосходный ходок и, выйдя в море, положился он, мы ясно увидали, на свои ноги, то бишь на свои паруса. Во всяком случае, и у нас судно было неплохое, и мы стали, хотя и медленно, его нагонять; будь у нас день впереди, мы наверняка захватили бы корабль. Но вскоре стемнело, и мы знали, что в таком случае потеряем корабль из виду. Наш веселый квакер, приметивши, что мы все еще плетемся за судном в темноте, не зная даже, куда оно держит курс, очень сердито подошел ко мне. — Друг Сингльтон, — говорит он, — знаешь ли ты, чем мы занимаемся? Я в ответ: — Да, мы преследуем тот корабль. Разве не так? — А с чего ты это взял? — говорит он, все еще очень сухо. — Да, это сущая правда, — говорю я ему, — мы не можем быть уверены в этом. — Да, друг, — говорит он, — мы можем быть уверены в том, что бежим от него, а не преследуем. Боюсь, — добавляет он, — что ты заделался квакером и решился не применять насилия, или же, что ты трус и бежишь от врага. — Что вы хотите сказать? — говорю я (кажется, я и обложил его). — Чего вы насмехаетесь? Вечно вы пристаете с издевками! — Нет, — говорит он. — Ведь ясно, что корабль направился прямо на восток в открытое море для того, чтобы сбить нас; можешь быть уверен, что дела ведут его вовсе не туда. Что ему делать в этой широте на африканском побережье? Это ведь, примерно, Конго или Ангола. Но как только стемнеет, и мы потеряем корабль из виду, он повернет и снова пойдет на запад к бразильскому побережью и к заливу, куда, как ты сам знаешь, он направлялся сначала. Значит, и выходит, что мы убегаем от него. Я сильно надеюсь, друг, — говорит эта сухопарая, склабящаяся тварь, — что ты станешь квакером, ибо вижу, что ты не за то, чтобы сражаться. — Очень хорошо, Виллиам, — сказал я, — в таком случае из меня выйдет превосходный пират. Как бы то ни было, а Виллиам оказался прав, и я немедленно понял, что он хочет сказать. Капитан Вильмот, лежавший тяжело больным у себя в каюте, услыхал наш разговор и понял Виллиама так же хорошо, как и я, и крикнул мне, что Виллиам прав, что самое лучшее для нас это переменить курс и направиться к заливу; там у нас десять против одного за то, что утром мы перехватим корабль. Мы сделали полный оборот, переменили галс *["651], поставили паруса на брам-стеньге *["652] и пошли к заливу Всех святых. Там рано поутру мы стали на якорь, за пределами пушечного выстрела. Мы закрепили паруса каболками *["653] так, чтобы возможно было распустить полотнища, не взбираясь наверх для развязывания узлов, опустили главную и передние реи и приняли вид, что давно уже здесь стоим. Два часа спустя мы увидали, что наша добыча идет к заливу, поставивши все паруса. Она, ничего не подозревая, шла прямо к нам в пасть; а мы держались тихо, до тех пор, пока судно не подошло почти на пушечный выстрел. И тут, — так как передние части нашего такелажа лежали горизонтально, — мы сперва бросились к реям, а затем развернули марселя, при чем скрепляющие их каболки отпали сами. В несколько минут паруса были поставлены; в то же время мы отвязали якорный канат и напали на корабль прежде еще, чем он успел ускользнуть от нас, переменивши галс. Корабль был захвачен врасплох настолько, что почти не сопротивлялся и сдался после первого же бортового залпа *["654]. Мы стали соображать, что нам делать с кораблем. Виллиам подошел ко мне. — Послушай-ка, друг, — говорит он, — ты выкинул сейчас ловкую штуку! Захватил корабль ближнего твоего у самой его двери, не спрашивая даже у него разрешения. А скажи, не думаешь ли ты, что в порту должно быть несколько военных кораблей? Ты достаточно уже их взбудоражил. Они еще до наступления ночи погонятся за тобою по пятам, чтобы спросить, зачем ты так поступил, — можешь не сомневаться в этом. — Право, Виллиам, — ответил я, — насколько мне известно, это так. Что же нам, в таком случае, делать. Он в ответ: — У тебя две возможности на выбор, либо войти в порт и взять все остальные корабли, либо убраться прочь до того, как они выйдут и возьмут тебя. Ведь вот они, я вижу, уже ставят марс на том большом корабле, чтобы немедленно выйти в море. Вскоре они явятся побеседовать с тобой. Что скажешь ты им, когда они спросят, почему ты без разрешения захватил их корабль? Как Виллиам сказал, так оно и оказалось. В подзорные трубки мы увидели, что в порту все торопятся, — собирают экипаж и убирают такелаж на шлюпках в большом военном корабле. Совершенно ясно было, что вскоре они явятся к нам. Но нам нечего было раздумывать. Мы обнаружили, что захваченный нами корабль не гружен ничем важным для нас, кроме небольшого количества какао *["655], сахара и двадцати баррелей муки. Остальной же груз состоял из шкур. Поэтому мы, забравши все, что считали пригодным для себя, и в том числе все боевые припасы, ядра и ручное оружие, — покинули корабль. Мы захватили с собою также канат, три находившихся на корабле якоря, которые годились нам, и часть парусов. Последних оставили мы достаточно для того, чтобы корабль мог добраться в порт. Это было все. После этого мы направились на юг, к бразильскому побережью и подошли к реке Жанейро *["656]. Но, так как два дня дул сильный ветер с юго-востока и с юго-юго-востока, мы вынуждены были стать на якорь у маленького острова и дожидаться попутного ветра. За это же время португальцы, очевидно, успели передать на материк губернатору, что близ побережья стоят пираты. Так оказалось, что, завидевши порт, мы обнаружили, что как раз за чертою мелководья стоят на якоре два военных корабля. Один из них со всей возможной спешкой ставил паруса и отвязывал якорный канат для того, чтобы побеседовать с нами. Другой так далеко еще не зашел, но собирается последовать его примеру. Меньше, чем через час, они уже шли за нами, поднявши все свои паруса. Не наступи ночь, слова Виллиама оказались бы пророческими: корабли наверняка задали бы нам вопрос, что мы здесь делаем, ибо обнаружили мы, что передний корабль уже нагонял нас, особенно на одном определенном галсе, тогда как мы уходили от него в наветренную сторону. Но, потерявши корабли из виду в темноте, мы решили переменить курс и направиться прямо в море, не сомневаясь в том, что за ночь нам удастся от них отделаться. Догадался ли о наших намерениях португальский командир, или нет, — не знаю. Но утром, когда рассвело, оказалось, что мы от него не отделались: он преследует нас, находясь всего в лиге за нашей кормой. Но, к великому нашему счастью, виднелся лишь один корабль из двух. Но зато это был корабль большой, несший на себе сорок шесть пушек и отменно ходкий. Это видно из того, что он нагнал нас, ибо и наш корабль был, как я уже говорил, очень ходок. Разглядевши все это, я понял, что иного исхода, кроме боя, нет. Зная, что нечего ждать пощады от этих мерзавцев-португальцев, народа, к которому я испытывал природное отвращение, я сообщил капитану Вильмоту, как обстоят дела. Капитан, хотя и был болен, заковылял по каюте и потребовал, чтобы его вынесли на палубу (он был очень слаб). Он захотел лично посмотреть, как обстоят дела. — Что же, — говорит он, — будем сражаться! Экипаж наш был и раньше бодр, но вид возбужденного капитана, пролежавшего десять или одиннадцать дней больным в калентуре *["657], придал ему двойное мужество, и все принялись убирать судно и готовиться к бою. Квакер Виллиам подошел ко мне, как-то странно улыбаясь. — Друг, — говорит он, — зачем тот корабль гонится за нами? — Зачем? — говорю, — чтобы сражаться с нами. Будьте уверены! — Так, — говорит он. — А как ты думаешь, нагонит он нас? — Да, — сказал я, — сами видите, что нагонит. — Почему же в таком случае, друг, — говорит этот сухопарный бездельник, — почему ж ты все бежишь от него, раз он все равно нас настигнет? Разве нам легче будет оттого, что он настигнет нас не здесь, а дальше? — Все едино, — говорю я, — но что вы-то сделали бы? — Сделал бы! — говорит он. — Пускай бедняга не трудится больше, чем нужно. Подождем его и послушаем, что он хочет нам сказать. — Он заговорит с нами порохом и ядрами, — сказал я. — Ну, что ж, — говорит он, — раз это его родной язык, нужно отвечать ему тем же языком, не правда ли? Не то как он сможет понять нас? — Превосходно, Виллиам, — говорю я, — мы вас понимаем. И капитан, несмотря на то, что был болен, крикнул мне: — Виллиам опять прав, — сказал он. — Все одно, что здесь, что лигой дальше. И дал приказ: — Держать грот *["658] круто к ветру *["659]! Мы для него убавим паруса. Мы убавили паруса. Ожидая португальца с подветренной стороны, — а сами шли в то время на штирборте *["660], — мы перетащили восемнадцать пушек на бакборт *["661] и решили дать бортовой залп, чтобы взгреть неприятеля. Прошло еще полчаса, покуда он с нами поравнялся. Все это время мы шли к ветру *["662], чтобы отрезать ветер от неприятеля. Он оказался, поэтому вынужденным зайти к нам с подветренной стороны, как мы того хотели. Как только он оказался у нас под кормою, мы подошли вкось и приняли огонь пяти или шести его пушек. К этому времени, можете быть уверены, все наши люди были на своих местах; мы поставили руль прямо к ветру, отпустили подветренные брасы *["663] грота и положили его на стеньгу. Таким образом, наш корабль стал на траверсе *["664] португальских клюзов *["665]. Тогда мы немедленно дали бортовой залп, продернули его с носа до кормы и убили множество людей. Португальцы, как мы видели, были в крайнем смятении. Не зная нашего замысла и воспользовавшись открытым путем, они вогнали свой бушприт *["666] в переднюю часть наших главных вантов *["667], и, так как им не легко оказалось освободиться от нас, мы остались скрепленными таким образом. Враг мог направить на нас не более, как пять или шесть пушек, да еще ручное оружие, тогда как мы выпускали в него полные бортовые залпы. В самом разгаре дела, когда я был очень занят на шканцах, капитан, не отходивший от нас, позвал меня. — Какого черта делает там друг Виллиам? — говорит капитан, — что ему нужно на палубе? Я шагнул вперед и увидал, что друг Виллиам с двумя или тремя дюжими парнями накрепко привязывает португальский бушприт к нашей грот-мачте, боясь, чтобы португалец не ушел от нас. По временам он вытаскивал из кармана бутылочку и подбодрял парней чарочкой. Пули летели вокруг него так густо, как это только бывает в такой битве; ведь португальцы, нужно воздать им должное, дрались очень воодушевленно, будучи сперва совершенно уверены в своей победе и надеясь на свое численное превосходство. А Виллиам был так спокоен и равнодушен к опасности, точно сидит за чашей пунша *["668]; он только хлопотал, стремясь добиться того, чтобы сорокашестипушечный корабль не убежал от двадцативосьмипушечного. Дело было слишком жаркое, чтобы долго тянуться. Наши держались отважно. Наш пушкарь, бравый молодец, кричал внизу и поддерживал такой огонь, что пальба португальцев начала вскоре ослабевать. Мы подбили много их пушек, стреляя по баку *["669] и продырявивши корабль, как я уже сказал, от носа до кормы. В это время Виллиам подходит ко мне. — Друг, — говорит он очень спокойно, — о чем ты думаешь? Почему не посещаешь ты корабль ближнего своего, когда дверь его отворена тебе? Я тотчас же понял его; наши пушки так разбили корпус португальца, что два его пушечных порта *["670] соединились в один, а переборки рулевого помещения были раздроблены в щепы так, что португальцам негде уже было укрыться. Потому я немедленно дал приказ взять его на абордаж. Наш второй лейтенант с тридцатью приблизительно людьми в одно мгновение вступил на бак португальца, а за ним последовало еще несколько человек во главе с боцманом. Изрубивши в куски человек двадцать пять, захваченных ими на палубе, они бросили несколько гранат *["671] в рулевое помещение, а затем вошли и туда. Тогда португальцы сразу же запросили пощады, и мы завладели судном, право, вопреки даже собственным нашим ожиданиям. Ведь мы охотно пошли бы на мировую с ними, оставь они нас только в покое, но так как случилось, что мы сперва стали на траверсе их клюзов и яростно поддерживали огонь, не давая им времени отойти от нас и повернуть корабль, так что из своих сорока шести пушек они могли, как я сказал выше, пустить в ход не больше пяти или шести, — то мы и отогнали их немедленно от пушек в бак и между палубами перебили у них множество людей. Когда мы вступили на корабль, у португальцев недоставало уже людей для того, чтобы схватиться с нами в рукопашную. Неожиданная радость от того, что португальцы просят пощады и что кормовой их флаг *["672] спущен, была так велика, что даже наш капитан, сильно ослабевший от тяжелой лихорадки, точно ожил. Природа преодолела недомогание, и в ту же ночь лихорадка спала. В течение двух или трех дней он значительно поправился, сила стала возвращаться к нему, и он снова мог давать распоряжения по всем решительно существенным вопросам. Дней же через десять он был совершенно здоров и вновь занялся кораблем. В это время я завладел португальским кораблем, и Вильмот назначил меня, или, вернее, я сам себя назначил его капитаном. Около тридцати человек с этого корабля перешло на службу к нам; часть их составляли французы, часть генуэзцы *["673]. Остальных мы на следующий день высадили на каком-то островке возле бразильского побережья. Мы были вынуждены только оставить на корабле раненых, которых нельзя было переносить, но нам удалось отделаться от них на мысе Доброй Надежды, где, по собственной их просьбе, мы ссадили их на берег. Как только корабль был взят и пленники размещены, капитан Вильмот предложил направиться снова к реке Жанейро. Он не сомневался в том, что мы встретимся с другим военным кораблем, который, несомненно, вернется, после того, как он оказался не в состоянии найти нас и отбился от своего спутника. Если взятое уже нами судно пойдет под португальским флагом, второй корабль можно будет также захватить. И все наши стояли за это предложение. Но наш друг Виллиам подал нам лучший совет. Он подходит ко мне: — Друг, — говорит он, — я слыхал, что капитан хочет возвращаться в Рио-де-Жанейро в надежде повстречаться со вторым кораблем, преследовавшим нас вчера. Правда ли это? Неужели ты собираешься так поступить? — Ну, да, Виллиам, — говорю я. — А почему бы и нет? — Как хочешь, — говорит он. — Ты волен поступать, как тебе вздумается. — Это и я знаю, Виллиам, — сказал я, — но капитан такой человек, которому нужны разумные доказательства. А что ты хочешь сказать? — А то, — серьезно говорит Виллиам, — что хочу узнать, чего добиваешься ты и все люди, которые идут с тобой? Того, чтобы добыть денег? — Да, Виллиам, добыть их честно, по-нашему. — А что ты предпочитаешь, — говорит он, — деньги без боя или бой без денег? Скажи, что бы ты выбрал, если, предположим, тебе пришлось бы выбирать? — Ну, — говорю я, — понятно, первое из двух, Виллиам. — Скажи же, — говорит он, — великую выгоду дал тебе этот корабль, который ты только что захватил? А ведь он обошелся тебе в тринадцать убитых и несколько раненых, но на торговом судне ты захватил бы добычу вдвое большую, а драться пришлось бы вчетверо меньше. Откуда ты знаешь, какая сила и сколько людей может оказаться на втором корабле, какие ты там понесешь потери, и какая тебе будет выгода, если ты его захватишь? Я полагаю, что тебе лучше оставить его в покое. — Что ж, Виллиам, а ведь это правда, — сказал я. — Я передам ваше мнение капитану и сообщу вам его ответ. Как и следовало, я пошел к капитану и передал ему рассуждения Виллиама. Капитан согласился с тем, что, действительно, драться надо нам тогда только, когда это неизбежно, главная же наша задача — это добыть деньги и притом с возможно меньшим для нас ущербом. Потому мы оставили задуманное предприятие и снова направились вдоль берега на юг, к реке Ла-Плате *["674], в надежде найти там какую-нибудь добычу. Особенно высматривали мы испанские суда из Буэнос-Айреса *["675]; они обычно очень богаты серебром, и одно такое судно вполне бы нас устроило. Мы крейсировали в этих краях около месяца, но никакой добычи нам не представилось. Мы стали совещаться, что же теперь предпринять, так как до сих пор не было у нас никакого решения. Я же все время считал, что нужно идти к мысу Доброй Надежды и оттуда к Ост-Индии. Я слышал несколько разжигающих историй о капитане Эйвери *["676] и о молодечествах, которые он творил в Индии. Эти истории были раздуты вдвое, вчетверо и даже тысячу раз больше. Так, в Бенгальском заливе он захватил богатое судно, на котором взял в плен знатную даму, как говорят, дочь Великого Могола *["677], у которой было великое множество драгоценностей. Нам же рассказывали историю о том, что он захватил монгольское судно, — как называли его безграмотные моряки, — груженое алмазами. Я, собственно, хотел добиться от друга Виллиама совета, куда нам идти, но он каждый раз уклонялся при помощи какой-нибудь путаной отговорки. Коротко говоря, он никоим образом не хотел служить нам руководителем. Не знаю, было ли тут дело в его совести или он хотел избежать впоследствии возможных угрызений. Но мы, наконец, решили вопрос без него. Мы колебались достаточно долго и много времени мотались возле Рио-де-Ла-Плата зря. Наконец, с наветренной стороны завидели мы парус и корабль. Это был такой, подобного которому — я уверен — давно в этой части света не видывали. Отнюдь не требовалось, чтобы мы за ним гнались; он шел прямо на нас, точно рулевые об этом заботились. Это было, скорее, делом ветра, нежели чего-нибудь другого; переменись как-нибудь ветер, корабль пошел бы в другом направлении. Предоставляю каждому моряку или человеку, смыслящему что-нибудь в кораблях, решить, какой вид был у этого судна, когда мы впервые увидали его, и что вообразили мы о его состоянии. Грот-мачта вышла на борт на добрых шесть футов над эзельгофтом и упала вперед, а верхушки брам-стеньги свисали в передних вантах у штага *["678]. В то же время ракса *["679] марселевой реи на бизане по какой-то причине сдала, и брасы бизаневых марселей (стоячая часть брасов крепко держалась на вантах грот-марселя) сорвали бизаневый марсель вместе с реей к черту; они нависали над частью шканцев подобно тенту. Марсель на фоке был поднят до трех четвертей мачты, но паруса были распущены. Передняя рея была спущена до самого бока, паруса не закреплены, и часть их свешивалась за борт. В таком состоянии шел на нас корабль под ветром. Словом, облик корабля являл собою для привычных к морю людей самое ошарашивающее зрелище. На корабле лодок не было, и флаг не развевался. Когда мы сблизились, мы дали выстрел, чтобы судно изменило курс. Но оно не обратило внимания ни на выстрел, ни на нас, а продолжало идти по-прежнему. Мы дали второй выстрел, но ничего не изменилось. Наконец, наши суда оказались на расстоянии пистолетного выстрела *["680] друг от друга, но никто не отвечал и не появлялся на том корабле. Тут мы уже решили, что судно где-нибудь потерпело крушение и что после того, как экипаж покинул его, прилив снова погнал его по морю. Приблизившись к кораблю, мы пошли вдоль его борта так близко, что услышали какой-то шум внутри корабля, а через порты увидели, что в нем движется много народу. Тогда мы насажали в две лодки вооруженных до зубов людей и послали их тотчас же подойти, возможно ближе к кораблю и взобраться на него, при чем одна часть должна была взойти между якорных цепей по одну сторону, а другая с борта — по другую. Как только лодки подошли к борту корабля, на палубе появилось большое количество черных, как нам показалось, моряков. Коротко говоря, они так напугали наших, что лодка, которая должна была пристать к шкафуту *["681], отступила и не посмела приблизиться. Те же, которые вступили на палубу с другой лодки, видя, что первая — как они решили — отбита, и что палуба полна людей, поскакали обратно в лодку и отчалили. Тогда мы решили дать бортовой залп по кораблю, но наш друг Виллиам и здесь подал правильный совет. Видно, он раньше нашего понял, в чем дело, и подошел ко мне, ибо к тому судну пристал мой корабль: — Друг, — говорит он, — мне кажется, что ты в этом деле заблуждаешься, и что твои люди также поступили неправильно. Я скажу тебе, как можно взять этот корабль, не прибегая к тем штукам, которые называются пушками. — Как возможно это, Виллиам? — спросил я. — А вот как, — сказал он, — ты можешь, захватить его одним управлением. Ты видишь, что у них никто не стоит на руле, и ты видишь, в каком они состоянии. Подойди к ним с подветренной стороны и перейди к ним на палубу прямо с корабля. Я убежден, что ты без боя захватишь корабль, так как с ним приключилась какая-нибудь беда. Только мы не знаем — какая. Словом, так как море было гладкое и ветер слабый, я последовал совету Виллиама и встал под ветром у корабля. Немедленно наши вступили на него. Это был большой корабль, на котором находилось свыше шестисот негров, — мужчин и женщин, мальчиков и девочек, я ни одного христианина и белого человека. Вид этого поразил меня ужасом; я немедленно заключил, — и это отчасти оказалось верным, — что эти черные черти освободились, перебили всех белых людей и побросали их в море. Не успел я поделиться своей мыслью с нашими, как они пришли в такую ярость, что мне с большим трудом удалось удержать их: они готовы были изрубить всех негров. Но Виллиаму, после многих уговоров, удалось убедить их тем, что, находись они в положении этих негров, они сами попытались бы сделать то же; он доказывал, что по отношению к неграм совершили несправедливость, продавши их в рабство, что поступок негров подсказан им законами природы; что нельзя убивать их, так как это будет преднамеренным убийством. Это убедило наших и охладило их первый порыв, так что они прикончили только двадцать или тридцать негров, а остальные все укрылись между палубами, на своих местах, думая, как нам казалось, что мы прежние хозяева, вернувшиеся на корабль. Тут оказались мы перед непреодолимой трудностью, так как негры не понимали ни единого слова из того, что мы говорили, а мы сами не могли понять ни единого слова из того, что они говорили. Знаками пытались мы спросить у них, откуда они; но и этого они понять не могли. Мы указывали на кают-компанию *["682], на отхожее место, на кухню, затем на наши лица, спрашивая, нет ли на корабле белых и куда они подевались, но негры не понимали, чего мы от них хотим. С другой стороны, они также указывали на наш корабль и на свое судно, задавали какие-то вопросы и много говорили и выражались очень серьезно, но мы ни слова не могли понять из всего сказанного ими и не знали, что обозначают их знаки. Мы прекрасно только знали, что на судно они были посажены в качестве рабов, и, несомненно, какими-нибудь европейцами. Сразу убедились мы в том, что судно голландской стройки, но сильно переделанное; оно перестраивалось, должно быть, во Франции, ибо мы нашли на борту две или три французских книги. Впоследствии мы нашли также одежду, белье, кружева, старую обувь и много других вещей. Среди съестных припасов нашли мы несколько баррелей ирландской говядины и ньюфаундлендскую рыбу; и оказалось еще много доказательств тому, что на корабле были христиане, но никаких других следов их мы не видали. Мы не нашли ни единой сабли, ни единого мушкета, пистолета и вообще какого-нибудь оружия, кроме нескольких тесаков *["683], которые негры спрятали внизу, где помещались. Мы спросили их, что приключилось со всем ручным оружием, при этом мы показывали сперва на свое оружие, а затем на те места, где висит обычно корабельное оружие. Один из негров сразу понял меня и знаками поманил на палубу. Там, взявши мою фузею, которую я еще некоторое время после взятия корабля не выпускал из рук, — я хочу сказать, попытавшись взять ее, — он сделал такое движение, точно швыряет ее в море. Из этого я понял, — как и подтвердилось впоследствии, — что они побросали в море все ручное оружие — порох, пули, сабли и так далее, считая, очевидно, что эти вещи, даже без людей, перебьют их. Когда мы поняли это, нам стало ясно, что экипаж корабля, застигнутый врасплох этими отчаявшимися негодяями, отправился туда же, то есть, был выброшен за борт. Мы обыскали весь корабль, ища следов крови, и, как казалось нам, мы заметили их во многих местах; но солнечный жар растопил на палубе деготь и вар, так что с достоверностью различить эти следы невозможно было, за исключением только отхожего места, где, мы ясно видели, было пролито много крови. Люк *["684] был открыт; из этого мы заключили, что капитан и бывшие с ним люди отступили в кают-компанию, либо же, что находившиеся в кают-компании отступили в уборную. Но больше всего подтвердило нам все случившееся то обстоятельство, что при дальнейшем расследовании мы обнаружили семь или восемь тяжело раненых негров, двое или трое из которых были ранены пулями, у одного же из них была сломана нога, и лежал он в плачевном состоянии, так как мясо было поражено гангреной *["685]. Наш друг Виллиам заявил, что через два дня этот негр умер бы. Виллиам был чрезвычайно искусным лекарем, как он доказал это своим лечением. Все лекари на обоих наших судах (а было у нас их не меньше пяти, называвших себя дипломированными лекарями, не считая еще двух кандидатов или помощников) — все они утверждали, что негру нужно отрезать ногу, что без этого нельзя будет спасти ему жизнь; что гангрена захватила уже костный мозг, что сухожилия загнили, и, если даже вылечить ногу, негр не сможет пользоваться ею; Виллиам вообще ничего не сказал, кроме того, что он другого мнения, и что он считает, прежде всего необходимым исследовать рану, а тогда уже выяснится дальнейшее сообразно с этим. Он принялся возиться с ногою, и, так как он просил дать ему в помощь кого-нибудь излекарей, мы приставили к нему в подмогу двух самых толковых из них с тем, чтобы остальные смотрели, если только считают это пристойным для себя. Виллиам принялся за дело на свой лад, и лекари сперва осуждали его. Как бы то ни было, он продолжал свое дело и осмотрел все части ноги, где можно было только заподозрить гангрену. Словом, он срезал большое количество гангренозного мяса, и при этом бедняга не испытывал боли. Виллиам продолжал срезать мясо, покуда перерезанные кровеносные сосуды не стали кровоточить, и негр не закричал. Тогда Виллиам вынул осколки кости и, обратившись за помощью, составил, так сказать ногу, перевязал ее и уложил негра покойно. Негр после перевязки почувствовал себя много лучше, чем прежде. При первой же перевязке лекари стали торжествовать. Гангрена, казалось, распространилась дальше: вверх от раны и к середине бедра негра потянулась длинная красная полоса крови. Лекари заявили мне, что негр через несколько часов умрет. Я пошел взглянуть на больного и нашел, что Виллиам несколько изумлен. Но когда я спросил его, сколько, по его мнению, проживет бедняга, Виллиам серьезно поглядел на меня и сказал: — Столько же, сколько и ты. Я совсем не тревожусь за его жизнь, — сказал он, — но хотел бы вылечить его, — если удастся, — не делая калекой. Я заметил, что в то время он не оперировал ногу, но смешивал что-то для бедняги, чтобы остановить, как мне казалось, распространяющееся заражение и уменьшить или предупредить лихорадочное возбуждение, возможное в крови. Затем он снова взялся за работу и вскрыл ногу в двух местах над раной и вырезал большое количество мяса, начавшего загнивать, очевидно, от того, что повязка слишком сильно сдавила эти места; к тому же кровь, — в то время более обычного способная загнивать, — могла распространить гангрену. Так вот наш друг Виллиам справился со всем этим, соскреб начавшую распространяться гангрену, и красная полоса исчезла, и мясо стало заживать, и дело налаживаться. В несколько дней положение негра улучшилось, — пульс стал биться ровно, лихорадка исчезла, и больной каждый день набирался сил. И, словом, через десять недель негр был совершенно здоров; мы оставили его у себя и сделали изрядным моряком. Но вернемся к судну. Нам так и не удалось толком узнать о нем что-нибудь. Лишь впоследствии нам о нем рассказали несколько негров, которых мы оставили на корабле и научили английскому; среди них, в частности, был и этот изувеченный парень. При помощи всех знаков и движений, какие только удалось нам выдумать, мы допытывались, что сталось с белыми, но ничего не могли у негров узнать. Наш лейтенант был за то, чтобы пытать *["686] их до тех пор, покуда они не признаются; но Виллиам яростно восстал против этого. Узнавши, что некоторые собираются уже взяться за пытку, он явился ко мне. — Друг, — говорит он, — умоляю тебя, не подвергай тех несчастных пытке. — Почему же, Виллиам, — сказал я, — почему? Вы же сами видите — они не желают рассказать, что приключилось с белыми. — Нет, — говорит Виллиам, — не говори этого. По-моему, они подробнейшим образом пересказали тебе все, что случилось. — Как так? — говорю я. — Что узнали мы из их трескотни? — Ну, — говорит Виллиам, — в этом, на мой взгляд, ты повинен так же, как и они. Не будешь же ты наказывать бедняг за то, что они не говорят по-английски; они, может быть, никогда до сих пор английской речи и не слыхали. Нет, я совершенно твердо убежден, что они самым добросовестным образом все рассказали тебе. Разве ты не заметил, как серьезно и как долго некоторые из них говорили с тобой? А если ты не понимаешь их языка, а они не понимают твоего, то в чем здесь их вина? Ведь, в лучшем случае, ты предполагаешь, что они не рассказали тебе всей правды, а я утверждаю обратное, — что они рассказали всю правду. Ну, как разрешишь ты вопрос, кто из нас прав — ты или я? Да что могут они сообщить тебе? Если ты даже на пытке задашь им вопрос, они его не поймут. Ты не будешь даже знать, говорит ли пытаемый «да» или «нет». Я был убежден этими доводами. Все же нам много пришлось повозиться, чтобы помешать второму лейтенанту убить несколько негров с целью заставить остальных заговорить. Действительно, что случилось бы, если бы они заговорили? Он не понял бы ни слова и оставался бы по-прежнему уверен, что негры обязаны его понять, раз он спрашивает, были ли на их корабле лодки в роде наших, и что с ними случилось. Ничего не оставалось, как только ждать, покуда мы научим негров понимать по-английски; до того времени надо было отложить историю. Дело обстояло так: нам никак не удалось узнать, ни где погрузили негров на судно, ни какой национальности были белые на корабле, так как негры не знали английских названий африканских побережий и не умели различать языков. Все же впоследствии допрошенный мною негр, тот, кому Виллиам вылечил ногу, сообщил, что белые не говорили ни на том языке, на котором говорим мы, ни на том, на котором говорят наши португальцы. Так что, по всей вероятности, на их корабле были французы или голландцы. Затем негр рассказал, что белые обращались с ними свирепо; что били их беспощадно *["687]. У одного из негров была жена и двое детей, при чем среди них — дочь лет шестнадцати; один белый изнасиловал жену негра, а затем его дочь; это привело, по словам рассказывающего, в бешенство всех негров, а муж той женщины пришел в большую ярость; это так рассердило белого, что он решил убить негра. Но ночью негр высвободился и раздобыл большую дубину (под этим он понимал ганшпуг *["688]), и когда тот француз (это был, вероятно, француз) снова вошел в их помещение и опять принялся насиловать жену негра, последний занес ганшпуг и одним ударом размозжил ему голову. Затем, взявши у убитого ключ, которым отпирались колодки на неграх, он освободил около сотни их; они вышли на палубу через тот же люк, через который входили белые; завладевши тесаком убитого и, похватавши все, что было под рукою, они напали на людей, находившихся на палубе, и перебили их всех, и затем всех тех, кого нашли на баке; капитан же и прочие, находившиеся в каютах и в отхожем месте, защищались отменно мужественно, стреляли в них через бойницы и ранили многих, в том числе и его, а некоторых убили; после долгой стычки негры ворвались в отхожее место и убили там двух белых, но, правда, эти двое успели убить одиннадцать негров еще прежде, чем тем удалось ворваться в отхожее место. Остальные белые, успевшие через люк спрятаться в кают-компанию, ранили еще троих. В это время их корабельный пушкарь успел укрыться в крюйт-камере *["689]; один из его людей подвел баркас под корму и, собравши оружие и все боевые припасы, какие удалось только достать, погрузил их в лодку; затем он посадил туда капитана и всех, кто был с ним в кают-компании. Когда все, таким образом, оказались в лодке, они решили попытаться взять судно на абордаж и снова завладеть им. Так они яростно набросились на корабль и сперва убили всех сопротивлявшихся им. Но к этому времени все негры уже находились на свободе и добыли себе оружие, и, хотя ничего не понимали в порохе, пулях и в ружьях, белым все же справиться с неграми не удалось. Как бы то ни было, тогда они отправились к носу судна и пересадили к себе также всех, которых покинули на кухне корабля. Эти последние держались стойко, несмотря на все нападения, и даже убили тридцать или сорок негров, но под конец и они были вынуждены также покинуть корабль. Негр не мог сказать мне, где, приблизительно, это приключилось, — близко ли от африканских берегов, или далеко, и за сколько времени до того, как корабль попал к нам в руки. Он сказал только, что это вообще было очень давно, как они это называли: судя потому, что нам удалось узнать, случилось это через два или три дня после того, как они отплыли от Африки. Они сообщили нам, что убили около тридцати белых, пробивая им головы ударами ломов, ганшпугов и всем, что попадалось под руки. А один сильный негр железным ломом убил троих уже после того, как сам дважды был прострелен насквозь; а потом ему прострелил голову сам капитан у двери в отхожее место; эту дверь тот негр выбил ударом лома. И поэтому, вероятно, и обнаружили мы столько крови у двери в отхожее место. Тот же негр рассказал нам, что они побросали в море весь порох и все пули, какие только нашли; они побросали бы в море и пушки, если бы только смогли поднять их. Когда мы спросили его, как это случилось, что паруса пришли в такое состояние, он ответил: — Они не понимать, они не знать, что делать паруса… Это обозначает, что они не знали даже того, что судно движется при помощи парусов, не знали, зачем паруса нужны, и что с ними делать. Тогда мы спросили его, куда они направлялись, и он ответил, что этого они не знали, но думали, что попадут домой, на родину. Я спросил его особо о том, что, собственно, они подумали, когда впервые увидали нас? Он сказал, что они страшно испугались, так как решили, что мы те самые белые, которые уехали в своих лодках, а теперь вернулись на большом корабле с двумя лодками и сейчас перебьют их всех. Таков был рассказ, которого мы добились после того, как научили их говорить по-английски и различать названия и назначение находящихся на корабле предметов, о которых им приходилось говорить. Мы заметили, что негры слишком просты, так что их показания не расходились между собою и совпадали во всех подробностях. Они все рассказывали одно и то же, и это подтверждало истину сказанного ими. После того, как мы завладели кораблем, перед нами возникло затруднение — что делать с неграми? Португальцы в Бразилии охотно купили бы их и были бы довольны сделкой, не покажись мы им в качестве врагов и не будь известны им как пираты. По этой именно причине мы не смели приставать к берегу в этих краях или вступать в сношения с плантаторами, боясь поднять против себя всю страну. И можно было быть уверенными, что, если бы в их портах имелось что-нибудь похожее на военные корабли, они напали бы на нас всеми своими сухопутными и морскими силами. Но лучшего нельзя было ожидать, если бы мы пошли и на север. Некоторое время мы подумывали о том, чтобы отвезти негров в Буэнос-Айрес и там продать их испанцам. Но негров было поистине слишком много для тамошнего рынка. А везти их кругом до Южных морей *["690] — единственная оставшаяся возможность — было так далеко, что в пути мы не смогли бы прокормить их. Под конец наш старый, никогда не теряющийся друг Виллиам снова выручил нас, как часто делал это, когда мы попадали в безвыходное положение. Он предложил, что, в качестве хозяина корабля, он с двадцатью верными парнями двинется и попытается самолично торговать с плантаторами на бразильском берегу, но только не в главных портах, так как это не разрешается *["691]. Мы все согласились с его предложением, а сами решили направиться к Рио-де-Ла-Плата, куда собирались уже и раньше; встретиться же условились у порта Сан-Педро*["692], как его называют испанцы, расположенного на устье реки, которую они называют Рио-Грандэ *["693]. Там у испанцев расположено небольшое укрепление и немного народа, но мы считали, что никого нет. Здесь мы остановились, крейсируя взад и вперед и высматривая, не встретится ли нам судно, идущее из портов или к портам Буэнос-Айреса, или Рио-де-Ла-Плата, но мы не видели ничего, заслуживающего внимания. Как бы то ни было, мы занялись приготовлениями к выходу в море: наполнили водою все бочки и добыли рыбу для повседневного пропитания, дабы сберечь возможно больше из имевшихся запасов. Виллиам в это время отправился к северу и высадился на берег около мыса святого Фомы *["694]. Между этим местом и Туберноскими островами *["695] он нашел способ снестись с плантаторами, скупившими у него всех его негров — мужчин и женщин, и за хорошую цену. Виллиам, хорошо говоривший по-португальски, рассказал им на вид вполне правдоподобную историю о том, что он сильно сбился с пути, что корабль его не имеет съестных припасов и вообще не знает, где находится, и поэтому вынужден либо пойти на север до самой Ямайки, либо же продавать негров здесь на этом берегу. История эта звучала вполне правдоподобно, и поверили ей без труда. Действительно, если вспомнить, как плавают обычно работорговцы, и что случилось в данном путешествии, то каждое, слово будет звучать как истина. Благодаря этой уловке и честным сношениям с покупателями Виллиам прослыл за то, чем был — хочу сказать, за совершенно честного парня. При помощи одного плантатора, который пригласил соседних плантаторов и устроил совместную покупку, распродажа пошла быстро. Менее чем в пять недель, Виллиам продал всех своих негров, а под конец и самый корабль. Затем он сел со своим экипажем и двумя негритянскими мальчиками, которых оставил непроданными, на шлюп — один из тех шлюпов, какие плантаторы обычно посылают на корабли за неграми. На этом шлюпе капитан Виллиам, как мы тогда назвали его, и нашел нас в порту Сан-Педро на южной широте в тридцать два градуса тридцать минут. Ничто не могло поразить нас более чем вид идущего вдоль побережья под португальским флагом шлюпа, который двинулся прямо на нас после того, как — мы видели это — заметил оба наши корабля. Когда он подошел поближе, мы выстрелили из пушки, чтобы остановить его, но шлюп немедленно ответил салютом из пяти пушек и выкинул английский кормовой флаг. Тогда стали мы догадываться, что это друг Виллиам, но никак не могли понять, каким образом он оказался на шлюпе, когда мы отправили его на корабле в добрых триста тонн. Но он скоро рассказал нам всю историю, результатами которой мы по многим причинам были вполне удовлетворены. Как только шлюп стал на якорь. Виллиам явился ко мне на корабль и тут-то отдал нам полный отчет: как начал торговать при помощи португальского плантатора, жившего недалеко от побережья; как сошел на берег и подошел к первому же попавшемуся дому, и попросил хозяина продать ему свиней, делая вид, что остановился у этого берега только для того, чтобы набрать пресной воды и закупить съестных припасов; хозяин же, не только продал ему семь жирных свиней, но и пригласил его к себе в дом, угостивши его и его пять спутников превосходнейшим обедом, тогда он пригласил плантатора к себе на корабль и, в благодарность за оказанную любезность, подарил негритянскую девушку для его жены. Эта любезность вынудила плантатора на следующее утро в большой грузовой лодке послать на корабль корову, двух овец, ящик со сластями, сахару, большой мешок табаку и вдобавок снова пригласить на берег капитана Виллиама. А затем они стали стараться превзойти друг друга любезностями. К слову заговорили о том, как бы продать несколько негров. Виллиам, делая вид, что оказывает услугу, согласился продать плантатору для личных услуг тридцать негров; за что тот заплатил Виллиаму наличными по тридцать пять мойдоров за голову. Но плантатор вынужден был с величайшей осторожностью доставить их на берег. По этой причине он попросил Виллиама сняться с якоря и выйти в море, повернуть к берегу приблизительно милях в пятидесяти севернее, где у маленького залива плантатор выгрузил закупленных негров на плантацию, принадлежавшую его другу, которому он, видимо, мог доверять. Это передвижение способствовало не только дружбе Виллиама с плантатором, но и познакомило его с другими плантаторами, друзьями первого, которые также хотели пробрести себе негров. Так что поодиночке они раскупили всех негров так быстро, что, когда под конец один богатый плантатор купил себе сто негров, у Виллиама уже ничего не осталось. А первый плантатор поделил своих негров с другим плантатором, который стал торговать затем у Виллиама его корабль и все, находившееся на нем, выменявши его на чистенький, большой, хорошо построенный и прекрасно оборудованный шестидесятитонный шлюп с шестью пушками; впоследствии мы поставили на нем двенадцать пушек. За корабль Виллиам получил, кроме шлюпа, еще триста золотых мойдоров и на эти деньги нагрузил шлюп до отказа съестными припасами, а особенно хлебом, свининой и сверх того шестьюдесятью живыми кабанами. Помимо всего прочего, Виллиам добыл восемьдесят баррелей хорошего пороха, что нам очень пригодилось. Кроме того, он забрал и все съестные припасы, бывшие на французском корабле. Рассказ Виллиама доставил нам большое удовольствие, в особенности, когда мы узнали, что, помимо всего, Виллиам получил чеканенным или весовым *["696] золотом и частью испанским серебром шестьдесят тысяч осьмериков. Мы были в особенности рады шлюпу и стали совещаться, не лучше ли бросить наш большой португальский корабль, а сохранить только первый наш корабль и шлюп — все равно людей у нас еле хватало на все три судна, да и вообще большой корабль, считали мы, был слишком велик для нашей работы. Как бы то ни было, благодаря тому, что возник этот спор, первый наш спор о том, куда идти был разрешен. Мой товарищ, как я называл его теперь, то есть тот, кто был моим капитаном до того, как мы захватили португальский военный корабль, стоял за то, чтобы идти в Южные моря и взять курс по западному побережью Америки, где нам, безусловно, удастся захватить богатые испанские суда. А там уже, если того потребуют обстоятельства, мы из Южных морей сможем легко добраться до Ост-Индии и, таким образом, обогнуть земной шар, как то до нас делали другие. Но у меня имелось другое предложение. Я бывал в Ост-Индии и с тех пор придерживался убеждения, что, пойди мы туда, мы сделали бы, безусловно, выгодное дело, и у нас будет и безопасное место для отступления и добрая говядина для пропитания среди моих старых друзей — туземцев Занзибара или Мозамбикского побережья, или острова святого Лаврентия *["697]. Мысли мои, говорю я, были настроены на этот лад, и я прочитал моим товарищам столько наставлений о выгодах, которые они наверняка получат, пиратствуя в заливе Моча *["698], в Красном море, и на Малабарском побережье или в Бенгальском заливе *["699], что прямо-таки ослепил их. Этими доводами я убедил их, и все мы решили отправиться на юго-восток, к мысу Доброй Надежды. А следствием этого решения явилось то, что мы решили сохранить наш шлюп и отправиться с тремя судами, не сомневаясь, — в чем я убедил их, — что в дальнейшем пути найдем для них достаточно людей, а если и не найдем, то сможем всегда, когда пожелаем, бросить один из кораблей. Конечно, мы не могли сделать ничего иного, как назначить капитаном шлюпа нашего друга Виллиама, добывшего нам этот шлюп благодаря такой хорошей рассудительности. Виллиам нам весьма любезно ответил, что не будет командовать ни шлюпом, ни фрегатом. Но, если мы шлюп дадим ему в качестве его доли в гвинейском корабле, — на что мы охотно согласились, — он останется в нашем обществе в качестве продовольственного склада, раз мы по-прежнему будем приказывать ему и он будет находиться под тем же насилием, каким его увели. Мы поняли его и дали ему шлюп, но под условием, чтобы он от нас не отходил и всецело подчинялся нам. Виллиам чувствовал себя уже не так свободно, как прежде. А так как впоследствии шлюп понадобился нам, чтобы крейсировать с поручениями и возить уже настоящего пирата, пирата до мозга костей, да и я так скучал по Виллиаму, что обойтись без него не мог, ибо был он моим частым советчиком и товарищем во всех делах, — то я посадил на шлюп шотландца, смелого, предприимчивого, бравого парня, по имени Гордон, и поставил на судно двенадцать пушек и четыре петереро *["700], хотя, в сущности, людей у нас не хватало и на каждом корабле было экипажа меньше, нежели полагается. Мы отплыли к мысу Доброй Надежды в начале октября 1706 года и прошли в виду мыса двенадцатого ноября месяца, испытавши в дороге немалое количество ненастий. На тамошних рейдах повстречали мы много торговых судов, равно английских и голландских, но не знали, куда идут они: на родину или с родины. Как бы то ни было, мы считали не совсем удобным становиться на якорь, так как не знали определенно, что это за суда, и не предпримут ли они чего-либо против нас, если узнают, кто мы такие. Но, нуждаясь в пресной воде, мы отправили к источнику за водой две лодки с португальского военного корабля, посадивши на них только португальских моряков и негров. В то же время мы выкинули португальский кормовой флаг и простояли так всю ночь. Таким образом, нас не узнали и, во всяком случае, сочли за кого угодно, кроме как за то, чем мы были в действительности. Когда около пяти часов следующего утра наши лодки в третий раз воротились с полным грузом, мы сочли, что запас воды у нас достаточный, и двинулись на восток. Но до того еще, как наши вернулись в последний раз, — тогда дул добрый ветер с запада, — мы различили в сером свете утра лодку под парусом, торопившуюся к нам, точно боясь, что мы уйдем от нее. Мы вскоре обнаружили, что то был английский баркас и что он полон людей. Мы никак не могли понять, что это обозначает. Но так как это была всего только лодка, то мы подумали, что ничего опасного нам не может угрожать, если мы ее подпустим к себе. Если же окажется, что лодка подошла с целью узнать, кто мы такие, то мы дадим ей полный отчет о себе тем, что захватим ее, — ведь в людях мы нуждались больше, чем в чем-либо ином. Но мы оказались избавленными от труда решать, как поступить с лодкой. Дело в том, что случилось так: наши португальские моряки, отправившись за водой к источникам, оказались совсем не так сдержанны на язык, как должны были быть по нашим ожиданиям. Но дело, коротко говоря, было вот в чем: капитан (я по особой причине в настоящее время не называю его имени), командующий ост-индским торговым кораблем *["701], впоследствии имевшим желание пойти в Китай *["702], по какой-то причине обращался очень сурово со своими подчиненными, и особенно грубо обошелся со многими из них возле острова святой Елены *["703]. Дошло до того, что они сговорились между собою при первой же возможности покинуть корабль и долго мечтали о такой возможности. И вот некоторые из них, как оказалось, повстречались у источников с нашими людьми и стали расспрашивать, кто они такие и куда идут. И потому ли, что наши португальцы-моряки отвечали запинаясь, те заподозрили, что вышли мы на разбой, или же наши сказали им это простым и ясным английским языком (они все говорили по-английски вполне удобопонятно), или еще как вышло, только следствием всего этого оказалось то, что беседовавшие доставили к себе на судно новость о том, что идущие к востоку корабли — английские, и что идут они на «отчет», что на морском языке обозначает пиратство. И как только, говорю я, на судне прослышали об этом, то сразу принялись за дело и за ночь собрали все сундуки свои и одежду, и что только могли еще; перед рассветом вышли и часам к семи уже добрались до нас. Когда они подходили к борту корабля, которым я командовал, мы окликнули их, как полагается в таких случаях, чтобы знать, кто они такие и чего хотят. Они отвечали, что они англичане и хотят к нам на корабль. Мы разрешили им причалить, но с тем, чтобы покуда только один из них взошел на борт и объяснил нашему капитану, в чем состоит их дело. При этом человек этот должен быть безоружный. Они охотно согласились. И мы скоро узнали, в чем состоит их дело: они хотели присоединиться к нам. Что же до оружия, то они просили нас послать к ним человека, которому они и сдадут его. Так мы и поступили. Явившийся ко мне парень рассказал, как дурно обращался с ними их капитан, как он морил своих подчиненных голодом и обращался с ними, как с собаками. Он сообщил мне, что если бы остальные знали, что их примут, он убежден, что две трети команды покинули бы судно. Мы убедились, что парни твердо решили действовать и что моряки они дельные и ловкие. Но я сказал им, что не буду ничего делать без нашего адмирала, который был капитаном на втором корабле. Поэтому я послал свою пинасу *["704] за капитаном Вильмотом с приглашением приехать ко мне, но капитан чувствовал себя неважно и отказался приехать, предоставивши все дело на мое усмотрение. Но прежде, чем моя лодка возвратилась, капитан Вильмот крикнул мне в свой переговорный рупор *["705] так, что все, а не только я один, услышали его. Он окликнул меня по имени. — Я слыхал, что это — парни честные. Скажите им, пожалуйста, что мы их приветствуем, и выставьте им чашу пунша. И так как они не хуже моего слышали, что сказал капитан, то не было нужды повторять его слова. Как только рупор смолк, все рявкнули «ура», да так, что ясно было, как рады они тому, что попали к нам. Но мы привязали их к себе еще крепче тем, что, когда прибыли на Мадагаскар, капитан Вильмот, с согласия всего экипажа судна, распорядился выдать им из общего запаса все жалованье, причитавшееся им на судне, которое они покинули. В дополнение мы выдали им в виде поощрения по двадцати осьмериков на брата. И таким образом мы приняли их в равный пай со всеми нами. Парни-то были отважные и дюжие: всего было их восемнадцать, в том числе два мичмана и один плотник. Двадцать восьмого ноября, претерпевши ненастье, мы стали на якорь в некотором отдалении от залива святого Августина *["706], на юго-западной оконечности старого моего знакомца, острова Мадагаскар. Некоторое время простояли мы здесь, выменивая у туземцев превосходную говядину, и, хотя было так жарко, что мы не могли надеяться засолить ее впрок, я все же показал им способ, который мы применяли прежде при засолке: сперва солили селитрою, а потом вялили на солнце. Мясо от этого становилось на вкус приятным, но не таким казалось оно нашим, так как его нельзя было готовить по-обычному, а именно: запекать в пирогах, варить с ломтиками хлеба в бульоне и так далее, а особенно потому, что оно оказывалось слишком солоно, и сало его становилось или прогорклым, или застывало так, что его нельзя было есть. Пробывши здесь некоторое время, мы стали понимать, что место это для нашего дела неподходящее. Я же, имея на этот счет свои собственные соображения, сказал, что это не стоянка для тех, кто ищет прибылей, что имеются на острове два места, особенно подходящие для нашей цели. Во-первых, залив на восточном берегу острова и путь оттуда до острова святого Маврикия *["707]. По этой дороге обычно идут суда с Малабарского побережья, Коромандельского побережья *["708], от форта святого Георга *["709] и так далее, и, если мы хотим подстеречь их, здесь нам и нужно выбрать нашу стоянку. Но, с другой стороны, мы не очень решались нападать на корабли европейских купцов, так как это были суда сильные и с многочисленным экипажем, и без боя там обычно не обходилось. Поэтому и был у меня другой замысел, который, думал я, даст барыши такие же, а может, и больше, не заключая в себе при этом ни опасностей, ни затруднений первой возможности. То был залив Моча, или Красное море. Я сказал нашим, что торговля там развита, суда богаты, а Баб-эль-Мандебский пролив *["710] узок, так что нам, несомненно, удастся крейсировать так, чтобы не выпускать из рук ни одной добычи, и перед нами будут открыты моря от Красного моря, вдоль Аравийского побережья, к Персидскому заливу и к Малабарской стороне Индии. Я рассказал им, что еще заметил, когда во время первого своего путешествия обогнул остров, а именно, — что на северной оконечности этого острова много превосходных гаваней и стоянок для наших судов; что туземцы там еще мягче и дружелюбнее тех, среди которых мы находимся теперь, так как дурному обращению со стороны европейских моряков подвергались не так часто, как обитатели южных и восточных берегов острова; и что мы всегда можем с уверенностью отступить, если необходимость, — враги или непогода, — принудит нас к этому. Все без труда согласились с тем, что мой замысел был целесообразен. И даже капитан Вильмот, которого я теперь называл нашим адмиралом, был одного мнения со мной, хотя сперва хотел отправиться на стоянку к острову святого Маврикия и там поджидать европейских торговых кораблей от Короманделя или из Бенгальского залива. Правда, мы были достаточно сильны для того, чтобы напасть даже на английский ост-индский корабль любой силы, хотя некоторые из них, говорят, несут до пятидесяти пушек. Но я напомнил капитану Вильмоту, что если мы нападем на такое судно, то наверняка будет бой и кровь, а потом, если даже мы и справимся с кораблем, груз его не окупится, так как мы не имеем возможности продавать его товары. При наших обстоятельствах нам выгоднее было захватить один идущий из Англии ост-индский корабль с наличными деньгами, быть может, до сорока или пятидесяти тысяч фунтов, нежели три корабля, идущих в Англию, хотя бы груз их в Лондоне стоит втрое дороже — и это потому, что нам негде было сбывать корабельный груз. Суда же, отправляющиеся из Лондона, помимо денег, полны обычно добра, которым мы можем воспользоваться: таковы запасы съестных припасов и напитков и тому подобные вещи, посылаемые для личного пользования губернаторам и в фактории английских сеттлементов. Поэтому, если нам и был смысл охотиться за судами наших земляков, то только за такими, которые шли за границу, а не домой, в Лондон. Адмирал, сообразивши все это, решительно согласился со мной. Так, набравши воды и свежих съестных припасов на месте нашей стоянки, возле мыса святой Марии *["711], на юго-западном углу острова, мы подняли якорь и пошли на юг, а потом на юго-юго-восток, чтобы обогнуть остров. После, приблизительно, шестидневного плавания мы вышли из кильватера *["712] острова и повернули на север, покуда не прошли порт Дофина *["713], а там взяли на север через восток до широты в тринадцать градусов сорок минут, то есть, как раз до крайней оконечности острова, покуда наконец адмирал, держа прямо на запад, не вышел в открытое море, удаляясь прочь от острова. Тогда по его приказу мы повернули и послали шлюп обогнуть крайнюю северную оконечность острова и, пройдя вдоль берега, отыскать подходящую для нас гавань. Шлюп исполнил приказание и вскоре вернулся к нам с сообщением, что нашел глубокую бухту, с очень хорошим рейдом *["714] и где много островков, вдоль которых имеются хорошие якорные стоянки, глубиною от десяти до семнадцати фазомов. Туда мы и направились. Как бы то ни было, впоследствии нам пришлось переменить стоянку. В настоящее время у нас не было никакого дела, кроме как сойти на берег, познакомиться с туземцами, набрать свежей воды и съестных припасов, чтобы затем снова выйти в море. Тамошние жители были весьма сговорчивы и имели скот. Но, в виду того, что жили они на окраине острова, скот водился не в большом количестве. Тем не менее, мы решили избрать этот пункт местом для наших встреч, а сейчас выйти в море и поискать добычи. Происходило это в самом конце апреля. Так и вышли мы в море и пустились к северу, к аравийскому побережью *["715]. То был далекий переход, но так как от мая до сентября ветры обычно дуют с юга и юго-юго-востока, то погода нам благоприятствовала, и, приблизительно, в двадцать дней добрались мы до острова Сокотра *["716], расположенного к югу от аравийского побережья и к юго-юго-востоку от устья залива Моча, или Красного моря. Здесь мы набрали воды и двинулись далее к берегам Аравии. Не прокрейсировали мы здесь и трех дней или около того, как я заметил парус и погнался за ним. Но, нагнавши корабль, мы обнаружили, что никогда не случалось ищущим добычи пиратам гоняться за более жалким призом: на корабле не было никого, кроме бедных полунагих турок, ехавших на паломничество в Мекку *["717], к могиле их пророка Магомета *["718]. А на везшей их джонке *["719] не было ничего, заслуживающего внимания, кроме небольшого количества риса и кофе — и это было все, чем питались несчастные создания. Так мы отпустили их, ибо, право, не знали, что с ними поделать. В тот же вечер погнались мы за другой джонкой, с двумя мачтами и несколько лучшей на вид, нежели первая. Захвативши ее, мы обнаружили, что идет она по тому же назначению, что и первая, но едут на ней люди позажиточнее. Здесь было что пограбить: кое-какие турецкие товары, брильянтовые серьги пяти или шести женщин, несколько прекрасных персидских ковров, на которых они валялись, да маленькая толика денег. Потом мы отпустили и этот корабль. Мы провели здесь еще одиннадцать дней, но не видали ничего, кроме редких рыбачьих лодок. Но на двенадцатый день крейсирования завидели мы корабль. Сперва я даже подумал, что корабль этот английский, но оказалось, что это какое-то европейское судно, зафрахтованное для путешествия из Гоа, на Малабарском побережье, в Красное море, и очень богатое. Мы погнались за ним, захватили без боя, хотя на корабле и было несколько, но не много пушек. Оказалось, что экипаж его состоит из португальских моряков, плавающих под начальством пяти турецких купцов, которые наняли их на Малабарском побережье у каких-то португальских купцов. Корабль был нагружен перцем, селитрой, кое-какими пряностями *["720]; остаток же груза состоял главным образом из миткаля *["721] и шелковых тканей *["722]; некоторые из них были очень дорогие. Мы захватили корабль и увели к Сокотре, но, право, не знали, что делать с ним по тем же причинам, что прежде были изложены, ибо все находившиеся на корабле товары для нас имели малую цену или не имели вовсе цены. Через несколько дней нам удалось дать понять одному из турецких купцов, что, если он согласен заплатить нам выкуп, то мы возьмем некоторое количество денег и отпустим купцов. Он сказал мне, что, если мы отвезем одного их них за деньгами, они согласны на это. Тогда мы оценили груз в тридцать тысяч дукатов *["723]. После этого соглашения мы отвезли на шлюпке одного купца в Дофар *["724], находящийся на Аравийском полуострове, где богатый купец выложил за них свои деньги и приехал обратно на нашем же шлюпе. Получивши деньги, мы добросовестно выполнили наше обещание и отпустили задержанных. Через несколько дней мы захватили арабскую джонку, шедшую от Персидского залива к Моче, с большим грузом жемчуга. Мы выгрузили из нее весь жемчуг, — он, кажется, принадлежал каким-то купцам в Моче, — и отпустили, так как больше на джонке не было ничего, заслуживающего нашего внимания. Мы продолжали крейсировать в тех местах, пока не заметили, что наши съестные запасы убывают, и тогда капитан Вильмот, наш адмирал, сказал, что пора подумать о возвращении на стоянку. То же говорили и все остальные, так как все были немного утомлены почти трехмесячным скитанием взад и вперед, давшим совсем слабые результаты, в особенности, по сравнению с тем, чего мы ожидали. Но мне не по сердцу было расставаться так, без всяких прибылей, с Красным морем, и я стал убеждать наших помедлить еще немного, на что они, после моих убеждений, согласились. Но три дня спустя, к великому нашему несчастью, мы поняли, что встревожили все побережье до самого Персидского залива тем, что высадили турецких купцов в Дофаре; теперь этим путем не решится тронуться ни один корабль, и, следовательно, ожидать здесь чего-либо было безнадежно. Новости эти меня сильно поразили, и больше я не мог противостоять требованиям экипажа возвратиться на Мадагаскар. Как бы то ни было, раз ветер все еще дул с юго-востока, мы были вынуждены повернуть к африканским берегам и мысу Гвардафуй *["725], так как у берега ветры более переменчивы, нежели в открытом море. Здесь наткнулись мы на добычу, которой не ожидали и которая вознаградила нас за все наше ожидание. В самый тот час, когда приставали к берегу, заметили мы идущее вдоль побережья к югу судно. Оно шло из Бенгалии, из страны Великого Могола, но штурманом *["726] был голландец, если не ошибаюсь, по фамилии Фандергэст, и много моряков-европейцев, из которых трое англичан. Корабль был не в состоянии сопротивляться нам. Остальной его экипаж состоял из индусов, подданных Могола, из малабарцев и тому подобное. Было там пять индусских купцов и несколько армян *["727]. Кажется, торговали они в Моче пряностями, шелками, алмазами, жемчугом, миткалем и так далее, то есть, добром, которое производит их родина, и теперь на корабле мало что оставалось, кроме денег — все осмерики, а это, кстати сказать, и было то, что требовалось нам. И все три моряка-англичанина перешли к нам, то же хотел сделать и штурман-голландец, но оба купца-армянина стали умолять нас не брать его, так как, помимо него, никто больше из экипажа не умел управлять судном. Так, по их просьбе, мы вынуждены были отказать штурману, но зато взяли обещание с купцов не делать ему ничего дурного за то, что он хотел перейти к нам. Этот корабль принес нам около двухсот тысяч осьмериков. Говорили они, между прочим, что на этот корабль собирался сесть какой-то еврей из Гоа, который должен был иметь при себе собственных двести тысяч осьмериков. Он ехал с целью отдать их на хранение. Но его счастье выросло из его несчастья: он заболел в Моче и не мог сесть на корабль. К тому времени, когда мы брали этот корабль, в моем распоряжении, сверх моего судна, был только шлюп, так как в корабле капитана Вильмота обнаружилась течь, и он ушел на стоянку еще до нас и прибыл туда в середине декабря. Но порт, куда он прибыл, не понравился капитану, и он отправился дальше, оставивши на берегу большой крест с укрепленной на нем свинцовой дощечкой, где написал приказ направиться к нему, к большим бухтам у Мангахелли *["728]. Там он нашел превосходную гавань. Но здесь мы узнали новость, надолго задержавшую нас, в результате чего капитан обиделся, но мы заткнули ему рот причитавшейся ему и его экипажу долей из двухсот тысяч осьмериков. Но вот история, помешавшая нам явиться к нему. Между Мангахелли и другим пунктом, называющимся мысом святого Себастьяна *["729], как-то ночью прибыло к берегу какое-то европейское судно. То ли из-за ветра, то ли из-за отсутствия лоцмана корабль сел на мель, и снять его не удалось. В это время мы стояли в бухте (или гавани), где, как я сказал, была наша условленная стоянка, но мы еще не успели сойти на берег и не видали, таким образом, приказа, оставленного адмиралом. Нашему другу Виллиаму, о котором я долгое время ничего не говорил, однажды сильно захотелось сойти на берег, и он пристал ко мне, чтобы я дал ему с собой небольшой отряд, с которым можно было бы без опасности осмотреть окрестность. Я был против этого по многим причинам и, между прочим, сказал ему, что он мало знает здешних туземцев, что они народ вероломный, и я не хочу, чтобы он уходил. Но неотвязчивость Виллиама заставила меня уступить ему, так как я всегда очень полагался на его рассудительность. Коротко говоря, я дал ему разрешение идти, но с условием не отходить далеко от берега, на тот случай, что, если их что-нибудь вынудит отступить к морю, мы смогли бы заметить их и перевезти на лодках. Виллиам ушел рано поутру. В своем распоряжении он имел тридцать превосходно вооруженных и отменно крепких парней. Шли они весь день, а к вечеру подали нам сигнал, что все обстоит благополучно; для этого они разложили большой костер на верхушке заранее назначенного холма. На следующий день они спустились с холма по другую его сторону, держась морского берега, как обещали, и увидели перед собой очаровательную долину. Посреди нее текла река, которая несколько ниже, казалось, увеличивалась настолько, что могла поднять небольшие суда. Они немедленно двинулись к этой реке, и тут их поразил звук выстрела; судя по всему, выстрел этот был дан неподалеку. Они долго ждали, но ничего больше не услыхали. Тогда они пошли вдоль берега реки. То был прекрасный пресный поток, который скоро расширился. Они продолжали идти, покуда он внезапно не разлился в нечто в роде заливчика или гавани, милях в пяти от моря. Но самым поразительным было то, что, подойдя на более близкое расстояние, они ясно увидали в устье заливчика или гавани корабельный врак. В то время была высшая точка прилива, так что врак не очень возвышался над водой, но по мере того, как они приближались, он становился все заметнее. Вскоре прилив схлынул, и врак остался лежать на сухом песке и оказался корпусом внушительного корабля, большего, нежели можно было ожидать для этих мест. Через некоторое время Виллиам, взявши подзорную трубку, чтобы повнимательнее разглядеть врак, был поражен свистом пролетевшей мимо него мушкетной пули, тотчас же вслед за этим он услыхал выстрел и увидел на том берегу дымок. На это наши немедленно выстрелили их трех мушкетов, чтобы узнать, если возможно, в чем дело. На звуки выстрелов на берег из-за деревьев выбежало множество людей, и наши легко могли увидеть, что это были европейцы, хотя и неизвестно какой нации. Как бы то ни было, наши, окликнувши их возможно громче, и кое-как раздобывши длинную жердь, поставили ее торчком и повесили на нее белую рубаху в качестве флага мира. Люди на другом берегу разглядели его в подзорные трубки, и вскоре после того наши увидели, как от того берега, — как им показалось, но в действительности из другого заливчика, — отчалила лодка. Она быстро направилась к нашим, так же показывая белый флаг в качестве знака мира. Нелегко описать удивление и радость обеих сторон при встрече в столь отдаленном краю не только белых, но и англичан. Но можно себе представить, что произошло, когда они стали узнавать друг друга и когда обнаружили, что они не только земляки, но и товарищи, так как это было то самое судно, которым командовал наш адмирал Вильмот, и которое мы потеряли в бурю у Тобаго, после того, как условились повстречаться наМадагаскаре! Как оказалось, прослышали они о нас, еще добравшись до южной оконечности острова, и тут же отправились в Бенгальский залив, где повстречали капитана Эйвери. Они соединились с ним и захватили много добычи, в том числе корабль с дочерью Великого Могола и неисчислимыми сокровищами — деньгами и драгоценностями. Оттуда направились они к Коромандельскому побережью, а затем к Малабарскому в Персидском заливе, где также захватили несколько призов и затем поплыли к южной оконечности Мадагаскара. Но ветры, упорно дувшие с юго-востока через восток, позволили им подойти к острову лишь с севера. Потом яростная буря с северо-запада отогнала их от капитана Эйвери и принудила укрыться в устье залива, где они и лишились корабля. Они рассказали нам также, что слышали, что и капитан Эйвери лишился корабля неподалеку отсюда. Осведомивши таким образом друг друга о своих приключениях, — преисполненные радости, бедняги заторопились вернуться, чтобы поделиться радостью со своими товарищами. Несколько их людей остались с нашими, а остальные отправились обратно. Виллиаму так хотелось повидать всех остальных, что с двумя спутниками, он отправился вместе с теми на тот берег, в маленькое становище, в котором они жили. В общей сложности их было, приблизительно, сто шестьдесят человек. Им удалось перенести на берег свои пушки, кое-какие боевые припасы, но большая часть пороха отсырела. Как бы то ни было, они соорудили ладные подмостки и на них поставили двенадцать пушек, что являлось достаточной защитой с моря. А на самом конце подмостков устроили корабельный спуск и маленькую верфь, где все усердно работали, строя небольшой корабль, — смею так назвать его, — чтобы в нем отправиться в море. Но эту работу они бросили, как только узнали о нашем прибытии. Наши вошли к ним в хижины и были поражены количеством увиденного там добра: золота, серебра и драгоценностей. Но все это, по их словам, было пустяками по сравнению с тем, что имеется у капитана Эйвери, где бы он ни находился. Пять дней дожидались мы наших, не получая от них никаких известий. Я считал уже их погибшими, но после пятидневного ожидания с удивлением увидел идущую к нам на веслах от берега корабельную лодку. Я не знал, какое дать о ней распоряжение, и почувствовал себя значительно облегченным, когда наши сказали мне, что с лодки окликают нас и машут нам шапками. Несколько времени спустя лодка подошла к нам ближе, и я увидал, что в ней стоит наш друг Виллиам и подает нам знаки. Наконец, они взошли на борт. Но одновременно я заметил, что из наших тридцати, отправившихся с ним, налицо было только пятнадцать человек; я спросил, что сталось с остальными. — О, — говорит Виллиам, — они в полном здравии. Я тут же с нетерпением стал расспрашивать, в чем дело, и он рассказал нам всю историю, которая, понятно, всех нас удивила. На следующий день мы снялись с якоря и направились на юг, чтобы соединиться с кораблем капитана Вильмота в Мангахелли, где мы и нашли его, немного, как я сказал, обиженного нашим запозданием. Но впоследствии мы успокоили его рассказом о приключении Виллиама. А так как оказалось, что становище наших товарищей было близко от Мангахелли, наш адмирал, я, друг Виллиам и несколько человек экипажа решили сесть на шлюп и съездить проведать их и переправить их со всем добром, имуществом и поклажей на наши суда. Так мы и поступили. Мы повидали при этом лично их становище, укрепления, сооруженную ими батарею пушек, все сокровища и людей, — все так, как о том рассказывал Виллиам. Затем, после некоторого привала, мы посадили всех на шлюп и увезли с собою. Это произошло за некоторое время до того, как мы узнали, что случилось с капитаном Эйвери. Месяц спустя, по указаниям лишившихся корабля, мы послали наш шлюп обойти берег и, если удастся, отыскать, где он находится. После недельных поисков наши нашли его и узнали, что он так же, лишился корабля и находится в скверном положении, похожем во всех отношениях на то, какое испытали наши. Шлюп вернулся только дней через десять, привезя капитана Эйвери со всею силою, какой когда-либо на моей памяти располагал он. Теперь, когда мы соединились все, общий итог был таков: было у нас два корабля и шлюп, на которых находилось триста двадцать человек, что было недостаточно для этих судов, так как для одного только большого португальского военного корабля требовалось экипажа около четырехсот человек. Что же до наших пропавших, а теперь найденных товарищей, общее их количество равнялось ста восьмидесяти человекам или около того. А у капитана Эйвери было приблизительно триста человек, из коих было десять человек плотников, главным образом, снятых с призов, так что, коротко говоря, вся сила, которой располагал капитан Эйвери на Мадагаскаре в 1699 году *["730] или около того, сводилась к нашим трем кораблям, так как своего корабля он, как вам известно, лишился. А людей в общей сложности никогда не бывало больше чем тысяча двести человек. Приблизительно месяц спустя после того, как все наши экипажи соединились, мы согласились, — так как Эйвери был без корабля, — разместиться всем нашим на португальском военном корабле и шлюпе и отдать капитану Эйвери и его экипажу в полное их распоряжение испанский регат со всей оснасткой и со всем оборудованием, пушками и боевыми припасами. И так как были они безмерно богаты, то заплатили нам за это сорок осьмериков. Затем мы стали обсуждать, что нам теперь предпринять. Капитан Эйвери, нужно отдать ему справедливость, предложил нам построить здесь городок *["731], устроиться на берегу, возвести сильные укрепления и фортификационные постройки. Богатств у нас было достаточно, при чем мы могли бы увеличить их, стоит нам только захотеть, и мы, поселившись здесь, могли бы с успехом бросить вызов всему миру. Но мне удалось убедить капитана, что это место не безопасное для нас, если мы будем продолжать промышлять набегами, ибо тогда все нации Европы и, уже, во всяком случае, этой части света постараются истребить нас без остатка; если же мы решимся жить здесь в уединении и устроиться, как честные люди, бросивши пиратские дела, тогда, понятно, мы сможем устроиться и поселиться, где вздумается. Но в таком случае, сказал я ему, самое лучшее будет столковаться с туземцами и приобрести у них кусок земли где-нибудь в глубине острова, на судоходной реке, по которой смогут ходить для развлечения лодки, но никак не корабли, могущие угрожать нам; устроившись, завести скот — коров и коз, которыми кишит эта страна, — и тогда зажить здесь не хуже любого мирного обывателя. Я признал, что считаю это лучшим исходом для тех, кто хочет бросить пиратство и успокоиться, но одновременно с этим не желает возвращаться на родину и лезть в петлю, то есть рисковать этим. Капитан Эйвери, хотя открыто и не заявлял, к чему он лично больше склоняется, пожалуй, все же был против моего предложения селиться в глубине страны. Более того, ясно было, что он поддерживает мнение капитана Вильмота, что нужно устроиться на берегу и в то же время не прекращать набегов. Так они и порешили. Но, как я узнал впоследствии, приблизительно пятьдесят человек из их людей отправились в глубь страны и там обосновались. Не знаю только, там ли они еще теперь и сколько их осталось в живых. Но думается мне, что они еще там, и число их увеличилось значительно, ибо, как говорят, среди них есть несколько женщин, хотя и немного. Дело в том, что они впоследствии пленили направлявшееся в Мочу голландское судно и захватили на нем пять женщин и трех или четырех девочек-голландок. Три из них вышли замуж за некоторых из наших и отправились с ними жить на их новой плантации. Но об этом я говорю только понаслышке. Итак, по мере того, как мы проводили здесь время, наши, — заметил я, — все сильнее расходились в мнениях. Одни были за то, чтобы идти одним путем, другие — другим путем, и под конец я стал бояться, что они разделятся *["732] , и может оказаться, что нам не удастся набрать людей в количестве, достаточном для того, чтобы управлять большим кораблем. Поэтому я, заставши капитана Вильмота наедине, принялся говорить с ним об этом, но вскоре обнаружил, что он сам склонен оставаться на Мадагаскаре и, так как на его личную долю приходилось большое количество добра, то втайне подумывает о том, каким бы путем лучше пробраться на родину. Я принялся доказывать невозможность этого и указал на опасность, которой он может подвергнуться: он попадет на Красном море в руки воров и убийц, которые ни в каком случае не дадут такому, как у него, богатству ускользнуть из их рук, а не то попадет он в руки англичан, голландцев или французов, которые наверняка повесят его, как пирата. Я рассказывал ему о путешествии, которое совершил с этого самого места к африканскому материку, и о том, сколько пришлось пройти пешком. Коротко говоря, ничто не могло разубедить его в намерении отправиться на шлюпе в Красное море, высадиться там, посуху пройти в Великий Каир *["733], расположенный не далее, чем в восьмидесяти милях, а оттуда, по его словам, из Александрии *["734] можно уплыть в любую часть света, куда только будет угодно. Я указал на опасность, да, в сущности, на невозможность, пройти через Мочу и Джидду *["735], не подвергаясь ответному нападению, если пробиваться силой, или не подвергаясь грабежу, если идти мирно. Все это я излагал так усердно и так убедительно, что под конец, хотя сам он и не пожелал меня слушать, ни один из его людей не согласился пойти с ним. Они сказали ему, что пойдут под его предводительством куда угодно, но этот путь означает — вести и его самого и их на верную смерть, без всякой возможности избежать ее или как-нибудь повлиять на исход дела. Капитан в связи с этим, очевидно, обиделся на меня и сказал даже несколько крепких слов. Но я возразил ему на все только тем, что советы даю ему ради его же собственной пользы, что если он этого не понимает, то вина в том его, не моя, что я не запрещаю ему уходить и не пытаюсь отговаривать, кого бы то ни было, идти с ним, хотя путь ведет на верную погибель. Как бы то ни было, горячую голову не скоро остудишь. Капитан так распалился, что покинул наше общество, с большей частью экипажа перешел к капитану Эйвери и порвал с нами, забравши всю нашу казну, что, кстати, было не очень честно с его стороны, так как мы уговаривались делить все барыши независимо от того, велики ли они или малы, здесь ли участники их или отсутствуют. Наши немного поворчали на это, но я успокоил их, как только мог, и сказал им, что нам легко добыть столько же, — стоит нам всего лишь усердно взяться за дело. Капитан же Вильмот сам положил добрый почин, ибо, после того, как он начал, теперь никто не будет делить с ним добычу. Этим случаем я воспользовался для того, чтобы склонить их к моим дальнейшим планам — обшарить восточные моря и попытаться самим разбогатеть не хуже господина Эйвери, который действительно нахватал огромные богатства, хотя и вдвое меньше того, что рассказывали об этом в Европе. Нашим так понравилось мое бодрое, решительное настроение, что они заверили меня, что все до единого пойдут со мной, куда ни поведу я их, — хоть вокруг всего света. Что же до капитана Вильмота, они с ним дела иметь не желают. Это дошло до его сведения и привело его в такую ярость, что он грозился перерезать мне глотку, если только я сойду на берег. Я узнал об этом частным путем, но совсем не обратил внимания на это. Правда, теперь я остерегался разгуливать так, чтобы он мог застичь врасплох, и всегда ходил в сопровождении многих товарищей. Как бы то ни было, под конец капитан Вильмот повстречался со мною; мы очень серьезно обсудили дело, и я преподнес ему шлюп, чтобы он уехал, куда ему вздумается, а если это его не устраивает, я предложил взять себе шлюп и отдать ему большой корабль. Но он отказался и от того и от другого и только попросил меня оставить ему шестерых плотников, которые были у меня лишние, чтобы они помогли его людям достроить шлюп, который начали сооружать еще до нашего появления наши, лишившиеся корабля. На это я охотно согласился и уступил ему еще кое-кого, кто был ему нужен. И они в короткий срок построили крепкую бригантину, способную нести четырнадцать пушек и двести человек. Какие приняли они меры и как впоследствии действовал капитан Эйвери — история слишком длинная для того, чтобы ее передавать здесь. К тому же и не мое это дело, так как собственная моя история еще не окончена. Здесь провели мы за многочисленными, этими несложными ссорами почти пять месяцев, и лишь в конце марта я поднял паруса и вышел на большом корабле, несшем сорок четыре пушки и четыреста человек, и со шлюпом с восьмьюдесятью людьми. Так как восточные муссоны были еще слишком сильны, мы направились не к Малабарскому побережью и оттуда к Персидскому заливу, как сперва было задумано, но взяли ближе к африканскому побережью, где ветры были переменчивы, и шли, покуда не пересекли экватора и не увидели мыса Басса *["736] на широте четырех градусов и десяти минут. Так как муссоны стали переходить на северо-восток и северо-северо-восток, мы вышли бакштагом *["737] к Мальдивам *["738], знаменитой цепи островов, хорошо известной всем морякам, побывавшим в этой части света. Оставивши эти острова несколько к югу, мы завидели мыс Коморин *["739], самую нижнюю оконечность Малабарского побережья, и обогнули остров Цейлон *["740]. Здесь мы остановились на время, дожидаясь добычи. И здесь встретили три больших английских ост-индских корабля, которые шли из Бенгалии или форта святого Георга домой, в Англию, или, вернее, покуда не началась торговля, в Бомбей *["741] или Сурат *["742]. Мы задрейфовали *["743], выкинули английский кормовой флаг и гюйс *["744] и направились на них, точно собираясь напасть. Они долго не могли сообразить, что делать, хоть и видели наши флаги и, как думается мне, сперва приняли нас за французов. Но, когда они оказались поближе к нам, мы немедленно выкинули на вершине грот-мачты черный флаг с перекрещенными кинжалами *["745], показывая этим, чего от нас можно ожидать. Что из этого последовало, мы увидели скоро: сперва выкинули они свои кормовые флаги и, выстроившись в ряд, двинулись на нас, точно собирались сражаться. Ветер дул с берега и был достаточно силен, чтобы они могли взять нас на абордаж. Но затем они разглядели, какой мы располагаем силой, что мы грабители не обычного порядка, а потому повернули прочь, убегая от нас под всеми парусами. Подойди они к нам, мы бы приветствовали их по-неожиданному, но раз они повернули, то и у нас не было желания преследовать их. Мы предоставили им идти своей дорогой по тем же причинам, которые я изложил раньше. Но, хотя этих мы не тронули, мы вовсе не собирались так же задешево отпускать и других. Уже на следующее утро завидели мы какой-то корабль, огибающий мыс Коморин и идущий, как нам казалось, тем же курсом, что и мы. Сперва не знали мы, что с ним делать, так как берег находился у него на бакборте, и, попытайся мы погнаться за ним, он ушел бы от нас в какой-нибудь порт или залив и спасся бы от нас. Поэтому, чтобы избежать этого, мы послали наш шлюп с приказом стать между кораблем и берегом. Заметивши этот маневр, корабль немедленно повернул, чтобы пойти вдоль берега, а когда шлюп направился прямо на него, он взял курс уже на самый берег, поставивши все паруса. Однако шлюп перехватил их, и бой завязался. Нашим врагом, как оказалось, был десятипушечный корабль португальской постройки, но принадлежавший голландским купцам и с голландским экипажем. Шел он из персидского залива в Батавии *["746] для того, чтобы забрать там груз пряностей и других товаров. Наш шлюп захватил его и обыскал, прежде чем мы подошли. На корабле были кое-какие европейские товары, изрядная сумма денег и малая толика жемчуга. Таким образом, получалось, что не мы ходили в залив за жемчугом, а сам жемчуг шел к нам из залива, и мы пользовались им. Корабль этот был богатый, и одни только товары стоили немало, не считая уже денег и жемчуга. Тут состоялось у нас длинное совещание насчет того, как поступить с экипажем, ибо отдать ему корабль и пустить продолжать путь в Яву *["747] обозначает всполошить тамошние голландские фактории, — самый мощные во всей Индии, и отрезать себе путь туда. Мы же решили по пути забраться и в эту часть мира, не минуя, однако, и великого Бенгальского залива, где надеялись захватить много добычи. Поэтому не следовало нам портить себе путь еще до прибытия туда, ибо там могли понять, что можем мы пройти либо через Малаккский пролив *["748], либо же через Зунд *["749], — а оба эти пути очень легко можно было преградить нам. Покуда совещались мы об этом в кают-компании, о том же спорил экипаж у мачты. И вышло, что большинство было за то, чтобы засолить несчастных голландцев вместе с сельдями: словом, экипаж был за то, чтобы побросать их всех в море. Квакер Виллиам, бедняга, был очень озабочен этим решением и пришел прямо ко мне, чтобы поговорить по этому поводу. — Послушай-ка, — сказал Виллиам — что ты хочешь сделать с голландцами, находящимися у тебя на корабле? Ты, надеюсь, не собираешься отпустить их? — А разве, — ответил я, — Виллиам, вы советуете мне отпустить их? — Нет, — сказал Виллиам, — не могу сказать, чтобы умно тебе было отпускать их, то есть отпускать их на прежний путь, в Батавию, ибо тебе невыгодно, чтобы голландцы в Батавии знали, что ты в этих морях. — Так что же? — сказал я ему. — Я не вижу другого исхода, как только побросать их за борт. Вы знаете, Виллиам, что голландцы плавают, как рыбы. И все наши здесь держатся того же мнения, что и я. Говоря так, я мысленно уже решил не поступать так, но хотел услышать, что скажет Виллиам. Он серьезно отвечал: — Если бы даже все на корабле были того же мнения, я не поверил бы, что ты сам стоишь за это, ибо неоднократно был свидетелем того, как ты восставал против жестокостей. — Хорошо, Виллиам, — сказал я, — это правда. Но что же, в таком случае, поделать с ними? — Как? — сказал Виллиам, — неужели нельзя сделать ничего иного, как только убить их? Я убежден, что ты говоришь не серьезно. — Ну, понятно, Виллиам, — сказал я, — не серьезно. Но они не должны попасть ни на Яву, ни на Цейлон, — это бесспорно. — Но, — сказал Виллиам, — они не причинили тебе никакого вреда, ты забрал у них огромное богатство. За что же посмеешь ты обижать их? — Ну, Виллиам, — сказал я, — об этом толковать нечего. Посметь-то посмею я всегда, если о том идет речь. Смею я, раз они могут причинить мне вред, — а это необходимейшая часть закона самосохранения. Но главное в том, что я не знаю, как поступить с ними, чтобы они не болтали. Покуда мы с Виллиамом совещались, несчастные голландцы были открыто приговорены к смерти, можно сказать, всем корабельным экипажем. И наши отнеслись столь горячо к этому делу, что устроили доподлинную бучу, а когда узнали, что Виллиам против их решения, то некоторые даже побожились, что голландцы должны умереть, а если Виллиам воспротивится, то и его утопят вместе с ними. Но я, раз решивши бороться против их жестокого суда, нашел, что теперь время вмешаться в дело: не то охота пролить кровь станет слишком уж сильна. Поэтому я позвал голландцев и заговорил с ними. В первую очередь я спросил, согласны ли они присоединиться к нам. Двое тут же пошли на это, но остальные четырнадцать отказались. — В таком случае, — сказал я, — куда же хотите вы отправиться? Они попросили свезти их на Цейлон. Я отвечал им, что не могу позволить им отправиться в какую-нибудь голландскую факторию, и совершенно открыто изложил им причины этого; оспаривать справедливость их они не могли. Я сообщил им также о жестоком кровавом решении экипажа и о том, что решил, если удастся, спасти их. Поэтому я обещал или высадить их на берегу у английской фактории в Бенгальском заливе, или пересадить на какой-нибудь встречный английский корабль. Но все это я могу сделать только после того, как пройду проливы Малаккский или Зундский, а никак не раньше; и тут я сказал им, что на обратном пути я согласен подвергнуться нападению голландских сил из Батавии, но не желаю, чтобы слухи о моем прибытии опередили меня и чтобы все купеческие корабли ускользнули из моих рук. Далее стал перед нами вопрос о том, что делать с их кораблем. Здесь долго размышлять не приходилось, ибо было лишь два пути: либо сжечь его, либо же выбросить на берег. Мы выбрали последний. Итак, мы поставили его фокзейл, прикрепивши тали *["750] к крамбалам *["751], а руль принайтовили *["752] к штирборту, чтобы соответствовал переднему парусу, и таким образом пустили корабль по морю без единой души на нем. И двух часов не прошло, как наскочил он на наших глазах прямо на берег, чуть пониже мыса Коморина. А мы отправились кругом Цейлона к Коромандельскому побережью. Здесь мы пустились вдоль берега так близко, что видели корабли на рейдах в форту святого Давида *["753], в форту святого Георга и в других факториях по этому побережью, равно как и по побережью Голконды *["754] . Проходили мы под английским флагом мимо голландских факторий и под голландским флагом мимо английских. На этом побережье добычи у нас было мало: только что два маленьких корабля из Голконды, шедшие через залив с тюками миткаля, муслинах *["755], шелковых тканей и пятнадцатью тюками фуляра *["756]. Шли они — не знаю от кого — в Ачин *["757] и другие порты на Малаккском побережье. Мы не допытывались — куда именно, но отпустили корабли, так как на них не было никого, кроме индусов. В глубине залива повстречали мы большую джонку из придворных джонок Могола, и было на ней очень много народу, — пассажиров, как решили мы. Кажется, направлялись они к реке Гугли *["758] или к Гангу *["759] и шли из Суматры *["760]. Такое судно было, действительно, неплохой добычей. Мы добыли на нем столько золота, — не считая другого добра, с которым мы и не связывались, — как перец, например, — что могли этим, в сущности, закончить все наши похождения. Даже почти весь экипаж заявил, что мы достаточно богаты и можем возвращаться в Мадагаскар. Но у меня все еще имелись другие замыслы, и я принялся уговаривать наших и заставил друга Виллиама уговаривать их; и мы пробудили в них еще такие золотые надежды, что скоро добились их согласия идти дальше. Следующим моим замыслом было — оставить опасные проливы: Малаккский, Сингапурский *["761] и Зундский, где нам нечего было ожидать большой добычи, разве только какую найдем на европейских кораблях, с которыми зато пришлось бы сражаться. И хотя драться мы умели, и храбрости у нас хватало вплоть до отчаяния, все же мы были богаты и решили стать еще богаче, и стали придерживаться такого правила: если богатства, которых мы добиваемся, могут наверняка быть добыты без сражения, то у нас нет причин подвергать себя необходимости сражаться за то, что можно добыть без усилий. Поэтому мы покинули Бенгальский залив и, дойдя до побережья Суматры, вошли в небольшой порт, где имелся городок, населенный одними только малайцами *["762]. Здесь мы набрали пресной воды и изрядное количество хорошей свинины, прекрасно засоленной, несмотря на климат той местности, расположенной в самом сердце палящей зоны, а именно: на трех градусах пятнадцати минутах северной широты. Мы погрузили на оба наши корабля сорок живых свиней, чтобы иметь запас свежего мяса; корму у нас для них было достаточно, и состоял он из местных растений: Гуам *["763], картофеля и какого-то грубого риса, который не годился ни на что, кроме как для свиней. Убивали мы по кабану в день, и мясо их было превосходно. Погрузили мы также чудовищное количество уток, петухов и кур того же вида, что наши английские; их набрали мы для того, чтобы разнообразить стол. Если память мне не изменила, мы взяли их не менее чем две тысячи, так что сперва они были для нас сущим бедствием, но мы скоро уменьшили количество их при помощи варки, жарения, парения и так далее. В съестном мы, во всяком случае, не нуждались все время, покуда была у нас птица. Теперь мог я осуществить давнишний свой замысел, а именно — забраться в самую середину голландских Пряных островов *["764] и посмотреть, какие беды удастся там натворить. Так и вышли мы в море двенадцатого августа, семнадцатого пересекли экватор и повернули прямо на юг, оставляя на востоке Зундский пролив и остров Яву. Мы шли так, покуда не добрались до широты в одиннадцать градусов двадцать минут, где поворотили на восток и северо-востоко-восток под свежим ветром с юго-западо-запада, покуда не дошли к Молуккским, или Пряным, островам. Моря эти мы пересекли с меньшими трудностями, нежели в других местах, так как ветры южнее Явы были более переменными и погода стояла хорошая, хотя время от времени налетали шквалы и недолгие бури. Но, попавши в область самих Пряных островов, мы захватили муссон, или торговый ветер, который соответствующим образом и использовали. Бесконечное количество островов в тех морях странным образом затрудняло нам путь, и только с великими трудностями пробирались мы среди них. Тогда мы направились к северному краю Филиппин *["765], где была у нас возможность захватить добычу, а именно: либо мы повстречаем испанские суда из Акапулько *["766], на побережье Новой Испании *["767], либо не преминем повстречаться с китайскими судами или джонками. А те обычно, если китайские суда идут из Китая, везут большое количество ценных товаров, равно как и денег. Если же они идут назад, то гружены мускатным орехом *["768] и гвоздикой *["769] с Банды *["770] и Тернатэ *["771] или же с других островов. Предположения наши оказались правильными, и мы прямо двинулись широким проходом, который называют здесь проливом, — хотя в нем пятнадцать миль ширины, — к острову, который они называют Даммер *["772], а оттуда на северо-северо-восток, к Банде. Среди островов мы повстречали голландскую джонку или корабль, направлявшуюся на Амбойну *["773]. Мы захватили голландца без всякого труда, и мне стоило хлопот помешать нашим перебить весь экипаж его, после того как наши услыхали слова голландцев, что они с Амбойны. Причины, как мне кажется, ясны всякому. Мы перегрузили оттуда, приблизительно, шестнадцать тонн мускатных орехов, кое-какие съестные припасы и их ручное оружие, — пушек у них не было, — и отпустили корабль. Оттуда мы двинулись прямо к острову или островам Банда, где, были убеждены, сможем добыть еще мускатных орехов, если только захотим. Что до меня, я охотно добыл бы еще мускатных орехов даже и за плату, но нашим была противна мысль платить, за что бы то ни было. Так мы добыли еще, приблизительно, двенадцать тонн в несколько приемов, большую часть их с берега, и только немного с небольшой туземной лодки, шедшей в Джилоло *["774]. Мы торговали бы открыто, но голландцы, которые самочинно завладели этими островами, запретили туземцам иметь дела с нами или вообще с какими бы то ни было чужестранцами, и так их застращали, что туземцы не смели преступить запрет. Так как в силу этого мы не могли надеяться получить здесь что-либо, если бы и оставались дольше, то и порешили отправиться в Тернатэ и попытаться нагрузиться там гвоздикой. Поэтому мы повернули на север, но так как запутались среди бесчисленных островов и не имели лоцмана, который знал бы проходы и течения между ними, то были вынуждены оставить эту дорогу, и решили вернуться к Банде и поискать чего-нибудь подходящего среди соседних с ней островов. Первое случившееся здесь с нами приключение могло бы оказаться для нас роковым. Шлюп, шедший впереди, подал нам сигнал, что увидел парус, а затем — другой и третий, из чего мы заключили, что он увидел три паруса. Тогда мы прибавили парусов, чтобы нагнать шлюп, но внезапно попали между камней. Случилось это так внезапно и резко, что все сильно перепугались *["775]. Дело в том, что только что воды еще было достаточно, в самую пору, а тут руль ударился о вершину камня, от чего произошел страшный толчок, отщепивший большой кусок руля, так что последний пришел в негодность, и корабль перестал слушаться его, или, по крайней мере, слушался недостаточно для того, чтобы можно было положиться на это. И мы были рады, что удалось поднять все паруса, кроме фокзейла и грота, и на них уйти на восток в поисках какого-нибудь залива или гавани, где можно будет положить корабль на берег и починить руль. Кроме того, оказалось, что несколько поврежден и сам корабль, в нем возле ахтерштевня *["776] образовалась течь, небольшая, но очень глубоко под водой. Благодаря этой неудаче мы лишились возможной, какова бы она ни была, добычи с трех парусов. Впоследствии мы узнали, что то были маленькие голландские суда, шедшие из Батавии к Банде и Амбойне для закупки пряностей; на кораблях, несомненно, было не мало денег. Вы сможете смело поверить, что после несчастья, о котором я говорил, мы, как только это удалось нам, стали на якорь; стоянка была на островке, неподалеку от Банды. На островке этом не было факторий, но голландцы ездили туда для закупки мускатного ореха. Мы простояли там тринадцать дней, но так как там не оказалось подходящего места для нашего судна, то мы послали шлюп искать его среди островов. Тем временем набрали мы превосходной воды, кое-какие съестные припасы, коренья и плоды и изрядное количество мускатного ореха и мускатного цвета, которые приобрели у туземцев, и так, что их хозяева, голландцы, ничего не знали. Наконец, наш шлюп возвратился. Ему удалось найти остров, где была очень хорошая гавань, и мы туда отправились и стали на якорь. Немедленно мы сняли все паруса, перевезли их на остров и разбили из них семь или восемь палаток. Затем мы расснастили мачты и срезали их, вытащили все пушки, съестные припасы и прочий груз, сложивши все на берегу в палатках. Из пушек устроили мы две небольших батареи на случай, если бы нас застигли врасплох, и установили сторожевой пост на холме. Управившись со всем этим, мы положили судно на твердый песок, в верхнем конце гавани, и с обоих концов подтянули к берегу. При отливе лежало оно почти на суше, и нам удалось починить корабельное дно и заделать течь, произошедшую от того, что погнулась железная обшивка руля, когда корабль налетел на камни. Управившись с этим, мы заодно принялись чистить всю подводную часть *["777]. Так как корабль очень долго был в море, то подводная часть оказалась сильно засорена. Шлюп также подвергся починке и чистке и был готов раньше судна. Восемь или десять дней ходил он между островами, но никакой добычи не нашел. Это место стало нам надоедать, ибо единственным развлечением здесь было — слушать самые свирепые раскаты грома, о каких когда-либо кто-либо слышал. Мы надеялись повстречать какую-нибудь добычу в роде китайского судна, какие, как слышали мы, ходили обычно на Тернатэ за гвоздикой и на Бандские острова за мускатным орехом. Мы охотно бы нагрузили наш галлеон, или большой корабль, этими видами пряностей и сочли бы свое предприятие удачным. Но мы не нашли ничего заслуживающего внимания, если только не считать голландцев; но те, — представить себе не могу, отчего, — либо относились к нам подозрительно, либо же прослышали о нас; во всяком случае, они не вылезали из своих портов. Я решил было сойти на берег, на острове Дюма *["778], весьма знаменитом своим превосходным мускатным орехом. Но вдруг Виллиам, всегда стремившийся обойтись без сражения, отговорил меня от этого и представил такие доводы, что оспаривать их было невозможно, в частности же — сильную жару как времени года, так и места, ибо находились мы как раз тогда в полу-градусе южной широты. Но в то время как обсуждали мы этот вопрос, дело было разрешено следующим обстоятельством: дул сильный ветер с юго-запада через запад, и корабль наш шел хорошо, несмотря на мощное морское течение с северо-востока, которое, как мы впоследствии узнали, являло поворот Великого океана на востоке от Новой Гвинеи *["779]. Как бы то ни было, как я сказал, шли мы хорошо и подвигались вперед быстро, когда внезапно из висевшей над нашими головами темной тучи вспыхнула молния или, вернее, взорвалась. Была она так ужасна и так долго полыхала среди нас, что не я один, но и весь экипаж решил, что корабль наш горит. Жар, накаливший воздух, был так силен, что у некоторых из нас вскочили на коже волдыри; возможно, что не сразу, непосредственно от жары, но от ядовитых или зловредных частиц, попавших на воспаленные места. Но это еще не все. От сотрясения воздуха, вызванного разрывом облаков, весь наш корабль задрожал, точно от полного бортового залпа. Движение корабля остановилось сразу, паруса отлетели назад, и корабль стал, поистине можно сказать, пораженный молнией. Так как взрыв в облаках произошел близко от нас, всего несколько мгновений спустя последовал ужаснейший раскат грома. Я твердо убежден, что взрыв ста тысяч баррелей пороха не показался бы таким громким нашему слуху. Больше того, несколько наших вообще оглохло от него. Но я не могу передать, да и никто не мог представить себе весь ужас тех мгновений. Все пришли в такое смятение, что ни у одного человека их экипажа не хватило присутствия духа выполнить прямой долг моряка, кроме как у друга Виллиама. И если бы он не побежал проворно и со спокойствием, которого, я уверен, у меня не хватило бы, не опустил бы передних парусов, не поставил бы брасов передней реи и спустил бы марселя, — у нас наверняка сорвало бы все мачты, и сам корабль перевернулся бы. При этом переходе держали мы курс на северо-восток. Пройдя с попутным ветром пролив, или канал, между островом Джилоло и землею Новой Гвинеей, мы скоро оказались в открытом море, на юго-востоке от Филиппин, там, где Великий Тихий океан, иначе — Южные моря, соединяется с обширным Индийским океаном. Вступивши в эти моря, мы шли прямо к северу и вскоре оказались по северной стороне экватора; затем мы продолжали путь к Минандао *["780] и Манилье *["781], самым большим из Филиппинских островов, не встречая все время никакой добычи, покуда не оказались к северу от Манильи, и тут началась наша работа. Мы захватили здесь, правда, на некотором расстоянии от Манильи, три японских корабля *["782]. Два из них уже отторговали и теперь шли домой, везя мускатный орех, корицу, гвоздику и так далее, а также всякие европейские товары, доставленные испанскими судами из Акапулько. Было на них в общей сложности тридцать восемь тонн гвоздики, пять или шесть тонн мускатного ореха и столько же корицы. Мы забрали пряности, но оставили европейские товары, так как считали их не заслуживающими внимания. Но вскоре мы в этом сильно раскаялись и потому вперед уже были умнее. Третий японский корабль оказался для нас лучшей добычей, так как шел груженный деньгами и большим количеством начеканенного золота для того, чтобы купить товары, упоминаемые выше. Мы избавили их от их золота, но иного вреда им не причинили, и так как не собирались долго оставаться здесь, то отправились к Китаю. В этот переход мы провели на море более двух месяцев, борясь с ветром, дувшим постоянно с северо-востока или отклонявшимся на одно деление то в ту, то в другую сторону. Но это, очевидно, и послужило причиной того, что мы на пути встретили немало добычи. Мы только что оставили Филиппины и собирались идти к острову Формозе *["783], но с северо-востока дул такой сильный ветер, что мы ничего не могли поделать с ним, и вынуждены были возвратиться к Лаконии *["784], самому северному из тех островов. Мы прибыли туда спокойно и меняли стоянки не для того, чтобы избежать опасности, каковой не было, но чтобы лучше добывать съестные припасы, которыми население снабжало нас очень охотно. Пока мы оставались там, у острова стояло три очень больших галлеона, или испанских корабля, из Южных морей. Сперва мы не могли узнать, прибыли ли они только что, или уже собираются уплывать. Но, прослышавши, что китайские купцы грузятся и скоро уйдут на север, мы заключили из этого, что испанцы недавно разгрузились, а те скупили груз. Поэтому мы не сомневались, что найдем добычу в пути, да и, действительно, миновать ее мы не могли. Мы пробыли здесь до начала мая, когда узнали, что китайские купцы собираются в море. Дело в том, что северные муссоны перестают дуть в самом конце марта или начале апреля, так что те были обеспечены попутным ветром домой. Соответственно с этим мы наняли несколько туземных лодок, — а они ходят очень быстро, — и приказали им съездить на Манилью и сообщить нам, как обстоят там дела, и когда пустятся в путь китайские джонки. Получивши известия об этом, мы так удачно устроили все, что через три дня после того, как поставили паруса, наткнулись не менее как на одиннадцать джонок. Впрочем, неудачно обнаруживши себя, захватили мы из них только три, чем удовлетворились и продолжали путь на Формозу. На этих трех судах захватили мы, коротко говоря, такое количество гвоздики, мускатного ореха, корицы *["785]и мускатного цвета, не считая уже серебра, что экипаж стал соглашаться с моим мнением, что мы достаточно богаты, и нам осталось теперь только подумать, каким бы способом сберечь бесчисленные сокровища, награбленные нами. Втайне я был рад, что они согласились со мной, ибо уже давно решился убедить их возвратиться домой, — ведь я полностью осуществил свой давнишний замысел — пошарить между Пряных островов. А все эти призы, особенно же исключительно богатая манильская добыча, не входили в мои замыслы. Но теперь, услыхавши, что экипаж поговаривает о том, что у нас-де полное благополучие, я передал через друга Виллиама, что собираюсь дойти лишь до острова Формозы, где удастся обратить наши пряности и европейские товары в наличные деньги, а тогда я поверну на юг, так как, авось, к тому времени начнут дуть и северные муссоны. Замысел мой все они одобрили и охотно двинулись дальше. К тому же еще, помимо ветра, который до самого октября не дал бы повернуть на юг, помимо этого, говорю я, корабль наш теперь глубоко сидел в воде, так как вез не менее двухсот тонн груза, и часть его была исключительно ценной; шлюп был тоже нагружен соответственно. С этим решением мы бодро пошли вперед и приблизительно через двенадцать дней пути увидели на большом расстоянии остров Формозу, но сами оказались под южной его оконечностью, с подветренной стороны, и чуть что не китайском побережье. Это было нам несколько неприятно, так как английские фактории находились неподалеку, и мы вынуждены были бы сражаться с их кораблями, повстречайся они нам. Справиться с этим нам было бы не трудно, но было это нам нежелательно по многим причинам, а главным образом потому, что не хотели мы, чтобы знали, кто мы такие, и что вообще замечены на побережье такие люди. Как бы то ни было, мы вынуждены были держать курс на север, стараясь, насколько возможно, отходить дальше от китайского побережья. Плыли мы недолго, как нагнали небольшую китайскую джонку и, захвативши ее, обнаружили, что идет она к острову Формозе и не везет ничего, кроме как немного риса и небольшого количества чая. Но на джонке было три китайских купца, и они сказали нам, что идут навстречу большому китайскому кораблю, который вышел из Тонкина *["786] и стоит на Формозе, в реке, название которой я позабыл. Корабль же этот идет к Филиппинским островам с шелковыми тканями, муслином, миткалем и всякими китайскими товарами и золотом, и цель их — продать свой груз и купить пряности и европейские товары. Это вполне соответствовало нашим целям, и я решил, что отныне мы перестанем быть пиратами и превратимся в купцов *["787]. Потому мы сказали им, какие везем товары, и что, если они доставят к нам своих суперкаргов *["788] или купцов, то мы с ними будем торговать. Они охотно стали бы торговать с нами, но страшно боялись довериться нам; и, надо признаться, страх этот нельзя назвать несправедливым, так как мы уже отобрали у них все их имущество. С другой же стороны, мы были столь же недоверчивы, сколько и они, и также колебались, как поступить. Но Виллиам-квакер устроил из всего этого дела род обмена. Он явился ко мне и сказал мне, что, право, считает этих купцов порядочными людьми, с честными намерениями. — И к тому же, — говорит Виллиам, — им же теперь выгодно быть честными, так как они знают, каким образом добыли мы товары, которые будем продавать им, или знают, что могут получить их за бесценок. К тому же это избавляет их от необходимости проделать порядочный путь; и так как южные муссоны все еще дуют, то, отторговавши с нами, купцы смогут немедленно возвратиться со своим грузом в Китай. Впрочем, впоследствии мы узнали, что они направлялись в Японию, но это было безразлично, так как благодаря торговле с нами они избегали, по меньшей мере, восьмимесячного пути. На основании этих соображений Виллиам и говорил, что мы можем доверять им. — Ибо, — говорит Виллиам, — я также охотнодоверюсь человеку, которого выгода заставляет быть справедливым ко мне, как человеку, который связан нравственными законами. В общем же Виллиам предложил задержать двух купцов в качестве заложников, перегрузить часть наших товаров на их судно и третьему купцу отправиться с ними в порт, где стоит тот корабль. А, сдавши пряности, он должен привезти назад то, на что, по условию, они должны быть обменены. На этом и порешили, и квакер Виллиам осмелился поехать с ним, чего я, честное слово, не решился бы сделать. Да я не хотел, чтобы ехал и Виллиам, но он отправился, уверяя, что им же выгодно по-дружески обращаться с ним. За это время мы стали на якорь возле островка *["789] на широте в двадцать три градуса двадцать восемь минут, на самом северном тропике и, приблизительно, в двадцати лигах от острова. Здесь простояли мы тринадцать дней и стали уже сильно беспокоиться о моем друге Виллиаме, так как они обещали вернуться через четыре дня, что легко могли выполнить. Как бы то ни было, к концу этих тринадцати дней увидали мы, что прямо на нас идут три паруса. Это сперва несколько удивило нас, так как не знали мы, в чем тут дело. Мы стали уже готовиться к обороне, но, когда суда подошли ближе, мы успокоились, так как на первом же ехал Виллиам, и судно несло белый флаг. Несколько часов спустя они все стали на якорь, и Виллиам приехал к нам на маленькой лодке в обществе китайского купца и двух других купцов, которые служили остальным чем-то вроде посредников. Тут пересказал он нам, как учтиво обходились с ним, как обращались с ним со всей возможной откровенностью и чистосердечием; как не только заплатили ему полную цену за пряности и другие товары, которые он привез, золотом и полным весом *["790], но и снова нагрузили судно такими товарами, за какие, как он знал, мы охотно будем торговать, и что впоследствии они решили вывести большой корабль из гавани, стать на якорь возле нас, чтобы мы, таким образом, могли, торговать с большим удобством. Только Виллиам сказал, что от нашего имени обещал не применять против них никакого насилия и не задерживать ни одного корабля после того, как мы кончим торговать. Я сказал, что мы постараемся превзойти их учтивостью и не нарушим ни малейшей части его соглашений. В подтверждение этого я приказал в ответ им выкинуть белый флаг на корме нашего большого корабля, что являлось условленным знаком. Что до третьего пришедшего с ними корабля, то это была какая-то местная барка. Там прослышали о том, что мы собираемся торговать, и явились завязать с нами сношения. Барка была нагружена большим количеством золота и съестными припасами, которым мы в эту пору очень обрадовались. Коротко говоря, мы торговали в открытом море с этими людьми и, право, сделали превыгодное дело, хотя и продавали все по пиратской дешевке. Здесь продали мы приблизительно шестьдесят тонн пряностей, — главным образом гвоздики и мускатного ореха, — и более двухсот кип европейских товаров, таких, как полотняные и шерстяные изделия. Мы считали, что и сами можем воспользоваться подобным добром, и потому удержали для собственного употребления изрядное количество английских изделий, полотна, байки *["791] и так далее. Я не стану вдаваться здесь, когда мало осталось мне места, в подробности о нашей торговле. Достаточно упомянуть, что, кроме пачки чая и двенадцати кип прекрасных китайских шелковых тканей, мы не взяли за свои товары ничего, кроме золота. Так что общий итог того, что мы набрали здесь в этом блестящем металле, превышал пятьдесят тысяч унций полного веса. Закончивши торг, мы отпустили заложников и преподнесли трем купцам около двенадцати центнеров мускатного ореха и столько же гвоздики, и приличное количество европейского полотна, и шерстяных тканей для личного их пользования в виде вознаграждения за то, что мы у них забрали. Так ушли они от нас более чем удовлетворенные. Здесь-то Виллиам рассказал мне, что на японском корабле повстречался он с каким-то монахом или японским священником, который обратился к Виллиаму с несколькими английскими словами. Когда Виллиам настойчиво стал у него допытываться, откуда он знает эти слова, тот сказал, что у него на родине тринадцать англичан. Он назвал их англичанами очень членораздельно и определенно, так как многократно и свободно беседовал с ними. Священник сказал, что это все, что осталось от тридцати двух людей, попавших на северные берега Японии благодаря тому, что однажды, в бурную ночь, они налетели на большую скалу и лишились судна, а остальные люди потонули. Священник убедил повелителя той страны послать лодки на остров, где погибло судно, чтобы спасти уцелевших людей и перевезти их на берег. Это было сделано, и с ними обошлись очень мягко, построили им дома и предоставили им пахотной земли для обработки. И так они живут своим трудом. Я спросил у Виллиама, почему не узнал он у священника, откуда эти люди. — Я спрашивал, — сказал Виллиам, — ведь и мне было достаточно странно, — сказал он, — услыхать об англичанах на севере Японии. — Ну, — сказал я, — что же он рассказал об этом? — Рассказал такое, — сказал Виллиам, — что удивит тебя, да и не тебя одного, а всех, кто бы ни услыхал об этом. Думается, что и ты, узнавши это, захочешь отправиться в Японию и разыскать их. — Что же ты подразумеваешь под этим? — сказал я. — Откуда могли они прибыть? — Да, — сказал Виллиам, — он вытащил книжку, а из нее кусочек бумаги, на которой было написано рукой англичанина и вполне правильно по-английски вот что. Я сам прочитал это: «Мы прибыли из Гренландии и с Северного полюса *["792]». Это, действительно, поразило нас всех и еще более тех моряков из наших, кто хоть что-нибудь знал о бесконечных попытках, производившихся из Европы одинаково англичанами и голландцами, разыскать подобный проход в эту часть света *["793]. Так как Виллиам стал серьезно настаивать на том, чтобы двинуться на север, на помощь этим беднягам, то корабельный экипаж стал склоняться к этому же. Словом, мы все сошлись на том, чтобы двинуться к берегу Формозы, снова разыскать этого священника и разузнать обо всем у него подробнее. Согласно с этим шлюп двинулся в путь. Но когда он добрался туда, корабли, к великому сожалению, уже ушли, и так был положен конец нашим поискам англичан. Возможно, что это лишило человечество одного из самых замечательных открытий, какие когда-либо были сделаны или когда-либо будут сделаны на земле для всеобщего блага. Виллиам так огорчился потерей этой возможности, что серьезно стал убеждать нас отправиться в Японию разыскивать тех людей. Он говорил, что если даже только освободить тринадцать честных несчастливцев из своеобразного плена, из которого им иным путем никогда не вырваться и в котором они, может быть, когда-нибудь будут убиты дикарями-идолопоклонниками, то и этим одним мы сделаем доброе дело, могущее еще явиться искуплением причиненного нами миру зла. Но покуда мы еще не знали, что значит угрызения совести из-за сделанного зла, и еще меньше было у нас забот о том, чем его искупить. Словом, Виллиам быстро понял, что такого рода убеждения мало на нас подействуют. Тогда он очень серьезно принялся уговаривать нас, чтобы мы отдали ему шлюп, и он отправится тогда за собственный страх. Я обещал ему, что не буду противиться его намерениям. Но когда он перешел на шлюп, никто из экипажа за ним не последовал, ибо дело было вполне ясно: у каждого имелась своя доля, как в грузе большого корабля, так и в грузе шлюпа, и богатство это было настолько огромно, что никто и нипочем не согласен был бросить его. Так бедняга Виллиам, к великому своему огорчению, должен был оставить эту затею. Что сталось с теми тринадцатью людьми, и там ли они еще, я сказать не могу. Мы дошли уже до конца нашего путешествия. Захвачено нами было столько, что не только самые скупые и самые тщеславные души на свете были бы удовлетворены этим, но и мы были действительно удовлетворены, и наши заявили, что большего не желают. Следующим поэтому вопросом было, как возвратиться и каким путем пройти нам, чтобы голландцы не напали на нас в Зундском проливе. Здесь мы как следует запаслись съестными припасами, и, так как близко намечался поворот муссонов, мы решили взять к югу и не только пройти, минуя Филиппины, то есть к востоку от них, но и затем по-прежнему держать к югу и попытаться оставить за собою не только Молуккские, или Пряные, острова, но также и Новую Гвинею и Новую Голландию *["794]. И таким образом, попавши в переменные ветры, к югу от тропика Козерога, мы направимся на запад через большой Индийский океан. Действительно, сперва это показалось чудовищным путешествием, и грозила нам недостача съестных припасов. При этом Виллиам многословно объяснял нам, что мы не в состоянии взять для такого путешествия достаточно съестных припасов, а особенно пресной воды. И раз не будет на пути земли, к которой мы сможем пристать, чтобы обновить запасы, то безумие — предпринимать это путешествие. Но я решил поправить эту беду и потому просил их об этом не тревожиться, так как знал, что мы можем запастись всем, что нужно, на Минданао, самом южном острове Филиппин. Сообразно с этим мы, набравши здесь столько съестных припасов, сколько могли достать, двадцать восьмого сентября поставили паруса, при чем ветер сначала немного колебался от северо-северо-востока до северо-востока через восток, но впоследствии утвердился между северо-востоком и северо-востоко-востоком. Так шли мы в продолжение девяти недель, так как непогода неоднократно мешала нашему продвижению вперед, и остановились с подветренной стороны у островка на широте в шестнадцать градусов двенадцать минут; названия островка мы никогда так и не узнали, так как ни на одной из наших карт он не был помечен. Остановились мы здесь, говорю я, из-за страшного шквала или урагана, навлекшего на нас изрядную опасность. Здесь продрейфовали мы, приблизительно, шестнадцать дней, так как ветры были очень бурные и погода неопределенная. Как бы то ни было, на берегу раздобылись мы кое-какими съестными припасами, травами и кореньями и несколькими свиньями. Мы думали, что на острове есть обитатели, но не видели ни одного. Как только погода выровнялась, мы тронулись отсюда дальше и прошли к южной части Минданао, где погрузили пресной воды и несколько коров. Но так как климат был здесь очень жарок, мы не стали засаливать мяса больше, нежели на две или на три недели. Мы направились далее на юг, пересекши экватор и оставляя Джилоло под штирбортом, и прошли вдоль побережья, которое называют Новой Гвинеей, где на южной широте в восемь градусов снова пристали к берегу в поисках съестных припасов и воды. Тут обнаружили мы кое-какое население, но туземцы бежали от нас и в отношения не вступали. Отсюда мы все еще держали курс на юг и оставили за собой все, о чем хоть как-нибудь упоминали наши карты и планы, и шли далее, покуда не добрались до широты в семнадцать градусов, при чем ветер все еще дул с северо-востока. Здесь мы к западу увидели землю, и, так как в течение трех дней подряд она не исчезала из наших глаз, в то время как мы шли в четырех, приблизительно, лигах от берега, мы стали беспокоиться, будет ли вообще выход на запад, или мы окажемся вынуждены повернуть назад и под конец оказаться среди Молуккских островов. Но, наконец, земля исчезла, и под всеми парусами мы вышли в западное море, широко открытое на юг и на юго-запад. С юга катились большие волны, из чего мы заключили, что на большое расстояние не имеется там земли *["795]. Словом, мы продолжали наш курс на юг и слегка к западу, покуда не пересекли южный тропик, где уже ветры оказались переменными. Тут мы направились прямо на запад и так шли, приблизительно, двадцать дней, покуда не увидали землю прямо перед собою и под бакбортом. Мы направились прямо к берегу, желая использовать каждую представляющуюся возможность запастись свежими съестными припасами и водою, ибо знали, что теперь вступаем в обширный неизвестный Индийский океан, быть может, величайший океан на всем земном шаре, ибо перед нами лишь изредка прерываемое островами море, которое опоясывает весь земной шар *["796]. Здесь мы нашли хороший рейд и людей на берегу. Но когда мы высадились, они убежали в глубь страны и не желали ни завязывать с нами какие-либо отношения, ни подходить к нам, — лишь многократно пускали в нас стрелы длиной с копье. Мы выкинули белый флаг мира, но они или не поняли этого, или не пожелали понять. Наоборот, они многократно пробивали своими стрелами наш мирный флаг, так что, словом, нам так и не удалось приблизиться к ним. Здесь мы нашли хорошую воду, хотя было несколько затруднительно добраться до нее, но никаких живых существ мы не видели. Увидавши, что туземцы так робки, что не смеют приблизиться к нам, наши стали шарить по острову, — если это был действительно остров (ибо нам не пришлось обойти его) *["797], — в поисках скота и индийских плантаций с овощами и плодами. Но они вскоре убедились на собственном опыте, что в этом деле нужно применять больше осторожности и что нужно тщательно обыскать каждое дерево и каждый куст, прежде, нежели двигаться дальше в глубь страны. Так, в один прекрасный день, приблизительно, четырнадцать из наших товарищей зашли дальше остальных в глубь страны, казавшейся им возделанной. Но она только казалась такой, в действительности же была покрыта камышом, таким, из какого мы делаем камышовые стулья. Когда они зашли слишком далеко, говорю я, на них внезапно, почти со всех сторон, был обрушен поток стрел, которые были пущены, как они решили, с вершин деревьев. Им не оставалось ничего иного, как только бежать, на что, однако, они не осмелились, покуда пятеро из них не были ранены. Да они бы и не спаслись, если бы один из них, более разумный или сообразительный, не рассудил таким образом: хотя врага и не видно и, казалось, стрелять по нем бесполезно, все же, быть может, шум от стрельбы устрашит его, и поэтому нужно было попробовать стрелять наугад. Сообразно с этим десятеро из них обернулись и принялись стрелять наугад, куда попало, по камышам. Не только шум и огонь устрашили врага, но, видимо, выстрелы, к счастью, попали кое в кого, ибо, как заметили наши, стрелы, прежде летевшие густо, перестали лететь, и индийцы, — услыхали они, — перекликаются на свой лад и издают странные звуки, более нелепо и неподражаемо странные, чем все, что наши слыхивали прежде. Звуки эти более походили на вой и лай диких лесных зверей, нежели на людские голоса; только подчас казалось, что они произносят слова. Заметив, что производимый индийцами шум все отдаляется, они были убеждены, что индийцы бежали, и не стали утруждать себя дальнейшими расследованиями и отступили. Но худшее из их приключений было еще впереди. На обратном пути им пришлось проходить мимо какого-то особого огромного старого дерева. Что это за дерево, они не знали, но стояло оно подобно старому мертвому дубу в парке, где английские лесничие делают так называемую стоянку, чтобы подстрелить оленя. И стояло это дерево как раз у самого ската большой скалы или холма, так что наши не могли видеть, что находится позади него. Когда дошли они до этого дерева, на них внезапно с древесной вершины было выпущено семь стрел и три копья, которые, к великому нашему горю, убили двух наших и ранили еще троих. Нападение это потому еще было таким внезапным, что, будучи совершенно беззащитны и так близко от деревьев, наши ожидали каждое мгновение новых копий и стрел, да и бегство не помогло бы им, так как индийцы целились, как видно, отменно метко. Но в этой крайности, к счастью, у них сохранилось присутствие духа, а именно для того, чтобы подбежать к самому дереву и стать под ним так, что находившиеся наверху не могли ни увидеть их, ни метать в них копья. Это удалось и дало им время, чтобы обдумать, что предпринять дальше. Они знали, что их враги и убийцы находятся наверху, слышали, как они разговаривают, и те вверху знали, что наши внизу; наши же внизу вынуждены были плотно прижиматься к стволу, чтобы избежать копий сверху. Наконец, одному из наших, вглядывавшемуся более внимательно, чем остальные, показалось, что он различил голову одного из индийцев как раз над мертвой ветвью дерева, на которой, очевидно, тот сидел верхом. Один из наших немедленно выстрелил и так притом удачно прицелился, что пуля пробила индийцу голову; он немедленно свалился с дерева, при чем с такой силой, что не будь он убит выстрелом, он наверняка бы расшибся насмерть с такой высоты: так сильно тело его ударилось о землю. Это так напугало индийцев, что наши люди услыхали, помимо воющих звуков, раздававшихся на дереве, странный топот в самом стволе, из чего заключили, что индийцы выдолбили дерево и теперь попрятались в нем. А раз дело обстояло так, то они — в полной безопасности от наших, так как наши никак не могли взобраться на дерево снаружи, ибо не было на нем ветвей для того, чтобы вскарабкаться, а стрелять в дерево оказалось бесполезно, так как ствол был настолько толст, что пуля его не пробивала. Однако наши не сомневались в том, что захватили врагов в ловушку и что небольшая осада либо уничтожит их вместе с деревом, либо же заморит их голодом. Поэтому они решили остаться на карауле и послать за нами на подмогу. Сообразно с этим двое из них отправились к нам за помощью и особенно просили, чтобы пришли плотники с инструментами, которыми помогли бы либо срубить дерево, либо же, по меньшей мере, срубить другие деревья и поджечь это, что, как заключали наши, неизбежно выгонит из него индийцев. Наши явились целым отрядом и с мощными приготовлениями для того, чтобы осадить большое дерево. Явившись туда, они увидели, что дело это трудное, ибо старый ствол очень толст и очень высок, не менее двадцати двух футов вышиною, и семь старых ветвей торчало в разные стороны с вершины, но ветви были гнилые и почти без листьев. Виллиам-квакер, из любопытства подошедший на это дело с остальными, предложил сколотить лестницу, взобраться по ней на вершину дерева, бросить туда греческий огонь *["798] и выкурить индийцев. Иные предлагали возвратиться, притащить с корабля пушку и железными ядрами разбить дерево в щепы. Иные — нарубить дров, обложить ими со всех сторон дерево, запалить и тем сжечь дерево и индийцев в нем. Этот вопрос обсуждался нашими в течение не менее двух или трех дней. И все это время не слышали ни звука от предполагаемого гарнизона этого деревянного замка и вообще не слыхали никакого шума внутри. Сперва согласились с предложением Виллиама и сколотили большую крепкую лестницу, чтобы взобраться на эту деревянную башню. В два или три часа все уже было готово для подъема. И как раз в это время индийцы вновь зашумели в древесном стволе, и скоро большое количество их появилось на верхушке дерева и стало метать в наших копья. Одно копье вонзилось одному из наших моряков в плечо и нанесло ему такую тяжелую рану, что не только лекари с большими трудностями вылечили ее, но бедняга испытывал такие ужасные муки, что, по общему нашему мнению, лучше было бы, если бы сразу убили его. Правда, его все же вылечили под конец, но владеть рукой в совершенстве он больше не мог, так как копье перерезало какие-то сухожилия близ плеча, прежде приводившие, как я предполагаю, руку в движение. Так бедняга и остался калекой на всю свою жизнь. Но вернемся к отчаянным негодяям в дереве. Наши стреляли в них, но, видимо, не ранили ни одного, ибо, как только раздались выстрелы, наши услыхали, как те снова бросились в свое дупло и там, понятно, оказались в безопасности. Но, как бы то ни было, это обстоятельство принудило отказаться от плана Виллиама воспользоваться лестницей, ибо кто бы решился после того, как ее сколотят, лезть навстречу шайке таких смелых людей, как эти индийцы, к тому же доведенных теперь обстоятельствами до полного бешенства. И так как зараз мог подниматься только один человек, то наши, решили, что с лестницей ничего не выйдет. Да и я сам был того же мнения (к этому времени я явился к ним на помощь), что взбираться по лестнице не годится, разве только за тем, чтобы человек, взбежавший по ней до верхушки дерева, бросил в ствол греческий огонь и тут же сбежал бы вниз. Это мы и проделали несколько раз, но результатов от этого никаких не получилось. Наконец один из наших пушкарей сделал смрадный горшок, как мы его называли, то есть составил смесь, которая только дымит, но не горит и не пылает, но дым которой так густ и запах так непереносимо тошнотворен, что выдержать его нельзя *["799]. Этот горшок он бросил в ствол, и мы стали ожидать последствий, но во всю эту ночь и весь следующий день ничего не слышали и не видели. Из этого мы заключили, что люди внутри задохлись. Но на следующую ночь неожиданно услыхали, что индийцы снова кричат и ревут, как сумасшедшие, сидя на верхушке дерева. Мы заключили из этого, как и всякий решил бы, что они призывают на помощь, и потому решили продолжать нашу осаду, ибо все были донельзя взбешены тем, что горсточка каких-то дикарей, которых, казалось нам, мы крепко держим в тисках, издевается над нами. Да и действительно, ни в одном случае не бывало стечения обстоятельств, так сбивающего людей и, как бы то ни было, мы решили на следующую ночь пустить в ход еще один смрадный горшок, и наш изобретатель и пушкарь его изготовил. Но я услыхал, что враг шумит на верхушке дерева и в стволе, и не позволил пушкарю взбираться по лестнице, так как это значило бы идти на верную смерть. Как бы то ни было, пушкарь нашел выход из положения: поднявшись на несколько ступенек при помощи длинного шеста он задумал швырнуть горшок на верхушку дерева; лестница же все это время стояла прислоненной к верхушке дерева. Но когда пушкарь, окончив свое дело, подошел к дереву, держа горшок на конце шеста, вместе с тремя еще людьми для подмоги, — лестницы не оказалось. Это совершенно озадачило нас, и мы заключили, что индийцы, сидевшие в дереве, воспользовавшись нашей небрежностью, спустились по лестнице, убежали и унесли лестницу с собой. Я искренно смеялся над моим другом Виллиамом, который, как я говорил, руководил осадой и подставил как будто нарочно лестницу для того, чтобы помочь гарнизону, как мы прозвали индийцев, убежать. Но, когда рассвело, мы обнаружили, в чем дело. Лестница наша была здесь, но она была вздернута на верхушку дерева, и половина, приблизительно, была засунута в полный ствол, а вторая половина торчала в воздухе на весу. Тогда мы стали высмеивать глупость индийцев, которые не сумели сойти по лестнице и убежать иным способом, как только силой втащивши лестницу в дерево. Тогда мы решили прибегнуть к огню и разом положить конец всему делу тем, чтобы сжечь дерево вместе с его обитателями. С этой целью мы принялись за рубку дров и в несколько часов набрали их, как нам казалось, достаточно. Наваливши дров вокруг подножья дерева, мы подпалили их и в отдалении стали дожидаться, когда этим господчикам станет слишком жарко на квартире и они будут вынуждены выбежать из своей крепости. Но нас совершенно озадачило то, что внезапно весь костер потух, так как на него было выплеснуто большое количество воды. Тут же мы решили, что в индийцах наверняка сидит сам черт. А Виллиам сказал: — Это, наверное, самый искусный образчик строительного искусства индийцев, и все это можно объяснить только одним способом, если не прибегать к колдовству и сношениям с дьяволом, в которые я не верю, — говорит он. — По-видимому, дерево это искусственно выдолблено до самой земли сквозь корни и все прочее, и у этих тварей должна быть искусственная пещера под деревом, в самом холме, или же проход через него, ведущий в какое-нибудь место. А где это место находится, мы не знаем. Но если только наши мне не помешают, я обнаружу его и последую туда за индийцами, прежде чем стану двумя днями старше. Тогда он позвал плотников и спросил их, имеются ли у них пилы такой длины, чтобы можно было пропилить ствол. Они сказали, что таких длинных пил у них нет, да и вообще люди не в силах далеко пропилить столь чудовищный старый ствол. Но они могут взяться за него топорами и берутся в два дня срубить его, и еще через два дня выкорчевать корень. Но Виллиам стоял за иной способ, оказавшийся много лучше этого. Он хотел бесшумной работы, чтобы, если только возможно, поймать в дереве хотя бы несколько индийцев. Поэтому он поручает двенадцати парням, вооруженным большими сверлами, пробуравить в стволе большие дыры, проходящие почти насквозь, но не совсем насквозь. Эти дыры были пробуравлены бесшумно, а когда они были закончены, Виллиам наполнил их порохом и забил в дыры накрест большие жеребейки, а затем, пробуравив подводную набитую порохом дыру, по взорвал их все одновременно. Вспыхнули они со страшным шумом и разорвали и расщепили дерево в стольких местах, что ясно стало, что еще один подобный взрыв — и все дерево будет уничтожено. Так оно и оказалось. Уже после второго раза мы смогли в двух или трех местах просунуть руки и обнаружить весь обман, а именно, что в земле была прорыта пещера или проход, который и сообщался с другою пещерой подальше. Там мы услыхали голоса дикарей, переговаривавшихся и перекликавшихся между собою. Раз уже забрались мы так далеко, нам очень хотелось добраться до самих индийцев, и Виллиам попросил дать ему трех людей с ручными гранатами и обещал спуститься в пещеру первым, и смело пошел, ибо Виллиам, нужно воздать ему должное, обладал большим мужеством. У спускавшихся были в руках пистолеты и сабли на боку. Но, как прежде проучили мы индийцев своими смрадными горшками, так теперь отплатили они нам на соответствующий лад. Они напустили такого дыма из входа в пещеру, что Виллиам и трое шедших с ним людей рады были выбежать не только оттуда, но и из самого дерева, для того чтобы только передохнуть. В самом деле, они почти задохлись. Никогда так хорошо не оборонялась крепость и так основательно не бывали отбиты атаки. Мы теперь хотели уже бросить это дело, и, в частности, я позвал Виллиама и сказал ему, что попросту смешно, что мы здесь тратим время на пустое занятие; что я даже не понимаю, что мы здесь делаем; что, явно, спрятанные там негодяи хитры до последней степени; что, понятно, всякий взбесится оттого, что его так надувает несколько голых дикарей; но все же смысла не имеет продолжать возиться далее, да и вообще я не представляю себе, чтобы мы что-нибудь выиграли, если даже и победим их, и потому я считаю, что пора бросить это. Виллиам признал, что все мною сказанное справедливо и что дальнейшие попытки могут вознаградить только наше любопытство, и хотя, как сказал он, ему очень хочется довести дело до конца, он все же настаивать не будет. Потому мы решили бросить это дело и уходить, что и выполнили. Как бы то ни было, перед тем, как мы ушли, Виллиам сказал, что должен рассчитаться с ними за свои труды, а именно — сжечь дерево и завалить вход в пещеру. А покуда он занимался этим, пушкарь сказал ему, что и ему тоже хочется посчитаться с негодяями; его счеты состояли в том, что он заложит пороховой подкоп и посмотрит, что из этого выйдет. С этими словами он принес из корабельных запасов два барреля пороху и поместил их в глубине пещеры; плотно закупоривши ее, он оставил лишь маленький проход или запал, затем поджег порох и стал в отдалении, чтобы поглядеть, в каком направлении пойдет взрыв. И тут внезапно увидал он, что пороховой удар вырвался между какими-то кустами по той стороне упомянутого мною холмика и вырвался оттуда с грохотом, точно из пушечного жерла. Мы немедленно побежали туда и увидели, что натворил порох. Прежде всего, там мы увидели второй выход пещеры. Взрыв так разрушил и расширил его, так навалилась рыхлая земля, что ничего нельзя было разобрать. Но мы разглядели все же, что осталось от гарнизона индийцев, наделавших нам столько хлопот: у некоторых не было рук, у некоторых — ног, у некоторых — головы; некоторые лежали полузарытые в щебне порохового подкопа, то есть в завалившейся рыхлой земле. Коротко говоря, мы причинили им основательные разрушения. И мы могли с полным основанием считать, что ни один из бывших внутри индийцев не мог спастись, разве что был выброшен из пещеры, как ядро из пушки. Теперь мы полностью свели счеты с индийцами. Но, в сущности говоря, мы на этом деле потеряли, так как у нас двое было убито, один почти калека и еще пятеро ранено; мы истратили два барреля пороха и одиннадцать дней, и все для того только, чтобы узнать, что такое индийский подкоп, или как держать гарнизон в выдолбленном дереве. С этим опытом, приобретенным столь дорогой ценой, двинулись мы прочь, набравши пресной воды, но не найдя свежих съестных припасов. Затем мы стали соображать, что нам делать для того, чтобы вернуться на Мадагаскар. Мы находились почти что на широте мыса Доброй Надежды, но предстоял нам еще столь долгий переход, что, без попутного ветра или земли по пути, неизвестно, можно ли было бы его предпринять. Опять Виллиам оказался последним нашим прибежищем в этом деле, и говорил он очень ясно: — Друг, — говорил он мне, — с какой радости тебе идти на голодную смерть ради одного удовольствия похвастать, что ты был там, где не бывал никто прежде? Ближе к родине достаточно мест, которыми можно точно так же похвастать, и достичь которых можно с меньшим трудом. Не понимаю, зачем тебе идти дальше на юг, раз уж ты находишься западнее Явы и Суматры. А тут ты можешь повернуться к северу на Цейлон и Коромандальское побережье, и к Мадрасу, где можно достать и пресной воды и свежих съестных припасов. А к этим местам мы, вполне вероятно, можем добраться с теми запасами, которые у нас уже есть. Совет этот был здравый, и пренебрегать им нельзя было. Так мы и взяли курс на запад, держась между тридцать первым и тридцать пятым градусами широты. В продолжение десяти дней стояла превосходная погода, и дул попутный ветер. К этому времени, по нашим расчетам, мы совершенно отошли от островов и могли уже повернуть на север; если при этом мы не попали бы на Цейлон, то, во всяком случае, вышли бы в большой и глубокий Бенгальский залив. Но мы сильно ошиблись в своих расчетах, ибо, пройдя прямо к северу, приблизительно, на пятнадцать или шестнадцать градусов, мы снова увидали на штирборте землю, на расстоянии трех лиг. Поэтому мы стали на якорь в полулиге от этой земли и выслали лодки посмотреть, что это за местность. Местность оказалась прекрасная; пресную воду можно было достать без труда, но ни скота, ни обитателей не было видно, а слишком далеко забираться в поисках за ними мы не решались, чтобы не повторилось такое же путешествие, как в прошлый раз. Поэтому мы не стали шататься зря, набрали все, что могли найти, — а нашли только всего несколько плодов дикого мангового дерева *["800] и какие-то растения, названий которых не знали. Мы здесь не остановились и снова вышли в море, держа на северо-запад через север; но после двухнедельного пути под слабым ветром мы снова завидели землю. Мы направились к берегу и были изумлены тем, что оказались на южном побережье Явы. А как раз когда мы бросали якорь, мы увидели, что вдоль берега идет корабль под голландским флагом. Мы не испытывали особого желания встречаться с ним, как и с другими кораблями той же национальности, и предоставили нашим людям, выходившим на берег, на собственное усмотрение — встречаться ли с голландцами или нет. Наше дело было добыть съестных припасов, которых в это время у нас действительно оставалось уже мало. Мы решили отправить людей на берег в самом подходящем месте, какое нам удастся найти, и поискать гавани, куда можно было бы ввести наш корабль, не мало заботясь о том, кого мы повстречаем — друзей или врагов. Как бы то ни было, решили мы оставаться здесь лишь незначительный срок, за время которого, во всяком случае, нельзя будет послать нарочных в Батавию и вызвать оттуда суда для борьбы с нами. Мы нашли, где и желали, превосходную гавань, где стояли на глубине семи фазомов, совершенно укрытые от любой непогоды, какая может приключиться. Здесь добыли мы свежие съестные припасы — хороших свиней и несколько коров. Для того чтобы образовать себе некоторый запас, мы зарезали шестнадцать коров, засолили их и разложили по бочонкам, выполняя это так хорошо, как только возможно проделать такую работу на широте в восемь градусов от экватора. Приблизительно в пять дней управились мы с этим делом и наполнили бочки водою; когда последняя лодка возвращалась с берега, везя травы и коренья, мы уже подняли якорь на корабле, и передний марсель уже был поставлен для отплытия. Но тут мы заметили на севере большой корабль, направляющийся прямо на нас. Мы не знали, кто это, но приготовились к худшему и заторопились, сколько возможно, скорее убрать якорь и сойти со стоянки, чтобы в полной готовности встретить врага. Надо сказать, что особенно мы не боялись одного корабля, а ожидали, что на нас нападут три или четыре сразу. К тому времени, как мы убрали якорь и укрепили лодку, корабль находился уже в лиге от нас и шел, как мы думали, для того, чтобы завязать с нами бой. Поэтому мы выкинули на корме черный флаг, а на верхушке грот-мачты — кровавый *["801] и, будучи вполне готовы ко всему, двинулись на запад, чтобы стать с наветренной стороны корабля. Оказалось, что люди с корабля, видимо, сильно обманывались в представлении о нас, так как отнюдь не ожидали встретить в этих морях врага или пирата. Поэтому они немедленно, взявши круто к ветру, переменили галс и пошли прямо к берегу, по направлению к восточной оконечности острова. Тогда и мы переменили галс и под всеми парусами, какие могли поднять, пошли за кораблем и через два часа оказались на расстоянии почти пушечного выстрела от него. Хотя на корабле подняли все паруса, какие только было возможно, единственным исходом было завязать с ними бой; но они скоро увидали, насколько слабее нас. Мы выпалили из пушки, чтобы положить их в дрейф, после они спустили лодку и отправили ее к нам под белым флагом. Лодку мы отослали назад, но с поручением сказать капитану, что ему ничего не остается делать, как только остановиться и встать на якорь у нас под кормою, а самому явиться к нам на корабль и выслушать наши требования, и что, раз они не принуждают нас брать их силою, — что, как всякому видно, нам сделать легко, — мы заверяем, что капитан возвратится в целости и сохранности, так же, как и весь его экипаж, и корабль не будет разграблен, если мы получим все, чего потребуем. Лодка возвратилась с этим поручением, и прошло довольно много времени, а корабль все еще не останавливался. Мы решили поэтому, что они отказываются от наших условий, и потому выстрелили еще раз и увидали несколько минут спустя, что от корабля опять отходит лодка. Как только лодка отошла, корабль остановился и стал на якорь так точно, как мы приказали. Когда капитан оказался у нас на борту, мы осведомились, каков у него корабельный груз; он оказался состоящим главным образом из тюков с товарами, которые шли из Бенгалии в Бантам *["802]. Мы сказали, что в настоящее время нуждаемся в съестных припасах, которые им не нужны, так как их путешествие уже кончается, и что если они пошлют на берег свою лодку совместно с нашими и доставят нам двадцать шесть голов крупного скота, шестьдесят свиней, некоторое количество брэнди и арака *["803] и триста бушелей *["804] риса, то мы их отпустим. Что до риса, его передали нам шестьсот бушелей, так как они везли, как оказалось, не только ткани. Сверх того, дали они нам тридцать бочонков превосходного крепкого арака; но ни говядины, ни свинины у них не было. Однако, несмотря на то, они отправились на берег вместе с нашими и купили одиннадцать буйволов и пятьдесят свиней, которых для нас нарочно засолили. Получивши эти припасы с берега, мы отпустили людей и их корабль. Здесь мы провели много дней, покуда удалось нам погрузить все полученные съестные припасы, и кое-кому из наших почудилось, что голландцы замышляют погубить нас. Но люди с корабля оказались очень честными и изо всех сил старались снабдить нас крупным скотом. Но, обнаруживши, что невозможно достать такое количество, они явились и простодушно сказали, что могут доставить быков и коров сверх этих одиннадцати, только мы если останемся здесь еще на некоторое время. И мы были вынуждены удовлетвориться наличным скотом, и предпочли получить стоимость их другими товарами, только бы дольше не оставаться здесь. Со своей стороны мы точно соблюли все условия, о которых уговорились, и не позволяли никому из наших ходить к ним на корабль и никого из них не пускать к себе, ибо, попади кто из наших к ним, никто не смог бы отвечать за его поведение, точно так же, как если бы, например, он высадился на берег какой-нибудь враждебной страны. Теперь съестных припасов для путешествия у нас было достаточно, и так как барышей мы в виду не имели, то бодро двинулись к берегам Цейлона, где думали пристать и набрать пресной воды и еще съестных припасов. В этой части нашего путешествия с нами не приключилось ничего существенного, кроме того, что встретились нам противные ветры. Больше месяца провели мы в пути. Мы пристали к южному берегу острова, так как предпочитали иметь возможно меньше дела с голландцами. А голландцы — здесь хозяева не только по тамошней торговле, но и всего морского побережья, на котором у них много фортов. В частности, в голландских руках вся торговля корицей, которою торгует остров. Здесь мы набрали пресной воды и кое-каких съестных припасов, но не очень беспокоились на этот счет, ибо покуда ушла у нас только небольшая часть полученных на Яве говядины и свинины. Была у нас на берегу небольшая ссора кое с кем из островитян, так как несколько наших позволили себе некоторые вольности с местными неотесанными дамами. А были они неотесанны, действительно, настолько, что, не будь у наших большая охота по этой части, они вряд ли тронули бы этих женщин. Нам толком не удалось узнать от наших, что они натворили, так как они покрывали грешки друг друга, но, в общем, совершили они, должно быть, что-то чудовищное и должны были дорого за это поплатиться, так как туземцы до последней степени были возмущены и стали собираться вокруг наших, и перерезали бы всех, если бы не пришла вовремя помощь. Дело в том, что островитян было не менее двух или трех сотен, и все они были вооружены своим обычным оружием: пиками и метательными копьями, которые мечут они ловко. И если бы наши попытались сражаться с туземцами, на разговоры о чем у них хватило храбрости, то наших одолели бы и перебили. Да и там семнадцать наших было ранено, и некоторые очень опасно. Но они оказались более напуганными, нежели ранеными, так как каждый считал себя уже конченным и полагал, что копья отравлены. Но Виллиам и здесь оказался нам в подмогу, ибо, в то время как два наших лекаря сказали сдуру раненым, что они умрут, Виллиам благодушно принялся лечить их и вылечил всех, кроме одного. Да и тот умер не от раны, а скорее от аракового пунша: он перепился до горячки. Таким образом, на Цейлоне мы натерпелись достаточно, хотя некоторые из наших стояли за то, чтобы вернуться на берег вшестидесятером или восьмидесятером и отомстить. Виллиам же убедил их не делать этого, а экипаж считался с ним так же, как и мы, офицеры, ибо у него было больше влияния, чем у кого-либо из нас. Наши очень горячо настаивали на мести и непременно хотели сойти на берег и перебить сотен пять туземцев. — Ну, — сказал Виллиам, — предположим, вы сделаете это. Чем станет вам от этого лучше? — Да как же, — сказал один из них от имени остальных, — мы с ними сведем счеты. — Ну, а чем вам от этого лучше станет? — сказал Виллиам. На это они ничего ответить не могли. — Так вот, — сказал Виллиам, — если я не ошибаюсь, то ваша цель — деньги. Ну-с, объясните мне, пожалуйста, если вы победите и перебьете две или три тысячи этих несчастных, у которых денег нет, так что, скажите на милость, вы на этом заработаете? Они голые, жалкие дикари, и какая вам от них может быть польза? Ну, а к тому же, — прибавил Виллиам, — в этом предприятии вы легко можете потерять добрый десяток товарищей; да, даже наверняка потеряете. Скажите на милость, какая в этом польза, и как отчитаетесь вы перед капитаном в людях, которых он лишится? Коротко говоря, доводы Виллиама были так рассудительны, что он убедил всех в том, что они замышляют самое обыкновенное убийство; что у каждого человека есть право на свою собственность, и никто не имеет права отнять ее у него; что это будет избиением неповинных людей, поступавших только так, как велели им законы природы, и что поступить так было бы таким же убийством, как скажем, повстречавши человека на большой дороге, хладнокровно, ради самого убийства, уничтожить его, независимо от того, причинил ли он нам хоть какой-нибудь вред или не причинил. Эти доводы, наконец, убедили наших, и они согласились уйти и оставить туземцев в покое. При первой стычке наши убили от шестидесяти до семидесяти туземцев и ранили еще много больше, но у туземцев ничего не было, и наши ничего не приобрели, кроме того, что одного нашего убили, а шестнадцать ранили, как сказано выше. Тут кончается моя история о путешествиях в этой части света. Мы вышли в море и некоторое время шли к северу, чтобы попытаться продать наши пряности. Мускатного ореха у нас было очень много, но мы никак не знали, что с ним делать. Мы не смели явиться на английские берега, или, говоря точнее, не смели торговать возле английских факторий. Мы отнюдь не боялись сразиться с любыми двумя кораблями. Кроме того, мы знали, что, раз нет у наших каперских свидетельств *["805] или разрешений от правительства, то вообще не их дело действовать наступательно, да, хотя бы мы и были пиратами. Понятно, если бы мы на них напали, они могли оправдаться тем, что соединились для самозащиты и только помогали друг другу обороняться; но по собственному почину нападать на почти пятидесятипушечный пиратский корабль, каким был наш, ясно, им не полагалось, и, следовательно, нам незачем было думать об этом, а уж тем паче тревожиться. Но, с другой стороны, нас вовсе не устраивало, чтобы нас заметили и чтобы весть о нас пошла от одной фактории к другой, и чтобы мы, каковы бы ни были наши намерения, оказались бы и упрежденными иобнаруженными. Еще менее улыбалось нам быть замеченными среди голландских факторий на Малабарском побережье, так как мы были нагружены пряностями, которые, как полагается в нашем ремесле, мы похитили у голландцев *["806]. Это открыло бы голландцам, кто мы такие, и что мы натворили. И они, без сомнения, всякими способами согласились бы для того, чтобы напасть на нас. Значит, единственным оставшимся у нас путем было идти на Гоа и там, если удастся, продать наши пряности португальским факториям. Сообразно с этим мы направились почти в том направлении, ибо завидели землю за два дня до этого. Оказавшись же на широте Гоа, мы двинулись прямо на Маргаон *["807], в начале Сальсата *["808], по пути в Гоа. Тут я крикнул штурвальным повернуть и приказал лоцману вести корабль на северо-запад, покуда мы не потеряем землю из виду. Тогда мы с Виллиамом созвали совет, как это случалось при важных обстоятельствах, чтобы решить, каким манером нам торговать здесь, чтобы нас не открыли. Наконец мы решили, что туда мы вообще не пойдем, но что Виллиам с экипажем из верных людей, на которых можно положиться, на шлюпе отправится в Сурат, лежавший дальше к северу, и будет там, в качестве купца, торговать с подходящими английскими факториями. Дабы выполнить этот замысел с возможно большими предосторожностями и не навлечь на себя подозрений, мы решили снять со шлюпа все пушки и укомплектовать его только такими людьми, которые пообещают нам не проситься на берег и не вступать ни в какой разговор с тем, кто бы ни появлялся на корабле. Чтобы усовершенствовать задуманное нами, Виллиам натаскал двух наших: одного — лекаря, каким он и был, и другого — сообразительного парня, старого моряка, служившего лоцманом на побережье Новой Англии и бывшего превосходным лицедеем. Их обоих Виллиам одел квакерами и научил разговаривать на квакерский лад. Старого лоцмана он сделал капитаном шлюпа, а лекаря — доктором, кем и был он, а сам стал суперкаргом. В этом обличий, на шлюпе, лишенном каких бы то ни было украшений (да и прежде на нем их было не много) и пушек, он отправился в Сурат. Должен я, понятно, упомянуть, что за несколько дней до того, как мы расстались, мы подошли к лежавшему недалеко от берега песчаному острову, где был хороший глубокий залив вроде рейда; находился остров вне поля зрения факторий, которых здесь был полон берег. Здесь вытащили мы груз из шлюпа и погрузили в него только то, что собирались продавать, то есть, в сущности, только мускатный орех и гвоздику, но главным образом первое. Отсюда Виллиам и два его квакера, с восемнадцатью людьми на шлюпе, двинулись к Сурату и стали на якорь в некотором расстоянии от факторий. Виллиам был так осторожен, что постарался отправиться на берег один, в сопровождении только доктора, как называл своего спутника. Отправились они в лодке, которая подплыла к кораблю для того, чтобы продать рыбу; в лодке все гребцы были местные уроженцы; эту же лодку он потом нанял для того, чтобы вернуться на корабль. Пробыли они на берегу недолго, как им удалось познакомиться кое с какими англичанами, жившими здесь, и, видимо, сперва служившими у Компании, но теперь торговавшими самостоятельно. Доктор познакомился с ними первый и представил им своего друга, суперкарга: мало-помалу купцам сделка пришлась по сердцу так же, как сами торговцы пришлись по вкусу нашим. Только товара оказалось слишком много. Во всяком случае, это обстоятельство не долго затрудняло их; уже на следующий день они включили в сделку еще двух купцов, тоже англичан, и из их разговора Виллиам понял, что ими было решено, в случае покупки, повезти груз для продажи в Персидский залив. Виллиам ухватился за эту мысль и решил, что мы не хуже их можем отвезти туда пряности. Но сейчас дело было не в этом; у Виллиама имелось не менее тридцати трех тонн ореха и восемнадцати тонн гвоздики. Среди ореха было изрядное количество мускатного цвета, но мы не противились тому, чтобы сделать скидку. Короче говоря, они столковались, и купцы, которые охотно купили бы и самый шлюп, а не то, что груз, направили Виллиама к заливу, милях в шести от фактории, давши ему в придачу двух лоцманов. Туда они доставили лодку, выгрузили все и честно расплатились с Виллиамом. Весь груз обошелся им наличными, приблизительно, в тридцать пять тысяч осьмериков, помимо кое-каких ценных товаров, которые Виллиам принял с удовольствием, и двух больших алмазов стоимостью, приблизительно, в триста фунтов стерлингов. Когда они расплатились, Виллиам пригласил их на шлюп, и они явились. Веселый старый квакер невероятно развлекал их своей болтовней и «тыкал» их и так их напоил, что ни один из них не смог той ночью вернуться на берег. Им очень хотелось узнать, кто такие наши и откуда они явились, но каждый человек на шлюпе так отвечал купцам на всякий их вопрос, что они решили, что над ними издеваются, что их вышучивают. Как бы то ни было, во время болтовни с ними Виллиам узнал, что они купят любой груз, какой им только ни доставят, что они охотно бы купили у нас вдвое больше пряностей, чем на этот раз. Он приказал веселому капитану сказать им, что есть еще один шлюп, который стоит в Маргаоне, и на нем большое количество пряностей. Если по возвращении оттуда (а он послан туда) пряности еще не будут проданы, то он приведет и этот шлюп. Новые их приятели так распалились, что готовы были заранее столковаться со старым капитаном. — Нет, друг, — сказал он, — я не стану продавать не виданный мною товар за глаза. Да и к тому же не знаю, не продал ли уже хозяин шлюпа свой груз каким-нибудь купцам в Сальсате. Но, если, когда я возвращусь, груз еще не продан, я надеюсь привезти его тебе. Все это время доктор был занят не менее чем Виллиам и старый капитан. Он ежедневно по несколько раз ездил на берег в индусской лодке и закупал для шлюпа свежие съестные припасы, в которых экипаж весьма нуждался. В частности, он привез семнадцать больших бочек арака, некоторое количество риса и множество плодов, манго, тыкв, а также птицу и рыбу. Всякий раз он возвращался на шлюп, глубоко нагруженный, ибо покупал не только для шлюпа, но и для корабля. В частности же, они до половины нагрузили шлюп рисом и араком, и несколькими живыми коровами. Так, запасшись съестным и получивши приглашение явиться опять, они возвратились к нам. Виллиам всегда бывал для нас горячо желанным гостем, приветствуемым вестником, но на этот раз он был приветствуем как никогда, так как у нас на корабле была нужда, и мы не могли добиться ничего, кроме манго и кореньев, в виду того, что мы не хотели появляться на берегу и выдавать свое присутствие, покуда не получим сведений о шлюпе. Да и, действительно, терпение наших было почти исчерпано, так как на это предприятие Виллиам потратил семнадцать дней, хотя и потратил их с пользой. Когда он возвратился, мы созвали еще одно совещание по вопросу о торговле. А именно — мы обдумывали, послать ли нам лучшие свои пряности и прочие бывшие на судне товары в Сурат, или самим двинуться в Персидский залив, где, возможно, сумеем продать и не хуже, чем английские купцы из Сурата. Виллиам стоял за то, чтобы нам отправиться самим; это, кстати, было следствием добрых купеческих свойств его натуры, склонявшейся во всяком деле к лучшему выходу из положения. Но здесь я не согласился с Виллиамом, что случалось очень редко. Я сказал ему: — Если учесть положение, то нам много лучше продавать весь груз здесь, хотя бы даже за половинную цену, нежели идти с ним в Персидский залив, где мы подвергнемся большой опасности, где люди много любопытнее здешних и где с ними не легко будет управиться, так как там торгуют свободно и открыто, а не украдкой, как, видимо, торгует здешний народ. Кроме того, если там что-нибудь заподозрят, нам будет труднее отступить, разве только что применяя насилие. Здесь же мы стоим в открытом море и можем уйти, куда хотим, даже не меняя своего облика; в сущности, здесь не будет никакого преследования, так как никто не знает, где нас искать. Мои опасения убедили Виллиама, хотя не знаю, убедили ли его мои доводы, но он со мной согласился, и мы решили отправить тем же купцам еще один корабельный груз. Главное дело заключалось в том, как обойти то, что они сообщили английским купцам, а именно, что то будет другой наш шлюп. Но за это взялся старый квакерский лоцман. Он был превосходным лицедеем, и ему тем легче было нарядить шлюп в новые одежды. Во-первых, он поставил на прежнее место всю резьбу, которую раньше снял; нос, прежде гладко окрашенный в темный коричневый цвет, стал теперь блестящим и голубым, усеянным, Бог знает, сколькими живыми рисунками; что касается кормы, то плотники по обоим бортам сделали славные галерейки. На шлюп поставили двенадцать пушек, а на планшире *["809] — несколько петереро, которых прежде не было. А для того, чтобы закончить новое одеяние шлюпа и усовершенствовать его перемену, старый квакер приказал переменить на шлюпе паруса. И если прежде шел он подобно яхте *["810] под шпринтовом *["811], то теперь он был подобен кэчу, с бизанью и под четырехугольными парусами. Словом, вышло превосходное надувательство, и шлюп был перелицован во всех подробностях, на которые мог бы обратить внимание чужой, раз только видевший его; купцы же побывали на шлюпе всего один раз. Шлюп возвратился в этом гнусном виде. Капитаном на нем был другой человек, которому доверять мы могли. Старый лоцман появился в качестве простого пассажира, доктор же и Виллиам были суперкаргами с формальной доверенностью некоего капитана Сингльтона. Все обстояло, как полагается. Шлюп был нагружен до последних пределов. Помимо огромного количества мускатных орехов и гвоздики, и мускатного цвета, и малой толики корицы, на шлюпе были кое-какие товары, захваченные нами в то время, когда близ Филиппинских островов ожидали мы добычи. Виллиам без труда продал, и этот груз и возвратился через двадцать, приблизительно, дней, нагруженный всем необходимым для нашего путешествия на долгий срок. Да, как я сказал, было у нас великое множество и других товаров. Он привез нам приблизительно тридцать три тысячи осьмериков и несколько алмазов. Хотя Виллиам считал, что смыслит в этом деле мало, однако сумел он устроить так, что алмазы на него особого впечатления не произвели; к тому же купцы, с которыми он имел дело, были людьми очень щедрыми. Вообще с этими купцами затруднений не было никаких, ибо предвидение барыша отбило у них всякое любопытство. Шлюпа же они совершенно не узнали. Что касается продажи им пряностей, привезенных из столь далеких стран, то здесь это не было такою уже новостью, как мы предполагали, ибо к португальцам часто приходили из Макао *["812] в Китае корабли с пряностями, купленными у китайских купцов, а те в свою очередь часто торговали у голландских Пряных островов и приобретали там пряности в обмен на привозимые из Китая товары. Это, в сущности, можно назвать единственным торговым путешествием, какое мы совершили. Теперь мы действительно были очень богаты, и естественно, что перед нами стал вопрос о том, что делать дальше. По-настоящему отправным нашим портом, как мы называли его, был залив Мангахелли на Мадагаскаре. Но Виллиам однажды увел меня в каюту шлюпа и заявил, что хочет серьезно поговорить со мною. Мы заперлись, и Виллиам начал: — Позволишь ли ты мне откровенно поговорить о теперешнем твоем положении и дальнейших видах на будущее? Обещаешь ли ты своим честным словом не обижаться на меня? — От всего сердца обещаю, — сказал я. — Виллиам, я всегда находил ваши советы хорошими, а ваши замыслы не только были хорошо задуманы, но и ваши наставления всегда приносили нам счастье. А потому можете говорить, что хотите, обещаю вам, что не обижусь. — Это еще не все, — сказал Виллиам. — Если тебе не понравится то, что я предложу, ты должен обещать, что не разгласишь об этом среди экипажа. — Не расскажу, Виллиам, даю слово. — И я охотно побожился ему. — В таком случае, я должен с тобою условиться еще об этом деле, — вот о чем: если ты сам не присоединишься к моему замыслу, то позволь мне с моим новым другом доктором осуществить ту часть, которая касается нас с ним, так как ты на этом никакого убытка или ущерба не потерпишь. — Позволяю все, Виллиам. Только не позволю покинуть меня. Я с вами ни при каких условиях не могу расстаться. — Да я, — говорит Виллиам, — и не собираюсь расставаться с тобой, если ты сам того не захочешь. Но пообещай мне выполнить все эти условия, и я смогу откровенно разговаривать с тобой. Я пообещал ему, как только мог торжественно, но в то же время так серьезно и искренно, что Виллиам мог без всяких сомнений поделиться со мною своими замыслами. — Так вот, во-первых, — сказал Виллиам, — я спрошу у тебя, не думаешь ли ты, что и ты сам и все твои подчиненные достаточно богаты и действительно набрали столько добра (сейчас речь не о том, каким именно образом его набрали), что, пожалуй, даже не знают, как с ним быть. — По чести, Виллиам, — сказал я, — ты совершенно прав. Думаю, что нам основательно везло. — В таком случае, если тебе твоих богатств достаточно, не думаешь ли ты бросить это ремесло? Большинство людей оставляют свои дела, когда удовлетворены тем, что ими скоплено, и считают, что уже достаточно богаты. Ведь никто не трудится ради самого труда, а уж во всяком случае, никто не грабит ради одной только кражи. — Теперь, Виллиам, я вижу, куда ты клонишь, — сказал я. — Готов об заклад биться, что ты начал тосковать по родине. — Верно, — сказал Виллиам, — ты рассуждаешь правильно, и надеюсь, что у тебя та же тоска. Для большинства людей, находящихся на чужбине, естественно желание вернуться, наконец, на родину, особенно когда они разбогатели, и если они (как ты считаешь себя) очень богаты, и если они к тому же настолько богаты, что не знают даже, как поступить с добавочным богатством, окажись оно у них. — Ну-с, Виллиам, — сказал я, — теперь вы думаете, что изложили все предварительные доводы так, что мне нечего возразить, то есть что, будь у меня достаточно денег, было бы естественно, если бы я стал думать о возвращении домой. Но вы не объяснили, что понимаете под словом «домой». Здесь мы с вами разойдемся. Помните же, человече, что я дома. Здесь мое жилище. Всю мою жизнь иного не было у меня. Я воспитывался приходом из милости. Так что у меня нет желания, куда бы то ни было, возвращаться, богатым ли, бедным ли, ибо мне возвращаться некуда. — Как, — сказал Виллиам и несколько смутился, — разве ты не англичанин? — Я думаю, что англичанин. Вы же слышите, что я говорю по-английски. Но из Англии я уехал ребенком и возвращался туда, с тех пор, как стал взрослым, всего один раз. Да и тогда меня обманули и провели и так дурно со мной обращались, что мне безразлично, увижу ли я ее еще раз или нет. — Как, неужели у тебя там нет ни родных, ни друзей, ни знакомых?! — сказал он. — Никакого, к кому было бы у тебя родственное чувство или хоть какое-нибудь уважение? — Нет, Виллиам, — сказал я. — Не более, нежели при дворе Великого Могола. — И никакого чувства к стране, в которой ты родился?! — сказал Виллиам. — Не более, нежели к острову Мадагаскару, а, пожалуй, еще меньше. Ведь Мадагаскар не раз, как ты знаешь, Виллиам, был для меня счастливым местом. Виллиам был совершенно поражен моей речью и замолчал. Я сказал ему: — Продолжай, Виллиам! Что ты хочешь сказать еще? Ведь у тебя еще кое-какие замыслы — так выкладывай их. — Нет, — сказал Виллиам, — ты заставил меня замолкнуть, и все, что я собирался сказать, отменено. Все мои замыслы рухнули и уничтожены. — Пускай так, Виллиам, но дайте же мне услышать, в чем они состоят. Хотя мне с вами совсем не по пути, хотя у меня нет ни родных, ни друзей, ни знакомых в Англии, но все же я не могу сказать, что настолько люблю разбойничью жизнь, чтобы от нее никогда не отказаться. Я хочу послушать, что ты можешь предложить мне взамен нее. — Да, друг, — сказал Виллиам. — Серьезно — есть кое-что взамен нее. Он поднял при этом руки и казался сильно тронутым, и, кажется, слезы появились у него на глазах. Но я был слишком закоренелым негодяем, чтобы растрогаться подобным зрелищем, и рассмеялся. — Что! — воскликнул я, — вы думаете о смерти? Готов об заклад биться, что так! Смерть полагается в заключение этого промысла. Ну, что же, пускай она является, когда надо будет. Все мы обречены на смерть. — Да, — сказал Виллиам, — это правда. Но лучше устроить как-нибудь свою жизнь, прежде чем явится смерть. Он произнес это страстно, видно, озабоченный мыслью обо мне. — Хорошо, Виллиам, — сказал я, — благодарю вас. Я, быть может, не так бесчувственен, как кажусь. Ну, говорите, каково у вас предложение. — Мое предложение, — сказал Виллиам, — имеет целью твое благо, в такой же степени, как и мое собственное. Мы можем положить конец такой жизни и покаяться. И я думаю, что в этот самый час обоим нам представляется самая лучшая возможность к этому, какая была, какая должна или сумеет, или, в сущности, вообще может представиться. — Послушайте-ка, Виллиам, выложите-ка мне ваш замысел, как положить конец теперешнему нашему образу жизни; ведь об этом идет сейчас речь, а о другом мы поговорим впоследствии. Я не так уже нечувствителен, — сказал я, — как вы меня, быть может, считаете. Но давайте сперва выберемся из этих адских условий, в которых находимся. — Верно, в этом ты совершенно прав. Мы не можем говорить о раскаянии, покуда продолжаем пиратствовать. — Это самое, Виллиам, и хотел я сказать. Нам, верно, нужно перемениться и сожалеть о том, что сделано, — а если нет, значит, я не представляю себе, что такое раскаяние. Да об этом деле я, по правде, знаю очень мало. Но самое это дело подсказывает мне, что сначала мы должны бросить это скверное занятие, и в этом я вам помогу от всего сердца. По выражению лица Виллиама я увидел, что мое предложение ему сильно полюбилось. Еще раньше стояли у него в глазах слезы, но теперь их было еще больше. Но эти слезы были от иной причины. Он так был полон радости, что не мог говорить. — Послушайте-ка, Виллиам, — сказал я, — вы достаточно ясно заявил, что у вас благое намерение. Возможно ли, по-вашему, нам положить конец нашей злосчастной жизни здесь и выбраться отсюда? — Да, — сказал он, — для меня это вполне возможно. Но возможно ли это для тебя — это зависит от тебя самого. — Хорошо, — сказал я, — даю вам слово, что подобно тому, как я приказывал вам с той поры, как посадил вас к себе на корабль, подобно этому вы с этого часа будете приказывать мне, и, что ни скажете, я выполню. — Ты все предоставляешь мне? Ты говоришь это добровольно? — Да, Виллиам, добровольно, и честно выполню. — В таком случае, — сказал Виллиам, — вот мой замысел. Сейчас мы находимся в устье Персидского залива. Здесь, в Сурате, мы продали столько всякого добра, что денег у нас достаточно. Пошли меня в Бассору *["813] на шлюпе и нагрузи его оставшимися у нас китайскими товарами. Их хватит тут на полный груз, и уверяю тебя, что мне в качестве купца удастся разместить часть товаров и денег среди тамошних английских и голландских купцов так, чтобы мы смогли воспользоваться ими при любых обстоятельствах. А когда я вернусь, мы уладим остальное. Ты же в это время убеди экипаж отправиться на Мадагаскар, как только я вернусь. Я сказал, что, по-моему, ему нечего забираться в Бассору; он может отправиться в Гомбрун *["814] или на Ормуз и там поступить точно так же. — Нет, там я не смогу действовать свободно, — там находятся фактории Компании, — и меня могут задержать как контрабандиста. — В таком случае, — сказал я, — вы можете отправиться на Ормуз, так как я ни за что не хотел бы расставаться с вами на такое долгое время. Ведь вы отправляетесь в самую глубину Персидского залива. Он возразил, что я должен предоставить ему право поступать так, как он сочтет лучшим. В Сурате мы получили большую сумму денег, так что в нашем распоряжении имелось около ста тысяч фунтов наличными. Но на борту корабля денег было еще больше. Я при всех наших приказал Виллиаму взять с собою имевшиеся на шлюпе деньги, закупить на них, если удастся, боевых припасов, чтобы таким образом нам снарядиться для новых похождений. В то же время я решил собрать некоторое количество золота и кое-какие драгоценности, хранившиеся на большом корабле, и спрятать это, чтобы незаметно можно было унести, как только Виллиам возвратится. Итак, сообразно с указаниями Виллиама, я отпустил его в путешествие, а сам перешел на большой корабль, на котором был у нас действительно неисчислимый клад. Возвращения Виллиама дожидались мы не менее двух месяцев, и я уже стал, действительно, тревожиться о его судьбе. Подчас я подумывал, что он покинул меня, что он применил ту же хитрость и завербовал других. Еще за три дня до его возвращения я чуть было не решился отправиться на Мадагаскар, махнувши на Виллиама рукой. Но старый лоцман, тот, который изображал квакера и в Сурате сходил за хозяина корабля, разубедил меня. А за добрый совет и очевидную верность в деле, которое доверили ему, я посвятил его в свой замысел. Он оказался вполне честным товарищем. Наконец Виллиам, к нашей невыразимой радости, возвратился и привез с собою великое множество необходимых вещей. В частности привез он шестьдесят баррелей пороха, железную картечь и около тридцати тонн свинца. Привез он также большое количество съестных припасов. Словом, Виллиам открыто дал мне отчет о своем путешествии, так что нас могли слышать все, кто находился на шканцах, и на нас не могло пасть подозрение. Когда все было улажено, Виллиам сказал, что следовало бы съездить еще раз, да и мне следовало бы отправиться с ним. Он назвал ряд вещей, которые вез с собою и не сумел продать; в частности, он сказал нам, что был вынужден много там оставить, так как караваны *["815] не явились, и что он уговорился еще раз вернуться с товарами. Это было то, что мне требовалось. Экипаж согласился с тем, что Виллиам должен отправиться, особенно потому, что он обещал на обратном пути нагрузить шлюп рисом и съестными припасами. Я же делал вид, что не хочу ехать. Тогда старый лоцман поднялся и стал уговаривать меня отправиться и, в конце концов, своими доводами убедил меня сделать это. В частности, говорил он, что если я не отправлюсь, то на шлюпе не будет порядка, — много людей может сбежать и, возможно, выдать остальных; что они считают, что шлюпу небезопасно возвращаться, если я на нем не поеду. А чтобы окончательно убедить меня, он вызвался ехать со мною. Выслушавши все эти соображения, я сделал вид, что меня убедили, и весь экипаж, видно, был очень доволен моим согласием. Сообразно с этим мы перегрузили весь порох, свинец, и железо из шлюпа на большой корабль, вместе с прочими товарами, предназначенными для корабля. Взамен этого мы погрузили несколько тюков пряностей и бочек или корзин гвоздики, в общей сложности весом в семь тонн, и еще кой-какие товары. И между тюками их я спрятал свою личную казну, не малой, уверяю вас, ценности. Перед тем, как уехать, я созвал на совет всех корабельных офицеров, чтобы решить, в каком месте им дожидаться меня и как долго. Мы постановили, что корабль будет двадцать восемь дней стоять у одного островка на аравийской стороне залива; если же к этому времени шлюп не возвратится, то они должны отправиться на запад к другому островку и ждать там еще пятнадцать дней; если тогда шлюп не возвратится, то из этого нужно заключить, что что-нибудь с ним приключилось, и местом свидания будет Мадагаскар. Так порешивши, мы покинули корабль, и Виллиам, и я, и лоцман решили больше никогда не видеть его. Мы направились прямо в залив и, через него, к Бассоре, или Бальсаре. Город Бальсара лежит в некотором расстоянии от того места, где остановился наш шлюп, так как река не вполне благонадежна, а мы знали ее плохо и располагали лишь обыкновенным лоцманом, то высадились на берег в деревне, где живет несколько купцов. Деревня эта очень населена, так как здесь стоянка небольших судов. Оставались мы здесь и торговали три или четыре дня. Мы выгрузили все наши тюки и пряности, да и вообще весь груз сколько-нибудь значительной ценности. Мы предпочли немедленно отправиться в Бассору, закупивши много различных товаров *["816]. Наша лодка с двенадцатью людьми стояла у берега, и я, Виллиам, лоцман и еще четвертый, которого мы выбрали в самом начале, задумали вечером послать одного турка к боцману с письмом. Наказавши парню бежать, как только можно быстрее, мы стали в небольшом отдалении, чтобы посмотреть, что случится. Письмо было написано старым лоцманом следующим образом:«Боцман Тома, нас выдали. Ради Бога, отчальте и возвратитесь на корабль, не то вы все погибли. Капитан, Виллиам квакер и Джордж реформадо *["817] схвачены и уведены. Я убежал и спрятался, но не могу выйти. Если выйду — мне смерть. Сейчас же, как только попадете на шлюп, рубите, или отвязывайте якорный канат, ставьте паруса и спасайтесь. Прощайте. Р. С».
Мы стояли незамеченными в вечерних сумерках и видели, что турок передал письмо. В три минуты наши люди поскакали в лодку и отчалили, очевидно, выполнили совет письма. На следующее утро их нигде не было видно, и с той поры мы ничего не слыхали о них. Теперь мы находились в хорошем месте и в очень хорошем положении, так как все нас считали персидскими купцами *["818]. Несущественно передавать здесь, сколько неправедно нажитого добра в общей сложности набрали мы. Важнее сказать вам, что я понял, насколько преступно было наживать его таким путем. Обладание им доставляло мне очень мало удовольствия, и, как я сказал Виллиаму, я не особенно стремился и не особенно надеялся удержать его. Однажды во время прогулки по полям возле города Бассоры я заявил Виллиаму, что собираюсь распорядиться своим добром по-своему, а как — вы сейчас услышите. В Бассоре находились мы в полной безопасности после того, как отпугнули наших товарищей. И теперь нам нечего было делать, как только думать, каким бы образом превратить наши сокровища в такие вещи, чтобы был у нас вид купцов, которыми мы собирались стать, а не вид рыцарей наживы, которыми мы были в действительности. Здесь мы очень кстати наткнулись на голландца, который совершил путешествие из Бенгалии в Агру *["819], столицу Великого Могола. Оттуда он сухим путем добрался до Малабарского побережья, переправился таким или иным манером на корабле через залив и замыслил он, как мы узнали, по Великой Реке *["820] пробраться вверх до Багдада *["821] или Вавилона *["822], а там караванным путем к Алеппо *["823] и Скандерун. Так как Виллиам говорил по-голландски и отличался приятным, вкрадчивым поведением, то вскоре познакомился с этим голландцем. Мы сообщили друг другу, в каком положении каждый находится, и узнали, что у него с собою внушительная поклажа; что он долго торговал в этой стране и направляется домой, в свою родную страну, и что с ним слуги: один — армянин, которого он обучил разговаривать по-голландски и который сам кое-чем владеет, но хочет попутешествовать по Европе, а другой — голландский матрос, которого подобрал он из причуды и которому верил вполне. То был честный парень. Этот голландец очень обрадовался знакомству с нами, так как скоро узнал, что и мы обращаем свои помыслы к Европе. И так как он узнал, что у нас с собою одни лишь товары (ибо мы ничего не сказали ему о наших деньгах), то охотно предложил помочь нам продать их столько, сколько поглотит здешний рынок, и присоветовать, что сделать с остатком. Покуда все это происходило, Виллиам и я совещались о том, как нам поступить с нами самими и с тем, что было у нас. Во-первых, решили мы все серьезные разговоры вести только в открытом поле, где можем быть уверены, что никто нас не услышит. Так, каждый вечер, когда солнце склонялось к западу, и жара спадала, мы выходили то в одном, то в другом направлении, чтобы обсудить свои дела. Должен заметить, что здесь мы оделись на новый лад, так, как одеваются персы: в длинные шелковые куртки и нарядные платья или халаты из английского алого полотна, и отпустили себе бороды на персидский лад, так, что стали походить на персидских купцов, но только видом, впрочем, ибо не понимали ни одного слова на персидском языке, да и вообще не знали никаких языков, кроме английского и голландского, да и последний я понимал очень скверно. Как бы то ни было, голландец выполнил все обещанное нам, а мы, решивши возможно более держаться в стороне, не знакомились и не обменивались ни единым словом ни с одним из английских купцов, хотя в том месте их было много. Благодаря этому способу мы лишили их возможности наводить о нас справки или дать какие-нибудь сведения о нас, если бы дошли сюда известия о нашей высадке здесь. А последнее вполне могло произойти, попади кто-нибудь из наших товарищей в дурные руки или в силу других непредвиденных обстоятельств. В продолжение моего пребывания здесь — мы оставались около двух месяцев — я стал все чаще задумываться о своем положении. Не об опасности, ибо опасность нам не угрожала. Но мне действительно стали приходить мысли обо мне самом, о мире, иные, нежели какие бывали прежде. Что до имевшегося у меня богатства, — а оно было у меня невероятно велико, — я ценил его столь же высоко, сколь и грязь под ногами. Я ценил его, обладание им не приносило мне покоя, не беспокоила меня и мысль лишиться его. Виллиам заметил, что дух мой смущен и настроение по временам тяжело и подавлено. Однажды вечером, во время одной из наших прогулок по прохладе, я заговорил с ним о том, чтобы бросить наши богатства; а Виллиам был человеком мудрым и осмотрительным — всеми предосторожностями в моем поведении в продолжение уже долгого времени был я, и вправду, обязан его советам, и потому все дело по охранению наших вещей, да и нас самих, лежало на нем. Он как раз рассказывал мне о кое-каких мерах, которые предпринимает для нашего путешествия домой и охранения нашего богатства, когда я оборвал его. — Как, Виллиам, — говорю я, — неужели ты полагаешь, что вообще мы сможем достичь Европы, когда на нас висит такой груз? — Да, — говорит Виллиам, — без сомнения, подобно другим купцам с подобным же грузом, если только не станет известным, какое количество у нас его или какую ценность он представляет. — Как же, Виллиам, — говорю я с улыбкой. — Ведь ты считаешь, что над нами есть Бог; и ты так долго объяснял мне, что мы должны будем дать ему отчет во всех наших делах; так вот, как же, если ты считаешь, что он справедливый судья, можешь ты допустить, чтобы он позволил нам спастись, оставляя при себе все награбленное у стольких невинных людей и, можно сказать, целых народов? Как же может не призвать он нас к ответу за это до того еще, как мы попадем в Европу, где собираемся насладиться награбленным? Виллиам, видимо, был поражен и удивлен этим вопросом, и долгое время не отвечал. А я повторил вопрос и добавил, что это недопустимо. После некоторого молчания Виллиам в ответ: — Ты поднял очень существенный вопрос, и положительного ответа на него я дать не могу. Но скажу я так: во-первых, правда, что, зная господнюю справедливость, нечего нам ожидать от него защиты. Но как обычные пути провидения не те, что повседневные пути людских деяний, то, все же, покаявшись, можем мы надеяться на милосердие и не знаем, сколь милосерден будет он к нам. И потому должны мы поступать, склоняясь к последнему, я хочу сказать, к милостивому решению, а не к первому, которое может навлечь на нас лишь суд и отмщение. — Но послушайте, Виллиам, — говорю я, — в самое покаяние, как вы раз мне объяснили, входит исправление. А мы никак не можем исправиться. Как же нам покаяться? — Почему мы не можем исправиться? — говорит Виллиам. — Потому, — сказал я, — что не можем вернуть того, что добыли разбоем и насилием. — Верно, — говорит Виллиам, — этого мы сделать не можем, ибо не можем узнать, кто собственники награбленного. — Что же, в таком случае, делать с нашим богатством, — сказал я, — следствием грабежа и разбоя? Сохраним мы его — мы останемся разбойниками и ворами, а если бросим его, то тоже поступим несправедливо, ибо не сможем возвратить его законным собственникам. — Ну, — говорит Виллиам, — ответ на это короток. Отказаться от того, что имеем, это обозначает бросить его тем, кто на него не имеет прав, и лишить себя богатства, не сотворивши тем добра. Поэтому должны мы беречь его тщательно и твердо, творя с его помощью добро, какое сможем. И кто знает, какую возможность предоставит нам провидение сотворить благодеяние хотя бы нескольким из тех, кому мы причинили вред? Потому, по меньшей мере, должны мы предать все в руки господни и двинуться далее. И, без всякого сомнения, наш долг — уйти в какое-нибудь безопасное место и ожидать господней воли. Это решение Виллиама действительно вполне удовлетворило меня, как, правда, и то, что все, что он ни говорил, всегда бывало надежно и правильно. И вот вышло, что господь соблаговолил сделать Виллиама всем для меня. Потому однажды вечером, как велось, потащил я Виллиама в поля много торопливее обычного. И там я рассказал ему смятение моего разума, как страшно искушал меня дьявол, и что я должен застрелиться, ибо не могу вынести тяжести, которая гнетет меня. — Вот, — сказал я, — всю ночь снились мне ужасные сны, а особенно снилось мне, что за мною явился дьявол и спросил, как меня зовут, и я отвечал ему. Тогда он спросил меня, какой был мой промысел. «Промысел? — говорю я. — Я вор, негодяй по призванию. Я пират и убийца и заслуживаю виселицы». — «Верно, верно, — говорит дьявол, — заслуживаете. И вы тот человек, которого я ищу, и потому ступайте за мной». Тогда я ужасно испугался и закричал так, что сам проснулся. С того самого времени я пребываю в ужасных мучениях. — Превосходно, — говорит Виллиам, — теперь давай мне пистолет, о котором ты только что говорил. — Зачем? — говорю я. — Что ты с ним сделаешь? — Сделаю с ним! — говорит Виллиам. — Да тебе незачем самому убивать себя. Я буду вынужден сделать это за тебя. Да ты ведь чуть было не погубил нас всех. — Что ты хочешь сказать, Виллиам? — сказал я. — Сказать! — сказал он. — Нет, что ты хочешь сказать, если кричишь со сна: «Я вор, я пират, я убийца, я заслуживаю виселицы»? Да ты этим всех нас погубишь. Хорошо, что голландец не понимает по-английски. Коротко говоря, я должен застрелить тебя, чтобы самому спастись. Ну же, — говорит он, — давай пистолет. Признаюсь, что это ужаснуло меня совсем, и я стал понимать, что действительно, будь поблизости меня кто-нибудь, понимающий по-английски, я бы погиб. С того времени мысль о том, чтобы застрелиться, покинула меня, и я обратился к Виллиаму. — Ты совершенно смущаешь меня, Виллиам, — сказал я. — Да, я опасен, и небезопасно водить со мною общество. Что мне делать? Я выдам вас всех. — Брось, брось, друг Боб, — говорит он. — Я со всем этим управлюсь, если ты послушаешь моего совета. — А что это за совет? — сказал я. — Весьма простой, — говорит он, — когда в следующий раз ты будешь разговаривать с дьяволом, то говори немного потише, не то мы все погибнем, и ты тоже. Это испугало меня, я должен признаться, и немного утихомирило смятение моего духа. Речь Виллиама принесла мне много удовлетворения и очень сильно успокоила меня, но сам Виллиам с тех пор очень тревожился из-за того, что я говорю во сне, и всегда старался ночевать в одной комнате со мною и не оставлять меня на ночлег в домах, где понимают по-английски хотя бы одно слово. Как бы то ни было, впоследствии подобных случаев не бывало, ибо я стал теперь много спокойнее и решил в будущем жить жизнью, совсем отличной от той, которой жил. Что до бывшего у меня богатства, то смотрел я на него, как на ничто. Я решил сберечь его для того, чтобы творить правосудие, какое даст мне сотворить господь. И представившаяся мне впоследствии чудесная возможность потратить часть моих богатств для спасения разоренной семьи, которую я когда-то ограбил, стоит того, чтобы рассказать о ней, если в этом отчете останется место. Принявши подобное решение, я стал несколько спокойнее духом. И вот, после трех месяцев нашего пребывания в Бассоре, распродав часть товаров, но, сохранивши большое их количество, мы, сообразно с указаниями голландца, наняли лодку и двинулись вверх по реке Тигру или, вернее, Евфрату к Багдаду или Вавилону. Был у нас с собою весьма значительный груз товаров, и потому мы оказались там важными особами, и повсюду нас принимали с почтением. В частности, было у нас сорок две кипы различного рода индийских тканей, шелка, муслина и тонких ситцев *["824]. Было у нас пятнадцать кип превосходных китайских шелков и семнадцать тюков или кип пряностей, — в частности, гвоздики и мускатного ореха, — и другие товары. Нам предлагали купить нашу гвоздику за наличные, но голландец советовал нам не выпускать ее и сказал, что лучшую цену получим мы в Алеппо или на Леванте *["825]. Так собрались мы для караванного пути. Мы скрывали, как только могли, что у нас есть золото и жемчуг, и потому продали три или четыре тюка китайских шелков и индийского миткаля, чтобы иметь деньги на покупку верблюдов и на уплату пошлин, взимаемых во многих местах, и на пропитание в пути через пустыню. Совершал я этот путь, оставаясь равнодушным до последней степени к моим товарам и богатству и веруя, что раз собрал я все это разбоем и насилием, то господь повелит, и все будет отнято у меня тем же путем. И я поистине могу сказать, что, полагаю, обрадовался бы, случилось подобное. Но подобно тому, как был надо мною всеблагой покровитель, так же был у меня и верный дворецкий, советчик, товарищ, и не знаю, как еще лучше назвать его, который служил мне проводником и лоцманом, и руководителем, и всем на свете и заботился и обо мне и обо всем, что имелось у нас. И, хоть никогда не бывал он в этой части света, все же взял на себя заботу обо всем. Приблизительно в пятьдесят девять дней прибыли мы из Бассоры в устье реки Тигра или Евфрата, через пустыню и через Алеппо, в Александрию, или как мы называем ее, Скандерун на Леванте. Здесь Виллиам и я, и двое других наших верных товарищей заспорили о том, что нам делать. И здесь Виллиам и я решили отделиться от двух остальных, так как они решили отправиться с голландцем в Нидерланды на каком-то голландском корабле, который как раз в то время стоял в гавани. Виллиам же и я решили отправиться на Морею *["826], которая в то время принадлежала венецианцам *["827], и поселиться там. Мы поступили, правда, мудро, что скрыли от них наше направление, раз решивши расстаться с ними. Все же мы выполнили указания старого лоцмана, как писать ему в Голландию и в Англию, чтобы в случае чего узнать, что с ним, и пообещали сообщить ему, как писать нам. Мы выполнили это впоследствии, как выяснится в соответствующее время. После того, как те уехали, мы еще некоторое время оставались здесь. Мы еще окончательно не решили, куда направляться. В это время какой-то венецианский корабль прибыл с Кипра *["828] и зашел в Скандерун поискать фрахта на обратный путь. Мы этим воспользовались, сторговались о плате за проезд и за провоз наших товаров, сели на корабль и через некоторое время благополучно прибыли в Венецию со всеми нашими сокровищами и с таким грузом, какого (если сложить наши товары и наши деньги, и наши драгоценности), думаю я, никогда с самого основания Венеции не привозили туда два частных человека. Мы долгое время еще хранили инкогнито, по-прежнему выдавая себя за армянских купцов, как называли себя уже некоторое время. А к этой поре мы настолько овладели персидским и армянским наречиями, на которых говорят в Бассоре и Багдаде, и вообще всюду, где нам пришлось пройти, что вполне могли разговаривать между собою так, чтобы никто нас не понимал, хотя и сами подчас друг друга понимали еле-еле. Здесь мы обратили все наше имущество в деньги и устроились будто на значительный срок. Виллиам и я, сохраняя нерушимую дружбу и верность друг другу, зажили, как два брата. Ни один не искал занятий для одного себя, отдельно от другого. Мы серьезно и важно беседовали и всегда о том же — о нашем покаянии. Мы не изменили обличий, то есть наших армянских одежд, и в Венеции нас называли: два грека. Я два или три раза собирался сказать о размерах нашего богатства, но оно покажется невероятным, и нам неимоверно трудно было скрывать его, тем более что мы совершенно справедливо считали, что в этой стране нас легко могут убить из-за наших сокровищ. Наконец, Виллиам сказал мне, что, видимо, в Англии ему уже не побывать, но что это теперь его уже не так огорчает. Но так как собрали мы такое большое богатство, а у него в Англии имеются бедные родственники, то, если я согласен, он напишет, чтобы узнать, живы ли они и в каких условиях находятся, и если он узнает, что они, как ему кажется, живы, то он с моего согласия пошлет им немного денег, чтобы улучшить их положение. Я очень охотно согласился, и Виллиам немедленно написал сестре и дяде и через пять, приблизительно, недель получил от них обоих ответ. Был он адресован на какое-то дикое армянское имя, которое Виллиам себе выдумал, а именно: Венеция, синьор Константин Алексион из Испагани *["829]. Письмо от сестры было очень трогательно. Она после многих выражений радости и по поводу того, что он жив, — оказывается, много времени назад она слыхала, что в Вест-Индии он был убит пиратами, — заклинала его сообщить ей, как ему живется. Она писала, что ничего существенного для него сделать не может, но будет от всего сердца рада принять его у себя; что она осталась вдовой с четырьмя детьми, но держит лавочку в Миноризе *["830] и этим кое-как кормит свою семью; что, наконец, она послала ему пять фунтов на случай, если ему нужны деньги, чтобы возвратиться из чужбины на родину. Я видел, что слезы проступили на глазах Виллиама, когда он читал письмо. Идействительно, когда он показал мне его и жалкий пятифунтовый перевод, посланный на имя одного английского купца *["831] в Венецию, то и у меня проступили слезы. Мы оба были сильно тронуты нежностью и добротой этой женщины, и Виллиам обратился ко мне: — Что сделать для этой бедной женщины? Я подумал немного. Наконец сказал: — Я скажу вам, что вы должны сделать. Она послала вам пять фунтов, имея четверых детей, да она сама — это пятеро. Эта сумма для бедной женщины в ее положении — то же, что пять тысяч фунтов для нас. Вы должны послать ей перевод на пять тысяч фунтов английскими деньгами, и попросить скрыть свое удивление по этому поводу, покуда она о вас не услышит вновь. Потребуйте, чтобы она бросила свою лавочку, сняла бы дом где-нибудь в деревне, но неподалеку от Лондона, и там жила бы скромно, покуда вновь не услышит о вас. — Однако, — сказал Виллиам, — я замечаю, что у тебя явились мысли о возвращении в Англию. — Право, Виллиам, — сказал я, — вы ошибаетесь. Но мне пришло на ум, что вы могли бы попытаться сделать это, ибо вы не совершили ничего, что могло бы помешать вам. Почему должен я удерживать вас вдали от родных ради того только, чтобы не разлучаться с вами? Виллиам был очень растроган, но взглянул на меня. — Нет, — сказал он, — мы оба слишком долго плавали вместе, слишком далеко зашли оба. Я решил никогда не расставаться с тобой, покуда я жив, я поеду туда, куда поедешь ты, буду жить там, где будешь ты. А что до моей сестры, — сказал Виллиам, — я не могу послать ей столько денег, ибо кому принадлежат эти деньги, которые у нас имеются? Большая часть их — твоя. — Нет, Виллиам, — сказал я, — нет у меня ни пенса, который бы не принадлежал вам, и не будет у меня ничего, что не принадлежало бы вам в равной доле, а потому вы должны послать ей эти деньги. Если же вы не пошлете, то пошлю их я. — Да послушайте, — сказал Виллиам, — бедняжка ведь обалдеет. Она так изумится, что с ума сойдет. — Хорошо, — сказал я, — Виллиам, это можно сделать с осторожностью. Пошлите ей перевод на сто фунтов и сообщите, что через одну или две почты пришлете еще, и что пошлете ей достаточно для того, чтобы могла она жить, не держа лавки; а затем пошлите еще. Сообразно с этим Виллиам послал ей очень нежное письмо и перевод на одного лондонского купца на сто шестьдесят фунтов и попросил не беспокоиться и надеяться, что он в скором времени сможет послать ей еще. Приблизительно, десять дней спустя он послал ей другой перевод на пятьсот сорок фунтов и через одну или две почты — еще перевод на триста фунтов. И он написал ей, что пошлет ей достаточно для того, чтобы она могла бросить лавочку, и советовал ей снять дом, как говорил я выше. Он подождал, покуда не получил ответа на все три письма. В ответе говорилось, что она деньги получила, и, чего я не ожидал, сообщила, что никому из знакомых она не сказала ни одного слова о полученных ею деньгах и вообще о том, что Виллиам жив, и не сообщит об этом, покуда не узнает дальнейшего. Когда он показал мне это письмо, я сказал: — Знаете, Виллиам, этой женщине можно доверить даже жизнь. Пошлите ей остаток от пяти тысяч фунтов, и я поеду вместе с вами в Англию, в дом этой женщины, когда вы только захотите. Словом, мы послали ей пять тысяч фунтов, и она, получивши все сполна, через короткое время написала брату, что известила дядю о том, что очень больна и больше не может заниматься каким бы то ни было трудом и, что сняла дом, приблизительно, в четырех милях от Лондона, где будет якобы жить на средства со сдаваемых в наем комнат. Коротко говоря, она поступила так, точно понимала, что брат собирается приехать к ней инкогнито, и заверила, что он сможет жить так уединенно, как ему захочется. Благодаря этому перед нами отворилась та самая дверь, которая, как мы думали, на всю жизнь будет заперта для нас. Словом, мы решили действовать, но осторожно, скрывая как имена, так и все другие обстоятельства. Сообразно с этим Виллиам дал знать сестре, как приятна ему ее осторожность, а также, что она правильно угадала его желание жить в уединении, и, наконец, просил ее жить как можно скромнее до тех пор, покуда они не встретятся. Он собирался отправить это письмо. — Послушайте-ка, Виллиам, — сказал я, — не посылайте ей пустого письма. Напишите, что с вами едет друг, который ищет такого же уединения, как и вы, и я пошлю ей еще пять тысяч фунтов. Так, коротко говоря, мы обогатили семью этой бедной женщины, и все же, когда дошло дело до отъезда, мужество покинуло меня, и я не осмелился. А что до Виллиама, то он без меня отправиться не хотел, и так мы после того провели еще два года, обдумывая, что нам делать. Вы, быть может, решите, что я слишком расточительно обращался с моим неправедно нажитым добром, осыпая щедротами и посылая княжеские дары постороннему для меня человеку, который даже не знал меня. Но нужно считаться с тем, в каком я находился положении. Денег у меня было в изобилии, а друзей ни одного на свете. И ни от кого не видывал я ни услуги, ни помощи. Я не знал поэтому, куда поместить или кому доверить мои богатства, покуда я жив, или кому оставить их, когда я умру. Так, не имея друзей, говорю я, ухватился я за сестру Виллиама. Доброта ее по отношению к брату, которого она сперва считала бедным, свидетельствовала о щедром духе и милосердной душе. Решивши на нее первую обратить мои щедроты, я не сомневался, что тем самым добуду себе в будущем нечто вроде убежища или средоточия, на которое смогу опираться в будущих поступках. Ибо, действительно, человек, у которого имеются богатства, но нет приюта, нет места, которое бы имело магнетическое влияние на его привязанности, находится поистине в одном из самых странных обстоятельств и положении, какие только возможны, и улучшить это положение не в силах все его деньги. Как я сказал уже, мы провели два года с лишним в Венеции и соседних с нею местах и все время пребывали в постоянных колебаниях, — не решались и были неуверенны до последней степени. Сестра Виллиама каждый раз убеждала нас приехать в Англию и удивлялась, почему мы не решаемся доверять ей, когда она нам стольким обязана, и даже некоторым образом обижалась за проявляемую к ней подозрительность. Наконец я стал склоняться к тому, чтобы поехать и сказал Виллиаму: — Послушайте-ка, брат Виллиам (ибо с того нашего разговора в Бассоре я называл его братом), если вы согласитесь со мною в двух или трех вопросах, я охотно, от всего сердца поеду с вами в Англию. Виллиам отвечал на это: — Скажите мне, в чем дело. — Во-первых, — сказал я, — вы не откроетесь никому из ваших родных в Англии, кроме как сестре. Во-вторых, мы не сбреем наших баков или бород (ибо мы все время носили бороды на греческий лад), и мы не снимем наших длинных курток, чтобы сходить за греков и иностранцев. В-третьих, мы никогда не будем говорить по-английски при ком бы то ни было, за исключением вашей сестры. В-четвертых, мы всегда будем жить вместе, и выдавать себя за братьев. Виллиам сказал, что от всего сердца соглашается на все эти условия, но что не разговаривать по-английски будет труднее всего, хотя он и постарается делать это, как только сумеет. Итак, словом, мы согласились отправиться из Венеции в Неаполь *["832], где выложили большую сумму денег на покупку тюков шелка, оставили большую сумму у одного купца в Венеции и еще значительную сумму, — в Неаполе, взявши к тому же векселей на изрядное количество денег. И все же в Лондон прибыли мы с таким грузом, с каким за несколько лет не прибывали туда, наверное, даже американские купцы, ибо мы нагрузили два корабля семьюдесятью тремя тюками трощенного шелка *["833], не считая еще тринадцати тюков шелковых тканей из герцогства Миланского *["834], погруженных в Генуе. Все это я привез в сохранности и некоторое время спустя женился на верной моей покровительнице, сестре Виллиама, с которой я более счастлив, нежели того заслуживаю. А теперь, после того, как я так откровенно рассказал вам, как прибыл в Англию, и после того, как так смело признался, какую жизнь вел в чужих краях, — мне пора на время умолкнуть, не то, пожалуй, кое-кто захочет поподробнее узнать о вашем старом друге — капитане Бобе.
Джон Дрейк Одиссея капитана Сильвера

Глава 1
15 марта 1745 года. Индийский океан. У берегов Мадагаскара
 Да уж, Риа де Понтеверда не какое-нибудь там беззащитное суденышко. Да и найдешь ли в открытом море невооруженный торговый корабль? Почитай, на каждом имеются пушки разных типов и калибров и все, что к ним полагается: пушкари и порох в картузах, ядра и картечь, пыжи и банники. Конечно, с боевыми кораблями августейших особ торговым суднам трудно тягаться по части артиллерии, но и их непрошеным гостям, будьте уверены, не поздоровится.
Бортовые батареи, поворотные платформы с мортирами, да у каждого члена команды мушкеты, пистолеты, пики и алебарды, сабли и кортики Пули, порох в рожках, добрый английский пистолетный порох, зернышко к зернышку, не какая-нибудь турецкая сажа. Немало все это добро стоило, тяжким бременем лежало на плечах честного торговца. К тому же занимало драгоценное место на судне, а прибыли, само собой, не приносило никакой
Но без оружия никак! К несчастью, не одни лишь мирные мореплаватели ходят по водным дорогам. Встречаются и любители быстрой наживы, те, кто желает продавать товар, не ими купленный. Весьма часто этих, с позволения сказать, джентльменов удается отпугнуть, на худой конец, отбить их наглые наскоки. Но, к сожалению, в этот раз, в шести милях от Байи де Бомбетока, госпожа Фортуна отвернулась от негоцианта.
Португальский бриг Риа де Понтеверда и пиратское судно Виктория сцепились ноками рей*["835] и скрылись в вонючем облаке порохового дыма, почти неподвижно застывшем в жарком влажном воздухе тропиков. Паруса брига свисали клочьями, капитанский мостик был разворочен ядрами, в бортах зияли пробоины, первые пираты уже прыгали на палубу португальцев, перескакивали через обломки рангоута*["836] и кучи такелажа,*["837] перешагивали через покойников и приканчивали стонавших и вопивших раненых.
У грот-мачты*["838] с мрачным спокойствием поджидал пиратов высокий светловолосый англичанин. Рядом с ним, готовые к последней схватке, столпились его португальские помощники. Пираты неслись к молчаливой группе, подбадривая себя воинственными воплями. Полыхнул раструб мушкетона и Хосе Кармо Коста, капитан Риа дё Понтеверда, отлетел назад, отброшенный зарядом, который врезался ему прямо в сердце.
Тут же звякнули клинки. Пощады никто не просил.
Англичанин брал не столько искусством, сколько силой, ловкостью и скоростью. В его мускулистом тренированном теле, в длинных руках и ногах не было ни капли лишнего жира. Первого из нападавших, слегка опередившего остальных, англичанин прикончил, раскроив ему череп сабельным ударом сверху. Тяжелый клинок расколол голову пирата до нижней челюсти и вышел наружу, мерзко хлюпнув напоследок. Тут же на англичанина навалилась дюжина головорезов, оглушительно ревущих и жаждущих отомстить за смерть товарища. Ведомый каким-то инстинктом, англичанин умудрился отбросить всю массу пиратов, которые словно срослись друг с другом в лютой ярости. Расчистив пространство и обеспечив себе свободу маневра, он поразил второго из противников в живот, и англичанин, прижав каблуком его голову к залитой кровью палубе, пронзил грудь упавшего саблей.
Третьего он удостоил двух ударов: одним отсек четыре из пяти пальцев, другим вскрыл череп с лицевой стороны. Четвертому и пятому, длинному тощему брюнету с серьгами в обоих ушах и косоглазому пузатому увальню с абордажным багром, хватило по одному маху, слева и справа, соответственно.
Шестой оказался крепким орешком. Невзрачный коротышка в соломенной шляпе и полосатых штанах ловко орудовал рапирой, казавшейся продолжением его руки. Явно фехтовальщик-профессионал. Англичанин же был любителем. Ему надлежало либо мгновенно стать профессионалом, либо умереть.
Пот струился по лицу англичанина, он пытался возместить недостаток техники скоростью и силой. Задел, саблей горло пирата, но не взрезал его. Рапира замелькала еще быстрее, дважды кольнула воздух, в третий раз успела на дюйм углубиться в бок стойкого англичанина, прежде чем его сабля отбила этот чертов клинок. Тут же последовал укол рапирой в бедро, но верхушка локтя профессионального фехтовальщика отскочила после удара саблей, как макушка пасхального яйца. Рапира задела щеку англичанина, но сабля уже снесла с головы пирата соломенную шляпу вместе с частью волос и скальпа и тут же, изменив направление полета, глубоко врезалась в шею врага, задержавшись лишь у позвоночника агонизирующего фехтовальщика.
Англичанину приходилось и прежде драться, но лишь на кулаках. По пьянке, из-за юбки в общем, дело молодое. Обидчикам он спуску не давал, и слюнтяем его никак не назовешь. Но никогда раньше не дрался он насмерть, всерьез, смертоносным оружием, И никогда никого не убивал до этого клятого дня. А тут шестерых. Полдюжины!
Англичанин огляделся и увидел, что из всей команды Риа де Понтеверда он единственный еще держался на ногах. Остальные убиты или умирали. Пираты деловито резали им глотки К англичанину тем временем подтягивался еще с десяток морских разбойников. И жив он пока лишь потому, что у них расстреляны все заряды. Пираты выиграли сражение, и этот бешеный никуда от них не денется, чего зря рисковать. Но злы они на эту белесую бестию чрезмерно.
Англичанин развернулся на каблуках, тяжело дыша, обливаясь потом и кровью. Левой ладонью смахнул капли со лба, правой приподнял саблю, метнул взгляд на лезвие. Больше на пилу похоже так много на нем зазубрин, но оно еще послужит. А меж тем кольцо вокруг сжималось, приближаясь к нему остриями сабель, длинных кинжалов и пик.
Сколько парней угробил!
Шкуру снять с него живьем!
Килевать!
Изжарить!
Предложения сыпались как из рога изобилия, но выполнять их пока никто не спешил.
Давайте! сорвался на визг англичанин. Сердце его бешено колотилось, нервы напряглись до предела. Терять ему было нечего, но в окружавшей его толпе не находилось желающих показать всем пример отваги.А-а-а! вдруг истошно завопил англичанин, рванувшись на толпу с занесенной саблей.
Пираты отшатнулись, разразившись градом ругательств в адрес этого придурка самый мягкий из доставшихся на долю их жертвы эпитетов. Англичанин отбил копье носатого усача, саблю рыжего ирландца с несколькими шрамами на физиономии и кортик обнаженного но пояс мулата Ирландец уронил оружие и, взревев от боли, схватился за рассеченное до кости плечо.
Анри! крикнул через плечо пират с мушкетом. portes moi de la poudre et balle!*["839]
Толпа зашевелилась, французу сунули патрон.
Давай, давай! Сделай его, Жан-Поль! подбадривали пираты. Замочи сучье вымя!
Jе dechargerai la tete du con!*["840]
Француз раскусил патрон, всыпал порох на полку,*["841] защелкнул; затем загнал в дуло пыж и пулю. Англичанин прыгнул на пирата с саблей, но его отогнали пиками, кольнув в руку и ноги. Осталось лишь обреченно следить за тем, как Жан-Поль не спеша поднял мушкет и прицелился.
Вот и черная дырочка на конце ствола, а за ней немигающий глаз убийцы. Англичанин прыгнул вправо ствол повернулся за ним. Влево Жан-Поль повел стволом обратно. Да что толку в прыжках! Вон, еще с десяток пиратов заканчивают заряжать свои мушкеты да пистолеты.
Сука драная! выругался англичанин.
Благодарю, сударь, поклонился Жан-Поль, не опуская мушкета.От такой слышу. Cochon.*["842]
Да и черт с вами! Чтоб вы все сдохли, сволочи! Англичанин уронил саблю, распростер руки и закрыл глаза. По крайней мере, это произойдет быстро. Не так, как они грозились.
Жан-Поль снова прицелился, нажал на спусковой крючок. Щелчок! Искра, грохот выстрела три драхмы*["843] наилучшего пороха из арсеналов короля Георга взорвались, вышвырнув тяжелую мушкетную пулю из ствола вверх, по впечатляющей параболе, выше мачт, выше крестов кафедрального собора, выше порохового дыма над местом схватки Совершив обратный путь, пуля плюхнулась в воду и опустилась на дно морское, где любопытный рыбий народ тыкался в нее носами и оставлял без дальнейшего внимания по причине полнейшей непригодности в пищу.
Не спеши! не слишком громко, но вполне авторитетно произнес Натан Ингленд, избранный должным образом капитан пиратского судна, который только что и весьма своевременно для англичанина стукнул кулаком по стволу мушкета.Полагаю, этого мы пока что сохраним.Он ткнул саблей в сторону уцелевшей жертвы Жана-Поля.Эй, ты! обратился он к англичанину погромче Оперой глаза! Ouvrez les yenxl..*["844] Оглох, что ли? Ты меня понимаешь? Entiendez?..*["845] Capisce?*["846]Команда Ингленда состояла из обломков и огрызков человеческих судеб, подобранных в портах полудюжины приморских стран. Поэтому капитан привык свободно переходить с языка на язык, чтобы ни один олух не смог сослаться на то, что не понял приказа.
Англичанин замигал, с глупым видом ощупывая тело, как будто выискивая рану.
Portugues? спросил Ингленд.Francais? Espanol?
Я англичанин, будь ты проклят!
Х-ха! И это он своему спасителю! Неблагодарная тварь. Я тебе жизнь спас. По твоей милости у меня народу поубавилось, так что почему бы тебе за них не поработать.
Я на пиратов не работаю.
А где ты здесь видишь пиратов? удивился капитан.Мы все джентльмены удачи, морское содружество, береговые братья.
Как волка ни назови, он все одно в лес смотрит.
Гм хмыкнул Ингленд, скептически разглядывая долговязого англичанина, которого уже считал новым членом команды.Ну, болтать с тобой мне некогда, уж извини. Дай охоты особой нет. А как ты крошку Сэма ухлопал, я видел. Неплохо у тебя это получилось, а ведь он среди нас лучший боец был на клинках.
Англичанин не понял, что его похвалили. Решил, что ему предъявляют претензии.
Надо же, я его ухлопал! Вы отобрали мой корабль и убили всю команду.Он показал на тело капитана Кармо Косту, от опаленной груди которого еще поднимался дымок Вот мой капитан лежит, а какой человек был!
Ингленду эта перепалка надоела, Ангельское терпение отнюдь не относилось к числу его достоинств. Он засунул большие пальцы обеих рук за кожаный пояс и забарабанил по нему.
В общем, дело твое, конечно. Ты человек свободный, решай, я тебя не принуждаю. Я тебя в деле видел и считаю, что тебя можно использовать. Если ты с этим согласен, добро пожаловать. Если же нет капитан повернулся к Жану-Полю.Recharges, enfant!*["847]можешь снова закрыть глаза, и покончим дело миром Ингленд едва заметно улыбнулся.
Француз уже получил из услужливых рук еще один патрон и заряжал мушкет. Капитан по-прежнему постукивал по широкому кожаному поясу.
Имей в виду, добавил капитан, обращаясь к англичанину, как только он зарядит, то сразу выстрелит, не дожидаясь моего приглашения. Можешь мне поверить.
Ругательство англичанина и щелчок взведенного курка мушкета Жана-Поля встревожили присутствующих. Француз прицелился, однако на всякий случай еще раз спросил:
Je tire, mon Capitaine? Стреляю, кэп?
Был у тебя шанс, сучок усмехнулся капитан.
Стойте! крикнул, взмахнув руками, англичанин. Он сделал выбор, на который в таких обстоятельствах решился бы любой Нормальный человек. За исключением разве что святого мученика-страстотерпца. Или Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа. Но какому капитану нужны в команде Христос либо святой великомученик?
Закончив разговор с англичанином, команда Ингленда принялась на обоих бортах приводить все, что можно, в относительный порядок. Главная задача восстановить мореходность купеческого брига. Застучали молотки, топоры, посыпалась необходимая в процессе любого труда рабочая ругань. Сращивались лопнувшие концы, латались перебитые реи, заделывались пробоины.
Пираты оказались умелыми мастеровыми, и не диво, ведь от ловкости рук зависела их жизнь. С должным уважением они предали воде покойников и даже палубу вымыли с грехом пополам. Раненых лечил вечно пьяный коновал, которого капитан именовал хирургом, а остальные пираты вообще избегали упоминать, боясь его пуще виселицы. Этот пыточных дел мастер останавливал кровотечения исключительно кипящей смолой. Другого доктора, однако, взять было неоткуда, поэтому пираты довольствовались тем, что есть.
Уже через несколько часов после схватки Виктория и Риа де Понтеверда двинулись в путь. Не откладывая дело в долгий ящик, англичанина привели к присяге, устроив традиционный обряд посвящения в общество джентльменов удачи.
Церемония эта выглядела цирковым аттракционом, однако, по сути, представляла собою переломный момент в судьбе всякого, в честь кого она устраивалась; каждый, кто прошел ее, знал, на что себя обрекал на возможное награждение пеньковым галстуком, на виселицу, в случае поимки фрегатом какого-нибудь из многочисленных европейских величеств.
Команда стянулась к грот-мачте, причем главное внимание пираты уделяли не виновнику торжества, а пузатому бочонку с ромом, содержимое которого перетекало сначала в мятые щербатые кружки, а затем, без задержек и проволочек, в обширные пасти пиратов, производя горячительное воздействие на тела и головы. Капитан Ингденд в ознаменование события даже переоделся. Во всяком случае, нацепил лихо, набекрень шляпу с кудлатыми перьями.
Он солидно восседал в массивном резном кресле с высокой спинкой, специально принесенном из капитанской рубки.
Шумное действо несколько напоминало ритуал в честь пересечения линии экватора здесь неофита так же оголяли, намыливали, совершали его омовение и завязывали ему глаза.
Определив подходящий для этого момент, благодушно улыбающийся Ингленд бухнул о палубу семифутовым клыком нарвала,*["848] который выполнял функцию его жезла или посоха.
Эге-гей, многоуважаемые братья! провозгласил он.В жизни еще одного несмышленыша наступил торжественный момент. Это дитя становится нашим товарищем, вольным гражданином морей. Стяни с глаз его пелену слепоты, мистер первый помощник, открой ему свет истины нетленной, вложи острый меч в длань его.
Повеление капитана тут же воплотилось в жизнь, и несколько ошеломленный англичанин снова усиленно заработал веками, привыкая к свету и озирая толпу вооруженных пиратов, которые мерно колыхались вместе с ним и судном в неспешном плясе бортовой качки.
Итак, продолжил Ингленд, по святому обычаю, каждый брат, ведающий что-то, препятствующее вступлению этого дитяти в наше братство, да выскажется незамедлительно, Или да умолчит об этом вовеки.
Эта пародия на церемонию церковного венчания в данном случае имела сугубо практический смысл. Каждый, кто горел желанием расквитаться с чужаком за потерянного друга Шестеро убитых англичанином взывали к отмщению, мог заявить о своем желании и получить шанс стать седьмым в компании покойников. Трупы пиратов спустили за борт с доски, привязав к ногам пушечные ядра. Погибшие моряки Риа де Понтеверда такой чести не удостоились к их животам небрежно примотали балластные камни. Капитанский призыв вызвал тихий гул, народец принялся перетаптываться и переталкиваться. Те, чьими дружками считались погибшие от руки окаянного островитянина, обнаружили вдруг что-то интересное на носках собственных сапог, заметили какую-то редкую птаху небесную или отделались откровенными кривыми ухмылочками. Гудение остальных приобрело несколько разочарованный оттенок: пропало такое развлечение!
Да будет так! воскликнул капитан, выдержав приличествующую случаю паузу. А теперь, новый брат наш, предлагаю тебе подписать Артикулы, как это сделали все мы до тебя.
Первый помощник торжественно возложил на бочку, служившую Ингленду столом, толстенный гроссбух с медными застежками. Его ассистенты поставили рядом чернильницу и песочницу, положили перо, все честь по чести. Книга в тисненом кожаном переплете служила когда-то доброму негоцианту, объеденный рыбами скелет которого уж развалился на косточки и белеет во тьме морской, а то и донным илом зарос. Страницы, исписанные изящным почерком торговца, грубо вырваны, а на первой из оставшихся рука не шибко грамотного океанского бродяги размашисто и кривовато накарябала текст пиратской присяги.
Ты грамоте обучен, брат? поинтересовался Ингленд.Или прочитать тебе пункты без спешки, чтобы вник, понял и продумал, прежде чем подпишешь?
Буквы знаю, буркнул англичанин.
И читаешь складно?
Прочту.
Гм, несколько удивился Ингленд, ибо, кроме его помощников и пушкаря, ни один из пиратов, даже доктор, грамоты не знал. Тогда прочти нам, брат, чтобы все услышали. Не помешает.
Англичанин подтащил книгу ближе к фонарю.
Сии Артикулы
Громче! крикнул Ингленд.Чтобы и эти друзья услыхали.Он указал на воронье гнездо на верхушке мачты, в котором мотались на ветру двое впередсмотрящих.
Сии Артикулы заорал новый брат что было мочи. По доброй воле и в трезвом сознании вступаю я и торжественно клянусь. Артикул первый. Повиноваться командам капитана моего во всех делах, касаемых мореплавания, а равно бой дальнего и ближнего, под Страхом Моисеева закона, как то: сорок ударов линьком, за вычетом одного, по спине оголенной
Всего пунктов в книге Ингленда оказалось двадцать три, главным образом вполне разумные, очевидные требования, касающиеся дисциплины. Без соблюдения таких правил Невозможна жизнь никакого судна с тех древних времен, когда началась история мореплавания. Не остались забытыми и такие бытовые детали, как курение тайком под палубами и осквернение мочой трюмного балласта. Уличенный в этом мерзавец, поленившийся в темную ночь пробраться на нос, к отведенному для отправления естественных потребностей месту, без всяких отговорок выпивал пинту той же жидкости, излитой товарищами по команде. Сурово наказывалось присвоение добычи помимо законной процедуры дележа. По сути, требования эти не отличались от принятых и на других пиратских посудинах, бороздящих просторы Индийской Карибики.
Конечно, иной корабельный устав не обходился и без причуд. Отличались своими особенностями и Артикулы Ингленда. За применение пыток, к примеру, он вешал. Уличенных в мужеложстве положено было связать вместе с зажатым между ними балластным камнем и вышвырнуть за борт. А за изнасилование совершенно неслыханный пункт в уставе пирата! надлежало кастрировать. Но даже это пираты терпели, ибо тяга к золоту пересиливала половое влечение, а по части вынюхивания добычи с Инглендом мало кто мог сравниться во всех морях планеты.
Свежеиспечённый братец добросовестно проорал все пункты, переводя дух после каждого, и добрался до конца. Далее следовали четыре четкие, вполне читаемые подписи, одну из которых вывела та же рука, что и сами пункты. Остальные имена, изображенные с разной степенью неумелости и безграмотности, чередовались с десятками, а то и сотнями крестиков, затейливых загогулин и рисунков. Рыбки, птички, слоники, обезьянки целый зоопарк. Явления общественной жизни представляла виселица с повешенным. Кто-то ностальгически изобразил сельский домик. В символике преобладали череп и скрещенные кости, подобным же образом расположенные мечи, шпаги, бердыши, мушкеты Англичанин задержал взгляд на мастерски выполненном автопортрете размером с пенни, не уступающем работе лучших лондонских карикатуристов. В этом неграмотном художнике погиб несомненный талант. Погиб в буквальном смысле слова, ибо портрет и приписанное к нему, как и ко всем остальным меткам, имя аккуратно, по линеечке вычеркнула красными чернилами чья-то заботливая рука, указавшая тем же красным цветом и дату гибели. Много, много строк в списке перечеркивала узкая кровавая полоска.
Англичанин вздохнул, поднял перо, погрузил его в чернила и на мгновение замер. Англичанин он лишь наполовину. Отец его, португальский моряк, женился на англичанке и поселился в Бристоле. Сын его статью и силой удался в отца, от матери унаследовал цвет волос и кожи. Он удрал из дому в тринадцать лет, спасаясь от отцовского ремня; моряцкому ремеслу учился у других.
Отец дал ему имя Жоао де Сильва. Многие патриоты воротили носы от такого имени, но он не находил оснований стыдиться. В отличие от своих соотечественников, Жоао не считал иностранцев, иноверцев и иноплеменников ниже себя лишь на том основании, что они отличаются от него обличьем. Ведь в Святой Книге указано человек слаб, без уточнения рода и племени. А жизнь морская показывала, что главное в товарище по команде как он себя ведет, когда разыграется стихия. И опыт научил Жоао, что в этом вопросе ни национальность, ни раса, ни вероисповедание роли не играют. Но откуда он родом, уроженец Бристоля тоже не забывал, а посему, вздохнув для верности еще разок, решительно подписался: Джон Сильвер.
Да уж, Риа де Понтеверда не какое-нибудь там беззащитное суденышко. Да и найдешь ли в открытом море невооруженный торговый корабль? Почитай, на каждом имеются пушки разных типов и калибров и все, что к ним полагается: пушкари и порох в картузах, ядра и картечь, пыжи и банники. Конечно, с боевыми кораблями августейших особ торговым суднам трудно тягаться по части артиллерии, но и их непрошеным гостям, будьте уверены, не поздоровится.
Бортовые батареи, поворотные платформы с мортирами, да у каждого члена команды мушкеты, пистолеты, пики и алебарды, сабли и кортики Пули, порох в рожках, добрый английский пистолетный порох, зернышко к зернышку, не какая-нибудь турецкая сажа. Немало все это добро стоило, тяжким бременем лежало на плечах честного торговца. К тому же занимало драгоценное место на судне, а прибыли, само собой, не приносило никакой
Но без оружия никак! К несчастью, не одни лишь мирные мореплаватели ходят по водным дорогам. Встречаются и любители быстрой наживы, те, кто желает продавать товар, не ими купленный. Весьма часто этих, с позволения сказать, джентльменов удается отпугнуть, на худой конец, отбить их наглые наскоки. Но, к сожалению, в этот раз, в шести милях от Байи де Бомбетока, госпожа Фортуна отвернулась от негоцианта.
Португальский бриг Риа де Понтеверда и пиратское судно Виктория сцепились ноками рей*["835] и скрылись в вонючем облаке порохового дыма, почти неподвижно застывшем в жарком влажном воздухе тропиков. Паруса брига свисали клочьями, капитанский мостик был разворочен ядрами, в бортах зияли пробоины, первые пираты уже прыгали на палубу португальцев, перескакивали через обломки рангоута*["836] и кучи такелажа,*["837] перешагивали через покойников и приканчивали стонавших и вопивших раненых.
У грот-мачты*["838] с мрачным спокойствием поджидал пиратов высокий светловолосый англичанин. Рядом с ним, готовые к последней схватке, столпились его португальские помощники. Пираты неслись к молчаливой группе, подбадривая себя воинственными воплями. Полыхнул раструб мушкетона и Хосе Кармо Коста, капитан Риа дё Понтеверда, отлетел назад, отброшенный зарядом, который врезался ему прямо в сердце.
Тут же звякнули клинки. Пощады никто не просил.
Англичанин брал не столько искусством, сколько силой, ловкостью и скоростью. В его мускулистом тренированном теле, в длинных руках и ногах не было ни капли лишнего жира. Первого из нападавших, слегка опередившего остальных, англичанин прикончил, раскроив ему череп сабельным ударом сверху. Тяжелый клинок расколол голову пирата до нижней челюсти и вышел наружу, мерзко хлюпнув напоследок. Тут же на англичанина навалилась дюжина головорезов, оглушительно ревущих и жаждущих отомстить за смерть товарища. Ведомый каким-то инстинктом, англичанин умудрился отбросить всю массу пиратов, которые словно срослись друг с другом в лютой ярости. Расчистив пространство и обеспечив себе свободу маневра, он поразил второго из противников в живот, и англичанин, прижав каблуком его голову к залитой кровью палубе, пронзил грудь упавшего саблей.
Третьего он удостоил двух ударов: одним отсек четыре из пяти пальцев, другим вскрыл череп с лицевой стороны. Четвертому и пятому, длинному тощему брюнету с серьгами в обоих ушах и косоглазому пузатому увальню с абордажным багром, хватило по одному маху, слева и справа, соответственно.
Шестой оказался крепким орешком. Невзрачный коротышка в соломенной шляпе и полосатых штанах ловко орудовал рапирой, казавшейся продолжением его руки. Явно фехтовальщик-профессионал. Англичанин же был любителем. Ему надлежало либо мгновенно стать профессионалом, либо умереть.
Пот струился по лицу англичанина, он пытался возместить недостаток техники скоростью и силой. Задел, саблей горло пирата, но не взрезал его. Рапира замелькала еще быстрее, дважды кольнула воздух, в третий раз успела на дюйм углубиться в бок стойкого англичанина, прежде чем его сабля отбила этот чертов клинок. Тут же последовал укол рапирой в бедро, но верхушка локтя профессионального фехтовальщика отскочила после удара саблей, как макушка пасхального яйца. Рапира задела щеку англичанина, но сабля уже снесла с головы пирата соломенную шляпу вместе с частью волос и скальпа и тут же, изменив направление полета, глубоко врезалась в шею врага, задержавшись лишь у позвоночника агонизирующего фехтовальщика.
Англичанину приходилось и прежде драться, но лишь на кулаках. По пьянке, из-за юбки в общем, дело молодое. Обидчикам он спуску не давал, и слюнтяем его никак не назовешь. Но никогда раньше не дрался он насмерть, всерьез, смертоносным оружием, И никогда никого не убивал до этого клятого дня. А тут шестерых. Полдюжины!
Англичанин огляделся и увидел, что из всей команды Риа де Понтеверда он единственный еще держался на ногах. Остальные убиты или умирали. Пираты деловито резали им глотки К англичанину тем временем подтягивался еще с десяток морских разбойников. И жив он пока лишь потому, что у них расстреляны все заряды. Пираты выиграли сражение, и этот бешеный никуда от них не денется, чего зря рисковать. Но злы они на эту белесую бестию чрезмерно.
Англичанин развернулся на каблуках, тяжело дыша, обливаясь потом и кровью. Левой ладонью смахнул капли со лба, правой приподнял саблю, метнул взгляд на лезвие. Больше на пилу похоже так много на нем зазубрин, но оно еще послужит. А меж тем кольцо вокруг сжималось, приближаясь к нему остриями сабель, длинных кинжалов и пик.
Сколько парней угробил!
Шкуру снять с него живьем!
Килевать!
Изжарить!
Предложения сыпались как из рога изобилия, но выполнять их пока никто не спешил.
Давайте! сорвался на визг англичанин. Сердце его бешено колотилось, нервы напряглись до предела. Терять ему было нечего, но в окружавшей его толпе не находилось желающих показать всем пример отваги.А-а-а! вдруг истошно завопил англичанин, рванувшись на толпу с занесенной саблей.
Пираты отшатнулись, разразившись градом ругательств в адрес этого придурка самый мягкий из доставшихся на долю их жертвы эпитетов. Англичанин отбил копье носатого усача, саблю рыжего ирландца с несколькими шрамами на физиономии и кортик обнаженного но пояс мулата Ирландец уронил оружие и, взревев от боли, схватился за рассеченное до кости плечо.
Анри! крикнул через плечо пират с мушкетом. portes moi de la poudre et balle!*["839]
Толпа зашевелилась, французу сунули патрон.
Давай, давай! Сделай его, Жан-Поль! подбадривали пираты. Замочи сучье вымя!
Jе dechargerai la tete du con!*["840]
Француз раскусил патрон, всыпал порох на полку,*["841] защелкнул; затем загнал в дуло пыж и пулю. Англичанин прыгнул на пирата с саблей, но его отогнали пиками, кольнув в руку и ноги. Осталось лишь обреченно следить за тем, как Жан-Поль не спеша поднял мушкет и прицелился.
Вот и черная дырочка на конце ствола, а за ней немигающий глаз убийцы. Англичанин прыгнул вправо ствол повернулся за ним. Влево Жан-Поль повел стволом обратно. Да что толку в прыжках! Вон, еще с десяток пиратов заканчивают заряжать свои мушкеты да пистолеты.
Сука драная! выругался англичанин.
Благодарю, сударь, поклонился Жан-Поль, не опуская мушкета.От такой слышу. Cochon.*["842]
Да и черт с вами! Чтоб вы все сдохли, сволочи! Англичанин уронил саблю, распростер руки и закрыл глаза. По крайней мере, это произойдет быстро. Не так, как они грозились.
Жан-Поль снова прицелился, нажал на спусковой крючок. Щелчок! Искра, грохот выстрела три драхмы*["843] наилучшего пороха из арсеналов короля Георга взорвались, вышвырнув тяжелую мушкетную пулю из ствола вверх, по впечатляющей параболе, выше мачт, выше крестов кафедрального собора, выше порохового дыма над местом схватки Совершив обратный путь, пуля плюхнулась в воду и опустилась на дно морское, где любопытный рыбий народ тыкался в нее носами и оставлял без дальнейшего внимания по причине полнейшей непригодности в пищу.
Не спеши! не слишком громко, но вполне авторитетно произнес Натан Ингленд, избранный должным образом капитан пиратского судна, который только что и весьма своевременно для англичанина стукнул кулаком по стволу мушкета.Полагаю, этого мы пока что сохраним.Он ткнул саблей в сторону уцелевшей жертвы Жана-Поля.Эй, ты! обратился он к англичанину погромче Оперой глаза! Ouvrez les yenxl..*["844] Оглох, что ли? Ты меня понимаешь? Entiendez?..*["845] Capisce?*["846]Команда Ингленда состояла из обломков и огрызков человеческих судеб, подобранных в портах полудюжины приморских стран. Поэтому капитан привык свободно переходить с языка на язык, чтобы ни один олух не смог сослаться на то, что не понял приказа.
Англичанин замигал, с глупым видом ощупывая тело, как будто выискивая рану.
Portugues? спросил Ингленд.Francais? Espanol?
Я англичанин, будь ты проклят!
Х-ха! И это он своему спасителю! Неблагодарная тварь. Я тебе жизнь спас. По твоей милости у меня народу поубавилось, так что почему бы тебе за них не поработать.
Я на пиратов не работаю.
А где ты здесь видишь пиратов? удивился капитан.Мы все джентльмены удачи, морское содружество, береговые братья.
Как волка ни назови, он все одно в лес смотрит.
Гм хмыкнул Ингленд, скептически разглядывая долговязого англичанина, которого уже считал новым членом команды.Ну, болтать с тобой мне некогда, уж извини. Дай охоты особой нет. А как ты крошку Сэма ухлопал, я видел. Неплохо у тебя это получилось, а ведь он среди нас лучший боец был на клинках.
Англичанин не понял, что его похвалили. Решил, что ему предъявляют претензии.
Надо же, я его ухлопал! Вы отобрали мой корабль и убили всю команду.Он показал на тело капитана Кармо Косту, от опаленной груди которого еще поднимался дымок Вот мой капитан лежит, а какой человек был!
Ингленду эта перепалка надоела, Ангельское терпение отнюдь не относилось к числу его достоинств. Он засунул большие пальцы обеих рук за кожаный пояс и забарабанил по нему.
В общем, дело твое, конечно. Ты человек свободный, решай, я тебя не принуждаю. Я тебя в деле видел и считаю, что тебя можно использовать. Если ты с этим согласен, добро пожаловать. Если же нет капитан повернулся к Жану-Полю.Recharges, enfant!*["847]можешь снова закрыть глаза, и покончим дело миром Ингленд едва заметно улыбнулся.
Француз уже получил из услужливых рук еще один патрон и заряжал мушкет. Капитан по-прежнему постукивал по широкому кожаному поясу.
Имей в виду, добавил капитан, обращаясь к англичанину, как только он зарядит, то сразу выстрелит, не дожидаясь моего приглашения. Можешь мне поверить.
Ругательство англичанина и щелчок взведенного курка мушкета Жана-Поля встревожили присутствующих. Француз прицелился, однако на всякий случай еще раз спросил:
Je tire, mon Capitaine? Стреляю, кэп?
Был у тебя шанс, сучок усмехнулся капитан.
Стойте! крикнул, взмахнув руками, англичанин. Он сделал выбор, на который в таких обстоятельствах решился бы любой Нормальный человек. За исключением разве что святого мученика-страстотерпца. Или Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа. Но какому капитану нужны в команде Христос либо святой великомученик?
Закончив разговор с англичанином, команда Ингленда принялась на обоих бортах приводить все, что можно, в относительный порядок. Главная задача восстановить мореходность купеческого брига. Застучали молотки, топоры, посыпалась необходимая в процессе любого труда рабочая ругань. Сращивались лопнувшие концы, латались перебитые реи, заделывались пробоины.
Пираты оказались умелыми мастеровыми, и не диво, ведь от ловкости рук зависела их жизнь. С должным уважением они предали воде покойников и даже палубу вымыли с грехом пополам. Раненых лечил вечно пьяный коновал, которого капитан именовал хирургом, а остальные пираты вообще избегали упоминать, боясь его пуще виселицы. Этот пыточных дел мастер останавливал кровотечения исключительно кипящей смолой. Другого доктора, однако, взять было неоткуда, поэтому пираты довольствовались тем, что есть.
Уже через несколько часов после схватки Виктория и Риа де Понтеверда двинулись в путь. Не откладывая дело в долгий ящик, англичанина привели к присяге, устроив традиционный обряд посвящения в общество джентльменов удачи.
Церемония эта выглядела цирковым аттракционом, однако, по сути, представляла собою переломный момент в судьбе всякого, в честь кого она устраивалась; каждый, кто прошел ее, знал, на что себя обрекал на возможное награждение пеньковым галстуком, на виселицу, в случае поимки фрегатом какого-нибудь из многочисленных европейских величеств.
Команда стянулась к грот-мачте, причем главное внимание пираты уделяли не виновнику торжества, а пузатому бочонку с ромом, содержимое которого перетекало сначала в мятые щербатые кружки, а затем, без задержек и проволочек, в обширные пасти пиратов, производя горячительное воздействие на тела и головы. Капитан Ингденд в ознаменование события даже переоделся. Во всяком случае, нацепил лихо, набекрень шляпу с кудлатыми перьями.
Он солидно восседал в массивном резном кресле с высокой спинкой, специально принесенном из капитанской рубки.
Шумное действо несколько напоминало ритуал в честь пересечения линии экватора здесь неофита так же оголяли, намыливали, совершали его омовение и завязывали ему глаза.
Определив подходящий для этого момент, благодушно улыбающийся Ингленд бухнул о палубу семифутовым клыком нарвала,*["848] который выполнял функцию его жезла или посоха.
Эге-гей, многоуважаемые братья! провозгласил он.В жизни еще одного несмышленыша наступил торжественный момент. Это дитя становится нашим товарищем, вольным гражданином морей. Стяни с глаз его пелену слепоты, мистер первый помощник, открой ему свет истины нетленной, вложи острый меч в длань его.
Повеление капитана тут же воплотилось в жизнь, и несколько ошеломленный англичанин снова усиленно заработал веками, привыкая к свету и озирая толпу вооруженных пиратов, которые мерно колыхались вместе с ним и судном в неспешном плясе бортовой качки.
Итак, продолжил Ингленд, по святому обычаю, каждый брат, ведающий что-то, препятствующее вступлению этого дитяти в наше братство, да выскажется незамедлительно, Или да умолчит об этом вовеки.
Эта пародия на церемонию церковного венчания в данном случае имела сугубо практический смысл. Каждый, кто горел желанием расквитаться с чужаком за потерянного друга Шестеро убитых англичанином взывали к отмщению, мог заявить о своем желании и получить шанс стать седьмым в компании покойников. Трупы пиратов спустили за борт с доски, привязав к ногам пушечные ядра. Погибшие моряки Риа де Понтеверда такой чести не удостоились к их животам небрежно примотали балластные камни. Капитанский призыв вызвал тихий гул, народец принялся перетаптываться и переталкиваться. Те, чьими дружками считались погибшие от руки окаянного островитянина, обнаружили вдруг что-то интересное на носках собственных сапог, заметили какую-то редкую птаху небесную или отделались откровенными кривыми ухмылочками. Гудение остальных приобрело несколько разочарованный оттенок: пропало такое развлечение!
Да будет так! воскликнул капитан, выдержав приличествующую случаю паузу. А теперь, новый брат наш, предлагаю тебе подписать Артикулы, как это сделали все мы до тебя.
Первый помощник торжественно возложил на бочку, служившую Ингленду столом, толстенный гроссбух с медными застежками. Его ассистенты поставили рядом чернильницу и песочницу, положили перо, все честь по чести. Книга в тисненом кожаном переплете служила когда-то доброму негоцианту, объеденный рыбами скелет которого уж развалился на косточки и белеет во тьме морской, а то и донным илом зарос. Страницы, исписанные изящным почерком торговца, грубо вырваны, а на первой из оставшихся рука не шибко грамотного океанского бродяги размашисто и кривовато накарябала текст пиратской присяги.
Ты грамоте обучен, брат? поинтересовался Ингленд.Или прочитать тебе пункты без спешки, чтобы вник, понял и продумал, прежде чем подпишешь?
Буквы знаю, буркнул англичанин.
И читаешь складно?
Прочту.
Гм, несколько удивился Ингленд, ибо, кроме его помощников и пушкаря, ни один из пиратов, даже доктор, грамоты не знал. Тогда прочти нам, брат, чтобы все услышали. Не помешает.
Англичанин подтащил книгу ближе к фонарю.
Сии Артикулы
Громче! крикнул Ингленд.Чтобы и эти друзья услыхали.Он указал на воронье гнездо на верхушке мачты, в котором мотались на ветру двое впередсмотрящих.
Сии Артикулы заорал новый брат что было мочи. По доброй воле и в трезвом сознании вступаю я и торжественно клянусь. Артикул первый. Повиноваться командам капитана моего во всех делах, касаемых мореплавания, а равно бой дальнего и ближнего, под Страхом Моисеева закона, как то: сорок ударов линьком, за вычетом одного, по спине оголенной
Всего пунктов в книге Ингленда оказалось двадцать три, главным образом вполне разумные, очевидные требования, касающиеся дисциплины. Без соблюдения таких правил Невозможна жизнь никакого судна с тех древних времен, когда началась история мореплавания. Не остались забытыми и такие бытовые детали, как курение тайком под палубами и осквернение мочой трюмного балласта. Уличенный в этом мерзавец, поленившийся в темную ночь пробраться на нос, к отведенному для отправления естественных потребностей месту, без всяких отговорок выпивал пинту той же жидкости, излитой товарищами по команде. Сурово наказывалось присвоение добычи помимо законной процедуры дележа. По сути, требования эти не отличались от принятых и на других пиратских посудинах, бороздящих просторы Индийской Карибики.
Конечно, иной корабельный устав не обходился и без причуд. Отличались своими особенностями и Артикулы Ингленда. За применение пыток, к примеру, он вешал. Уличенных в мужеложстве положено было связать вместе с зажатым между ними балластным камнем и вышвырнуть за борт. А за изнасилование совершенно неслыханный пункт в уставе пирата! надлежало кастрировать. Но даже это пираты терпели, ибо тяга к золоту пересиливала половое влечение, а по части вынюхивания добычи с Инглендом мало кто мог сравниться во всех морях планеты.
Свежеиспечённый братец добросовестно проорал все пункты, переводя дух после каждого, и добрался до конца. Далее следовали четыре четкие, вполне читаемые подписи, одну из которых вывела та же рука, что и сами пункты. Остальные имена, изображенные с разной степенью неумелости и безграмотности, чередовались с десятками, а то и сотнями крестиков, затейливых загогулин и рисунков. Рыбки, птички, слоники, обезьянки целый зоопарк. Явления общественной жизни представляла виселица с повешенным. Кто-то ностальгически изобразил сельский домик. В символике преобладали череп и скрещенные кости, подобным же образом расположенные мечи, шпаги, бердыши, мушкеты Англичанин задержал взгляд на мастерски выполненном автопортрете размером с пенни, не уступающем работе лучших лондонских карикатуристов. В этом неграмотном художнике погиб несомненный талант. Погиб в буквальном смысле слова, ибо портрет и приписанное к нему, как и ко всем остальным меткам, имя аккуратно, по линеечке вычеркнула красными чернилами чья-то заботливая рука, указавшая тем же красным цветом и дату гибели. Много, много строк в списке перечеркивала узкая кровавая полоска.
Англичанин вздохнул, поднял перо, погрузил его в чернила и на мгновение замер. Англичанин он лишь наполовину. Отец его, португальский моряк, женился на англичанке и поселился в Бристоле. Сын его статью и силой удался в отца, от матери унаследовал цвет волос и кожи. Он удрал из дому в тринадцать лет, спасаясь от отцовского ремня; моряцкому ремеслу учился у других.
Отец дал ему имя Жоао де Сильва. Многие патриоты воротили носы от такого имени, но он не находил оснований стыдиться. В отличие от своих соотечественников, Жоао не считал иностранцев, иноверцев и иноплеменников ниже себя лишь на том основании, что они отличаются от него обличьем. Ведь в Святой Книге указано человек слаб, без уточнения рода и племени. А жизнь морская показывала, что главное в товарище по команде как он себя ведет, когда разыграется стихия. И опыт научил Жоао, что в этом вопросе ни национальность, ни раса, ни вероисповедание роли не играют. Но откуда он родом, уроженец Бристоля тоже не забывал, а посему, вздохнув для верности еще разок, решительно подписался: Джон Сильвер.
Глава 2
4 января 1749 года. Карибское море. Борт боевого судна Его Величества Элизабет
Капитан Спрингер с трудом сдерживал гнев. Лейтенант Флинт, процедил он сквозь зубы клянусь, если я еще раз услышу эту байку, то закую вас в кандалы. Ну, если так покачал головой Флинт, то молю Небо, чтобы вас постигло такое же проклятие, как меня. Четыре года с Энсоном, цинга, крушение надежд и корабля, скорби и болячки А хуже всего глядеть, как в Лондоне выгружают тридцать два воза золота, и знать, что ни пенни тебе не обломится! Спрингер искоса осмотрел квартердек.*["849] Мичмана и матросы себе на уме, тоже косятся, глядели исподлобья. Мистер Бонс, первый помощник Флинта, буквально поедал лейтенанта взглядом, как будто ждал от него приказаний. На душе у Спрингера кошки скребли. Бонс предан Флинту до мозга костей. Хорошо, хоть сержант морской пехоты Доусон держится капитана. И Доусон эту перебранку при команде явно не одобрял. Мистер Флинт, капитан выразительно посмотрел на лейтенанта.На пару слов. Спрингер отвернулся и отошел к подветренному борту, где остановился, поджидая Флинта. Капитан, конечно, старый морской волк. Неуклюжий, тяжелый, уже почти старик, с брюзгливо отвисшей нижней губой и водянистыми светлыми глазами. Щетина на физиономии такая, что никакая бритва не одолеет, Флинт же гладкий кот, смуглоликий, за итальянца можно принять. Походочка пружинистая, улыбка лучезарная. Худощав, подтянут, роста среднего, но всем кажется высоким. В общем, мастер пыль в глаза пустить, фанфарон. Вот они друг напротив друга, сцепились JB споре. Оба в синих длинных сюртуках с начищенными до блеска латунными пуговицами. Сюртуки символ их положения. Поношенные, залатанные, вылинявшие на солнце, сшитые из тяжелой шерсти, не подходящей для тропиков. Но это форменная одежда А все остальное сплошная отсебятина. Щтаны, рубахи, башмаки, а пуще всею широкополые соломенные шляпы, защищающие от солнца. Лишь по сюртукам сразу видно, что они офицеры морской службы Его Величества короля Георга Второго. Элизабет вышла в море с недоукомплектованной командой, они оба единственные на борту штатные офицеры. И спорить при всех чистой воды безумие. Мистер Флинт, снова повернулся к лейтенанту Спрингер.Остерегитесь. Если мы продолжим в том же духе, дисциплине на борту конец. Я твердо намерен выполнять приказ и следовать в Сан-Бартоломео И проворонить колоссальную добычу! завершил Флинт фразу капитана. Мы назвали эту калошу Элизабет, но она всегда именовалась Изабелла ла Католика, и как была, так и осталась испанской во всем, от килях*["850] до клотика.*["851] И надо это ее обличье использовать. Мы же к любому испанцу подойдем вплотную Но мы с донами больше не воюем, черт бы вас подрал! Уж скоро год Ой, не смешите меня, сэр! отмахнулся Флинт. Войны, может, и нет, но мира и подавно. А тем более здесь. Тут кто кого может, тот того и гложет. Все мы одного пошиба англичане, доны, французы. Все грыземся за каждую кость. А я знаю, где нашу добычу купят за наличные без всяких векселей и лишних вопросов. : И думать забудь! прорычал Спрингер, но без особой уверенности. Флинт мгновенно уловил колебание и сменил тон. Чуткий, пролаза! Может обворожить, когда пожелает. Сладким голосом сирены запел он на ухо капитану: Слушайте, сэр, все обставим так, что комар носа не подточит, клянусь. В мои планы вовсе не входит подвести вас. Калитан знал цену словам Флинта и не слишком им доверял, но эта бестия так мягко стелила, что старый волк решился выслушать молодую Лису. Ага! безмолвно возликовал Флинт. Он понимал, что душу капитана разъедала подавляемая жадность и что если бы нашелся способ примирить эту чувстпом долга, то задачка быстро бы решилясь. Дело в том, сэр начал Флинт, как бы колеблясь. Ну-ну? Дело в том, что из-за этого паразита Энсона я потерял свою долю величайшего приза и не хотел бы, чтобы вас постигла та же участь Рык Спрингера прервал воркование лейтенанта. Флинт задел не ту струну, и дальнейший разговор потерял всякий смысл. Флинт ходил с Энсоном в знаменитое кругосветное плавание 17401744 годов, когда захватили манильский галеон, самый крупный приз за всю историю британского мореплавания. Но незадолго до этого Спайдер Флинта сел на рифы у мыса Горн, и Энсон снял команду на свой Центурион, где офицеры Спайдера пребывали фактически в качестве пассажиров. По уверению Флинта, Именно поэтому они Лишились права на долю добычи. Ну да, это ужасная несправедливость, но сколько можно твердить об одном и том же! Мистер Флинт, рявкнул капитан, немедленно вернитесь к исполнению своих должностных обязанностей, иначе я за себя не отвечаю. Спрингер резко отвернулся и крикнул сержанту Доусону: Людей на палубу, тысяча чертей! С боезапасом! Штыки примкнуть!. Тут же заорал и Доусон. Во мгновение ока отряд матросов выстроился на квартердеке, поблескивая штыками, примкнутыми к мушкетным стволам. Мистер Бонс! Команду наверх! Есть, сэр! с готовностью откликнулся мистер Бонс, и после пятнадцати минут ругани, понуканий, толкотни и топотни более полутора сотен бравых мореходов сползло с рей, просочилось из трюмов и рубок и скопилось на шкафуте.*["852] Там они и переминались с ноги на ногу, щурясь на солнце, ловя дырявую тень от парусного вооружения и рангоута, задирая головы к квартердеку. Сверху, доверив созерцать свою спину офицерам и солдатам, к команде обратился капитан Спрингер. Он многословно напомнил команде о священном долге выполнить, приказ коммодора*["853] сэра Джона Филипса, каковой повелевал занять, укрепить и удерживать островок Сан-Бартоломео. Особо распространился капитан по поводу стратегической важности указанного острова, жемчужины британской короны. Остановился и на страшных карах отступникам и ослушникам согласно действующим законам военного времени. Команда все это не раз слышала. Все знали и о тайных каперских устремлениях лейтенанта Флинта. Он не только не делал из них секрета, но и постарался донести до каждого члена экипажа. Поэтому команда понимала, что обращается капитан не к ним, а к самому себе и лейтенанту Флинту. Им обоим капитан Спрингер, очевидно, не слишком доверял и старался поминанием короля и его законов удержать себя и Флинта от искушения. Похоже, в этот раз капитанская уловка подейсгвовала и судно Его британского Величества Элизабет продолжило путь из вожделенной Карибики по запланированному маршруту. Оно направлялось к точке на географической карте, соответствующей широте и долготе, которые сообщил коммодору сэру Филипсу один бедолага. Он чудом спасся от гибели во время крушения португальского барка у берегов Ямайки. Элизабет довольно крупное судно. Восемь сотен тонн. Два десятка медных пушек. Корабль, конечно, старомодный с латинским парусом.*["854] на бизань-мачте*["855] с вулингом*["856] под бушпритом*["857] на манер детского слюнявчика и с румпельным рулем*["858] вместо штурвала с тросами, однако вовсе не запущенная посудина, а удобное и даже уютное судно. Неперегруженная, при доброй погоде в природе и в политике, Элизабет могла бы показаться раем земным. Так нет же! Что касается фок-мачты,*["859] то это место команда Элизабет теперь считала, скорее, адом. Мистер Флинт, потерпев афронт в своих потугах соблазнить капитана, вымицал зло на подчиненных. Как старший помощник капитана он был наделен широкими полномочиями, чтобы изгадить жизнь экипажу, к тому же природа наградила его склонностью к деятельности подобного рода. Отчего ж не наказать того, кто последним свалился на палубу во время парусных учений! Или того, кто поутру последним поднялся с подвесной койки. До этого любой додумается, Но немногие сообразят, как Джо Флинт, заставить одну смену обедающих приготовить грог другой смене, а затем стоять рядом и глазеть, как те его лакают. Или обязать вахту левого борта загадить палубу правого борта и наоборот для последующего отскребания и оттирания. Мистер Флинт личность творческая. Уличив гордого владельца трехфутовой косы в таком, к примеру, преступлении, как не понравившееся господину старшему помощнику выражение лица, Флинт приговорил его к усекновению смоленой косы на один дюйм. На следующий день, однако, он придрался к новому проступку владельца длинной косы Наказание повторялось до тех пор, пока косу не отчекрыжили по самый затылок.. Заснувшего за вахте матроса Флинт заставил выкинуть за борт любимую обезьянку. У другого любителя тварей божьих он отобрал попугая, дабы птица не гадила на палубу. Хотя все знали, что попугай всегда отлетал от судна, чтобы справить нужду над морем. Но Флинт пожелал заиметь птицу и все тут. И вот она уже восседала на его плече, привязанная за лапку. Еще он придумал фокус для желающих избежать порки заменить ее игрой во флинтики. Мистер Мерри, сурово обратился как-то Флинт к очередной жертве. Я собственными глазами видел, как пы изволили сплюнуть табачную жвачку на спежеотдраенную палубу. Вам за это полагается две дюжины ударов плетки. Не так ли, мистер Бонс? Так точно, сэр! поддакнул следовавший за Флинтом по пятам Билли Бонс. Я распоряжусь, сэр. Пожалуйте к люку, мистер Мерри! Джордж Мерри побледнел; остальные, кто оказался поблизости и не имел возможности удрать подальше, увлеченно занялись своими делами, избегая даже глядеть в опасную сторону и вообще стараясь стать как можно меньше и незаметнее. Пока не надо, задумчиво протянул Флинт.Может быть, мистер Мерри пожелает сэкономить кожу на спине. Ежели захочет, конечно. И если я не буду возражать. Билли Бонс удивленно разинул пасть, а физиономия Джорджа Мерри засветилась надеждой. Сразимся во флинты, мистер Мерри? Во флинтики сыграем? спросил Флинт, запуская пальцы в зелень перьев попугая. Сыграем, сэр! воодушевленно отозвался Мерри. Отлично. Прошу вас, обеспечьте бочоночек, мистер Бонс, да дрын какой-нибудь вон, хоть тот клинышек. Бочонок Флийт установил на попа, матроса усадил по-турецки по одну сторону, сам опустился по другую, напротив; положил увесистый дубовый шип на днище бочонка и засунул руки в карманы. Подходите, подходите, ребята, позабавимся, веселая игра намечается! радушно пригласил Флинт жавшихся поодаль членов экипажа Ну, Мерри, улыбнулся он своему партнеру, играем так: я держу руки в карманах, а вы, ваша милость, на кромке бочонка. В наступившей тишине Мерри послушно положил руки на край бочонка, согласно указанию. Теперь, Мерри, в любой выбранный вами момент попытайтесь схватить эту палочку. Схватите ваша победа, и о порке забудем. Не поймаете можем продолжать, пока вам не надоест, а ежели надоест, извольте получить обещанные две дюжины по своей уважаемой бизани. Мерри задумался. Глянул на Флинта. Перевел взгляд на шип, покоившийся в паре дюймов от его пальцев, на дне бочонка. От напряженного раздумья он даже язык высунул И рванулся к палке. Хрясь! Неведомо как оказавшийся в руке Флинта шип расквасил ноготь Мерри. Реакция и скорость лейтенанта превзошли все ожидания. За взрывом хохота зрителей никто не услышал вырвавшегося изо рта Мерри крика боли. Попугай на плече Флинта, птица порядочная и благовоспитанная, человеческих безобразий не терпевшая, заскрежетал, захлопал крыльями и разразился потоком ругательств на разных языках мира. Чтобы придать вес своим словам, попугай клюнул Флинта в ухо. Под еще один взрыв хохота лейтенант сам разразился руганью в адрес попугал, скинул с плеча поводок и отшвынул забияку прочь. Тот взлетел повыше и уселся на рее, продолжая возмущенно бормотать. Флинт овладел собой, улыбнулся, вернул деревяшку на днище бочонка, а руки засунул в карманы. Продолжим, Джордж Мерри! Или желаете подставить спину? Мерри снова схватил то есть попытался схватить палку, но на этот раз кровь брызнула в стороны из его большого пальца. Он снова завопил, и опять за громовым хохотом команды никто его вопля не расслышал. Еще несколько тщетных попыток, и Мерри, поняв бесполезность своих потуг и плачевность их результата, предпочел альтернативное решение. На что лейтенант милостиво согласился. Попугай же вернулся к Флинту, потому что никто из команды не отваживался его кормить, а капитану Спрингеру, трезвому или пьяному, все равно, плевать было на всякие мелочи. Казалось, попугай даже извинялся за свою чрезмерную чувствительность. Он опустился на плечо хозяина, захватил мощным клювом прядь длинных черных волос лейтенанта и медленно протянул волосы сквозь клюв. Впоследствии он восседал на флинтовом плече без всякой привязи, улетая, лишь когда лейтенант учинял очередные безобразия. Постепенно попугай научился заблаговременно угадывать, когда лейтенантузахочется позабавиться. Тогда он взлетал на мачту и отсиживался там, прежде чем Флинт успевал раскрыть рот. Команда странным образом люто возненавидела невинную птицу. Ее прозвали Капитаном Флинтом. Когда попугай покидал плечо хозяина, команда шепталась и ворчала: Гляди, ребята! Проклятая птица опять на рее Но худшего от Флинта они еще не изведали. Наказать Джорджа Мерри следовало не как-нибудь, а в полном соответствии с уставами военного флота Его Величества, для чего полагалось получить приказ капитана. Эго всего лишь формальность, но на нее время требуется. В ожидании приказа Мерри заковали в кандалы. В утреннюю вахту на следующий после игры с Флинтом день, как водится, команду собрали, провинившегося привязали к поднятой решетке палубного люка и отполосовали на его спине положенные две дюжины ударов. Поскольку Мерри уже потерпел от Флинта во время самой игры, то и наказание перенес не стойко, как положено храбрецу, зажав меж зубами кусок кожи, чтобы не издать ни звука, но с воплями и стенаниями, чем еще более расстроил и без того нерадостную команду. Мерри отвязали, унесли, палубу вымыли, и вот уже стукнуло восемь склянок. Пришло время полуденных замеров. Во время этой церемонии лейтенант Флинт требовал соблюдения полной тишины. Затем команду отослали вниз, обедать. Лучшее время дня. На подвесных столах пушечной палубы расставлены полные миски свинины с горохом, пряностями и солениями, сухари да грог. Шумное, веселое время. Но только не для Джорджа Мерри и его сотрапезников. Джордж сидел, как кол проглотил, неестественно выпрямившись. Он был обернут компрессной бумагой с уксусом корабельный хирург считал это первым средством для заживления разлохмаченной спины. Пальцы Джорджа перебиты ловким лейтенантом Флинтом, поэтому еду и питье подносили к его рту товарищи. Эй, Джордж Мерри! раздался голос от соседнего стола.Тебе, должно быть, не сладко? Да уж, в пляс не тянет, мистер Ганн, вежливо ответил Мерри Бену Ганну. Мистер Ганн сидел за столом квартирмейстеров, людей, способных и судном управлять. Это элита команды, и к ним все всегда обращаются, добавляя мистер. Ну да, болит, конечно задумчиво протянул 1| Ганн. Угу промычал Мерри, закусив губу. И думается тебе, что не по заслугам тебя отделали. Думается Тогда послушай И вы все послушайте, пригласил Бен Ганн соседей Мерри и своих собственных, Бен Ганн человек серьезный и солидный, хотя и странноватый. Его уважают, но и несколько сторонятся. Как будто разум его следует каким-то иным курсом, нежели помыслы его товарищей по команде. Все вы, знамо дело, слыхали от Флинта о манильском галеоне. И как его обошли при дележе, потому как он оказался в пассажирах Ну Еще бы! отозвались сразу несколько голосов. Не одна голова боязливо обернулась, опасаясь, не подкрался ли незамеченным ужасный Флинт. А вот не всю вы историю знаете, ребята. Да ну? присутствующие затаили дыхание. Да, не всю. Флинт и половины не поведал. А мне вот довелось услыхать ее полностью от одного горемыки, который на Спайдере с Флинтом служил Слушатели замерли. От других столов стал подтягиваться народ, уловив настроение соседей.Пассажиром-то Флинт был, знамо дело. Тут не соврал он.Бен Ганн хлопнул для подтверждения сказанного ладонью по столу. Но Энсон и пассажира бы не обидел. Он мужик правильный, настоящий моряк и джентльмен. Если бы Если бы не одна штука Слушатели сверлили его глазами, но Бен Ганн вдруг смолк, погрузившись в какие-то невидимые потоки своих мыслей. Что, что, мистер Ганн? Какая штука, забеспокоились слушатели. Бен Ганн вздрогнул, очнулся. А, да Да вот, что он на борту Слайдера выкинулИ Бен Ганн снова замолчал. Что? прошептал кто-то.Что, мистер Ганн? Бен Ганн вздохнул и тряхнул головой. Гадостная штука, жестокая. Счастье наше, что нас тогда на Спайдере не было, королями живем здесь, припеваючи, сами того не ценим Но Я знаю то, что знаю Что же? Говори, говори! > забеспокоились товарищи, заерзали, кто-то даже легонько подтолкнул Бена Ганна, чтобы Из того резвее сыпались слова.. Все видели, что Ганн борется с собой, выискивая верные слова. Не дело честного моряка поминать этакое. Ужасную задачу взвалил на свои плечи Бен Ганн, и все окрркающие молча ждали, когда он прервет молчание.Глава 3
21 мая 1745 года. Индийский океан. Борт Виктории
Джон Сильвер и капитан Натан Ингленд прохаживались по квартердеку чуть ли не под ручку, никого не приглашая принять участие в их беседе. Погода стояла благоприятная, судно бежало резво, пушки принайтовлены,*["860] матросы по большей части бездельничали. Артикулы, Джон. Наши пункты делают нас теми, кто мы есть. Пиратами, уточнил Сильвер. Ничего подобного. Если я пират, то и Дрейк пират, и Хокинс, и Рейли, и все остальные. А они пришли к титулам и к легальному благосостоянию. Но закон закон Британии отправит нас на виселицу, ежели нас изловят. Не изловят. Но могли бы. Прости, Господи, твою душу, Джон. Что ж, и королева Бесс повесила бы Дрейка, если бы он попался ей в неладное время. Повесила бы, чтобы угодить королю Испании. Она выполняла свою работу, я выполняю спою. Но ДЖОН!!! заорал Ингленд так, что аж паруса вздрогнули и все головы повернулись в его сторону. Физиономия капитана покраснела от гнева. Чего уставились? Нечем заняться? Поищете найдете.Все тут же отвернулись и отправились искать какие-нибудь занятия. Во! Видал? Пираты это или свободно объединившиеся люди? капитан махнул рукой в сторону команды.Настоящая дисциплина это самодисциплина, Джон. Дисциплина свободных людей. Наши Артикулы. Ну-ну, поморщился Сильвер. Черт бы драл твою твердолобость, горячился капитан, теряя терпение.Вот что. Он остановился, обдумывая пришедшую в голову мысль.Идем-ка, я тебе кое-что покажу. Ингленд решительно направился к корме, соскользнул вниз по трапу и ввел Джона в свой кормовой салон. В отличие от некоторых других капитанов, командир Виктории использовал свой салон для работы, устраивал в нем совещания офицеров, здесь же вырабатывались планы операций. Большой стол, стулья, шкафы, ящики, карты Прикрой-ка люк, указал он Сильверу на дверь.Не скажу, что я команде не доверяю, но все же кое-что надо держать подальше от соблазна. Он нашарил ключ, отпер один из шкафов и указал на лежащую на полке черную книгу. Вот они, Артикулы! торжественно указал он на темный кожаный том.Теперь и твое имя там, внутри. А вот флаг, под которым мы хороним погибших Он возложил ладонь на черную ткань.А вот, наконецОн вытащил из глубины шкафа табакерку. Ничего особенного в ней не было. Ни позолоты, на эмали, ни даже резьбы. Такие не носят на виду ради хвастовства. Большая, вместительная, прочная, но простая. Из черного африканского дерева. Глянь-ка, сынок, и скажи, что это работа кровавых пиратов.Он протянул табакерку Сильверу. И что? спросил Сильвер, принимая табакерку. Что, что Открой, дубина чертов! Сильвер расстегнул застежку, откинул крышку, заглянул внутрь. Ничего лишь два круглых кусочка бумаги, с дюйм в поперечнике каждый, на каждом следы древесного угля или стершейся сажи. Пустяк, бумажонки? спросил Ингленд и сам себе ответил:А ведь каждая из этих бумажонок свергла капитана. Одной Летур сместил Дэвиса, другой я сам сместил Летура. Сильвер подцепил пальцем один из кружков. Перевернул. НИЗЛОЖЕН. Единственное слово на незапачканной стороне. То же и на второй бумажонке. И Что это? Черная метка, сынок, черная метка. Средство, которое применяет команда, чтобы снять неугодного ей капитана. Сильвер ухмыльнулся. Как будто детская игра. Только лучше в такой игре не участвовать. Капитан, получивший метку, предстает перед судом команды. И никто не смеет тронуть вручающего черную метку, не смеет помешать ему. Никто не имеет права тронуть и того, кто черную метку готовит. Л тот, кому ее вручают, подлежит суду будь он хоть трижды капитан. Ингленд завладел бумажками и предъявил их Сильверу по очереди. Эту вручили капитану Дэнни Дэвису, жадному до добычи, до чужих доль. Его повесили на рее. А эта для капитана Френчи Летура. Он навлек на команду слишком много бед. Его мы отправили голышом к Ямайке, десять миль пешком по водице. И какой отсюда вывод? Вывод, сынок, такой: мы здесь, на борту этого судна, живем по закону. Так же точно, как на борту любого судна короля Георга Английского, короля Людовика Французского или короля Карлоса Испанского. Разные короли, разные законы. И у нас иной закон, но это закон. Наш устав, наши Артикулы. Следовательно, никакие мы не пираты. Слова капитана звучали столь искренне, с такой убежденностью, что Сильвер кивнул, соглашаясь. Он столько раз уже слышал одни и те же доводы, что утратил способность их опровергать. Да и кому охота думать о себе плохо? Так даже здравомыслящий человек принимает слабо обоснованные гипотезы, если они способствуют его самоутверждению. Ну и ладно, хватит об этом, я тебя не для этого пыл пал.Ингленд смерил Сильвера задумчивым взглядом.Ты неплохой парень, Джон Сильвер, с командой поладил. Знаешь, как они тебя зовут? Сильвер ухмыльнулся: Как не знать! Ну, скажи. Долговязый Джон. Точно. Долговязый Джон Сильвер. Ты и вправду самый у нас долговязый. И один из лучших, не захвалить бы. Прирожденный мореход и вояка бравый. Можешь вести за собой. Так вот, Долговязый Джон Сильвер, я задумал сделать тебя офицером. Мало того, что у тебя хватка подходящая, так ты еще читать-писать умеешь да и в арифметике силен. А это у моряков встречается не чаще, чем яйца у евнуха. Я сегодня же начну готовить тебя на третьего помощника. Что на это скажешь? Большое спасибо, капитан! рука засиявшего от радости Сильвера взметнулась к шляпе в салюте. Ты, как я понимаю, и сейчас не лыком шит. Курс держать можешь? Смогу. Вот и покажи. Пошли к штурвалу. Они направились на мостик. Обменялись приветствиями с вахтой, с рулевым и первым помощником. Дай-ка мистеру Сильверу попробовать. Курс норд-норд-вест и по возможности ближе к ветру. Рулевой убедился, что Сильвер перехватил штурвал за торчащие из него рукоятки, и отступил назад, предоставив управление судном стажеру. Ингленд и первый помощник стояли рядом, наблюдая за действиями испытуемого. Удержать судно на курсе задача не из сложных, тем более что Сильвер многократно занимался этим на других судах и набил руку, навострился следить за парусами и идти по заданному курсу, не насилуя штурвал, минимальными усилиями, Однако это задача и не из самых простых, поэтому действия Сильвера вызвали одобрительные улыбки капитана и первого помощника. Команда глядела на долговязую фигуру нового рулевого. По парусам будут предложения, мистер Сильвер? спросил Ингленд, слеша толкнув в бок первого помощника. Я бы фок-топсель*["861] выпустил, капитан, не раздумывая, отозвался Сильвер. Судно выдержит, а рулить легче будет. Предложенное Сильвером выполнили, и Виктория действительно пошла легче, лучше слушаясь руля. Теперь уже и из команды раздались одобрительные возгласы. Неплохо, сдержанно похвалил Ингленд,Займемся теперь ходовой доской. Расскажи мне, что это за штука и с чем ее едят. Есть, капитан! улыбнулся Сильвер, Так же обстоятельно, как принял, он вернул штурвал вахтенному рулевому и шагнул к колонке нактоуза,*["862] в которой размещался компас. Здесь висела на крюке деревянная плакетка с рядами расходящихся от центра отверстий, повторяющих румбы картушки компаса. Из отверстий торчали колышки, прикрепленные к доске тонкими шнурками.Каждую четверть часа по песочным часам с кормы опускают лаг,*["863] определяют скорость судна. Хорошо, кивнул Ингленд, скажем, определили мы скорость, пять узлов. Что теперь? Пять узлов, четверть часа, курс норд-норд-вестСильвер воткнул очередной колышек в соответствующее отверстие и глянул на капитана. Цель этого прибора в течение всей вахты регистрировать курс и скорость судна. Верно. А в конце вахты? В конце вахты вахтенный офицер Сильвер повернул голову в сторону первого помощника и отдал честь, заносит данные о скорости и курсе в таблицу. Тут Сильвер поджал губы. А дальше я не силен, сэр. Ничего, научим, успокоил Ингленд.Но сначала полуденные склянки Рында, небольшой колокол, висящий в своем особом храме на полубаке,*["864] издал четыре пары ударов, возвещая конец предполуденной вахты. Восемь склянок! Смена вахты! заорал боцман. Застучали по палубе босые пятки, вахта правого борта сменила вахту левого, которой пришло время отдыхать. Таков порядок военного флота, и капитан Ингленд не желал иного. Тут же на мостике появился ординарец капитана с большим деревянным футляром треугольной формы. Он открыл коробку перед Инглендом. Сэр! почтительно обратил на себя внимание ординарец, и Ингленд вынул из футляра сложный инструмент, конструкцию из эбенового дерева с латунными шкалами и сложной оптикой, снабженную даже крохотным телеекопчиком и всякими винтиками да барашками. Всем известно; Долговязый Джон, что эта штука называется квадрант, но далеко не все умеют им пользоваться. Сейчас мы с тобой начнем знакомство с этим в высшей степени полезным изобретением, а последующие уроки преподаст тебе второй помощник. Ингленд кивнул второму помощнику, тоже державшему в руках квадрант. Вынул свой квадрант и первый помощник капитана. Полдень, сказал Ингленд.Начало судового дня, и мы сейчас Что с тобой, парень? Сильвер не отрывал взгляда от квадранта. И взгляд этот обеспокоил капитана. Предмет этот почему-то поверг Долговязого Джона в ужас. Видел он, разумеется, как судоводители пользуются таким инструментом, но самому прикасаться к этой походной обсерватории не приходилось. Сложность прибора буквально подавляла и вызывала панику. Есть люди, боящиеся высоты или темноты. Некоторые безосновательно трусят при виде пауков или мышей. Иные не переносят замкнутого пространства или, напротив безграничного. Долговязый Джон увидел себя на краю бездны абстрактного знания, отличного от конкретики бытия, от того, что можно потрогать, погладить или взять в руку. Нет, сэр, ничего. Я внимательно смотрю и слушаю. Трусом Долговязого Джона не назовешь ни в каком смысле. Он заставил себя взять квадрант в руки, вслушивался в пояснения, послушно заглядывал, куда положено, крутил, что велено, и даже задавал вопросы. Но все потуги были напрасными. Он так и не смог подавить в себе беспокойство. И оно перерастало в страх Долговязый Джон боялся выказать себя неспособными опозориться перед капитаном и командой. Позже, в капитанской каюте, когда Ингленд принялся объяснять* ему, что такое широта и долгота, как судно находит путь под куполом небесным, смятение Сильвера лишь возросло. Он вовсю пытался собрать силы, вникнуть в эти пеленги, градусы, минуты, но никак. Голова его пухла, перегревалась, горящий обруч сжимал лоб, виски, затылок, из глаз текли слезы. А когда Ингленд, вооружившись элегантным латунным циркулем-делителем с воронеными стальными иголочками, начал объяснять счисление пути, мертвое счисление, Долговязый Джон закачался и чуть было не рухнул замертво. Уронивший циркуль капитан едва успел подправить траекторию падения незадачливого ученика, ловко усадив его в кресло. Что ты, что ты, Джон? Малярия, дери ее нелегкая? Нет, сэр. Не могу. Не потяну я. Что угодно За юлотом нырять В атаку на абордаж Что угодно Погоди, погоди, не понимаю.Капитан озадачился даже больше, чем сам осознавал. У него не было ни семьи, ни детей, а тянуло кому-то передать свой опыт, вырастить смену, что ли Казалось, лучшего кандидата, чем этот Долговязый Джон, и не найти Не могу, сэр. Ничего я в этих таблицах не понимаю. У капитана отлегло от сердца. Ну, ерунда. Так каждый поначалу думает, не ты первый. Упорство и настойчивость, и все одолеешь. И они продолжили занятия. Упорства им обоим не занимать. Они бились не одну неделю, и иногда Джону даже казалось, что он вот-вот начнет усваивать Но на деле его обучение походило на потуги бесталанного, лишенного слуха музыканта, который пытался воспроизвести всем известную мелодию и плюхал в уши слушателей ноту за нотой, видя на лицах окружающих плохо скрываемую досаду. Не понимаю! поражался капитан. Я своими глазами видел, как ты с точностью до пенни просчитал в уме стоимость груза. Ты можешь осилить абстрактные цифры. А эту штуковину из дерева и стекла никак. Груз я вижу, могу потрогать. А это жеСильвер в отчаянии уставился на инструмент.Это черная магия! Ингленд вздохнул. Значит, никак? Никак. Лучше и не пытаться. Ладно, быть по сему. Офицера я из тебя все равно сделаю, шлюпочного, там оружейного, дисциплинарного Что-нибудь придумаю. Ты способен вести людей за собой, а это главное. Но людей вести одно дело, а кораблем управлять совсем другое. Джентльмен и навигатор Да, боюсь, тебе этого не достичь.Глава 4
4 января 1749 года. Карибика. Борт Элизабет
Флинта насторожила непривычная тишина, воцарившаяся на пушечной палубе. Да еще в обеденное время Это молчание команды могло означать лишь злостное неповиновение, граничащее с бунтом. Флинт ощутил возбуждение охотника, подкрадывающегося к ничего не подозревающей добыче. Ему доставляло удовольствие эту добычу терзать. Он бесшумно спустился по трапу и увидел всех этих идиотов, глазеющих на Бена Ганна, Вот они, кретины, разинувшие слюнявые пасти, с которых капает грог Блаженное мгновение! Сейчас захлопнется капкан одно лишь его словечко заставит этих тараканов выпрыгнуть из своих панцирей. Чтобы не испортить удовольствия, лейтенант зажал клюв попугая. Интересно, чем привлек их внимание этот недоносок Бен Ганн. Чуток терпения, и он узнает. Флинта мучило любопытство, ему страсть как хотелось выяснить, что же собирается сообщить этот идиот Бен Ганн Но Флинта понесло, и он не смог сдержать своего начальственного негодования. Эт-то что такое! услышал он собственный свирепый рык.Что затеяли? Что замышляете? Браные мореходы ощутили себя беззащитными курицами перед клыкастой волчьей пастью. Демоны ада вонзили пылающие когти ужаса в матросские сердца. Флинт, сияющий и безукоризненный, гладкий и подтянутый, с попугаем на плече, стоял, грозно уперев руки в бока. Но от реакции моряков он пришел в такой восторг, что разразился гомерическим хохотом. Попугай заквохтал и захлопал крыльями, пытаясь удержаться на плече развеселившегося хозяина. Флинт щелкал пальцами, притопывал ногой, не в силах успокоиться. Пошатываясь, он направился вдоль столов, рассматривая сквозь выступившие от смеха слезы глупые физиономии окаменевших олухов, дергал их за носы и ободряюще похлопывал по плечам. В этот момент самодовольство полностью овладело лейтенантом, и он уже не помышлял о дальнейших развлечениях. Флинт казался в эти краткие минуты настолько неопасным, что некоторые особо смелые члены экипажа почувствовали, как страх ускользает из них:, испаряется, выветривается сквозь открытые люки и пушечные порты. Они даже отважились выдавить из себя улыбку. Но Бена Ганна после этого ничто не могло подвигнуть на продолжение его жуткой истории, и эта недосказанность о грязной тайне в биографии Флинта заставляла людей вздрагивать при одном упоминании его имени и смиряться под игом его произвола. Спрингер был, конечно, не слепой. Он за всем следил с пренебрежением и ненавистью. Спрингеру стукнуло шестьдесят два. Из них полсотни лет он провел в море со времен короля Билли, когда Господа офицеры презирали команду. Так его учили, таким он и остался. Драл матросов как Сидоровых коз, не представляя, чем еще можно заставить этих ленивых скотов шевелиться. Элизабет, зажатая в кулаке лейтенанта Флинта, была, пожалуй, наиболее ухоженным судном из всех, которыми Спрингеру когда-либо доводилось командовать или на которых приходилось служить. Но было в облике и в повадках лейтенанта что-то, беспокоившее капитана Спрингера. Он пытался сообразить, что именно, но так: и не понял. К сожалению, капитан оказался не в состоянии отличить извращенный садизм лейтенанта от своих жестоких, но принимаемых всеми как должное методов поддержания дисциплины. Инстинктивно он, однако, сторонился Флинта, высиживая долгие часы в своей каюге, перечитывая приказы коммодора Филипса и изучая весьма приблизительную карту, полученную Филипсом от умирающего португальца. Глаза Филипса сверкали, когда он расписывал блестящее будущее этого острова. Вторая Ямайка! Сахар и деньги, деньги, деньги Спрингеру хотелось верить, что Филипс не ошибся. От могучего денежного водопада всегда отлетают мелкие брызги Помечтав, капитан заорал, потребовав бутылку, и вдруг заворчал, проклиная Флинта с его сладкими речами. Конечно, затея лейтенанта могла принести мгновенный барыш, в отличие от миражей далекого острова, которые к тому же казались особенно бесплотными, если вспомнить патологическую скупость коммодора. Однако не ведал Спрингер, что коммодору более уже не представится случая проявить свою легендарную экономность. Жизнь Филипса оборвалась во время страшного шторма 13 февраля 1749 года, швырнувшего его эскадру на рифы напротив мыса Моран у Ямайки. Более тысячи душ прибрал Господь в ту страшную ночь. После катастрофы судьба земли Сан-Бартоломео оказалась в руках капитана Спрингера, что привело к полному забвению даже названия этого острова. Конечно, следовало бы Спрингеру озаботиться настроением команды, дрожавшей под сапогом Флинта. Но как не увидеть множества блестящих качеств лейтенанта! Он знал каждого на борту по имени, знал характеры людей, их странности, особенности. Он отличный навигатор, к тому же аккуратен до чрезмерности: медяшки ярче солнца сияют, палубу можно языком лизать, ни пылинки, ни щербинки. А уж как люди бросаются исполнять отданные им команды быстрее молнии! Иные члены экипажа во главе с Билли Бонсом готовы следовать за лейтенантом Флинтом к черту на рога. Бонс натура без особых сложностей, здоровенный бугай с собачьей потребностью в сапоге, к которому можно льнуть. Он достаточно натаскан, чтобы проложить курс и определиться с широтой. В мышцах у него недостатка не ощущалось, несогласных всегда мог убедить одним ударом кулака. Ума их катало ровно настолько, чтобы распознать таланты Флинта и им поклоняться. Неуклюжему верзиле с плоской грубой физиономией и куцей просмоленной косицей импонировал элегантный хлыщ со скользящей походочкой и волнистыми кудрями. Недостатков же во Флинте, с точки зрения Билли Бонса, просто и существовать не могло. Откуда недостатки у кумира? К тому же и общий страх перед Флинтом Бонсу был не чужд. И он лишь добавлял сияния образу кумира. С Флинтом все упиралось в страх. Природа распорядилась так, что при первой встрече самцы и люди здесь не составляют исключения мердт один другого взглядами: могу я с ним сразиться и победить? Никто не мог выдержать взгляда лейтенанта. Чем-то безумным, нездоровым, связанным с потусторонними ужасами, зияли его глаза. Этот ужас сковал и язык Бена Ганна. У другого офицера такая особенность оказалась бы желанным средством поддержания дисциплины. Но присутствие Флинта служило тяжелой железной крышкой, наглухо привинченной к кипящему котлу. Тем более что жестокость его становилась все изощреннее и обиды жгли души оскорбленных. А капитан Спрингер, одно присутствие которого умеряло бы палаческие инстинкты Флинта, торчал в своей каюте лишь потому, что лейтенант ему, видишь ли, неприятен. Такое развитие собьггай неизбежно должно было привести к взрыву. Но таинственный остров Филипса упредил грядущий взрыв. Пройдя по накатанным торговым путям к северу, чтобы поймать благоприятный ветер, Элизабет свернула на юго-запад и вышла к желанной земле. Спрингер, Флинт и даже высунувший от усердия язык и взмокший от напряжения Билли Бонс подтвердили свою славу искусных навигаторов. Земля! завопил впередсмотрящий с верхушки мачты, вызвав всеобщее возбуждение. Матросы помчались на бак,*["865] полезли по вантам фок-мачты. Спрингер вынес на палубу свою драгоценную карту. Улыбающийся Флинт приподнял над головой шляпу. Все вопили от восторга редкое мгновение поголовного согласия и счастья. Якорь бросить на северо-востоке, мистер Флинт, приказал капитан, впервые дозволяя лейтенанту заглянуть в карту португальца. Флинт скосил глаз в грубый эскиз и оскалил зубы в ухмылке, щекоча затылок попугая, как обычно восседающего на его плече. Проку-то от этой карты, сэр Ни глубин, ни пеленгов. Придется красться на ощупь. Ничего подобного, мистер Флинт, оскорбился Спрингер. Он уже как-то сроднился с картой, да и Флинта терпеть не мог. Добрая якорная стоянка, нет оснований для беспокойства. Гм Флинт покосился на физиономию Спрингера, гадая, сколько он уже успел глотнуть рому. Но ялик с лотом вперед пустим, так ведь, сэр? Есть ялик! отозвался Билли Бонс, маячивший тут же, за Флинтом, при сапоге, и повернулся к экипажу, чтобы проорать соответствующие указания. Физиономия Спрингера побагровела. Отставить! рявкнул он.Заткните свою поганую пасть, мистер Бонс, наглая тварь. Я здесь хозяин и сам поставлю корабль на якорь. Флинт криво усмехнулся, а у Билли Бонса отвисла челюсть. Н-но заикнулся Бонс. Молчать! Или это бунт? Пушками займитесь! И Спрингер повернулся к своему бульдогу.Сержант Доусон, выводите людей. Вооруженная высадка, на всякий случай. Он повернулся к Флинту и Бонсу. На всякий случай. Прошел час, другой, третий Судно обогнуло северную оконечность острова, держась на внушительном удалении ог береговых скал, о которые грохотали солидные валы, взбивая фонтаны брызг и обильную пену. По берегам грелись на солнцепеке сотни черных зверей немалого размера, блестящих, как слизни. Те, кто видел таких раньше, называли их морскими львами. Вдоль берега непрерывной чередой тянулись холмы, один из них, подальше, вырос даже в небольшую гору. Деревья покрывали остров Сплошным густым лесом разных пород. Над общей лесной массой возвышались громадные сосны. Кое-кто негромко поделился с соседями соображениями, что островок маловат, чтобы стать второй Ямайкой, но в общем Настрой команды не оставлял желать ничего лучшего. Остров на глазах вырастал, раскрывая свои секреты. Вон там! махнул рукою капитан Спрингер.Видите? Бухта. Отличная якорная стоянка, сказал бы я. Флинт направил туда подзорную трубу, вгляделся и кивнул. Да, место отличное. Только все же хотелось бы знать, сколько у меня под килем остается, на всякий случай Чуть! буркнул Спрингер, настолько распаленный ненавистью к Флинту, что предпочел забыть свой полувековой мореходный опыт, лишь бы только не согласиться с лейтенантом. Мало ли что этот Флинт там бормочет, пошел он куда подальше. Пусть хоть на колени падает, скотина. Курсовые убрать, топсели на рифы! гаркнул Спрингер команду и проворчал под нос: Войдем как по маслу.Он вызывающе огляделся, но возражений ни от кого не дождался. Народ отводил глаза и расходился по местам, фыркая и что-то бормоча. На восточном побережье острова установилось относительное затишье. Бухта между низкими покатыми утесами раскрывалась где-то на Три кабельтовых.*["866] Залив представлял собой что-то вроде мятой южной вариации на тему норвежских фьордов. Вглубь он тянулся на несколько миль, окаймленный белыми и желтыми песчаными пляжами, за которыми начинались густые кустарниковые и лесные заросли. Далее от берегов рельеф приобретал холмисто-гористый характер. Здесь запросто разместилась бы и линейная эскадра. На судне с румпельным управлением рулевой в данном случае Бен Ганн манипулирует массивным вертикальным рычагом, находясь под палубой на квартердеке и видя сквозь люк лишь паруса и небо. У него перед носом компас для удержания судна на курсе, но более ничего. При заходе на якорную стоянку он полагается исключительно на команды офицеров. Спрингер стоял у люка, и Бен Ганн, естественно, ожидал команд именно от него. Морская пехота тем временем выстроилась на палубе, готовая отразить нападение неведомого противника, пушкари со своими расчетами заняли места у пушек. На палубе растянули якорный канат, боцманская команда подтянулась к кат-балке,*["867] готовая снять стопоры и отдать якорь, а немногие свободные от вахты и иных дел заняли места, откуда открывались наиболее захватывающие виды на остров. Новая, неведомая земля. Может, там золото, серебро тигры, единороги, дикари или дикарки!!! Земля манила, раскрывала объятия, таинственная, неизведанная. Вода была спокойной, ветер ласковым; судно мягко скользило вперед, уверенно и достаточно быстро. Капитан Спрингер утер нос этому сосунку, показал, как ставит судно на якорь бывалый мореход Вот капитан набрал в грудь воздуху, чтобы гаркнуть команду Отдать якорь! Но в этот самый момент вся восьмисоттонная громадина из дерева, железа, брезента и парусины, меди и ее всевозможных сплавов, из пороха в бочках, сухарей, свиной и овощной солонины в бочках, ящиках, желудках вся эта махина внезапно и жутко замерла. Двое матросов плюхнулись за борт ноги уперлись в дно. Хрустнула и рухнула вниз верхняя секция фок-мачты. Боцман крыл всех многопалубным матом, Флинт ехидно щерился, команда хваталась кто за что и тоже потихоньку скалила зубы, а капитан Дэниел Спрингер понял, что показал себя полным и окончательным идиотом.Глава 5
1 июня 1752 года. Саванна, Джорджия
Новость о приближении Флинта облетела Саванну в считанные минуты. Каждая живая душа, если ее только не удерживали цепи, понеслась на берег, чтобы увидеть собственными глазами флот Флинта; взбирающийся против течения мутных вод реки в сорока футах под высоким берегом. Подавляющая часть тысячного населения собралась в орущую, жестикулирующую, возбужденную толпу. Солдаты-красномундирники, черные рабы, разноцветные детишки, белые купцы, пестрые собаки, разряженные шлюхи, пьяные моряки и даже молчаливые индейцы, последние в явном меньшинстве. Люди Флинта славились расточительством, и их пребывание в городишке всем шло на пользу. Капитан Флинт в новом шикарном наряде вышагивал по квартердеку своего судна, его первый помощник Билли Бонс орал, рычал и ругался, подгоняя команду. Три судна бросили якоря, подняв британские флаги из уважения к Его Величеству королю Георгу Второму. Самый крупный из трех Морж под командованием Флинта. За ним стояли бригантина Шапель Ивонн из Гавра и шнява Эрна Ван Рейп из Амстердама, две последние с сильно поврежденными и на скорую руку приведенными в порядок рйигоутом и такелажем. На берегу маялся и потел в респектабельном костюме мистер Чарльз Нил, мужчина плотный, даже жирный. Разумно не приближаясь к обрыву, мистер Нил умудрился, тем не менее, встретиться взглядом с Флинтом. Последний тут же смахнул с головы шляпу и низко поклонился. Мистер Нил выдавил из себя что-то вроде э-э и поднял шляпу над головой. Пыхтя и раздраженно причмокивая, он разглядывал грот-мачту бригантины. Ясное дело, придется менять эту штуковину, иначе далеко на этой хреновине не уедешь, качал головой мистер Нил, размышляя, во что обойдется ремонт. Почему бы этим флинтам не подумать о последствиях (под последствиями мистер Нил подразумевал издержки), прежде чем ломать дорогостоящее оборудование? Думают ли эти флинты вообще, что во что обходится? Пожалуй, нет, пришел к горестному выводу мистер Нил. Ну-ка, парень, обратился Чарльз Нил к рабу, затенявшему его Милость солидного размера зонтом. Дуй поскорее назад, в винную лавку. Скажи Селене, пусть выставляет все лучшее, все столы и стулья в доме, и девиц пусть всех перемоет. А я буду, скажи ей, позже, с капитаном Флинтом. Нил подумал о Селене. Она не подкачает. Лучшая его девица. Нил усмехнулся. Ей, пожалуй, одной и можно доверять. Всего тринадцать месяцев эта девица здесь, а он на нее целиком полагается. Хотя Селена об этом толком и не знает. И Нил подумал о Саванне, о городе если эту дыру можно назвать городом О единственном месте для Селены, где она могла скрыться. Для такого человека как Чарли Нил Саванна, конечно, мерзкая клоака. Ведь он воспитан и образован, мог бы практиковать барристером в Лондоне Ну, по крайней мере, в Дублине Если бы не слишком горячий темперамент и не слишком скорый кулак. И тяжелый к тому же Мистер Нил вздохнул. Надо же, Саванна и Селена ровесники. Им по семнадцать лет. Свежекрашеный городишко на берегу реки, отделяющей Джорджию от Южной Каролины, скучный прямоугольник восемь сотен ярдов на шесть сотен, спланирован по римскому типу, квадратики-линеечки Хижины из прибрежных сосен и крутая лестница к реке, по которой поднимаются мореходные посудины из Атлантики. Жуткая забытая Богом колониальная дыра на краю света. Затхлая и вонючая. Рассадник болезней. В срубах из необработанных бревен толкутся вперемешку люди, свиньи, лошади, куры, рабы И все живут в постоянной опасности набегов краснокожих. Возникнут из леса, глазом моргнуть не успеешь Матерь Божья! поморщился Нил.Это выгребная яма какая-то! Он пожал плечами и тут же вспомнил о плюсах. Здесь не надо постоянно оглядываться, как дома, в Ирландии. Колония короля Георга управлялась советом доверенных, и почти каждого принимали с распростертыми объятиями. Англичане, ирландцы, шотландцы, швейцарцы, немцы; даже отколовшиеся еретики и иудеи всем дорога сюда открыта, и никто не интересуется их прошлыми грешками там, на старой родине. К примеру, не размазал ли ты по стенке святого отца-иезуита за повышенный интерес к какому-либо третьему лицу Лишь испанцев здесь ни под каким видом не принимали, ибо король Георг придерживался твердых воззрений насчет того, кому принадлежит Джорджия и кому она никоим образом не принадлежит. Ну, и вообще католиков не жаловали. Поэтому Кормак О'Нил несколько подкорректировал, свое имя и подверг риску бессмертную душу, раскланявшись с нечестивым протестантизмом. Теперь Нил втихомолку утешался тем, что Чарльз не самое протестантское из английских королевских имен, и надеялся, что Господь в конце концов простит его грешную душу. Наконец, Саванна жила, кипела, росла и ширилась. Близость карибских сахарных островов способствовала торговле. К тому же открывались и многие иные возможности. Законы короля Георга просыпались в Саванне лишь по воскресеньям. А в остальные дни дела вершились на основе взаимного доверия, более благоприятного для экономики, чем любые законы. Вот и в делах со всякими флинтами Нил полагался только на взаимное доверие. Флинт доверял Нилу превратить доставляемые им суда и товары в наличность, а Нил доверял Флинту перерезать себе глотку в случае попытки обмана. Через полчаса шумная толпа прибыла к. Ниловой винной лавке, почтительно следуя за ведущей шествие парой: Флинт под ручку с Чарли Нилом. Винная лавка представляла собой вытянутый сарай с сотней посадочных мест: длинные столы с прочными скамьями и табуретками. Земляной пол усыпан свежим песком и опилками. При сарае построены прочные флигели для хранения напитков и под кухню. В торце сарая стояли наготове, емкости с пойлом, перед ними тоже наготове, как, пушкари перед боем, выстроились девицы, по большей части чернокожие. Войдя в питейный сарай, Нил одобрительно кивнул Селене. Она кивнула в ответ с достоинством, торжественно и нейтрально, как соседу мало что о ней знающему. На самом же деле Нил мало что о ней не знал. Главное ему было известно, во всяком случае. Селена была беглой. Того пуще убийцей. На пороге Нила она возникла с перекинутым через плечо мешком, сварганенным из простыни. Мешок лопался от тяжести золотых и серебряных изделий, похищенных из дома ее бывшего хозяина. И деньги, при ней, вне сомнения, были взяты у неостывшего трупа, сразу же после того, как она прекратила беспорядочно тыкать в него кинжалом или пристрелила Или, благослови, Господь, его душу, каким другим манером проводила в мир иной. Слабое юное создание, хрупкий ангел, ухлопавший мужика весом в 14 стонов.*["868] Нил не знал только, Каким способом она это совершила и как добралась до Саванны. Иной раз Нил дивился этому обстоятельству. Как мелкая шестнадцатилетняя дрянь умудрилась провернуть дельце, которое по силам разве что прожженному рецидивисту? Сбежала без плана действий во тьму ночную, в дикую местность, по которой рыщут кровожадные краснокожие каннибалы, имеющие особую склонность к длинноволосым женским скальпам. Да и белокожие здесь не лучше. Как и везде, впрочем. Каким-то образом Селена оплатила путь, если не деньгами, то иной валютой, которой Господь снабдил слабый пол, дабы вводить во искушение пол сильный. А у нее этой валюты навалом. Просто куколка, и мордашкой взяла, и всем остальным У любого слюни потекут. Ладно, ладно одернул он себя. Нилу уже за шестьдесят, так что женские прелести стали ему не по зубам. Его нежные мысли и заботы посвящены исключительно угловатому денежному ящику. Короче, он принял Селену вместе с ее деньгами, сделал своей законной собственностью, обезопасил всеми необходимыми официальными бумагами, перекрасил волка под невинную овечку. И вот она ведет его в винный сарай и отдает уже честно заработанные деньги. И все в его заведении, как Чарли Нил и ожидал, готово к приему гостей. Есть и что выпить, и чем закусить. Откупорены бутыли, вскрыты бочки. Дым валит из очага, повара кромсают свинину, потрошат рыбу. Оконные ставни распахнуты, пропускают свежий воздух, за окнами болтается парусина, отражая атаку жаркого солнца. В углу уже наяривает домашний оркестр: две скрипки, три дуделки, блестящая труба и мулат-барабанщик. Королями вплыли в сарай Флинт и Нил, сопровождаемые Билли Бонсом и обладательницей самого пышного бюста во всей Саванне, никогда ни с кем не делившей ложе, ну разве что с настоящим джентльменом, посулившим щедрое вознаграждение. Далее следовали господа судовые офицеры, команда вот уже и сесть некуда. И сразу начался бедлам. Селена и ее девицы носились что твои белки, выполняя все законные желания посетителей и едва успевая отбиваться от незаконных, увертываясь от похотливых лап и шлепая по ним на бегу. Вино и жратва в глотки, деньги в кассу сплошная идиллия. Гости заказывали музыкантам песни и с энтузиазмом подпевали так, что аж стены дрожали. Кому была охота, могли и сплясать меж столами. Переполненные мочевые пузыри опорожнялись в углах, вспыхивали ссоры и драки, свиньи подбирали объедки. А кое-где, спрятавшись под столами, уже совокуплялись лихие мореходы и местные девы радости аж посуда над ними, на столешницах, тряслась и звенела. Зрители, сунув головы под столы и выпятив зады наружу, зычно подбадривали актеров. Нила и Флинта обслуживала сама Селена. О, Селена! Нил принял от нее ромовый пунш. Мистер Нил! поклонилась она хозяину.Сэр! Такой же поклон Селена адресовала Флинту, шикарному разряженному кавалеру, каких она еще и не видывала. Дорогая! засиял улыбкой Флинт. Нил же все примечал, взвешивал и раздумывал. Поласковей, поласковей с капитаном, поучал он Селену, но у нее работы было выше головы, тут уж не до ласк, улыбнуться толком и то некогда. Оглядеть капитана и его команду Селена, впрочем, успела. И увиденное ей понравилось. Они на удивление были молоды. Если не считать офицеров, всем едва за двадцать. Загорелые, задубелые, разодетые для отдыха на берегу: белые штаны, башмаки с пряжками, яркие рубахи и чулки, головы обвязаны шелковыми платками. У всех татуировки, в ушах золотые серьги, и на каждом целый арсенал оружия. Но главное, что отличало их от обычных торговых моряков, даже не пистолеты и клинки, а создаваемая ими особая неспокойная атмосфера. Саванна в пятидесятые годы XVIII столетия место не для слабаков, но и по местным стандартам цыплятки Флинта казались коршунами. Однако нынче все они пребывали в добром настроении и за пару часов надрались до бессознательного состояния. Веселье затихло, Флинт и Нил удалились обсуждать дела, Селена и ее команда принялись разгребать свинарник, в который превратился питейный сарай. Селена заскочила в кладовую, чтобы пересчитать бутылки, и услышала сзади звук шагов. Обернувшись, девица едва не подпрыгнула, увидев перед собой совершенно трезвого мужчину в чистой, незагаженной одежде. Прежде она его не видала. Это явно не одна из тех пьяных свиней, которые очнулись и поднялись на задние копыта, чтобы поискать еще пойла. Она оглядела незнакомца и нахмурилась. Селена узнала его. Уж о ком, о ком, а о нем она наслышана. Селена и флинтовых головорезов увидела сегодня впервые, однако в Саванне о них частенько поговаривали, так что поневоле узнаешь да и Чарли Нил, тесно связанный со своей опасной клиентурой, просвещал девушку. У этой публики сегодня один главарь, завтра другой. Поэтому Нил старался держаться в курсе событий, вникать в дрязги, свары и заговоры внутри этого сообщества. Потому-то Селена и поняла, кто перед нею. Длинный, светловолосый, широколицый; глаза большие, умные. Очень аккуратный. В общем, такого ни с кем не спутаешь. Вошедший отвесил Селене придворный поклон, расписавшись в воздухе шляпой. Джон Сильвер к вашим услугам, мэм. Долговязый Джон! вырвалось у нее. Вас называют Долговязым Джоном, так? Совершенно верно, мэм, он самый. Ловко вы меня вычислили.Он не переставал улыбаться.Ладное вы создание, сударыня, ловко скроенное. А по речи судя, так самая настоящая леди. Дивлюсь я, как такое могло случиться? Селена на этот чреватый неприятностями вопрос ответила своим вопросом. Долговязый Джон Сильвер. Вы тот самый, которого боится капитан Флинт? Да благословит Господь вашу невинность, в ужасе воздел руки Сильвер. Откуда столь прелестное существо почерпнуло эти клеветнические измышления? Вся эта шушера так болтает, кивнула Селена в сторону питейного зала. Ай-яй-яй как-то обреченно покачал головой Долговязый Джон, как бы получив удовлетворительное, но не радующее его объяснение прискорбного факта.Конечно же, бедные ребята И он принялся загибать пальцы, называя имена бедных ребят:Джордж Мерри, Бешеный Пью, Черный Пес Он нахмурился, как пастор, незадачливые ученики которого никак не могут освоить катехизис.Даже высокочтимый мистер Билли Бонс Многие из моих добрых друзей не умеют держать язык за зубами,опрокинув в себя бутылку-другую. Улыбка доброго дядюшки вернулась на его физиономию, он опустил руку на обнаженное в соответствии с модой плечо Селены и нежно его погладил. Не верьте, не верьте этим клеветникам, дорогуша. Селена, не разделяя его благодушия, стряхнула с плеча крепкую мужскую руку. Она силилась понять, чего этому типу надо от нее. Долговязый Джон прищурился и слегка склонил голову к плечу. Кстати, раз уж мы об этом случайно разболтались О чем эти пустобрехи там трепали? И почему славный капитан Флинт, храни его Всевышний, должен меня бояться? Потому что вы хотите отнять у него корабль, сообщила она то, что сама лишь недавно услышала из многих нетрезвых уст. Чтоб меня черти на куски разодрали! в ужасе закатил глаза Долговязый Джон Сердце кровью обливается! Слышать такую клевету из милых уст невинного дитяти! Я-то, бедный, сил не жалеючи, тружусь, стараюсь, чтоб только капитану угодить Селену зачаровала игра мимики и жестов собеседника. Она чуть было не поверила, что он сокрушается совершенно искренне, но Сильвер вдруг шагнул, оказался к ней вплотную и провел рукой по ее щеке. Она попыталась выскользнуть, вдруг поняв, чего он от нее хочет, однако путь к бегству оказался отрезанным. Долговязый Джон зажал невинное дитя в угол. В любой момент я могу доказать преданность моему дорогому капитану, продолжал он болтать, уже прижав Селену к себе.Ибо ежели я чего пожелаю, то и беру, дорогуша. Кишка тонка! снова повторила она то, что слышала у столов.Потому что вы не умеете ни курса проложить, ни с циркулем обращаться, ни с квардадром или как его там Физиономия Сильвера исказилась, как будто Селена сунула ему раскаленную докрасна кочергу в причинное место. Да брось ты! выдохнул он. Да! Слабо тебе! Это работа для джентльмена. Вот капитан Флинт джентльмен, а ты нет. Так-то! Флинт? взвизгнул обиженный Сильвер.Флинт дже Ай! Ой, не могу, держите меня! Да, булькнула Селена, но голоса своего не услыхала. Сильвер оглушительно хохотал, держась за нее, чтобы не свалиться от такой сногсшибательной новости.Глава 6
30 января 1749 года. Остров
Матросы жгли капитана взглядами. Судно прочно увязло в песке. Капитан Спрингер побагровел, надулся, задохнулся. Не обладал он ни умом, никаким-либо дарованием, ни даже склонностью к своей профессии. На палубе оказался по воле отца-моряка, а всему, что умел, научился по принуждению, из-под палки, тяжким трудом. Благодаря ожесточенной храбрости в бою и удаче в мирное время он продвинулся по службе намного дальше, чем сам ожидал, но насчет своих способностей не заблуждался. Не дрогнуть под огнем противника да удерживать в повиновении подпалубную публику, с грехом пополам курс проложить к месту назначения вот и все, пожалуй. Куда ему до изощренного навигационного таланта Флинта! Да-да, это все Флинт! Капитан вдруг ощутил себя жертвой заговора этого хлыща. Что ж, если Спрингер напортачил, пусть отвечают другие. Суки драные! Недоумки палубные! заорал он, никого особо не выделяя.Крысы сухопытные, черви гальюнные! И так далее, не обращая никакого внимания на отчаянные вопли матросов, выкинутых могучим толчком за борт и барахтающихся на мелководье. Утонуть они здесь не могли, но перепугались изрядно. Спрингер поливал грязью команду и всех святых, переваливал ответственность, лишь углубляя презрение и ненависть команды к собственной персоне. Сержант Доусон! завопил он, ибо закономерно напрашивался переход от слов к действиям. Извлеките этого иридурка-рулевого, и я поджарю его на решетке люка в течение пяти минут. И этих придурков впередсмотрящих И этих придурков, которые за бортом вопят И!. И Он огляделся в праведном гневе, и каждый мудро <>пустил глаза пред пылающим взором залитых ромом глаз старого пьянчуги. Один, однако, замешкался. И этого ублюдка! Наглая скотина! Выпялился на капитана! Ох, на опасную тропу ступил капитан Спрингер. Прежде всего, исполнение всяческих дисциплинарных воздействий на судне возлагается на боцмана и его команду. Привлечение морской пехоты прямое личное оскорбление каждого моряка, равно как и правление штыком и мушкетом. Хуже того, Спрингер решил отхлестать Бена Ганна, рулевого, человека, всею командой уважаемого, к тому же не за тяжкий проступок, а без всяких оснований, без всякой с его стороны вины. Бен Ганн физически был не в состоянии увидеть опасность, угрожающую судну. Спрингер громоздил глупость на глупость, прискорбную нелепость на полный идиотизм. Согласно приказу капитана пятерых его подчиненных, одного за другим, обнажив до пояса, привязали к решетке распахнутого люка и отхлестали на глазах у возмущенной команды, искоса посматривающей на Спрингера и на мушкеты морских пехотинцев. Последние, кстати, тоже вовсе не радовались идиотским выходкам старою придурка. Ошкуренного Бена Ганна сняли с решетки в полубезумном состоянии. Разум его пострадал от нелепости происходящего больше, чем тело от физических мук. Не преувеличивая, можно сказать, что Элизабет стала средоточием бед. Настроение упало еще сильнее, чем во время буйства лейтенанта Флинта. Тогда на судне хоть изредка слышался смех; иной раз, правда, истерический. Таким образом, причиной всему, что впоследствии приключилось на этом острове, стал исключительно капитан Спрингер. Взрыв назревал, но до поры признаки его приближения в явном виде не проявлялись. Более злободневной оказалась потребность вернуть судну плавучесть. Первым делом Спрингер попытался стащить его с отмели. Теоретически тут не было ничего сложного. Завести перлинь*["869] за ствол какого-нибудь многовекового великана на берегу и согнать команду к кабестану*["870] вот и вся недолга. Боцман орет, команда гнет спины, и судно дюйм за дюймом сползает с песчаной банки. Но злая звезда Элизабет вмешалась и в эту отлаженную работу. И дерево нашли на берегу подходящее, но проклятая посудина не двинулась с места, как ми усердствовали матросы. В немалой степени благодарить за это стоит Спрингера, совершившего свой подвиг на высшей точке прилива, так что ни дюйма уровня воды выгадать не удалось. С каждым отливом Элизабет увязала в песке все глубже. И с каждым приливом Спрингер выдумывал новый фокус, столь же бесполезный, сколь и предыдущие. Бортовой залп двойным зарядом, растрясем эту старую стерву! орал Спрингер. Остров подпрыгнул от грохота пушек. Все на острове, казалось, сместилось, покосилось кроме Элизабет. Она осела егце глубже. Стеньги*["871] долой! Шлюпки спустить! Пушки на берег! Но и попытки облегчить судно не принесли результатов. На берег свезли весь резерв леса, запасной рангоут, продовольствие. Принялись разбирать штатный рангоут и снимать паруса. От судна остался лишь оголенный корпус, но и его пустую скорлупу не смогли сдвинуть с места усилиями команды. Все основательнее засасывал опустевшую посудину донный песок. Спрингер в отчаянии грыз ногти и суставы пальцев. Офицеры глядели на него с нескрываемым презрением, взгляды команды были исполнены пламенной ненависти и страха, вызванного перспективой остаться на этом проклятом острове до конца дней, своих. На берегу, повыше линии прилива, уже раскинулся и пустил корни импровизированный палаточный городок-склад, Спрингер, разумеется, переживал, в глубине души сознавал свою вину и злился, но впервые за всю свою долгую и непростую карьеру не знал, как поступить. Лейтенант Флинт, развлекавшийся в последние дни главным образом наблюдением за муками своего шефа, почуял приближение нужного момента. Улыбаясь, он шептался с попугаем, одобрительно вертевшим головой и чистившим перышки. Позвольте, сэр? с робким и почтительным видом обратился Флинт к капитану. Мачту тебе в зад, проворчал Спрингер, даже не оборачиваясь. Если бы не ты Как можно, сэр! ужаснулся Флинт. Я бы предложил Подавись своими яйцами! тявкнул Спрингер. Ай-яй, сэр укоризненно покачал головой Флинт.А ведь мы бы могли еще добраться до Портсмута и доложить коммодору о блестящем выполнении приказа. Что? Спрингер с подозрением покосился в сторону лейтенанта Издеваешься? Не видишь, что она сидит в жопе по уши! Спрингер топнул, как будто стараясь загнать судно в песок еще глубже. Бы совершенно правы, сэр, судно увязло безнадежно, почтительно поддакнул Флинт.Пропало судно. Но что мешает скроить из него новое? Люди есть, материала хватит, инструмент имеется. Для того, чтобы сладить посудину, на которой можно добраться до Кингстона на Ямайке, а тем более до Испанской Америки, точно хватит. Спрингер вскинул голову и уставился на наглого мерзавца. Сначала с облегчением, потом с завистью, наконец с ненавистью. Почему эта очевидная мысль не пришла ему самому в голову? Полагаю, сэр, вы могли бы созвать людей и объявить им о своем решении, а также наградить их двойным грогом за труды. Билли Бонс, как всегда маячивший позади лейтенанта, ясно давал понять, что команда не останется в неведении, кому пришла в голову эта спасительная идея постройки нового судна как и мысль о двойном гроге. Ты мне как кость в горле с горечью пробормотал Спрингер.Все твои происки Козни Ни в коем случае, сэр Флинт позволил себе намек на ухмылку, ибо ни о каких кознях не было и речи. Во всяком случае, до сих пор. Теперь же лейтенант ясно увидел, что момент для козней самый подходящий. Выбора, однако, у капитана не оставалось. Он приказал свистать всех наверх, произнес речь, завершил се обещанием двойного грога и выслушал восторженный вопль команды, воодушевленной перспективой грядущего возвращения домой и предстоявшей попойки. Двойной грог означал полную пинту морского рома на глотку, а кого оставит на ногах такое душевное изобилие? Следующие два дня оказались для команды счастливейшими за долгую службу, ибо первый из них народ провел в бессознательном состоянии, а весь второй день приходил в себя. На третий день Флинт, Билли Бонс и боцманы приводили команду в чувство с помощью линьков с туго завязанными узлами, смоченных в соленой воде для придания удару вящей убедительности. Повеселились, и будет. Пришла пора воплощать в жизнь капитанский (то есть лейтенанта Флинта) план. Плотник повел своих людей рубить лес для сооружения верфи и самого судна. Артиллерист организовал изготовление кранов, дерриков и иных необходимых для работы подъемных приспособлений, затем на манер капельмейстера принялся дирижировать хором двух десятков впрягшихся в пушку матросов, которые, распевая, затащили., орудие на макушку торчавшего неподалеку утеса. Постепенно все пушки распределили по позициям для обороны подступов к лагерю с суши и моря. Половину морских пехотинцев придали одному из мичманов, который отправился исследовать остров на предмет обнаружения возможных опасностей. Оставшиеся под руководством сержанта Доусона заняли позиции по периметру лагеря, готовые к отражению любой вражеской атаки. В лагере наладился какой-то распорядок дня. Кок с помощниками занимался продуктами и приготовлением пищи. Ответственный за вино и воду заботился о том, чтобы хватало, в первую очередь, питьевой воды. Корабельный хирург вытаскивал занозы и зашивал рабочие раны. Парусных дел мастер перекраивал старые паруса Элизабет на новый лад по чертежам, составленным лейтенантом Флинтом Боцманская команда разбирала старый корпус и сортировала материал и имущество по береговым складам. Часть народу отправили под командой еще одного мичмана вокруг острова с заданием снимать координаты и промерять глубины, чтобы составить точную карту. Фактическим хозяином на острове стал, разумеется, лейтенант Флинт, с энтузиазмом применявший порку для поддержания рабочего настроения и изобретавший все новые и новые наказания для тех, кто ему по каким-то причинам не приглянулся. Три дня без воды, родной мой, возвестил Флинт боцманмату, уронившему ядро и раздробившему себе пальцы ноги. Флинт расценил это преступное деяние как умышленное членовредительство. Линьки обоим и пусть дерут друг друга, пока один из них не свалится, приказал Флинт и повернулся к двоим матросам, уронившим компас за борт лодки на двадцатисаженную глубину,Приступайте, ребятушки, с Богом, и уж постарайтесь, родимые. Кто сильнее врежет, сам меньше получит. Богатой фантазией наградила природа лейтенанта Флинта. Кляп этой рыбке в пасть и привязать к столбу на солнышке, пусть повялится. Лишить грога до прибытия в Англию. Две ночи спать не давать. Башку опустить в воду и не выпускать до счета пятьдесят. Играем во флинтики или две дюжины. Попугай Капитан Флинт, за отсутствием грот-мачты, значительную часть дня проводил теперь на ветках ближайших уцелевших деревьев. Будь на месте Флинта любой нормальный человек, руководимые им люди осознали бы очевидную необходимость выполняемой работы. Они отдавали бы этой работе, направленной на избавление их от островного плена, все свои силы и умение. Увы, Флинт не мог отказаться от своих злобных затей. А капитан Спрингер пуще прежнего ломал голову, размышляя, что с этим Флинтом не так. Теперь думать ему мешал груз вины. Надо же, угробил судно и не сообразил, как выбраться из тупика! Капитан почти не вылезал из своей палатки, осушая бутылку за бутылкой, топя горе в спиртном и предоставив все своему старшему помощнику. Лишь изредка Спрингер вылезал на свет божий, когда его понуждал к тому Флинт. Одно из вторжений Флинта в капитанскую палатку произошло через три недели после неудачного прибытия на остров. Жара давила неимоверно. Палатка капитана скрывалась от солнца под деревьями, но зной душил и в тени. В самые жаркие часы все работы прекращались, умолкал перестук топоров и молотков, загонявших нагели*["872] в деревянные конструкции, затихали вжиканье стругов и звон пил. Команда валилась с ног, все засыпали, кроме тех бедолаг, которым доставалось стоять вахту. Спрингер храпел в своей подвесной койке, распахнув рубаху, в широких штанах, босоногий, с блестящим от пота лицом. Две фигуры прошуршали по белому песку и скрылись в палатке Спрингера. Флинт и Билли Бонс. На плече Флинта восседал его всегдашний спутник, попугай. Прошу прощения, сэр! заорал Флинт, перекрывая капитанский храп, и постучал в поддерживающий палатку шест так, что парусина закачалась. А? Что? промычал капитан, просыпаясь. Флинт молча глянул на Билли Бонса и кивнул в сторону кучи пустых бутылок под капитанским гамаком. Бонс понимающе поджал губы. Они очень, очень сблизились, эта двое, лейтенант и его помощник. Прошу прощения за беспокойство, капитан Флинт приблизился к капитану Спрингеру, подняв руку с рулоном бумаги. Будь ты проклят, окаянный, ворчал Спрингер.Ни днем, ни ночью., Сука, хорья струя, понос кровавыйКапитан сомкнул пальцы на латунной рукояти пистолета и ощутил его успокаивающую тяжесть. Заметив это движение, Флинт криво усмехнулся. Ненависть исказила распухшую физиономию капитана, зубы его скрипнули. Он люто ненавидел Флинта, не понимая, почему. Однако рука капитана замерла на пистолете. Долгая служба привила ему законопослушание и дисциплинированность, и он не мог со спокойной душой всадить пулю в голову офицера, да еще при исполнении служебных обязанностей. Соображал он, однако, туго, толком не проснувшись, совершенно не протрезвев и едва удерживая налитые свинцом веки в разлепленном состоянии. Вот карта, сэр.Флинт предъявил капитану Спрингеру завершенную карту острова.Я взял на себя смелость присвоить наименования наиболее заметным ориентирам. Вот эта горка, к примеру, он ткнул в карту пальцем, Подзорная Труба. Эта Бизань-мачта. Бот этот заливчик бухта Северная, и так далее. Вот здесь, чуть южнее, более удобное место для высадки, только теперь это уже не испробовать,Он снова оглянулся на Билли Бонса. Сдохни, сволочь, промямлил Спрингер заплетающимся языком.Ты Ты далее последовало что-то уже совершенно неразборчивое. Рад, что вам понравилась карта, сэр, саркастически усмехнулся Флинт. Ибо я вычертил ее собственноручно Он свернул карту и раскатал второй рулон. Этот лист украшало изображение малотоннажного шлюпа, который как раз сооружала плотницкая команда Но я смею беспокоить вас по другому вопросу.Он подсунул эскиз под нос капитану.Вот наша крошка Бетси, сэр. Шестьдесят тонн, две мачты, в общем, скорлупка прелесть,Он метнул быстрый взгляд в сторону Билли Бонса и продолжил:Шесть пушек и четыре десятка человек. Самое большее пятьдесят. Большего размера судно нам не осилить, как на духу вам заявляю, сэр. Сгинь, сатана, пробубнил Спрингер и тут же захрапел. Таким образом, большинству придется остаться на острове, сэр, почтительно продолжил Флинт, как будто не замечая храпа и не повышая голоса.Остаться и дожидаться помощи. Бетси за нею и отправится. Все так и обстояла, Флинт знал об этом с того самого момента, когда вместе с плотником приступил к работе над проектом нового парусника. На создание судна большего размера не хватило бы возможностей как импровизированной верфи, так и строительной команды. Да и дерево Элизабет, с грехом пополам служившее в старом корпусе, порой рассыпалось в труху при разборке. Плотник поклялся помалкивать под страхом смерти от руки Флинта. К тому же лейтенант соблазнил его обещанием включить в экипаж Бетси. Но уже размеры стапеля*["873] насторожили самых умных членов команды, а от них правду узнали и самые глупые и невнимательные. Флинт же развивал ситуацию в соответствии со своими хитроумными планами. Любой порядочный офицер собрал бы команду, разъяснил обстановку, и любая команда поняла бы невозможность иного расклада. Но лейтенант Джозеф Флинт далек был от честности и порядочности. Соответственно, планы и действия его также изобиловали приемами подлыми и аморальными. Благодарю, сэр, поклонился Флинт. Спрингер хрюкнул, дернулся и снова захрапел. О! Ужас, ужас! Опасная игрушкаФлинт вынул из-под ладони капитана пистолет и повернулся к Билли Бонсу. Давай сюда свою жвачку, Билли.Он вытянул ладонь ко рту Бонса. Чего? не понял Бонс Не чего, а чего, сэр. Плюй мне в руку живо. Мне плевать в вашу руку сэр? Живо! Я не Есть, сэр! Бонс опасливо заглянул в глаза Флинта и не посмел ослушаться. Он склонился над ладонью лейтенанта и вывалил из пасти темно-бурую кучу пережеванной, размолотой в труху табачной жвачки, обильно смешанной со слюной. Флинт без малейшего признака отвращения глянул на полужидкую массу, помял ее, загреб стволом пистолета песку с пола палатки и запечатал сверху вязкой и липкой табачной замазкой. Обработанный таким образом пистолет Флинт ловко, не обеспокоив капитана, вернул ему под бок. Вот так, сказал он спокойно и вытер руки о рубаху Билли Бонса.На всякий случай. Так точно, сэр, отозвался Билли Бонс. Они вышли из палатки и зашагали к берегу, под лучи палящего солнца. Завтра начнем строить блокгауз, Билли. И ты пустишь слушок, что капитан Спрингер скоро нас покинет. Бонс вздрогнул, облизнул губы и засипел. Он собрал всю храбрость и отважился высказать свои соображения: Так ведь Ох, риск Большой риск, прошу прощения проблеял Бонс и добавил:Капитан.Это последнее словечко, наиболее почетное в его словаре, он использовал в качестве защиты, как будто руку поднял над головой в ожидании удара. Билли, цыпленочек, произнес Флинт ласково, но не поворачивая головы к Бонсу, а рукой ероша перья большой зеленой птицы на своем плече.Не надо больше обсуждать моих приказов. Никогда. Если, конечно, хочешь остаться в живых. Ты меня помял? Бонс навесил на свою могучую фигуру не меньше оружия, огнестрельного и холодного, чем Флинт. Билли был намного выше лейтенанта, шире его в плечах, а руки его вдвое толще. И храбрости ему не занимать, не боялся он появляться на нижней палубе без сопровождения боцманской команды, не боялся встрять в драку и разнять буянов. Но тут Билли Бонс затрясся от ужаса. Он прибегнул к испытанной защите членов экипажа, мгновенно выпалив: Так точно, сэр!Глава 7
1 февраля 1750 года. Испанская Америка
Шлюп Его Католического Величества Эль Тигре перерезал курс вражеского парусника, осыпая его ядрами двойного заряда всех поочередно бортовых пушек и выбирая для каждой пушки свой момент выстрела. Десять пушек грохнули и отъехали от борта, выплюнув громовые клубы дыма. Десять длинных пламенных языков лизнули обшивку жертвы, двадцать железных ядер вырвались в воздух, некоторые пролетели мимо и плюхнулись в воду даже на таком близком расстоянии пушкарям трудно попасть на ходу в движущуюся цель. Но больше половины испанских ядер нашли для себя уголки в корпусе и надстройках Бетси. На корме, окруженный осколками, обломками, мертвыми и умирающими матросами, орал на команду с целью поднятия ее боевого духа капитан Джозеф Флинт, славный мятежник, завершивший восьмой месяц своей пиратской карьеры. Карьера получилась беспорядочной, суматошной, богатой взлетами и падениями. Да, он захватил не один испанский приз, грабя и учиняя резню. Набрал золотишка, и немало, мог и похвастать, если б было перед кем. Но половину людей своих он потерял в заговорах и расправах с участниками бунтов, причиной которым был сам Флинт. Со своими недостатками, к тому же невообразимо разросшимися, он ни в коем случае не подходил на роль лидера. Следуя древнему девизу разделяй и властвуй, он эффективно разделял подчиненных, но власть его неизменно сводилась к стравливанию матросов друг с другом. Он понимал, что даже если испанский флот не изловит его, то очень скоро до его глотки доберутся собственные люди. Однако Флинт не мог ничего с собой поделать, к тому же в данный момент его занимали иные заботы. Вот уже с добрый час колошматил Эль Тигре бедную Бетси. Испанец крупнее, лучше оснащен и вооружен, на нем отлично обученная и более дисциплинированная команда. Главная забота испанского капитана вымести палубу Бетси так, чтобы не осталось никого, кто мог бы оказать серьезное сопротивление. Или он поставил себе целью уничтожить противника, а не захватить его? Сдаваться надо, капитан! сквозь грохот пушек проорал Билли Бонс в ухо Флинту. Посеревший со страху Билли скрючился, как будто хотел слиться с палубой, чтобы очередное испанское ядро не задело его монументальную фигуру. Сдаваться? Сдаваться донам? Флинт истерически засмеялся. Побили нас, кэп. Не поднимая головы, Билли огляделся. Палуба разворочена, везде валялись убитые и раненые. Пушки опрокинуты, фок-мачта хрустела пересохшим сухарем и шаталась. Оставшиеся в живых матросы озирались, шарили вокруг обезумевшими взглядами, как будто высматривая, куда спрятаться от этого ада. Похоже, они уже близки к тому, чтобы удрать в трюм, к крысам. Флинт взмахнул саблей. Трусов на месте! На него глянули как на лунатика, но тут же забыли о капитане грохнул пушечный выстрел, и фок мачта свалилась за борт в путанице снастей и парусов. Команде Эль Тигре это явно пришлось по вкусу. Испанские матросы дружно завопили. Их судно пронеслось мимо Бетси, будто волк, который присматривается, как поудобнее перегрызть жертве глотку. Лейтенант де Кордова, капитан Эль Тигре, начал разворот, чтобы повернуть к Бетси бортом с неразряженными еще пушками. С маневром он переусердствовал. Можно также сказать, что ему не повезло. Оверштаг*["874] не получился, судно вышло из ветра, паруса Эль Тигре захлопали, капитан в досаде топнул ногой и заорал на команду, срывая злость и спешно выправляя ситуацию. Ухватившись за этот шанс на спасение, Флинт заставил своих трусов освободиться от фок-мачты и направить Бетси по ветру на остатке парусов. Беспомощно пробултыхавшись несколько минут, Бетси, наконец, неуверенно поковыляла. Не проползла она и мили, как испанец выправил положение и бросился вдогонку. Матросы Флинта рванулись к люкам, но бравый капитан рубанул саблей по первому же подвернувшемуся под руку, и остальные сразу вернулись к исполнению своего священного долга Надолго ли? Пропали мы, кэп, проныл рядом Билли.Не уйти нам. Билли, радость моя, бросил ему Флинт.Еще раз это услышу, покажу тебе, какого цвета твоя печень, клянусь. Бу-бум-м-м! грохнула пушка. Но это не курсовая пушка испанца. Все головы повернулись в сторону крупной быстроходной шхуны, приближавшейся с севера. До нее оставалась всего миля, и расстояние быстро сокращалось. Наблюдатели ее не заметили покойники плохо видят, а остальным было не до горизонта, они и на противника-то поднять глаза боялись. Бог и дьявол! крикнул Флинт.Видишь флаг? Лопни мои глаза, черный, как и наш! изумился Билли Бонс. Фок- и грот-мачты шхуны венчали развевающиеся на ветру черные флаги, на каждом изображены человеческий череп и скрещенные сабли под ним. Шхуна взяла курс на Эль Тигре, капитан которого отвернул от Бетси и направился навстречу новому неприятелю. Силы противников казались примерно равными. Парусники почти одинакового размера, с равным числом пушек и членов экипажа. Приблизившись на расстояние пушечного выстрела, новый пират сбавил скорость и затеял перестрелку с испанцем, стараясь занять выгодную позицию для бортового залпа. Той же тактики придерживался и лейтенант де Кордова. Осторожные противники сожгли уйму пороха, не добившись никакого толку. Ни один не хотел подвергать себя повышенному риску. Это прощупывание продолжалось несколько часов, в течение которых Бетси, не принимая участия в схватке, успела снабдить пень, оставшийся от фок-иачты, реем-поперечиной с навешенным на нее прямым парусом. Кое-как расчистили палубу, выправили пушки, разобрались с задачами остатков экипажа, больше боявшегося Флинта и Бонса, чем испанцев, И вот Бетси шаткой походкой поплелась по ветру в сторону дуэлянтов, которые лениво переплевывались ядрами. Флинт направил свое судно в единственно возможном направлении, ибо покалеченная посудина могла следовать с грехом пополам, лишь придерживаясь ветра, Флинт намеревался пройти мимо сражающихся кораблей, между ними как придется, лишь бы подальше убраться от этого проклятого места. Но лейтенант де Кордова увидел то, что увидел: к нему приближался еще один противник под черным флагом. Двое на одного! Де Кордова опустил голову, вздохнул и попросил прощения у Господа и у христианнейшего короля. Боезапас истощен, ни пороху, ни ядер не осталось. Пушки раскалились так, что под ними дымились лафеты. Люди устали, с ног валятся, и если дойдет до абордажа Лейтенант де Кордова еще раз вздохнул и вышел из боя. Он утешал себя тем, что это печальное решение, хотя и казалось оно на первый взгляд трусливым, по здравом размышлении нельзя не признать мудрым. У Флинта и его команды с души свалилась страшная тяжесть. Они избавились от верной гибели. Пираты завопили от радости и услыхали ответные торжествующие возгласы со шхуны под черным флагом. Эти крики их несколько отрезвили. Эль Тигре удалялся к горизонту, стремительно уменьшаясь в размере, а со шхуны спустили катер, в котором шустро собрался экипаж, и посудинка понеслась к Бетси. Тут каждый на Бетси призадумался, спаслись они или угодили в лапы другому зверю. Ясное дело, испанцы, скорее всего, перевешали бы всех или почти всех без долгих разговоров. Но чего ждать от этих? Конечно, суда одного флага приходят на помощь друг другу, если это, скажем, флаг короля Георга. Но черный флаг с черепом Флинт стоял, закусив губу, и следил за приближением катера. Уж он-то точно не стал бы помогать никому на свете. Но не вступать же в новое сражение! Даже этот катерок быстроходностью превосходил искалеченную Бетси. Вскоре он уже стукнулся о борт, и посланники победителя полезли на судно Флинта. Первым ступил на палубу долговязый блондин, солома волос которого водопадом ссыпалась из-под шляпы. Длинные руки, длинные ноги, живое лицо. Сразу видно боевого командира. Долговязый оглядел Бетси, прикинул ущерб, покачал головой. Флинт шагнул к нему навстречу, и блондин перевел взгляд на капитана судна. English? Franqais? Portuges? спросил он.Глава 8
1 июня 1752 года. Джорджия, Саванна
Долговязый Джон дико ржал, но вполглаза все же наблюдал за девицей. У него аж нутро свело от того, что он услышал. Джон едва удержался на ногах от такой новости: Флинт джентльмен! А с каким видом она это произнесла! С какой невинной убежденностью! Весь отдавшись безудержному смеху, сквозь выступившие на глазах слезы Джон Сильвер все же не выпускал из поля зрения ни девицу, ни конуру, в которой оказался. Единственный выход дверь. Стены толстые, прочные. Высокое окно забрано толстой железной решеткой, дабы уберечь запасы спиртного от таинственного исчезновения темной ночью. Еще не отсмеявшись, Долговязый Джон толкнул дверь ногой и закрыл единственный путь к бегству. Эти действия его продиктовало то обстоятельство, что Морж не один месяц провел в море, а женщин там не сыщешь. Как и практически любой моряк, Долговязый Джон, сойдя на берег, стремился наверстать упущенное. Закончив смеяться, Джон вытащил платок и вытер гллаза. Вздохнув, он улыбнулся Селене, следившей за ним гораздо более внимательно, чем он за нею. Она ждала дальнейших действий долговязого нахала, прекрасно понимая, что у него на уме. Все другие девицы заведения, она это тоже знала, лежали кто где, по большей части животами кверху, а покрывали их вместо одеял пьяные храпящие моряки, заснувшие меж женских ног и грудей. И каждая из девиц зажимала в ладони золотишко, которое за небольшим отчислением в кассу Нила представляло законный заработок честной труженицы. Спасибо, дорогая, давно я так не смеялся, изрек Долговязый Джон. Как тебя звать-то, красавица? Страсть как ты мне приглянулась. Я не вру. Слова Джона Сильвера не были пустой лестью. Джону и вправду нравилось то, что он мог разглядеть в тусклом освещении жаркой кладовой. Единственное одеяние девицы составляло тоненькое хлопчатобумажное платье, которое приличия ради прикрывало ее наготу, но отнюдь не прятало в высшей степени соблазнительных рельефов. Селеной меня звать. И я не такая, как остальные. Она приняла решение и установила свои правила. Осталось теперь лишь обеспечить их соблюдение Конечно, не такая, охотно согласился Долговязый Джон, улыбнувшись. Он вытащил большую золотую монету и повертел ее в пальцах. Нет. Да ну? удивился Сильвер, сощурившись на Селену Пожалуй задумчиво протянул он.И вправду, ты не такая, как эти шлюхи, нет. Ты товар что надо, крошка моя.И он вытащил еще одну монету. Она усмехнулась. Он вытащил третью. Столько денег Селена иными средствами не смогла бы заработать и за год. Не-е, Джон Сильвер, бесполезно. Я не такая и никогда такой не буду. Х-ха! Ты еще скажи, что девственница. В Саванне-то! Она заморгала, обдумывая этот вопрос в свете знаков внимания, оказанных ей мистером Фицроем Делакруа, прежним ее владельцем. Долговязый Джон ухмыльнулся, неправильно истолковав ее замешательство. Давно бы так, пташка моя. Что для них хорошо, и для меня неплохо. И я не жмот коль надо заплатить, жаться не стану. Он взмахнул тремя монетами и хлопнул ими о дно ближайшей бочки. Посчитав финансовую сторону вопроса урегулированной, Джон Сильвер окинул беглым взглядом помещение. Тихо, как в церкви. Он сбросил шляпу и стянул рубаху через голову. Сложения своего Долговязому Джону стыдиться не приходилось: сильные руки, плоский живот, внушительная выпуклость штанов. Селена подавила порыв к бегству, ибо путь к отступлению Долговязый Джон отрезал. Мощные руки схватили ее и оторвали от пола. Я же сказала, что я не такая! крикнула она, сверля взглядом его глаза, оказавшиеся совсем рядом. Ну, мадам, у вас и аппетит!.. Долговязый Джон покосился на свои золотые, тускло поблескивавшие на дне бочки.Сколько ж тебе надо? Он ухмыльнулся.А за эти три золотых мне ничего и не купить? Даже поцелуйчик? Он потянулся губами к ее рту, но она резко отвернула голову. Его язык скользнул по черной шелковистой коже ее шеи. Селена замерла, как будто окаменела. Джон сдался, оставил ее, озадаченный и раздосадованный: Разрази меня сто громов, сколько ж тебе надо? Ты милашка, спору нет, но это ж не Лондон, да и ты все-таки не краля короля Георга. Я уже сказала. Я не такая. Ой, не надо! Я не такая. Вот попугай! Я не такая! Нет? Нет! Шлюха! Ублюдок! Сука ты! Нет!!! Неудовлетворенность распалила Сильвера, он замахнулся, но ударить столь физически слабого противника у него не хватило духу. Он зарычал, выругался, вздохнул и наконец-то задумался над тем, что услышал. Ты и вправду не Ты что, глухой? Но у Чарли все девицы КРОМЕ МЕНЯ! Гм ишь ты А как же Он не знал, что и сказать. Слов не находилось. Извиняться Джон Сильвер не привык, но чувство вины вдруг навалилось на него. Как будто он вел себя очень нехорошо, хотя что это он такого сделал нехорошего? Но словно какой-то шип она воткнула ему в грудь, эта черная крошка. Долго он не мог понять, в чем дело, ибо давно уже таких чувств не ощущал. Долговязый Джон подобрал рубаху и деньги и вышел, грохнув дверью. Во дворе он столкнулся с Полли Портер, которая отправилась проветриться, оторвавшись от заснувшего Билли Бонса. Полли, всегда готовая к услугам, гостеприимно раскрыла объятия, но он не смог себя пересилить. Что за радость ерзать по жирной потаскухе, когда мыслями он все еще с той хрупкой миниатюрной черной фигуркой, замершей перед ним в винной кладовой! Когда Долговязый Джон вышел, Селену затрясло. Она храбро держалась перед лицом опасности, но тут ноги подкосились, зубы застучали и из глаз хлынули слезы много слез. Она молода и одинока, а мир такое опасное местоГлава 9
3 апреля 1751 года. Вирджиния. Плантация Делакруа
Селена пыталась сопротивляться, но мать вдвое превосходила ее весом и втрое силой. Девушка лишь по возможности уклонялась от ударов. Агрессивное поведение матери пугало Селену больше всего. Мать сердилась и пыталась образумить свое дитя. Что делать, а? Что ты делать, а? кричала она, волоча Селену за собой.Ты думать, ты не такая, как все? Ты думать, ты лучше? Ты Слов ей, однако, не хватало. Английским она толком не владела, поэтому переключилась на язык своей родины, который, в свою очередь, почти не понимала Селена. Услышав африканский язык, надсмотрщик тут же вонзал носок своего сапога под зад провинившемуся или куда придется. Но в этот раз мать Селены не просто говорила по-африкански, она орала, не боясь, во все горло. Дневные работы завершились, спускались сумерки, и люди подходили к дверям хижин, интересуясь, кто и из-за чего там шумит, нарушая вечерний покой. Увидев и поняв, они смеялись или жалели, в зависимости от характера. Мужчины, глядя на Селену, облизывались и думали о чем-то своем, а женщины хохотали, хлопали себя по ляжкам и визжали счастливым хором. Твоя очередь, твоя очередь! кричали женщины. Теперь ты такая же, как и все другие.И они кивали друг дружке, довольные, что эта задавака наконец-то займет свое место. Где твоя мисс Джини? дразнили они.Позвать ее из Парижа? Дети прыгали, смеялись, довольные развлечением, хоть и ничего не понимали. Подрастут поймут. Особенно девочки. Ярд за ярдом мать волокла Селену; Они миновали линию хижин, показался большой хозяйский дом; В траве сварливо скрипели кузнечики, на небо выползла луна, сияли и подмигивали звезды. Дети отстали, потому что оказаться у хозяйского дома никому не хотелось. Все понимали, что от него нужно держаться подальше. Большой дом сиял светом и гремел музыкой. Хозяин и хозяйка принимали гостей. Белые гости приезжали издалека, там ни один из негров не бывал. Перед домом скопилось множество колясок, но мать тащила Селену не туда, не к фасаду туда рабам тоже ходить не разрешалось. Они приблизились к аккуратному дому с верандой и выбеленными дощатыми стенами, в котором жил надсмотрщик Сэм, в отдалении от развалюх черного народа и близко к дому хозяина, чтобы не надо было долго звать. Сэм существо особое. У него на ногах сапоги, на голове шляпа белого человека, ему даже оружие доверили. Сейчас он сидел на крыльце, положив ружье на колени. Мать подтащила Селену к ступенькам. Сэм молод и силен, за силу его и произвели в надсмотрщики, он с любым негром без всякого ружья справится. Увидев Селену, Сэм восхищенно покачал головой. Ого-го, созрели яблочки! воскликнул Сэм и запустил руку за пазуху Селене. Она рванулась, яблочки соблазнительно затрепыхались, а мать изо всей силы ударила Сэма по руке. Нет, нет! закричала мать. Убрать лапы! Не твое! Сэм зарычал и поднял мушкет, чтобы ударить наглую тварь, посмевшую его оскорбить. Лапы прочь держать, ниггер! закричала ему женщина.Моя Селена для хозяина, да! Хозяин для нее все сделать, да! Селена сказать, спустить шкуру с задницы Сэма, и хозяин отодрать черную задницу, да! Сэм сидеть на животе, ха-ха! Сэм замер. Верно орет паскудная баба. Запросто. Понравится хозяину девчонка, и чего он для нее не сделает особенно такую мелочь, как с раба шкуру спустить Мало, что ли, Сэм такого навидался Только сам пока не пробовал. Да и не желал бы. Он опустил ружье. Сэм молча повел женщин к особенному дому, выстроенному в ложбинке у реки, скрытому деревьями поодаль от хозяйского строения, чтобы не оскорблять взгляда жены хозяина. Чего госпожа не видела, того и не было на свете. А если и было, то только к лучшему, малое зло большому помеха. Сэм вынул из кармана ключ и отпер дом. Он зажег свечи, поглядывая искоса на женщин, разинувших рты от нежданного обилия вещей, неведомых полевому рабу: ковры, шторы, резная мебель, шелка, сатин и полотно, огромная кровать, большие зеркала, картины в позолоченных рамах, на которых изображены голые белые женщины, пухлые и соблазнительно потягивающиеся. Сегодня здесь были еще и большое корыто с водой, мыло, полотенца и яркие платья. Займись девицей, да поживей, грубо бросил Сэм, спасая ущемленное достоинство.Чисто вымой да выряди как надо, не то твой черный зад останется без кожи. Он усмехнулся, повернулся к двери и вышел. Мать Селены вздохнула. Раздевайся. Нет. Раздевайся. Как я тебя мыть, если ты в платье? Я домой хочу. Меня не для этого растили. Нет. Ты здесь. Ты здесь. Почему? Этот простой вопрос прорвал плотину терпения матери Селены. Из глаз ее полились слезы, а из уст посыпались жалобы и ругательства. Она называла дочь злой и жестокой, желающей, чтобы всю ее родню распродали кого куда. Мать, отца, братьев и сестер. Ты всех продавать! озвучила мать затаенный страх каждого раба.За реку продавать! Все-все! Меня продавать, папа твой, сестры-братики Ты хотеть нас продавать? Нет! топнула Селена. Но почему я? Масса хотеть тебя. Поэтому он тебя пускать жить в большой дом, поэтому платья и смешные слова. Он хотеть тебя смешная игрушка. Нет! Мисс Юджини Джини меня любит! Ха! Джини любит! Джини любит, когда ты маленький, она маленький. Ты черный ниггер-кукла для белый госпожа. Джини Париж, ты здесь, здесь. Нет! Нет? Почему ты тогда обратно в поля, обратно в наш дом, вон из здесь? Это все из-за тебя! Ты мне велела улыбаться хозяину. Мать от возмущения закусила губу. Она поискала нужное слово и удовлетворенно кивнула, найдя его. Я велеть улыбаться, потому что так надо. Надо! Тебе просто надо, чтобы я тебе натаскала барахла, пока я хозяйская кукла, пока ему не надоела. Если бы черная, как ночная тьма, кожа женщины могла покраснеть от возмущения, она бы покраснела. Но ввиду невозможности этого мать просто схватила дочь за волосы, содрала с нее платье, засунула в корыто и принялась тереть мылом и губками так, как будто хотела содрать с нее кожу. Затем она схватилась за полотенца, за гребни для волос и засунула Селену в первое попавшееся платье. Ты меня теперь слушать, Селена, пророкотала она, как недовольный бульдог,Мне так больше не надо. Топать не надо, ругаться не надо. Я тебя баловать, потому что ты красивый. Она отступила на шаг, уперла руки в бока и пригнулась чуть ли не к носу Селены. Теперь ты мне платить. Теперь ты шевелить задом для масса хозяин. Шевелить задом стараться. Думать о папа, мама, братья-сестры.Она разозлилась, голос ее повысился и исказился: Если нет, иди, где хотеть! Ты мне больше нет! Нет кушать, нет спать, нет вода, нет огонь! Ничего нет! Иди, где хотеть! Слышать меня? Они молча смотрели друг на друга, глаза в глаза. Затем дочь отвела взгляд. Вид я, что бежать она не собирается, мать громко сказала:Х-ха! Она привела все в порядок, вывесила в сторонке полотенца, выволокла корыто и вылила из него воду. После этого, не возвращаясь больше в дом, зашагала по дороге к своей хижине, к мужу и восьми оставшимся ей, выжившим детям. Добрая женщина возвращалась к семье. Она делала для семьи, что могла. Для всех, и для Селены тоже. Сейчас она, не зная того, ощущала то же самое, что чувствует осыпанный орденами маршал, спасший армию ценою жертвы полка. Только она, в отличие от маршала, всю дорогу до дома рыдала. Селена тоже рыдала, но сидя на мягкой кровати. Потом она что-то швырнула в угол, что-то разбила об стенку. Погляделась в зеркало, подивилась платью, снова уселась на кровать. В голове роились мысли, но все какие-то бестолковые. Выхода никакого, остается только послушаться мать. Что ж, она решилась. Сначала расправилась с предательницей, мисс Юджини. Мужественно и бесповоротно, сама, без всяких советчиков. Далее долг перед семьей. Отец, мать, братья, сестры Долг Что ж, долг так долг. Она переключилась на ожидание хозяина. Но того все не было, и она, не привыкнув бодрствовать после дня тяжелой работы, закрыла глаза и заснула.. Разбудила ее тяжесть и вонь. Сопящее дыхание, слюнявый рот Жирное тяжелое брюхо с жесткими пряжками-застежками давило на тело Пухлые ладошки пьяного хозяина сжимали ее девичью грудь. Сорокашестилетний мистер Фицрой Делакруа давно отработал способ обращения с девицами-рабынями. Ему нравились бутончики, молоденькие, но при грудях, и, разумеется, чтобы никто с ними до него ни-ни И делай с ними все, что хочешь. И не надо возиться, тратиться, да еще и часами уламывать, как этих белых цац. И никакого риска подцепить какую-нибудь дрянь. Множество преимуществ для честного плантатора. В данном же случае добавлялся еще один нюанс: эта кукла росла рядом с его дочерью, вместе с нею воспитывалась, приобрела манеры белойженщины, могла толково беседовать. Давно уже Делакруа ждал этого момента. Так что не только ради европейского образования отослал любящий папаша свою дочь в далекую Францию. Не разделяя хозяйских устремлений и спросонья не вспомнив о своем мудром решении, Селена принялась ожесточенно отбиваться, и у нее тут же зазвенело в ушах. Делакруа засмеялся, задрал подол платья и набросил его на лицо Селены. Удерживая ее за запястья, он погрузил нос в мягкую мохнатость ее промежности, зарычал впрочем, скорее захрюкал от удовольствия. Придя в благодушное расположение духа, Делакруа перевалился на бок, чтобы избавиться от штанов и выпустить на волю свое налившееся кровью, напрягшееся мужское достоинство. Освободившись от тяжести тела хозяина, Селена вскочила и бросилась к двери которая оказалась запертой на замок. Делакруа оглушительно захохотал и, качаясь, направился к ней, стреноженный спустившимися до лодыжек штанами. Над его торчащим членом нависало студенистое брюхо. Он протянул руки, чтобы сгрести Селену, но она, пользуясь его пьяной неустойчивостью, увернулась, схватила серебряный подсвечник и взмахнула им над головой хозяина. Он успел поднять руки, и удар пришелся по левому локтю. Делакруа отшатнулся, потерял равновесие и тяжко плюхнулся задом на пол, вытянув ноги перед собой. Ых! тяжко выдохнул он и, морщась, потер локоть.Будь я проклят! Его пожелание тут же осуществилось, ибо оказалось предсмертным. В результате вызванного падением сотрясения из желудка рванулась полупрожеванная смесь съеденного и выпитого. Делакруа судорожно вдохнул собственные рвотные массы, захлебнулся, выпучил глаза, забился и минуты через две замер у ног Селены с лиловой физиономией, вывалившимся языком и выпученными глазами. Философы и гуманисты могут сколько угодно указывать на непричастность Селены к кончине Делакруа, на то, что он сам виноват в своей позорной смерти в постыдной ситуации, в пьяном безобразин, со спущенными штанами, однако миром правят не философы и не гуманисты. Селена прекрасно понимала, что ее ждет. Живая рабыня, обнаруженная рядом с мертвым хозяином, тут же отправится вслед и ним. Селеной овладел ужас. Мысли метались, не находя выхода. На плантации не спрячешься, да ей никто и не поможет, ибо любого, кто окажет ей содействие, просто повесят. Первым делом бросятся искать в доме матери да мать ее и не примет. А вне плантации раскинулся громадный неизвестный мир, которого Селена никогда не видела. Теперь придется с этим миром знакомиться, руководствуясь лишь своим юным умишком, знакомиться так, чтобы ее не поймали.Глава 10
1 июня 1752 года. Саванна, Джорджия
В мире Селены на жалость к самой себе времени не оставалось. Когда ее перестало трясти, Селена вернулась к работе. Она вошла в распивочный зал, перешагивая через пьяных и обходя их, и попыталась навести хоть какой-то порядок. Некоторые из посетителей зашевелились, потребовали еще выпивки. Она обслужила пьянчужек, растолкала остальных девиц и привлекла их к работе. Ближе к вечеру, когда уже зажглись фонари и Флинт с Нилом появились в винной лавке, попойка снова набрала силу. Флинт и Нил выглядели братьями. Довольные делами и собой, они решили позволить себе принять каплю-другую, Флинт лихо смахнул со стола кружки и миски, а заодно распихал в стороны и трех-четырех соседей, расчищая себе место. Появление капитана приветствовали дружным ревом. Музыканты продрали глаза и добавили шума.. Флинт вскочил на стол, вскинул голову и завел песню, вызвав новую бурю приветствий. Песню эту команда сочинила самостоятельно, а пел ее капитан, когда приходил в особенно доброе расположение духа. Петь Джозеф Флинт умел, и голос ему Бог даровал отменный, незабываемый. Он запевал строки песни, а команда оглушительно подхватывала припев, повторявшийся через строку.Глава 11
1 февраля 1750 года. Испанская Америка
Флинт уставился на широколицего капитана с соломенными волосами, который, похоже, неплохо изъяснялся на нескольких языках. Я англичанин, сэр, ответил Флинт. Меня зовут Флинт, я командир этого судна.Он снял шляпу и поклонился. Флинт понимал, что сила не за ним, поэтому вел себя вежливо. К его удивлению, долговязый тоже сдернул шляпу и отвесил поклон. Джон Сильвер, капитан, к вашим услугам. Я с доброго судна Морж, до сего утра бывшего под командой капитана Джона Мэйсона, Господь упокой его душу. Ваш капитан погиб в бою? удивился Флинт. Тоже, бой! Умудриться погибнуть во время короткой перепалки Флинт, однако, подлаживался под своего странного посетителя. Если сильный хочет поиграть в джентльмена, слабому остается лишь подыгрывать. Погиб, сэр, горестно вздохнул Сильвер.Такой капитан! Один из лучших, служивших под началом доблестного капитана Ингленда, каковой чести я и сам удостоился. Капитан Ингленд? Знаменитый пират Ист-Индии? Флинт поразился без всякого притворства. Об Ингленде и о его баснословных призах он был наслышан. Сильвер как-то странно улыбнулся. Не пират, сэр, нет. Джентльмен удачи. Один из береговых братьев и истинный флибустьер старого стиля. Таким был капитан Ингленд, таким был и капитан Мэйсон. Как только он заметил, что доны вас одолевают, он сразу принял решение прийти к вам на помощь. Так поступил бы и Ингленд. У Флинта шумело в голове. Он не знал, что отвечать. Он понимал каждое из услышанных слов. Но мистер Сильвер составлял из этих слов фразы, смысла которых Джо Флинт осилить никак не мог. Вы пришли к нам на помощь, выдавил из себя Флинт; деревянным голосом, с крайней осторожностью. Инстинкт подсказывал, что с этим парнем надо держаться повежливей, никуда не денешься. Потому что у него и судно больше, да и пушек и людей с лихвой. Да, сэр. Мы пришли к вам на помощь, как и заведено со старых добрых времен, как и должны поступать джентльмены удачи.Он улыбнулся, пожал Флинту руку, глядя ему в глаза, просто, как будто и без задних мыслей. Потом улыбнулся попугаю, прижавшемуся к уху Флинта. Славная птица, сэр. Говорит, что добрый христианин, а живет веки вечные. Сильвер вытянул руку и погладил зеленые перья. Птица дружески ткнулась клювом в его руку. Брови Флинта полезли на лоб. Большинство держалось от зеленого попугая подальше, опасаясь за свои пальцы и не без основания, надо признать. Гм э-э-э промямлил Флинт, так и не поняв намерений Сильвера, но начиная подозревать скоро что-то прояснится. Во всяком случае, уже очевидна, что Силь вер живет старыми снами, мифами дабайками полувековой давности. А то, может, и чокнутый. Флинт склонялся к последнему заключению, но решил подождать поступков Сильвера, которые последуют за его словами. Но и дела озадачили Флинта. Сильвер и его люди принялись пособлять экипажу полуразвалившейся Бетси, помогая раненым, откачивая воду, расчищая палубу и ремонтируя корабль на скорую руку. После того как уладили самое необходимое для удержания судна на плаву, Сильвер вернулся к Флинту для продолжения разговора. Капитан Флинт, я прошу прощения, но так дело не пойдет. Не пойдет? Флинт почувствовал, что по спине прошелся холодок. Вот она, развязка! Он уже представил себя с перерезанной глоткой, летящим за борт на корм рыбешке, крупной и мелкой. Нет, сэр, не пойдет. Вас восемнадцать уцелевших да два десятка увечных, судно протекает в нескольких местах, корпус трещит, рангоут в щепки, такелаж рваньСильвер скептическим взором скользил по руинам Бетси.И наладить тут ничего толком не получится, уж прошу прощения. Мы ведь построили Бетси из остатков другого судна, попытался Флинт защитить свое детище.В условиях весьма неудобных, с большими трудностями. Что не в Бристоле построено, оно, конечно, видно улыбнулся Сильвер и продолжил: Так вот, я хотел бы предложить вам с вашими людьми и всем, что можно спасти, перебраться к нам на борт Моржа и стать нашими товарищами. ГмФлинт ждал подвоха, не понимая, в чем ловушка А как же Бетси? Так ведь Какая она теперь Бетси? Бочка неуправляемая, а не Бетси. Давайте-ка лучше к нам. Флинт колебался, размышляя о добыче и понимая, что она ему больше не принадлежит. Добыча достается тому, кто сильнее. Но сразу сдаваться не хотелось. Он опять принялся подыскивать слова. Но э-эНепроизвольно взгляд его метнулся к люку в палубе. Сильвер, разумеется, этот взгляд заметил. Конечно, капитан, Сильвер поскреб пальцем нос.У вас груз в трюмах. Что ж, тоже дело. Перегрузим на Моржа и уладим по справедливости, доля на долю, честь по чести, как добрые партнеры. Добрые партнеры попугаем отозвался Флинт. Невероятно, но, кажется, этот странный Сильвер и вправду имел в виду именно то, что говорил. Может, и больше, чем просто партнеры, продолжал Сильвер. Он слегка склонил голову к плечу, смерил Флинта взглядом Вы, вроде, настоящий джентльмен, сэр, и умеете кораблем управлять, курс прокладывать Таблицами владеете, квадрантом и арифметикой. Флинт снова занервничал. Черт его поймет, чего он крутит, куда клонит! Но Сильвер еще не закончил. Видите ли, сэр, капитана Мэйсона ядром, почитай, пополам разорвало, не склеишь. И обоих помощников убило, такая незадача Еще один парень есть у нас, но он пока только учится, так что в открытом море некому судно вести. Держать курс мы сумеем, а вот кто его проложит? А-а-а У Флинта отлегло от сердца. Он почувствовал себя выше и сильнее, и язык развязался; Дорогой друг, я очень рад, что наши интересы совпадают. Как я, так и мой первый помощник и штурман, мистер Бонс, оба в состоянии: вест судно по небесным светилам. Облегчение на лице Сильвера обозначилось столь ощутимо, что Флинт чуть было не прекратил опасаться какой-нибудь западни, приготовленной ему хитрыми спасителями. Прошло несколько часов. С Бетси за это время перенесли на борт Моржа груз, пожитки экипажа, все, что можно снять полезного. Затем пришла очередь людей. Почтили покойников. Тут Флинт наконец поверил, что Сильвер и его люди и вправду из иного теста, чем он сам,Сильвер не пошвырял трупы за борт, как это заведено было на Бетси. Все проходило как будто под флагом короля Георга. По настоянию Сильвера каждого покойника зашили в его собственную подвесную койку, к ногам прицепили по пушечному ядру. Затем народ обнажил головы, через борт перекинули доску, и один за другим, под переливы дудок боцмана и боцманматов, усопшие скользнули в глубину. Флинт огляделся на Морже. Порядки здесь не те, что на Бетси. Вылощенные палубы без плевков, экипаж общается свободно. Под палубой фонари, голых светильников нет. Такой порядок завел Ингленд, придерживался его и Мэйсон. Сильвер отдал команду, народ принялся за работу. Флинт проложил курс на Саванну, к берегам Джорджии главным образом, чтобы обзавестись боезапасом. Морж в перестрелке с Эль Тигре растерял порох и ядра чуть ли не полностью, а оставшиеся на Бетси припасы полностью испортила проникшая сквозь пробоины вода. Откатила горячка срочной работы, наступило затишье, пошли знакомства, разговоры, обмен сплетнями, вживание в новую команду, выискивание мест для коек. Упорядочили смены приема пищи. Флинт более всего интересовался Джоном Сильвером, или же Долговязым Джоном, как его звали за гвардейский рост. Флинт следил, как Долговязый Джон ловко порхал по судну, сбегал по трапам, иной раз карабкался по вантам. Он знал весь свой экипаж и находил для каждого доброе слово. Читал и писал очень неплохо, а в счете оказался на удивление ловок, что и продемонстрировал при пересчете и разделе приза. Но в остальном матрос матросом, вплоть до мозолистых ладоней с въевшейся в них смолой. Больше всего Флинта впечатлило, как Сильвера уважает команда. Без оплеух и ругательств они вскакивали и бежали исполнять приказы Долговязого Джона, отдаваемые им спокойным голосом. Но стать его говорила о том, что ударить он может и что удар у него сокрушительный. В течение следующих дней и недель Флинт наблюдал за происходившим на Морже, и в его уродливой душе зародилась какая-то чахлая симпатия к Сильверу, как зеленый росток из навозной кучи. Будь Флинт способен к самооценке (а он не был к ней способен), он заметил бы: все, что ему нравится в Сильвере, прямо противоположно его собственным качествам. Мысли Флинта о Сильвере словами не выражались. Он их толком даже и не осознавал, но в глубине его скрюченного разума возникло и крепло это страшное и тревожное ощущение. Через несколько дней после того, как остатки экипажа Бетси влились в команду Моржа, при мягкой погоде и благоприятном ветерке Сильвер собрал свою команду и людей с Бетси. Джон объявил, что надо сделать все по правилам, честь по чести и подписать Артикулы. Флинт ничего не понял, но некоторые его люди уже знали, о чем идет речь. Я ставлю свою метку, сказал Израэль Хендс. А я б сперва глянул на это дело, проворчал Билли Бонс. Глянул бы? удивился Флинт, пытаясь поверить, что Бонс решился на что-то нежданное. Да, кэп. Арте Артиклы Черт Артикулы. Береговые братья. У них такой тут порядок. Какие братья? Береговые, кэп, терпеливо повторил Билли Бонс, как будто просвещал неразумного малыша. Сам он уже побеседовал с одним-другим членом экипажа Моржа и нахватался отрывочных сведений об этом. Дубина, отозвался Флинт шепотом Береговые братья остались в прошлом, еще когда твой дед пешком под стол гулял: Вот тут у нас судовые Артикулы, не дав Флинту завершить фразу, громогласно возгласил Сильвер, предъявляя толстую книгу, очень похожую на ту, в которой он лихо расписался когда-то в присутствии капитана Ингленда.Я прошу мистера Флинта прочитать ее громко для всех, кто в грамоте не силен.И он вручил книгу Флинту.Погромче, сэр. Чтобы все слышали. Флинт открыл книгу и просмотрел рукописные статьи. Обвел взглядом загорелые лица, глаза, выжидательно уставившиеся на него. Резво несся на попутном ветру Морж, ветер играл в парусах, фалах,*["875] пузырилась и журчала вдоль бортов вода. Флинт не стал ломаться, откашлялся и принялся читать. Лишь в одном месте он споткнулся, где имя капитана Мэйсона вычеркнула аккуратная красная линия. Здесь что? спросил Флинт. Пока ничего, успокоил Сильвер Пока держим курс и следуем в гавань. Когда Флинт дочитал до конца, ему и всем, поднявшимся на борт Моржа, предложили в этой книге расписаться. Даже лежачих раненых подняли на палубу для этого. И они последовали приглашению. Флинт, Билли Бонс и еще пара-другая вписали свои имена, остальные же отметились крестиками и иными знаками. К концу церемонии Флинт, к своему изумлению, изменил о ней мнение. Сначала ему приходилось скрывать презрение к этому детскому кривлянию таковым он считал принесение пиратской присяги. Но затем он осознал весь ее смысл. Они же тут как дети, и книга оказывала на них магическое воздействие. Книга, слова, торжественная обстановка Все это придавало преступному промыслу налет законности, которого лишилась команда, отколовшаяся от флота короля Георга. Однако неожиданности на этом не закончились. Теперь мы все веселые друзья, обратился Сильвер ко всей команде, ставшей единой с новичками с Бетси. По традиции следует избрать капитана. Пусть любой брат выступит и предложит, кого он пожелает. Долговязый Джон! тут же раздался рев мощных глоток.Капитан Сильвер! Нет, ребята, возразил Сильвер.Не получится. Капитаном должен быть джентльмен с квартердека, способный вести судно в открытом море.Сильвер не сводил взгляда с Флинта, который онемел от неожиданности, полагая, что вся эта бессмыслица ему снится Неужто этот идиот отдаст мне корабль? думал Флинт.Что за чушь! Но Долговязый Джон еще не закончил. Каждый знает, что я не навигатор. К черту навигацию! Нам нужен капитан Долговязый Джон! Да здравствует Долговязый Джон! Кто другой хоть вполовину такой же моряк, как он? раздались крики из команды. Ур-ра-а! В воздух полетели; шляпы, над головами вздымались сабли и мушкеты. Но Сильвер покачал головой и поднял обе руки над головой, призывая к молчанию. Нет-нет, ребята, и на этом точка. Мой голос за капитана Флинта. Он настоящий джентльмен, вышел из флота короля Георга. Что вы скажете о капитане Флинте? Да ничего они не хотели говорить о капитане Флинте. Они и слышать о нем не хотели. Даже те, кто пришел с ним с Бетси. Особенно те, кто пришел с ним с Бетси. Уж они-то знали, чего ждать от Флинта. Но сладкоречивый Сильвер всех уговорил. Откуда у него такой дар убеждения? Все от Бога, ибо слишком ученым его никак не назовешь, книг он не читал, с наставниками не общался. Все искреннее, от души. Флинт наблюдал за происходящим, как из ложи в театре. Изумлению его не было предела. Сильвер отдавал ему команду, сервировал капитанство на тарелочке в это Флинт не мог поверить. Сильвер, в котором все качества руководителя совмещены в наилучшем сочетании! Сильвер, от которого команда не хотела отказываться! Это не только вне понимания, это почти невыносимо. Флинт не верил, что такое может длиться долго. Он мучительно подозревал ловушку, но не видел ее, и это беспокоило его еще сильнее. Оставалось лишь ждать развития событий.Глава 12
25 июня 1752 года. Южная Карибика. Борт Моржа
Ночь. Морж ныряет острым носом в тяжкую волну. Бак задраен наглухо, чтобы поменьше черпать из-за борта. Джобо принайтовил раненых к подвесным койкам, и Долговязый Джон мотался в воздухе вместе с остальными. Его охватил жар, он бредил, приходил в сознание, снова забывался. Он мучался. Страшная рана жгла, зудела, мозг горел от сознания накатившей беспомощности. Джон стонал и молился Богу, которого давно оставил. Сначала он просил о возвращении ноги, умолял Творца Вселенной сотворить ему одну-единственную конечность, чтобы снова оказаться здоровым, чтобы не остаться жалкой развалиной. Когда Долговязый Джон понял, что это невозможно, он возжелал смерти. Теперь он умолял не только Бога. Он бы и без Бога обошелся, будь у него под рукой заряженный пистолет. Он просил всех: Джобо, Израэля Хендса, Селену. Никто не пришел к нему, только Селена, да и та в мечтах. Его разум едва держался на ниточке, по юмора в нем хватило, чтобы искажавшая лицо мучительная гримаса приобрела сходство с ухмылкой: при мысли о Селене, как и всегда, он ощутил желание. Смешно Ха-ха, Джон Сильвер, проскрипел он сам себе.Хоть одна здоровая конечность у тебя осталась. И он вспомнил, как впервые встретился с Селеной. Тогда он увидел плакат на стене в гавани на берегах Саванны в Южной Каролине:РАЗЫСКИВАЕТСЯ УБИЙЦА Награда в 50 гиней золотом обещана мистером Арчибальдом Делакруа тому, кто доставит на плантацию Делакруа под Кемденом МОЛОДУЮ НЕГРИТЯНКУ СЕЛЕНУ. Без клейма; шестнадцати годов отроду, стройного сложения, росту в пять футов и три дюйма. Волос густой, фигура хорошая, без изъянов, лицом красива, зубы белые. Глаза большие, нос милый, руки длинные. Законная собственность мистера Фицроя Делакруа, какового она подло и жестоко убила.Сильвер заснул, во сне Селена явилась ему. Но когда он проснулся, рядом сидел Флинт. Еще не открывая глаз, Джон услышал скрежетание и царапанье попугая. Он разжал глаза, попытался подавить тошноту и слабость. Ему не хотелось проявлять слабость в компании Флинта. Джон, дружище, озабоченно обратился к нему Флинт.Как дела, приятель? Ноги не хватает? Долговязый Джон попытался вспомнить, где он и что случилось. Оглядевшись, он обнаружил, что находится в носовом кубрике, на баке, в койке. Сильвер попытался всмотреться в расплывающуюся фигуру Флинта с зеленым пятном попугая на плече, который мотал головой и щипал хозяина за ухо. Джон, дружище, это твой старый друг Джо Флинт, я пришел на помощь. Долговязый Джон различил улыбку на физиономии Флинта, понял, что он с ним один на один, и почувствовал себя крайне неуютно. Другие, очевидно, выздоровели или перемерли и отравились кормить рыб. Давно я здесь? спросил Долговязый Джон. Давненько, старый друг, давненько.Флинт оскалил в улыбке белые зубы. Чарующая улыбка у мерзавца, ничего не скажешь. Джобо! позвал Долговязый Джон. Дай рому, ленивая скотина. Нет здесь Джобо, друг, я один, специально пришел, чтобы с тобой перемолвиться словечком наедине. Джобо! Израэль! Джор еле слышный шепот Сильвера прервался. Правая рука Флинта перекрыла его рот. Что может быть прекраснее? Два старых друга вместе. Жаль, что это ненадолго. Флинт вытащил нож с длинным узким лезвием. Он перехватил рот Долговязого Джона левой рукой, а правой поднес стилет к его носу. Попугай захлопал крыльями, взлетел с плеча Флинта и вылетел в люк. Не беспокойся, друг, я быстро, ради старой дружбы. Быстро и незаметно. Надо, надо, что поделаешь.
21 февраля 1749 года. Остров
Билли Бонс тяжело шагал, по песку, направляясь к часовому возле гальюнной траншеи. Луна рассеивала ночную тьму, поэтому часовой легко распознал мистера Бонса по могучей фигуре и синему офицерскому сюртуку с рядами блестящих пуговиц. Ну, и пыхтеть так, как мистер Бонс, тоже никому в команде не удавалось. Пыхтенье его звучало здесь протестом против затрудняющего ходьбу мягкого песка и жаркого климата. Часовой вытянулся по стойке смирно и кисло прикинул, к чему это толстое чучело вздумает сейчас придраться. Начальство всегда найдет, за что устроить взбучку, если задастся целью отравить жизнь служивому. Мало того, что он торчит здесь, у вонючей ямы, следя, чтобы матросы аккуратно присыпали свое дерьмо песочком, так еще этот мистер ублюдок Билли приперся посмотреть, аккуратно ли содержатся испражнения. Обычно караулы проверяли мичмана, и ничем страшным это не грозило. Мичман на ходу бросал: Все в порядке? и быстро скрывался, зажав нос. Но теперь часовой почуял, как на спине, вроде, ледок вырос. Бог ты мой! подумал он, сообразив, что ежели сам мистер Бонс наведался проверить караул, то вслед за ним может объявиться и мистер, чтоб ему его попугай глаза повыклевал ФЛИНТ! Пыфф-пуфф Вольно Все в порядке? Так точно, сэр! отрапортовал часовой, не слишком доверяя команде вольно. Ффуфф изрек Билли Бонс и всмотрелся во тьму, как будто там скрывались несметные орды дикарей с копьями и отравленными стрелами. И чего он туда уставился?! Остров-то необитаемый, это всем давно известно. Поглядывай наставительно изрек Билли Бонс. Есть, сэр! Вопреки ожиданиям часового Билли Бонс не удалился, более того снизошел до беседы. Дьявольская жара Так точно, сэр! Только лихорадки нам не хватало, сто чертей в задницу Так точно, сэр! Еще пара глубокомысленных замечаний мистера Бонса, и у ямы появился некий Эммануил Пью. Звали его Бешеным Пью, а все из-за того, что говорил он как-то странно, все сбивался на непонятную речь Да и в голове у него намешано было немало. Мистер Билли Бонс молча попыхтел, выжидая, пока Пью справит над ямой нужду, натянет штаны и застегнет пряжки, после чего удостоил Пью вниманием. Эй, ты! Загребай толком, не то я тебе всю спину разгребу! Пью в ужасе подпрыгнул и завалил песком чуть ли не полканавы, чтобы только угодить мистеру Бонсу. А теперь марш в лагерь, приказал мистер Бонс А я рядышком пройдусь, постерегу твою задницу, чтоб тебя ненароком кто-нибудь в океан не смахнул. Часовой, облегченно вздохнув, проследил, как удалились от канавы обе фигуры, одна громоздкая, пыхтящая и регулярно клянущая все вокруг, другая тощая, нервная и кособокая. И поделом Пью, подумал часовой.Глядишь, поумнеет, придурок Бешеный Пью, однако, не случайно оказался жертвой Билли Бонса, как решил часовой. Именно ради него мистер Бонс и пожаловал к вонючей канаве. И снова Билли подивился острому глазу Флинта, его способности заметить привычки и проникнуть в матросские головы. Флинт знал, что Пью ходит к яме позже других, чтобы никто ему не мешал, не толкал и не отвлекал Ну, есть такие люди на свете. И наблюдательность Флинта дала Билли Бонсу возможность побеседовать с Пью наедине, чтобы никто не подслушал. Так Бонс изложил Пью некоторые соображения, кое-что предложил, кое о чем выспросил, не рискуя ни своей головой, ни головой собеседника. А уж лейтенант Флинт тут вообще ни при чем, в случае чего. Он-то при беседе не присутствовал! Более того, Флинт первый бы обвинил Бонса, если бы кто-нибудь подслушал его беседу с Пью и донес на обоих. И повесил бы без разговоров. Так-то В ходе задушевной беседы Билли Бонс прощупал Пью, объяснил ему, что капитан Спрингер решил обойтись без него, но есть способ этой беде помочь. Пью поначалу ошалел от изумления, но вскоре свою выгоду понял. В течение следующих недель Билли Бонс столь же задушевно и по тому же сценарию побеседовал еще с некоторыми членами команды, присмотренными Флинтом, Беседы всегда проводились в отсутствие третьих лиц и, разумеется, в отсутствие лейтенанта Флинта. Все отобранные оказались, как один, умелые моряки, способные в совокупности составить ядро команды. Бен Ганн рулевой, Израэль Хендс помощник пушкаря, Питер Блэк, более известный под прозвищем Черный Пес, плотник, Дарби МакГроу оружейник. Все они вместе с парусных дел мастером Бешеным Пью стали ключевыми фигурами плана Флинта, но были и другие. Ведь надо же кому-то и паруса ставить, и палубу скрести Весь опасный план родился в голове Флинта, но риск он переложил на горб Билли Бонса. Джо Флинт вовсе не был таким знатоком человеческих душ, каким себя мнил. Он ценил юмор ситуации, в которой Бонс стоял между его особой и опасностью, Флинт представлял, как Бонс опешил бы, осознай он, как подставил его мудрый лейтенант. Однако преданность Флинту подвигла бы Билли на этот риск, даже если бы лейтенант был с ним честен и откровенен. Но на такое прозрение Джо Флинт не был способен. Тем временем на берегу Северной бухты рядом с трупом Элизабет успешно развивался зародыш ее дочурки Бетси. Команда плотника заложила киль, подняла шпангоуты,*["876] принялась за обшивку. Вживили бимсы,*["877] приспособили к новым мачтам старые реи, принялись за оснастку, перенесли помпы и кабестаны в общем, делали все, чтобы судно смогло выйти в открытое море. В процессе этой полезной и весьма важной деятельности мистер Флинт тоже не бездельничал, он занимался сооружением внушительного укрепленного пункта в другом конце острова. На общение с Билли Боксом у него, разумеется, не оставалось времени. Флинт увел с собой примерно половину команды, взяв месячный запас пищи и все инструменты, которые позволил; забрать плотник. Они совершили переход через остров, во время которого Флинт внимательно вникал в особенности местности. Место он выбрал на поросшем лесом холме, почти на вершине которого выбивался наружу ручеек прозрачной, прохладной воды. Свалить весь лес в радиусе мушкетного выстрела, приказал Флинт двум гардемаринам, которых захватил с собой в качестве помощников. Флинт поскреб ногтем макушку своего попугая. Это вошло у него в привычку так лейтенант делал, когда углублялся в размышления. Гардемарины переглянулись, затем прикинули объем работы и порадовались, что им самим не придется махать топорами. Ветки обрубить, стволы окорить, они пойдут на сруб. По этому плану построим блокгауз. Флинт вытащил скатанную в трубку бумагу и огляделся в густом, жужжащем множеством насекомых и пахнущем смолою лесу. Толстые стволы взмывали из песчаной почвы. Природа не предусмотрела здесь стола для лейтенанта Флинта. Ни куста, ни валуна, ни складки местности. Буквально не на что положить план. Эй, Биллингсгейт! крикнул Флинт одному из матросов, стоявших поодаль с тяжелым рулоном парусины для палаток. Живо сюда! Матрос скинул с плеча ткань и поспешил к Флинту.Ну, молодец, сиял улыбкой Флинт.На колени, живо,Флинт тычком в затылок помог матросу занять желаемое положение на всех четырех точках.И не вздумай дергаться; шкуру сниму. Соорудив себе живой столик, Флинт разложил на нем план. Как и все, что делал лейтенант, план оказался грамотно выполненным и аккуратно вычерченным. Планируемая постройка представляла собой бревенчатый форт с бойницами; окруженный палисадом из заострённых бревен. Гардемарины склонились над планом, изучая его. Наиболее умный или, наоборот, менее сообразительный мистер Гастингс, пятнадцати лет, нахмурился. Прошу прощения, сэр, но этот план предназначен для обороны от уже высадившегося противника. Было бы лучше ориентировать укрепление на оборону со стороны Ай! Его прервал врезавшийся в ребра локоть более сообразительного товарища, мистера Пови. Гастингс вскинул голову и увидел улыбку мистера Флинта. Гардемарин, разумеется, был совершенно прав. Блокгауз Флинта представлял собой полную бессмыслицу. Угрозу представлял только океан, так что в целях обороны следовало обезопасить батареями те немногие места, куда могли приблизиться суда и лодки с десантом. Но, с точки зрения лейтенанта, постройка блокгауза была идеей мудрой, ибо подчеркивала его, Флинта, полную неосведомленность относительно подлых замыслов мистера Бонса в другом конце острова. Мистер боцман! крикнул Флинт, и Том Морган, исполняющий обязанности боцмана, появился из-за деревьев.Сломайте-ка ветку да всыпьте этому юному умнику пару дюжин по заднице. Гастингс побледнел. Флинт повернул голову в сторону второго гардемарина.И этому столько же. Такой же наглый. Лучезарно улыбаясь, Флинт почесал затылок попугая.Что за манера у молодых людей поучать старших! Через две недели блокгауз уже стоял, готовый к использованию. Вместо леса вокруг простиралась обширная поляна, торчали пни, оставшиеся от деревьев, из которых выстроили крепость. Это сооружение позволяло вести огонь во все стороны; его окружал шестифутовый палисад, способный задержать противника, но не дававший ему укрытия. Если бы в этом блокгаузе и вправду была нужда, он бы прекрасно выполнял свои функции. Флинт подумал даже о такой мелочи, как накопительный бассейн для источника. Он приказал притащить в блокгауз большой корабельный котел, выбить из него дно и погрузить в землю возле истока ручья, и бак постоянно оставался заполненным свежей водой. Завершив строительство, Флинт оставил в блокгаузе гарнизон из четырех морских пехотинцев и повел свою команду в обратный путь, к Северной бухте, к Элизабет, Бетси и капитану Спрингеру. Длинная вереница тяжело нагруженных, согласно замыслу Флинта, людей растянулась по лесу. Безпотерь не обошлось, и они оказались существенными. Один матрос сломал ногу, другой потерялся, четверо натерли плечи ремнями мешков до пузырей, четырнадцать человек пострадали от ожогов ядовитых растений, Флинт усердно принялся лечить страдальцев. Всем, кто не уберегся от местной ядовитой крапивы, он прописал по дюжине за небрежность; две дюжины за глупость получил заблудившийся; по три дюжины матросы с натертыми плечами за неумение приладить груз; а сломавшего ногу ожидали, как только он сможет снова стоять, аж четыре дюжины ударов за то, что привел себя в состояние, непригодное для несения службы. Кроме этих наказаний Флинт изобрел и другие пытки для почти всех членов похода. Из трех сотен матросов и младших командиров мало кто остался с целой спиной и с неущемленным достоинством. Унизить человека Флинт был большой мастер. Бетси тем временем приобрела вид настоящего судна, хотя и меньшего, чем ее матушка Элизабет. Плотницкая команда, заканчивала смолить и красить конструкции, чтобы хоть ненадолго задержать прожорливых жуков-древоточцев. Оставалось налечь на кабестан и спустить судно в воду по уже проложенным и смазанным направляющим стапелям. Флинт увидел, что настал момент истины. В отдалении от лагеря он устроил встречу ключевых участников заговора, включая Билли Бонса, Израэля Хендса и Черного Пса, то есть самых умных. Каждому из них Флинт лично разъяснил, что им предстоит исполнить, и заставил каждого повторить столько раз, сколько требовалось, чтобы они как следует поняли и запомнили. Хендс и Черный Пес схватили с лету, но с остальными олухами пришлось повозиться, сдерживая себя и погоняя их, пока они с грехом пополам, мямля и заикаясь, не повторили свои задания. Наступила самая ответственная фаза операции, ибо теперь уж Джозеф Флинт не мог более отговориться незнанием. Теперь опасность угрожала ему лично.Глава 13
25 июня 1752 года. Юго-западная Атлантика. Борт Моржа
Чего тебе тут надо? раздался сердитый голос за спиной. Флинт дернулся, как от удара. Он гордился своей способностью обнаруживать любого, кто пытался подкрасться к нему незамеченным, а тут его застали врасплох. Должно быть, потому, что он так увлекся делом. К любому занятию Флинт подходил добросовестно. Селена, дорогая пробормотал он, не оборачиваясь. Долговязый Джон услышал быстрые шаги, увидел ее голову и плечи рядом с фигурой Флинта. Он разглядел улыбку Флинта и злость на ее лице. Израэль Хендс! крикнула Селена. Живо беги сюда! Послышались еще шаги, и появился Израэль Хендс. Теперь над Сильвером нависли три расплывающихся силуэта. Словно какая-то игра, в которой он, Долговязый Джон Сильвер, не участвует, за которой даже следить толком не может. Вот они: ненавидящий его Флинт, Селена Сильвер надеялся, что она относится к нему получше И Израэль Хендс, покорный раб Селены, не смеющий к ней и пальцем притронуться. На Флинта Селена не обращала внимания. С ним толковать не о чем. Она обратилась к Израэлю Хендсу. Следи за ним днем и ночью.Она оттолкнула руку Флинта, изображавшего живейшее участие и сострадание к искалеченному боевому товарищу, от лба Долговязого Джона. Есть, мисс Селена! Следить, не спуская глаз, подчеркнула Селена.Установи вахту. Чтоб комар не пролетел. Как в Бристоле заведено, понял? В Бристоле Селена не бывала; как и что там заведено, понятия не имела. Не знала даже, что Бристоль это большой город и порт. Но слухом ее Господь не обидел, соображением тоже, и она понимала, как следует себя вести с моряками. Флинт фыркнул, изображая веселье, но Израэль Хендс сохранял полную серьезность. Он вскинул руку ко лбу и топнул в форменном морском салюте. Есть, мисс Селена! повторил он. Живо организуй! Есть, мисс Селена! Израэль Хендс исчез. Селена перевела взгляд на Флинта. Тот обдумывал развитие событий. Это его судно. Он командует кораблем. Но в то же время это судно и Долговязого Джона. У каждого свои сторонники. Так же, как Билли Бонс человек Флинта, Израэль Хендс смотрит в рот Долговязому Джону. И команда делится поровну. Последний бой поубавил народу, но соотношения не изменил. А тут вот еще командирша выискалась. Флинт лучился улыбкой, про себя же сыпал проклятиями и гадал, сколько это еще протянется. Внимание его привлекли шум и смех, донесшиеся с квартердека. Он нахмурился, навострил ухо, замер. Придуриваются, для беспокойства нет оснований. Он повернулся к Селене. Благословенна будь, дорогая, елейно вымолвил Флинт.Оставляю эту скорбящую христианскую душу на твое попечение, ибо Господь, похоже, забыл о нем. Он перевел взгляд на Долговязого Джона Не так ли, приятель? Флинт удалился. Селена нагнулась над Долговязым Джоном, подняла его руку. Койка закачалась. Что он тут делал? Тебе больно? Нет, сумел вымолвить Долговязый Джон и даже попытался шевельнуть головой, воодушевленный ее интересом к его особе. Вспыхнувшая в его душе искра радости действительно погасила боль. Он вздохнул. Пить Селена исчезла и тут же появилась с кружкой. Пей.Она поднесла кружку к губам, приподняла его голову. Затем опустила голову и отерла лицо. Селена оставалась бесстрастной, никто не видел ее улыбающейся. Лицо ее было вообще как будто без всякого выражения, не понять ее. Но то, что она делала, говорило лучше слов. Она задержалась у Сильвера до возвращения Израэля Хендса с корабельным хирургом Коудреем и его помощником Джобо, мокрым и нетвердо держащимся на ногах. О-о, мистер Сильвер, рад, что вы очнулись, сказал Коудрей. Он виновато моргнул и добавил: Сожалею, что оставил вас одного. Я приказал этому оболтусу сидеть с вами, он грозно глянул на Джобо.Но капитан Флинт выдал ему бутылку и гинею и велел напиться. И он нарезался, как свинья, подхватил Израэлъ Хендс.Но мы нашли-таки эту крысу лазаретную, подвесили его на булинь*["878] да окунули в воду, за борт. И макали, макали, покуда он не очухался.Он повернулся к Джобо.Как, приятель, полегчало? Ну неуверенно согласился Джобо. Смотри, теперь без фокусов! грозно отрезала Селена, глядя на Джобо, и снова переключилась на Хендса.Остаешься старшим. Отвечаешь мне за него. Коудрей только поднял бровь, слушая, как чернокожая девица уверенно командует моряками, а Долговязый Джон чуть было не рассмеялся. Но тут же потерял сознание. Когда он очнулся, рядом несли вахту Израэль Хендс и Джобо. Они точили лясы, играли в кости на долю добычи. Долговязый Джон покосился на них. Сомневался он, что эта парочка сможет помешать Флинту учинить затеянное.Глава 14
24 марта 1749 года. Остров
Наутро после тайного совещания, когда Флинт лишился путей отступления и слишком многие узнали о его преступных намерениях, он отправился к капитану Спрингеру. Капитан беспробудно пил уже которую неделю подряд. Выглядел он, по мнению Флинта, не лучше, чем погубленная им Элизабет. Он буквально заживо разлагался, гнил в своей палатке. Флинт выругался. Судя по тому, как Спрингер выглядел, дело затянется еще на неделю, а то и дольше. То есть на столько, сколько потребуется, чтобы привести Спрингера хотя бы к подобию нормального обличья. Вследствие невменяемости капитана Флинт отыскал обслуживавшего его бедолагу. Этого матросика Флинт передал Билли Бонсу с указанием внушить ему, что его хозяин с этого момента не должен получать ни капли спиртного, как бы он ни просил и чем бы ни угрожал. Флинту повезло Спрингер оказался не из слабого десятка. Печень этого пьяницы очищала его нутро настолько успешно, что позволила ему достаточно протрезветь в течение одного дня. Еще день прошел в борьбе с раскалывающей череп капитана головной болью. И после очистительной рвоты Спрингер наконец смог ходить и разговаривать. На следующее утро его удалось отмыть, побрить и облачить в чистое белье. Флинт снова явился к капитану с докладом. Как заместитель капитана и его представитель на время недомогания Спрингера, Флинт поведал о ходе событий в нужном ключе и с точно отмеренной дозой несоответствия реальности, потребной для того, чтобы направить действия капитана по ложной тропе, верным, с точки зрения Флинта, курсом. Совершив все необходимые подвиги, Флинт скромно, чуть ли не подобострастно замер перед капитаном, держа шляпу в руках. Спрингер уставился на лейтенанта желтыми, с красным подбоем, глазами, наполненными ненавистью такой тяжести, что оставалось лишь подивиться, как капитан не ушел в землю по горло. Но долг свой Спрингер знал во всяком случае, воображал, что знал, и исполнить его не колебался. Построй команду, придурок, проворчал он.Все из-за тебя, и ты за все ответишь, дай только в эскадру вернуться. Есть, сэр, кротко промурлыкал Флинт, потупив глаза. Он выслушал еще с десяток напутственных ругательств и направился исполнять приказ. Найдя первым делом Билли Бонса, он вдолбил ему последние наставления. Через полчаса каждая живая душа на острове, за исключением четырех морских пехотинцев, оставленных охранять бесполезный блокгауз, торчала на солнцепеке перед палатками и почти готовой к отплытию Бетси. Засевшая на песчаной банке, разобранная по досочке, Элизабет как будто с укором взирала на происходящее. Спрингер тяжело взгромоздился на ящик, чтобы продемонстрировать себя народу. Он нещадно потел в сюртуке и шляпе, но форму приходилось соблюдать, особенно с учетом донельзя гадкого настроения команды. Спрингер такого еще не видел, а посему выставил подбородок и ожесточенно сжал кулаки. Он не потерпит от подчиненных какого-то там настроения! При нем стояли, тоже в традиционных синих мундирах, лейтенант Флинт (а при лейтенанте Билли Бонс), мичмана, гардемарины, хирург, казначей да группа младшего командного состава, включая боцмана, пушкаря и плотника. Присутствовали также двадцать девять морских пехотинцев при мушкетах и штыках под командой сержанта Доусона и двух капралов. Перед капитаном Спрингером выстроились, разделенные на вахты правого и левого борта, примерно две сотни палубного, парусного, трюмного и иного корабельного люда. Спрингер скрипнул зубами, возмущенный наглостью матросни, ворчащей и мрачно, исподлобья косящейся на своего капитана. Молчать на палубе! гаркнул капитан. Не слишком точно они выполнили приказ, но, во всяком случае, экипаж ожидал, что капитан преподнесет, и дождался. Не очень много сказал Спрингер и не слишком умно. Не оратором он родился на этот свет. Капитан рявкнул, что дело матросов повиноваться и исполнять свой долг перед Богом и королем Георгом, и упаси Господь отлынивать от этой святой обязанности! Так как всю команду и без того замордовали всяческими придирками и наказаниями, то услышанное никого не воодушевило. Однако Спрингер не ведал предыстории, проспав все самое существенное в пьяном состоянии, и продолжил речь, перейдя к теме первого плавания нового суденышка. Наш новый корабль готов к выходу, он дойдет до Ямайки, проскрипел капитан, ткнув тростью в сторону Бетси.Доброе судно, полста народу поднимет запросто Тут его речь прервал животный рык матросской толпы. Молчать! заорал Спрингер, но сам не услышал своего голоса. Флинт едва сдержал смех, радуясь тому, как мастерски вступили подготовленные им актеры. А как насчет донов?! Что, если они вернутся? У-у-у-у-у-у!.. Ы-ы-ы-ы-ы-ы!.. Что? опешил Спрингер.Какие доны? Которых видели с Подзорной Трубы! Которые искали место высадки! Которые всех нас здесь перережут! Орали уже не только актеры Флинта. Никого не радовала перспектива попасть в лапы испанцев. Лягушатники или голландцы одно дело Ну, там, португальцы еще куда ни шло Но доны Мистер Флинт, обратился Спрингер к подчиненному.О чем эти дуболомы болтают? Ума не приложу, сэр, ответил Флинт с ухмылкой.Может, у них и спросить? Спрингер вгляделся в глаза Флинта, силясь понять, что за каша тут заваривается. Сукин сын, выругался Спрингер, прикидывая, что ему делать дальше. Его нерешительность команда истолковала как реакцию уличенного. Глянь, ребята! крикнул Израэль Хендс Он же все знал, сразу видать! Хотел бросить нас в зубы испанцам! Нет, нет! закричал Спрингер Нет! Судно возьмет добрых пятьдесят человек, может, и больше, и я вернусь за Кто эти пятьдесят? в ужасе завопил Джордж Мерри. И кто останется? На волне эмоций, захлестнувшей матросскую массу, Мерри, который умом не блистал, уже настолько вжился в выученную им роль, что верил каждому своему слову. Толпа взвыла и подалась вперед. Сержант! завопил капитан, но Доусон уже скомандовал; Го-товсь! Двадцать девять мушкетов легли на левые руки стрелков и щелкнули курками. Но это толпу не отрезвило. Сволочи! завопил Израэль Хендс, приступая к исполнению самой ответственной части отведенной ему роли. Он вытащил из-под одежды пистолет, достаточно маленький, чтобы его можно было спрятать, и понесся вперед, пользуясь тем, что стволы мушкетов пока еще смотрели в небо. Хлоп! Пистолет в руке Хендса плюнул пламенем, дымом и пулей, раздробизшей челюсть одного из морских пехотинцев. Первая кровь! Бедняга бился и вопил, но его товарищи выпрямились, как их учили, и вскинули оружие Целься! отдал приказание Доусон. Хлоп! выстрелил второй из пары пистолетов Флинта. Черный Пес послал пулю Бог весть куда. Рев толпы усилился, из нее в строй стрелков полетели двухфунтовые ядра шарнирной пушки, заблаговременно распределенные среди заговорщиков Билли Бонсом. Один из морских пехотинцев упал без сознания, оглушенный ударом. Стреляй! завопил Спрингер. Пли! скомандовал Доусон. Ба-ба-ба-ба-бах! Двадцать семь мушкетов дохнули жарким залпом, опалив физиономии и волосы тех, кто успел подбежать почти вплотную. Капитан Спрингер вытащил свой пистолет и добавил шума, разрядив оружие в Израэля Хендса, мчавшегося к нему с ножом. Пятнадцать нападавших рухнули, сраженные мушкетными пулями, а капитан Спрингер свалился с ящика без большого, указательного и среднего пальцев, оторванных разорвавшимся стволом его пистолета, и лишившись также глаза его выбил отлетевший осколок ствола. Оглушенный и ослепленный, он не заметил, как Израэль Хендс, не обращая на него внимания, пронесся мимо, догоняя мистера Флинта, мистера Бонса, Черного Пса, Джорджа Мерри и около полусотни других. Эти избранные скрылись в джунглях, а оставшиеся моряки схватились с морской пехотой и офицерами. Штыки, кортики и сабли против ножей и кулаков. Перезарядить мушкеты, разумеется, не оставалось никакого шанса. Дикая драка продолжалась до полного истощения сторон. Уцелевшие с ужасом пытались понять, что они натворили. Точнее, что с ними натворил хитроумный лейтенант Флинт. Успокоились навеки сорок пять человек, включая большинство морских пехотинцев и гардемаринов, сержанта Доусона, капитана Спрингера, почти весь младший командный состав и множество матросов. Раненых оказалось намного больше, были среди них и тяжело пострадавшие. Но еще тяжелее оказались последствия морального плана. Большинство уцелевших были отныне мертвы в глазах закона, поставили себя вне его. Служба, которую они предали, отправила бы многих прямиком на виселицу. Уцелевших морских пехотинцев это не касалось; Двоих гардемаринов тоже, как и всех тех, кто дрался за короля и его закон. Но остальные показали себя мятежниками, к тому же самыми гнусными. Таких королевский флот никогда не простит они убили своего капитана. Жизнь этим преступникам могло спасти лишь вечное изгнание; в случае же поимки военно-морской суд обеспечил бы им путешествие на небо с помощью петли-удавки, перекинутой через блок шлюпочной кран-балки. Уцелевшие разбились на две группы, меньшая из которых включала гардемаринов, морских пехотинцев, казначея, унтер-офицеров и матросов, оставшихся верными присяге. Вооружение этой группы человек из тридцати составляли два мушкета, несколько пистолетов и кортиков. Вторая группа, скорее, толпа численностью сотни в две, унесла все оставшееся оружие. Пользуясь правом сильного, эти люди заняли лагерь и первым делом принялись заливать горе спиртным. Когда они уже едва держались на ногах, их посетил капитан Флинт во главе группы трезвых, дисциплинированных и должным образом вооруженных матросов. Оружие для них Флинт заблаговременно спрятал в джунглях, Флинт прибыл с благородной целью восстановить порядок и покончить с мятежом, так всем и объявили. Не столь важно, кто в эту ахинею поверил, но последовала еще одна бойня, ибо подлинной целью Флинта было уничтожение всех тех, на кого он не мог положиться. Закат застал в лагере менее сотни выживших. Флинт стоял в умирающем свете дня, почесывал попугая и улыбался. Теперь, Билли, обратился он к существу, преданному его особе больше, чем зеленый попугай, мы, похоже, стали, наконец, свободными людьми, можем пополнять закрома. Жаль, что мистер Спрингер сразу не сообразил, что к чему, и заставил меня столько хлопотать.И Флинт засмеялся. Однако еще не раз взошло солнце, прежде чем Флинт получил то, чего усиленно добивался. Прежде всего, с Бетси предстояло много возни, да и с оставшимися на острове верными присяге моряками следовало разобраться. Некоторые из этих недотеп сами приковыляли в лагерь, по одному и парочками, умоляя дать чего-нибудь поесть. На остальных устроили настоящую облаву, с гиканьем и улюлюканьем. Отличное развлечение получилось так, во всяком случае, воспринял это мероприятие Флинт, ибо он и возглавил операцию, предоставив Билли Бонсу заниматься оснащением Бетси. Бей их, ребятушки! В лапшу руби! Но тут его ожидало разочарование. К безмерному его удивлению, матросы повели себя очень, очень нехорошо. Их, видишь ли, сдерживали какие-то туманные представления о совести, По их разумению, люди взбунтовались, потому что им, оставленным на острове, угрожала смерть от лап донов. Морскую пехоту они били, потому что те в них стреляли. Но резать глотки своим товарищам по команде они не желали. А пленные гардемарины мистер Гастингс и мистер Пови и вовсе оказались любимцами команды. Флинт орал и ругался, но почувствовал, что лучше не настаивать. Он понимал, что не все в команде полные тупицы. Иные очень хорошо понимали, что Флинт отобрал команду у капитана Спрингера силой. И что, следовательно, у Флинта тоже можно на тех же основаниях отнять команду. Эта проблема как будто уселась на втором плече самозваного капитана, симметрично с попугаем. И поэтому все пленные остались в живых. В конце мая 1749 года Бетси, наконец, полностью оборудованная, при пушках и припасах, вышла из Северной бухты, волоча на буксире баркас с пленными лоялистами. В баркасе их было двадцать три человека. Посудина просторная, так что расположились они свободно. По настоянию команды им выделили запас пищи и воды, что оказалось весьма кстати, ибо вскоре после выхода Бетси в море, во тьме ночной, буксирный трос каким-то чудом развязался и баркас бесследно сгинул. Флинт определил это происшествие как несчастный случай, весьма счастливо решивший проблему Бетси избавилась от тупиц, не желавших добывать богатство честным морским разбоем. Команда предпочла поверить словам своего нового капитана и окончательно соскользнула на сомнительный путь пиратства. Флинту повезло. Он взял один приз, другой, третий Не один месяц бороздила Бетси просторы Карибики, пока фортуна не повернулась к ней боком. Повезло и баркасу. Мистер Гастингс принял команду. Экипаж баркаса наладил парус, нес вахту, рационировал продукты и соблюдал дисциплину. Без инструментов, по солнцу, звездам, чутью и везению Гастингс привел баркас с девятнадцатью выжившими в Ла Плату, где испанцы приняли его как героя. Через пять месяцев лейтенант Гастингс вернулся в Англию, где весть о мятеже Флинта стала сенсацией. Газеты не скупились на специальные выпуски, Гастингса наперебой приглашали в клубы и салоны, в парламенте обсуждали снаряжение экспедиции для поимки негодяев и спасения несчастных, которые могли остаться на острове Флинта. Но здесь Гастингс не в силах был помочь. Широты и долготы острова ему никто не сообщил, точные координаты этого клочка земли посреди океана знали лишь Джозеф Флинт да Билли Бонс, а для остального человечества островок представлял собой иголку в стоге сена.Глава 15
1 июля 1752 года. Юго-Западная Атлантика. Борт Моржа
Diem adimere aegritudinum hominibus! изрек мистер Коудрей, удалив перевязку с обрубка ноги Долговязого Джона,Как у вас с латынью, мистер Сильвер? Никак, выдавил Джон, Он стиснул зубы и сжал кулаки в ожидании боли. Джобо уже висел всем телом на одной его руке, а Израэль Хендс на другой, Во время предыдущих перевязок Долговязый Джон не раз, изрыгая проклятия, рвался из койки. Иными словами, время излечивает все раны.И Коудрей ловким движением сдернул последние тряпицы с культи Долговязого Джона. Изуродованный остаток конечности выглядел как толстый конец бараньего окорока, свисающего с крюка в мясной лавке, только бледнее. На нем не наблюдалось ни следа воспаления, здоровая рубцовая ткань нарастала поверх обрубка, надежно закрывая мышцы и кость. Veniente occurrite morbo, как сказал Персий, вернулся к латыни Коудрей и снова перевел: Что означает: дави болезнь в зародыше, на первой стадии. Этому правилу мы и последовали. Надо сказать, весьма успешно. Коудрей сыпал латынью, потому что пребывал в добром настроении, а доброе настроение вызвал удачный исход весьма сомнительного случая. Ему удалось спасти жизнь безнадежного, казалось, пациента. Так, болтая, доктор сменил повязку, причем Сильвер с удивлением отметил полное отсутствие боли. Впервые. Долговязый Джон поверил, что может выздороветь;. Закончив дело, Коудрей вымыл в ведре руки, опустил рукава и улыбнулся пациенту. Итак, сэр, заговорил он, неосознанно возвращаясь к тону и манерам времен давно минувших, когда лечил почтенную публику: купцов, олдерменов, даже дворян. Я имею удовольствие обещать вам доброе исцеление и хотел бы предложить прогуляться на свежем воздухе. Как вы относитесь к этой идее, сэр? Во-во! обрадовался Израэль Хендс.Ребятам поправится. Поехали! Долговязый Джон колебался. Постоянная боль истирает даже сильных и храбрых, и он боялся, что будет страдать при перемещении. Коудрей сразу понял причину его нерешительности. Мистер Хендс, сказал врач.Приведите еще двоих, и мы перенесем пациента с койкой, не причиняя ему лишнего беспокойства. И будьте столь добры, приготовьте все наверху. Хендс нахмурился и взглянул на Долговязого Джона. Не пристало моряку выполнять приказания костоправа. Давай, слабым голосом согласился Сильвер. И вот его вместе с гамаком уже осторожно несли по трапу четверо моряков. Джон не пожалел о своем согласии. Как свеж и тает воздух после долгого заточении ииизу! Как приятно соленый ветер напрягает паруса, треплет волосы и щекочет ноздри! И эти чайки, что неугомонно носятся над судном, Матросы приветствовали Сильвера, смеялись, предлагали фрукты и грог, В глазах Долговязого Джона появились слезы, еще немного, и он, чего доброго, начал бы всхлипывать. Все искренне радовались ему, даже приспешники Флинта, возвращение Сильвера ненадолго объединило всю команду. Джобо и Израэль Хендс надежно закрепили койку с Долговязым Джоном, и тут на палубе появились Селена и Флинт. Оба улыбались, и душу Джона затуманило темное облако, из которого мог грянуть гром. Джон, собственной персоной! радостно воскликнул Флинт.Наконец-то пожаловал наверх.Флинт заметил, как взгляд Долговязого Джона метнулся к Селене, и улыбнулся волчьей улыбкой. Мы с Селеной как раз обсуждали мой план закопать добро на старом острове, о котором я тебе рассказывал. Флинт замолчал, почесывая макушку попугая и наслаждаясь беспомощным гневом своего поверженного противника. Помнишь мой старый план, Джон? Флинт наслаивал улыбку на улыбку.Вижу, вижу, помнишь. И рад будешь узнать, что мы с мистером Бонсом направляем туда судно как раз за этим.Глава 16
16 февраля 1750 года. Атлантика. Борт Моржа
Партнерство Флинта и Сильвера привело к захвату исключительного приза. Лишь благодаря умению Флинта Морж оказался в нужное время в нужной точке Атлантики. Чтобы объяснить свой план Сильверу, Флинт разложил карту на столе в малой дневной каюте капитана под изломом квартердека. Морж резво бежал вперед под всеми парусами, в маленьком помещении едва помещались Флинт, Сильвер и еще пара-другая членов импровизированного военного совета. Палец Флинта порхал над картой, то и дело тычась в разные ее точки, а Флинт сопровождал движения своего пальца разъяснениями. Вот, наконец, он придавил пальцем портовый город Сан-Фелипе на восточном берегу острова Нуэстро Сантиссимо Сальвадор, так сказать, лицом к родной Испании. Широта пятнадцать градусов, три минуты и тридцать секунд. Долгота пятьдесят пять градусов почти точно.Флинт нахмурился.Если можно доверять этой чертовой карте. Карту составили испанские картографы. Да неплохо вы глядит, кэп, осмелился вступиться за карту Билли-Бонс.Глубины, пеленги. Он ткнул в бумагу толстым пальцем,Все честь по чести. Сильвер наморщил лоб, всматриваясь в тонкий рисунок карты, но смог разобрать лишь тритонов, дельфинов и раковины, обильно украсившие края карты и художественный картуш с ее названием Голову Сильвера сдавил железный обруч боли, как и всегда, когда он пытался вникнуть в кошмарные понятия широты и долготы. Жирный, богатый остров, торгует с Кадисом, продолжил Флинт.Каменный форт, и всегда пара фрегатов на рейде. Зорко стерегут городишко. Значит, нам туда нос совать не след, изрек Билли Бонс. С его мнением согласились все, включая и Долговязого Джона. Что ж тут неясного. Разумеется, мы туда не полезем, подтвердил Флинт, проводя пальцем по широте Сан-Фелипе от острова в океан.Будем курсировать вдоль этой линии вне горизонта порта, поджидая птичку, летящую на запад, и погоним ее на сушу. Головная боль усилилась, карта в глазах Долговязого Джона расплылась, он перестал постигать, о чем они здесь толкуют. Хоть режь меня, ничего не понимаю, воскликнул Сильвер с досадой. Он не таил своих слабостей. Присутствующие переглянулись. Флинт усмехнулся и хотел подколоть слабака, но высказался каким-то совершенно для себя неожиданным манером. В чем дело, Джон? спросил он.Вся эта навигация несложный фокус, попутай выучит.Он дернул птицу за хвост, вызвав ее возмущенный клекот Он ругается на пяти языках, не любой из нас гак сможет. Ну, ты, давай! крикнул Флинт попугаю и тряхнул его. Mierda! Coho! Ти mcmmerdesl*["879] завопила птица под общий смех. Видишь? Простой фокус, ему можно научиться. Так же и с навигацией. Другое дело воодушевить людей на бой, повести на врага.Флинт улыбнулся.Вот искусство, признак настоящего мужчины; это мы уважаем. Остальные согласно загудели, ибо слова Флинта не только звучали удачным комплиментом, но и соответствовали дарованию Сильвера. Билли Бонс и Израэль Хендс переглянулись, удивленные тем, что Флинт в кои-то веки молвил о ком-то доброе слово. Флинт и сам себе поразился, не показывая виду. Впервые в жизни он встретил человека, который ему нравился, которого он уважал. Сильвер улыбнулся, закивал, головная боль отпустила. Он благодарно пожал Флинту руку, еще больше удивив мистера Бонса и мистера Хендса, после чего погладил восседавшего на плече Флинта попугая. Добрая птичка, добрая, приговаривал Сильвер. Попугай нежно пощекотал пальцы Сильвера большим крюкастым клювом, которым раскалывал в щепки бразильские орехи. Что, Джон, хочешь отбить у меня друга? спросил Флипт. Ни в коем случае, Джо. Ни птицу, ни чего другого. Мистер Бонс и мистер Хендс не успевали изумляться. Попугая ненавидела и боялась вся команда, и последним, кто отважился тронуть его, стал Черный Пес. Он как-то попытался, оказавшись с этой пташкой наедине на верху грот-мачты, свернуть ей шею и лишился двух пальцев на левой руке. Результатом проявленной Флинтом чуткости оказалось полное исчезновение как головной боли, так и чувства вины, мучившего Сильвера по поводу навигационной немочи. Никогда больше пока длилась дружба с Флинтом не переживал он по поводу широты и долготы, таблиц и карт, квадрантов и секстантов. Простой план Флинта сработал безупречно. Шестнадцатого февраля Морж навалился на трехмачтовый испанский парусник Донья Инес де Вильяфранка, осыпал его сцепками ядер, стремясь сокрушить рангоут, сорвать реи и паруса, парализовать судно и команду. Капитан Хосе Мартин Рамирес сразу понял, что корабль его обречен. Испанию он покинул в сопровождении двух великолепных фрегатов, приставленных к нему для охраны груза. Бурное море оторвало Донью Инес от фрегатов, и капитан уже неделю переживал, опасаясь именно того, что и произошло. Назвать капитана Рамиреса трусом никто не смог бы. Он разрядил мушкет в толпу вопящих дикарей, а затем пустил в дело длинноствольное оружие, как гренадерский сержант использует алебарду для выравнивания своихлюдей в линию. Para Dios, Espaha, et Las Senoras! крикнул он.За Бога, Испанию и дам! На судне находились шесть женщин, жены и нареченные господ из Сант-Яго. Три из них еще девственницы, и за каждую из дам капитан готов был отдать жизнь. К несчастью, не все члены команды капитана Рамиреса разделяли его благородные чувства. Некоторые отчаянно трусили еще до начала боя. Пираты дали залп из ручного оружия, скрылись в дыму, а в защитников испанского судна посыпался град свинцовых пуль. Fuego!*["880] крикнул капитан Рамирес Santiago! Santiago!*["881] раздался древний священный клич христианских рыцарей, с которым они изгнали из Испании мавров. Грохнул залп с испанской стороны, капитан Рамирес отшвырнул мушкет и бросился вперед с саблей в руке, чтобы принять смерть с честью. Ему удалось прикончить одного из нападавших, проткнув его голову насквозь через разинутый в вопле рот. Он на всю жизнь оставил отметину на щеке Билли Бонса. Но Билли тут же врубил свою саблю в плечо Рамиреса, вплотную к шее, и храбрый испанец рухнул на палубу, заливая ее потоками алой крови. Лишившись капитана, испанцы после непродолжительной мясорубки побросали оружие и запросили пощады. Долговязый Джон снизошел к их мольбам и прошелся рукоятью сабли по головам некоторых своих увлекшихся коллег по ремеслу, чтобы не дать им перерезать испанские глотки. Флинт в недоумении следил за Сильвером. Он бы с них шкуру снял, живьем бы выпотрошил, пальцем глаза бы выковыривал, варил бы их. Он бы Флинт стер пот со лба и хлюпнул слюной. Что ж, у Сильвера свои привычки, и под его командой люди трудятся грех жаловаться. Хотя он, Флинт, и не понимает почему. Ломай люки, ребята! прогремел Долговязый Джон.Пленных вниз, ром и вино наверх, сыры и окорока тащите! Пираты воодушевленно завопили. Полдюжины конвойных повели пленных на бак Долговязому Джону ура! Ура! Ура! Ура-а!: Капитану Флинту ура! тут же подхватил Билли Бонс. Ура! Ура! Ура-а! прозвучало с таким же энтузиазмом. Победители размахивали клинками, палили из оставшихся неразряженными пистолетов и мушкетов, обнимались, плясали и прыгали между усеявшими палубу обломками, сотрясая израненное судно Затем матросы Моржа взялись за ломы и топоры и принялись крушить люки. Они вломились в каюту капитана с ее коврами, книгами и образами святых, взломали замки шкафов и ящиков. Там пираты нашли яркую ткань, нарезали ее на полосы, обмотали ими мачты и себя. Затем выволокли на палубу бренди, копченую свинину и свежие куриные яйца. А вот и то, что лучше всего на свете: большие, прочные, окованные железными полосами ящики, а в них испанские серебряные монеты, не сосчитать! Знаменитые испанские монеты в восемь реалов, самая желанная в мире валюта. Пиастры! Пиастры! Дублоны! Дублоны! Талеры! Талеры! Восьмерики! Восьмерики! Восьмерики!!! Слово восьмерики казалось волшебным талисманом, сдвигающим горы и унимающим штормы. Попугай Флинта заразился общим восторгом и включился в пиратский хор желанным солистом, вызвав новый приступ восторга буйной толпы. Пьястр-р-р-ры! Пьястр-р-р-ры! Но оказалось, что торжество еще не достигло высшей точки. Взломав дверь очередной кладовки, пираты обнаружили шестерых дрожащих испанок. Одна из них, наиболее решительная, увидев пиратов, прижала к своему лбу маленький пистолет, нажала на спуск и ее спутниц обрызгал дождь из мозга, капель крови и осколков костей черепа. Остальных, шокированных, перепуганных до смерти, вытащили наверх, к похотливо взвывшей толпе. Сильвер нашел еще один неразряженный мушкет и выстрелил в воздух. После этого он вразумил нескольких наиболее активных прикладом и призвал вспомнить подписанные ими Артикулы. Не касаться женщины против ее желания! проорал он. У вас хватит денег на всех шлюх Индии и Вест-Индии. Но на этот раз его не желали слушаться. В ответ раздалось рычание зверя, у которого отняли добычу. Отвали, Джон! орали ему. Сгинь, или раздавим! Бах! Бах! Флинт выстрелил из двух пистолетов в воздух, с бешеной скоростью зарядил их и прыгнул к Долговязому Джону, остановившись рядом с ним между командой и женщинами. Кто первый? спросил он, направив стволы пистолетов на толпу.Какая падаль отказывается от своей подписи? За Флинтом, разумеется, сразу же последовал Билли Бонс. Перед командой плечом к плечу стояли трое самых устрашающих членов команды Моржа. Тут к Долговязому Джону подступил еще и Израэль Хендс. Все, представлению конец. Живо убери их вниз, с глаз долой, прошипел Флиит Бонсу, и тот погнал женщин к ближайшему трапу, поторапливая их ударами плоскостью своей окровавленной сабли. Грубо, конечно, но что поделаешь! В испанском Билли не стен, а по-английски дамы не понимали. Лучше разок плашмя саблей по ягодицам, чем смерть в результате грубого насилия сотен распоясавшихся самцов. За дело, ребята! воскликнул Сильвер, желая побыстрее перенаправить внимание команды.Не оставлять же денежки без присмотра. Но пираты еще кипели похотью и злостью. Сильвер подтолкнул Флинта локтем и сценическим, слышным каждому шепотом пробормотал: По пять сотен на каждого выйдет, разрази меня гром! Как, капитан? Не меньше! согласился Флинт. Нагнувшись к открытому сундуку, он захватил горсть монет и швырнул в толпу. Это вызвало оживление, суматоху, борьбу за желанные восьмерики и привело к смене настроения. Глянь на них, Джон, нежно промолвил Флинт, Точно свиньи у корыта. Что ж, отозвался Сильвер, они ради таких мгновений и живут Он пристально посмотрел на Флинта и подмигнул, Спасибо, друг. Я, честно говоря, не надеялся выдюжить, но Артикулы есть Артикулы. Это точно, согласился Флинт, чувствуя себя не очень уютно под взглядом Долговязого Джона. Вообще-то, после того, что о тебе болтают, я такого от тебя не ожидал. Сильвер слышал о Флинте много разного, в том числе и о затеянном им кровавом мятеже на таинственном острове. Плюнь на кривотолки, отмахнулся Флинт Я держусь того, что подписал. Слова настоящего мужчины! похвалил Сильвер, решив судить о Флинте по поступкам и не имея ни малейшего представления об их истинных причинах. Пыхтя и отдуваясь, поднялся на палубу Билли Бонс. Он нырнул в толпу матросов, изловил двоих, на которых, как он считал, можно было рассчитывать: Тома Аллардайса и Джорджа Мерри. Билли схватил их за шкирки и стукнул лбами, чтобы привлечь внимание. Осыпая их ругательствами и страшными угрозами, он отправил обоих вниз, стеречь испанок, вооружив каждого парой пистолетов, рожком с порохом и мешочком пуль. Потом направился к Флинту. Выполнено, капитан, доложил Билли Бонс, коснувшись пальцами шляпы. Девки в той же конуре, со своей покойницей, и два обалдуя их стерегут, Черный Пес и Джордж Мерри. Велика ль на них надежда поморщился Флинт, и Билли Бонс ухмыльнулся. Зрелище довольно редкое. Скорее увидишь, как в Портсмуте сходит на берег белый медведь, а пингвин за ним тащит его сундук. Я за них спокоен, сказал Билли Бонс. Я объяснил, что отрежу им, ежели подведут. Ладно, теперь на нижней палубе будет какой-то порядок. Хватит, позабавились, проворчал Флинт. А с этими что? спросил Сильвер, указывая на столпившихся в кучку на баке испанцев. Х-ха! Флинт ухмыльнулся.Чик! он резко дернул большим пальцем у себя под подбородком. Нет! твердо возразил Сильвер.Высадить на остров, отпустить в шлюпке с парусом и провиантом Это по-английски. Но не убивать. Мы джентльмены удачи, а не пираты. Ох! А есть разница? Есть! Да ну? Есть! Флинт вздохнул и закусил губу. Он огляделся, почесал макушку попугая, вернувшегося на плечо сразу после завершения кровопролития. В голове у него забрезжило понимание того, что Сильвер искренне верил этой ерунде насчет джентльменов удачи и искренне стремился жить по своим драгоценным Артикулам. Флинт отнюдь не дурак, он сообразил: Сильвер вцепился в свою мечту, чтобы не видеть, в кого он превратился. Джозеф Флинт считал это смешным. Но Сильвер ему нравился больше, чем любой другой встречавшийся на его пути человек. А у Флинта никогда не было друзей. Ну, как пожелаешь, сказал Флинт, наконец, и оглядел судно от бушприта до кормы.В любом случае корыто слишком велико для продажи. Наши клиенты хотят что-то покомпактнее. Я б его сжег к чертям. Но мы вот что сделаем и он прищурился, помолчал, подыскивая слова.Как джентльмены удачи и веселые ребята, мы обдерем с него все, что можно Долговязый Джон молча кивнул. И отпустим этих придурков вместе с их бабами.Флинт повернулся к Сильверу, как будто ожидая одобрения.Что скажешь на это, Долговязый Джон? Есть, капитан, ответил Сильвер с улыбкой облегчения, верное дело, капитан, так держать. Команда Моржа обобрала Донью Инес, сняв с нее все, что нравилось и что можно было уместить у себя. Израэль Хендс запасся порохом и позаимствовал прекрасную курсовую девятифунтовую пушку барселонского литья, естественно, со всем ее боеприпасом. Водяному приглянулись бочки испанца, лучше сохранявшие воду, чем старые бочки Моржа, но его ждало разочарование. Люди уже настолько измотались, особенно с пушкой Хендса и ее ядрами, что послали Водяного ко всем чертям. Водяной пожаловался Флинту, но тот отправил его туда же. Флинт видел, что на сегодня предел уже достигнут. Тем более во имя дела, в которое он сам не верил. С закатом Морж отвалил от Инес в просторы Карибики, оставив испанцев сращивать мачты, латать паруса и благодарить Деву Марию за сохраненные им жизни. Испанцы похоронили своих мертвых, включая бедную девушку, поторопившуюся выбить себе мозг ради спасения чести. На Морже в это время царило буйное веселье пили во здравие, наяривал скрипач, настил палубы скрипел под мельтешившими в плясе босыми пятками и каблуками. Флинт нашел друга и утешал себя, что ради этого можно вытворить и глупость-другую, вроде этих жестов с испанцами. Джон Сильвер тоже нашел друга и верил, что наставил его на путь истинный, на верный курс. Оба они ошибались, но дружба их не была фальшивкой. Каждый нашел в другом нечто жизненно важное, отсутствующее у него самою. Вместе они становились сильнее, чем взятые по отдельности, а результат дал печально знаменитую карьеру капитана Джозефа Флинта, пирата, а не джентльмена удачи. Самое интересное заключалось в том, что мало кто осознавал истинный характер партнерства этих двоих. Мало кто понимал, что капитан Флинт не один человек. И феноменальный успех сопутствовал Флинту, лишь пока длилось это партнерство.Глава 17
5 октября 1750 года. Лондон, Ковент-Гарден. Таверна Холланда
Глянь-ка, Фредди, сказал Алан МакКей, сахарный магнат Хрупкий эльф с троллем-страшилой на поводу. Фредерик Бертон, владелец пивоварен, удостоил вниманием пару, оставившую гремучую булыжную мостовую и входившую в ресторан. Чтоб меня зажарили! Это же Гаррик, актер. А что за чучело вздумал он сюда приволочь? Горилла какая-то Возглашая, с его точки зрения, очевидное, Бертон ожидал от присутствующих полного с ним согласия, но вместо одобрения получил от одного из друзей толчок тросточкой под ребра. Осел ты, Бертон, проворчал хозяин трости мистер Дэвид Кентербери, банкир. Это же Джонсон. Лексикограф Джонсон. О! воскликнул Бертон, выхватывая из кармана очки, О! повторил он, насаживая очки на нос.А! И он схватил свою трость, чтобы присоединиться к приветственному грому тростей, стучавших в пол. Так гости мистера Холланда встречали отнюдь не всякого. Как и любая большая или таверна, заведение Холланда представляет собой клуб, с членством и правилами. Вытянутый в длину зал разделен на отсеки невысокими перегородками, которые позволяют сидящим в них в каждом две скамьи и стол как сохранять некоторую обособленность, так и быть в курсе, кто присутствует в зале и кого только что впустили в дверь. А впускали сюда не каждого. Разные люди предпочитали разные клубы. У Холланда можно было встретить господ коммерсантов, ученый народ, издателей, книготорговцев, художников если, разумеется, эти последние признаны и в моде, И благородных кровей господа заглядывали к Холланду. Но если бы сунуться к Холланду вздумалось иностранцу, сектанту или же мелкому торговцу-разносчику, он непременно услышал бы: Мест нет, сэр! Нет, миль пардон! Мест не было, даже если в зале пустовала половина отсеков. Прочих же, как то: солдат, матросов, ирландцев и собак отшивали руганью, презрительным взглядом, а то и пинком. Из шлюх Ковент-Гардена к Холланду допускались лишь наиболее почтенные и чистые. Двое новоприбывших, без сомнения, имели право доступа в этот парадиз. Их приветствовали все, кто здесь присутствовал. Вошедшие сильно отличались один от другого, и приветствия восприняли по-разному. Один из них, Самюэль Джонсон, грузный господин лет сорока с лишком, но выглядевший намного старше, на голове имел старомодный физический парик, на манер поверенного в делах. Передвигался он, отдуваясь и пыхтя, раскачиваясь из стороны в сторону, потрясая увесистым задом, необъятным брюхом и несколькими подбородками. Одеждой он похвастать не мог, зато всевозможнейшими дарованиями обладал столь же необъятными, сколь и брюхом. В заведение Холланда мистер Сэмюэль Джонсон ступил впервые. Второй вошедший, Дэвид Гаррик, наимоднейший актер, молодой, мелкий, в сравнении с Джонсоном просто прыткий кроха; очень, опять же в отличие от Джонсона,аккуратный, одетый в жилет с золотой вышивкой, шелковый сюртук с кружевными манжетами и воротом, также отделанным кружевами. В общем, он был прямой противоположностью Джонсону, если судить по внешности. И парик на нем по моде с буклями по бокам и косицею сзади, с лентой, завязанной кокетливым бантиком. Знаменитый актер имел весьма приличное состояние, его принимали с распростертыми объятиями везде, в том числе и здесь, в клубе-таверне Холланда, но не из-за его богатства, а благодаря неоднократно выказанной им остроте ума и языка. Гаррик, Гаррик! гремело со всех сторон.К нам! Сюда, сюда! Гаррик улыбался во все стороны, разводил руками и, наконец, все с той же улыбкой на сахарных устах, повернулся к Джонсону. Тот тоже попытался продавить улыбку сквозь жировые складки физиономии и наугад ткнул рукой в направлении МакКея и Бертона. Джентльмены, произнес Гаррик, усаживаясь.С большим удовольствием пользуюсь случаем представить вам господина, который вскоре подарит миру несравненный словарь нашего возлюбленного языка. О, сэр! почтительно выдохнул Бертон, пожимая пртянутую ладонь с трудом втиснувшегося за стол ученого. Весь Лондон ожидал выхода в свет великого творения Джонсона, над которым он трудился один-одинешенек и который, как известно каждому честному британцу, оставит далеко позади знаменитый словарь французского языка, выпущенный после десятка лет хлопот бесчисленными Docteurs de lAcаdemie Francaise*["882] (много ли от них проку!). Сэр прохрипел Джонсон, сминая пальцы бедного Бертона, как использованную салфетку. Мистер Джонсон, продолжал Гаррик, позвольте представить вам мистера Бертона, знаменитого пивовара, и мистера. МакКея, плантации которого на Ямайке дают половину сахара, потребляемого в Лондоне. Сэр! МакКей улыбнулся в ответ на комплимент. Плантатор, сэр? Джонсон повернул в сторону МакКея глазные яблоки, не шевеля грузной головой. Сахар благороднейшая из травок. Изысканная сласть, извлеченная из простейшего растения. Как продвигается ваш словарь, мистер Джонсон? спросил Бертон.Когда мы его, наконец, сможем взять в руки? Он глянул на Гаррика.Сей джентльмен постоянно его цитирует. Бездна остроумия, сэр, мы просто с ног валимся со смеху. Остроумия? Джонсон насупился.Моя цель учить, а не развлекать. Вы скромничаете, сэр, возразил Бертон.Скажем, определение дерева мне просто врезалось в память: крупная трава, достигающая высоты непомерной, сделанная из древесины. Окружающие дружно захохотали. Снова грохнули в пол трости. Хм издал какой-то неясный звук Джонсон, шевеля губами и пальцами, обуреваемый смешанными чувствами. Что ж, кому не приятно, когда его так приветствуют, хотя и не вполне заслуженно. Нет-нет, сэр Дэвид, это твои импровизации Ты искажаешь мои простые, ясные строки, шалопай. Ищешь славы за мой счет Светишь отраженным светом, как луна А я борюсь, чтобы засиял свет солнечный Гаррик рассмеялся. Вы совершенно правы, сэр! Каюсь и не отпираюсь, приношу свои искренние извинения! Как мистер Гаррик хорошо знает, продолжил Джонсон, не сердясь, но и не желая оставлять недоразумение невыясненным, в словаре определение приведено следующим образом: крупное растение со стволом, из древесины состоящим, достигающее значительной высоты. Верно, сэр, согласился Гаррик.Но ведь совершенно не смешно. Мальчиком Гаррик учился у Джонсона, и Джонсон на него никогда не сердился. Вот и сейчас он рассмеялся, и в течение получаса присутствующие у Холланда наслаждались обществом ученейшего мужа Англии. Но вскоре проявилась и другая сторона Джонсона, непримиримого спорщика, бойца, не привыкшего уступать противнику ни пяди земли, ни слова, ни понятия. Как, сэр? Что вы имеете в виду? возмутился Джонсон, когда разговор коснулся Вест-Индии и МакКей принялся клясть на чем свет стоит море и тех, кто им пользуется. Я всего-навсего обругал всех моряков, а славный флот короля Георга дважды, охотно пояснил МакКей, вообразивший, что Джонсон по рассеянности не расслышал его слов. Джонсон побагровел. Патриот до мозга костей, он не желал, чтобы в его присутствии оскорбляли служивых Его Величества. О-о-о, нет! застонал Гаррик, приведший Джонсона, чтобы сделать его завсегдатаем клуба Холланда, а вовсе не для скандала. Буря! Сейчас грянет шторм! Гаррик замахал руками МакКею, но тот продолжал, как ни в чем не бывало: Видите ли, сэр, все моряки делятся на мерзавцев, которые грабят, и трусов, позволяющих себя обокрасть. И все это на глазах офицеров королевского флота, которым на происходящее просто наплевать.МакКея можно было понять. Он переживал личную трагическую потерю. Потерю любимого груза, отобранного у него пиратами. Он раздраженно стукнул кулаком по столу.Честного коммерсанта грабят как ни в чем ни бывало. Неудивительно, что ни один приличный человек не хочет идти в моряки! Ерунда! рявкнул Джонсон.Совершенно напротив! Приключения! Романтика бескрайних океанских просторов! Китайские шелка, меха Америки! Нет, сэр, кто на море не бывал, мира не видал. Да бросьте вы! Вы не знаете, о чем говорите. Я знаю, что есть люди, которые много говорят, но боятся дел! Дел?.. А что я могу сделать? Сражаться, сэр! Как? Не мечом, так деньгами. Снарядите боевой корабль! Да что вы! Знаете, во что это обойдется? Такой расход! Одних убытков сколько несем Тогда, сэр, черт бы драл вас, а не славных моряков короля Георга, вас скрягу, шотландца, ирландца, испанца Теперь побагровел мистер МакКей, а Гаррик быстро втиснулся между спорщиками и положил ладонь на обширное предплечье Джонсона. Сэм, умоляю, ради бога. Мы среди друзей, не нужно шума. Джонсон обмяк и осел на скамейку, ворча что-то себе под нос. Мистер МакКей, продолжил миссию миротворца Гаррик. Давайте все забудем. Сэм Джонсон национальное достояние, не надо его обижать. Кроме того, он мастак палить из пистолетов, А не попадет пулей, так рукоятью сшибет. Но МакКея так просто не возьмешь. Он махнул рукой, подзывая подавальщика. Принеси-ка мне мадридскую газету, милый. Клиентов Холланда баловали не только английской прессой, но и доставленной из главных европейских столиц. Конечно, пока они прибывали в Лондон, проходил не один день, а то и неделя, но что поделаешь, путь неблизкий. Гляньте на это, сэр, мирно предложил МакКей, разглаживая на столе весьма уже зачитанную, помятую газету. На что, сэр? проворчал Джонсон, все еще хмурясь. Вот, здесьМакКей подсунул газету Джонсону, и тот поднес ее поближе к своим подслеповатым глазам.Вот, вот Перевести, сэр? Нет, благодарю, сэр. Джонсон не слишком разбирался в испанском, но латынь читал бегло, как и ряд других языков, поэтому без усилия понял, о чем сообщалось в заметке.Что ж, похоже, пират-англичанин захватил испанское судно по названием Донья Инес де Вильяфранка и, удалив с него несколько тонн серебра, отпустил с миром Вот-вот! торжествующе закивал головою МакКей.Гнусный разбойный акт! Ничего подобного, сэр! прогремел Джонсон.Такого рода деяния возвеличивают Британию и заставляют дрожать наших врагов. Верно! раздалось из соседних отсеков. С Испанией в описываемый момент Британия не воевала, но вскоре, так же точно, как лето следует за весной, вспыхнет новая война и с Испанией, и с Францией тем более с Францией. Согласно естественному течению событий в мире. Как же без войны! Да! продолжал Джонсон, ободренный поддержкой.Такие люди, как эти, он хлопнул дланью по странице, источник, из которого наша страна черпает силу. Силу, питающую нас морской торговлей и защищающую от вторжения на наш благословенный остров. Эй, малый! заорал Джонсон подавальщику.Вина! Мы выпьем во здравие этого славного корсара как, бишь, его где тут а, вот! Флинт! Флинт его зовут! За успех Флинта и славу Англии, джентльмены!; За успех Флинта и славу; Англии! загремело со всех сторон. Честно говоря, Джонсон спорил не ради убеждения, а ради спора, он о Флинте к следующему утру и думать забыл. Однако присутствовавшие хорошо запомнили слова лондонской знаменитости. На следующий день в половине таверн Лондона, а немного позже и за его пределами пили за здоровье морского волка, героя Британии капитана Флинта, вчерашнего (то есть прошлогоднего) мятежника и преступника, бросившего юного Гастингса на произвол стихии. Много, много нашлось простаков на благословенном острове, не представлявших, насколько им повезло, что они не встретились с этим славным героем Британии.Глава 18
10 июня 1752 года. Река Саванна. Борт Моржа
Билли Бонс пребывал в лучезарнейшем расположении духа. Морж направлялся вниз по реке, мимо острова Тайби, в океан. Билли Бонс хмыкал и ухмылялся, а если и давал кому-нибудь по загривку или по макушке, призывая к исполнению служебного долга; то в высшей степени добродушно и по-отечески. Тяни; триста якорей вам в зад! Гр-р-реби, сучьи блохи! последнее сердечное напутствие относилось к гребцам шлющей, отряженной прямо по курсу с якорем. Так стали продвигать судно, когда вдруг подло стих хилый ветерок. Билли Бонс резвился, щелкая моряков по ушам и сшибая зазевавшихся в распахнутые люки. И вся команда, все палубные, подпалубные и марсовые*["883] радовались вместе с Билли Бонсом, разделяя его прекрасное настроение. Причина бодрого самочувствия Билли крылась в проведенной на берегу неделе, в течение которой он предавался разгулу с местными девами страсти, высасывая содержимое кружек и бутылок. Апогеем праздничной недели стала призовая схватка мистера Бонса с сержантом местного гарнизона, самым крепким, как гласила молва, кулаком американских колоний. Громадная толпа зрителей собралась ночью, при свете факелов, следить за боем на Западном лугу, при самой бухте. Не прошло и двадцати пяти раундов, как сержант начал выказывать первые признаки усталости, и Билли Бонс пошел на абордаж. Уложив противника изящным броском через пупок, Билли принялся выбивать у него камни из почек. Сухопутные гарнизонные крысы бросились на помощь своему вождю, уволокли сержанта и стали его откачивать. Оживленный десятком ведер холодной воды сержант вернулся на очищенный бравыми дубишциками ринг, но боевой дух его уже подувял, тело обмякло, и за каких-то пять раундов Билли Бонс вмял его в истоптанную траву. Возбужденный победой Билли залил жар, влив в нутро с четверть дюжины бутылей французской медовухи. Затем он удавил бифштексы общим весом этак на полпорося-трехлетка и поимел неустрашимую мисс Полли Поттер с такою основательностью, что она, говорят, трое суток после этого не могла отдышаться. Но главная причина радости мистера Бонса заключалась в том, что весел был капитан. Флинт, а этот широкомордый придурок с соломой вместо волос, Джон Сильвер, наоборот, свой минный нос повесил. Когда Билли увидел черную девицу, которую капитан доставил на борт, он присвистнул, оценив ее стать. Вообще-то он к черным относился прохладно; даже готов был платить больше, чтобы только взять белую на худой конец, метиску. Но эта, надо признать, хороша, даром, что черная. Фигурка, как склянка песочных часов, все при ней. Смазливая. Глаза, что фонари штормовые. Волос тоже хоть; сети плети. Не один Билли Бонс ее видел, и все того же мнения. М-да, баба на корабле Билли поджал губы. Не дело это, не дело Добра не жди Особенно с такой бабой. Но Флинт капитан Гм Да, Флинт, конечно, капитан, но и Сильвер тоже, вроде. Два командира на судне еще хуже, чем одна девица Что ж, она Флинта имущество, на нее никто лапу не наложит, и подумать-то не посмеет никто. Флинт этого не потерпит. Да и он, Билли Бонс, коли заметит посягательство на капитанское имущество Морж тем временем обогнул остров Тайби и вышел в открытое море. Ветер поднялся неумеренный, Билли свистнул народ, чтобы парусов поубавить. Зашлепали пятки, завопил боцман, появился на палубе Флинт и озарил Билли Бонса широкой улыбкой. Этот простой знак внимания господина привел рабью душу Билли в дикий восторг. Его простое, грубое сердце подпрыгнуло в небеса, и радость простерлась до горизонта. П од ногами Бонса тем временем жили, трудились, напрягались деревянные-конструкции ладного судна, команда спускала хлопающие, трепещущие на ветру паруса, в небе кружили, взмывали и пикировали чайки. Ветер швырял в лицо пену, брызги и водяную пыль, море дышало свежестью и новизной. Каждый моряк знает это ни с чем не сравнимое возбуждение, охватывающее душу, когда земля остается за кормой, а впереди открывается целый мир. Килли Бонсу это ощущение знакомо не хуже, чем другим. Чтобы испытать его, люди идут в море, а жалких сухопутных крыс, которым это чувство известно дишь понаслышке, презирают. Флинт подошел, остановился возле Билли Бонса и рулевого у румпеля. Он окинул взглядом паруса, затем склонился к нактоузу, изучая показания компаса. Неплохо, мистер Бонс, похвалил Флинт. Рулевой, курс? Юго-восток, капитан; Неплохо, неплохо. Билли Бонс радовался доброму расположению духа капитана. Он понимал причину блаженства Флинта и ухмылялся, представляя, что бы он сам вытворял с этой черномазой девкой, достанься она ему. Билли ни мгновения не сомневался, что капитан делает с ней то же самое, только наяву. Бонс облизнулся, пройдясь в воображении по рельефам Селены и особо выделив две выпуклости спереди выше талии и две сзади пониже. А, Джон! воскликнул Флинт, завидев приближающегося Сильвера.Иди сюда, побеседуем, я по доброму разговору истосковался. Есть, сэр! бодро отозвался Сильвер, и эта его вечная живость резанула Бонса по сердцу, как острым ножом. Почему бы капитану не завести добрый разговор с ним, с Билли Бонсом? Что он, рылом не вышел? Счастливого расположения духа как не бывало, затопила душу Билли ревность ребенка, лучший друг которого увлекся кем-то другим. Точнее, злобный другой завлек обманом его лучшего друга. Бонс любил Флинта. Так сын любит отца или патриот страну родную. Для Билли Флинт был самым умным, самым быстрым, самым красивым А как он умеет страху нагнать на всю эту шушеру включая и его самого! Бонс восхищался Флинтом, а что Флинт обращался с ним, как со скотиной, ну Флинт так со всеми обращался. Кроме Чего Билли Бонс не мог понять, так это почему Флнпт воспринимает этого Сильвера как равного. Ничего же в этом Джоне Сильвере нет, что заслужило бы уважение Флинта! Бонс ухмылялся, глядя на Сильвера. Но при этом следил, чтобы Долговязый Джон не заметил его ухмылки. Поэтому Билли отворачивался, а то и к борту отходил, рассматривая море. Чем на берегу занимался, Джон? спросил Флинт. Отдыхал и развлекался, согласно правилам судового распорядка и нашим славным Артикулам,И оба они, Флинт и Сильвер, рассмеялись. Ладно рассмеялись, одновременно. Билли Бонс аж зубами скрипнул от такой слаженности. Флинт, правда, тут же горестно вздохнул: А я с Нилом-ирландцем торговался, все жилы он из меня вытянул, скряга Кто ж лучше тебя с этим справится, Джо, уважительно заметил Сильвер, и они снова рассмеялись. Бонс себе места не находил, их удовольствие ему глаза резало. Но тут его уши уловили какой-то неясный шорох. Волна беспокойства пробежала по палубам. Чтоб мне рулевой поперхнулся и захрипел, выпучив глаза. Бонс повернулся в направлении его взгляда. Медузу мне в печень! только и смог вымолвить он. Чернокожая девица маячила у кофель-планки,*["884] придерживаясь, чтобы устоять на ногах. Волосы она обмотала темно-алым шелковым платком, верхнюю часть ее тела прикрывала рубаха, нижнюю короткие матросские штаны. Одежка принадлежала одному из судовых пацанов, двенадцатилетнему недоростку, и больше всего подходила ей размером. Штаны, однако, кончались, не дотягивая до колен, рубаха вследствие недостатка пуговиц оказалась весьма-открытой на вороте и гораздо ниже. В общем, без покровов осталось намного больше ее черной бархатной кожи, нежели было полезно для общего блага. Движение судна ее явно беспокоило. По мимике девушки Билли видел была б она белой, он бы и по цвету лица смог это понять, что содержимое ее желудка вот-вот последует за борт. Он скосил один глаз на команду и увидел, что на это явление вылупились все находившиеся на палубе члены экипажа. Подоспели и те, кто был внизу, вызванные товарищами. Бонс почуял, что у него выпучиваются не только глаза, но и кое-что в штанах. И это после нескольких суток берегового разврата, обычно оставлявшего его удовлетворенным на многие недели! Билли готов был даже пересмотреть свое отношение к чернокожим девкам. Ведь капитан-то лучше знает толк Да, капитан настоящий мужик, парень что надо, промаху не даст. Билли Бонс покосился на Флинта. На лице того играла самодовольная усмешка. Ему нравилась реакция команды. Селена, дорогая! крикнул Флинт.Пожалуйте на корму. По ее первой реакции Билли понял, что Селена не знает, что такое корма и где она находится. Но Флинт сопроводил свой призыв приглашающим жестом, и Селена проковыляла к нему. И тут Бонс пережил приятный сюрприз. Сильвер скис, нахмурился и скривился набок. Кто-то и Билли Бонс сразу догадался, кто запустил Сильверу в задницу пинту горчицы. Бонс постарался, чтобы расплывшиеся в улыбке щеки не закрыли ему глаз, он не хотел ничего упустить. Селена, приступил к процедуре знакомства Флинт. Он вел себя как флагман эскадры, к которому прибыла герцогиня.Позволь представить тебе моего квартирмейстера и доброго друга мистера Джона Сильвера. Билли Бонс увидел, что лицо девицы исказила гримаса, нос сморщился, а руки взметнулись и уперлись в бедра Х-ха! выдохнула Селена, и Билли затаил дыхание. Режь его, жги, засоли ошкуренным, если сейчас не произойдет что-то очень смачное! Черная девка смерила Долговязого Джона Сильвера взглядом боцмана, поймавшего фор-марсового забулдыгу за обшариванием сундуков товарищей по команде. А Сильвер-то, Сильвер! Он только ежился, моргал да шнырял глазами меж нею и кэпом. Билли невольно фыркнул от удовольствия и, сделав вид, что ему пора сплюнуть табачную жвачку, побежал к борту. Однако быстро вернулся, чтобы не пропустить самого интересного. Ты чего, Джон? удивился Флинт. Мы уже встречались, сказала девица. Да, встречались, подтвердил Сильвер. А, в Саванне, понял Флинт. Да, в Саванне. В лавке Чарли Нила, уточнила черномазая чертовка Ваш друг, сэр, принял меня за другую. Не за такую, какая я есть. Ну, наглая тварь, подумал Билли Бонс, но, с другой стороны, она же прекрасно сознает, кто ее покровитель. Я, мисс, искренне сожалею об этом недоразумении, готов поклясться на Библии, выдал Сильвер девице и повернулся к Флинту. Джо, на пару слов Флинту, однако, было не до слов. Не в состоянии ничего сказать, он безудержно захохотал. Попугай заквохтал, защелкал клювом, захлопал крыльями. Флинт бил себя по ляжкам, потом стащил шляпу, принялся обмахиваться, вроде бы успокоившись, однако вдруг снова заржал, закачался и затопал ногами. Смеялся Флинт увлеченно, не остановишь. Ох, Джон, смог он, наконец, выдавить между приступами смеха, значит, мы оба охотились за одной птичкой, но я оказался быстрее. Нет! вспыхнула девица. Нет, выдавил Сильвер. Нет? усомнился Флинт. Надо бы поговорить, Джо, сказал Сильвер.Женщина на борту худшее, что можно вообразить, это верное несчастье. Билли увидел, как лицо Флинта мгновенно помрачнело Глаза капитана округлились и побелели недобрый признак. Значит, Джон Сильвер призывает меня к ответу? Да, Джо. Что ж Они уставились друг на друга так, словно никого не было на ми ли вокруг. Момент для обоих неприятный и мучительный. Что же станет с их дружбой? Флинт встряхнулся, выдавил из себя улыбку и даже попытался рассмеяться. Недобрый вышел смех. Но он хлопнул Сильвера по плечу. Джон, друг, не будем ссориться. Ни за что не будем, помотал головой Сильвер, тоже стремясь вернуть утраченные позиции. Вот и ладно, сказал Флинт, улыбаясь почти нормально. Но переговорить надо, капитан, сказал Сильвер, глядя на Селену. Глаза Флинта снова округлились, но он овладел собой. Ладно. Что не вылечить, то надо терпеть, как доктора говорят. Флинт повернулся к Билли.Селена, дорогая, позволь тебе представить мистера Бонса, моего первого помощника.За взгляд, каким она удостоила Билли Бонса, он в иных обстоятельствах врезал бы так, что она бы за борт улетела.Мистер Бонс, леди Селена моя подопечная. Я поручаю вам проследить, чтобы она не потерпела никакой обиды, чтобы команда оказывала ей всяческое уважение. Есть, сэр! рявкнул Бонс. Ха, подопечная! Подстилочная, ха-ха! Ладно, молчим. Флинт сказал Билли обеспечит. Можешь на меня положиться, капитан, добавил он, чтобы и до этой черномазой дошло. Уверен в вас, мистер Бонс. Уверен. А теперь, Джон, давай уладим наши проблемы за стаканчиком рома, как добрые друзья. Идет? Всем сердцем согласен, капитан! И оба отправились в кормовой салон. Билли Бонс снова упал духом, увидев, как они мирно удалились, но позже несколько развеселился, когда до него донеслись возбужденные; голоса. Очевидно, иллюминаторы флинтовой каюты были открыты для проветривания. Коли к фальшборту*["885] подойти да башку свесить, то и слова можно разобрать Да вот, капитанскую игрушку стеречь надо. Девица все еще нетвердо держалась на ногах, хваталась за что ни попадя, чтобы не упасть, но страху не проявляла. Крепкая штучка. Билли Бонс следил за Селеной, а она озиралась с каким-то идиотским, непонятным нормальному моряку любопытством, как будто марселя*["886] от стакселя*["887] отличить не могла. Тут, однако, какие-то колеса в мозгу Билли Бонса со скрипом провернулись, и ею озарило: да она и вправду не могла! Ведь рабов на плантациях не обучают морскому делу Жаль, не подслушать ему, о чем ругаются эти двое в капитанской каюте. Придется или ходить нянькой за этой девкой, или обойти судно и внушить каждому, что с ним случится, если посягнет на капитанское имущество Да еще и вдолбить им, что эта черная девица и есть капитанское имущество, а не кошка какая-нибудь приблудная. Билли Бонс зарысил по шканцам,*["888] чтобы побыстрее справиться с задачей и вернуться. Может, что и подслушать удастся Однако с удивлением обнаружил, что команда не обращает никакого внимания на девку Флинта. Другая новость обогнала мистера Бонса и уже распространилась по судну все гадали, чем закончится раскол между Флинтом и Сильвером. А ведь тут было над чем призадуматься. Бонс и сам бы сообразил, кабы не нечестивая радость, вызванная выходом Сильвера из милости капитана. За которого, мистер Бонс? спросил Бешеный Пью, вынырнув из своей темной, освещенной хилым фонарем каморки с парусным оборудованием и инструментом для шитья и починки парусов. Вокруг ни души, но Пью все равно огляделся, выискивая глаза и уши. Он вонзил в руку Билли Бонса свои костлявые пальцы так он всегда поступал с собеседником, нагоняя ужас на любого. Билли показалось, что Бешеный Пью испуган, хотя трудно было определить точно. При возбуждении глаза его начинали дергаться так сильно, что в них почти невозможно было вглядеться. Убери свои крючья, придурок! Билли Бонс выдернул руку из хватки тонких, но цепких пальцев Пью,Какого хрена тебе надо? Что которого? Флинт или Сильвер? От волнения валлийский акцент Пью проявился явственнее. Идиот, отрезал Билли Бонс. Совсем рехнулся, ржавая парусная игла. Мистер Бонс прочитал Бешеному Пью правила обхождения с чернокожими девицами, буде таковые встретятся ему на судне, и потопал далее. Но следующим на его пути оказался Израэль Хендс, вышедший от своих порохов и ядер, а Израэля Хендса бешеным никак не назовешь, и не дурак он вовсе, собака. Плохи дела, Билли, изрек Израэль Хендс с похоронным выражением. Ну, что еще? спросил Бонс, стойко делая вид, что ничего не понял. Да вот Флинт и Сильвер Если они разойдутся курсами, то и команда, сам понимаешь Вот уж нет. Кто посмеет отстать от Флинта? Да, верно, без особенного энтузиазма согласился Израэль Хендс.Кто посмеет? Вот так, припечатал Билли, убеждая себя, что исчерпал тему. Будем надеяться, что все уладится, мистер Бонс, сказал Израэль Хендс. Или никто не отважится койку подвесить все будут бояться, что снизу ножом нырнут. А спать-то моряку надо, сам понимаешь. Бонс подумал и тряхнул головой. Нет, только не на Морже. Мы береговые братья и все такое. Да, верно, согласился Израэль Хендс и с этим.Верно говоришь, мистер Бонс. Но утешала Израэля Хендса, корабельного пушкаря, не сомнительная правота мистера Бонса, а то, что он сам спит не в подвесной койке, а на прочном, основательном рундуке, сколоченном из толстых досок.Глава 19
8 июля 1752 года. Юго-западная Атлантика. Борт Моржа
Долговязый Джон обливался потом, его била дрожь. Судно раскачивалось на волне, вызывая у него, не знавшего, что такое морская болезнь, тошноту. Он с трудом подавлял рвотные позывы, хотя бриз был ровным, а Морж держал курс с благопристойностью хорошо воспитанной девушки, следующей по городской улице, не сворачивая и не вертя головой. Народ вокруг радостно вопил, подбадривая его. Бодрей, Джон! Смелей, Джон! Отлично, приятель! Давай, Долговязый Джон! Флинт со своим проклятым попугаем тоже был тут и вроде бы также искренне подзадоривал. Билли Бонс и люди Флинта смешались с людьми Долговязого Джона, все орали и свистели, топали и хлопали, все были заодно. Долговязый Джон задержал дыхание. Сосредоточившись, он оттолкнул руку доктора Коудрея с одной стороны, с другого боку липкую лапу Джобо. Напряг спину, прижатую к фальшборту у вант грот-мачты, оттолкнулся Вперед! С новым костылем под мышкой справа. Храбрый шаг, не первый храбрый шаг в его жизни. Бух! Шарк Бух! Шарк Два неуверенных шага. Толчок подмышку, толчок конца костыля о палубу Два одноногих шага и два болезненных нырка, а потом падение в подхватившие его сильные руки моряков, скопившихся вокруг грот-мачты. Ура Долговязому Джону! орали они Виват Долговязому Джону! Его хлопали по плечам, по спине, жали руку. Коудрей снова подхватил его, Селена отодвинула в сторону Джобо и поддерживала Сильвера, обхватив вокруг пояса. Он чувствовал тёпло и упругость ее тела, вдыхал ее запах Спляшем, Джон! гаркнул кто-то, и все снова дружно заржали. На клотик влезу, попытался произнести Джон, но с губ сорвалось лишь неясное бормотанье, сопровождаемое вымученной улыбкой. Все, все, на сегодня довольно! повысил голос Коудрей.Плотник! Черный Пес подошел к хирургу.Хорошо сделано, но чуть длинновато. Дюйм убрать, и завтра еще разок попробуем. Он повернулся к Долговязому Джону. Не жестко, мистер Сильвер? Жестковато Подушечку надо помягче А теперь в постельку, сэр. Отлично сегодня потрудились, но достаточно. Отдыхать. Его проводили к корме, помогли улечься в подвесную койку, пристроенную в тени, с бочонком вместо стола и еще одним вместо стула для того, кто захочет посидеть рядом и составить выздоравливающему компанию. Устроив Долговязого Джона, хирург и Джобо удалились, остальные занялись делами, ибо безделье на борту Моржа не поощрялось. Флинт, Билли Бонс и Долговязый Джон следовали порядку, заведенному прежними капитанами. К удовольствию Джона, Селена осталась и села рядом, возле его головы, чтобы легче было разговаривать. Улегшись, он почувствовал себя лучше. Дурнота прошла, вернулась бодрость духа, подпитываемая сознанием нового свершения, двух первых шагов, пусть и с деревяшкой. Долговязый Джон ощутил себя мужчиной, он жадно впитывал темноту глаз Селены, любовался ее выпуклостями под обтягивающей одеждой Разрази меня гром, думал он Как будто, чтобы детей делать, ноги нужны. Какая разница, сколько ног? И деньжата в банке отложены Зачем ты вздоришь с Флинтом? спросила она, прервав ход его мыслей. Ты о чем, дитя? Но Долговязый Джон понял, что она имела в виду. Когда ты в первый раз вышел на палубу, у вас с Флинтом вышла неприятная стычка. Я не слепая. Зачем? Долговязый Джон вздохнул. Пошевели мозгами, милая. Вот он, а вот я. Выбирай. А Морж тем временем ползет к его гнилому острову. И он там вытворит то, что задумал. Селена удивилась. Почему ты не хочешь, чтобы Флинт оставил там добычу? Почему ты всегда придираешься к капитану и ищешь ссоры? Постоянно Нет, не я ищу ссоры. Наверное. Но ты его заводишь. Может быть, и завожу. Но какой смысл зарывать золото, если есть банки, которые от золота не откажутся. Более того, они за него деньги платят, проценты. Чем плох Чарли Нил? Он же не какой-нибудь скупщик краденого. Его и в Чарльстоне знают, и в Нью-Йорке, и даже в Лондоне. Он хоть скряга, но честный торговец. Вот я и предлагаю: словечко Чарли, и все будет устроено, чуток там, чуток тут, и нигде слишком много. Ну-ну. А в руках у тебя останутся одни бумаги. Бумаги и на них всякая писанина вместо золота. Чтоб меня черти драли! Зря ты смеешься. Писанина всякая бывает. Бумаги это закон, приговоры и помилования, бумага пеньковый галстук. В словах сила, дорогая! Это ты так говоришь. Чтоб мне лопнуть! Я дело говорю. А ты слушай. Ну, слушаю. Флинт утверждает: зароем золото и нет его на судне, и нечего нам бояться. Так он говорит?: Так. И еще он говорит: а потом мы еще добудем и; тоже закопаем. А когда накопим гору, все разделим и разбежимся. Так он говорит? Ну, так. И чем тебе это не нравится? А ты когда-нибудь слышала о джентльмене удачи, который бы молниеносно не спустил все, что попало ему в руки? Да хоть ты, к примеру. Умная больно! Я не в счет. Я не такой. Не я выбрал эту жизнь. Флинт тоже не такой. Флинт совсем иначе не такой. Он живет ради момента. У него какой-то нечистый план. Это я понял, меня не проведешь. А половину команды, этих олухов, он как будто заколдовал,Долговязый Джон вздохнул.И, сдается мне, тебя тоже. Капитан Флинт джентльмен! Вот балда! Опять за свое. Он джентльмен! Еще чего! Ну, знаешь, для меня он джентльмен, и побольше, чем некоторые! Долговязый Джон вскинул глаза к небесам и зарычал от сознания собственного бессилия. Конечно, он не забыл кладовки в питейном заведении Чарли Нила, не забыл своего поведения, и в голове промелькнула абсурдная мысль, что он готов и второй ногой пожертвовать, чтобы все изменить. Что до Флинта и его плана зарыть сокровища если он не смог убедить в пагубности этой затеи Селену, сообразительную, умеющую слушать и слышать, то как, скажите на милость, вбить это в головы его товарищам по команде, которые развесили уши и верят всему, что врет им хитрый Флинт? Он вздохнул. Да поможет Бог каждой живой душе на борту, подумал Долговязый Джон.Ибо я не знаю, что предпринять.Глава 20
10 июня 1752 года. У берегов Джорджии. Борт Моржа
Громадное деревянное чудовище, на палубу которого Селена ступила в устье реки Саванны, поразило ее своей необычностью. Еще больше дивилась она, когда судно вышло в океан. В ее возрасте и неудивительно полное незнание о море, матросах и кораблях. Поэтому она какое-то время безвылазно сидела в просторном, но жарком кормовом салоне, пока, наконец, ей не стало невмоготу переносить это добровольное заключение. Поначалу Селену все время давил страх. Она боялась необъятного океана с его волнами, то мелкими, то вдруг выраставшими и достававшими до ее убежища. Океан мог бы, если бы захотел, сожрать даже этого деревянного монстра со всеми его обитателями. Селена боялась тошноты, постоянно одолевавшей ее; но она боролась с нею всеми силами. А больше всего Селена страшилась дикарей, шлепавших пятками по палубам Моржа. Пираты! О них она много слышала в Саванне. Чарли Нил называл их рейдерами-трейдерами,*["889] но их разбой считал свободным промыслом. И платил командиру гарнизона, мэру, таможенному инспектору, советникам много кому платил Чарли Нил, чтобы прикрыть глаза, уши и рты, чтобы не приключилось помех на пути его свободного промысла. Нет, конечно же, это не те самые страшные пираты, которые насиловали женщин, отрезали им груди, сжигали живьем, продавали мужчин в рабство в Бразилию, на малярийные острова Карибского моря, где люди быстро умирали от болезней, где их морили голодом и насмерть забивали плетьми. Селена согласилась на предложение Флинта, потому что он показался ей очень милым. Вежливым, добрым, чистым. Она таких никогда не встречала. Да и какое будущее ожидало ее в Саванне? А вдруг бы Чарли Нилу вздумалось, что выгоднее выдать Селену семейству Делакруа, чем пользоваться ее услугами. Тем более что она не хотела торговать самым выгодным товаром, своим телом. Но то, что выглядело привлекательным там, в Саванне, оказалось вовсе не столь приятным посреди неспокойного океана, на борту болтающегося на волнах судна, в удалении от прочной земли. А вдруг пираты в море совсем не такие, как на суше? В Саванне это были обычные люди обычные мужики с нормальными желаниями. А здесь?.. Но Селена преодолела все страхи и выползла на свет. Наверху ей сразу стало лучше. Тошнота прошла, ветер освежал, жара стояла вполне сносная, воздух был чистым. Да и судно в море выглядело прекрасно. Все натянуто, прилажено, все аккуратно, пристойно. Высоко-высоко вздымаются две мачты, на них раздуваются паруса, изящно выгибаются Судно бежит! Оно больше дома, больше дюжины телег. Полным-полно людей, всяких веревок и палок сложная машина. А как быстро оно движется! Зрелище настолько ее захватило, что она не сразу увидела судовую команду, которой только что боялась. Но они-то девицу заметили сразу. Селена! раздался голос, и она увидела Флинта, стоявшего неподалеку, на возвышении, с большим зеленым попугаем на плече. Флинт звал ее, приглашал подойти. А рядом с Флинтом находился Долговязый Джон. Последние страхи выгнала вспыхнувшая в ней при виде Долговязого Джона злость. Она подошла к Флинту, Сильверу и еще одному здоровенному чурбану в синем сюртуке, таком же, как на Флинте. На этого она решила не обращать внимания. Одного взгляда на физиономии Флинта и Сильвера хватило, чтобы осознать, что оба они ее жаждут. Она сразу поняла, что добром это не кончится. Она также попыталась поразмыслить, что из этого последует для нее, и еще: кого бы из них она предпочла. И кроме того она уяснила, что они друзья и ссориться не хотят. Флит и Сильвер скоро ушли прочь, куда-то в брюхо корабля, чтобы никто не видел, как они ругаются, а ее оставили осматриваться на этой удивительной посудине. Составивший ей компанию здоровенный урод в синем сюртуке везде следовал за нею и орал на всех, чтобы ее не трогали. Это немного успокоило Селену, хотя странно было, что у него два имени. Его звали мистер Бонс, но некоторые величали его мистером Старпомом. Но все знают, что моряки народ странный. Может быть, у остальных тоже по два имени. Вскоре Селена выучилась жить на судне. Флинт добыл для нее более или менее сносную одежду и обходился с нею, как с леди. Каждый вечер она принимала ванну, но после ванны он ее не навещал. Он к ней вообще не прикасался! Разговаривал с ней, обедал в ее компании и все. Селена дивилась, но спрашивать остерегалась Остальные, конечно, думали, что он разговорами не ограничивается, а каждую ночь, а то и каждый день утоляет похоть Селена понимала это не только по взглядам от нее не слишком скрывали едких реплик, хотя и делали вид, что скрывают. Еще удивительнее, что Флинт, оказывается, и хотел, чтобы все думали, будто у них с Селеной бурная сексуальная жизнь Но на деле Флинт с ней ни-ни! Все время как с графиней, каждый вечер ванну, и не обычной забортной водой она мылась, как остальные Все те первые недели Селена считала, что Флинт настоящий джентльмен. Долговязый Джон Сильвер злился все больше, они с Флинтом постоянно грызлись, орали друг на друга. Сначала она полагала, что они из-за нее ссорятся, не могут поделить. Но потом разведала еще кое-что. Она прислушивалась к разговорам. На судне было семеро юнг, одного из них звали Крысич Ричардс. Иногда со скуки Селена болтала с ним Ричардс почему-то был не столь грязен и уродлив, как остальные. Да и мал, худосочен, его Селена не боялась. Потому как, мисс, прошу прощенья, мисс, Долговязый Джон, значит, говорит, худо это, когда на судне баба, то есть женщина. Почему? Нам не знамо, мисс. Только раз Долговязый Джон говорит А с Флинтом Долговязый Джон тоже из-за меня ругается? Это точно, мисс. Потому Флинт не верит, что вы, значит, к беде. Да вы-то фигня, мисс, то есть, прошу прощения Ну Это Ну, главное-то другое Что, что? Да Сокровища, мисс. Зарывать или не зарывать. Какие сокровища? Парень ухмыльнулся, мотнул головой и ткнул объеденным ногтем большого пальца в сторону ближайшего люка. Там, внизу которые. А, которые они награбили! Навроде того, мисс. А зачем их зарывать? А я знаю? Только Флинт говорит зарыть, а Долговязый Джон не хочет. Поначалу-то они только ржали, а теперь орут да базарят. Когда поначалу? спросила Селена, хотя поняла, когда. Ну, до вас, известное дело. Селена много размышляла надо всем этим. Времени у нее было предостаточно, ибо кроме как изображать любовницу Флинта, ей никакой иной роли на судне не отвели. И она наблюдала и выжидала, примечала да рассуждала. Принимая вечернюю ванну, Селена различала за перегородкой какие-то странные шумы, не похожие на ставшие привычными корабельные. Она хотела сказать Флинту, да почему-то передумала, что оказалось решением в высшей степени мудрым. Затем она однажды стала свидетельницей жестокой игры, в которую Флинт играл с одним из своих людей, Томом Морганом. Этот Морган вздумал пробовать кремень своего пистолета на искру в каюте, что могло вызвать пожар, Моргану полагалось за это сорок линьков без одного. Но Морган решил избегать наказания. Я прошу замены, обратился Морган к Флинту.Хочу сыграть во флинтики. Вокруг загоготали, раздались советы доброжелателей: Брось, Том! Безнадега! Только хуже будет! И опять Флинт с Сильвером заспорили. Не надо, Морган, сказал Сильвер.Мы больше не играем в такие игры. Почему? настаивал Морган. Я хочу рискнуть. Риск благородное дело для джентльмена удачи. Снова раздался смех, возгласы за и против, а Флинт сказал: Мы свободные люди, и если брат Морган хочет сыграть, это его свободный выбор. Так ведь, Том Морган? Так! Не так, возразил Сильвер, Мы решили, что эта игра отменяется. Пусть Том Морган получит свои сорок как мужчина. На лице Флинта появилась мерзкая ухмылка. Нет, Джон. Не мы решили, а вы решили отменить игру Флинта, И я призываю присутствующих здесь братьев проголосовать, согласно Артикулам. Он обратился к команде: Как решим, ребятишки, игра Флинта или сразу сорок без одного Тому Моргану? Раздался почти единогласный вопль в пользу игры. Флинт повернулся с ухмылкой к Сильверу, который скрипнул зубами, а попугай взлетел с плеча хозяина и направился подальше и повыше. Сразу началась подготовительная суматоха. Селена наблюдала за жестокой забавой сначала с любопытством, а потом со все возраставшим отвращением Руки и лицо Тома Моргана заливала кровь, зрелище не из приятных, но еще гаже ей показалось то, как Флинт управляет превратившейся в стадо командой, дирижирует ее смехом, ее извращенным наслаждением. Селена поняла, что Флинт обладает не только замечательной скоростью реакции, но и способностью организовать людей и заставить их смеяться. И этот созданный им жестокий, издевательский смех вызывал у нее отвращение. В конце концов, Том Морган уже покачивался из стороны в сторону. Очень упрям был Морган, он твердо решился избежать порки. Кровь, стекавшая с разбитого лба, заливала ему глаза. Он то и дело хватался за бочонок, где лежала окровавленная дубинка, которой лупил его Флинт. Капитан уже сломал ему нос., расшиб губы. Один глаз заплыл, на трех пальцах отсутствовали ногти Еще попытка, приятель? весело предложил Флинт. Ы-э-э промычал Морган. Понимать твой ответ как да, друг? Флинт сопроводил свой вопрос гримасой, вызвав очередной взрыв смеха. Нет! сказал Сильвер, выступая вперед.Хватит. Он уже получил больше своих сорока, еще чуть-чуть, и он будет негоден для службы. Да! Да! Да! завопила команда. Они не хотели преждевременно лишаться развлечения, как собака не желает расстаться с недожеванной костью. Тихо! Флинт поднял вверх обе руки.Джон, с удовольствием прекращу игру и отправлю беднягу Тома залечивать свои колотушки уксусом и компрессной бумагойВсе замолкли. Они знали Флинта и понимали, что он еще не все сказал. И дождались продолжения. Если Если ты, Джон, займешь его место. Раздался громовой восторженный вопль. Сильвер не успел и рта раскрыть, как десятки рук выдернули плохо соображающего Тома Моргана из-за бочонка и усадили на его место Сильвера. Что ж, Джон, торжественно произнес Флинт. Мы с тобою, один на один, так? Селена видела по лицу Долговязого Джона, что он не сможет победить Флинта в игре, ведущейся по установленным им правилам. Но выхода она не видела. На что играем? спросил Сильвер, оттягивая неизбежное. На сорок штук для Тома Моргана. Если ты отнимешь у меня это, Джон,Флинт помахал короткой толстой дубинкой и уложил ее на дно бочонка, то спина бедняги Тома останется целой. Хм А с ним что? Он указал за плечо Флинта. С кем? Флинт обернулся, ища, на кого указал Сильвер. Тот не тратил времени на разъяснения. Схватив дубинку, он запустил ее за борт. Но этим дело не ограничилось. Он вскочил на ноги, уже держа в руках бочонок, на котором разыгрывались флинтики, занес его над головой Селене показалось, что бочонок обрушится на голову Флинта, но и бочонок последовал за дубинкой. Все! крикнул Сильвер подпрыгнувшему Флинту.Конец этой идиотской сухопутной, недостойной моряка ахинее! Заткнись! заорал выведенный из себя Флинт, забыв про улыбки, ужимки и ухмылки, Жулик! Но Сильвер лишь рассмеялся. Нет, Джо. Ты проморгал и прозевал. Что, не так, ребята? Да-а-а! в восторге заорали одни. Не-е-ет! возмущено заревели другие;. Ну, тогда вот что, решительно заявил Сильвер, обращаясь ко всем сразу Я заявляю, что с этой клятой игрой мы покончили и о ней забыли. Это мое слово, и если кто-то хочет возразить, я готов встретиться с ним один на один с любым оружием по его выбору. Возражений не последовало. Все молчали, старательно избегая взгляда Сильвера. Но очень скоро по толпе прокатился шепоток, тут же превратившийся в рокот, апотом и в оглушительный рев. Флинт! Флинт! Флинт! Лицо Флинта изобразило борьбу эмоций, работа мысли выгнала на лоб морщины. Он чуть было не потянулся за саблей Чуть было Но не решился Флинт на открытый конфликт с Сильвером. Не созрел. Х-ха! выдохнул он, наконец, вернув на физиономию покосившуюся улыбку.Хитрый ты бес, Джон.И он очень похоже изобразил смех. Не хитрее тебя, капитан, отозвался Сильвер, видя путь к улаживанию взрывоопасной ситуации и охотно им пользуясь. Они похлопали друг друга по плечам и спинам, зазвучал смех, последовал приказ вынести ром. Дело обернули шумной шуткой и даже сумели убедить в этом большинство присутствовавших, включая попугая, который вернулся на флинтово плечо, выкрикивая свое любимое: Пьястр-ры! Пьястр-ры! В общем, Флинт и Сильвер уверили всех, даже самих себя, что они все еще друзья водой не разольешь. Не убедили они только Селену. Она без усилий увидела истину, ибо не была джентльменом удачи и не посвящала своего будущего свободному промыслу с Флинтом. Для нее, как и для каждого, у кого в голове имеется хоть капля мозга, ясно было то, чего не понимали команда и зеленый попугай: сведение счетов лишь отсрочено, и тем более жестоким оно окажется, когда, наконец, срок истечет.Глава 21
15 июля 1752 года. Юго-западная Атлантика, Борт Моржа
Долговязый Джон улыбнулся и принял пистолеты от Израэля Хендса. Любимая его пара, сделаны у Фримэна в Лондоне, о чем говорит гравировка. Долговязый Джон нежно прижал их к груди, полируя рукавом рубахи. Прекрасная работа! Герб, боковые накладки, свирепые овальные маски, на тяжелых рукоятках все из серебра высокой пробы. Бурые вороненые стволы, синие вороненые замки, завидное быстродействие. Восемнадцатый калибр, пуля двадцатого для легкости прохождения. Ну, Джон, теперь ты опять джентльмен удачи, дьявол меня дери с удовольствием заметил Израэль Хендс. Ему было приятно видеть Долговязого Джона снова на ногах и при оружии. Разрази меня гром, как я все это время обходился без этих хлопушек на поясе? Джон покачал головой.Как голый разгуливал. Вот порох, вот пули. Кремни ввинчены хорошо. Израэль, ты лучший пушкарь из всех, кто когда-либо палил из пушки, клянусь Преисподней.Оба рассмеялись. Долговязый Джон крепко прижал костыль к телу локтем, с некоторым усилием засыпал порох из рожка, забил пулю с обрывками старой газеты вместо пыжа. Ну, в пасть морскому дьяволу.Джон засунул один пистолет с зафиксированным предохранителем за пояс, второй поднял и, направив за борт в сторону горизонта, нажал на спусковой крючок. БАНГ! Пистолет подпрыгнул в его руке. Мать твоя каракатица! заорал Билли Бонс со своего поста возле рулевого; Кто там развлекается? Это я, Билли, цыпка моя, крикнул в ответ Долговязый Джон. Народ рассмеялся. Билли Бонса по имени называл лишь Флинт. Краска отлила от физиономии Бонса, кулаки сжались, как корни старого дуба. Он шагнул в сторону Долговязого Джона, и все затаили дыхание. Но Билли глянул на лицо Сильвера, изможденное долгим выздоровлением, на его оставшуюся ногу и костыль, вспомнил, каким этот тип был раньше Бонс ухмыльнулся. Ложная тревога, крикнул он.Калека развлекается. Как бы оставшуюся ногу не отстрелил. Под смех команды Билли Бонс, очень довольный своим остроумием, отвернулся и возвратился к своим делам. Не ведал он, что в этот миг уже несся к нему ангел смерти. Билли так никогда и не узнал, что всей своей дальнейшей жизнью, а следовательно и естественной смертью от пьянства и апоплексического удара в трактире Адмирал Бенбоу, с черной меткой в кулаке обязан он исключительно Израэлю Хендсу, человеку, которого никогда не жаловал. Ибо Израэль Хендс увидел стыд и ярость в глазах Долговязого Джона и сжал рукоять второго пистолета за мгновение перед тем, как Сильвер попытался выхватить его из-за пояса. Позже, прошипел Израэль Хендс Придержи топселя, Джон. Не теперь. Во-первых, все мы подписали Артикулы, и за это дерьмо тебя просто вздернут Израэль Хендс сделал паузу, чтобы назвать вторую причину, по которой не следует Долговязому Джону преждевременно покидать этот мир И ты не единственный, кому не нравится дурацкая идея Флинта добро в землю зарыть. Народ на тебя надеется, и ты им нужен на острове, живой и иОн хотел сказать и здоровый, но замялся, не желая напоминать Сильверу о потере ноги, но тем больнее напомнил. Глянь на меня, усмехнулся Джон.Ему до меня далеко было, этому мистеру Билли Бонсу. Его задница еще помнит мой башмак. Если б не нога, я мог бы разделать его и согласно Артикулам, честь по чести, один на один. Да, Джон, кивнул Израэль Хендс, не прочь вспомнить старые добрые времена. Ты был парень что надо еще во времена капитана Ингленда.Он сглотнул и добавил ложь во спасение:И снова станешь таким.Он пожал предплечье Долговязого Джона, глядя ему в лицо и пытаясь поверить в невозможное. Да, друг, сказал Сильвер, но ум и сердце сказали ему: Нет.Глава 22
23 июля 1752 года. Юго-западная Атлантика. Борт Моржа
Морж лениво переваливался на месте, дохлая волна вспухала и опадала, поднимала, опускала, наклоняла судно, переваливала его с ладони на ладонь. Паруса обвисли и болтались, как половые тряпки, брошенные для просушки на забор. Солнце маслило мертвую зыбь, и уже второй день не было ни облачка, ни ветерка. Но даже попугай Флинта понял, что затишье это скоро взорвется штормом, пока еще невидимым, спрятавшимся за горизонтом, и даже неизвестно, с какой стороны этот предательский шторм нагрянет. Всех наверх, мистер Бонс, молвил Флинт Все крепить, пушки особо; паруса убрать, люки задраить. Пора. Есть, капитан! отозвался Бонс.Все наверх! тут же заорал он. Билли Бонсу не надо было повторять приказов. Обе вахты высыпали на палубу, марсовые резво полезли по вантам. Шторму надо было оставить как можно меньше зацепок, все, что нельзя было убрать, следовало закрепить на месте. А, Джон, заметил Флинт Сильвера.Полагаю, тебе надо вниз убраться, к хирургу да к поварам. Нечего тебе делать на палубе Он одарил Сильвера язвительной улыбочкой.А то еще смоет за борт случайно, разумеется.Оба замерли друг напротив друга, не обращая внимания на бешеную активность команды. Есть, капитан! Сильвер тоже улыбнулся, но в этой улыбке Флинт с удовольствием заметал отражение бушевавшей в калеке ярости. Флинт намекнул Бонсу, чтобы Сильверу почаще напоминали о том, что он увечный. Иду вниз. Он глянул в небо, вдохнул раскаленный воздух.Две ноги лучше одной, ты прав, Джо. Особенно когда папаша Нептун сердится. Как с островом, Джо? Похоже, мы до него никогда не доберемся. То штиль, то вот это Не потерял ты свой остров? Сильвер изобразил обеспокоенность.Может, посмотришь в свои трубочки да начертишь на карте какие-нибудь черточки? Спасибо за заботу, Джон, Я знаю, что делаю и куда иду.Он доверительно наклонился к Сильверу.Надо бы тебе все это показать. Расчеты простенькие. Ребенок справится если, конечно, не закапризничает. Это нужно уметь, ведь именно это отличает джентльмена от простого палубного люда.Он ухмыльнулся, а Сильвер пожалел, что затеял этот разговор.Вон, глянь, мистер Бонс топает, жвачное животное. У него мозгов, что у медузы, а и он способен проложить курс. Ублюдок, проворчал Сильвер. Мистер Бонс! крикнул Флинт Помогите мистеру Сильверу спуститься в безопасное местечко, прошу вас. Сильвер понял намек. Израэль Хендс и остальные люди Долговязого Джона заняты, готовят судно к удару шторма, и последнее, чего бы ему хотелось, это использоваться помощью Билли Бонса при спуске в темное чрево судна. Сильвер, не тратя времени, рванулся мимо рулевого, мимо Флинта к ближайшему люку. Откуда прыть взялась! Костыль Сильвер оставил болтаться на петле, запрыгал на одной ноге. Так можно двигаться гораздо быстрее, но велик риск рухнуть, Однако он уже многому научился, с чем и двуногий не любой сладит. Силен и ловок Долговязый Джон! Но крутой трап люка серьезное препятствие, а следует спешить, пока Билли Бонс не подоспел на помощь. Так и не воспользовавшись костылем, Джон Сильвер схватился за комингс*["890] обеими руками и перемахнул через него вниз по лестнице. Бух-cкрип! Джон поскользнулся, чуть не упал, стукнулся, соскользнул едва ли не на шесть футов вниз, до следующей палубы, ударившись головой, коленкой и чуть не вывернут плечо. Костыль стукнул в палубу и больно толкнул в подмышку. Над головой с грохотом задвинулась крышка люка, отрезав доступ свету. Сразу раздался ритмичный перестук молотков плотницких помощников, заколачивающих люк на время шторма. Долговязый Джон проворчал и уселся. Весь в синяках, но живой, и то дело. Милый цыпленочек Билли, разумеется, прикончил бы его. Спихнул бы головой вниз, а потом наступил на горло и подождал, сколько положено. Билли с наслаждением сделал бы это. И для Флинта, и для своего собственного удовольствия. Он еще не забыл увесистых кулаков Долговязого Джона. Сильвер простонал от стыда и ярости. Надо, надо рассчитаться с Билли Бонсом. Но не только в Бонсе дело. За Бонсом следуют другие. Те самые люди, которые орали: Виват, Долговязый Джон!, теперь смеются шуткам Бонса над калекой. И если откладывать дело в долгий ящик, то скоро все его люди перебегут к Билли Бонсу, и он, Долговязый Джон, станет игрушкой, с которой Флинт сможет делать все, что заблагорассудится. Снова Долговязый Джон проклинал тот день, в который потерял ногу, клял на чем свет стоит Флинта, из-за которого он и лишился ноги из-за его жадности и неспособности выслушать добрый совет. И опять, уже в который раз, сквозь толщу отчаяния пробилось в нем уважение к тому неизвестному торговому шкиперу, который дрался, как капитан линейного корабля.Глава 23
15 июня 1752 года. Южная Атлантика. Борт Моржа
Через несколько дней после того, как Долговязый Джон выкинул за борт дубину и бочонок, а вместе с ними и всю флинтову забаву, когда Флинт и Билли Бонс отдыхали внизу, а возле рулевого Тома Аллардайса стоял, разговаривая с ним, Джон Сильвер, на квартердеке появилась Селена. Сменилась вахта, Аллардайс ушел вниз. Новый рулевой к приятелям Сильвера не принадлежал, и Долговязый Джон отправился на поиски еще кого-нибудь, с кем пообщаться. Он увидел Селену и улыбнулся. Она и раньше замечала, что он на нее засматривается и старается изменить впечатление, произведенное в винной кладовой Чарли Нила. Селена скучала, ей тоже хотелось поговорить с кем-нибудь, кроме сопливых пацанов, тем более что и они начинали скалить зубы и позволять себе всяческие намеки. Флинт же ей почему-то в последние дни оказывал меньше внимания, чем своему попугаю. Казалось, не прикоснувшись к ней и пальцем, он ею пресытился. Селена тосковала по дому, ей не хватало родителей, братьев и сестер. Она понимала, что ей никогда больше не суждено увидеться с ними в этой жизни, в этом мире, и пыталась примириться с этим сознанием. Рабам покидать плантацию запрещено, и если она появится на плантации, сразу же проследует на виселицу. На суше, в Саванне, она умудрялась не глядеть правде в глаза да и времени не оставалось на раздумья. А здесь, в море, все вокруг изменилось странным, каким-то колдовским образом. Селена пыталась вспомнить лица родных, и ей это пока что удавалось за исключением малышей, самых милых. Их несформировавшиеся черты расплывались в памяти. В пропасти своего одиночества она увидела Джона Сильвера свежим взглядом, как будто впервые. Ей понравились широкие плечи, умные глаза. Она свободно, раскованно улыбнулась ему и отметила, как его лицо засияло радостью. Провидение открыло ей в этот момент увлекательную забаву, к которой по воле Божьей способны все женщины. Они выбрасывают приманку, привлекают мужчин для более детального исследования и многое от них узнают, почти ничего не предлагая взамен. На плантации Делакруа она эту игру освоить не могла. Там Селена была имуществом, в лучшем случае животным для потехи и работы, а здесь, на борту Моржа, Селена пользовалась всеми правами свободной женщины, да еще имеющей могучих покровителей. Ее забава, однако, вызвала неожиданные последствия. Сильвер оказался чарующим собеседником, он знал множество историй о разных странных местах и случаях. У китайцев, мэм, ногти такие длинные, что загибаются, как кости в женских корсетах. Она улыбалась, хотя женского корсета в жизни не видела и даже не поняла, что это такое. Обезьяны, мэм? Разумеется, я видел обезьян. О, бабуин обезьяний царь. Видел я бабуинов в Африке. Челюсти что твой мастифф, а задница, пардон, мадам, задница всех цветов радуги: синяя, красная, в общем, полосатая. Она засмеялась, показывая, что не такая она дура, чтобы верить подобной ерунде. А в Ист-Индии водится большая змея, называемая питоном, Она может свинью целиком проглотить. ИлиСильвер подмигнул, пригнулся к Селене и осторожно ткнул ей пальцем в бок.Или вот такую аппетитную молодую леди, мэм, запросто. Она увидела, что Долговязый Джон не прочь изобразить этого питона, нахмурилась и отодвинулась. Однако не ушла. Они продолжали разговаривать и после этой первой встречи, все чаще и дольше. Селена заметила, что Флинт злится из-за этого. Может быть, она и хотела его позлить. По молодости она не соображала, насколько опасны такие игры, Флинт уделил ей чуть больше внимания. Он заставил Бешеного Пью, парусных дел мастера, смастерить ей платье. Дамским портным Пью в жизни не работал, потому результат получился не ахти какой, однако все же у него, как ни странно, вышло настоящее платье, Повара Флинт заставил готовить для нее что-нибудь позатейливее, а офицеров при параде приглашал с ней обедать. Эти обеды оказались для Селены весьма нелегким испытанием, ибо офицеры у Флинта ни манерами, ни умом не блистали, за исключением мистера Коудрея, который когда-то имел врачебную практику в Лондоне, да мистера Смита, третьего помощника, которого все почему-то звали пастором. Толстый пастор Смит не слишком понравился Селене, потому что он постоянно пялил глаза на ее бюст, воображая, что этого никто не видит. При этом у него непроизвольно открывался рот, разве что слюна не капала. Не нравились ей и розовые пальчики Смита с обкусанными ногтями. Причин, по которым ему нельзя было появляться в Англии, Смит стыдился и никогда их не раскрывал.. Совсем другое дело мистер Коудрей. Он когда-то жил в свете, в мире леди и джентльменов. Он видел короля и королеву, бывал в опере. Селена с раскрыт тым ртом слушала его рассказы о Лондоне, о прическах и модах. Флинту это не понравилось, и Коудрея он больше не приглашал. А Сильвера не звал на обеды ни разу. Иногда Селену отсылали вниз, прятаться в бухтах якорного троса. Это случалось, когда Морж нападал на очередную жертву. Судно сотрясали выстрелы пушек, пороховой дым душил, разъедал глаза, слезы текли потоком. Селена попросила Флинта разрешить ей оставаться на палубе, но на это Флинт не согласился. Нет, незабудка моя. Нельзя. Мало ли что случится! От ядра ты точно отскочить не успеешь. Да и насмотришься такого, что потом спать не сможешь. Вниз, вниз! Отношения между Флинтом и Долговязым Джоном все ухудшались и ухудшались. Они вздорили из-за всего, каждый раз переходя на ругань. Спорили из-за парусов. Сильвер требовал, чтобы их было меньше, ради безопасности; Флинт больше, для скорости. Ссорились из-за мытья нижних палуб. Сильвер выступал против влажной уборки, из-за сырости и вызываемой ею гнили, а Флинт за то, чтобы драить, как положено, и наводить чистоту. Препирались о том, как грог разбавлять, как часы выставлять, ругались по поводу пушечных стрельб и мушкетных учений. И не на шутку расходились, споря о судьбе пленников. Флинт всегда хотел всех перерезать, а Сильвер требовал высадить на землю или отпустить в шлюпке. Но главные споры вызывало желание Флинта закопать пиратскую казну, накопленную под палубой. Не только золото, серебро, драгоценности, захваченные на ограбленных судах, но и деньги, полученные от Чарли Нила за доставленные в Савану призы. Селена видела, что эти перебранки совершенно иной природы. Она ничего не понимала в таких вещах, как пушечные учения или приборка палубы. Кроме того, эти споры хоть как-то разрешались, задиры приходили к соглашению, хряпнув грогу, палубу убирали, паруса поднимали и спускали. Но полемики о судьбе ценностей не прекращались, и отношения между Флинтом и Сильвером становились все более напряженными. Наконец, однажды вечером, где-то в середине января, когда Морж крейсировал в Карибике, произошла ссора всем ссорам ссора. Хоть и случилась она не из-за сокровищ. Долговязый Джон, Флинт, Билли Бонс и еще кое-кто из офицеров спустились в каюту Флинта. Там собрались все, чье присутствие требовалось для принятия важных решений, настоящий военный совет. Селене среди них, разумеется, делать было нечего, но разве могла она не услышать громкой ругани? Вся команда ее слышала, все навострили уши, пытаясь разобраться, из-за чего разгорелся сыр-бор. Да будь я проклят, если пойду в Саванну! орал Флинт. И будь ты проклят, если не пойдешь! вдвое громче кричал Сильвер. Мы тут слишком долго куролесим. Уже любой пацан знает, где Флинт гуляет. Пора сматываться отсюда. Кто на судне капитан? проклюнулся голос Билли Бонса, глотка у него еще луженее, чем у Сильвера, и всей команде знакомая. Тут даже прислушиваться не надо. Заткнись, Билли! Это Сильвер. А кто меня заставит? Заткнись по-хорошему. Я утверждаю, что мы свое взяли. Следующий, кого мы встретим, будет фрегат, посланный за нашими шкурами. Ну и вали, ссыкун поганый! прорычал Билли Бонс. Сильвер почему-то Бонсу ничего более не сказал. Зато сразу послышался грохот, треск ломаемой мебели, удары. Кто-то захрипел, взвыл, а потом рявкнул пистолет. Матросы с округлившимися глазами подтягивались к корме, темные силуэты маячили в ночной тьме. Они забыли о том, что надо следить за морем, забыли даже о руле, все внимание сосредоточилось на корме и устремилось к каюте Флинта. Шум быстро прекратился, на палубе появились Флинт и Сильвер, и толпа мгновенно рассыпалась. Флинт и Сильвер разошлись к противоположным бортам, не глядя друг на друга. Каждый из них обменялся краткими репликами со своими приближенными. Вокруг обоих собралось по группе моряков, настороженно посматривающих в сторону соседей. Следующим на палубу вышел нет, не этим словом следует охарактеризовать передвижение победителя кошмарного гарнизонного сержанта из Саванны. Билли Бонс не шел, он ковылял, держась за переборки и снасти. Он вяло ударил первого подвернувшегося, обматерил его, заикаясь, и приказал принести ведро воды. Перед ведром Бонс молитвенно опустился на колени и погрузил в воду голову, смывая кровь и сопли, кряхтя, фыркая и расплескивая воду. Немного отойдя, Билли принялся мрачно взирать на Сильвера. Команда переглядывалась да прикидывала возможное развитие событий. Но если Сильвер победил в драке, то в споре он проиграл. Морж в Саванну не вернулся. Флинт поступил по-своему. Он не последовал совету Сильвера, как случалось раньше. Теперь их разделяла огненная стена гнева и недоверия. Пользы от этого никому никакой. А вот вреда И словами не выразить, сколько от этого было вреда, особенно для Долговязого Джона Сильвера. Потому что Сильвер оказался на сто процентов прав. А Флинт, соответственно, на сто процентов ошибался.Глава 24
21 нюня 1752 года. Карибское море. Борт парусника Джон Дональд Смит
Мистер Юстас Крейн, капитан и совладелец вест-индского Джона Дональда Смита, дрожащей рукой поднял абордажную саблю и, прищурившись от яркого солнца, прикинул расстояние. Его судно рвалось вперед под всеми наличными парусами, ветер гудел в такелаже, больше не выжать ни пол-узла. Преследователь нагонял. Рука капитана Крейна дрожала и трясла саблей со страху, потому что он знал, кто за ним гонится. Этот пират Флинт. А в Карибском бассейне даже малым детям известно, что такое пират Флинт. И любой в курсе, что того, кто оказывает ему сопротивление, ждет смерть жестокая и мучительная. Но больше смерти и мучений капитан Крейн боялся разорения и презрительной жалости более удачливых соотечественников, которые выкинут его семью из дому и глазом не моргнут. Судно Флинта подошло на пистолетный выстрел, пенные буруны расходились от его носа, две волны разбегались в стороны и сливались с оставленными позади Джоном Дональдом. У последнего не было ни малейшей возможности удрать, ибо Морж Флинта, шхуна янки при стеньгах и топселях, построен для гонки, для скорости, тогда как вест-индец капитана Крейна был толстым, неповоротливым грузовиком, к которому, как будто в насмешку, приделали мачты с парусами. Конечно же, пират догонит, подойдет борт к борту, и тогда да поможет Господь бедным морякам! Четырнадцать пушек насчитал капитан Крейн на Морже, не меньше сотни головорезов уже толпились у борта. Крейн видел, как они весело перепихивались, занимали места поудобнее, готовые броситься на добычу. От веса сгрудившихся вдоль борта пиратов шхуна накренилась, планшир*["891] вздымал пенную волну, захлестывающую ноги пиратов. Они ругались и смеялись над капитаном Крейном с трясущейся в руке саблей. Более никого на палубе Джона Дональда Смита не было видно. Флинт лихо вскочил на ванты грот-мачты и заорал команде: Долговязый Джон, Билли Бонс, Бешеный Пью, Черный Пес, Джордж Мерри, Израэль Хендс Бедняга Крейн слышал каждое слово. Гляньте на это драное корыто! продолжил воодушевляющую речь капитан Флинт.Они даже разок пальнуть из пушки не отважились, навалили в штаны, сбежали вниз и прячутся в трюме! Пираты ответили своему капитану взрывом хохота. Они подталкивали друг друга локтями, полагая своего вождя остроумнейшим из смертных. Но Флинт немного ошибся. Палубы Джона Дональда выглядели пустыми, потому что люди лежали между пушками, за баррикадами из бухт каната и всякой всячины. Будь Флинт повнимательнее, он бы легко мог заметить эти нагромождения барахла: вдоль бортов старый прием, издавна применявшийся на военных судах. Возня с такими кучами, конечно, время отнимает И для забавы такого не устраивают. В этот момент рука капитана Крейна перестала дрожать, сабля резко рванулась вниз, и пятеро пушкарей вскочили и тут же воткнули горящие фитили в запальные отверстия шесгифунтовок. Потянулись долгие секунды, в течение которых запалы задымились, зашипели и швьгрнули жаркое пламя в толстые рукава стволов. В людях Флинта произошедшее на борту жирного торговца вызвало множество противоречивых чувств, среди которых преобладали удивление и возмущение. Скудоумные, вроде Тома Моргана и Джорджа Мерри, зарычали с интонациями ребенка, обиженного: нарушением правил игры. Хитроумные, вроде Флинта и Долговязого Джона, рухнули на палубу и постарались спрятаться, вжаться в швы. БУМ-М-М! Первая пушка грохнула, выплюнув минный язык пламени и облако белого дыма. Сразу за нею почти одновременно выпалили еще три, а секунды через две разродилась и пятая. Умело заряженные пушки с заглушенным верхом казенника*["892] вымели открытую, накренившуюся навстречу выстрелу палубу пирата, приближавшегося с наветренного борта. Крейн служил в молодости королю Георгу. Он сражался против даго, голландцев и боевой опыт не забыл. Все пять пушек он приказал зарядить самодельной шрапнелью: старыми гнутыми гвоздями, заклепками, обрезками железа, обрывками цепей, мушкетными пулями и иным подручным металлическим хламом. Такой заряд эффективен лишь при выстреле в упор, ибо вся вырвавшаяся из пушек мелочь рассеивается и быстро теряет убойную силу. И Крейн, хорошо это зная, дождался приближения пиратской шхуны вплотную. В результате выстрела свыше полуцентнера мелкого железа врезалось в абордажную команду Флинта и произвело действие тысячи хирургических Ланцетов. Железки и медяшки срезали пальцы, задницы, носы, колени, локти. Они опрокидывали людей, вскрывали их, ослепляли, кастрировали, потрошили. Они протыкали почки и печенки, дыхательные пути и пищеварительные, вытряхивали содержимое людей на палубу. Тридцать человек полегло убитыми и пятьдесят ранеными. Оставшиеся невредимыми шестьдесят пять замерли, ошеломленные нежданной мясорубкой, они стояли по щиколотки в мокром месиве, которое только что было их товарищами. Когда дым рассеялся, с Джона Дональда Смита раздались ликующие крики. Моряки торгового судна увидели, что творилось на палубе пирата. Мушкеты, молодцы! крикнул Крейн, вбросил саблю в ножны и схватил Бурую Бесс морского образца. Банг! С десяти футов трудно промахнуться. Крейн увидел, как окровавленная фигура взмахнула руками и рухнула. Он опустил мушкет на палубу и выхватил два пистолета. Воодушевленная успехом команда Джона Дональда поспешила последовать примеру капитана и разрядила в противника три дюжины мушкетов, полдюжины мушкетонов и все наличные пистолеты, по паре на каждого члена экипажа. Грянувшая за грохотом пушек трескотня мушкетов оказалась последней каплей, переполнившей чашу разумения флинтовых героев. Уцелевшие рванулись в трюм, иные с полными сзади и мокрыми спереди штанами принялись зарываться в балласт. Рулевой отпустил румпель, он торопливо, обеими руками запихивал в живот свесившиеся до палубы кишки, вопя, как попавшая под карету бристольская шавка. Руль Моржа нерешительно поворачивался из стороны в сторону, затем ему помогли паруса. Поскольку ветер сильнее напирал в задние, судно развернулось носом к ветру и нерешительно заколыхалось, хлопая парусами, гремя блоками, перекатывая и размазывая по палубе раненых, части их тел, всяческие отбросы и экскременты.: Джон Дональд Смит тем временем курса не: менял, держал свои скромные семь узлов, что для нею не так уж и мало, и всем своим видом показывал, сколь толковым моряком оказался Юстас Крейн. Он был умелым пушкарем, боевым командиром только не торговцем. Трейдером Крейн всегда был просто никчемным Он столько раз ошибался, столько раз позволял себя надуть, что, в конце концов, оказался вынужденным вложить все в один-единственный рейс тот самый, злополучный, когда он попался на глаза Флинту. Будь он добрым торговцем, Крейн не стал бы, конечно, брать столько пушек и пороху и не тратил бы время на обучение команды искусству морского боя. Да и драться бы не решился. Он мирно сдал бы судно Флинту, как поступали многие до него в надежде прожить немного подольше. Но Юстас Крейн не был коммерсантом, а потому все произошло в точности так, как здесь описано, и Крейн повел судно, капитаном и совладельцем которого он являлся, далее на север и на восток, в конце пути бросив якорь в Бристоле. И, как ни странно, он немало выручил за спасенный от пиратов товар. В последующие годы Юстасу Крейну случалось, сидя в доброй компании с кружкой ромового пунша и ощущая спиной тепло очага, рассказывать гостям, как он задал перцу этой скотине Флинту и что сделал с его пиратской шайкой. По душе были Юстасу Крейну эти вечера, он говорил чистую правду и имел полное право гордиться своим приключением. Только почему-то даже лучшие друзья не верили его честному повествованию.21 июня 1752 года. Карибское море. Борт Моржа
Палубу Моржа окутал густой пороховой дым от пушек коварного торговца. Уткнувшегося лицом в палубу Долговязого Джона смело страшным ударом, на него посыпались люди и обломки. В ярде от своего носа он не мог ничего различить, в ушах гудело от грохнувших пушек. Запахло порохом, жареным мясом и горелыми волосами. Джон попытался сесть, спихивая с себя продавившее его тяжелое тело. Им оказался валлиец Бешеный Пью, от него и несло паленым. Скальп Бешеного Пью оголился, волосы, лицо и грудь его облизал пламенный язык выстрелившей пушки. Лицо черное, глаза На них лучше не смотреть. Теперь Бешеного Пью можно называть Слепым Пью. Язык родной он не забыл, что-то бормотал на нем жалостливо, как будто припевая. Освободившись от Пью, Долговязый Джон хотел подняться, но не смог. Что-то держало его ногу. Дым рассеивался, и Джон ахнул. Левая нога между бедром и коленом превратилась в кровавое месиво. Большая бедренная кость тускло просвечивала изломом, кровь хлестала потоком, нижняя часть ноги болталась на обрывках кожи и мышц. Из дыма вынырнула лисья физиономия Флинта. О, Джон! Ты, никак; ноги лишился? Флинт злорадно ухмыльнулся.Что ж, каждому свое, каждому по заслугам. Джон Сильвер толком не слышал слов Флинта, угадывал их по губам. Флинт цел и невредим. Ни волоска не тронул на нем окаянный торговец. Ублюдок! вырвалось у Долговязого Джона. Рука его рванулась к пистолету, но в этом момент судно завалилось на борт. Хлопнул грот, заскрипели мачты, все снова покатилось кувырком, Слепой Пыо навалился на Джона, завопил и ухватился за руку. Мы к этой беседе вернемся, Джон, пообещал Флинт. Появился Билли Бонс и поднял Флинта. Вся посудина в чертовых железяках, капитан. А эти черви гальюнные забились в трюм и сидят дерьмовым балластом, несколько возбужденно доложил Билли Бонс обстановку. Билли, цыпчик мой! улыбнулся ему Флинт. Ах, Билли, что за слог! Что рядом с тобою Шекспир или Мильтон? Греб его Шекспира мать, капитан, пардон, но судно не боеспособно. Эти горбатые моллюски Да ладно, милый, успокоил его Флинт На сегодня отвоевались. Теперь не дорвались бы наши цыплятки до рома. Так что поспешим, Билли. Вперед! Флинт в сопровождении Бонса рванулся к люку, и вскоре снизу послышались пистолетные выстрелы и вежливые разъяснения, что Бога-душу-мать ромом запахнет лишь тогда, когда черви гальюнные отчистят Морж до блеска. На палубе вопили раненые, звали на помощь. Но никто к ним не спешил. Вскоре на палубе появилась Селена. Выпучив глаза, она сначала замерла, привыкая к кошмарному развалу. Затем принялась пробираться по палубе, оглядываясь и что-то выискивая. Долговязый Джон! крикнула она. Здесь, донесся до нее крик из-за кучи мертвого мяса, зажатой меж двумя пушками.Селена! Она рванулась вперед, раскопала его и ахнула в ужасе. Бог мой! Срочно вниз. У хирурга все готово. Нет-нет, только не это! Этот придурок оттяпает мне ногу за милую душу. Нет-нет. Я не могу без ноги. Перестань. Ты боишься, что ли? попыталась она его вразумить. Но душу Долговязого Джона затопил ужас. Он ругался и упирался, пока Селена волокла его тяжелое тело к люку. Сдохнуть хочешь? закричала она на него.Или меня погубить? А, мистер Сильвер! с каким-то неодобрением покосился на него Томас Коудрей, облаченный в запачканный кровью передник. Я был о вашей милости лучшего мнения. Aut vincere aut топ. Победить или умереть. А вы гм, ни того, ни другого не осилили. Мистер Коудрей был когда-то джентльменом образованным, а хирургам и по сей день остался прекрасным. Быстрый, умелый, умный господин, не то что выпивохи, обычно практикующие на морских просторах. Когда-то он работал в лондонской лечебнице Святого Варфоломея, Коллеги подшучивали над его страстью к чистоте. Свои хирургические инструменты он перед использованием непременно вываривал в котле с кипящей водой, утверждая, что мера эта предотвращает загнивание раны после операции. Вероятно, коллеги и поверили бы ему, но он не утаил, что научился этому приему у цыгана, кастрировавшего кабанчиков. Его подняли на смех, а затем и из больницы выжили. Ученые коллеги могли бы и далее мириться с его причудами, но вот с тем, что больные у него выживали чаще, смириться куда труднее. Далее в его карьере и биографии были и джин, и игра, и помощь дамам, забеременевшим без помощи мужей Пришлось мистеру Коудрею покинуть Англию, так он попал в Вест-Индию, связался с каперами, с пиратами И оказался на Морже. Слегка поморщившись при виде того, во что превратилась нога Долговязого Джона, мистер Коудрей оглядел остальных раненых, прикинул в уме и повернулся к помощнику, мулату Джобо, подсоблявшему еще и коку. Сильвер следующий, изрек хирург. Джон заорал и пополз к трапу. Придержите этого олуха, проворчал врач. С помощью легкораненых Селена и Джобо приволокли Сильвера к столу, по команде хирурга срезали штанину, Джобо наложил жгут, закрутил и остановил кровотечение. Держи огузок! бросил Коудрей Селене, кивнув на отломленную ногу. Селена колебалась, и врач подбодрил ее, прикрикнув:Живей! Не бойся, не укусит. Ты! повернулся он еще к одному из присутствующих.Влезь на стол и придержи грудь. Обними, как любимую. Еще одному Коудрей приказал взяться за здоровую ногу и двоих приставил к рукам. Коудрей потянулся к ампутационному ножу, кривому, как серп, и острому, как бритва. Рому! вдруг потребовал Долговязый Джон. Потом, сказал Коудрей и опустился перед Долговязым Джоном на колени. Он подхватил левой рукой приподнятую изуродованную ногу, подвел нож, сжал зубы и резанул, что было сил. Долговязый Джон издал вопль, который разбудил бы и мертвого. Нож одним махом вскрыл кожу, мышцы, нервные волокна и кровеносные сосуды как раз под изломом большой кости. Коудрей вскочил, отложил большой нож, схватил ланцет и принялся обрезать ткани вокруг кости. Джобо! Хирург указал глазами на культю, и Джобо с помощью пары ремней отжал плоть ноги в направлении таза, освобождая еще дюйм кости. Третьим инструментом в руке хирурга оказалась мелкозубая пила. Раз, два досчитать удалось бы до шести. Коудрей отложил пилу, стер с глаз пот. Селена тупо глядела на оставшуюся в ее руках отделенную от тела ногу. Отделенную от живого человека; мертвую ногу. Она покачнулась, выронила ненужную конечность. Достаточно она выдержала, но теперь Она бросилась к трапу. Скорее на воздух! Джобо, не обращая внимания на ее уход, отпихнул ногу в сторону, отпустил ремни, и конец кости закрылся надвинувшейся плотью. Снять! бросил Коудрей, и Джобо ослабил жгут. Струйки крови обозначили расположение артерий, и Коудрей, поймав каждую крюком, вытянул ее, перевязал, оставив за узлом длинный конец нитки. Вся операция заняла меньше двух минут, в течение которых Сильвер орал, не переставая, а все присутствовавшие вспотели еще больше, чем Коудрей и Джобо. Коудрей обработал и перевязал культю с корпией, замотал полотном и поверх всего насадил короткий толстый чулок. Следующий, буркнул Коудрей, и Джобо, стащив Долговязого Джона со стола, уложил его в рядок с другими тяжело ранеными, уже обработанными. Дай ему рому, Джобо, сказал Коудрей, но Долговязому Джону пришлось подождать, потому что раздался топот и ввалились новые раненые, вопящие и окровавленные. Эти оказались жертвами не обстрела с Джона Дональда, а разъяснительной работы, проведенной капитаном и его штурманом. Флинт и Билли Бонс довели до сведения членов экипажа, что по Артикулам положено не прятаться в балласте, а латать дыры, сращивать концы, расчищать и драить палубы.Глава 25
23 июня 1752 года. Юго-западная Атлантика. Борт Моржа
Света внизу не было, люки задраены наглухо. В полной темноте под люком квартердека Долговязый Джон для начала уселся у трапа и обшарил все вокруг. Нашел выпавший из-за пояса пистолет, засунул обратно. Решил не рисковать, передвигаться ползком, ибо вверху уже завыл ветер, заглушая крик Флинта и вопли Билли Бонса. Судно начало отплясывать под дудку шторма. Свет можно найти в кормовом салоне капитана, куда Долговязый Джон и направился под скрип, кряхтенье и оханье деревянных конструкций. Корабельное дерево всегда стремится обрести самостоятельность, особенно в шторм. Стыки, тщательно заделанные корабельными плотниками, стонут, дерутся с удерживающими их болтами; швы стремятся выдавить смолу и впустить воду и воздух. Под дикую деревянную музыку Долговязый Джон полз к корме, понимая, что это лишь увертюра Нет, даже настройка инструментов, а музыка еще и не началась. Он добрался до люка и толкнул его. Свет! Тусклый, конечно, лишь от луны да звезд, но после кромешной тьмы задраенной палубы как будто солнце засияло. Кто там? Селена? Он совсем о ней забыл, как будто ее и па свете не было. Она выбежала из каюты Флинта. Долговязый Джон! Ты что тут делаешь? Несу почетную службу, мэм, по охране свинины-солонины, да трюмных крыс, да юных девиц.Он огляделся. Стол и стулья принайтовлены к палубе, все зафиксировано. И никого.Где ты прячешься? Здесь я, у окна Сильвер всмотрелся и увидел ее силуэт. Вот уж точно, когда ни звезды, ни луна не светят в поздний час Он прополз дальше, пересек темное пространство, отделяющее его от панелей ромбовидных пластин волнистого полупрозрачного лунного стекла, засвинцованных в деревянных рамах. Под рамами стоял рундук с мягкой обивкой, спальное место десяти футов длиною и фута три в ширину. Флинт иногда тут изволил отдыхать, а то и почивать. Селена сидела здесь, сжавшись в комочек, подтянув колени к подбородку. Сильвер залез, плюхнулся рядом, отцепил костыль и отряхнулся. Вдали сверкнула молния, загремел гром. Голос шторма крепчал, глотка Билли Бонса сдавала. Могуч Билли, силен, а что он против, стихии? Тьфу, да и только. Селена подпрыгнула от удара грома, но глаз от Сильвера не отрывала. Что ты здесь делаешь? спросила она снова. Умнейший вопрос! Что же ответить этой балде? А что мне там делать? Безногому-то А-аОна отвернулась. ТР-РА-ТА-М-М-М!!! Зигзаг молнии прочертил небо намного ближе, грохнуло скорее и громче. Селена задрожала, раскрыла рот. Грома она всегда боялась, даже на суше, под крышей. А здесь, в океане Хлынул ливень, смешался с брызгами волн, с пеной. Ветер свирепел с каждой минутой. Морж нырял все глубже, возносился все выше. Третья молния расколола черное небо сине-белой бриллиантовой полосой, гром чуть не высадил оконное стекло из его свинцовых оков. На этот раз даже Джон вздрогнул. Селена бросилась к нему, обхватила обеими руками и прижалась к нему, крепко зажмурившись. Да, пробормотал Сильвер.Попались мы, чего уж там. Хорошо грохнуло. Он погладил ее волосы, ласково похлопал по спине, поискал в памяти чего-нибудь нежного и ободряющего. Но в жизни его не было места сентиментальности, и по насмешке судьбы нежные слова он позаимствовал из лексикона Джо Флинта. Ну-ну, цыпленочек мой ласково пропел Сильвер, с трудом ворочая языком, повторяя слова Флинта.Цыпочка, цыпка маленькая.Сильвер повторял это снова и снова, забыв про Флинта и вспоминая всем телом что-то другое, испытанное впервые в винной кладовке Чарли Нила. Ветер выл и рычал, сверкали молнии, гремел гром и бушевал океан, дерево жалобно верещало, темный мирок флинтовой каюты болтался, как корзина на спине взбесившейся лошади. Селену сжимал ужас. Она прилипла к Сильверу, как дитя к матери. Кто ее за это осудит? Тропический тайфун, суденышко в две сотни тонн болтается, как деревянная щепка и все это она к тому же переживает впервые. Долговязый Джон, однако, уже два десятка лет в морях-океанах, видал он и похуже шторма и не на таких добрых посудинах как Морж. В судно Долговязый Джон верил, да и эта скотина Флинт судоводитель не из последних. Чего бояться-то? Нет, он не боялся, его одолевали другие эмоции. Сильвер изрядно смутился. К груди его прилипла та самая девица, о которой он так долго мечтал, которую желал вот уже сколько месяцев. Теплая, лакомая И упругие шарики ее грудей расплющились о здоровенную грудную клетку Джона. Такая ситуация не повод для сомнений, особенно для бывалого Моряка, не сосунка какого-нибудь. В нормальной обстановке Джон точно понимал бы, что и как делать. Более того, он уже и по личному опыту знал, как помогают похотливым бесам всякие пустяшные страхи: испугается девушка привидений или домовых и готоваСердце колотилось у Джона в груди, он живо представлял, как сдирает с нее одежду, как Наконец одуревший Джон отважился расстегнуть пуговку на ее рубахе вторую запустил ладонь под полотно, чуть прижал ее грудь Круглая, гладкая, как ядро, аккуратненький сосок торчит вперед, как солдат на параде. А ниже живот пупок Джон чуть не задохнулся, зашевелился, спустил руку ниже Штаны у него рвались, бушпритом торчало там чертово жало, тянулось к ней Селена простонала: Нет. Сильвер вытащил дрожащую руку, унял стук зубов. К-как скажешь, цыпка моя, прохрипел он, нежно сжимая ее в объятиях. Я боюсь, Джон. Понимаю. Мы умрем? Нет-нет. Старый Морж крепкое судно, он такое выдержит. И Флинт не оплошает. Дрянь этот Флинт. Это точно. Да и все мы здесь, сказал бы я Нет, только не ты. Как? Так. Съешь меня черепаха! Сильвер от удивления даже забыл о своем бушприте. Там, в Саванне Н-ну протянул Сильвер, застыдившись. Ты ведь не знал, да? Не знал. Все равно виноват, каюсь, но я думал, что ты одна из девиц Чарли. Но я не такая. Нет, девочка моя, не такая. За всю мою жизньДжон замолчал, в нем такое творилось! Слова, где взять слова? Губы мучительно задергались, и, наконец, вымолвили что-то в высшей степени непривычное. Я люблю тебя, девочка моя. Селена улыбнулась, расстегнула рубашку, взяла его руку и прижала ладонь к своей груди. Другую руку обвила вокруг своей шеи и поцеловала Сильвера в губы. Я никогда этого раньше не делала, сказала она серьезно и таинственно. Да? Да. Похоже, их охватило счастье. Каждый казался другому невыразимо прекрасным, даже во тьме, даже лишь в прикосновении, в трении обнаженной плоти. Л нога? Зачем ему нога? Очень скоро выяснилось, что и одноногий солдат, когда долг зовет, прекрасно справляется с задачей. Селена была в полном изумлении, Сильвер в восторге; и снова, и снова незаметно пролетали часы Когда им в последующие годы жизни становилось невмоготу, они вспоминали эти часы в капитанском салоне доброго старого Моржа, вспоминали, как любили друг друга, забыв о шторме Шторм между тем стих, и Флинт приказал отдраить люки. Усталый, он отправился к себе в салон и обнаружил там Долговязого Джона и Селену. Шум отдираемых досок давно предупредил преступную парочку о скором появлении хозяина, но Сильвер никуда не спешил. Он сидел, одной рукой обняв Селену, а другую как бы случайно, для удобства, возложив на разукрашенную серебром рукоять пистолета. Нашел свой остров, капитан Флинт? спросил Сильвер. Физиономия Флинта потемнела. Злость подкатила к его горлу, как лава к жерлу вулкана.Глава 26
25 июля 1752 года. Юго-западная Атлантика. Борт Моржа
Флинт застыл на пороге своего салона, выпялив глаза на Сильвера, спокойно обнимавшего Селену, которая очень уютно и, как видно, весьма довольная собою, прильнула к этому этому Эмоции захлестывали Флинта, как приливные волны бьют по трупу пирата, повешенному в доке. Сначала Флинт ощутил удивление; неужто девица отдалась калеке? Затем испытал жгучую зависть к калеке, который может то, чего ему, славному капитану Флинту, не дано. Наконец, возникла еще более жгучая, разъедающая душу ненависть. Флинт выматерился, выхватил нож и шагнул к Сильверу. Джон выхватил пистолет и поднял его в сторону Флинта. Что, ты меня застрелишь? Зная, что у меня порох подмок? Он показал на свои омытые штормом пистолеты, и оба замерли, пристально глядя друг на друга. Эмоции бушевали в обоих, но оба не двигались. Селена, ставшая причиной или, по крайней мере, поводом этого столкновения, со страхом и изумлением наблюдала за сценой. Давай, давай, ублюдок, подначил Флинт. Как пожелаешь, капитан, тут же, без задержки, ответил Сильвер. Но ничего не изменилось. Селена косилась на их напряженные лица, видя, что лишь какая-то крохотная пылинка задерживает вращение колес смертоносного механизма. Они боятся, подумала она. Боятся друг друга. Поэтому и медлят. Она поняла то, чего не замечал никто другой. Но и ей открылась лишь часть истины. Она не осознавала, да и не могла осознать, что оба непримиримых врага многое отдали бы, чтобы засыпать пропасть, их разделявшую. Самое мучительное в рухнувшей дружбе неуклюжие, мучительные, тщетные попытки бывших друзей воскресить ее, достичь компромисса, в чем-то уступить. В общем, не видеть жестокой правды, закрыть на нее глаза. Тут сверху притопал Билли Бонс. Еще не войдя, он начал доклад затылку капитана. Все в порядке, капитан! Разрешение на смену вахты и выдачу ро Он заморгал, увидев нож и пистолет. Соображения у него хватило не на многое, но, что обожаемому хозяину грозит опасность, он сразу понял. У! пыхнул он и как был, не вынимая оружия, шагнул вперед, заслонив собой флинта.Капитан! Можно вырвать яйца этому безногому ублюдку? Билли, цыпка моя, рассмеялся Флинт. Его живой ум разглядел юмор в этой ситуации. Он смеялся глупости Билли и его полезности Хочешь расколоть кости этого мозгляка? Хочешь его глаза забить ему в глотку? Хочу! страстно промычал Билли Бонс. Хочешь? подхватил Сильвер.Получишь. Сильвер вскочил на свою единственную ногу и оперся на костыль, оставив Селену. Слушай, ты, пузырь, обратился он к Бонсу Я вызываю тебя один на один, согласно Артикулам. Вызываю липом к лицу, с оружием, которое твоя мать дала тебе, на честный и равный поединок без вмешательства третьего. Бонс поморгал, пытаясь освежить в памяти Артикулы, которые когда-то подписывал и много раз слышал, тол колл ничего не вспомнил; но улыбка сама поползла по его тяжелым щекам. Да, один на один, честно и справедливо.Билли повернулся к Флинту.Нормальное дело, капитан. Прошу разрешения. И я прошу сказал Сильвер, и Флинт едва сдержался, чтобы не взорваться смехом. Но издевательски заржать в такой важный с точки зрения мистера Бонса момент все равно, что ему в компот помочиться. И это после того, как Билли берется в угоду капитану флинту оставить от Сильвера мокрое место. И как прекрасно все обернется! Палубу отскребут, и он, Флинт, произнесет прочувствованную речь, помянет неисчислимые заслуги мистера Сильвера, пожалеет, что тот так низко пал напоследок, и унаследует его сторонников А если кто подумает нехорошо о Бонсе, который убил беспомощного калеку, тем хуже для Билли. Его можно и заменить. Но надо соблюсти все формальности. Собрать команду, вынести книгу Артикулов, зачитать, обыскать соперников, не припрятали ли оружия. Под страхом смерти предупредить, чтобы никто не лез Праздничная атмосфера будоражила судно. Шум, суматоха, предвкушение удовольствия, Не каждый день такое случается. Флинт провел Сильвера и Бонса на квартердек, самое подходящее место для честного и равного поединка, соперники скинули шляпы и камзолы, стали друг против друга. Билли Бонс, бахвалясь, стащил и рубаху. Он высился настоящим бойцом руки, как бревна, грудь поросла густым черным волосом. Сторонники Флинта да и многие люди Долговязого Джона восхищенно, загудели, глядя на такое чудо природы. Сильвер ждал и дрожал. Видно даже было, как он трясется. Лицо меловое, губы черные. Как покойник, честное слово. Плохо его дело, и Селена это поняла, бросилась к Флинту, но тот ее и слушать не стал. И Долговязый Джон тоже. Селена подскочила к команде, но там ее просто освистали да обсмеяли. Ишь, чего захотела! Так! воскликнул Флинт, потрясая двумя заряженными пистолетами.Всех господ береговых братьев прошу держаться на расстоянии и в поединок не вмешиваться, а нарушитель погибнет от моей руки. Он повернулся к Билли Бонсу. Готовы, мистер Бонс? Готов! Готовы, мистер Сильвер? Только одно! поднял руку Сильвер. Что еще? недоверчиво спросил Флинт, ожидая подвоха. Согласен ли мистер Бонс, что у меня над ним нет несправедливого преимущества? Согласен ли он, что у меня нет иного оружия, чем перед его глазами? И что это, он показал на себя, как я здесь стою, и есть то, с чем он дерется? Билли Бонс презрительно скривил губы, глядя на калеку, опирающегося на костыль. Согласен, буркнул он. Бой! крикнул Флинт, вызвав этим коротким словом оглушительный вопль счастливых зрителей, которые потрясали кулаками и призывали участников не щадить друг друга, крушить и калечить. Моряки ожидали забавы. Чтобы лучше видеть, они влезли на ванты, плотным кольцом окружили бойцов. Они прыгали и толкались так, что судно качалось под ними. Билли Бонс ухмыльнулся и шагнул вперед, разминая увесистые кулачища. Ну, калека, проворчал он, давно я этого дня ждал. Сейчас я тебя по палубе размажу. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Долговязый Джон взмахнул костылем. Оказывается, он мог неплохо держаться на неустойчивой палубе и без деревянной подпорки. Костыль же он метнул как тяжелый дротик. ХРЯСЬ! Деревяга врезалась точно между глаз мистера Бонса. Бонс покачнулся. Колени его подогнулись. Руки повисли. Вслед за костылем Долговязый Джон бросил вперед свое тело, врезавшись черепом в нос Билли Бонса. Нос хрустнул, как спелое яблоко под колесом тяжело нагруженной телеги, кровь с физиономии мистера Бонса хлестнула во все стороны И Билли Бонс рухнул. Упал и Долговязый Джон, однако поверх противника, уткнувшись единственным коленом в живот тяжко гыкнувшего Билли. Вслед за этим Джон ловко перевалил грузного партнера по честному и справедливому бою на живот и принялся выкручивать бревнообразную руку. Ошеломленный, почти теряющий сознание себя Билли заорал от боли. Что, Билли, цыпеночек? участливо пропыхтел Долговязый Джон, ослабив нажим на трофейную руку и устраиваясь на Бонсе поудобнее. Ногу Сильвер, конечно, потерял, а вот с боевым духом не расстался. И веса в нем оставалось достаточно, и силы вернул, усердно работая костылем. Ублю Убью! Ублюдок! завопил Бонс. Так кто же из нас лучше, Билли? задушевно нашептывал Долговязый Джон в ухо Билли Бонса. В то же ухо капал и стекавший по носу Сильвера пот. Сука! Твою мать!!! До сего дня Бонс полагал, что сделан из гранита и боли не знает Однако он не вынес боли в плече и взвыл, не закончив рассказа о близком знакомстве своем с матушкой Длинного Джона Сильвера. Билли затрепыхался, пытаясь скинуть седока, однако тот как-то умудрялся сохранять позицию, обходясь без седла и стремени. Трепыханием же своим Билли лишь усугубил судьбу захваченной противником руки. Вой его перешел в жалобный визг. Билли, цыпка, завел новый сеанс переговоров Сильвер.До тебя, может, дойдет, что руку твою я могу открутить. Тут у нас мистер Коудрей, мастер-хирург, он, конечно, способен ее и обратно вставить Но только если я не откручу тебе ее так, что она отправится мою ногу догонять. И будет на судне кроме одноногого еще и однорукий. Хочешь одноруким стать, Билли? И каждый день меня благодарить, что я тебе голову не свернул. Хочешь, Билли? И для убедительности Сильвер еще подвернул многострадальную конечность Бонса. А-А-А! А-А-А! A-A-A! Так кто же из нас лучше? У-у-у-у, скулил Билли Бонс.Хватит! Билли, я на тебе век сидеть не буду. Возьму твою руку и уйду. Кто лучше? Ы-ы Ы-ы Ты-ы Билли, скажи громко, полностью, для всех ТЫ ЛУЧШЕ МЕНЯ!: крикнул Билли, проливая кровь, слезы, сопли и слюни, сливавшиеся под его физиономией в лакомство для не залетающих столь далеко в открытое море мух. Долговязый Джон скатился с Билли Бонса и встал одним ловким движением. Допрыгав до костыля, он опустился на колено и поднял, костыль, которым открыл поединок. Все это он проделал без посторонней помощи и выпрямился, возвышаясь над людьми, восторженно приветствующими его победу. Он снова стал Долговязым Джоном Сильвёром! Однако, он стал несколько другим Долговязым Джоном. Люди не хлопали его по плечу, как делали раньше. Они подходили, кивали, но прикасаться к нему боялись. Что-то змеиное появилось в одноногом попрыгунчике. Ведь старый Долговязый Джон побил бы Билли Бонса по-свойски, по-простому, кулаками. А новый Долговязый Джон победил его хитростью и пыткой. Сильвер чувствовал перемену в отношении к нему, но, во всяком случае, по уважению и страху в глазах людей он понимал, что больше калекой его не назовут. На борту Моржа точно. Билли Бонс тоже понял, что Сильвер стал другим. Он и раньше боялся Долговязого Джона, теперь же трусил вдвойне и, разумеется, не отважился бы снова бросить ему вызов. И Флинт осознал перемену, Он понимал, что теперь ему не найти легкого решения половина экипажа вновь увидела командира в его сопернике. Селена протолкнулась сквозь толпу и потянула Сильвера за руку. Он ухмыльнулся, махнул, и толпа отхлынула, оставив их наедине. Почему? спросила она. Почему Билли Бонс, почему не Флинт? Ты боишься его? Хм Долговязый Джон нахмурился, подыскивая подходящий ответ. Он даже нашел бы, что ей сказать, но ему помешали. Парус! заорал впередсмотрящий. Курс? Два румба по левому борту! По местам! крикнул Флинт. Близость добычи вытеснила все остальные заботы, и судно подготовилось к атаке со скоростью, делающей честь военному кораблю короля Георга. Скоростному Моржу не понадобилось много времени, чтобы подойти к замеченному впередсмотрящими судну. Прошедший шторм практически не причинил вреда Моржу, ибо Флинт, как и отзывался о нем Долговязый Джон, был мореходом умелым. Сейчас Флинт стоял при рулевом. Вахта на месте, попугай на плече, Билли Бонс нянчил поврежденную руку, морщился, но уже орал на тех, кто попадался под ноги, а Морж направлялся к маленькому изящному бригу, который болтался в волнах с таким сиротливым видом, будто на нем ни души. Флинт убрал грот-марсель и отослал к бригу шлюпку с командой. Вглядевшись в неизвестное судно, он ухмыльнулся пушкарю Израэлю Хендсу. Сегодня порох сэкономим, мистер Хендс. Смотрел на неизвестный бриг и Долговязый Джон. Насчет пороха Флинт не ошибся. Никого на руле, никого в парусах, да и на палубе никого. От парусов, впрочем, немного осталось. Клочья и полосы парусины развевались по ветру от рифов. Ветер и волны вертели бриг, как игрушку, он то становился по ветру, то выходил. Однако суденышко аккуратное, даже несмотря на нанесенный штормом ущерб. По килю бриг был около девяноста пяти футов, водоизмещением под полтораста тонн, очертаний самых для глаза приятных. Корпус выкрашен белым, подчеркнут коричневым, по корме золотой лист пущен орнаментом, по рамам капитанского салона да по пушечным портам. На бортах по четыре пушки. Назывался бриг Сюзан Мэри. Глаз настоящего моряка всегда радует ладно скроенное судно, поэтому команда Моржа развеселилась, глядя на подкинутую штормом игрушку. Под руководством Билли Бонса спустили шлюпку, матросы налегли на весла, и шлюпка понеслась к бригу. Абордажная команда лихо гикала, поправляя сабли и пистолеты, но лишь для виду, потому что всем ясно было: не с кем там воевать. Долговязый Джон и Селена смотрели, как пираты вскарабкались на борт, все так же горланя да ухая, рассыпались по палубе, а потом исчезли в люках. Донеслись знакомые шумы, хлопанье крышек, треск взламываемых замков. Оставшиеся на Морже завистливо переглядывались, бормотали, чувствуя себя наказанными, лишенными удовольствия. Многие не без основания опасались, что мелкие драгоценности, найденные на борту, могут ускользнуть от учета общей добычи и исчезнуть в карманах передовой партии, что бы об этом ни говорили Артикулы. Потом старший шлюпки Черный Пес появился на палубе и заорал: Пятеро живых, капитан! Шесть месяцев как из Лондона, шторма да ветры встречныеОн смолк, глядя на что-то на палубе, невидимое команде Моржа.Цинга, капитан. У этих придурков ни единого зуба, все в чирьях. Было их двадцать три, остальные перемерли, схоронены по обряду, да последний шторм распорядился, смыл за борт и тех, которые оставались Груз какой? крикнул Флинт. На плантации селедка в бочках, шмотье для рабов, медь и свинец в слитках да порох и мушкеты. Что ж, цыплятки, обратился Флинт к команде.Вот оно, флинтово везенье. Судно и груз принесут нам кое-что в Саванне, и без единого выстрела. На физиономиях расцвели ухмылки, в головах защелкали счетные камушки оценок личной доли каждого. Капитан Флинт! вдруг воскликнул Долговязый Джои, и все смолкли, а с лица Флинта улыбку как ветром сдуло. Да? Нам бы расстаться надо, капитан, раньше или позже, но надо. И все это понимают. При этих словах, казалось, даже ветер стих; впервые услышав то, о чем все знали, но старались не думать, не замечать, не упоминать Надо расстаться, чтобы не проливать кровь, продолжил Сильвер. Флинт огляделся, попугай зашипел, заквохтал, заерзал на плече, чувствуя, что хозяину неуютно. Команда затаила дыхание, Десант на бриге вытянул шеи в сторону Моржа, все там прилипли к борту, стараясь разобрать, что происходит. Возможно, сказал Флинт, хмурясь и, как всегда, подозревая подвох. Ты знаешь это не хуже меня, Джо Флинт. Без всяких возможно знаешь. Флинт молча, уставился куда-то в сторону горизонта. Вот я и предлагаю, сказал Сильвер.За старую дружбу и новую удачу.Он сделал паузу, перевел дыхание и продолжил: Я возьму этот бриг,Сильвер показал на Сюзан Мэри, возьму тех, кто захочет со мной вместе с нашей долей. На это Флинт фыркнул и мотнул головой. Сильвер не обратил на это внимания и продолжил; И пойдем мы дружно дальше, веселые друзья, без трений, Джо, и причин для ссор не будет. А курс тебе кто проложит, Джон? Или ты, пока в койке лежал в лазарете, навигацию выучил? В чем проблема! возразил Сильвер, ожидавший подколки, но все же воспринявший ее болезненно.Дашь мне Билли Бонса, ты уж сколько раз говорил, что он такой же мастер, как ты, да и остров твой знает. Дашь мне Билли, а как придем в Саванну, я найду себе шкипера, не так уж это сложно. Челюсть перепуганного до смерти Билли отвалилась чуть ли не до груди. Флинт топнул ногой, попугай беспокойно закудахтал, захлопал крыльями. И больше ничегошеньки тебе, Джон? Новенький кораблик, половина добра, лучшие люди, да еще и лучший среди лучших Билли Бонс! Ты, Джон, опиуму перебрал в лазарете, доктор перестарался, пожалуй. Сильвер не терял выдержки. Он видел, что Флинт склонился в пользу торговли, а не драки. Хорошо. Очень хорошо. Отлично. Этого он и хотел. Торговаться, а не драться. К этому он и стремился с тех пор, как повзрослел. И Сильвер принялся торговаться. Делал он это умело, рассудительно, как и всегда. Флинт возражал; спорил, аргументировал, взывал к небесам. У народа тоже роились мысли в головах, они принялись подсказывать, вносить свои предложения. Разыгралась сцена всеобщей торговли на каком-то экзотическом базаре. В результате торга родился превосходнейший компромиссный вариант то есть нечто как для Флинта, так и для Сильвера в равной степени мерзкое.Глава 27
25 июля 1752 года. Юго-западная Атлантика. Борт Моржа
Достигнутое соглашение, благодаря которому Долговязый Джон получил судно, наполнило его душу ужасом. Предложение поступило от Слепого Пью, и не так уж это удивительно, как всем показалось. Нечасто, конечно, приходилось ему в те дни на Морже играть заметную роль. На него смотрели как на пенсионера. Он все больше дурел, однако на ощупь ковырялся с парусами и кое-какую работу умудрялся выполнять. Некоторое время он надеялся, что зрение вернется. Глаза вдруг стали ощущать солнечный свет болели от него. Это убедило Пью, что он вот-вот прозреет. Чтобы ускорить выздоровление, он соорудил большой зеленый козырек. Но зрение не вернулось, а защищавший глаза козырек придавал Пью столь жуткий вид, что его сторонились. Все понимали, что на борту он остался только благодаря Долговязому Джону, пожалевшему товарища по несчастью. Зрение Пью потерял, вид приобрел кошмарный, но слухом обладал отменным, упрям был чрезвычайно и спорить любил больше, чем кто-либо другой в команде. Сначала он молча прислушивался к торгу, а потом проорал свое мнение, которое ко всеобщему изумлению пришлось по душе каждому члену экипажа. Тощий, как гандшпуг,*["893] жуткий, как материализовавшееся привидение, он произнес свою речь громко и даже довольно складно. Сказалось кельтское наследие. Сильверу надо отдать трофейный борт! Так я говорю. А Флинту Моржа. Сильвер команду берет, кого хочет! Так я считаю. А Флинту добро остается. Сильверу Бонса! Кого же еще. А Флинту Селену. Как же иначе. Разрази меня гром. Вот мое мнение. И никому не обидно. Я сказал. После секундной паузы раздались воодушевленные одобрительные вопли всей команды. Флинт, однако, не отступил от требуемой Артикулами процедуры. Он уже привык на них ссылаться. Кто согласен с братом Пью, покажись! воскликнул Флинт. Пью выпрямился, ухмыляясь и кивая. Он наслаждался всеобщим вниманием, хоть и не видел леса взметнувшихся вверх рук, зато слышал приветствия в свой адрес, слышал, как его называли умником, судейским пронырой морских горизонтов, ощущал дружеские тычки в бока и хлопки по плечам. J4 хорошо, что не видел он выражения физиономии Долговязого Джона, полагавшего в этот момент, что боком вышла ему доброта. Есть кто против слова брата Пью? Презрительные возгласы и свист приветствовали несколько неуверенно поднявшихся рук. Флинт! крикнул Сильвер, разрываемый гневом и готовый драться со всей командой, Флинт обернулся на окрик и положил руку на рукоять сабли. Селена схватила Сильвера за руку и зашипела ему в ухо: Джон, пошли! Идем, быстро! Она потащила его на корму, где они могли говорить без свидетелей. Джон! Это неважно. Дьявол меня дери, важно! Нет, нет, это ничего не значит! Как я оставлю тебя с этим ублюдком? Надо, Джон. Или ты все потеряешь. Все для меня это ты одна. Остальное ничто. Джон, не беспокойся. Флинт ко мне за все время ни разу не прикоснулся. Как? Вот так. А я думал А зачем тогда он тебя Я тоже думала, что для этого. И он тебя не тронул? На борту нет никого, кто бы тебя не хотел. Флинт не хотел. Почему, гром и молния? Селена вздохнула, сжала его руку и улыбнулась. Она знала, как горько ему. Так ведь и ей не слаще. Джон, еще раз тебе говорю. Он и пальцем меня не трогал. Ты меня слышишь? Так что займись своими делами, а за меня не бойся. Когда мы после этого дурацкого острова вернемся в Саванну, тогда Если ты захочешь, конечно Может, мы будем вместе. Селена с надеждой посмотрела на него, в то лее время боясь будущего, о котором она отваживалась мечтать. Она знала, как эти белые обращаются с черными девушками, и опасалась, что теперь Джон, получив то, чего хотел, бросит ее и займется другими. К несчастью, Сильвер совершенно не заметил ее гонких страхов. У него в голове все еще не укладывалось, что Флинт не вступал с Селеной в интимную близость. Его мучила ревность и одновременно недоумение. Но он же мог тебя Мог. И ничего? Джон, ты глухой? Разве я тебе не сказала? Значит, фантазия Флинта не на то направлена? Ха! Пойди да спроси его сам. Дьявол! Джо Флинт содомит! Джон, отправляйся на свой бриг Он не содомит. Откуда ты знаешь? Знаю. Да, она знала. Флинт не слишком аккуратно продырявил перегородку, да и не слишком бесшумно оживлял свой недееспособный орган, пыхтел, шуршал, а то и постанывал, сам того, очевидно, не замечая. Селена сразу же обо всем догадалась, но решила, что не стоит сейчас посвящать Долговязого Джона в такие детали. И так настроение ни к черту. В довершение иных бед Сильвера мучила ревность, Селена же боялась его потерять. И они перешли к взаимным обвинениям, разозлились, обменялись нелестными эпитетами, и ни один не сообразил произнести три словечка, которые залечили бы все раны и облегчили бы временную разлуку. Так надутыми, злыми они и расстались. Долговязый Джон пошел отбирать команду, он взял почти половину моряков. Как и договорились, одним из них был Билли Бонс, только что вернувшийся из каюты Флинта после примерно такой же сцены ревности, как между Сильвером и Селеной. Не пойду я бубнил Билли, повесив голову и сминая шляпу. На него жалко было смотреть. Он умолял Флинта оставить его на Морже, как дитя малое просит родителей не оставлять его одного ночью, боясь домовых. Возьми себя в руки, остолоп! Подтянись и выполняй свой долг. Бери пример с Сильвера, в конце концов. Ему-то хуже твоего. Это было чистой правдой, но Бонса не обрадовало. Наоборот, испугало. Флинт вздохнул и указал на кресло. Присядь, Билли, мальчик мой. Придержи свои красноречивый язык и прочисти уши. Багроволикий Билли Бонс, ворча и пыхтя, выполнил приказание, плюхнулся в кресло напротив Флинта, который развалился на капитанском диване, еще помнившем любовные игры Долговязого Джона и Селены. Не пойду. Повесь меня за яйца на рее, не пойду. Эту храбрую фразу Билли Бонс выдавил крайне тихо, себе под нос, но Флинт услышал. Билли, тихо сказал Флинт, буравя Бонса глазами.Еще слово Билли проглотил язык и скрутил шляпу, как прачка выжимает выстиранную скатерть. А сказать он мог бы многое. Он страсть как боялся остаться на борту с Сильвером. Он опасался людей Долговязого Джона. Но еще больше он страшился Флинта, а именно Флинт сейчас сидел напротив Бонса. Итак, промурлыкал Флинт, улыбаясь, друг мой Приятель Билли-цыпленочек Видишь ли, в этой юдоли скорби судьба часто принуждает нас к тому, чего бы нам не хотелось, на что бы мы не решились, будь у нас свобода выбора И когда такое случается, мудрый находит в себе силы и обнаруживает преимуществаФлинт сделал паузу, изучая взглядом озадаченную физиономию Бонса.Ты меня понимаешь, Билли, сынок? Нет, честно признался Бонс, и Флинт тяжко вздохнул, как мирный домохозяин в доброй старой Англии, который пытается внушить нечто добродетельное особо тупому бульдогу, безобразному, нечистоплотному, вонючему, но потенциально полезному в случае, если ворам вздумается посетить дом, сад и огород. Давай напряжем мозги, Билли. Сильвер получает тебя, а Селена остается у меня. Это один на один. Ничья. Озадаченность отнюдь не сменилась на физиономии Билли озарением. Напротив, усугубилась. Преданный Флинту Билли Бонс умудрился не заметить того, что все другие, даже безглазый Слепой Пью, увидели: отношения между Сильвером и Селеной. Билли в простоте душевной полагал, что Селена имущество капитана Флинта. Флинт заметил в глазах Билли Бонса вопрос, который тот не решался задать. Не на-до ло-мать-дур-ну-ю-баш-ку! неспешно, по складам произнес Флинт, вколачивая каждый слог в лоб Билли Бонса костяшками пальцев. Любой другой член экипажа, на этакое отважившийся, мгновенно обнаружил бы, что его кишки шарфиком обматывают его же шею, а мошонка свисает с ушей. Кроме разве Долговязого Джона, ну и, разумеется, Джо Флинта. Есть, капитан. Ну, и молодец. Флинт дернул Билли за нос и скова отвалился на спину.А вот скажи-ка мне, ты плавать умеешь? Не-еФизиономия Билли Бонса побелела перед лицом новой напасти. Хмм-м протянул Флинт задумчивое Но ежели навесить достаточно пробки, то даже ты не утонешь. Билли Бонс заерзал по сиденью, скрипя креслом. Чтобы попасть в зубы акуле, тонуть ведь вовсе не обязательно. Что еще заварилось в умной голове капитана? Флинт засмеялся. Не бойся, Билли Бонс. Слушай меня внимательно. Сделаешь так, как я тебя сейчас научу Послушный Билли Бонс, прихватив сундук, крышку которого украшала художественно выжженная при помощи раскаленной кочерги заглавная буква Б, спустился в шлюпку и направился на бриг Сюзан Мэри, уже переименованный Сильвером в честь царя зверей. Из найденных на судне членов экипажа двое умерли в тот же день, двое выжили и согласились присоединиться к джентльменам удачи. Лишь один капитан наотрез оказался отступить от своего долга. Поэтому полагалось заковать его в железо в ожидании благоприятного момента, когда можно будет где-нибудь высадить пленника. Однако делать этого не пришлось, ибо через два дня этот честный судоводитель тоже отдал Богу душу, несмотря на старания корабельного хирурга Коудрея, кормившего его фруктами и зеленью. Перед смертью он чувствовал себя несчастнейшим из смертных, бесполезным и жалким. Но и он показался бы весельчаком в сравнении с Билли Бонсом, мир которого лежал в руинах. Билли поминал былые дни, стонал от страха перед грядущим, перед Сильвером, перед Флинтом, а когда вспоминал еще и о приказах, полученных от последнего, ему становилось дурно. Он не знал, что из всего этого хуже. И не догадывался, что его кумир, герой, хозяин, помахивая шляпой отплывавшему к борту Льва Билли Бонсу, уже обдумывал дальнейшие козни. Так-так-так, Билли, размышлял Флинт, щекоча попугая. Предстоят долгие недели в открытом океане, пока мы доберемся до нашего острова. Очень хорошо, Билли, цыпленочек мой, что ты достался Сильверу. Ты же никогда самостоятельно курс не прокладывал, всегда с моей помощью, всегда глядя на меня. Я исправлял твои ошибки и дивился, как это ты умудряешься сложить два да два и получить четыре. Флинт улыбался себе и своим теплым, успокаивающим мыслям. Так, так, Билли А что, если ты ночью темной потеряешь Морж из виду и не сможешь управиться с незнакомым судном, поврежденным штормом? Что, если ты не найдешь земли, и вся твоя несчастная команда, включая славного нашего мистера Сильвера, засохнет от жажды? И семь десятков долей отпадет от дележки. Засмеялся Флинт уже вслух. Гудбай, мистер Бонс! Желаю удачи! Гудбай, капитан, чуть не плача, откликнулся мистер Бонс.Глава 28
28 июля 1752 года. Юго-западная Атлантика. Борт Льва
Бриг Сюзан Мэри, известный отныне как Лев, отличался от Моржа не только габаритами. Много чем одно судно не похоже на любое другое каютами и отсеками, трюмами и оснасткой Каждый кораблестроитель стремится показать миру, на что он горазд, каждый хочет сделать лучше, чем остальные. Иначе к чему и жить? Так что ругани и проклятий хватало на борту Льва, пока на нем обосновывались люди капитана Сильвера. Все здесь иначе, все по-новому, ко всему приспосабливайся, а тут еще и дорогие товарищи о себе не забывают и стремятся захватить уголки поудобнее. Как только на борт влез Израэль Хендс, бывший пушкарь Флинта, а отныне пушкарь Долговязого Джона, он отыскал себе каютку поуютнее, объявил ее своей и приставил к ней сторожем канонира-помощника. Сразу после этого он отправился обследовать свое хозяйство. Нашел пороховой магазин невелик отсек оказался. Места как раз для Хендса, чтобы разместиться на узкой скамье за столом с рядами круглых дыр в столешнице. Израэль Хендс с философским видом цыкнул зубом. Вот, значит, до чего дошло. Служил он когда-то королю на судах, где в магазинах хранились картузы для двадцатичетырехфунтовок, где рядами, пузо к пузу, стояли девяностофунтовые бочонки с порохом. Да ладно, все ж таки и здесь магазин имеется, а большой ли он нужен на этой скорлупке? Все честь по чести, фонарь снаружи за двойным стеклом, дверь солидная, чтобы какой, идиот с зажженной трубкой не ввалился и не разнес судно в щепки, а команду в клочья. Пороху-то на судне хватает с излишком, на плантации везли дюжину тридцатифунтовых бочонков, куда больше, чем может расстрелять батарея детс ких хлопушек, которыми бриг вооружен. Израэль Хендс замер, прислушался к топоту над головой, на верхней палубе, где ругались и дрались веселые товарищи, джентльмены удачи, отвоевывая места для подвесных коек. Он ухмыльнулся при мысли о синяках и, чего доброго, проломленных черепах. Ему, в общем-то, до этого дела лет. Израэль Хендс третий на судне человек, после Долговязого Джона, и Билли-. Бонса. Поэтому он еще раз ухмыльнулся и принялся; проверять фланелевые картузы для четырехфунтовок, из которых состояла палубная батарея Льва. Эту работу Израэль Хендс выполнял основательно, главным образом на ощупь. Он вынимал из дыр толстые тряпочные колбасины, набитые порохом, ощупывал их, проводил пальцами по швам, проверял, нет ли дырок, не разошлись ли швы. Такое дело никому, нельзя доверить. Подозрителен Израэль Хендс, жаден, жесток, порочен, Иначе чего бы ему искать здесь, среди джентльменов удачи. Но он аккуратен, точен и внимателен. Иначе какой же из него пушкарь. В этой работе любая неряшливость может вызвать потерю всего света. Вспышка, грохот и все Проводя ревизию, Израэль Хендс обдумывал случившееся, особенно раздор между Флинтом и Сильвером, каким-то чудом не приведший к кровопролитию. Думал, что вовремя подкинула им судьба этот бриг. А то, глядишь, кто-нибудь утром и не проснулся бы, не одну печенку пощекотали бы во сне. Таким тихим и безопасным способом предпочитал пользоваться Израэль Хеидс для разрешения спорных вопросов. Была б возможность, начал бы он с Билли Бонса, каковой лижет флинтову задницу каждый день, а по воскресеньям и дважды. А теперь вот Бонс старший помощник у Сильвера. Как дело обериулось-то Всего семьдесят человек и три юнги перешли с Долговязым Джоном на Льва, по большей части те, которые в Ист-Индии ходили с капитаном Мэйсоном, включая и Слепого Пью его Сильвер взял, хотя и разозлился на него за предложение дележа. Но Пью и без глаз лучше любого зрячего парус сладит. Все запасные паруса уже вытащены, ими сменили на мачтах брига оставленные штормом лохмотья. И для Пью работенка нашлась. Среди других, кто решил соединить судьбу с Сильвером, небольшая группа бывших военных моряков, служивших с Флинтом на Элизабет: Джордж Мерри, Том Аллардайс., сам Израэль Хендс. Это еще одна небольшая победа Долговязого Джона Сильвера. Никто из бывших сослуживцев по Ист-Индии с Флинтом не остался. Израэль Хендс ненадолго прервал работу. Сильвер, знамо дело, странный пират. Вечно у него Артикулы на уме. Джентльмены удачи тоже, джентльмены! Пленного не убей, бабу не тронь Сам-то он, Израэль Хендс, пират бывалый. И отец его, в честь которого Израэль и назван, пиратом был, под Черной Бородой, сорок лет тому назад, когда ни о каких пощадах да Артикулах никто и не слыхивал, сплошь резня и никому никакой пощады-жалости. Израэль Хендс пожал плечами и протянул руку к следующему картузу. Грешит Сильвер лилейностью, конечно, но команду держать умеет. Да вот и папаша Хендса получил в свое время от Черной Бороды подарочек колено всмятку от шалостей с пистолетами, забава вроде флинтовой. Тоже был любитель палить, куда ни попадя, почем зря. Потому-то Израэль Хендс и предпочитает Сильвера. Покончив с картузами и отложив в сторону пару ненадежных, Израэль Хендс запер магазин и вышел на палубу к пушкам. Сильвер и Билли Бонс гнались за Моржом, народ ползал по вантам и реям, занимался парусами. Израэль Хендс начал с ближайшей пушки. Он опустился перед ней на колени, оглядывая и обнюхивая. Как и все на этой посудине, пушка была лучшего качества. Английская работа, отличный ствол, прочный лафет, рядом боезапас, порох в ящике смоленом чтобы не подмок. На дуло надет деревянный намордник, затравный шпур накрыт свинцовой пластиной. Рядом закреплены банники, фитили все, что должно быть. Молодцы, ребята, пробормотал Израэль Хендс Все слажено, да только вот четырехфунтовки, эх., маловато будет. Лев вооружен восемью такими пушками. Яркой звездой в этой беспросветной тьме светила Израэлю Хендсу испанская девятка, прихваченная с Моржа Долговязым Джоном после множества просьб пушкаря. На борту-то она на борту, да только существует пока что в разобранном виде, надо еще уламывать Сильвера и плотника, чтобы приспособить ее курсовой пушкой па носу. А на носу и так места нет: бушприт, да кат-балки, да всякая всячина Теперь и сам Израэль Хендс засомневался Неуверенности своей он, знамо дело, никому не выдаст, потому что мечта душу греет. Особенно если судно при таком хилом пушечном вооружении куда слабее скажем, того же Моржа. Сомнениям Израэля Хендса положил конец властный окрик. Мистер Хендс! позвал Сильвер.На два слова. Израэль Хендс поднялся и медленно, степенно направился к квартердеку, сознавая, что он как-никак пушкарь, а не подлый палубный народ. Пошевели-ка задом, ленивый ублюдок! заорал Сильвер во всю луженую глотку. Израэль Хендс подпрыгнул, мгновенно забыв о пушкарском достоинстве, и понесся докладывать Сильверу. Увидев выражение физиономии Сильвера, он почел за благо на военный манер отдать салют и сдернуть шляпу. Сильвер и Билли Бонс сидели рядом; на Сильвере такой же синий сюртук и шляпа такая же, как на мистере Бонсе, разве что новые, а не выцветшие и потертые. Догадливый Израэль Хендс предположил совершенно верно предположил, между прочим, поскольку Долговязый Джон таким нарядом никогда не располагал, то, стало быть, позаимствовал его у мистера Бонса, Костюм был запасной, неношеный. И выглядел теперь капитан Сильвер не хуже своего помощника. И Сильвер, и Бонс были явно не в духе. В таком настроении всегда ищешь кого-нибудь, на ком можно выместить зло. Израэль Хендс взмолился всем богам и стихиям, чтобы таковым оказался не он, Хендс стоял навытяжку и пожирал глазами начальство. Значит, так, олух царя небесногоСильвер бросил на пушкаря хмурый взор. Так точно, сэр! отозвался Израэль Хендс. Ты привык бока пролеживать всю ночь, пока до драки не дойдет Так точно, сэр! подтвердил Израэль Хендс, и даже не ошибся. Чего душой кривить, мастер-пушкарь вахты не стоит, и команда все наверх его не касается. Это законные артиллерийские привилегии, и, к чему ведет Долговязый Джон, Хендс уже понял. Теперь отвыкнешь, сучья лапа, будешь стоять вахту со мной и мистером Бонсом, понял? Проку от тебя никакого, так хоть делом займешься. Сильвер и Бонс уставились на пушкаря. В кои-то веки их объединяла общая задача избежать двенадцатичасового бдения на палубе. Да Так осилишь, мистер Хендс? Квадранты и делители, циркули-измерители не твоя забота, у нас тут мистер Бонс имеется, он курс проложит на флинтов остров. Или за Моржом пойдем, в кильватере. Но сменный офицер нам нужен. Хендс лишь чуточку промедлил перед тем, как дать полное и безоговорочное согласие. Он на секунду вообразил, что произойдет, возрази он или прояви колебания. Есть, сэр! гаркнул Израэль Хендс с энтузиазмом, хотя на сердце у него кошки скребли. Но не у него одного. Хендс знал, что Бонс отнюдь не радовался разлуке с Флинтом. А Сильвера тем более можно понять, он сейчас красочно представляет, как Флинт сношается с его возлюбленной. Лучше не злить этих двуногих кашалотов, тем более стакнувшихся на горе окружающим Есть-хресть, сэр-недосер передразнил Сильвер.Начинаешь стоять вахту со мной и мистером Бонсом, дорогой мистер Хендс. Научишься уму-разуму, чтоб судно не потерять. К счастью, Израэль Хендс за недельку-другую превратился в неплохого вахтенного офицера, звезд с неба не хватающего, но вполне сносного. Бонс, к его чести, с курса, не сбивался, Моржа из виду не упускал, хотя это становилось все труднее. Морж летел стрелою, постоянно используя слишком много па русо п. Кажись, он бросить нас хочет, дьявол меня задери, как-то высказался невольно в беседе с самим собой Билли Бонс, направив на шхуну подзорную трубу.О чем Флиит там думает, дьявол его задери? Да, мистер Бонс, охотно отозвался незаметно подошедший сзади Сильвер.О чем Флинт там думает, не скажете? Капитан! Бонс нервно дернул руку к шляпе и повел глазами вправо-влево, убеждаясь, что окружающие заметили выказанное капитану почтение. Просыпаясь изо дня в день, он обнаруживал, что глотка его не перерезана. И через борт его никто нечаянно не перекинул. Так что Билли Бонс несколько приглушил свои страхи, но все же вел себя пристойно на всякий случай. Сильвер навел на Моржа подзорную трубу, и ему на мгновение показалось, что он увидел Флинта. Кто-то очень похожий на Флинта, темный, в большой шляпе, размахивал там, на квартердеке Моржа, как будто побуждал людей шевелиться, не спать, не зевать, так-растак их Бога мать! Но океан волновался, гладкие, отливавшие травяной зеленью холмы волн сменялись лощинами, и не было никакой уверенности в том, что это именно Флинт Сильвер помотал головой. Хм-м Полагаю, ты прав, мистер Бонс Очень ему хочется от нас избавиться, якорь ему в задницу. Да ни в жись! мгновенно отозвался Билли; клясться, однако, в подтверждение своей уверенности не стал. Он очень вежливо заглянул Сильверу в глаза.Зачем бы это капитану Флинту?.. Зачем это ему, мистер Бонс, можно поразмыслить на досуге, а сейчас остается только порадоваться, что наш малый львеныш резво бегает и от задницы Моржа не отлипнет. И то верно. Скоростные качества брига радовали всех на борту и даже стали для команды предметом незаслуженной гордости. Морж строили для скорости, он еще не встречал себе равных, но вот же, встретил. Лев что породистая скаковая лошадь без единого изъяна. Бриг резал волны, как горячий нож масло, плыл, как леди в танце, он Мог бы запросто и Моржа обогнать, появись в том нужда. Джон Сильвер влюбился второй раз. Если Морж любимая Флинта, то Лев возлюбленная Сильвера. Лев так и не отлип от кормы Моржа, и оба судна благополучно вышли к острову, который Билли Бонс, надо отдать ему должное, смог бы и сам обнаружить, не держась за хвост Моржа. Флинт, по привычке не замечавший в людях положительных качеств, считал Билли Бонса глупее, чем тот был на самом деле. Хотя и методом проб и ошибок, с чертыханиями и исправлениями, но на многое был способен Билли, не только дважды два перемножить. И теперь оба судна вползали на якорную стоянку в Южную бухту, пустив вперед катер для промера глубин. Все свободные от вахты облепили такелаж, мрачно вглядываясь в растительную неразбериху, в холмы и пляжи. Не радовал их этот секретный остров без имени, который капитан Спрингер должен был закрепить за короной короля Георга. Остров, обильно политый кровью. О нем часто говорили и на Морже, и на Льве, и кляли его на чем свет стоит на обоих бортах. Несчастливый остров. Иные из моряков совершили здесь поступки, оставившие чувство вины, которое давило, словно толстые якорные канаты. Не слышно было смеха и шуток, никто не радовался на обоих судах. Якорная стоянка выглядела под стать настроению. Бухта, почти полностью замкнутая, окружена густым лесом, начинающимся от верхней отметки прилива. В залив впадали две речушки, но как-то некрасиво впадали, не явными устьями, а ветвясь, теряясь и застаиваясь в болотах, отливающих ядовитой зелепыо, за версту заявляя о себе гнилой вонью. Гриб да плесень цвели там, ползали всякие скользкие твари. Тем не менее на Льве и на Морже отдали якоря, а утром следующего дня надлежало держать Большой совет, согласно Артикулам. Пробили склянки, всколыхнув сонную жару, навалившуюся на бухту. Солнце жгло, как будто хотело уничтожить все живое. Ветер оно ужезадушило, а зверье и птицы скрылись в тень. Не прятались лишь комары. Они поднимались из болот и тучами налетали на парусники, разнося малярию и желтую лихорадку, стараясь истребить славных моряков. Но люди Флинта и Сильвера их не боялись. Сюда прибыли ветераны, всем на свете переболевшие либо уж настолько отвратные, что даже насекомые к ним опасались приближаться. Братство собралось на борту Моржа, и поскольку случай выдался чрезвычайный, то явились все принарядившись: драные камзолы, сюртуки, кафтаны обмотаны шелковыми шарфами, на грязные пальцы нанизаны перстни с рубинами, пропотевшие шляпы украшены страусовыми перьями, физиономии сверкали ушными и носовыми серьгами. Ну, и оружия на себя каждый понавешал красы ради, разумеется. Пистолеты, сабли это непременно. А сверх того: кортики, ножи, мушкеты, мушкетоны, бердыши, топорики, протаза ны.*["894] На Флинте, как всегда, был синий сюртук морского офицера с блестящими пуговицами; шляпа перегружена шнурами и золотым позументом. На ногах сияющие ботфорты. Рубаха снежной белизны, щеки чисто выбриты. Под мышкой капитан Флинт удерживал двуствольный каретный карабин, а на его плече топтался, время от времени шепча что-то Флинту на ухо, зеленый попугай. Долговязый Джон Сильверу не стремясь к элегантности коммодора (в такой: чин произвел себя теперь Флинт), выглядел аккуратно, подтянуто. Он тоже был в синем сюртуке, но вынужденно опирался на костыль. Ростом Сильвер намного выше Флинта; большой палец свободной руки небрежно заткнут за пояс в успокоительной близости от пистолетов. Сильвер и флинт встретились взглядами, одновременно дипломатично улыбнулись несколько кривовато это у них получилось. За каждым толпились сторонники, а в плане личного соперничества каждый из них был почти уверен, что успеет выхватить пистолет и уложить соперника, прежде чем тот ответит взаимностью. Почти уверен. Но не совсем. Б сторонке остановилась Селена в своей повседневной одежде. Интуитивно она нарядилась так, как и следует молодой женщине, вынужденной жить рядом со множеством мужчин: свободные брюки по лодыжки, закрытая рубаха с длинным рукавом; рубаху она надевала навыпуск, поверх брюк, что помогало проветривать тело и хоть немного скрывало формы фигуры. Несмотря на скромный костюм, Селена вызвала оживленную реакцию команды Сильвера. Взобравшись на борт, пришельцы со Льва принялись коситься на нее, перешептываться и ухмыляться. Сильвер уставился на Селену, ожидая взгляда и улыбки. Но так и не дождавшись, он заставил себя переключиться на Флинта. Это явно оказалось нелишним, ибо Флинт ничем иным не интересовался, кроме особы Долговязого Джона. Встреча этих двоих оказалась мучительной, все присутствующие ощущали сразу возникшую между ними напряженность. Да и в отношениях между командами чувствовалась еле сдерживаемая враждебность. Одно неудачное слово могло вызвать, взрыв, драку, бойню. Ненормальность конфликта; усугублялась тем, что враждовали не чужаки, а бывшие товарищи по команде. Друзья и враги, старые счеты, взывавшие к мести проглоченные оскорбления Если бы дошло до рукопашной, каждый хорошо представлял, кем он займется. В воздухе витало предчувствие маленькой, но жуткой гражданской войны, и люди ощупывали оружие, прикидывали шансы, присматриваясь к противнику. Не-е, не буду я драться с Конки Картером Этого ублюдка Джоса Диллона просто пристрелю. Воровская рожа С Билли Боксом лучше не связываться. Кто угодно, но не этот бык. Черный Пес он и есть собака ослоухая. Занялся бы я им Наиболее невыносимым оказалось положение Флинта и Сильвера, от которых зависело, драться или торговаться. Каждый из них еще чувствовал боль расторгнутой дружбы и печалился о потере. Каждый боялся остаться без другого. Они так привыкли зависеть друг от друга, что страшились оказаться в одиночестве. Они стояли в десятке футов друг от друга, вглядывались друг в друга, настолько поглощенные своими мыслями, что оба вздрогнули, когда раздался зычный голос'Билли Бонса: Джентльмены удачи, господа веселые товарищи! Мир на палубе и никто никому не помеха под страхом ноков рей во время свободного совета свободных людей. Бонс уже усвоил традиции и обычаи, сложившиеся при Мэйсоне и Ингленде. Он настолько привык к ним, что теперь и не представлял, как можно устроить иначе. Перед ним стоял малый столик, застланный черным флагом с изображением белого черепа и скрещенных костей. На флаге, как Библия на алтаре, лежала книга Артикулов, закон, правивший их жизнью. Бонс так же почитал теперь эти реликвии, как ранее поклонялся флагу Британии и голове короля Георга на золотой гинее. Шляпы долой, слушай коммодора Флинта! крикнул Билли, и над палубой пронесся шорох сдергиваемых с макушек шляп. Странное дело, но каким-то чудом с началом официальной части все забыли про ножи и мушкеты, расслабились. Сильна власть символики над человеком. Может быть, Билли Бонс не слишком и заблуждался. И начался великий спор.Глава 29
23 августа 1752 года. Южная якорная стоянка. Борт Моржа
Спасибо, брат Бонс, официальным тоном произнес Флинт, Он остался в шляпе единственный из моряков двух команд, собравшихся на борту Моржа для решения вопроса о судьбе добычи. Флинт оглядел пеструю толпу вооруженных до зубов джентльменов и заговорил громко, чтобы все услышали: Цель нашего свободного собрания обсудить план, который я предложил по зрелом размышлении. Я считаю, что наше честно добытое добро надлежит захоронить в тайном месте на этом секретном острове.Он плавно повел рукой в сторону покрывающего остров леса, взбирающегося от берега на холмы и исчезающего в неведомых ложбинах,Эта мера позволит нам накопить в одном месте такое состояние, что для каждого хватит на жизнь богатую и достойную до конца дней его. Толпа всколыхнулась, показывая готовность к обсуждению предлагаемого Флинтом плана. Во многих отношениях собрание этих достойных господ представляло собой куда более демократический орган принятия решений, нежели, скажем, тот, который расположился на берегу доброй старой Темзы в Лондоне. Ибо ни один из находившихся на борту Моржа моряков не покупал право голоса деньгами или служением интересам политической партии. Конечно, собравшиеся на Морже по большей части народ не то что необразованный, а и вовсе безграмотный, неотесанный и отягощенный множеством нелепых предрассудков. Но сильно ли они отличались в этом отношении от многоуважаемых членов парламента в Вестминстере? Вот еще сходные черты: каждый из моряков имел только один голос, а решения принимались простым большинством, сколачиваемым обычно при помощи предварительной негласной обработки* а именно обещаниями, угрозами и подкупом. То есть все здесь происходило так же, как и в любом законодательном органе любой цивилизованной страны во все времена и у всех народов. Иногда, правда, отработанная система дает сбои, и дебаты о судьбе сокровищ, хранимых на Морже, представляли собой именно такой случай. Причина заключалась в том, что Флинт, автор предложения зарыть общую казну, не имел доступа к половине участников собрания, находящихся на борту Льва, а Сильвер, противник этого предложения, не имел доступа к другой половине, к экипажу Моржа. Это заставило прибегнуть к совершенно непрактичной системе: пришлось выслушивать от каждого присутствующего аргументы за и против, а также принятое им решение. Но не будем обвинять в этой непрактичности достойных джентльменов удачи, ибо такое время от времени случается и в знакомых нам синклитах избранников народных. Флинт первым изложил суть дела и свою точку зрения. Братья! Я предлагаю спрятать то, что у нас есть, здесь и сейчас, чтобы не потерять наше добро из-за шторма или неудачи.Флинт выдержал паузу, огляделся.А прежде всего, цыплятки мои, чтобы каждый не спустил свою долю за первую же неделю в первом же порту. Ибо не так ли поступает всякий из вас? Точно! Да уж! Дело говорит!.. пираты скалили оставшиеся зубы, согласно кивали и подталкивали друг друга. ,Мы зароем добро, продолжил Флинт, потом погуляем по океану, нагуляем жирку, изловим еще одну рыбку, может, и две, а то и три А потом вернемся, выроем сбереженное и поделим по справедливости. Возвратимся в Англию и заживем лордами. Да-а-а-а! Карета и пара гнедых для каждого! крикнул Флинт под одобрительный гул и идеологически правильные лозунги подготовленной должным образом команды Моржа. Десять тысяч акров доброй старой Англии! Кирпичный дом с дворецким и шамовка на золоте!.. Дочку олдермена в жены, а по воскресеньям шлюхи толстозадые! Д-д-да-а-а!.. Орали уже не только флинтовы молодцы. Энтузиазм охватил и команду Льва. Соперничество мгновенно исчезло, как окорок, поданный трактирщиком дюжине голодных солдат берегового дозора. Тихо на палубе! зыкнул Билли Бонс.Все добрые братья слушают капитана Сильвера. Бонс при исполнении выглядел не менее солидно, чем лорд-мэр на открытии дома призрения для нищих сироток. Он изо всех сил старался соблюдать справедливость. Часто возложенная на человека официальная функция полностью этого человека преображает, и не всегда в дурную сторону. Во всяком случае, на время исполнения. И вот выступил вперед Сильвер, ловко работая своим деревянным двигателем: костыль нога, костыль нога, костыль нога Отзвучали приветствия Флинту, грохнули по ушам приветствия Сильверу, и Билли замахал руками, призывая к молчанию. Все охотно замолкли, интересуясь, что им скажет Долговязый Джон. Братья, все и каждый! крикнул Сильвер. Ответьте мне на один вопрос, и я сразу сгину и не стану лезть в клюз*["895] поперек якоря, ни в жизнь Народ заинтересованно забормотал. Из задних рядов, вне досягаемости костыля Долговязого Джона, послышались насмешки прихвостней Флинта Один вопрос, братцы, повторил Сильвер и, уверенно стоя на одной ноге, постучал костылем по палубе. Один только вопросец. Насмешки посыпались гуще, кто-то заржал. Флинт усмехался, щекотал перышки попугая. Речь у его противника явно не заладилась. Здесь, под люками, сказал Долговязый Джон, даже если серебро в слитках не считатьМертвая тишина воцарилась над палубой. Не та тема затронута, над которой смеяться хочется. здесь под люками столько золотой и серебряной монеты, что и представить невозможно. Трюмы больше не выдержат. Еще чуть-чуть и лохань потонет к чертовой бабушке. Долговязый Джон молча огляделся. Да, олухи царя небесного, подумал он про себя Навострили уши. Он снова заговорил: Я уж семь лет в джентльменах удачи, а иные здесь и подольше, чем я, И никогда таких гор золота под палубой не видывал.Он бухнул костылем в доски.Братья, это королевское приданое. На это можно флот построить и армию нанять. Флинт нахмурился, нервно зашагал по палубе. На это золото можно скупить всю Саванну! Всю Ямайку! Половину Англии! Сильвер важно кивнул. Народ следил за Сильвером, как будто изо рта его бил фонтан рома. Языки джентльменов удачи свешивались до палубы. Нас тут едва-едва сотня да сорок, если не считать капитанских да офицерских. Агора такая, что каждому на две жизни хватит, чтобы в роме купаться вместе со шлюхами. Хватит и на дома, и на слуг, и на посуду золотую, и наследникам хватит, когда в ящик сыграете. Тут Сильвер сменил тон, как это часто делают умелые ораторы. Но! Но коммодор Флинт считает, что ежели каждый из вас сойдет на берег, то вы спустите все за неделю, а Флинт честный человек, не соврет. Только вот если вы промотаете столько за неделю, то кто помешает вам потом растранжирить вдвое больше? Или вдесятеро? Джентльмены кряхтели и кивали, грязными ногтями корявых пальцев расчесывали чирьи на шеях. Масштабов своего богатства они представить не могли, но собственные способности к транжирству каждый хорошо представлял. Поэтому идея зарыть богатство в землю нестоящая, скажу я вам, братья. Проще будет спустить добро за борт в открытом море и на волнах крестик чернилами накарябать, чтоб потом вернуться и отыскать. Да-а-а-а на этот раз не вопль потряс паруса, а туповатое бычье мычание пополам с зубной болью потянулось по палубе. Неприязненные взгляды буравили Флинта. Кому охота признавать, что он дурак? Тихо! Тихо, ребята! Слушай меня! крикнул Флинт. Слушай коммодора! продублировал Билли Бонс. Да, да! Слушай коммодора! откликнулось еще несколько голосов. Не один Билли Бонс глядел в рот флинту и считал дерьмо золотом, если так велел Флинт. И Флинт снова заговорил. Он плел из слов искусные кружева, а под ними натягивал прочные сети. По сути Долговязый Джон сказал яснее и вернее. Но у Флинта лучше подвешен язык. Флинт подпускал милые шуточки про одноногого. Он веселил враньем, когда Сильвер своей дурацкой правдой заставлял зарывать носы в палубу. Кому она нужна, эта правда? Мир-то враньем строится! А кроме того может, и всего важнее идиотская, тупая, бессмысленная готовность человечества соблазниться красотой, которая якобы что-то там спасет, а не, напротив того, погубит. Красавчик Флинт, красавчик писаный! А Долговязый Джон? Да не смешите Флинт на двух ногах стоит, а Сильвер на костыле скачет, попрыгунчик Флинт гладкий, сияющий, одет что твой герцог, движения плавные, грациозные, изысканные А гляньте на этого широкомордого мужлана Сильвера! Конечно, драться с Сильвером никто не захочет, будь он хоть и без обеих ног, черт знает, чего от него еще ожидать Каждый: Сильвера уважает, но Никто не хочет быть на него похожим. А Флинт О-о-о, флинт! И поверили вранью Флинта, и презрели правду Сильвера, как оно и должно быть. Флинт знал, что так и случится, а Сильвер увидел, что это произошло, еще прежде чем Флинт закончил плести свои магические словеса. Никто, кроме меня, не знает, где находится этот остров, говорил Флинт.Значит, никто не сможет добраться до наших сокровищ, и они будут здесь лежать и ждать нас куда надежней, чем в любом дурацком банке. И Флинта восславили за несравненную мудрость, подняли на плечи и пронесли по кругу по палубе, Флинт заливисто смеялся, а попугай его ахал в ужасе и хлопал крыльями. Долговязый Джон протопал подальше, нашел тихий уголок. Он швырнул под ноги шляпу; ругаясь, вытащил из кармана платок и стер пот с лица. Руки его тряслись от злости. Джон! Селена подошла к нему, потянула за рукав. Выглядела она крайне удивленной. Джон, почему они ему верят? Ей пришлось повышать голос, чтобы перекричать шум, Ведь это же полная чушь! Потому и верят, буркнул Сильвер, морщась, как будто каждое слово песни, которую принялись орать пираты, камнем ударяло ему в уши. Почему они не слушают тебя?Глава 30
25 августа 1752 года. Южная якорная стоянки. Борт Моржа
Казна казалась неисчерпаемой. Два с половиной года они дрались за это богатство, убивали, погибали и вот все похороненное в трюме Моржа снова увидело свет. Славное зрелище, глядел бы да глядел. Ящик за ящиком, сундук за сундуком, тяжелые, окованные, на талях и блоках поднимались они на палубу под рабочую песню. Добившись желаемого, Флинт проявлял недюжинные способности руководителя и организатора. Он пришел в столь доброе расположение духа, что ему даже не хотелось никого выдрать для собственного увеселения. На время Флинт стал просто исправным офицером, каким мог бы и жить на белом свете, не подмешай Сатана в его кровь своей ядовитой мочи. Флинт продумал, как лучше организовать операцию. Для этого он выделил себе день. А разработанный им план в той его части, что была открытой для посторонних, мог бы и Цезарь одобрить. А то и Ганнибал. Прежде всего Флинт счел необходимым обеспечить полное согласие до поры до времени. Для коллегиального решения вопросов и совместного планирования он пригласил на борт Моржа Сильвера. Дневная жара заставила перенести это заседание на рассветные часы. Совещание устроили на квартердеке, открыто, на глазах честного народа. Для этого случая наверх выволокли стол и стулья. Стол покрыли черным Веселым Роджером с черепом и костями, в центр положили книгу Артикулов. Флинт даже приказал встретить Сильвера чем-то вроде почетного караула да свистками боцманских дудок. Команды Моржа и Льва разразились приветственными криками. Один лишь Сильвер общего развеселого настроя не разделял и хранил; мрачное молчание. Великие люди расположились у стола, простой, народишко подтянулся поближе, столпился вокруг. К Флинту присоединился Билли Бонс, чуть не на руки уселся, пастор Смит, да еще двое. С Сильвером прибыли Израэль Хендс и боцман Льва Сарни Сойер. Билли Бонс потребовал тишины. Для начала выпили во здравие, и сразу после этого Флинт перешел к делу. Непростая перед нами задача, ребята. Вмиг не осилить. А лучше бы и вообще не осиливать, проворчал Сильвер.; Джон, Джон! обратился к нему Флинт с укоризненной улыбкой.Успокойся. Братья проголосовали, решение принято. Флинта, поддержал гул голосов, на Сильвера уставилось множество глаз; дружелюбием взгляды не отличались. Все понимали, что он проиграл, и проиграл по-крупному. Сильвер вздохнул и более не произнес ни слова. Не обращая внимания ни на кого из сидящих с ним за столом, он принялся осматриваться. Сильвер искал Селену, но Флинт запер ее внизу. Он не хотел лишних хлопот. Конечно; девицу можно было бы использовать, чтобы позлить Сильвера и лишний раз позабавиться, но сейчас у Флинта заботы поважнее, и сердить одноногого ни в коем случае не следовало. Никто мудрым планам Флинта ни словом не возразил. С делом быстро покончили, Сильвер и его люди отправились обратно на свое судно, сопровождаемые улыбками, добрыми напутствиями и дружелюбными толчками под ребра и хлопками по плечам. Возвращались они, однако, без Билли Бонса, которому Флинт шепнул на ушко, от Сильвера, впрочем, не слишком скрываясь, что следует ему, Билли, поискать в своей бывшей каюте оброненный там как-то золотой. Куда-то он там закатился. Флинт сказал, что Билли может перерыть всю каюту, а потом вернуться к своему новому капитану. Тут Флинт нежно улыбнулся Сильверу. Пришло время великих свершений. Первый десант, составленный поровну из львов и моржей, отправился на берег под руководством Сарни Сойера. В его задачу входила разбивка лагеря и установка палаток. Смастерили нехитрые приспособления для переноски грузов: десятифутовая жердь да веревка посередке, чтобы сундук или ящик обмотать и закрепить. Жердь взваливали на плечи двоим, а то и четверым джентльменам. и вперед! На это ушла большая часть первого дня, точнее, от зари до полудня и еще часа три или четыре после того, как спала полуденная жара, с перерывом на отдых посредине. Флинт с самого начала запланировал семичасовой рабочий день, учитывая непомерную влажность воздуха на южной якорной стоянке. На второй день люки Моржа открылись, и за дело принялись три команды. Первую возглавлял Билли Бонс. В нее входили двенадцать человек, выуживавших грузы на палубу. Вторая из шести человек с пастором Смитом во главе получила в распоряжение двадцатипятифутовый катер Моржа. А еще четыре человека под руководством Израэля Хендса прибыли; со Льва в пятнадцатифутовом ялике, самой большой лодке судна. По плану Флинта следовало сначала загрузить катер Моржа он принимал до сорока центнеров груза, затем, отправив катер к берегу, погрузить в ялик Льва двадцать пять центнеров и отправить его туда же. Час на погрузку каждой посудины, еще час береговой партии Сарни Сойера на разгрузку, полчаса на доставку от борта до берега. Теоретически две полные лодки должны были доставить свой груз на берег за три с половиной часа. На практике сильные течения в бухте и влияние климата на людей, не привыкших к такого рода работе, привели к тому, что до дневного перерыва удавалось выполнить только три рейса, а после перерыва на один меньше. Так что понадобилось четыре дня упорного труда, чтобы переправить груз из трюмов Моржа на берег. Последний рейс под радостные вопли с парусников и берега завершился через два часа после восхода солнца на: четвертые-сутки, так как до смерти уставшие пираты не смогли управиться до темноты за три дня. В ознаменование этого события Флинт направил всех на берег, лодки перевезли сто сорок семь членов экипажей и шестерых гонг, оставив лишь Одну Селену запертой в кормовом салоне Моржа. Награбленное добро выставили на краю лагеря Сарни Сойера, в тени пальмовых крон. Сундуки стояли рядами, как войско на параде. Семьдесят один с золотыми монетами. Сто шестьдесят пять с серебряными. Четыреста сорок шесть слитков серебра. Народ ухал, ахал, пялил глаза, сдвигал шляпы на затылок и обратно на глаза. Скреб загривки и подбородки. И, сверкая парадным облачением, надетым по случаю высадки на берег, прикидывал что-то в уме, мучился каким-то невысказанным вопросом. Вожди славных свободных тружеников, облаченные в синие сюртуки, задавались тем же вопросом. Казалось, попугай Флинта и тот о чем-то задумался. Первым озвучил эту всеобщую озабоченность Билли Бонс. Он помянул чью-то мать и добавил: Сколько ж это все стоит, капитан? Много, мистер Бонс. Очень много Флинт повернулся к пастору Смиту Сосчитал, мистер Смит? Э-э ГмСмит запустил руку в ворох бумаг, сваленных на столе, принесенном людьми Сарни Сойера. Долгий труд его завершился, настал миг славы,Капитан, я приложил усилия к взвешиванию груза.Он указал на хитрое сооружение из дерева и железа, продукт смекалки и сноровки корабельных умельцев. Головы тут же повернулись в указанном Смитом направлении.Мы соорудили весы с помощью шестифунтового ядра, и я взвесил каждый ящик и сундук. Люди мистера Сойера очень помогли, спасибо им. Спасибо, мистер Сойер! Флинт слегка склонил голову в сторону Сойера.. Рад стараться, капитан! откликнулся Сарни Сойер. Получается продолжил Смит.Вот мой расчет.Он порылся в бумагах. Золотых монет у нас девяносто шесть центнеров. Серебряных монет двести двадцать центнеров, а серебряных слитков примерно двести девятнадцать центнеров. Он с гордым видом огляделся. Понятное дело, вес ящиков и сундуков тоже сюда вошел, но они в сравнении с содержимым просто мелочь. Ну, и не слишком точно все измерено, ведь ядром пользовались, не гирей. Народ бормотал, пока толком не поняв, что к чему. Мистер Смит, нам бы сумму в английских фунтах, хоть примерно, кротко попросил Флинт. ДА-А-А!!! заорали все. Смит поморщился, поежился, принялся протирать очки манжетою, шуршать бумагами. Проблема, капитан, в характере сокровищ. Вот, скажем, золотые монеты У-у-у-у раскатилось по команде. Взять хоть вот этот.Он указал на особенно крупный сундук с фигурными медными петлями в виде древесных листьев, украшенный резным орнаментом.Я в него заглянул. Так там со всего мира монеты. Георги, луидоры, дублоны, физиономии разных королей европейских и маврских, нынешних и давних. У разных монет разная проба Ну, чистота разная, содержание золота Их нельзя просто по весу сравнивать. Так что, понимаешь Ясно, ясно, недовольно поморщился Флинт. А серебро? Там сплошь испанские пиастры. Сколько их? ДА-А-А!!! Так ведь И тут неувязка. Где как, откуда посмотреть. В Англии этот песо стоит что-то под пять шиллингов, в Массачусетсе шесть, в Пенсильвании семь, а в Нью-Йорке восемь, а то и девять, в зависимости от потребности в серебре. В колониях эту монету страсть как уважают, испанский доллар. Такие результаты вычислений Смита народу пришлись не по душе. Из гущи толпы раздались недовольные возгласы. Флинт нахмурился. Билли Бонс и попугай, чуткие к смене настроения хозяина, заморгали и заерзали, первый положил руку на рукоять сабли, а второй застонал в ожидании очередной гадости хозяина. И хотя попугай и Бонс не переглядывались, реагировали они, как будто сговорившись. Я так понимаю, мистер Смит, что не дождусь от вашей милости даже приблизительной оценки? Нет, сэр, как можно! Но, сэр, расчеты штука такая сложная Очень, очень сложная, сэрПастор облизнул губы, принялся рыться в бумагах, ища и не находя чего-то. Чувствовал он себя неуютно. Скотина пастор! донеслось из толпы. Воровская морда! Сколько натырил? Крысий хвост нам оставил? Тих-ха-а-а! Сильвер как будто проснулся.Отставить! Он отделился от группы синих сюртуков, в которой стоял с краю, несколько обособленно. Стянув шляпу, он стер пот со лба и снова напялил шляпу на макушку. О, Джон! саркастически усмехнулся Флинт.Ты, никак, с нами, наконец? Может, да А может, и нет Сильвер ткнул пальцем в пастора Смита.Но разрази меня гром, если я позволю этому моллюску запудрить мозги команде. Слушайте Долговязого Джона! крикнул Израэль Хендс. Долговязый Джон! Долговязый Джон! подхватила толпа. Значит, так продолжил Сильвер. Коль нельзя точно, прикинем приблизительно. Сначала золото.Он глянул на Смита.Говоришь, девяносто шесть центнеров золота? Смит кивнул.Ну, так Короче, мачту тебе в задницу Считаем все в английских гинеях. Неточно? Да и черт с ним, для нас сойдет, Золото оно всегда золото. Да-а-а-а У-у-у-уО-о-о-о Ну, так продолжил Сильвер.Сотня фунтов в английских гинеях весит этак унций тридцать, а в центнере, грубо говоря, восемнадцать сотен фунтов, Сильвер строго глянул на толпу и добавил:Как отлично знает каждый джентльмен удачи. Знатоки заухмылялись, как школьники, уличенные в невыполнении домашнего задания. Так Восемнадцать сотен это шестьдесят раз по тридцать, так что центнер гиней стоит шестьдесят раз по сотне фунтов, что дает шесть тысяч фунтов. А коли у нас центнеров этих аж под сотню, то и будет у нас золотой монеты на шесть сотен тысяч фунтов. Для глухих повторяю: ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ ФУНТОВ! проорал Сильвер. Толпа ахнула. Считаем дальше. Песо пиастры. Каждый песо весит унцию, так что их тоже восемнадцать сотен в центнере. А центнеров у нас две сотни и двадцать сверх них.Сильвер нахмурился и на мгновение прикрыл один глаз.Что и дает три сотни и еще девяносто шесть тысяч унций. Возьмем за песо самое малое, в Лондоне четыре за фунт дают, и получится ОДНА СОТНЯ ТЫСЯЧ ФУНТОВ! Снова гул и движение в джентльменской массе. И то же самое для этих, он махнул рукой на слитки серебра.Две примерно сотни центнеров серебра или ЕЩЕ ОДНА СОТНЯ ТЫСЯЧ ФУНТОВ! Теперь толпа замерла, пораженная неслыханными суммами и колоссальным размером накопленного богатства. 'Гак-то вот, господа вольные морепашцы, криво ухмыльнулся Сильвер. А теперь сами мозгами пошевелите, сколько на нос выпадает, потому что я же язык стер, пока вам уши прочищал. Всего тут, значит, ВОСЕМЬСОТ ТЫСЯЧ ФУНТОВ! В арифметике Сильвер дока, все правильно подсчитал, не ошибся. Ошибся он в другом, в главном. Как только начал он называть суммы, толпа зауважала его так, будто лично он, Долговязый Джои, подарил им эти деньги. Продолжил бы Сильвер на волне момента, он вполне смог бы склонить джентльменов к дележке всего прямо здесь, на месте, и оставил бы Флинта с длиннейшим носом. Но Сильвер слишком горевал о Селене и о проигранном предыдущем споре и возможность эту проморгал. Тонкий знаток пиратских, да и вообще всех подлых душ Флинт все это сразу понял. У него уже затылок похолодел от неминуемой, как ему казалось, потери. Но опомнился Флинт мгновенно. С ликующей физиономией он прыгнул в народ, принялся расхаживать между пиратами, похлопывая по плечам и спинам, называя по именам, поздравляя с богатством несметным. Он приказал доставить жратву и ром, объявил день отдыха Флинт, как и всегда, когда он этого хотел, всех очаровал. Его подняли на плечи народные и понесли по кругу почета под приветственные клики, Флинта сопровождал верный Билли Бонс, ликующий, как и все остальные господа вольные морепашцы. Сильвер же на все махнул рукой, а когда стали разливать грог, напился. Флинт радовался, как невинное дитя, смакуя успешное развитие своего плана. Теперь, ребята, мы перетащим добро с пляжа поближе к местам, где его и захороним, сообщил он о дальнейших действиях. Мест всего три. Одно для золота, другое для серебра в монетах, третье для слитков. Эта задача для всех, разделимся на три команды. Потом кинем жребий, выделим шестерых, которые и зароют сокровища в потайных местах. Да! Да! Точно! с умным видом закивали все присутствовавшие, кроме Сильвера, сидевшего в одиночестве на бочке с кружкой в руке. Все, кроме меня и счастливой шестерки, рассказывал далее Флинт, вернутся на борта и будут следить за сигналом.Он указал на флагшток, сооруженный из реи командой Сарни Сойера. У основания флагштока ждал своего часа черный флаг.И пока флаг не поднимется, никто в работу на берегу не вмешивается. Все согласны? Да! Да! Согласны! И все подтверждают это клятвой на Артикулах, как свободные товарищи и джентльмены удачи? Да! Да! Все! Все! Флинт поздравил себя. Он самодовольно ухмыльнулся, пощекотал попугая, хихикнул, напел два такта какой-то дурацкой полузабытой песенки, в общем, слегка ошалел от легкости, с которой одурачил всех этих идиотов. Всех обставил, включая и Джона Сильвера. И к тому же с помощью этой детской саги с помощью Артикулов. Расшалившись, Флинт в творческом порыве решил добавить к песне собственные слова, хотя в этом вовсе не было необходимости. Человеку свойственно ошибаться! На всякий случай Лев проследит за Моржом. А Морж будет стеречь Льва, и, если с одного спустят шлюпку, другой сразу в нее запустит ядро. Д-д-д-д-да-а-а-а-а. нестройно, как будто споткнувшись, протянула матросская масса, которой напомнили и более они этого не забывали, что пет единого сообщества веселых джентльменов морей, береговых братьев, а есть две враждующие команды.Глава 31
5 сентября 1752 года. Южная якорная стоянка, Борт Льва. Первая собачья вахта (около пяти часов пополудни берегового времени)
Чтобы заковать в кандалы Билли Бонса, потребовалось шестеро. Еще двое или трое повалились, нарвавшись на кулаки Билли. Рядом прыгал на деревяшке и орал Сильвер, кричали и остальные, подбадривая группу задержания и радуясь втихомолку, что не им выпала сомнительная честь подставить бока под удары здоровенного первого помощника. Наконец Билли ослаб, распластался по палубе, придавленный грудой товарищей по команде. Израэль Хендс стянул с Билли сапоги и, насадив ему на лодыжки пару U-образных железных скоб, пропустил сквозь ушки в короткие стержни с утолщениями на концах. Узкие концы стержней мистер Хендс расплющил тяжелым молотком, заклинив таким образом скобы. Бонс мог встать, прыгать, но ходить оказался не в состоянии. Не он первый, не он последний. Все в порядке, мистер Бонс, доложил сияющий мистер Хендс Плотненько и надежно. Отгребись, сука драная, огрызнулся Билли.Я до твоей задницы еще доберусь. Руки коротки, Билли, цыпленочек мой. Билли Бонс зарычал, воспользовался ослаблением бдительности со стороны державших его моряков, которые решили, что ножные кандалы окажут умиротворяющее воздействие, и попытался достать до горла Израэля Хендса. Тихо! гаркнул Сильвер Мистер Хендс, отставить. Есть, сэр! отозвался Хендс, но за спиной Долговязого Джона криво ухмыльнулся Билли Бонсу. Вниз его, но осторожно! приказал Сильвер шестерым, державшим Билли.Мистер Хендс, захватите цепи и молоток и прошу с нами. Бонса поволокли вниз эти придурки, по спинам которых он походя гулял линьком. Про осторожность они теперь и вовсе забыли, задевая телом Билли все, что можно задеть, и ударяя его обо все, обо что можно стукнуть. В конце пути его швырнули на камни балласта, как угольщик кидает мешок угля. Железяки на ногах Бонса прикрепили цепью к скобе в корпусе судна, после чего его оставили сидеть с фонарем неподалеку. Зрелище Билли Бонс представлял неприглядное, жалкое. Весь в крови, в синяках, одежда разорвана, косица развалилась, а из порвавшегося носка торчал большой палец ноги. Этот палец особенно развеселил всех присутствовавших. Они разразились гомерическим хохотом. А ну, заткнулись! приказал Сильвер.Займитесь своими делами.Он нахмурился. Беда в том, что они уже пять дней торчали на якоре и ждали, пока Флинт покончит со своими захоронениями, и дел-то практически никаких не было. Еще хуже то, что вся команда видела, как Сильвер выставил себя дураком, авторитет его пошатнулся, и былой прыти в исполнении его приказаний не наблюдалось. Сильвер вздохнул печальным мыслям и попытался сосредоточиться на том, что было под носом. Ну, значит, мистер Бонс сказал Сильвер, оставшись наедине с арестованным.Жаль, конечно, что пришлось с тобой так по что поделаешь. Надо было меня слушать, а не Флинта. Ты же знаешь, что ему нельзя верить. Чем он тебя околдовал? Надуть-то он тебя надует, но что он тебе предложил? Спроси свою задницу, буркнул. Билли Бонс, беззаветно преданный хозяину, променявшему его на девицу. И это все; что ты можешь сказать? А ведь мы не одну милю прошли вместе. Неужто ты мозгами пошевелить не в состоянии? Ведь мы оба на мель сели. Пошел в жопу! Билли, я тебя еще раз спрашиваю. Ты знаешь Флинта лучше, чем любой из нас, Что он задумал? Не знаю. И не скажу. Ох, Билли, и дурак же ты! Ну хоть это узнал. И будь доволен. Билли, а что если я попрошу поговорить с тобой Израэля и еще кого-нибудь? К большому удивлению Сильвера Бонс ухмыльнулся. Кишка тонка. Ты уверен? Ага. Разговор был окончен. Более Сильвер ничего от Билли не услышал и медленно направился наверх. С костылем он управлялся ловко, но подъем-спуск по трапу давался одноногому с трудом. Динь-динь! брякнула рында. Семь часов берегового времени, уже стемнело. Он глянул на берег. Костер горит, доносится приглушенное расстоянием пение. Шестерка счастливцев капитана Флинта Сильвер повернул голову в сторону огней Моржа. Там Селена. При мысли о ней его охватило отчаяние. По окончании совета каждая команда вернулась на свой борт. Селена осталась у Флинта. Но он настоял, чтобы Сильвер взамен!!! взял с собой Билли Бонса. Селену Сильвер больше не видел, а Бонс прилип к нему, как дерьмо к подошве Кроме одного дня, когда он проваландался на Морже. Что он там делал? Что ему нашептал Флинт? Зачем Флинту нужно, чтобы Бонс был на борту Льва? Что делает Флинт на берегу с шестью матросами и восемьюстами тысячами фунтов? Сильвер вздохнул. Не обращая внимания на Израэля Хендса, во главе теплой компании ожидавшего результатов беседы Сильвера с Бонсом, он отправился в свою кормовую каюту и вытащил бутылку рому. Плохое время настало для Долговязого Джона. Может, и худшее за всю его жизнь. Он оказался перед лицом полного провала. И это тогда, когда он не перестал еще горевать по утраченной ноге. Сильвер принялся загибать пальцы в уме. Пункт первый: нашел женщину, которую любил, оскорбил ее и потерял из-за недоверия. Пункт второй: потерять ее больнее, чем попасть под нож хирурга Коудрея. Пункт третий: не сумел раскрыть глаза Билли Бонсу. Четвертый: не смог убедить команду не дать Флинту захоронить сокровища. И, наконец, пятый: если все это бормотание по углам еще чуть затянется прощай, капитан Сильвер. Так за размышлениями да за бутылкой прошел час, другой Потом раздался стук в дверь. Капитан послышался голос Израэля Хендса. Отстань! огрызнулся Сильвер, но дверь раскрылась, и вошли трое: Хендс, Слепой Пью и Сарни Сойер. Хендс и Сойер держали шляпы в руках, Пью вцепился в свой козырек. Закивали, как флинтов попугай. Руки к виску, ножкой топнули прямо военный салют. И застыли, уставившись себе в ноги. Что ж, в кормовой каюте Льва не встанешь, гордо выпрямившись макушку разобьешь. Но они вообще как будто в церковь вошли, торжественные И напряженные. Не понравился им вид пьяного Сильвера, неряшливо растянувшегося в кресле и закинувшего ногу на стол. Там же лежала пара любимых пистолетов. Долговязый Джон выглядел особенно неопрятно в аккуратной кормовой каюте, орнаментированной золотыми лиственными гирляндами и ярко освещенной свечами из пчелиного воска в застекленных фонарях. Все трое моряков были испуганы, потому что понимали, как Сильвер мог управиться со своими пистолетами. Сильвер поднял на них красные глаза. Ну что? Делегация? Капитан, открыл рот Израэль Хендс Прошу прощения, но что сказал Билли Бонс? Ничего. Капитан, можно, я его сам спрошу? Гандшпугом. Или огоньком ему палец подпалить, подключился Слепой Пыо. Нет. Вы Артикулы подписали. Но мы разделились, капитан, возразил Израэль Хендс И Артикулы нарушены. Сильвер вздохнул, выпрямился, убрал пистолеты и попытался изобразить хозяина судна. Мистер Хендс, попытайся послушать внимательно. Если эта честная компания раскололась Что, к сожалению, возможно То Билли Бонс нам нужен вдвойне. Напоминаю, что он один может вывести нас в Саванну. Так что и без Артикулов не надо ему кости ломать, пальцы жечь или иначе как уродовать, а надо его беречь, как матушка любимое дитя бережет. Трое делегатов ахнули. Об этом они не подумали. Да, продолжал Сильвер И кто-то это хорошо разъяснил Билли Бонсу. Сам бы он до этого не дотумкал, мозгов не хватило бы, несмотря на знание арифметики да секстанта. Как вы думаете, кто ему это разъяснил? Флинт, сразу откликнулся Слепой Пью. Верно, подтвердил Сильвер и опрокинул в глотку еще стакан. Пью пихнул Хендса в бок. Капитан, начал Хендс по второму заходу Мы, это верно ты сказал дили делегация. Да ну? Точно, капитан. Сильвер не удивился. Он этого ждал. Наелись они им. Черную метку принесли. Ну, давайте, раз пришли, черт бы вас драл. Капитан, команда, значит Ну? Капитан, надо сказать Ба-банг! Ба-ба-бабах. Бабах-бах! С берега донеслась дикая пальба. Выстрелы были хорошо слышны сквозь отдраенные иллюминаторы.Глава 32
5 сентября 1752 года. Остров. Сумерки
Флинт был на седьмом небе от радости. Сокровища захоронены, и он лишь один знает, в каком месте. Конечно, счастливая шестерка приблизительно представляет, где их искать. Флинт глянул на их тупые морды. Сидят, придурки, припаяли задницы к песку, ждут приказов. Безмозглые твари, да к тому же неграмотные. Дай он им свой блокнот, они даже не смогут ничего разобрать в его записях. Но деревья да скалы они запомнили, благослови господь их невинные сердца. Однако это ничего не значит. Ничегошеньки. Джо Флинту на это плевать. Здесь, на острове, он свободен, как никогда и нигде прежде. Вечно мешали ему какие-то ограничения: законы короля Георга, Артикулы Джона Сильвера даже присутствие непробиваемого Билли Бонса действовало стесняюще. Но здесь Здесь он один с этими шестерыми. Никто ему не помеха. Флинт с каждым днемстановится все сильнее, с каждым днем крепнут его ум, изобретательность, воображение, творческая сила. Он пощекотал попугая, тот заерзал на плече, потерся о голову хозяина. Флинт посмотрел на водную гладь, на замершие на якорной стоянке парусники, еще видимые в тропических сумерках, хотя солнце на западе уже тонуло за горизонтом. Ну, ребятки мои, прошелестело в голове Флинта, переводящего взгляд с Моржа на Льва и обратно, бдите там и блюдете? Молодцы, молодцы. Звякнула рында на Морже. Ага, сказал Флинт. Чуть позже отозвалась рында Льва. Песок из склянок двух часов никогда одновременно не высыпается. Одна склянка первой вахты, подумал Флинт. Что в этих широтах означает пору заката. Он повернулся к везунчикам, как они о себе думали. Ведь им выпало великое счастье сопровождать его на берег, Флинт улыбнулся сияющей улыбкой, а солнце тем временем скользнуло за горизонт, впустив на остров ночные страхи. Ну-ка, ребятки, костерок соорудите, да побольше. Время подзакусить, попируем на славу. Галеты и окорок, квашеная капуста и соленая селедка! И ром, капитан? А как же! Он шутливо дернул за нос ближайшего к нему матроса.Грог для всех, заслужили. Они радостно заорали, принялись прыгать и толкаться, как школьники по окончании уроков. Расшалились ребятишки, пробормотал Флинт скосившемуся на шалунов попугаю. Двое были от Сильвера: Роб Тэйлор и Джеймс Камерон. Остальные с Моржа: Фрэнки Скиллит, Генри Говард, Питер Эванс, Иен Фрезер. Итого шестеро. Счастливая шестерка. Везунчиками считали их и остальные, обделенные жребием, и Флинт сам чуть не запрыгал, думая об их удаче и счастье, вспоминая унылые физиономии тех, которым не повезло, кто не вошел р группу захоронения. Группа захоронения! подумал Флинт. Точнее не скажешь, черт подери. Золотые слова. И он поразмышлял над вечной истиной: ничто не сравнится с остроумием трезвой реальности. Флинт с довольным видом наблюдал, как моряки разожгли громадный костер, гораздо больше, чем надо, как они насаживали на прутья куски соленой свинины и рыбу, как вышибли дно бочонка с капустой. Он оглядел небольшой уютный лагерь, перевел взор в сгустившуюся тьму, чернильную, безлунную. Матросы сияли багровыми, разогретыми костром физиономиями, отпихивая друг друга от наиболее удобных местечек возле огня, жаря мясо и передавая друг другу кружку рома Флинт засмеялся. Пятнадцать человек на сундук мертвеца затянул он. Йо-хо-хо! И бутылка рома отозвались они. Капитан махнул рукой, и они продолжили пение. Флинт принял кусок свинины, переданный одним из полупьяных подчиненных, откусил, прожевал, проглотил, чуть не поперхнувшись со смеху. Ему вспомнился Большой совет, вспомнилось, как все эти олухи под руководством Слепого Пью проголосовали за то, чтобы единственным человеком, посвященным в секрет захоронения сокровищ, стал не кто-нибудь, а капитан Флинт! Ему даже не нужно было ни с кем спорить, никого убеждать. Флинт жевал сочную свинину, жир со слюной потек по подбородку, но все внимание капитана поглощала борьба с одолевавшим его смехом. Он безмерно собой наслаждался, а что еще будет! Справившись со свининой, Флинт отер глаза от слез, подбородок от жира, присел на песок у костра, скромно отхлебнул из кружки и стал весельчаком номер один. Он гоготал громче всех, рассказывал матросам, какие они лихие парни и как они покатят по Лондону в своих каретах, с каждого боку по бабе, как будут заседать в палате лордов Г ы-ы В палате лондов в Лордоне С бабой сбоку вторили заплетающиеся языки. Капитану Флинту виват! заорал Иен Фрезер. Виват! Виват! Виват! отозвались остальные пятеро, а за ними и лесное эхо. Это снова рассмешило Флинта так, что он свалился в песок, чуть не похоронив в нем своего попугая. Говард забыл о репутации злобной птицы и бросился ее спасать, за что был жестоко поклева н, покусан и поцарапан к великому увеселению членов захоронной группы. Флинт овладел собой, отряхнулся и выпрямился на фоне черного бархата тропической ночи. Он прислушался к жужжанию насекомых и к рокоту прибоя, доносящегося из-за леса, от береговых скал и прибрежных рифов. Тихо, тихо, цыплятки мои, дружелюбно проворковал Флинт. Не вижу причины для чествования. Но эти дураки не унимались. Боже, храни к ик капитана! завыл Роб Тэйлор, морячок-сморчок, росточком кроха, пьянеющий первым в любой компании, потому что в теле его места для выпивки не хватало, она сразу ударяла в голову. Понял, Роб, спасибо, кивнул Флинт Тэйлору, стараясь сохранять серьезный вид. Получалось это с большим трудом, ибо сложно удержаться от хохота, глядя в глупые собачьи глаза Тэйлора. Да и остальные не лучше. Ничего не стоило завоевать их преданность за несколько дней на берегу. Дай набить брюхо до отвалу и они твои рабы до гроба. Кхм! Флинт прочистил глотку и принял еще более серьезный вид.Ребята! Завтра, покончив со всем этим, мы отложим лопаты и кирки, начнем делать замеры. Сказанное Флинтом было полной чушью, ибо все требуемые пеленги и дистанции он уже занес в свой блокнот. Черт! До чего трудно удержаться от смеха при виде их мигом посерьезневших физиономий Так что отдохните как следует, как вы и заслужили.Флинт врыл ногти в ладони, чтобы боль убила рвущийся наружу смех.И ничего ночью не бойтесь, мы вахту выставим, как всегда. Хотя вряд ли сейчас тут есть чего боятьсяФлинт озабоченно уставился в ночь. Слова его и поведение произвели желаемое воздействие. Шестеро озабоченно буравили взглядами окрестности, выглядывая там неведомо что. Никто из них на этом острове ранее не бывал. Я это место знаю, ребята. Высаживались мы здесь. Хорошая якорная стоянка, добрая вода, дерево отличное для ремонта, да и козу подстрелить можно на мясо.Флинт выдержал паузу, переводя взгляд с одного на другого.Но чуть ли не каждую ночь мы теряли по человеку. Флинт полностью овладел собой и играл морячками, как мальчик солдатиками. И главное черт знает, кто их убивал! Часовых, конечно, выставляли. Удвоили охрану, потом снова удвоили флинт передернул плечами, как будто бы его одолевал страх.Все, что мы поняли, ребята не люди это были. Не дикари даже. Что-то хуже.Он махнул рукой в сторону леса.Одни говорили, что это волосатые обезьяны, которые живут в самой чаще и выходят по ночам. Другие, вроде, видели что-то еще Все замерли, позабыв о мясе и о роме. Ужас охватил бывалых мореходов, им захотелось на борт, к товарищам по команде. Там они чувствовали себя дома, морские опасности были им понятны, там они храбрецы. А здесь, черт знает, чего бояться. Чего-то неизвестного А то еще и сверхъестественного. На корабле короля Георга, продолжал Флинт, добрая морская пехота, бывалые солдаты. И однажды ночью рота дала залп что-то черное заметили они, что-то ползло к нашему лагерю. Но наутро там ни капли крови, ни волоска не нашли. После этого иные принялись серебро искать, чтобы в пули добавить. Н-на кой? клацая зубами, спросил Тэйлор. Ну, Роб Я думал, ты знаешь. Серебряная пуля может убить то, чего свинцовая не одолеет. Ну, там, ночные твари нечистые, дьявольщина всякая, нежить все такое, понимаете. Они понимали. Страх пробежал холодком по спинным хребтам, приподнял волосы на затылках. Флинт пожал плечами и вздохнул. Что было забылось, быльем поросло, парни. Так что не думайте об этом, пейте, ешьте, веселитесь. Кто знает, что с нами станется завтра Он широко и лучезарно улыбнулся, уселся и снова принялся увлеченно жевать, Но у остальных аппетит пропал. Капитан заикнулся Говард. Ну? Как Как это Что это, Генри? Как их убивали? Да заткнись ты, Генри! рассердился Фрезер. Да, да, заткни пасть, поддержали Тэйлор и Эванс. По-разному протянул Флинт, склонив голову к плечу, как будто вспоминая неприятные картины.Чаще всего душили. А еще? настаивал Говард, не в силах оставить тему. Ох, Генри Флинт с печальной отеческой улыбкой покачал головой.Не стоит об этом. Всегда тихо, часто гадко Вправду, не стоит об этаком,Тут он сделал вид, что вдруг заметил, что жует в одиночестве.Ребята, вы уже наелись? Завтра работать, надо подкрепиться. Ешьте, пейте на здоровье! Но веселость улетучилась, шестерку везунчиков давил страх, им казалось, что лес кишит темными тенями. Моряки, как известно, народ суеверный, суевернее старых бабок деревенских, с глубокой древности так повелось. Их легче легкого запугать какими-нибудь байками. Образованием они не отягощены, жизнь их полна опасностей, море в любой момент разгневаться может, сглотнет, как корова тлю вместе с травой. Да и навидались они всякого, чего иная сухопутная крыса двуногая и вообразить не способна. Верят моряки в змеев морских, в русалок да сирен, в призраков и духов, и заблудшие души погибших матросов взывают к ним из разинутых клювов чаек. Со всем этим они живут. Флинт оценил глубину бездны ужаса, разверзшейся в воображении шестерых кроликов, и снова чуть не испортил дело смехом. Они сгрудились в кучу, принялись проверять оружие. Говард, возясь с пистолетом, сбил затравку и из-за дрожи в пальцах едва смог перезарядить. Эванс, пробуя нож, поранил большой палец. Фрезер и Тэйлор обнялись, чтобы морально поддержать друг друга, а Скиллит жевал ногти и поскуливал, как щенок. Говард, твоя вахта первая, сказал Флинт. Две склянки стоишь, Генри Он махнул рукой в сторону берега, где ярдах в пятидесяти от костра, невидимая в темноте, осталась их вытащенная на песок лодка.Часы в лодке, сходи, возьми. Говард уставился в направлении лодки, представляя себе затаившееся там неведомое чудовище и уже ощущая его когти на горле. Разумеется, стоя у костра, ничего он там увидеть не мог. Генри, живее, сурово молвил Флинт.Никто там не прячется, нечего бояться. Я и то вижу, а у тебя глаза моложе моих, зрение острее. Говард простонал, уставился в песок, замер и более не шевелился. Не сдвинулись с места ни Эванс, ни Фрезер и Тэйлор, ни Скиллит и Камерон, которых Флинт поочередно пытался отправить к лодке за склянкой получасовыми песочными часами. Не помогли ни приказы, ни увещевания, ни лесть. Они ломали руки, кусали губы, кривились и пыхтели, но с места не двигались. Флинт обложил их в три этажа и поднялся. Выдры вы болотные, а не моряки. Камбала придонная. Капитана за склянкой погнали. Я готов держать пари на тысячу фунтов, что ничего там нет, потому что всегда оно ближе к заре появлялось, а сейчас едва солнце закатилось. Так что уж часа четыре точно нечего бояться. Флинт плюнул в песок и решительно зашагал к берегу. Тут же взорвался жалкий патетический хор: Не надо, капитан! Капитан, стой! Не уходи! Не оставляй нас одних! Флинт воздел глаза к темному небу и исчез во тьме. Некоторое время слышны были его шаги. Вскоре все смолкло, и шестеро принялись напряженно вслушиваться. Не раздавалось ни звука. Мгновения складывались в минуты. Нарастала напряженность. Куда он сгинул? не выдержал Тэйлор. За это время до лодки и обратно можно десять раз обернуться, прикинул Говард. Может, заблудился? предположил Фрезер. А вдруг его это тогоЭванс не мог заставить себя довести фразу до конца. Помянешь черта, а он тут как тут. Заткнись! вскинулся Скиллит Ничего страшного. Ну, сбился с пути, тьма кромешная. Зыкнуть, он на голос и выйдет.Он набрал в грудь воздуху и заорал: Эгей, капитан! Флинт, эге-гей! Флинт не откликнулся. Прибой да мошкара. Но вдруг Что там? вдруг спросил Тэйлор. Где? переспросил Говард. Там! Тэйлор вытянул перед собой дрожагций палец. Ничего не вижу, сказал Камерон. И я ничего, добавил Эванс. И я начал Фрезер, но тут же подскочил Вон оно! Слышу! Еще б не услыхать! К ним приближалось что-то тяжелое, шаркающее и тяжко дышащее. Как будто какое-то исполинское животное. Оно было не слишком близко, однако все его отчетливо слышали. Кто молитву знает? спросил Тэйлор, мать которого когда-то посещала церковь. В жопу молитву! крикнул Говард. Оружие к бою! Заклацали курки пистолетов. Оно как будто услышало и поняло, шум смолк. Несколько минут они вглядывались в темноту, вытянув перед собой тяжелые пистолеты морской службы. Но тут раздался тихий стон с совершенно другой стороны. Как будто какое-то живое существо страдало от невыносимой боли. Они резко развернулись, прицелились туда. И опять звук смолк чтобы снова донестись с другого направления.. Кости мои в мельницу! проворчал Тэйлор.Их там хоть задом ешь. Спина к спине, ребята, живо, спина к спине! растормошил всех Говард. Матросы заняли круговую оборону. Ощущение физического контакта с единомышленником, спаянности перед лицом общей опасности подбодрило их. Но очередной звук с нового направления произвел совершенно иное воздействие. Окружают! запаниковал Фрезер. Что бы это могло быть? вдруг заинтересовался Эванс. И знать не хочу! отмахнулся от него Говард.Отбиться бы мать их Говард вибрировал от страха, как крылышки птички колибри, и, когда тьма взвыла снова, не выдержал. Ба-банг! Оба его пистолета полыхнули огнем, пули вылетели абы куда. Ба-ба-ба-бах-бах-бах! Последовали его примеру остальные. Сразу после пальбы перепутанные пираты принялись перезаряжать пистолеты. Они толкались, просыпая порох и роняя пули, торопились успеть выстрелить до того, как сумеречные существа свалятся им на головы. Эй, что за пальба! раздался вдруг знакомый голос. Отставить! Кто приказал открыть огонь? Капитан! закричал Говард. Капитан Флинт! заорал Фрезер. Слава тебе, Господи! возопил Тэйлор. Иисусе Христе! всхлипнул Камерон. Спасены! зарыдал Эванс. Из тьмы неспешным шагом выступил капитан Флинт с двойной стекляшкой песочных часов в руке. Какого дьявола вы открыли пальбу? строго спросил Флйнт.Чья это идиотская идея? Бы что, захотели меня пристрелить? Но они ничего не слышали. Лихие головорезы, не раз смотревшие в глаза смерти от клинка, пули и стихии, валялись в ногах у Флинта, собаками терлись о сапоги, хватали его за ладони, только что на руки не просились, как дети малые. Капитан, эти чудища здесь ползали! Стадами, капитан! Чуть не набросились! Ей-богу, ко всем чертям! Хм нахмурился Флинт А я ведь совсем рядом был, в полусотне шагов. И ничего не слышал. Что-то здесь не то, парни. Тебя долго не было, капитан. Что? Долго? Я прямо к лодке прошел, взял склянку и прямым ходом обратно. Дьявол! воскликнул Эванс, Тут дело нечисто, капитан, потому что тебя сто лет не было. Нечисто тут откликнулись остальные. Флинт тяжело опустился на песок рядом с ними и поскреб затылок. Что ж, ребята, сказал он, поразмыслив.Происходят вещи, которых человеку не понять, это ясно. Но мы с вами не дети, и нас не запугает то, что боится встретиться с нами лицом к лицу. А оно ведь боится, так ведь, Генри? повернулся Флинт к Говарду и положил руку ему на плечо. А, да не слишком уверенно пробормотал Говард. И ты, Питер Эванс. И ты, Роб Тэйлор, и ты, Иен Фрезер Если оно, это самое, чем бы оно ни было, не появилось, значит, оно вас больше боится, чем вы его. Флинт сказал это с такой убежденностью, так смело, что пираты приободрились, страхи их рассеялись. Снова Флинт показал, что в нем все задатки доброго офицера наряду с другими, разумеется. Ладно, поразвлекались, и будет, деловито сказал Флинт.Говард, твоя вахта первая, потом Тэйлор, потом Фрезер, потом Эванс.Он вручил Говарду часы.Питер, подкинь топлива в костерок, а ты, Иен, проверь заряды и затравки. Роб, ты парень разумный, спокойный, поспи маленько, и я с тобой за компанию С этими словами Флинт улегся возле костра, предоставив свою шляпу попугаю в качестве гнезда и натянув воротник на уши. Он закрыл глаза и, как всем казалось, уснул сном спокойным и безмятежным. Народ его, несколько успокоенный, слабо поулыбался и приступил к исполнению порученного. Справившись с поставленными задачами, все, кроме Говарда, уморенные дневной работой, вечерней пьянкой, а пуще всего пережитыми ужасами, свалились и захрапели. Говард клевал носом над получасовой склянкой и изо всех сил пытался отогнать сон. Остальные как казалось, не исключая и Флинта спали сном праведников. Говард тер глаза, головой мотал, прыгал, разгуливал вокруг костра, считал звёзды и монеты рисовал на песке. Даже стишки попробовал вспоминать Но не справился с собой Говард, смежил веки и заснул беспробудно. А-а-а-а-а! завопил вдруг кто-то. А-а-а-а-а! Эй, на палубе! Говард попытался разлепить веки получалось плохо. Голова гудела с похмелья. Попытался вывалиться из подвесного своего гамака вообще ничего не вышло, потому что лежал он на песке, а не в койке. Он приподнялся на локте, огляделся. Костер выгорел до серых, подернутых пеплом, черных и пока еще переливчато мерцающих красных углей. Флинт и Фрезер продирали глаза, а Тэйлор выл и вопил чуть подальше, у края леса. Он пялился на неподвижную фигуру, уткнувшуюся физиономией в песок. Ребята! вопил Тэйлор.Питер! Питера они Все подскочили к телу Эванса, и Флинт перевернул его на спину. Бедняга Питер Эванс, самый молодой из них, оставшийся без родителей во младенчестве и воспитанный в сиротском доме Корама Бедняга Питер Эванс, никому в жизни зла не желавший аж до четырнадцати лет, когда впервые в жизни прирезал человека. Дьявол! прорычал Флинт. Говард подался вперед и через плечо Флинта заглянул в лицо Эванса. Он ахнул, ноги его похолодели, как будто кто-то окатил их ледяной водой. Смерть Говард встречал в разных обличьях, вроде бы уж и нечему дивиться. Но здесь она, смерть, совсем другая. Питер Эванс лежал с выпученными глазами, стремившимися покинуть опухшую посиневшую физиономию, в шею его врезалась длинная тонкая скрутка прочной древесной коры, закрепленная сзади, где ему бы ее ни в жизнь не достать. Чтоб меня нафаршировали! зло бросил Флинт.Та же история. Так же и в прошлый раз начиналось.Он выругался и свирепо уставился в джунгли, как будто желая проткнуть взглядом убийц Питера Эванса. Затем злость его приобрела ядовитый оттенок, и он обвел взглядом пятерых оставшихся. И какой же это разгильдяй заснул на вахте, позвольте спросить? почти ласково осведомился он. Охвативший Говарда, стыд выдал его. Ты, Генри Говард? недоверчиво спросил Флинт Вот уж от кого не ожидал По законам короля Георга тебе положена тысяча без одного, не то сразу на рею. Но у меня сейчас каждый на счету Так что пусть тебя совесть твоя судит. Говард сгорал от стыда и раскаяния. Он мучился, сознавая свою ответственность, стонал, вздыхал. Он ломал руки и тихо плакал. По простоте душевной Говард полагал, что хуже этого ничего и быть не может. Но он ошибался.Глава 33
5 сентября 1752 года Борт Льва, трюм
Билли Бонс сиял от счастья. Да, он чувствовал себя счастливейшим из смертных в этом сыром трюме, хоть и задница его затекла от сидения на балластных булыгах, Счастьем наполняла Бонса причастность к мудрости Флинта, к его чудесной способности предвидеть будущее. Итак, Билли, цыпка моя, обратился к нему Флинт в ходе их последнего свидания, когда пригласил Билли вниз якобы для поисков золотого.Итак, ты притащил с собой свой старый сундук. Точно, капитан. Как приказано.Билли ухмыльнулся.Но этим-то, Сильверу и его шавкам, я сказал, что надеюсь остаться на Морже, потому и сундук волоку, вот как. Эти олухи, конечно, тебя обсмеяли. Пусть смеются. А вот для тебя подарочек. Мое собственное изобретение. Схорони его в своем сундуке, даже если придется выбросить Библию, молитвенник и свидетельство о конфирмации. Чего? С юмором у Билли всегда было туговато. Не чего, а что, сэр. СЭР! Ты когда-нибудь запомнишь это коротюсенькое словечко, мой цыпленочек? Чего, сэр! Что, сэр! Да, сэр! Ну, ладно.Флинт открыл ящик и вытащил громоздкую конструкцию из сетей и пробки. Держи это наготове днем и ночью, мистер Бонс. Чего ради, капитан? спросил Билли, дрожа, поскольку догадывался, для чего эта конструкция служит. Точнее кого ради. Чтоб мне не потонуть, Капитан? Молодец, мистер Бонс. А вот еще два подарочка. Каждый мал, каждый в тряпице, потому что спрятать их надлежит на твоей драгоценной персоне, в уголках столь священных, что ни одному здравомыслящему олуху не придет в голову идея сунуть туда лапу при обыске. Билли аж вспотел от натуги, силясь понять, что к чему. А Флинт едва сдерживал смех. Прошу прощения, капитан Где это? В твоих штанах, мистер Бонс. Между твоим членом и яйцами мы прикрепим это с помощью клейкой липучки нашего доктора. Я почему-то сомневаюсь, что кому-нибудь захочется туда лазить. О-о! О-о, сэр, подсказал Флинт. О-о, сэр! Вот-вот. А тряпочку-оберточку ты оценишь, поскольку оба эти предмета снабжены колкими углами. Вот один из них, Флинт извлек на свет темную стальную полоску длиною с палец. Кусок напильника, капитан. Отлично, мистер Бонс. Так и есть. А для чего, можешь догадаться? Нет, капитан. Цель его, мистер Бонс распилить твои ножные кандалы. Ножные ка Кандалы, капитан? Билли Бонс достиг предела. Он старался понять. Пытался услужить. Но его хозяину, кажется, доставляло большое удовольствие все время его дразнить. Да, мистер Бонс. Ножные кандалы. Которые рано или поздно навесит на тебя наш общий друг мистер Сильвер. Билли Бонс вздохнул с облегчением. Флинт, кажется, оставил океан фантазии и порулил к прочным берегам фактов. Сильвер, конечно, падла, но почему, капитан? Все объясню, мистер Бонс, все своим чередом. Потому что он не осмелится тебя укокошить, но и оставить на свободе побоится. Все предсказания Флинта сбылись. Сильвер донимал Билли Бонса, пытаясь выведать план Флинта, и, наконец, Бонс не выдержал и бросил вызов Долговязому Джону при всей команде. Он не выполнил приказ. Поэтому и сидел тут в ножных кандалах и в компании крыс. Его обыскали, но именно так, как и предсказал Флинт. Искали оружие или что-то стоящее. Содрали серебряные пряжки со штанов, забрали табачок и складной нож, шляпу и сюртук. Но туда никто не полез. Билли Бонс тряхнул головой в религиозном почтении к гению Флинта, Билли, как и все другие, видел, что во Флинте есть что-то жуткое, но, в отличие от иных прочих, Бонс его за это боготворил. И вот он пошарил в штанах, схватил покрепче, собрался с духом и рванул, что было силы. Он взвыл от боли, на глазах выступили слезы, пластырь оторвался, прихватив клочки грубых черных волос. Ых-х Билли Бонс разжал ладонь, поглядел на две упаковочки, еще теплые от прежнего местопребывания. Развернул одну, рассмотрел напильник, попробовал пальцем грубый край и пригнулся к кандалам. Ему велено было начать работу сразу, но оставить кандалы с виду целыми, надпилить так, чтобы без труда сломать в нужный момент. И тогда в дело пойдет второй маленький подарок Флинта.Глава 34
6 сентября 1752 года. Южная якорном стоянка. Борт Моржа. Предполуденная вахта (около восьми утра берегового времени)
Мистер Юин Смит, исполняющий обязанности первого помощника на Морже, отличался столь бросающейся в глаза жеманностью и манерностью, что товарищи по команде поначалу опасались поворачиваться к нему спиной в узких темных закоулках. И юнгам советовали держаться от него подальше. Но вскоре матросы на его счет успокоились. Опыт показал, что в этом отношении его можно не опасаться, а во всех других что ж, они и сами не ангелы. Конечно, моряки заметили, что мистер Смит всегда в первых рядах, когда надо'1 что-то поделить, но в последних хотя глотку драл не хуже других, когда нужно с саблей и пистолетом прыгать на палубу чужого парусника. Наконец, наглядевшись на его манерность и напыщенность, немалую ученость и седины он оказался старше всех в команде и подозревая, что Юин тайком молится по ночам, моряки присобачили ему кличку: пастор. Смит этого прозвища терпеть не мог, тем быстрее усвоили его остальные. К сожалению, эта кличка оказалась теперь под запретом, ибо, возвысив мистера Смита в его нынешний ранг, Флинт недвусмысленно дал понять, что каждый, называющий первого помощника пастором, навлечет на себя немилость капитана. Те, кто, видимо, не расслышал Флинта, сыграли партию-другую во Флинтики и щеголяли теперь перевязанными руками да лечили синяки у мистера Коудрея. Остальные научились на их примере и употребляли запретное слово, лишь когда капитана не было рядом. А что поделаешь, эта кличка сама на язык просится. Ведь пастор и впрямь когда-то был ну, неважно, кем именно пока аппетит до юного женского тела не увел его на кривую дорожку. И теперь стоял он в большой черной шляпе и длинном синем сюртуке у румпеля пиратской посудины, наводя подзорную трубу на берег и пытаясь понять, что там еще задумал Флинт. Рядом с пас, то есть с мистером Смитом, остановился доктор Коудрей, тоже при подзорной трубе и он заинтересовался, что там, на берегу. Туда же уставились с бака и шканцев и многие другие члены экипажа, хотя иные и без всяких подзорных труб. Они изучали пляж и обменивались результатами наблюдений. Тут до них донесся еле слышный вопль: Эй, на палубе! А затем все разглядели, как Флинт и моряки, отправившиеся на остров вместе с ним, волокли по песку чье-то тело. Что скажете, мистер Смит? спросил Коудрей. Смит покосился на хирурга и позавидовал его легкой соломенной шляпе и просторным хлопчатобумажным штанам. Как раз по погоде наряд у доктора, хорошо ему! А Смит прел в тяжком сукне да толстом фетре. А вы, сэр? Затрудняюсь, сэр. Пальбу все слышали, пожал плечами Коудрей.Полагаете, в команде захоронения возникли какие-нибудь э-э трения? Кхе-кхе произнес мистер Смит, про себя же подумал совсем другое. Гм-м-м, подумал он про себя. Мистер Смит знал намного больше, чем можно рассказать Коудрею. Гм-м-м, повторил он свою глубокую мысль и принялся рассуждать о том, что ему предложил Флинт. Вот только суждено ли ему до этого дожить? Так и не додумавшись до чего-то определенного, мистер Смит заметил какое-то беспокойство на палубе и увидел, что наверх поднялась Селена. Мысли Юина тут же направились на это весьма аппетитное создание в длинной рубахе и свободных штанах. Смит заметил, что у черной девицы хватило ума напялить намного больше одежонок, чем раньше. Теперь тело прикрыто полностью. Да только чем замаскируешь молодость и гибкость А одежда Что ж Лишнее развлечение обертки с конфетки сдирать. А там Дух захватило у Смита при мыслях, что у Селены там, под одежками. Мистер Смит был похотлив. Селена избегала встречаться с ним взглядом. Она подошла к Коудрею. Мисс Селена! Доброе утро, дорогая, приветствовал ее доктор. Доброе утро, мистер Коудрей, улыбнулась Селена. Гм-м-м, подумал Смит, Селене нравился хирург. Смиту это было неприятно. Он снова окинул девицу взглядом, и память подсунула ему картины счастливых чеширских денечков. Неплохо ему жилось, церквушка у него была ничего себе, да и паства обширная и зажиточная. Сыновей и; дочерей прихожан он готовил к конфирмации. Конфирмацию проводил его светлость епископ чеширский, кузен, друг и благодетель мистера Смита. Ах, какое было времечко! Мальчиков он чохом запихивал в класс, оттарабанивал им что-нибудь быстрым аллюром и прогонял. На кой они ему черт! Но девочки Ах, девочки Их он готовил по специальной программе у себя дома. Мистер Смит погрузился в воспоминания о гладкой коже, шейках, плечиках и иных выпуклостях и впадинках. Юин вздохнул, вспоминая, как он их щекотал, как они смеялись, как приходили каждый день, напутствуемые мамашами: Веди себя хорошо/ слушайся пастора! Они и слушались. Смит приручал их постепенно, шаг за шагом. Ушки щекотал, грудки, лодыжки потом бедра И наконец, сидя в своем любимом кресле со спущенными штанами, по-отечески принимал девочек на ручки. А они прыгали, разинув рты и задыхаясь: О-о, о-о, о-о, о-о Но не все коту масленица. Слишком много животов вздулось в результате столь своеобразной подготовки к конфирмации, слишком много девиц в слезах рассказывали родителям одну и ту же историю. Возмущенным опровержениям Смита перестали верить. С помощью епископа-благодетеля и Святой церкви, не любившей скандалов, он сменил приход И еще не раз сменил, потому что во втором и в третьем повторилось то же самое. И еще бы повторилось, да послал ему черт этого здоровенного Вервика, у которого была одна дочка-пышечка и шесть здоровенных сыновей, да еще куча друзей-мужланов. И пришлось преподобному Смиту, выражаясь на культурном наречии, рвать когти, то есть покинуть дом через черный ход, когда в переднюю дверь уже ворвались эти дружки Да еще и угостили его дробью в филейные части пониже спины До сих пор зудит под кожей, сидеть крайне неудобно, отсюда и жеманность в движениях, предмет грубых шуток здешних товарищей по команде. Мистер помощник! слегка поклонилась Селена Смиту. Он не сразу осознал, что к нему обращаются. На этот раз она говорила с ним, и сначала ему это понравилось. Гляньте, сказала она тихо и кивнула в сторону команды. Пираты вдруг потеряли интерес к происходящему на берегу, собрались в затененной части палубы, расселись на пушках, на ящиках, на палубе, жевали табак, оживленно болтали, скалили зубы и все смотрели на нее. Вам надо с ними поговорить, сказала она. Смит посмотрел на матросов и облизнул губы, показав мокрый красный язык. Отвратительная привычка. Эти добрые ребята свое дело знают, елейно произнес Смит. Скажите им. Всем, даже юнгам. Скажите, что Флинт рядом, на берегу, и он скоро вернется. Его пять дней уж как нету, мисс, ухмыльнулся один из пиратов, сидевший достаточно близко, чтобы ее услышать. Он повернулся к товарищам.А ночыо-то вряд ли просто так стреляли, ребята? Может, капитан больше и не вернется, а? Все дружно заржали. Нет, они не желали Флинту смерти; Ни в коем случае. Но не прочь были бы остаться на некоторое время без капитанского надзора, чтобы сделать то, о чем уже давно мечтали. Они чуть ли не разом поднялись и, не спуская глаз с Селены, медленно двинулись к штурвалу. Пасссстор, просипел один. Па-а-а-а-астор, пропел второй. Пасторррррр! прорычал третий. Коудрей схватил Селену за руку. Уходите вниз. Немедленно. И не появляйтесь, пока не вернется капитан. Она нахмурилась. Там жарко. Смолой воняет. Боже милостивый! Вниз! Живо! Коудрей потянул ее к люку. Селена покосилась в сторону толпы, и ей расхотелось упрямиться. Хирург стащил ее в люк и отвел к кормовой каюте. Зайдите и запритесь. Он прислушался к шумам на палубе. Там спорили и ругались. Коудрей вздохнул.Прелестно! Лучше не бывает! Дайте-ка мне эту штуковину, он показал на мушкетон с толстым бронзовым стволом, закрепленный в стойке среди остального оружия Флинта. Она протянула ему мушкетон, но не сразу отдала. Сначала заглянула ему в глаза. Доктор Что? Спасибо. Коудрей вздохнул. Делаю, что могу, сударыня. А где ваши умные слова? Латынь Мадам, не гремя для латыни. Скажите что-нибудь На счастье. Ох, Бог ты мой Ну Forsan et hue с mcminisse hivabit. Что это вы сказали? Вергилий. Настанет время, когда эту ситуацию приятно будет вспомнить. Да, сказала она и поцеловала его в щеку. Это действие вызывало в груди мистера Коудрея разного рода эмоции; и не только в груди, но и в чреслах. Ведь хирург тоже человек, к тому же мужчина. Однако поскольку он определил себе роль отца-опекуна и храброго защитника, то решил не выходить из роли. Ремесло хирурга требует решительности и категоричности. Гм Бедняжка Он похлопал ее по руке повыше локтя.Я постою тут, пока все не уляжется, он мотнул головой вверх, откуда доносился шум, потом принесу вам поесть-попить, чтобы можно было пересидеть, не вылезая. А там, глядишь, и Флинт вернется. Он все быстро приведет в норму. А пока запритесь и сидите смирно. А где ключ? Бог мой, откуда мне знать? Ищите, ищите. Он захлопнул дверь и привалился к ней спиной. Поглядел на свое оружие, гадая, заряжено ли. Потом подумал, на что он годен. Боец из него никудышный, слушать его тоже никто не станет. Если они разъярятся, ему и секунды не продержаться. Ну, может он на них заорать, храбрость выказать мушкетоном пригрозить. Вдруг испугаются, а может быть, и нет. А не испугаются, так и его жизнь ее не спасет. И запертая дверь им не помеха. И тогда только Бог в состоянии помочь этой бедной негритянке. Сейчас все фактически зависело от пастора Смита, существа, по мнению мистера Коудрея, неопрятного и развратного, а для команды в высшей степени неавторитетного. Коудрей не мог понять, с чего это Флинту вздумалось доверять этакой жабе столь ответственный пост. Лучше бы своему попугаю поручил, больше б толку было.Глава 35
6 сентября 1752 года. Остров. Вечер
Вот она! сказал Флинт и опустился на колени, чтобы подобрать рубаху, которая шевелилась сама собою. Рубаха оказалась скатанной в рулон, рукава связаны узлом. Флинт поднял этот рулон, продолжающий дергаться. Что-то живое находилось там, внутри. Наш ужин! усмехнулся Флинт и отложил рубаху в тень. Иен Фрезер непонимающе заморгал. Он, конечно, заметил, что Флинт без рубахи. Под сюртуком у него сверкала голая грудь с того самого момента, как он отправился определять место для измерения пеленга. Команда захоронения возилась с маркером. Вернулся Флинт без рубахи. Фрезер сразу заметил, но промолчал. Другие тоже, ясное дело, не слепые. Но и они ничего не сказали С Флинтом лучше не высовываться. Не то бед не оберешься. Вот мы и пришли Пердун, сказал Флинт.Подъем на Подзорную Трубу до половины. Это местечко я отметил во время разведки.Флинт указал на солидного размера скалу, с дом величиной. Погруженная в землю скала торчала на фут плоской макушкой размером примерно десять на двадцать футов.Отлично подойдет, Пердун. Так точно, капитан, отозвался Йен Фрезер, настолько привыкший к своей гнусной кличке, что с готовностью на нее откликался. Во всяком случае, автоматически употреблявшие ее товарищи Йена давно уже толком не осознавали ее обидного смысла. Однако Флинт, как казалось Фрезеру, словно смаковал это словцо, как будто наслаждался им. Нравится тебе это место, Пердунчик? А вид-то какой отсюда! Фрезер огляделся. Воздух чист и ясен. Затхлые болота Южной бухты и прилегающие к ним тропические джунгли в четырех милях отсюда и на тысячу футов; ниже. Здесь открытая местность, куда более приятная: привыкшему к свободному круговому обзору мореходу. Цветущий ракитник, рощицы мускатного ореха и несколько оттеняющих все это могучих сосен. Флинт с наслаждением вдохнул чистый свежий воздух, потянулся, пощекотал маковку попугая и улыбнулся Пердуну Фрезеру единственному из всей группы, требующему особого внимания. Йен пристально смотрел на Флинта, но, встретившись с ним взглядом, опустил глаза. Да, Фрезер умнее их вместе взятых, давно бы уж в унтеры вышел, кабы не его неудержимая страсть к рому да легендарная вонючесть, определившая прозвище. Хватить сачковать, Пердунище! Наши ребята там, внизу, пашут, как невольники на плантации, а мы тут с тобой прохлаждаемся. Есть, капитан! Фрезер прищурился, пытаясь разглядеть группу из четырех человек, установивших в отдалении рею в качестве маркера. Развязав мешок, Фрезер извлек из него и разложил на скале компас, блокнот и остальное содержимое. Самым большим из выложенных предметов оказался компас в прочном деревянном корпусе, обычно используемый в баркасе Моржа и почти не уступающий размером главному судовому компасу, установленному в нактоузе. Так вот, Пердунок, изрек Флинт, постучав ногтем по компасу. Другие на нашем месте принялись бы складывать пирамиды из камушков, метки на деревьях вырезать, надеясь найти их в том же виде, когда вернутся. Мы не такие. Мы используем неподвижное и непотопляемое. Флинт топнул по могучей скале и опустился на колени, снимая пеленг на то место, в котором они зарыли золотые монеты. Но тут Флинт нахмурился. Он отложил карандаш и блокнот с записями. Вскочил. Сдвинул шляпу на затылок. Поскреб лоб, глядя на место захоронения золота, такое далекое, но ясно обозреваемое с их скалы. Потом поднес руку к глазам и вперил свой орлиный взор в Южную бухту, где замерли на якорях Морж и Лев. Положим, много-то отсюда не высмотришь, и Флинт тяжко вздохнул. Краешком глаза он заметил, что Фрезер уловил перемену настроения начальства и насторожился. Неплохо, неплохо. Пусть понаблюдает, понапрягает мозги. Флинт закусил губу и принялся нервно вышагивать по скале. Остановился, открыл рот, как будто собираясь что-то сказать Фрезеру, Мотнул головой, снова зашагал. Опять остановился, покосился на группу захоронения. Нет-нет, пробормотал Флинт, Только не они. Генри, Джеймс и Франки Нет. И не крошка Роб. Э-э силился что-нибудь сообразить Фрезер. Лондонский театр Друри-Лэйн потерял в лице Флинта выдающееся дарование. Вот и сейчас он произвел впечатление на публику. Лицедейство продолжалось. Флинт подскочил как ужаленный. Фрезер, друг Прости, парнище. Я просто Что, капитан? спросил обеспокоенный Фрезер. Да и как не взволноваться физиономия капитана посерела, а в глазах жемчужинами сверкали настоящие крупные слезы. Йен, не хотел я тебя волновать. Думал, дождусь, пока вернемся на судно, к товарищам. Он снова нахмурился. То есть к тем из них, кому можно доверять. Доверять, капитан? Кому? Заговор, Йен! трагическим полушепотом возвестил Флинт. Заговор? Да, да! Ты же не полагаешь, что бедняга Питер Эванс помер за здорово живешь Фрезер не сразу сообразил, что он в данный момент полагает, но послушно выдавил: Нет Нет, капитан. Собственно говоря, о смерти Эванса он как раз задумывался. И о подозрительных ночных звуках размышлял. И даже пришел к кое-каким заключениям. Я всегда видел, что ты парень сообразительный, Йен, поэтому и решил тебе довериться. Я сколачиваю новую команду, которой смогу доверять. Пусть эта команда будет даже намного меньше прежней. Ну? Фрезер мгновенно сообразил, что даже такую большую сумму, как восемьсот тысяч фунтов, лучше делить на меньшее число долей. Эта практическая мысль вымела из его сознания всякие подозрения относительно благородных намерений капитана. Никаких сомнений не осталось в голове Фрезера. Да, Йен Флинт вытащил из кармана бутылку, а из бутылки пробку. Глотнул Крякнул. Ноздри Фрезера зашевелились, губы пересохли. День казался все прекраснее. Держи, друг! Флинт протянул ему бутылку.Присядь со мной на эту добрую скалу, освежись благородным напитком, а я тебе все расскажу. И вот капитан Джо Флинт и Йен Фрезер по прозванию Пердун уселись на просторный камушек, провели полчаса за бутылкой, содержимое которой перекочевало в глотку Фрезера, и Флинт разъяснил другу Йену свои заботы, раскрыл коварные происки предателей. Суть монолога Флинта сводилась к следующему: все на борту Льва и большинство на Морже подлые твари, готовые всадить кортик в спину капитану и отобрать себе все паи честных мореходов, джентльменов удачи, береговых братьев. За эти подлые намерения их самих следует лишить паев И поделить добычу не на сто сорок семь частей, а на двадцать пять. Сияющий Йен Фрезер по прозвищу Пердун поднялся на нетвердые ноги и отошел к кустам облегчить мочевой пузырь. Голова и все тело приятно гудели, ром резво бежал по жилам Господь б-благословит тебя, капитан И покарает остальных-х заплетающимся языком произнес Фрезер под звонкое журчание янтарной струи. Спасибо, друг, прочувствованно отозвался Флинт и махнул рукой в сторонку.Раз уж ты поднялся, принеси-ка мою рубаху, мы зажарим этого кролика да поужинаем свежим мясом, Свежатинка, друг! Д-да, д-друг! с необычайной смелостью вдруг сорвалось с языка Фрезера. Он застегнул штаны и поковылял в указанном Флинтом направлении. Кролик? Странный какой-то кролик. А ты открой да глянь. Здесь кролики не такие, как у нас в Англии. Пьяный Фрезер никак не мог сладить с завязанными рукавами. Он подхватил кролика и понес к Флинту. Уронил, засмеялся. Флинта это тоже рассмешило. Рубаха дергалась, издавала странные звуки. Ч-ч-чего это? удивился Фрезер. Попугай Флинта отлетел в сторонку. Он видел, что хозяин затевает любимую игру, и не хотел в ней участвовать. Флинт даже не заметил его реакции. Фрезер тем более. Кролик, милый, кролик. Плюнь на узлы, возьми нож да и взрежь рубаху. Как, капитан! Рубаха ведь Плюнь на рубаху. У нас скоро пол-Англии будет, что нам рубаха! И то верно! Фрезер подивился собственной глупости, вытащил из-за пояса здоровенный нож, отличный нож, отточенный, с острым кончиком. Но хозяин ножа оказался в таком подпитии, что не смог даже рубаху вспороть толком. Хлопая глазами, Фрезер уставился в кривую дыру. Во кроль-то странный какой-то Сунь руку в дыру, вытащи его, посоветовал Флинт. Д-дак, точно, сказал Фрезер, засунул руку в рубаху и почти сразу же закричал: А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!!!; Черт дери меня заживо! отозвался Флинт.Знаешь, Пердун, а ведь это и впрямь, пожалуй, не кролик. А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!!! Я, кажется, даже могу предположить, кто там, в рубахе. А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!!!: Это, пожалуй, змея. А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!!! Гремучая. Но Йен Фрезер Флинта не слушал. Он беспорядочно носился туда-сюда, в соответствии с прозвищем производя задним проходом всевозможные созвучия, а на правой руке его повисла, крепко сжав челюсти, змея пяти с половиной футов. Она издавала хвостом характерный звук, по которому, аналогично Фрезеру, и получила свое прозвище. Может, ты бы голову ей отхватил ножом, предложил Флинт, когда Фрезер пробежал мимо него в южном направлении. Флинт даже подхватил нож и протянул его Фрезеру рукоятью вперед, чтобы тот сумел схватить оружие, пробегая обратно. Фрезер послушно вцепился в нож, но ловкости не хватало, левой рукой он владел не слишком умело. Зато разозлил он змею порезами и уколами до белого каления. Ядовитые зубы ушли в руку Фрезера до предела. Наконец, Фрезер выдохся и, всхлипывая, рухнул на камень. Змея по-прежнему висела на его руке. Помоги! взмолился он.Помоги, капитан! Даже и не знаю, чем тебе помочь, друг. Змея, как мне кажется, сама отвалится, когда ей надоест. Змея, в конце концов, так и поступила. Но к тому времени Фрезер уже хрипел, лежа на спине с закрытыми глазами; рука его посинела и вспухла. Змея хотела было убраться восвояси, но Флинт присел над нею и принялся забавляться. Он подсовывал ей одну руку, а когда она пыталась его цапнуть, молниеносно хватал другой рукой сзади чуть пониже головы. Змея быстрое животное, но Джо Флинт еще быстрее, К тому же змея не была сумасшедшей, она не смеялась.. Попугай тоже не хохотал. Он наблюдал заФлинтом, который, насладившись, бросил змею на скалу и расплющил ее дурную голову сапогом. После этого Флинт решил позаботиться и о Фрезере. Он подобрал нож Пердуна Попугай квакнул, закачался на ветке и, наконец, издал глубокий протяжный стон, столь же жалкий и печальный, сколь и стон любого человеческого существа.Глава 36
5 сентября 1752 года. Борт Льва. Южная якорная стоянки. Первая вахта (около 10 вечера берегового времени)
Пистолеты; мистер Хендс, сказал Сильвер.Можно сказать, залп. Выстрелили вместе, как будто по команде. Да, капитан отозвался Хендс. Да, капитан, повторил Сарни Сойер, боцман. Прикажешь шлюпку спустить? Надо же разобраться. Нельзя, сказал Сильвер. Ты же клялся. Все вы клялись. Кгм поперхнулся Сойер. Как же, продолжал Сильвер,Морж и Лев друг друга стерегут. Кто лодку спустит, начинает войну. Я не рвусь начать войну на ночь глядя. Капитан, морща лоб, вкрадчиво завел Израэль Хендс. Я вот не понимаю Пистолеты. Дюжина разом. Это как же? Что, напали на них? высказал он то, о чем думали и другие.Напали и одолели? Эта мысль ужасала безмерно, ибо означала потерю сокровищ, доставшихся какой-то неведомой силе. Нет! Сильвер захлопнул большую телескопическую подзорную трубу, с помощью которой пытался одолеть тьму. На палубе все привалили к береговому борту, кто-то вскарабкался на ванты, пытаясь разглядеть, что там, у костра, происходит. Огонь полыхал по-прежнему. Однако более ничего не было видно. И не слышно ничего, кроме бесконечного шума прибоя. Почему нет, капитан спросил Израэль Хендс.Прошу прощения. Да, да, почему Слушайте меня, ребята Сильвер перевел дыхание. Много он хотел им сказать, во многом желал убедить Выстрелы как будто прочистили сознание Сильвера, придали ясность мыслям. Теперь он понял, что происходило. В нем еще сохранялись следы прежнего уважения к Флинту, призрак прежней дружбы, не позволявший сделать решающего шага и увидеть истину. Поэтому следовало сообщить свои соображения этим людям, и пусть они сами придут к нужным заключениям. Мы, ребята, в дерьме по уши, без всякого сомнения, верьте мне. Но все добро сейчас на берегу, и как раз там, где Флинт его зарыл. Никто до них не добрался. Раздался гул облегчения. Это уже лучше! И я вам сейчас что-то скажу. Молчать и слушать, на палубе! Все обратились в слух. Семьдесят один мужчина и трое юнг. Но в ночи не к чему было прислушиваться. Море спало, остров стих. Ну, водица похлюпывала у борта, да от Моржа изредка доносилось какое-то бряканье. А так только прибой беспокоился. Слышите? Все тихо. Даже если бы Морж нарушил клятву и спустил шлюпку, как бы они умудрились это сделать незаметно от нас? Да этих раздолбаев в Портсмуте было бы слышно с их гуканьем да гиканьем. Команда встретила это соображение капитана одобрительным гулом. Иные у нас верят, что кто-то высадился на остров и напал на наших. Но я вас спрошу, всех и каждого, кто из вас слышал о бое без клацанья, грохота, воя да воплей, кто? Снова одобрительная реакция команды. Они толкали друг друга, кивали, ухмылялись. Сильвер с его сомнительным ораторским даром внушал им уверенность в себе, освобождал от страхов и сомнений, а заодно утверждал свои позиции их естественного вожака. Нет, ребята, никто на них не нападал. И они друг с другом не дрались.Он ткнул большим пальцем в костер на берегу.Залп был, а не перестрелка. Когда дерутся, стреляют друг в друга, прицелившись, приложившись, но не по команде же! Опять же прав был Сильвер. И скажу я вам то же, что и раньше говорил. Это Флинт выкинул очередной финт. Не знаю, что он задумал. Сильвер выдержал паузу.Но скажу вам, зачем. Эффект это произвело сильный. Все разинули рты, глаза чуть не на лоб повыскакивали. Наступил момент истины. А вы еще не поняли, зачем? Да затем, чтобы все добро досталось ему одному, Флинту. Темная людская масса издала глубокий стон. Они последовали за Сильвером по своему выбору, но они верили и Флинту. Всех их очаровал Флинт. Да и Сильвера тоже, кто перед ним устоит! Из ста сорока семи человек никто не проголосовал против захоронения сокровищ, никто, кроме Долговязого Джона Сильвера. Команду охватил стыд за собственную глупость. И жалость к себе, обманутым и обокраденным. Не один Билли Бонс восхищался Флинтом. Теперь же восхищение во мгновение ока обернулось ненавистью к этому же человеку. Так-то, ребята, подумал заметивший эту перемену Сильвер.Что поделаешь, мерзавцем оказался ваш разлюбезный. Он чувствовал, что в руках его снова сосредоточивается власть над этими людьми. Что ж, ребята, нам еще многое предстоит сделать, если хотим розы нюхать, а не дерьмо.Сильвер повернулся к Израэлю Хендсу. Мистер пушкарь! Да, капитан. Испанская девятка, значит, в трюме Лучшая пушка на судне. В трюме, капитан. Смазана и спеленута. Все принадлежности в порядке? В лучшем виде, все там же, с нею, капитан. Сколько надо народу, чтобы поднять и собрать? Гм Девять фунтов, двадцать шесть центнеров все-таки.. Народу сколько надо? Хендс покряхтел, попыхтел.. Лучше две дюжины, капитан, тогда можно будет все сладить быстро и без шума Прошу прощения, ведь, должно быть, без шума надо? Точно, мистер Хендс. Значит, две дюжины народу, капитан, тройной блок на грот-штаге*["896] для подъема да плотницкую команду, порт переделать. Израэль Хендс ткнул в ближайшую четырехфунтовку.Эта-то мышьи норки низковаты да узковаты будут. Отлично, мистер Хендс. Сильвер оглядел команду, не понимающую, к чему клонятся все эти военные приготовления. Долговязый Джон понимал, что следующие слова ему придется подбирать с великим тщанием. Он помолчал, подумал и указал во тьму. Ребята, там, рядом, стоит Морж, на котором мало у кого из нас нет старых приятелей. Опять все с ним согласились, ибо так оно и есть. Но случается, что надо видеть мир таким, каков он есть, а не таким, каким бы хотелось его видеть. Вот сейчас как раз такое время. Никто не возражал. А правда в том, ребята, что Морж у Флинта в кулаке. И вся его команда тоже. Сильвер выдержал паузу, ибо следующий шаг был нелегок. Если Флинт хочет загрести все под себя а я знаю, что он этого хочет Гул прошел по палубе. то ему нужны судно и команда, чтобы все вывезти. И он наврет своим на Морже, что хорошо бы разделить добычу без этих, на Льве, чтобы убедить их. Суки! Ублюдки! Воровские морды! Ишь, разошлись, верные друзья уже забыли, как только что хотели мне черную метку всучить, думал Сильвер, глядя на разошедшийся экипаж. Тихо, тихо! прикрикнул Сильвер,Не нужно шума, вас за сотню миль слыхать. Все чинно, спокойно, без паники. Есть! Мистер боцман! обратился Сильвер к Сарни Сойеру. Здесь, капитан! Подпружинь трос и выведи пружину на кабестан, чтобы можно было развернуться пушками, куда понадобится. Только тихо, без шума. Есть, капитан! За работу, ребятушки! заключил Сильвер свое выступление.И еще раз повторяю: тихо, без гиканья. Капитан, обратился к нему Хендс, когда народ разошелся по своим делам. Что, мистер пушкарь? Неужто придется драться с Моржом? Надеюсь, что нет, но лучше быть наготове. Есть, капитан! Израэль Хендс сохранял серьезный вид, но сердце его прыгало от радости. Он снова стал мистером пушкарем, что означает он больше не мистер помощник и вахту стоять ему не надо. А хлопот у него теперь хватит. Его красавица сейчас покинет трюм. Он понимал, что ошибся, намереваясь установить ее на Льве курсовой пушкой. Некуда ее воткнуть на носу. Такая ошибка для мастера-пушкаря непростительна. К счастью, никто на нее не обратил внимания, на эту ошибку. И пушка займет достойное место. Слава мудрому пушкарю Израэлю Хендсу! Конечно, без длинной испанской пушки у Льва не было ни малейшего шанса победить Моржа. С восемью-то четырехфунтовками против четырнадцати шестифунтовых! Морж может просто оставаться вне дальности выстрела четырехфунтовок и раздолбать Льва в труху. А попробуй-ка с девятифунтовой, сунься! Насквозь прошибет! Израэль Хендс, улыбаясь, как счастливое дитя, направился наблюдать за работами по подъему пушки. В отличие от большинства других членов экипажа он всем сердцем надеялся, что пушке его предстоит работа.Глава 37
6 сентября 1752 года. Южная якорная стоянка. Борт Моржа. Четыре склянки предполуденной вахты (около десяти утра берегового времени)
Мистер Смит, исполняющий обязанности первого помощника, и без того прел в своем синем сукне, а тут пот бежал по телу потоками. Смита заела ревность, когда этот Коудрей уволок Селену под палубу, как волк ягненка, а она за ним чуть не вприпрыжку побежала. Его жгла злость на палубную шваль, нагло скалившую зубы. И это ему, стоявшему на квартердеке у компаса и руля, можно сказать, как жрец в храме у алтаря, воплощение власти на судне! Мистер Смит огляделся, ища поддержки. Нет, он ее не нашел. Он насупился. На судне имелись младшие офицеры, которым положено его поддерживать. Квартирмейстер, оружейник, боцман прежде всего, Аллардайс. Но они наплевали на свой долг. Скалят зубы так же, как и команда, да еще называют его пастором. Им срочно понадобилась черная девчонка, и горе тому, кто заступит им путь! Кошмар! Возмутительно! Нестерпимо! Главное же смертельно опасно. А этого пастор Смит почему-то не сообразил. Слишком надеялся он на свой авторитет и не думал о том, что станет с ним, если дотянутся до него руки палубной команды. С чего бы ему бояться этой своры дебилов, если на него распространяется покровительство капитана Флинта? Он избран капитаном, выделен из общей массы Флинт встретил его милейшей улыбкой. Приятно побеседовать с ученым мужем, заворковал капитан, подхватив Смита под ручку и увлекая по палубе у всех на виду. Вы, милейший, как бы наш казначей? осведомился Флинт. Да, сэр! Так точно, сэр! поправил капитан с мягкой улыбкой./. Так точно, сэр! повторил Смит. Казначей Отлично, но мне понадобится навигатор, штурман. На замену мистеру Боксу, сэр? Совершенно верно, мистер Смит. Юин почуял выгоду ситуации. Какие у вас отношения с Пифагором, мистер Смит? Прекрасные, сэр! А с Эвклидом? Отличные, сэр! И с Ньютоном, знаете ли Производные, там то-се Я сразу понял, что вы математический гений, мистер Смит. О, сэр И вот мистер Смит получил синий сюртук и большую шляпу с полями, а также опустевшую каюту мистера Бонса. Он пользовался запасным квадрантом капитана Флинта, лично его обучавшего, и уже в нескольких сотнях миль от флинтова острова смог уверенно выйти на курс, основываясь на собственных вычислениях. Отлично, мистер помощник, похвалил Флинт, когда Смит показал ему позицию судна на карте за несколько дней до подхода к острову.Что ж, солнце над ноками рей, народ ужинать собирается. Прошу вас, мистер помощник, присоединиться ко мне, разделить стаканчик-другой в моей каюте. С удовольствием, капитан! Пыхтя от гордости, Смит шествовал за Флинтом. Юнги несли за ними инструменты, и вся команда видела, как он, Смит, следует к капитану в гости, запросто, на стопочку-другую. Ваше здоровье, сэр! У вас задатки отличного штурмана, нахваливал его Флинт. Ваше здоровье, капитан! ответил Смит, краснея от похвал. А Флинт все улыбался, улыбался, улыбался. Значит, вы могли бы найти мой остров? спросил Флинт. Могли бы выйти из Бристоля и дойти до него? Было бы судно, да команда, да карты, сэр, с достоинством кивнул Смит.Смогу, сэр. Полагаю, что смогу. Он не без оснований гордился своими талантами и этого не скрывал. Что ж, тогда ваше будущее обеспечено, мистер Смит, сказал Флинт, показав волчий оскал. И действительно, будущее Смита Флинт уже определил. Как и любой здравомыслящий мореход, Флинт понимал необходимость в запасном навигаторе. К несчастью, Билли Бонс был занят в другом месте. А без Билли? Что, если Флинт вдруг заболеет? Что, если некому будет держать судно на курсе? Что станется тогда с бедным Джо Флинтом? Посему следует потратить время и выучить мистера Смита. Но как только на горизонте покажется берег Англии, будущее этого джентльмена тут же и решится без всяких вариантов. Однако пока до этого далеко. На повестке дня еще один вопрос. Мистер Смит, задушевным тоном завел Флинт еще через несколько стаканчиков. Мистер Смит Или, может быть, я могу взять на себя смелость назвать вас именем, данным при крещении? Юин, так? А я для вас Джозеф. О, сэр! задохнулся безмерно польщенный Юин. Он облизал губы мокрым языком и уставился сквозь маленькие круглые очки такими кроваво-туманными глазами, что Флинт снова едва удерживался от хохота. Лишь неимоверным усилием Флинт смог сохранить серьезность. Юин Я хочу обратиться к вам за советом По весьма личному вопросу. Настолько интимному, что даже не знаю, как начать. О ДжозефСмит вытащил платок и протер потное лицо. Любопытством он не был обделен, сызмальства стремился сунуть нос в дела ближнего своего, даже если не имел возможности на дела эти повлиять либо извлечь из чужих обстоятельств какую-либо выгоду для себя. Эта моя негритянка Что с ней? Флинт покачал головой, попыхтел, повздыхал, поднял и поставил на место стакан, потупил взор, изучая полировку столешницы Что, что? сверлил Смит капитана, а под столом буравил штанину напрягшийся при упоминании о лакомом кусочке женского тела похотливый отрог организма пастора. Видишь ли, Юин, преодолел наконец свою скромную натуру Флинт, у нее такие аппетиты нет-нет, ничего особенного, во всяком случае для ее народа, но она требует от меня и и И что? Ну, никаких сил не хватает, вздохнул Флинт, осмелился жалостливо глянуть в выпученные глаза собеседника и снова едва не потерял над собой контроль. Пришлось ему наказать себя под столом, вонзить ноготь большого пальца левой руки в указательный палец правой, чтобы не прыснуть невинным детским смехом. Видишь ли, дорогой мой Юин, я нахожу, что разнообразие, частота и э-э экзотичность желаний этой дамы превосходит возможности одного мужчины, по крайней мере, одного белого мужчины. Посему Юин, я попросил бы вас Как единственного на борту джентльмена, вы же понимаете человека образованного Да, да, да! задышал Смит, казалось, близкий к семяизвержению в мозг. О, дорогой друг Бы меня спасаете, нежно улыбнулся Флинт. Когда? Сию минуту спасу! Гм Еще стаканчик, мистер помощник? Да, Джозеф! Флинт хихикнул, затем отечески покачал головой. Пусть лучше пока я буду капитан, до поры до времени. Так точно, капитан! Ах, мистер Смит Если б вам были ведомы все тяготы вождя ??? И горечь предательства, мистер Смит Предательства? Мозг Смита, затуманенный алкоголем, искал смысл в новом повороте разговора. Нас предали все на Льве и большинство команды Моржа. Не может быть! Еще как может. Захоронение сокровищ это уловка, чтобы их спасти. Спасти для кого? Уж дура ком-то Смита никак не назовешь. Для тебя, дорогой. Для меня. И еще для нескольких верных товарищей, которым можно доверять. Нескольких? Чтобы до Англии добраться, хватит. Скажем, дюжина. Дюжина? Точно. Восемьсот тысяч разделить на восемнадцать. Восемнадцать? Двенадцать, да мы с тобой. Но это ведь четырнадцать? У нас, дорогой мистер Смит, тройные доли. Господь спаси нас и помилуй! И как только разделаемся с предателями, дорогой друг, я вручу тебе ключ от салона и эту черную задницу и сниму с себя обузу. О-О-О-О-О простонал Смит. До этого, однако, надлежит выполнить некоторые необходимые действия. Ты, дорогой первый помощник, должен быть моими глазами и ушами на Морже, потому что мне предстоят дела на берегу. Ты должен сохранить для меня судно, спасти от Джона Сильвера и от предателей на Морже, А потому слушай меня внимательноГлава 38
7 сентября 1752 года. Остров. Холм Подзорная Труба. Ближе к вечеру
Фрэнки Скиллет полз очень, очень тихо, по-крабьи, как и положено опытному скауту. Левой рукой он ощупывал дорогу, нож свободно, но прочно держал правой рукой, готовой к действию. Фрэнки предпочитал нож за тишину. Не любил он шума. Поэтому снял с себя перевязь с серебряной пряжкой и саблей. Сбросил и пояс с пистолетами, жилет с карманами для патронов и кремней. Даже прекрасные кожаные сапоги стянул с ног. И красный шелковый платок с головы. это, конечно, не из-за шума, а чтобы не привлекать внимания ярким цветовым пятном. Остались на Фрэнки одни лишь свободные хлопчатобумажные штаны, завязанные на поясе. Он аккуратно сложил одежду и снаряжение в месте, стеречь которое им поручил Флинт, и бесшумно пополз вперед, босой, по пояс голый, с обнаженной головой, лишенной волос. Волосы Фрэнки сбривал, чтобы голова не перегревалась. Где ты, Джимми, малыш? думал Фрэнки.Иди к своему другу Фрэнки. Иди ко мне и получи, что тебе причитается. Мягко, бесшумно спускался Фрэнки Скиллет с вершины холма Подзорная Труба. Он настолько захвачен был возложенной на него миссией, что не замечал красот природы, потрясающего вида, открывающегося со склонов, не обращал внимания на свежесть чистого воздуха и величественное благородство рельефа. Фрэнки сконцентрировался на кустах, в которые удалился Камерон, дабы опорожнить кишечник. Ы-ых! донеслось из кустов родовспомогательное пыхтенье Камерона. А-а-а, вот ты где, сообразил Фрэнки Скиллет.Рожай, рожай, милый. Пыжься, тужься. А я тебе помогу. Он ускорил темп продвижения, обогнул закрывавший его куст, пополз по открытой местности, осторожно отодвигая в сторону сухие сучки. Хорошо полз Фрэнки Скиллет, особенно для моряка. Индеец-гурон или браконьер, конечно, услышали бы его перемещение, но Джимми Камерон Где ему! Особенно со спущенными штанами и звенящей от напряжения прямой кишкой. Ыкх У-ых-х-х старался Камерон. Усилия его, наконец, принесли желанный результат, и он издал облегченное:О-о-о-о Ф-фу! Скиллет едва сдержал недовольный возглас. Вонь камероновых выделений ударила ему в ноздри, ибо очень, очень близко подобрался Фрэнки Скиллет к другу Камерону. Вскочить, проткнуть и готово! Но пока неудобное для ножа положение. Камерон надрал пучок травы и сосредоточенно вытирал им задницу. Вот он закончил, встал, натянул штаны. Скиллет гукнул и прыгнул Отлично прыгнул, да зря зашумел. Камерон, правда, и без того обернулся, дабы бросить гордый взгляд на плоды усилий своих, как сделал бы на его месте любой муж, праведный или неправедный. Правое плечо Камерона ушло вперед, благодаря чему от ножа улизнула спина, и это несколько подпортило ситуацию. Лезвие царапнуло позвоночник, прорезало мышцу, но лишь задело пульсирующие магистрали, по которым кровь стремится к почкам любимую цель благородных убийц, нападающих сзади. С-сука! крикнул Камерон, сцепившись со Скиллетом. Оба рухнули в едином движении, продолжая траекторию атакующего Скиллета, и принялись кататься по земле, совершенно изничтожив аккуратную пирамиду, выложенную Камероном. Большая часть составляющего ее вещества оказалась на противниках. Они подкатились к кустам, смяли их и очутились на открытом пространстве, среди песка и камней. Тут Джимми Камерон приложил все усилия к тому, чтобы дотянуться левой рукой до голенища правого сапога, где хранил нож, ничуть не уступавший лезвию Скиллета. Правой рукой Джимми сжимал горло подлого противника. Скиллет, в свою очередь, извивался и отбивался, всеми силами пытаясь освободиться. Но Камерон был сильнее, так что не вырвешься верный конец. Скиллет уже задыхался, однако умудрился выдернуть шею из объятий слабевшего Камерона. Рванувшись к Камерону, он клацнул зубами и отхватил кончик камеронова носа. Камерон завопил, гниль его дыхания окатила физиономию Скиллета. Тот выплюнул откушенный кончик носа и всадил колено в пах Камерона Свобода! Скиллет вскочил на ноги, задыхаясь, дрожа всем телом от возбуждения и пережитого ужаса. Камерон поднялся сначала на руки и колени, потом с трудом встал. Глянь, что наделал, сука, хрипел Камерон, нащупав рукоять торчащего из его спины ножа. Из глаз его текли слезы, смешиваясь с соплями и кровью из носа. Только глянь Так тебе и надо, дубина! Тебе и всем си льверовым подонкам. Смотри! Камерон вытянул вперед руку, испачканную кровью. Я ведь кровью истеку. Твоя работа, сука Отличная работа! крикнул Скиллет. Камерон рухнул на колени, чуть не ткнулся лицом в землю, но смог удержаться, выставив вперед руки. Он поднял голову и уставился на Скилетта. Скотина! Скиллет засмеялся, успокаиваясь. Он видел, что Камерону конец, поэтому храбрел на глазах. Что, спекся, скотина? усмехнулся Скиллет.А я-то боялся, что промазал Он шагнул ближе, вплотную, и ударил босой ногой по физиономии поверженного врага Получай, придурок! Гордо выпрямившись, Скиллет обозрел скрючившуюся у его ног фигуру.Отпрыгался Камерон потянулся к ноге Скиллета, как будто пытаясь ее схватить. Скиллет засмеялся и отскочил. Камерон снова выкинул вперед руку. Скиллет засмеялся громче. Камерон опять Черт! Не к ноге он тянулся. Чтоб тебя!.. крикнул Скиллет. Он не заметил, что меж двумя камнями дожидался своего хода пистолет. Подарочек тебе, друг, просипел Камерон, взводя курок. Он поднял оружие, но рука не слушалась, не могла осилить веса вовсе не тяжелого пистолета, ствол дрожал, клонясь к земле. Скиллет отпрыгнул, раскинув руки для удержания равновесия, вправо, влево, ухмыльнулся. Давай, давай! подбодрил он полумертвого врага.Тебе и в грот-то не попасть. Ох, браток простонал Камерон, опуская руку.Плох я. Ничего, Джимми, потерпи. Скоро хуже станет. Помоги, друг. Кончаюсь я. Так тебе и надо! Света не вижу, Фрэнки. Подойди ко мне. Фрэнки подошел. Простоват был Фрэнки Скиллет, Попался на удочку. Не совсем еще ослаб Джимми Камерон, да и свет он пока что видел. Следующим высказался пистолет. БАНГ! сказал он очень громко, проворно вздернутый Джимми Камероном, всего в трех футах от скиллетова пуза. Ха! выдохнул Камерон. Тебе теперь, небось, не лучше? Скиллет не упал, но выстрел отбросил его на два шага. В ушах звенело, штаны тлели, ниже пупка чернела обуглившаяся дырка. Он сунул туда палец, взвыл в тоскливом ужасе, упал на спину, уселся, снова взвыл, заплакал, застонал, призывая мать, продавшую его, пятилетнего, пятнадцать годков назад щетинщику на Пудинг-лэйн. Деньги нужны были ей на выпивку. Камерон устало ухмыльнулся и откинул пустой пистолет. Он глянул на товарища по команде, подумал, что не мешало бы докончить Видит око, да зуб неймет. Не дотянуться. Скиллет сидел в двадцати футах, нянчась со свежей раной. Теперь готов и ты, придурок. Хана тебе. И тебе тоже. Ублюдок. От такого слышу. Прошло некоторое время, гнев их утих, уступил место жалости к себе. Глоток водицы бы протянул Камерон. И мне бы Наверху фляга Я б сходил всхлипнул Скиллет. Я тоже. Солнце опускалось, близилась ночь. Камерон заговорил снова. Слышь, Фрэнки Зачем ты это, а? Что? Ножом Кэп велел. За что? Ты человек Сильвера Ну и что? Вы, суки, хотели все добро прибрать и оставить нас на Морже с носом. Чушь собачья! Никто на Льве об этаком не помышлял. Кто сказал? Я говорю. И любой скажет. И Долговязый Джон тоже. Хм А кэп Сука твой кэп! Я тебе скажу, кто вчера орал. Ну? Фрезер орал. Когда мы ставили рею. Фрезер. Брось Фрезер! Этот сука Флинт его прикончил. Ну?.. А кто еще? Не мы же. Ну, эти там из лесу. Бред собачий. Знаешь, что Фрезер мне сказал? Ну? Он сказал, что этот шум Это Флинта фокусы. Это он выделывался ночью. Снова смолкли. Вспоминали, что они слышали о Флинте. Хорошего-то ничего, собственно, и не слышали. Сознание туманилось, они слабели, стонали, раны ныли, жгли, и наступление темноты почему-то убеждало, что никаких таинственных ночных существ в лесах и в помине не было. Фрэнки Ну Чего это мы тут охраняли? А я знаю? Флинт сказал стеречь холм. А что, если он вернется? Дьявол! Что, если он хочет загрести все добро? Черт! Чтоб меня Надо валить отсюда, парень. Он нас мигом прикончит, коль не уберемся. Камерон и Скиллет начали спуск с холма Подзорная Труба. Ползком, конечно, как же еще. Зубами скрипели от боли, помогали друг другу, как и положено братьям по доброму ремеслу, подбадривали, не давали обессилеть. Они даже попытались что-то сделать друг для друга. Скиллет вытащил нож из спины Камерона, а Камерон отрезал этим ножом штанину от брюк Скиллета, чтобы завязать дырку от пули. Однако вытащенный нож лишь усилил кровотечение, а повязка со скиллетова брюха быстро сползла и потерялась от трения о землю. Но все же спуск часто легче подъема, да еще и по козьей тропе, так что они покрыли добрую сотню ярдов до полной темноты и услышали, наконец, в отдалении бодрый голос приближающегося к ним человека, распевающего знакомую песню в такт уверенным шагамГлава 39
6 сентября 1752 года. Южная якорная стоянка. Борт Льва. Две склянки предполуденной вахты (около девяти часов берегового времени)
Испанская пушка Израэля Хендса изготовилась к действию. Осталось только зарядить да запалить. Отличная работа, мистер пушкарь, похвалил Сильвер.Отличная работа, мистер боцман. Рад стараться, капитан! ответил каждый из них. Сильвер удовлетворенно кивнул и оглядел палубу Льва, на всем пространстве которой, девяносто футов на двадцать, кипела бурная деятельность, лишенная всякого смысла. Концы сращивались и разъединялись, комингсы люков отдирали ломами с жутким скрипом и приколачивали обратно со страшным грохотом тяжелыми молотками. Плотницкая команда распиливала старые деревяги на дюймовые кубики, сея по ветру опилки. Спускали и поднимали топсели. На корме тренировалось отделение мушкетеров. Они изображали приемы заряжания, целились в воздух и воодушевленно орали: Ба-бах! Не было на свете более занятой команды по эту сторону ворот Бедлама. Все путем, разрази меня гром, проворчал Сильвер,Пусть хоть сам царь Соломон попытается найти иголку смысла в этом стоге сена. Хоть он там и отличил цветы настоящие от искусственных при помощи пчел. Сильвер прогрохотал со своим костылем к борту, вытащил подзорную трубу и уставился в сторону Моржа. Этим обалдуям, должно быть, наш цирк уже приелся, сказал боцман, одарив Израэля Хендса ободряющим толчком под ребра. Хендс ухмыльнулся и ответил тем же. Должно быть, так, мистер Сойер, подтвердил Сильвер.Вряд ли кто сюда и смотрит.Он еще раз обозрел бесполезную активность своей команды.А теперь, ребята, принимайтесь за настоящую работу, которая не показухи ради и о которой на Морже знать ни к чему. Сильвер всегда склонен был командовать, поручая работу и не мешая ее выполнять. Он научился этому, наблюдая, как руководят людьми Ингленд и Мейсон, но, главным образом, и сам чуял нутром, что такой стиль дает хорошие результаты. Человеку лучше работается без надсмотрщиков. Надо только правильно людей подбирать. Сильвер знал, что Сарни Сойер добрый боцман, а Израэль Хендс добрый пушкарь. А что до небольшой ошибки Израэля Хендса с испанской пушкой, ошибки, о которой он не любит вспоминать Что ж, эта ошибка могла бы и судно спасти Коли бы до драки дошло. Джон Сильвер думал и об этом. Он вообще много о чем размышлял. А сейчас хотел проверить, все ли толком сделано. Мистер боцман, идите первым. Есть, капитан. Следуя за Сойером, Джон Сильвер и Израэль Хендс прошли по палубе, забитой работающими матросами. Люди приветствовали капитана и уступали дорогу весело и дружелюбно обстоятельство для капитана весьма приятное, особенно если знаешь, что бок о бок с этими людьми придется драться с более сильным судном. Сойер провел их на нос, где через клюзы проходили два якорных троса прочные трехпрядные пеньковые тросы, каждый в своем направлении, один в левый борт, другой в правый. Каждый шестидесяти сажен длиной и тянется к кольцу якоря, лежащего на дне. Вместе тросы дают Льву устойчивость к действию приливов и отливов, весьма сильных в Южной бухте. С одним якорем судно болталось бы маятником, скреблось бы тросом по дну и протирало бы его с каждым приливом и отливом. Вот, капитан, показал Сойер на канаты.Мы завели один через передний пушечный порт левого борта и на кабестан.Он показал на приземистый деревянный барабан,И так же точно по правому борту. И теперь, как бы ветер и прилив ни крутили, мы всегда можем повернуть посудину туда, откуда грозит опасность. Отлично, мистер боцман Задача была не из сложных, но Сойер в боцманах не так давно, и ему нужно знать, что капитан проверит и поддержит.А пастор Смит последовал нашему примеру? Куда там, капитан! Сойер покосился на Моржа. Как я видел в трубу, старый пастор все больше глоткой работает, орет на команду. Да эта крыса сухопутная свою задницу в зеркале не отыщет. И то верно, согласился Сильвер.А теперь, мистер Хендс, посмотрим, как наша испанская синьора поживает. И почему ее квартира здесь.Сильвер показал на второй пушечный порт в правом борту, в середине палубы, где испанская пушка выделялась среди остальных пушек, как мастифф среди спаниелей. По крайней мере, выделялась бы, если бы ее не затянули брезентом подальше от чужих глаз. Есть, капитан! сказал Израэль Хендс и начал разъяснения: В открытом море, с Флинтом на борту, Морж зашел бы с носа, а то и с кормы скорей всего, с кормы. Точно! кивнул Сильвер. Корма слабое место любого судна. Там сплошь стекло вместо дуба.Значит, следовало поставить испанку на корму? Не-е, капитан, потому что тогда был бы один мой выстрел на их семь, мои десять фунтов против их сорока двух. Нет!.. Прошу прощения, но стряхнуть Морж с кормы твоя забота, капитан. Лев наш зверь быстрый, куда прытче Моржа, но зад нам подставлять никак нельзя. Точно, мистер Хендс, твоя правда почему тогда не поставить пушку на носу, там-то дерева хватает, и нос бы я на него навел запросто. Израэль Хендс моргнул, вздохнул и закусил губу Нет, капитан. Никак нельзя. Места на носу нету никакого, и это верно, как в Библии. Точно, мистер Хендс, нет там, на носу, места, И забудем о носе. А вот почему она здесь стоит, на бимсе? Израэль Хендс заулыбался. Перво-наперво, капитан, мы не в море. И Флинта на судне нету, и никакого маневра здесь даже и Флинт бы не умудрил, в бухте-то. Так что может случиться дальний огонь, стволы задравши, или ближний по абордажным лодкам. И четырехфунтовки насеют им шрапнели да картечи, а длинная пушка корпус проткнет. Точно! грохнул хор голосов. Команда внимательно слушала разъяснения Израэля Хендса. Работа или нет, береговые братья не матросы короля Георга, и каждый из них свободная личность, которой интересно то, что означает его жизнь или смерть Отлично, мистер Хендс. И заряд ты, конечно, выбрал. Точно, капитан. Вот, здесь.Он показал на вынесенный из трюма ящик, стоявший рядом с испанской пушкой.Доны-то не такие лопухи в литейном деле, как у нас в Англии любят о них приврать. Я просмотрел весь их запас и отбраковал никак не больше, чем каждое пятое. Кругленькие, как попка младенца, гладкие, как титька молочницы.Он глянул в сторону Моржа.И скажу я, не сходя с места, что, коль дойдет до того, здесь, на якоре, без всякого рысканья и с доброй командой засажу я ему по самое то, и может он свои шестифунтовки сунуть себе в задницу! Ур-р-ра-а-а! заорала команда, и нашлось много желающих похлопать Израэля Хендса по плечу. Сильвер выждал, пока все успокоятся. Отлично, мистер Хендс. Отлично, мистер Сойер. Сильвер замолчал, оглядел команду, заговорил снова. Бот еще что, ребята. Есть среди вас кто-нибудь, кто сомневается, что Флинт нас всех надул? НЕ-Е-ЕТ! Ну, а эти, там, Сильвер махнул рукой в сторону Моржа. Они ведь не все подонки Флинта подноготные. И не все дураки. Иные и задумывались. Флинт уж четыре дня на берегу. Четыре дня ушло у него на работу, для которой и двух много. И те, на Морже, слышали ту же пальбу, что и мы, и те же вопли слышали, и все, что у них теперь есть, это пастор Смит. Матросы посмеялись, почесали затылки. Капитан, сказал Израэль Хендс.Ты к чему клонишь Да что нам о них думать? Мы можем их в труху разнести. Можем потопить. Чего нам об них голову ломать-то? Сильвер помотал головой. Слушайте, ребята. Мы когда-то были с ними товарищами, один за всех. Дрались вместе, выпивали вместе. Долговязый Джон! взмолился Хендс, сразу понявший, чего добивается Сильвер.Не надо Перед тем, как дойдет до драки, надо дать им шанс, продолжал Сильвер.Мы подписали Артикулы. Мы все их подписали, мы и они. И не голосовали за их отмену. Команда молчала. Джон, Джон умолял Хендс. Я возьму лодку, гнул свое Сильвер, отправлюсь к ним. И перед тем как выбить друг другу мозги, попытаюсь Я дам им шанс снова стать нашими товарищами. Это черная девица тебя тянет, Джон, прошептал Израэль Хендс так, чтобы никто более не слышал, держа Сильвера за руку, Не хочешь, чтобы ее задело в бою? В задницу девицу! возмутился Сильвер.С девицей покончено. Я об Артикулах беспокоюсь потому что если мы их нарушим, то кто мы такие? Тогда мы воры, бандиты и пираты.Глава 40
6 сентября 1752 года. Южная якорная стоянка. Борт Моржи. Четыре склянки предполуденной вахты (около десяти часов берегового времени)
Смит, бывший пастор и начинающий штурман, уже висел над бездной. Смерть его, весьма немилосердная и неприятная, дышала ему в затылок, но он этого пока не почувствовал. Не видел он и множества рук, потянувшихся к ножам. Слух его, однако, воспринял угрожающее жужжание, состоявшее сплошь из неуставных и весьма непочтительных выражений. Пшёл на Сгинь, с-с-сука! Отдай черную бль-ь-ь Флинта нет, теперь наша очередь! И тебе оставим ляжку, коли будешь паинькой! развеселил негодяев какой-то доморощенный остряк. Смит гневно топнул. Вздернул подбородок. Шагнул к ограждению квартердека, схватился за него обеими руками и принял позу невинно оскорбленного благородства. Не впервой ему это было. В точности так же вел он себя в Англии, когда его обвиняли. И до поры до времени у Смита получалось выходить сухим из воды главным образом потому, что он обладал способностью верить своему вранью. Он мог убедительно обвинить шестнадцатилетнюю девицу в бесстыдном разврате. И сам себе верил, хотя помнил и ужас, испытанный ею, когда его рука впервые влезла к ней под юбку. Пастор Смит был на это способен, потому что лицемерие его было не из обычных. Лицемерием он обладал линейным, трех палубным, многопушечным, с окованным медными листами дном. И с отборной командой на борту. Хотя так и остался крысой сухопутной. Еще обладал Пастор Смит громовым голосом. Стоять, бесстыжие собаки! проорал он. Мачты дрогнули от его вопля. Отлично получилось. И команда замерла. Все они прошли школу Билли Бонса и инстинктивно связывали такого рода рык с тяжелыми кулаками. Молчать, на палубе! зыкнул снова приободрившийся Смит и чуть все не испортил. Зря он палубу помянул. Слово-то верное, но пасть не та. Морское слово не к лицу жирному пастору. К счастью Смита, моряков это рассмешило. Раздался гомерический гогот. Пентюх! Га-га-га! Боров! Гы-гы-гы! Фермер! Ох-хо-ха-ха-ха! Па-а-а-астор-р-р-р! Пастор, пастор, хошь пиастр? Тут уж не до ножей. Вместо рукоятей моряки схватились за животики и размазывали кулаками слезы по грязным физиономиям. Наржавшись вволю, они приступили к восстановлению дыхания. Смит воспользовался паузой и приступил к проповеди, к евангелию по Флинту, Он возгласил слово Флинта, волю его и заповеди, призвал к благоговению пред именем его и пригрозил ужасным гневом его в неотвратимый день его; возвращения И воздастся грешникам по делам их! Для пастора Смита это была повседневная бодяга, но у наивных бандитов и убийц холодок прошел по загривкам и спустился к задницам. Ибо они поняли мозгами своими куриными, что каждое слово проповедника истина. И истина эта сразила их, бедных. Когда Смит отгремел, он увидел перед собой стадо мирных овечек. Без сомнения, столь сильными проповедями Смит за всю жизнь паству не одаривал. И не мудрено, ибо сельские прихожане Смита никогда Бога не видывали, не ожидали встретить Его и в церкви в воскресенье, Флинтовы же цыплятки изведали гнев Его на собственных шкурах и знали, что Он может воплотиться с кроткой улыбочкой и безмерной подлостью в душе. Пираты содрогнулись, католики перекрестились. После проповеди исполняющий обязанности первого помощника пастор Смит благословил свою паству, направив их по делам, каковые на судне в данной ситуации сводились к обмену впечатлениями и жеванию табака. Но, во всяком случае, гроза миновала. Ф-фу! Слава Господу, избавился,Смит почувствовал облегчение и эйфорию, он гордился собой больше, чем когда Флинт вознес его до чина первого помощника. Смит прошелся павлином взад-вперед, вытащил трубу, осмотрел берег и перевел трубу на Льва, где экипаж занимался черт знает чем, но на берег, похоже, не собирался, так что причин для беспокойства пока не наблюдалось. Затем в голове его возникла новая мысль. Конечно, он только что грозил этим мужланам местью Флинта. Он мог бы порассуждать и над тем, в какие формы способна вылиться месть Флинта. Капитан вполне мог проявить недовольство тем, что некоторые договоренности выполнены чуть раньше. Но Флинт-то еще не вернулся А вдруг он вообще не вернется? Шаловливая фантазия разыгралась. Смит повернулся, спустился в люк, подошел к каюте Флинта, где с мушкетоном в руках трясся мистер Коудрей и вовсе не от ужаса. Слава богу! воскликнул Коудрей.У меня сейчас пузырь лопнет! Нате! Он сунул свой самопал в руки Смиту и понесся в лазарет, к комфортному оловянному горшку.Молодец, пастор! крикнул он на бегу.Каждое слово слышал, здорово, ей богу! И был таков. Пастор Смит остался один в полутьме перед дверью Флинтова салона. Ткнулся в филенку заперто. Кто там? Пастор облизнулся. Это я, моя дорогая, елейно пропел он. Уходите! Смит улыбнулся и вынул запасной ключ. Флинт доверил ему ключ в залог грядущего. Смит вставил ключ в замочную скважину, отпер, вошел и закрыл дверь. Ф-фу! Ну и жарища тут, внизу! На Селене была лишь рубашка. Шея и ноги ниже колен открыты. На Смите каждый волосок зашевелился. Ай-я-яй, ай-я-яй! Он снял шляпу, сюртук. Чего вам? спросила, она, прекрасно понимая, что ему надо. Они начали маневрировать вокруг стола. Смиту это быстро надоело. Слишком жарко для таких игр! Он засмеялся, вытащил стул и уселся, глядя на нее.Выучила ли ты катехизис, дорогая? Смит Снова рассмеялся своему остроумию. Так всегда начинались контакты с ученицами в Англии, в добрые старые времена. Смит вытер лоб и глаза рукавом рубашки, облизнулся, снова встал. Он в одну сторону она в другую. Да уж, слишком быстра. Смит хмыкнул, хрюкнул, издав мелкий смешок. Он, собственно, пока и не очень спешил, ее поймать. Наслаждался тем, что видел. Черное тело в белой флинтовой рубашке подсвечивалось сзади, просто загляденье. Изгибы, переливы, колыхания Божественно! А как бюст прыгает при движении! Смит еще раз засмеялся и посерьезнел. Он уселся, откашлялся и не спеша приступил к делу. Итак, дорогая моя, должен тебе, сообщить, что мы с капитаном Флинтом обсудили твое будущее. Что? Впервые слышу. Естественно.Смит излучал уверенность авторитета, всегда знающего, как следует поступать другим и что для их блага требуется.Но тебе приятно будет услышать, что пора твоей неудовлетворенности миновала. Я счастлив сообщить, что твои жизненные потребности не останутся более ненасыщенными.Смит медленно провел языком по губам. Тебе будут оказаны все услуги, столь необходимые женщине твоей расы. Что-то я не пойму, какого дьявола тебе от меня надо. Как только Смит все разъяснил, в то же мгновение с ее стороны полетели в него всевозможные предметы разной величины и разной степени твердости, не прибитые гвоздями и не закрепленные каким-либо ИНЫМ способом. Трах! Бах! Бух! Сучка! Дрянь! Рвань! Разозленный Смит выскочил из-за стола и понесся за ней, выкрикивая угрозы. Селена побежала от него, зацепилась об опрокинутый стул и рухнула, Смит упал на нее, ощутил под собой дразнящее трепыхание, рванул рубаху и узрел нечто еще более соблазнительное Однако засмотрелся. В физиономию Смита врезалась пятка, как большая королевская печать. В голове его раздался гул, как будто грохнул колокол на церкви его прихода. Смит даже не видел, куда бы ей, мерзавке, за такое поведение вмазать, глаза застлала пелена слез. Чтоб ты сдохла, сучка черномазая! Издохни сам! Смит кое-как поднялся, утер нос выбившейся из штанов рубахой. Жара стояла страшная, он устал, запыхался. Годы-то уже не те Похоть отступила, оголившийся фронт защищало лишь лицемерие. Смит прокашлялся и принял позу оскорбленной невинности. Такова благодарность за мое стремление оказать посильную ПОМОЩЬ: Вот я Флинту расскажу, он тебе окажет помощь. Смит струхнул. Не вижу смысла беспокоить капитана из-за столь мелкого недоразумения. Не видишь? Э-э Не вижу. Она ухмыльнулась, Смит надулся, опустил глаза. А то он не понимал, что безумием было с его стороны пытаться наложить лапу на оговоренное имущество до срока, без разрешения Флинта. Но не смог сдержаться, Нестерпимую тягу испытывал он ко всему женскому, любого возраста, даже нежного детского. Смит застонал. Пастор! раздался грубый голос снаружи. Бум! Бум! Бум! грохнул в дверь увесистый кулак. Пастор, твою мать! Лодка со Льва. Сильвер!Глава 41
7 сентября 1752 года. Остров. Холм Подзорная Труба. Ночь.
Флинт озадачился. Попугай вернулся. Летел, как будто сова, только орал он не по-совиному. Флинт привык к периодическим отлучкам попугая. С его ли наблюдательностью это не заметить и не понять! Что ж, у каждого свои маленькиестранности, у людей, у попугаев Но в этот раз что-то не так. Обычно птица взлетала на рею, которую здесь, на острове, с успехом заменяла ветка какой-нибудь сосны. Флинт вгляделся во тьму. Трещали кузнечики, грохотал прибой, мерцали звезды А вот и он, снова злющий, как мстительная фурия из античных мифов. Налетает и налетает, паскудник, вопя и щелкая клювом. А с чего? Всего-то Флинт разобрался со Скиллетом и Камероном. Пощекотал их кончиком сабли, этак на дюйм втыкал, не глубже, погонял лентяев, чтобы заставить побегать. Ну, поныли они, один мамочку вспомнил Флинт уже запамятовал, который именно. А второй выбрал занятие поинтереснее, стал клясть Флинта на чем свет стоит. Камерону вдруг вздумалось самому копыта откинуть, как раз когда Флинт со смехом разъяснял Скиллету, что ему приглянулись камероновы уши и что он, Флинт, их себе на память отрежет, прежде чем Камерона на тот свет проводить. С ушей все и началось. Затихли Скиллет и Камерон, попугай вернулся на Флинтово плечо. И тогда он попытался, ничего дурного в виду не имея, накормить попугая камероновым ухом. Да какой там накормить, только попробовать дал! С этого уха птица, должно быть, и тронулась умом. Бешеными оказались уши у Камерона. И-и-и-и-ки-ки-ки-ки-ки!.. Вот он, опять орет, летит и в глаз метит. Гад, как бровь рассадил! Флинт разнервничался. Конечно, можно его и саблей Или из пистолета. Но птица его товарищ. Попугай нужен Флинту живым, а не чучелом. И-и-и-и-ки-ки-ки-ки-ки!.. Опять! Ой! Вот скотина! Флинт не выдержал, понесся прочь, закрывая голову руками. Вниз по козьей тропе, в лес, где попугаю не разгуляться. А в лесу стояла непроглядная тьма, ни зги не видать. Звезды сверху остались, над древесными кронами. Душная, вонючая тьма тропического леса, где все гниет и все питается гнилью, от гигантских деревьев до всякой ползучей дряни: личинок, букашек, сороконожек, тысяченожек, слизняков и пауков разного размера, иные и с ладонь попадаются. Гнусное место. Наконец-то нашел Джо Флинт ночлег столь же мерзостный, как и сточная яма его собственного разума. Ничего, вполне сносный ночлег. И никуда от него не денешься. Вглубь, в джунгли двигаться невозможно, пути не видать, а обратно ненамного светлее, да и этот летучий дьявол не пускает. Флинт поморщился, сел под деревом, привалился к стволу спиной, положил на колени саблю и пистолеты и велел себе спать, успокоив себя тем, что леопардов да пантер на острове не водится Он не встречал, во всяком случае А змей Флинт не боялся. В дневное время. Уже засыпая, он услышал над собой хлопанье крыльев. Попугай тоже устроился на ночь неподалеку. Последняя мысль его весьма утешила: по крайней мере, рядом друг.Глава 42
6 сентября 1752 года. Южняя якорная стоянки, Борт Моржи. Семь склянок предполуденнои вахты (около половины двенадцатого берегового времени)
Конечно, где бы тягаться пастору Смиту с Сильвером, если бы Долговязый Джон стоял с ним рядом на палубе! Но Сильвер сидел на банке жалкого ялика, команда Моржа глядела на него сверху вниз, а пастор Смит величественно вышагивал по палубе. Как и раньше Билли Бонс, Смит восхищался даром предвидения Флинта. Капитан предупреждал, что Сильвер может попытаться совратить команду Моржа и приказал ни при каких обстоятельствах не допускать Долговязого Джона на борт. Как только он ступит на палубу пропал ты, мистер Смит! Команда за ним пойдет. Он на голову выше тебя как физически, так и умственно.Флинт чуть помолчал и добавил:И духовно. И когда Сильвер подошел к Моржу на ялике с шестеркой гребцов, Смит наотрез оказался дать разрешение, сославшись на клятву, данную на Артикулах. Нет, сэр. Мы поклялись, сэр! Я не из-за этого захоронения вовсе. А для чего же еще, сэр? Хочу потолковать об этом засранце Флинте! Во-во! Сам себя выдал! Чушь собачья! разозлился Сильвер и обратился к команде; Ребята, вы меня знаете? Прилипшие к фальшборту матросы зашевелились. Да кто ж не знает Долговязого Джона! Все его знали. Все были в курсе, что он за береговое братство, за равные доли для всех. Он товарища не бросит даже такую паскуду, как Слепой Пью. Болтать-то об этом все мастера, но Сильвер в это верит и этим живет. Знали они Сильвера, знали и Флинта. И пастор Смит испуганно заморгал. Не слушайте его! завопил он. Да пошел ты!.. гаркнул кто-то. Заткнись! Давай, Долговязый Джон! Говори, капитан! Капитан! Они его назвали капитаном! Пастор Смит похолодел. Я вам хоть раз соврал? продолжил допрос Сильвер.Вилял когда-нибудь? Кто-нибудь может такое припомнить? Ни в жись, Долговязый Джон! Никогда! НИКОГДА!!! Долговязый Джон и из лодки справился бы. Он убедил бы их, еще несколько слов и он вырвал бы их из хватки Флинта. Но удача отвернулась от Сильвера. Воодушевленный успехом, он вскочил, ялик вильнул, и одноногий рухнул на руки своих гребцов. Смешно? Еще как. Они и заржали. Пастор схватил со стойки ядро и запустил его в ялик. Вон! заорал он.Не сметь приближаться! Конечно, он промазал и побежал за вторым. Нашлись еще любители пошвырять по цели, позабавиться, добить упавшего, а как же без этого Ядра зашлепали по воде, иные падали рядом с лодкой, брызгали на гребцов. Те выглядели дураками, смех с Моржа гремел все громче. Стойте, идиоты! вопил разозленный Сильвер. Слушайте меня, кретины! Но момент был упущен. Сидевший загребным Израэль Хендс велел отваливать подальше. Он не хотел, чтобы ядро пробило дно. Течение проволокло ялик мимо борта Моржа, и тут они услышали голос: Долговязый Джон! Долговязый Джон! Забери меня отсюда! Держась за раму, Селена вывесилась наружу и махала платком.. Селена! крикнул Сильвер Мистер Хендс, давай под корму! Нельзя, капитан! Потопят. И потопили бы. Пастор Смит овладел ситуацией, поминая слово и волю Флинта. На корму Моржа уже набежала толпа с ядрами в руках. Те же люди, которые только что готовы были следовать за Сильвером, выкрикивали в его адрес оскорбления. Тогда давай поближе, не подходя вплотную. Есть, капитан! Эй, живоглоты! заорал Израэль Хендс гребцам.Правая вперед, левая назад! Ялик развернулся на месте и рванулся к корме судна Навались! заорал Сильвер, подруливая поближе, пока ядро не плюхнулось в воду на расстоянии вытянутого весла. Селена, плавать умеешь? Да! Плыви к нам! Прыгай и плыви! Эй! заорал пастор Смит.Он хочет спереть девицу! Команда ответила свирепым рыком. Фитиль! заорал Пастор, срывая брезент с кормовой вертлюжной пушки.Вы, там! он махнул в сторону второй такой же пушки.Живо, вторую к бою! Мгновенно две двухфунтовых пушки уставились на Сильвера и его лодку. Дистанция двадцать пять ярдов, каждая пушчонка набита картечью. Пастор с дымящимся фитилем в руке пригнулся к пушке. Убирайся, Сильвер! Не то отправишься в ад! заорал он снова. Джон! кричала Селена.Помоги! Не могу, милая, вздохнул Сильвер.Назад, Израэль. Ялик направился ко Льву. Сильвер смотрел в сторону Моржа, пока можно было разобрать маленькую фигурку негритянки. Потом отвернулся. Что ж, ребята. Теперь все решат горячий свинец и холодная сталь.Глава 43
8 сентября года. Южная якорная стоянка. Борт Моржа. Одна склянка послеполуденной вахты (около половины первого берегового времени)
На целых полтора дня пастор Смит и думать забыл о женском теле. Он оказался способен на такой подвиг, ибо стал теперь отличным моряком и обстрелянным боевым офицером. Во всяком случае, в своих собственных глазах. С одной стороны, после триумфа над Сильвером команда относилась к Смиту если и не с уважением, то хотя бы без презрения, которое ранее приходилось скрывать из страха перед Флинтом. С другой стороны, пастор получал возвышенное наслаждение от математических упражнений, постоянно практикуясь в вычислении широты и долготы. Посему мистер Смит расхаживал с гордым видом, воображая себя человеком действия, крутым парнем, джентльменом удачи. Он видел себя вернувшимся с огромным состоянием в цивилизацию. Кто помешает ему предпринять какое-нибудь честное и прибыльное морское путешествие, стать собственником сначала большого судна, а потом и большой плантации в Ист-Индии, королем коммерции, набобом-миллионером! Вот этот восточный маршрут и пустил его помыслы по привычной греховной стезе. Ибо Ист-Индия навевает экзотические видения, восточную изнеженность, гаремы, набитые напомаженными наложницами. Волей-неволей умишко мистера Смита скользнуло по трапу к корме, где взаперти во флинтовом салоне маялась сочная негритяночка. А этот мерзавец Коудрей все таскает ей туда еду, чтобы она носа не казала наружу. Для себя бережет, паскуда. Снова накатила на мистера Смита похоть, затмевая страх перед Флинтом. И дождавшись, пока команду одолеет полуденная жара, мистер Смит пополз к корме. Даже башмаки скинул, чтобы шума не поднимать. Шляпу и сюртук тоже. Он подобрался к двери, вставил ключ. Тихо, не спеша Щелк! Нежно открыл дверь и скользнул внутрь. Огляделся. Гм. Сильно удивился. Засомневался. Где же она? Куда подевалась? Мебель на месте. Пастор Смит шагнул вперед и увидел. И мгновенно груз в штанах его потяжелел. Голая! Она спала без одежды. Роскошная, блестящая, изумляющая а-ах! Селена спала на широком капитанском диване. За чертовой мебелью, за столом и стульями. Пастор скрипнул зубами. Напрягся, сдерживаясь У-У-У-У-У-УХ! Нет, не донес. Убирайся! Вон отсюда! крикнула Селена, разбуженная его стоном. Она сначала уселась, затем пригнулась и нырнула за чем-то. Пастор не разобрал, за чем именно Ба! воскликнул пастор Смит, опускаясь в кресло и вытирая обслюнявленный рот рубахой. Сюрприз оказался не из приятных. Смит увидел две черные дырочки дула двух тяжелых пистолетов. На мгновение он даже забыл о голой негритянке, которая эти пистолеты держала. Пастор упрекнул себя за непроходимую глупость. Ведь флинтовы покои сплошь декорированы этим добром. Надо было сообразить. Он посидел, лихорадочно думая, что теперь делать. Селена откинулась к оконной раме, вытянув вперед руки с оружием. Руки ее тряслись. Очевидно, к такой тяжести эта цаца не привыкла, подумал Смит. Убирайся! Или пристрелю. Пастор ухмыльнулся и помотал головой. Сомневаюсь, дорогая. Потому что тогда сбежится сюда вся команда. И кто тебя защитит? он рассмеялся. Первый испуг прошел, пастор пригляделся к пистолетам. Один даже не взведен, замок болтается. Другой взведен не полностью. Хотя в тени не очень хорошо видно. Он улыбнулся. Вот балда! Она, конечно, видела, за какой конец оружие держат, но и только. Так что ему ничто не угрожает. Надо просто подождать, пока перезарядится его собственное оружие, и тогда он возьмет ее на ручки, как девочек-прихожанок в давние времена А потом перевернет А потом Пастор зажмурился. Аппетит у него немалый, обычная норма три-четыре раза за сеанс. Он ухмыльнулся. Пораскиньте умишком, дражайшая. Возможно, вы предпочтете мое нежное обхождение зверству семидесяти бандитов? Я рекомендовал бы вообще не шуметь, не говоря уже о пальбе. Но она не внимала голосу разума. Ублюдок! крикнула она и нажала на оба спусковых крючка одновременно. Как пастор правильно заметил, один курок не был взведен, поэтому Смит и не шевельнулся, Но другой оказался полностью взведенным и выплюнул сноп искр, заставив мочевой пузырь пастора выпустить в штаны некоторое количество жидкости. Экий кисель образовался в трюме доброго Смита! Сука! гаркнул он и прыгнул вперед, на широкий стол, чтобы вырвать у нее из рук оружие. Но она вцепилась прочно, держаться за рукояти ей было удобнее, чем ему за стволы. Пастор, свалившийся пузом на стол, потерял опору под ногами, так что после короткой возни она выдернула оба пистолета, а одним из них еще и засветила Смиту по лбу. У-у-у! взвыл пастор, отскочил, чтобы не дождаться второго ствола, и схватился за окровавленный лоб. Я тебе всю шкуру с задницы спущу! Сдохнешь под кнутом! А что, подумал он, тоже неплохая забава. Расширяет кругозор, так сказать Он огляделся, выискивая что-нибудь подходящее для этого высокоэстетичного времяпрепровождения. Но Селена его не слушала. Голая негритянка тряслась, спешно откусывая конец патрона, чтобы зарядить пистолет. Пастор забыл про кисель в штанах и развеселился. Эта процедура ей и понаслышке неведома. О пуле она и не думала. Пуля была закатана в конец патрона, но эта дура даже не знала, что она там находится. И пуля полетела в сторону с опустевшей оберткой. Да, много вреда принесет такой выстрел Пастор встал и отряхнулся. Селена вцепилась в шомпол, уронила его, подняла, снова уронила. Схватила другой патрон, разорвала, рассыпала порох по столу и по стволу, по рукояти. Потянулась за третьим. Как плохой кок, посыпающий мукой кособокий пирог. Конечно же, Пастор оказался прав в своих предположениях. Селена не имела представления о том, как заряжать пистолет. Откуда бы ей это знать? Рабов на плантациях не обучают пользоваться оружием. Как стреляет пистолет, она видела лишь однажды, когда в пивнушке Чарли Нила Флинт удовлетворил Этти Болджера, Да ее и не интересовало оружие, она никогда не просила показать, как это делается. А когда команда Моржа работала, она сидела внизу. Селена слышала, конечно, что такое порох, кремень, курок Вот и пыталась на ходу сообразить, что к чему. Селена, дражайшая, я был о вас лучшего мнения, вкрадчиво завел пастор, подкрадываясь к ней поближе.Вы меня разочаровали, обратившись к Сильверу. Он конченый тип, уверяю вас. Он в сто раз лучше тебя! Если бы вы прыгнули, течение снесло бы вас. Здесь очень сильное течение. . Заткнись! Селена завершила сложную процедуру. Она вскинула пистолет и направила его в лицо пастора Смита. Стреляю! Чем, дорогая? Стреляют пулей, а пули у вас нет. И полка без пороха. Убью!!! Пастор мрачно ухмыльнулся. Снял очки. Слушай, хватит нести чушь. Я тебя сейчас выпорю, а потом оттрахаю, а ты будешь паинькой, если не хочешь, чтобы тебя рыбки кушали. Поняла? Она нажала на спуск. Ничего. Надо взвести вот это.Пастор протянул палец и коснулся кремня. Она смачно щелкнула кремнем. А вот эту хреновинку надо притянуть к этой фиговинке, учил Смит, указав на огниво. Еще панический щелчок. Ну, а теперь пали на здоровье.И Смит коснулся потным носом дула пистолета. Щелк! Кремень выдал положенные искры, но выстрела не последовало. А-яй!пастора понесло. Бравируя, лихой воин захватил зубами дуло пистолета, а правой ладонью сжал левую грудь Селены. О-о-о-о! Как будто гальванические силы пронзили его руку, мгновенно добежав до штанов и зарядив его лучшего друга электрической энергией. Щелк! Щелк, щелк, щелк! Селена отводила курок и безрезультатно нажимала на спуск. Пастора распирало блаженство. Он сжал и вторую грудь. Ах, добрые старые времена! Щелк! Щелк! Щелк! И ничего. Ведь замок нуждается в доброй щепотке пороха на полке, чтобы поймать искры от кресала и послать вспышку через крохотную затравочную дырочку к главному заряду, который и отправляет пулю по назначению. Но ни требуемой щепотки, ни пули не было в пистолете Селены. Однако пороху-то Селена не пожалела. Добрая часть трех патронов попала-таки в казенную часть ствола, где и скопилась кучей. Смит же своим несерьезным поведением, тряся ствол, когда болтал да содрогался от смеха, помог нескольким крупинкам вывалиться из затравочного отверстия на полку, где они, эти крупинки, и поймали искры, когда Селена очередной раз нажала на спуск. Щелк! прозвучал курок. Клик! раздался кремень. Вжжж! полетели искры. Вуфф! крупинки; И БУММ!!! порох в стволе. А пороха там было столько, что и пуля не нужна. Физиономия Смита распахнулась, как кочан капусты. Кровь, разнесенные в мелкие клочки язык и щеки разбрызгались по каюте, поток раскаленных пороховых газов рванулся внутрь, круша трахею, бронхи и легкие, пищевод и желудок, мозг и уши. Из ушей, носа и жуткой каверны, образовавшейся на месте рта, повалил дым. Шипело жареное мясо пасторовой головы. Но он не упал. Качаясь, Смит поднял скрюченные пальцы к тому, что только что было лицом. Глаза его вылезли из орбит. Месиво, в которое превратились легкие, извергло фонтан крови и слизи в попытке заставить отсутствующие голосовые связки издать крик. После этого он рухнул на спину, судорожно дергаясь, извиваясь, пенясь и булькая. На ногах он продержался лишь несколько секунд, но и это было чудом. Селену от этого зрелища вырвало. Она отползла в угол, подальше от колотящего по палубе пятками и локтями Смита. Долго он умирал, долго и тяжко. Шума все описанное происшествие произвело столько, что нашлись желающие поинтересоваться, что же там, на корме случилось. Пастор! Кто палил? В дверь стучали кулаками и сапогами.Селена! Какого хрена! Пастор у тебя? Тащи лом, ломай люк, пророкотал другой голос.Или она его порешила, или он ее. Давай, живей! Когда от двери посыпались щепки, Селена сделала то, что она хотела сделать, когда Долговязый Джон звал ее в лодку. Она прыгнула в воду и поплыла.Глава 44
8 сентября 1752 года. Остров. Буксирная Голова. День.
Книга мученичества Фокса! чуть не пропел Флинт, наставительно задрав указательный палец к небесам.Бот достойный друг моей юности, постоянный товарищ и советчик мой.Он мечтательно вздохнул и тряхнул головой.Подарена мне достойнейшим батюшкой на тринадцатилетие. Б этом возрасте, согласно Моисееву закону, мальчик становится мужем, а книга, мною помянутая, если верить моему паскудному батюшке, являет собою непоколебимый бастион славной нашей веры протестантской и сияющий меч в борьбе с антихристом, епископом римским.Флинт повернулся к аудитории: Подлинные слова этого козла, моего папаши. Что скажете на это, ребята? М-м, ответили ребята. Флинт вздохнул и запечалился, вспоминая о доброй старой книге. Лондонское издание 1701 года. Б двух томах инфолио, с сотнями ксилографий. Прекрасные иллюстрации, детальнейшие, проработанные. Что скажете? М-м. У нас еще две книги были в доме. Знамо дело, Библия. И Пути пилигримов.Флинт нахмурился.Но, знаете, ребята, я с ними не связывался. Моя книга Фокс. И много часов я над ней просидел, счастливых часов.Он расплылся в лучезарной улыбке.Ну, признаюсь, я не столько ее читал, сколько картинки в ней рассматривал. M-м. Флинт укоризненно покачал головой. Вы не поверите, что я там видел, как я прозревал, как учился. Ах, сколько изощренных пыток существует на свете, вы не представляете! На какие только жестокости не способен человек во имя веры, какие страсти перенесли благословенные мученики! И все эти страдания запечатлены в книге Фокса с величайшей достоверностью. Козлы и дыба, кол и испанский сапог, щипцы и щипчики, крюки и крючочки, Декапитация,*["897] иммурация,*["898] экс-сангвинация*["899] слова-то какие заслушаешься! А вытягивание кишок! Он прищурился. Гм Вытягивание кишок. Видели когда-нибудь? Вороточком, потихонечку, полегонечку Лебедочкой. Что скажете на это, ребята? Ребята на это ничего не сказали. Они и раньше не пустословили, Роб Тэйлор и Генри Говард, потому что рот каждого до отказа забивала тряпка, а выпихнуть ее изо рта не представлялось возможности она удерживалась другой тряпкой, прочно завязанной на затылке, И развязать ее тоже не очень просто, ибо ноги и руки скованы прочными узлами. Сидели ребята смирно, рядышком, под деревом, и глядели во все глаза на железную лебедку, которую Флинт захватил с собой, как предполагалось, для использования при захоронении сокровищ. Они исправно таскали лебедку по всему острову, и ни разу она не пригодилась. Однако сильно опасались ребята, что сейчас Флинт собирается ее, наконец, использовать по только что упомянутому им назначению. Книга Фокса учит, что в каждом человеке больше пяти саженей кишок, поведал Флинт,И я часто задумывался, так ли это. Повисло молчание. Флинт встал с валуна, обошел крохотный лагерь, в котором Роб и Генри, поощряемые дружелюбным Флинтом, так надрались утром, что к полудню свалились с ног. Бот мы с вами теперь, ребята, на Буксирной Голове. Картография моя, я и название дал, три года прошло с тех пор.Он обвел вокруг рукой, как будто демонстрируя им Буксирную Голову. И знаете, ума не приложу, с чего я ее так обозвал.Он засмеялся и огляделся. Прекрасное местечко, свежий, бодрящий воздух. Отличный обзор, море просматривается. Как и на Подзорной Трубе, здесь деревьев немного, вид не закрывают высокие деревья, узловатые, но не сосны, а что-то тропическое. Флинта восхищало разнообразие здешней природы. Вот здесь, на Буксирной Голове, совсем другой мир, не джунгли Южной бухты, но и не альпийские луга Подзорной Трубы, Прибой гремел громче, потому что море билось о подножие Буксирной Головы, о россыпи скал под отвесным обрывом. Сильный ветер Южной Атлантики заносил брызги на самую плешь Буксирной Головы, здесь всегда влажно. Прекрасный, благородный ландшафт. Однако небезопасное место. Высокий обрыв, крутой. Человек, переваливший черёз край, не рискует пораниться. Три сотни футов падения и целым и невредимым врезаешься в острые скалы, мгновенная смерть. Обрыв находился в двадцати футах от дерева у которого Флинт усадил Тэйлора и Говарда. Так, а где эта проклятая птаха? спросил Флинт у самого себя и вскинул голову. Ага, вот она,Попугай квакнул, нахально вскинул голову. Смотрел он на Флинта с такой наглостью, какой его хозяин не потерпел бы от человека. Скотина! пробормотал Флинт. Ему не хватало этого попугая. Он чувствовал себя так же, как после первый ссоры с Джоном Сильвером. Флинт нахмурился, Нетипичные ощущения, черт побери! Да тьфу на тебя! подумал он, но не смог заставить себя отвернуться от птицы. Когда он отнял попугая у той двуногой обезьяны, как его он сделал это, соблазнившись импозантным видом птицы и представив, как выигрышно будет с нею смотреться. Да, еще его привлек словарь попугая, в особенности матерный его раздел. Уже потом он понял, насколько эта птица умна и сообразительна. Очень умна. И слова использует не абы как, а в контексте ситуации. Уронит Флинт что-нибудь и сразу слышит: Остолоп! Остолоп! Отвали! говорит попутай, если кто-нибудь ему не по нраву. Salvel*["900] приветствовал он по-латыни Коудрея. Бу-у Бу-у передразнивал костыль Долговязого Джона. Я даже не знаю, мужик ты или баба, обратился Флинт к попугаю примирительным тоном. Недоставало ему этой птицы. Единственное Живое существо, остававшееся с ним постоянно, днем и ночью, привязанное к нему теперь, правда, похоже, больше, нет. Но почему? недоумевал Флинт, не в состоянии понять того, что сразу сообразил бы любой из тех, кого он огульно зачислил в тупиц. Птица к нему даже ненадолго вернулась, когда он утром вышел из джунглей к месту встречи с Тэйлором и Говардом. Попугай ждал его, Он описывал круги, высматривая Флинта. Ах ты, мерзавец, ласково встретил его Флинт. Птица спустилась к нему на плечо, нежно ткнулась клювом в ухо. Флинт чуть не задохнулся от счастья, Но как только он попытался погладить попугая, тот заорал и метнулся ввысь. Флинт недоумевал. Уши Скиллета он выкинул. Может, запах остался? Да дьявол его задери. Пора за дело решил Флинт. Он снял шляпу и сюртук. Вытащил пистолеты из-за пояса и из карманов. Отложил саблю и достал небольшой сверток с инструментами, прихваченными для этой оказии. Закатывая рукава рубахи, усмехнулся, глядя на разрушения, учиненные Пердуном Фрезером. Итак, милостивые государи, мистер Тэйлор и мистер Говард, кто первый? Оба застонали, задергались. Инстинкт заставлял их прятаться там, где это не представлялось возможным. Они старались сделаться лгеныне, незаметнее, оказаться не под рукой Флинта в общем, каждый стремился не стать первым. Попугай заверещал и захлопал крыльями. Тэйлор, решил Флинт, схватил Тэйлора, меньшего, более легкого, за пояс и поволок к лебедке. М-м-м-м-м! М-м-м-м-м! промычал Тэйлор, и попугай взлетел. Флинт уселся на ноги жертвы и сильным ударом в лицо опрокинул его наземь. Оглушенный Тэйлор замер, лежал беспомощный и обреченный. Зато Говард вовсю извивался, напоминая неуклюжую гусеницу; он пытался уползти, увеличить расстояние между собой и кошмаром. Флинт покосился в его сторону, усмехнулся и решил сосредоточиться на Тэйлоре. Давно ли ты в театре был, мистер Тэйлор? справился Флинт.В прекрасной драме Герцогиня Мальфийская есть такая реплика: Удушение смерть тихая. Метко подмечено. Можно было бы, конечно, всех вас тихо-тихо удушить, пока вы почивали, но на это любой дурак способен. Флинт развернул сверток. А этоОн взял в руку один из хирургических ножичков мистера Коудрея и взрезал рубаху на Тэйлоре сверху донизу. Затем вытащил плотницкие клещи, большую иглу и прочную льняную нитку. Весь фокус в том, чтобы найти конец. Так я полагаю. Тэйлор пошевелился. М-м-м-м-м! Начнем отсюда, сказал Флинт и осторожно взрезал живот мученика. M-M-M-M-M-M-M-M!!! Попугай свалился камнем, бесшумно и без предупреждения. Сначала в макушку Флинта впились когти. Тут же за ними последовал клюв, обнаживший черепную коробку коммодора. Флинт завопил. А-А-А-А-А-А-А-А! заорал он и, защищаясь, вскинул руки. Попугай мгновенно переключился на его пальцы, из них тоже брызнула кровь. А-А-А-А-А-А-А-А! Флинт вскочил и принялся бешено отбиваться от изверга, рвавшего в клочья его драгоценное тело. Ух-х-х! он оторвал от себя птицу, швырнул ее наземь и занес над нею ногу, чтобы расплющить мощным ударом каблука. Но попугай уже взлетел и снова спикировал па Флинта. Коммодор прыгнул к оружию, выхватил саблю и взмахнул, отхватив кончики перьев крыла увернувшейся птицы. Попугай метнулся к его глазам. Флинт завизжал и снова ударил саблей. Опять полетели перья. Ба-бах! Раздались один за другим оба больших поясных пистолета. Уронив их, Флинт выпалил из малых. Все четыре выстрела промазали, но попугай учел предупреждение, отлетел и уселся на вепсе, бешено крутя головой и стеная. Смотри, что ты натворил! в бешенстве вопил Флинт, задрав голову к попугаю. Посмотри, что ты со мной сделал! Алая кровь струилась по его лицу, на лоб свисал кусок скальпа. Флинт орал от боли и возмущения, протестовал против жестокости этого мира. Ибо Джозефа Флинта за всю его гнусную карьеру ни разу не коснулись ни пуля, ни клинок. Он видел кровь и жестокость, с легким сердцем сеял смерть и страдания, убивал и уродовал других, но сам никогда не был ранен. А как это больно! Скотина! Грязная свинья! плача, кричал он попугаю и искал, на ком бы сорвать зло. Кроме Тэйлора и Говарда, никого рядом не оказалось. Можно сказать, что им крупно повезло, если иметь в виду, что собирался вытворить с ними Флинт. Теперь же он просто скинул их б обрыва, одного за другим.Глава 45
8 сентября 1952 года. Южная якорная стоянка. Днем.
Плавала Селена, как выдра: быстро и легко. На плантаций Делакруа дети рабов отлично Держались на воде. Едва научившись ходить, плескались они в местном ручье; ныряли и визжали. Даже госпожа Делакруа приходила к ручью с дочерью, чтобы полюбоваться купающимися младенцами, прелестными в своей невинности. Так Селена встретила мисс Юджини. Она и плавать учила молодую госпожу. Плюх! Селена вошла в воду ногами, погрузилась с головой. Надводный мир с его звуками и красками на время исчез, сменился изумрудным безмолвием. Но вот голова Селены показалась над поверхностью. Отфыркиваясь, она рванулась прочь от Моржа, куда угодно, только подальше. Сзади донеслись вопли. А если они по ней из пушек Или лодку спустят. Селена набрала воздуху и нырнула, поплыла под водой. Когда Селена вновь поднялась на поверхность, она увидела скопление пиратов на корме, как в салоне Флинта, так и на палубе. Злые, рожи красные. Орут, кулачищами размахивают, у иных и пистолеты в руках. Паф! Паф! Как будто комки грязного хлопка отделились от вытянутых пиратских лап. Селена была уже далеко от судна, но сохраняла спокойствие не по этой причине. При звуках выстрелов ей представился пистолет во рту Пастора и то, что за этим последовало. Она содрогнулась, отгоняя кошмарную картину, и тут же, не теряя времени, снова втянула воздух и скрылась в воде. Когда она вынырнула снова, Морж уже казался далеко-далеко. Она принялась поворачиваться, оглядываясь и выбирая направление. Губы ощущали морскую соль, вселенная сплюснулась, стянулась к уровню ее погруженного в воду подбородка. Куда? Только не на берег. Там Флинт. И конечно, не на Морж Снова приходится убегать от белого мертвеца. Вряд ли пираты проявят больше желания войти в ее положение, чем сыновья господина Фицроя Делакруа. Тем более что в этот раз она не просто послужила причиною смерти, а убила своими руками, умышленно. Остается Лев. Выбор не сложен. И доплыть нетяжело. Обогнуть по широкой дуге Моржа и прямо к болтающемуся рядом Льву, к Долговязому Джону. Пустяк, ведь она может весь день провести на плаву. Но она тут же обнаружила, почему так быстро удалилась от Моржа. Бухту омывало сильное течение, сносившее ее скорее, чем она могла плыть. Селена попыталась его одолеть, но почти сразу поняла, что занятие это бессмысленное и ни к чему, кроме пустой траты энергии, привести не сможет. Она перевернулась на спину и отдалась потоку, почти не шевеля руками и ногами и удерживая голову над водой. Тепло, мирно, спокойно Солнце печет, вода охлаждает, тишь да гладь Давно не было такого мира на душе у Селены. Она настолько расслабилась, что даже заснула во всяком случае, погрузилась в дрему. В голову лез Флинт Потом его сменил Сильвер. Она дремала, забыв о времени Селена очнулась, когда пятки ее заскребли по песку. Она оттолкнулась от дна ладонями и уселась. Тело потяжелело, парение исчезло. Селена неуклюже поднялась на ноги, огляделась. До Моржа и Льва что-то около мили. Пляж, обжигающий подошвы раскаленным песком, изогнулся полумесяцем, окаймленный густыми пальмовыми зарослями. Там, куда ее занесло, песок истоптан, засыпан углем, повсюду видны отпечатки, оставленные днищами сундуков. Значит, здесь они выгружали свои сокровища Свое добро. И они не слишком сопротивлялись течению, здесь разгрузились и разбили лагерь. Нет, не хотелось ей здесь оставаться. Селена, стараясь бежать на цыпочках, подпрыгивая, во всю прыть понеслась через пляж, чтобы поскорее пересечь эту раскаленную сковородку и оказаться в тени. Наконец, она скрылась под деревьями. Селена перевела дух, опустилась наземь и огляделась. Ни еды, ни воды, ни одежды, ни оружия Никаких инструментов. Она опасливо покосилась на джунгли. Что за звери там, в зарослях? К ней вернулся страх. Другой страх, но все равно неприятный. Что дальше? Если б она знала Но она понятия не имела, что делать, ничего и не делала Прошел день, минула долгая холодная ночь. Ничьи клыки или когти Селену не обеспокоили, но мучили голод и жажда. Она слышала, как пираты упоминали ручьи и речки. Они, конечно же, должны стекать к морю. Селена вздохнула и направилась по берегу на поиски воды. Воды она не нашла, зато обнаружила что-то другое. Она заметила это что-то до того, как оно увидело ее. Не очень далеко от лагеря из песка торчал вверх вкопанный в него шест, который они называли реей. С шеста свисали шнуры для флага. Селена шла вплотную к джунглям, потому что песок здесь слежался; был тверже, чем тот, что ближе к воде. Чуть впереди она вдруг услышала треск, как будто кабан пер напролом. Селена отскочила за дерево и затаилась. Из лесу появился человек. Шатаясь, он побрел к берегу. Человек подошел к флагштоку, поковырялся там, и наверх пополз большой черный флаг с белым черепом и скрехценными костями. Потом человек вытащил пару пистолетов и выпалил в воздух. Помахал Моржу, Это Флинт. Селена пала духом. Но за спиной у него, на перекинутом через плечо ремне, болталась фляга. Селену жгла жажда. Она слизывала росу с листьев, но что это значит в таком пекле? Жажда вытолкнула ее из-за деревьев и погнала по еще не успевшему раскалиться песку. Флинт! закричала она,Флинт! Он обернулся, и даже за пятьдесят ярдов вид его ее испугал. На голову намотан окровавленный платок, лицо черное от запекшейся крови. Он еле стоял, глядя на нее выпученными глазами. Селена! услышала она. Лицо его исказилось бешенством, он выхватил еще пару пистолетов и выстрелил в нее. Она съежилась, но оказалось, что не в нее он палил и не на нее злился. Над их головами кружил попугай. С потоком ругани Флинт бросился на колени, спеша перезарядить пистолеты. Селена подошла к нему, положила руку наг плечо. Он не обращал на нее никакого внимания, как будто не заметил, как она сняла с его плеча флягу и присосалась к ней. Он занимался; оружием. Что случилось? спросила она. Чертов попугай взбесился. Почему? Вес его знает. Бум-м-м! прогремел выстрел с Моржа. Флинт поднял голову. Ага, шлюпку спустили. Он, наконец, заметил, что она голая.На-ка, накинь,Швырнул ей свой сюртук и отвернулся, следя за шлюпкой, но то и дело оглядываясь на попугая, отлетевшего к деревьям. Лодка зарылась в песок футах в двадцати от кромки берега. Том Аллардайс спрыгнул в воду и пошлепал к Флинту и Селене. Он с ужасом смотрел на Флинта; Чего, капитан? Чего не так? Где народ? Вдруг что-то как будто хлопнуло его по лбу изнутри головы, он ткнул пальцем в сторону Селены.Капитан, эта тля разворотила всю морду мистеру Смиту. Фарш вместо хари, ей-богу, не вру! АФлинт досадливо поморщился. Не до таких ему мелочей, как какой-то там мистер Смит с его очевидными недостатками. Он покосился на Селену.Что, этот пастор лапы распускал? Да. Ну и поделом ему. Еще повезло, что меня не дождался.Флинт отмахнулся, как от мухи, и повернулся к Аллардайсу. Тьфу на этого сучьего Смита, я от тебя о нем больше слышать не хочу и другим тоже передать не забудь, И живо на судно, греби, твою мать! Гребцы боялись дышать. Они еще не слыхали, как Флинт орет, такое на их памяти случилось впервые. Всегда он оставался шелковым да бархатным, голос нежный, как мамашин поцелуй, даже когда дробил пальцы, играя во Флинтики. Новый Флинт пугал еще больше. И они налегли на весла, аж в ушах зазвенело. Уж течение там или не течение, а шлюпка молнией метнулась к Моржу. Селена вернулась в свою кормовую тюрьму, в салон Флинта, загаженный кровью Смита. Она оделась, уселась и пригорюнилась. Что ж, пока Флинт на борту, она в безопасности. Заплыв не удался. Надо терпеть и ждать, надеяться на лучшее. На палубе мистер Коудрей возился со своими вареными инструментами, промывал и обрабатывал раны, заявляя, что мыло и солнце все вылечат, и подтверждая свои слова латинскими изречениями да звяканьем стальных пыточных принадлежностей. Все в порядке, сэр, сообщил Коудрей через полчаса кройки и шитья на Флинтовом черепе. Он с удовлетворением осмотрел свою работу. И действительно, было чем гордиться; Коудрей знал свое дело. Завершил он перевязкой и напутственным словом: Шрамчики небольшие останутся, сэр. Над бровью, на лбу. Но по большей части их закроют волосы, как отрастут. Флинт слушал невнимательно. Операцию он перенес мужественно, как будто бы и не присутствовал при зашивании собственного черепа. Он отползал от края бездны. Ночью он чуть туда не соскользнул, а тем более утром. Бывают пропасти и опаснее той, в которую он скинул Тэйлора и Говарда. Много пучин ожидает такого, как Флинт. Но сейчас он убрался от края. Сейчас он в безопасности так он воображал, во всяком случае. Глоток рому не помешает, капитан, сказал Коудрей, Джобо подошел с бутылкой. Нет, спасибо, доктор. Мне нужна ясная голова. Надо с командой поговорить.Он поднял на Коудрея честные суровые глаза.Нас предали, доктор. Предали? Да. Нас предал этот бессовестный мерзавец Джон Сильвер, Он тайком высадил на берег группу и убил всех моих дорогих товарищей, я лишь чудом уцелел. Ох Да, так вот Поэтому мы должны предпринять ответные меры, если хотим спасти свои сокровища, которые он твердо решил украсть и разделить между своими. Они такие же мерзавцы, как и он, его соучастники. Вопреки Артикулам? Я сам слышал это. Мне удалось спрятаться в лесу, и он не догадывался, что я очень близко.Флинт печально склонил голову. Понимаю, что мы расстались не лучшим образом, но все же я иного мнения был о Джоне Сильвере. Господь всемогущий! воскликнул Коудрей. Команда, сбор! крикнул он.Капитан говорить будет.Глава 46
9 сентября 1752 года. Южная якорная стоянка. Борт Льва Утренняя вахта (около половины восьмого берегового времени)
Девятифунтовое ядро толще шестифунтового всего на полдюйма: четыре дюйма вместо трех с половиной в поперечнике. А весит в полтора раза больше, да заряд пороха у него ого-го! Летит это ядро со страшной силой, сокрушая борта и палубы. Шестифунтовка хороша для картечи, для цепей, чтобы мачты сбивать, но настоящая судоломка это девятифунтовая. Капитан, стреляем! умолял Израэль Хендс.Пора, капитан. Пока они до нас не добрались. Он присел и приложился к своей любимой испанке, к прицелам по азимуту и дальности, устроенньш сверху и сбоку пушечного ствола. Сложнее определиться с дальностью. Навести по азимуту проще. Для этого надо совместить с целью верхний паз на казенной части и верхний прицельный паз на кольце вокруг дула пушки. Но возвышение, то есть угол наклона ствола, надо рассчитать., учуять, угадать так это понимать надо. По зарубкам сбоку на казенной части можно задрать ствол этак на пять градусов. Гадание это осложнялось тем, что Хендс из этой пушки еще не стрелял ни разу. Поставил он возвышение в два с половиной градуса, надеясь, что этого как раз хватит, чтобы ядро врезалось в борт Моржа, пролетев около четырех сотен ярдов.; Капитан, стреляем! снова принялся за свое Израэль Хендс, раздувая зажатый в руке фитиль. Нет, отрезал Сильвер. Они всего-то парус подняли Но это против Молчать, команда! гаркнул Сильвер и забухал ногой и костылем по палубе. Не сладко ему тоже, понятное дело. На нем ответственность. Стрелять или нет? Одно слово и братья по ремеслу, бывшие товарищи по команде прольют кровь друг друга. Не только Хендс, вся команда ждала от капитана решающего слова. Судно готово к бою. Палубы засыпаны песком, юнги в любой момент рванутся к пороховому складу за новыми картузами. Пружина левого борта навернута на кабестан, у рычагов которого ждут приказа матросы, готовые направить судно в нужное положение. Занес ногу шагай! Сильвер не отрывал глаз от Моржа. Он изучал его в подзорную трубу с того момента, когда Флинт дал сигнал. Он видел, как Аллардайс подался в шлюпке к берегу, как вернулся с капитаном с одним, без счастливой шестерки. Зато там же оказалась Селена в синем флинтовом сюртуке, и Сильвера снова скрутили сомнения. Он не понимал, что все это может означать, откуда она там взялась, но видеть ее наедине с Флинтом радость не великая. Затем Морж поднял якоря и часть парусов. Без единого посланного Льву сигнала. Сильвер тут же объявил готовность к бою. С подпружиненными якорными тросами Льву не приходилось опасаться, что противник его обойдет. Ясно было и то, что двигаться Морж может лишь в сторону Льва, ибо далее вглубь бухты пути не имелось: банки, мели, берег. Паруса ставить Сильвер тоже не собирался. Конечно, Флинт мог пройти мимо Льва и направиться в море, но Сильвер в таком его намерении сильно сомневался. Не решил же он оставить остров Сильверу, чтобы тот спокойно искал зарытые сокровища. Что он делает? в который раз спросил себя Сильвер, разглядывая Моржа. Юго-западный ветер слегка дышал в топсели и кливер*["901] Моржа, больше парусов Флинт не поднимал; его судно поползло ко Льву. На остров лениво набегала мелкая западная волна. Капитан, капитан, пора! Всадим ему! снова взмолился Израэль Хендс, заламывая руки. Пожалуйста, капитан Капитан подпевали ему канониры. Капитан зажужжала и палубная команда. Что он делает? как будто не слышал Сильвер, Маневр! Морж менял курс, поворачиваясь ко Льву бортом. Ложись! гаркнул Сильвер. Борт Моржа окутался пороховым дымом. Секундой позже раздался гром его пушек. БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУМММ! Ядра плюхнулись в воду, не долетев до Льва. ББУ-У-У-ММММММ! отозвалась испанская девятифунтовка. Хендс не стал дожидаться команды своего капитана, здраво рассудив, что услышал ее с борта противника. Сильвер вскочил на ноги. Расчет девятифунтовой испанки уже тянул, толкал, чистил, заряжал. Пять человек с каждой стороны, и второй пушкарь с пороховым рогом, заправляющий затравочное отверстие. Сильвер ощутил облегчение, как будто тора с плеч свалилась. Полная ясность, никаких больше сомнений. Лево! Лево! Лево! кричал Хендс, выбросив в сторону левую руку, и его люди поворачивали пушку влево. Право! он выкинул в сторону другую руку. У пушкарей свой словарь. Чтобы не путать с судовыми командами ларборд и старборд, они кричат лево-право.Лево чуть! И, наконец: Стоп! Ствол замер в направлений окутанного дымом силуэта Моржа. Оставив тот же угол в два с половиной градуса, Израэль Хендс поднес фитиль к затравке. ББУУУММММММ! пушка выплюнула следующее ядро и отпрыгнула назад под восторженные вопли матросов. С командой в десять человек Хендс управлялся куда быстрее артиллерии Моржа. Идиоты, ядро им в задницу! орал Хендс в ухо Сильверу.Нечего нас злить! Навались, навались, ребятушки! подбодрил он свой пушечный расчет. Р-раз! P-раз! Р-раз! в такт команде пушка вернулась в исходное положение. ББУУУММММММ! Сильвер убрался от пушек, протопал на корму, чтобы лучше видеть, подальше от дыма испанки. Команда Льва безудержно веселилась. Моряки размахивали саблями, прыгали и вопили, славя пушкаря и его команду. ББУУУММММММ! Сильвер навел на Моржа трубу. На этот раз Хендс угадал точно. Над палубой Моржа взметнулись обломки, посыпались в стороны матросы. Морж дал залп бортом и промазал. Хендс произвел еще два выстрела и снова попал. Сильвер видел, что на Морже уже были убитые, что одна пушка его перевернулась и слетела с лафета. Что он делает? Что с тобой, Джо? думал Сильвер. Ты ведь специально подставляешься. Стреляешь, как во сне. Его подзорная труба выхватила на палубе Моржа фигуру ему показалось, что это Флинт. Капитан Моржа вскинул мушкет и выстрелил вверх. То же самое сделали и другие, находившиеся рядом с ним. Затем дым от пушек Моржа скрыл продолжение странной сцены. Тысяча чертей! Мы же его утопим за милую душу,он этого хочет? Сильвер недоверчиво потряс головой.Что ты затеял, Джо? Сильвер понял: тут что-то неладно. Флинт не дает стрелять в себя безнаказанно. Долговязый Джон так ни до чего и не додумался, когда почуял запах дыма. Не порохового. Древесного. Сильвер резко развернулся. В центре квартердека имелся небольшой лючок, устроенный для вентиляции и освещения. Оттуда валил дым, подсвечиваемый снизу багровым светом. Самый жуткий кошмар моряка пожар на судне.Глава 47
9 сентября 1752 года. Южная якорная стоянка. Борт Моржа. Утренняя вахта (около восьми часов берегового времени)
Открыть огонь! не приказал, а ласково попросил Флинт, нежно обнимая себя обеими руками. Канониры немедля выполнили приказ, пушки полыхнули, семь ядер унеслись неведомо куда БББУУУМММММММ! На борту Льва что-то полыхнуло и жутко ухнуло. Взорвалось что-то? Впрочем, неважно. Флинт составил мудрый план, который должен сработать безукоризненно, ибо Флинт все предусмотрел. Капитана распирали гордость и уверенность в своем плане. Он едва не лопался от самоуважения Еще пальнем, ребятки! попросил Флинт.Погрейте им задницу. Флинт снова стал самим собой. Чистый, подтянутый, весь обвешан оружием, а повязка ее почти и не видать под шляпой. От переполнившего его самодовольства даже боль в голове развеялась по всем сторонам света. Флинт выпустил себя из объятий, навел на Льва подзорную трубу. Они, что ли, тоже палят? Дым надо Львом клубится. А вот и Сильвер среди своих оборванцев на шкафуте. О, Джон, ласково промурлыкал Флинт себе под нос.И пушчонки у тебя наготове, и канониры с фитилями, и якоря подпружинены. А того и не знаешь, милый мой, что беда у тебя под задницей, тупица безногий. И всего-то мне надо уговорить тебя открыть огонь, а самому держаться вне твоего выстрела. Все пойдет как по маслу, не беспокойся. Флинт неторопливо, медленно улыбнулся, наслаждаясь своей улыбкой, как будто смакуя хорошее вино Очередная вспышка на борту Льва и последовавшее за нею содрогание Моржа пропихнуло улыбку в глотку капитана Флинта. Троица раненых завопила жутким адским трио, на палубу свалилось два трупа, один из которых еще подергивался. В чем дело? Лев вне дальности выстрела! Флинт дрожащими руками навел подзорную трубу на вражеский борт. От шестифунтовок Моржа в такой диспозиции и то проку не будет, что уж говорить о четырехфунтовых мухобойках Сильвера. БББУУУМММММММ! Это не четырехфунтовка! Это что-то намного большее. А откуда, спрашивается, этот новый пушечный порт на борту Сильвера? Нет! выдохнул в ужасе Флинт. Это та самая испанская любовь Израэля Хендса. Флинта залила краска стыда. Он об этой дряни совсем забыл. Его собственный просчет, не на кого свалить. В десяти футах от Флинта, как будто взбесившись, подпрыгнула шестифунтовка, сорвалась с лафета, запрыгала по палубе, убивая и калеча людей и рассыпал по сторонам железные осколки и обломки дерева. Капитан! проорал подбежавший Аллардайс.Капитан, нас лупят! Капитан, разрешите уходить на всех парусах! Флинт повернулся к Аллардайсу, собираясь согласиться с вполне разумным предложением, но в этот момент боковым зрением зацепился за что-то зеленое на грот-мачте. Флинт затрясся от злости. Вот на кого можно свалить, и по заслугам. Вот кто во всем виноват. Дроби мне! завизжал Флинт и топнул ногой с такой силой, что под повязкой разошлись швы и открылось кровотечение. Дроби и охотничье ружье! Он вспрыгнул на опрокинутый лафет разбитой пушки, схватился за парусину бизани. Вон, вон! орал он, тыча вверх пальцем. Вон он, гад! Скотина! Чего с ним, а? опасливо спросил Аллардайс у одного из помощников.Чего он разошелся? Попугай! объяснил тот. Капитанский попугай вернулся. Договорить ему не удалось. Снова раздались грохот и толчок еще одно девятифунтовое ядро врезалось в Моржа. Оба матроса пригнулись, прикрыв руками головы. Кэп, сэр! крикнул Аллардайс.Надо когти рвать! Бунт? Я тебе кишки вырву! взбеленился Флинт,Не слышал? Дробь мне и охотничье ружье! Аллардайс, как будто ища поддержки, покосился на помощника. Ну! Оглох? надрывался Флинт. Дак капитан,Аллардайс молитвенно сложил руки перед грудью.Христом-Богом Откуда у нас дробь-то Да и охотничьих ружей отродясь не бывало Флинт сжал горло Аллардайса обеими своими клешнями, принялся трясти его, брызжа в физиономию слюной и кровью из вновь открывшейся раны. Тогда возьми мушкет и раскромсай его пулю ножом, или я тебя раскромсаю собственноручно, кишки по мачтам развешу. Флинт выпустил Аллардайса и повернулся к команде. Чего вылупились? Сбейте мне живо эту окаянную тварь! Он показал личный пример, схватив мушкет и выпалив в злосчастного попугая, тут же перелетевшего на фок-стеньгу. Команда бросилась выполнять повеление вождя весьма ретиво, но как-то неумело. Все знали, что зеленый попугай краса, гордость и отрада Флинта. Конечно, попугая ненавидели, но никто не хотел бы похвастаться тем, что сшиб птицу Флинта. Да еще на глазах у хозяина. Однако приказ есть приказ, народ активно пускал пули в небо, ничем иным более не занимаясь. Флинт же уселся на палубу и принялся лихорадочно рубить мушкетную пулю сначала в мелкий свинцовый фарш, а затем и в паштет. К нему присоединились Аллардайс и пара помощников, больше боявшихся Флинта, чем ядер испанской пушки, которые, в общем-то, могут и мимо пролететь. Однако не пролетали. Еще один подарочек от Израэля Хендса попал в Моржа, и еще, и еще Ядра прилетали с интервалом в две минуты. Могли бы и чаще, да мастер-пушкарь растягивал удовольствие, смаковал деликатес, а заодно и тренировался по живой мишени. Впору было заключать пари, сколько еще осталось жить Моржу.Глава 48
9 сентября 1752 года. Южная якорная стоянка. Борт Льва. Утренняя вахта (около восьми часов берегового времени)
Гул пушечных выстрелов достиг ушей Билли Бонса; киснувшего на груде балласта в надпиленных цепях. Звук добротный, полновесный, ни с чем не спутаешь. И мощный аж балласт задребезжал. Ага, промычал Билли и откинул в сторону осточертевшие железяки. Ранее никак нельзя было этого сделать из уважения к кормильцам, доставлявшим ему жратву и выносившим отходы его организма. Мелкие засранцы, которым поручалось обслуживать заключенного, с удовольствием нечаянно и немилосердно обливали ноги Бонса и тем, и другим. А вот что с этими ангелочками произойдет, ежели они попадутся ему под руку!.. Билли Бонс поднялся, потянулся, расправил плечи. Две недели тут сидел Затек, конечно, онемел весь. В железяках разве встанешь А снять кандалы еще потеряются И весь мудрый план вождя накроется дырявым решетом. Бонс разгонял по ногам немилосердно коловшие их иголочки; постанывая, растирал руки и плечи. Выносливым животным был Билли. Мог он, конечно, свою персону и пожалеть, но не больше, чем жалеет себя упряжный вол или ломовая лошадь. Бонс подхватил железяку, которая удерживала его, закованного, на месте. Кругловатый в сечении корявый полупрут-полубрусок длиной дюймов в восемнадцать, толщиной в три четверти дюйма, почти прямой. Не ахти что, но сойдет. Билли сунул руку в карман и нащупал флинтовы подарки. Огрызок напильника сделал свое дело, теперь пришло время для другого. Вверху снова рыкнула сварливая испанка, и Бонс невольно задрал голову. Да, Лев с Моржом затеяли перепалку. Об этом говорил и шум иного рода, приказ Сильвера спустить шлюпки, например. Билли Бонс невольно похвалил своего злейшего врага за это разумное действие. Так поступали на военных судах, чтобы шлюпки не мешали обзору и были готовы, скажем, отвезти в сторонку якорь при необходимости оттянуть корабль, особенно здесь, на мелководье. Билли сделал шаг, другой, постанывая от боли в мышцах и ступнях. Идти приходилось в носках по острым камням, которые к тому же расплывались во тьме фонарь висел неблизко. Бонс хотел прихватить фонарь, но раздумал. Слишком велика поклажа. Он осмотрелся и задумался. Бонс находился возле колодца, сквозь который шли трубы насосов. Далее был склад пушечных ядер. Балласт занимал лишь часть нижнего трюма, здесь находились также разные тяжелые грузы. Бочки с водой, к примеру. Тесно, темно, сыро Билли Бонс надул губы и после недолгих размышлений шагнул вперед. Он обогнул колодец, влез на бочки, затем на полок, тоже уставленный бочками. Отсюда вел вверх трап. Свет фонаря тут уже терялся, так что двигался Бонс на ощупь. Он снова остановился. Сейчас лишь тонкая перегородка отделяла его от кают-компании. Опять грохнула пушка, радостно завопили луженые пиратские глотки. По палубе стучал костыль Джона Сильвера. Погоди, Сильвер пробормотал Билли Бонс.Я не я буду, погоди. Он принялся шарить в темноте в поисках люка. Здесь где-то Ага, вот. Он попытался засунуть железяку в щель, чтобы использовать ее в качестве рычага, но щелка оказалась узковатой. Не беда. Снова в действие пошел напильник. Еще немного Теперь как раз; Хрусь! Люк держала снаружи какая-то несолидная: деревяшка, со стуком отлетевшая в переборку и запрыгавшая по палубе. Свет резанул глаза. Две недели в почти полной: тьме и вдруг яркое тропическое солнце. Свет, даже пробивающийся в кают-компанию сквозь верхний лючок, ослепил. Билли принялся тереть глаза. Палубный переполох столь же сильно ударил по ушам. Среди множества голосов выделялось ритмичное Право! Право! Право! Израэля Хендса. Бонс замер. Команда всего в нескольких футах. ББУУУММММММ! И сразу восторженный вопль команды. Чему они там радуются? Билли мрачно осмотрелся и взялся за дело. Кают-компания Шутка, почти издевка. Это не тот офицерский клуб, которым хвастают многопушечные боевые единицы короля Георга. Тесный отсек, освещенный верхним лючком, с проходом в середине и крохотными, четыре на семь с небольшим футов, каморками офицеров. Билли принялся выволакивать все из офицерских нор, в особенное обращая внимание на горючие материалы: бумаги, деревянные мелочи. Все это он сваливал в кучу в проходе. Распотрошил матрасы и бросил туда же солому. Подтащил мебель из кормовой каюты. Из своей конуры Бонс захватил сундук и отправился с ним в трюм. Там он достал из сундука бумагу и галлонную бутыль оливкового масла. Хватило и кучу полить, и провести масляные дорожки во всех направлениях. Разлив и размазав масло, Билли снова вернулся в трюм и занялся последним подарком Флинта; Это бывший карманный пистолет, изящная игрушка со съемным стволом, позволяющим заряжать его с казенной части. Без ствола да без рукояти мало что осталось от этого оружия. В таком состоянии, заряженный лишь порохом и пыжом, для стрельбы пистолет, конечно, не годился. Зато прекрасная из него получилась зажигалка. Бонс взвел курок и поднес эту штуковину к куче сухой, не смоченной маслом бумаги. Так Флинт велел. Масло труднее зажечь, Билли, мальчик мой, поучал Флинт.Сначала вспыхнет сухое, а потом уже, от него, масло. Билли благоговейно следовал мудрым словам вождя. Все-то он знал наперед. Бонс вспомнил последнюю беседу с Флинтом на Морже. Флинт был с ним поразительно откровенен. Честнейший человек! Все остальные слышали от капитана разного рода басни и сказки, скроенные по обстоятельствам и с учетом особенностей восприятия аудитории. Но Бонсу Флинт всегда говорил правду. Не собираюсь я ни с кем ничего делить, Билли, цыпка моя. Ни монетки, ни пылинки. Флинт не скрывал от Бонса, что он и своего верного прихвостня исключает из числа пользователей добычей. Он только рассмеялся и дернул Билли за нос.Ни на сто сорок семь частей, ни на семьдесят четыре, ни на двадцать пять. Ни даже на две Вся добыча принадлежит Джо Флинту. В этом великая истина, и к этой истине причастен Билли Бонс. Остается еще уладить вопрос, как я попаду в Англию В Англию, капитан? удивился Бонс, как всегда, соображая с некоторым запозданием, пытаясь следовать в кильватере мудрой Флинтовой мысли. Да, в Англию, мистер Бонс, в Англию. Чтобы попасть туда, нужна мореходная посудина, а любое судно требует экипажа, никуда не денешься. Хотя бы сокращенного чтобы довели корабль туда, откуда Плимут видать. А там спаси Господь их драгоценные души! Но пока руки их тянут фалы, в головах их бродят нечестивые мысли о пиастрах да восьмериках, дублонах да луидорах. Ума не приложу, что мне с ними делать Ничего, рассмеялся Флинт, верь мне, мы с тобой что-нибудь придумаем, дражайший мистер Бонс. И Билли верил Флинту. Без Флинта он своего будущего не представлял. Жить значит служить Флинту, об иной судьбе Бонс не помышлял. Он представлял себя любимым слугой Флинта, богатейшего землевладельца, собственника дворцов в городах и сельских имениях, так что и об участи своей не беспокоился. Уладив абстрактное грядущее, Билли вернулся к реальности. Он нажал на спуск, кремень щелкнул, пламя охватило бумагу, и костер вспыхнул, Бонс чуть выждал, убедился, что пламя не погаснет, и подался вон, оставив люк открытым для тяги. Он оглянулся, и в лицо ему пахнуло жаром. Кают-компания лучшее место, чтобы такое устроить. Тонкие сухие доски переборок, тряпки, парусина Ему ли не знать! Это, однако, спокойствия Бонсу не принесло. Наоборот. Билли моряк от венца сальных волос на голове и до грязи под ногтями рук и ног. Он знал, что вытворил такое, за что бог моряков пошлет его душу в ад моряков, и даже Христос ему не заступник. Преданность Флинту не спасала от когтей вины. Уж Бонсу ли не знать, что такое пожар на судне Сухопутные крысы по глупости не понимают, как может судно сгореть в такой бездне воды, но моряки знают правду. Корпус сухой, просмоленный, паруса да фалы все горит адским пламенем, особливо в тропическую жару. Однако дело сделано, Лев обречен, пора и шкуру спасать. Билли Бонс занялся своим пробковым снаряжением. Остальному содержимому сундука подарил тяжкий вздох. Здесь все его имущество Потом Бонс ощупью направился вперед по темному трюму, проломил пару люков, спрятался возле порохового склада, где работал кто-то из команды и куда поминутно юнги вбегали за пороховыми картузами. Билли узнал одного из мелких мерзавцев, поливавших его неаппетитной смесью из экскрементов, и с трудом сдержался. Не время обращать на себя внимание. Он глянул назад, и ему показалось, что он увидел отблеск пламени. Но нет, вряд ли, ведь до кормовой кают-компании столько переборок Понюхал пока пожаром не пахнет. Юнга унесся прочь, а Бонс пополз дальше, пробираясь вплотную к носу, чтобы покинуть борт, когда наступит наилучший для этого момент. Тебе надо дождаться, Билли, цыпленочек мой, учил Флинт.Пожар пойдет с кормы, и, когда все головы повернутся в ту сторону, ты плюхнешься в водичку. Как всегда Флинт оказался прав. Пожар на борту! донесся до ушей Бонса рык Сильвера. Все его услышали. Даже Израэль Хендс и его пушечная команда прекратили возню вокруг своей испанки. Все сознавали, какая опасность им угрожает.. Билли выполз из укрытия как раз перед фок-мачтой, один-одинешенек и, с трудом передвигая негнущиеся ноги, путаясь в пробковой сбруе, направился к борту. Обернувшись, Бонс окинул взглядом палубу, матросов, боровшихся с огнем, заметил и испанскую девятифунтовку, и видневшегося в далекой дымке Моржа, посмотрел на изгиб берегового пляжа и зелень джунглей, голубое небо и горячее солнце и наконец наконец заставил себя взглянуть вниз, в мокрый соленый кошмар под ногами. Всю жизнь он провел вблизи от этой жижи, в лодке или на палубе, но никогда не пытался в нее погрузиться, не желал учиться плавать. Бывалый мореход Билли Бонс боялся воды. На корме команда напрягала все силы в борьбе с огнем, работали насосы, мелькали ведра и шланги. Никто не смотрел в сторону Билли, скрючившегося на носу, дрожавшего, как юная дева в первую брачную ночь. Если храбрость и преданность добродетели (а как же может быть иначе?), то Билли Бонс проявил добродетель. Храбро боролся он с одолевшим его ужасом, беззаветную преданность делу выказал он. Может быть, бог моряков все же скостит ему часть вины за сотворенную в этот день добродетель Билли всхлипнул, зажал нос и прыгнул.Глава 49
9 сентября 1752 года. Южняя якорная стоянка. Предполуденная вахта (около десяти утра берегового времени)
Селена вышла на палубу и огляделась. На Морже творилось нечто невообразимое. На палубе валялись изуродованные трупы, извивались умирающие, вопили раненые, а Флинт, вооруженный окровавленной саблей, был очень занят тем, что добивал еще двоих членов экипажа, пытающихся от него удрать. Внизу ее удерживал страх, и наверх она выбежала тоже со страху. Взломанная дверь не запиралась, но Селена так боялась команды, что не отваживалась показываться на палубе, не надеясь даже на защиту Флинта. Уплыть снова? Но она чувствовала себя обессиленной. Когда бабахнули пушки Моржа, Селена забилась в уголок и сидела там, дрожа от страха. Но этот страх показался ей детским по сравнению с тем, что она испытала, когда вдруг одну стену ее убежища проломило ядро испанской пушки и исчезло сквозь дыру в противоположном борту, пропахав в полу солидную борозду. Селена взвизгнула и выбежала вон. Черная метка? орал Флинт. Я вам поставлю красные метки. С этими словами он полоснул одного из преследуемых саблей по затылку и проткнул грудную клетку второго. На разбитой палубе Моржа валялись остатки пушек, громоздились обломки. О дисциплине забыли, и Флинт, только что убивший двоих, оказался в кольце оставшихся. Человек двадцать столпились вокруг него с топорами, пиками и саблями. Нельзя сказать, что они Флинту угрожали. Напротив, можно утверждать, что они его опасались даже, пожалуй, отчаянно трусили. Они ерзали, стараясь не оказаться лицом к лицу с Флинтом, ускользнуть в сторону, спрятаться за кучу обломков или забраться на нее, чтобы получить преимущество в высоте. Обычно когда боятся драться, вспоминают о законе. Капитан, ты не имел права их убивать! крикнул Аллардайс, указав на свежих покойников Это не по Артикулам! Не по Артикулам! подтвердил: нестройный хор. Ты совсем свихнулся, капитан! Да, да, да прожужжали остальные. В попугаев палишь! Да, да, да На хрена нам такая забава! Мы джентльмены удачи, а не птицеловы, да! Да, да, да Ты должен принять черную метку и не имеешь права трогать тех, кто ее тебе принес! Да, да, да Чушь собачья! гаркнул Флинт, не обращая внимания на стекающую по физиономии кровь. В Артикулах ни слова о черной метке. Истинная правда. Флинту это было известно, Аллардайс этого не знал, но читать не умел и возразить не отважился. Ну Ну Тогда Это обычай такой! Обычай! Славная традиция! вспомнил Аллардайс терминологию военного флота, в котором начинал морскую карьеру. Традиция? Салага! Козел вонючий! Терпение Флинта лопнуло. Он бросился на Аллардайса. У того хватило ума отскочить, но трое стоявших рядом решили встретить Флинта оружием. Зря. Во мгновение ока один лишился кисти руки, другой свалился подыхать с перерубленным горлом, третий упал уже мертвым. И все, мятеж подавлен. Самых храбрых; способных поднять на него оружие, Флинт вывел из строя, убил или искалечил. Более никаких возражений он не услышал. Лишь стоны недобитых и невнятное бормотание оставшихся невредимыми. Все так же бормоча, они отошли и сгруппировались кучками. Флинт стер с физиономии кровь и пот, заметил Селену и насмешливо поклонился. Гляди! она показала на Льва. За внутренней сварой они позабыли о противнике и не заметили, что корма его полыхает. А-а-а, наконец-то, пробормотал Флинт, мгновенно сориентировавшись. Смотрите, ребятишечки! заорал он команде.Ваш капитан все предусмотрел. Эти придурки сейчас станут жареным, беконом. А каждый из нас получит двойную долю, так-то! Такое сообщение вызвало взрыв ликования. Разумеется, трижды виват мудрому капитану и полное ему послушание. Все уцелевшие рассыпались по палубам и принялись приводить судно в порядок. Селена, дорогая, обратился Флинт к негритянке с видом древнего аристократа. Не будучи осведомленной в делах мореходных и в искусствах боевых, вы, разумеется, не заметили, что судно наше, хотя и несколько повреждено в корпусе, но в рангоуте и такелаже ничуть не пострадало. Израэль Хендс всегда предпочитал бить ядрами по корпусу, а не цепями по парусам. И это принесет ему погибель сегодня. И на глазах у Селены Флинт совершил невозможное. Раскуроченный Морж превратился в боеспособное судно. Обломки, покойники и все приравненные к ним полетели за борт, ручное оружие перезарядили, Флинт произвел перегруппировку, разбитые пушки заменили целыми, восстановив семипушечную батарею. Заряд шрапнелью, дорогая. Точнее, фланелевым мешком с сотней мушкетных пуль. Лучший подарок для команды, покидающей догорающую посудину. Долговязый Джон, обратился к Сильверу Израэль Хендс.В трюме перед магазином дюжина тридцатифунтовых бочонков пороху. Надо уносить ноги. Нельзя. Лев потерян, спору нет, но на берегу не сапоги же жевать. Надо припасы снять.Матросы торопливо загружали скиф продовольствием. Одна загруженная под завязку шлюпка уже направлялась к берегу. Веселей, ребята, веселей! подбодрил Сильвер команду. Народ носился как угорелый, а Джон Сильвер старался поддержать дух, наставлял, как и положено настоящему лидеру. Он умудрялся хлопнуть бегущего матроса по плечу и обратиться к нему по имени, он даже пару раз хохотнул, несмотря на то что палуба под ногами уже раскалялась. Никакой самый опытный офицер короля Георга не справился бы лучше. Не прекращал работать насос, вода из парусиновой кишки толстой струей била в пламя, сдерживая его, сколько можно. Рядом трудилась бригада из дюжины ведерников, выливая на огонь морскую воду из передаваемых от борта посудин. Муравьями ссыпались по трапам и поднимались наверх матросы, нагруженные самым необходимым для погорельцев, загружая добром шлюпки. Долговязый Джон, снова принялся за капитана Израэль Хендс. Огонь подходит к магазину. Склад я очистил, но бочки с порохом сразу за ним и, знаешь, уже на ощупь горячие. Надо сматываться, Джон! Нет, черт побери! Команда семь десятков душ, их кормить придется, и я хочу забрать все сухари, все соленья и свинину. Но порох не попросишь подождать, Долговязый Джон! Хендс лучше любого другого представлял, что такое двенадцать тридцатифунтовых бочонков пороху. От семидесяти человек не останется и горстки мяса, чтобы одну чайку покормить, если эти бочонки ахнут. Сильвер огляделся. На палубе делать больше нечего. Народ работает на совесть Никто из них о порохе не помнит. И не стоит о нем напоминать. У каждого свой предел выдержки. Мистер пушкарь, не могу с тобой спорить, ты прав. Спасибо, что вовремя сказал о порохе. Сильвер хлопнул Хендса по плечу,Пойдем-ка, займемся с тобой этим. Хендс вовсе не этого добивался, но показать себя трусом не пожелал. Есть, капитан, кисло откликнулся он, вскинув ладонь к шляпе. И захвати молоток с зубилом. Пора эту скотину мистера Бонса выпустить. Не сжигать же его заживо только за то, что он мерзавец. Сильвер повернулся к команде. Так держать, ребята! Джордж Мерри и Черный Пес, за мной, мы с мистером Хендсом возьмем кое-какой инструмент. Они нырнули в задымленный трюм. Он, однако, оказался неплохо освещен. С того момента, как судовые плотники на верфи настелили палубы, не было здесь так светло до этого самого дня. Они продвигались цепочкой, впереди Сильвер, оставивший костыль наверху, ибо на трапах и в лабиринтах трюма проку от него не было. За Сильвером двигался Израэль Хендс, далее следовали Джордж Мерри и Черный Пес. Билли, малыш! крикнул Сильвер, добравшись до закутка Бонса. Но от малыша Билли осталась лишь цепь. Куда он делся? недоуменно спросил Хендс. Кто знает, пожал плечами Сильвер.Ну, раз его нет, то и не сгорит, времени на него тратить не надо, и на том спасибо. Он направился далее, к магазину. Доски переборок, огораживающих этот отсек, чернели от жара, на них пузырилась выделяющаяся смола. Жар волосы жег, дым разъедал глаза. Пронеси, Господь, врывалось у Хендса. Вместе с порохом пронесет, усмехнулся Сильвер. Вот он, порох. Угу. Бочонки с порохом мирно стояли рядком поверх бочек с водой. Сильвер шатнулся вперед, оперся бедром о переборку магазина, снял первый бочонок. Осади назад, мистер пушкарь, ближе к трапу, и передай этот подарочек мистеру Мерри. Сильвер не мог передвигаться с грузом в руках, поэтому он опустил бочонок и толкнул его в сторону Израэля Хендса. Деревянная клепка уже нагрелась, а медные обручи казались раскаленными. Оп-ля! Израэль Хендс подхватил опасный груз и передал его Джорджу Мерри. Ух ты удивился Мерри. Дак Разве ж тут инструмент? Ответ Хендса на удивленный вопрос мистера Мерри прозвучал настолько энергично и вразумляющее, что тот, хотя и не отличался самым светлым умом в команде, все же осознал неуместность дальнейшей дискуссии. Забыв о любопытстве, он принял бочонок и передал его далее Черному Псу. Очутившись на палубе, бочонок проследовал в очередную шлюпку. Второй бочонок появился сразу за вторым, но далее работа пошла медленнее. Сильверу приходилось несладко. Израэль Хендс стоял за магазином, Джордж Мерри на трапе, а Сильвер оказался на линии огня, на одной ноге, да еще нужно было тянуться над водяными бочками. Передавая десятый бочонок, он заметил, что ткань его одежды обугливается, а доски магазина вот-вот вспыхнут. Долговязый Джон, надо бежать! не выдержал Израэль Хендс.Одна щелочка, одна крупинка и всё! Нет-нет, уже почти готово, хрипел Си ль пер. Он толкнул десятый и потянулся за одиннадцатым. Далеко, черт! Еле достал. Пот капал с физиономии на обручи и шипел, закипая. Христом-Богом, Джон Брось Нет! Сильвер потянулся за последним. Кроме него этот бочонок никто на судне и достать бы не смог, росту не хватило бы. Черт! вырвалось у него. Из-за бочек с водой прыснул выводок крыс с дымящейся шерстью и обваренными хвостами. Джон! крикнул Израэль Хендс. Капитан, Морж поднимает паруса, доложил от трапа Джордж Мерри, получивший свежую информацию с палубы. Уфф! Уши Сильвера лизнуло пламя. Дым от одежды повалил гуще. Он едва удерживал перегретый последний бочонок. Повернулся, чтобы покатить его Израэлю Хендсу и выронил, упал на него сверху, обнял, пополз с ним к трапу. Морж к нам собрался, капитан, сообщил': Мерри. . Держи! Этот слишком горячий, сказал Сильвер.Вверх и сразу за борт. Ой! Израэль Хендс прикоснулся к бочонку и отдернул палец. Есть, сэр, за борт! Ай! вскрикнул и Сильвер. Жар от одежды дошел до кожи. Его спасла шерсть сукна. Любая другая ткань вспыхнула бы. Мерри, живей, помогай! Хендс вцепился в Сильвера, из-за усталости и отравления дымом неспособного подняться. Джордж Мерри, избавившись от бочонка, подхватил капитана с другой стороны. Они вытащили Сильвера на палубу, сняли с него тлеющий сюртук и окатили водой. Спасибо, ребята! пробормотал Сильвер, отфыркиваясь.Еще одно, прямо на голову А-ах-х, хорошо! Они поставили Сильвера на ногу и вручили костыль, поглядывая на своего капитана с почтительным ужасом. Команда-а-а! заорал Сильвер. Все головы повернулись к нему. Замер насос, остановилась цепочка таскавших ведра. Работа прекратилась, лишь огонь все еще бушевал, пожирая бизань-мачту. Ребята! продолжил Сильвер.Игра закончена. Каждый сделал все, что мог, я горжусь вами. Они заухмылялись, загудели, однако он подпил руку, призывая к молчанию. Сейчас мы покинем Льва, но я призываю вас попрощаться с нашим славным судном. Трижды ура Льву! Гип-гип Ур-ра-а-а-а! Гип-гип Ур-ра-а-а-а! Гип-гип Ур-ра-а-а-а! Лев первое судно Сильвера, и даже не будь этот парусник столь красив, он все равно любил бы его. Поэтому призыв оказать почтение погибающему судну вырвался из глубины души; он даже не знал, что многие капитаны до него так же салютовали своим судам и многие вынуждены будут последовать его примеру в грядущем. Был в этом салюте и чисто практический смысл: поднять Дух людей, сплотить команду, чтобы не превратилась она в стадо индивидов, в котором каждый сам за себя. Что ж, ребята перешел Сильвер к заключительной фазе обращения.Кто плавать обучен, плыви, кто не обучен гребцами. Как на британском флоте заведено: молодежь вперед, затем старички А теперьОн помедлил. С трудом дались ему эта последние слова: Покинуть борт! И он пошел по палубе, подбадривая команду. Такой приказ не вмиг выполняется. Сначала за борт полетело все, что способно плавать, что волны могут прибить к берегу. Крышки и решетки люков, запасные реи и стеньги, скатанные в рулоны подвесные койки Затем двадцать человек из семидесяти одного перемахнули через борт и поплыли к берегу. Не слишком в себе уверенные держались за что-нибудь плавучее. На борту остались пятьдесят один моряк и трое юнг. На две ходки шлюпки и одну ялика. Сильвер покинул борт последним. Огонь уже подбирался к грот-мачте. Сидя на корме лодки, Сильвер глядел на Моржа. Кровожадного Флинта подвел ветер. Паруса висели, как белье на просушке. Долговязый Джон навел на вражью посудину подзорную трубу, прошелся от бушприта до кормы и чуть не выпрыгнул за борт, увидев Селену, бьющуюся в руках Флинта.Глава 50
9 сентября 1752 года. Южная якорная стоянка. Предполуденная вахта (примерно полдвенадцатого берегового времени)
Флинт изучал Льва в подзорную трубу. Хорошо горел Лев, активно. Но и люди на нем не спали, тоже быстро шевелились. Запустили насос, черпали забортную воду ведрами, грузили свое барахло в лодки. Не нравилась ему вся эта активность. Совсем не нравилась. В противоположность Льву Морж вел себя как гнилое бревно. Не двигался! В пушках мирно спали заряды картечи, которыми он собирался истребить команду Сильвера, всю, до последнего человека. Какая жалость! Какой позор! Адский стыд! Хуже некуда. Сильвер увел всю команду, до последнего дрекового*["902] юнги, из-под носа Флинта! Что скажешь, бравый капитан? спросила вдруг Селена, стоящая рядом на квартердеке. Похоже, снова Долговязый Джои оставил тебя с носом. Что-о? С какого это дьявола ты так решила? Он надрал тебе задницу. Ухлопал половину твоей команды, а теперь у него в руках остров и все твои драгоценности. Х-ха! И с чего я вообразила, что ты умный? Она стремилась его обидеть, отомстить за свое унижение, за свои страдания. Тем более что Морж подошел ближе к берегу, она могла бы запросто прыгнуть в воду и уплыть. На берегу теперь не Флинт, а Долговязый Джои. Единственная проблема пушки и мушкеты команды Моржа. Глаза Флинта округлились и побелели. Попугай или Билли Бонс поняли бы, что приближается гроза. Но не было их на борту. А она попала в точку. В самую болезненную точку. Когда утром взошло солнце, на борту Моржа находилась вполне приличная команда, семьдесят три человека. Осталось тридцать четыре. Остальные на попечении мистера Коудрея либо за бортом, покойники. И четверых из них прикончил сам Флинт, о чем теперь сожалел, потому что выступить против семидесяти одного бойца Сильвера с оставшимися силами нечего и думать. Сука! гневно бросил Флинт и занес руку для удара. Но она отпрыгнула, затем вскочила на пушку и чуть было не исчезла за бортом, Флинт успел схватить ее за штаны. Селена вырывалась, пришлось прижать ее к себе. Оттаскивая девушку от борта, Флинт ощутил неожиданное воздействие этой близости. В последний раз он прикасался к женщине в ходе своих в высшей степени неуспешных экспериментов со шлюхами в Портсмуте. Давно это было.0 ХмФлинт дышал тяжело, сердце билось учащенно. Мы тебя запакуем обратно, девуля. Плотник дверь быстренько починит.Он улыбнулся и отважился притронуться к ее щеке губами. Мысли придушить эту сучку или перерезать ей глотку уступили место другим, куда менее кровожадным.* * *.
Берег. Народ выпрыгивал, вытаскивал лодки. Твердая земля под ногами? Как бы не так. Только не для Долговязого Джона. Его кссгыль зарывался и вяз в песке. А ведь глянь, капитан Израэль Хендс махнул в сторону Льва. Похоже, что-то останется. Сильвер обернулся в сторону горящего судна, всмотрелся. От грот-мачты к корме все полыхало, но далее к носу огонь почему-то не распространялся и даже, похоже, угасал. Да, кусок носа может и остаться на память. Но на носу в море не пойдешь. Как, много мы спасти успели? Свинина, сухари, другой жратвы навалом, капитан. Главное ром! успокоил Хендс Оружие и боеприпасы.Он ухмыльнулся.Порох, порох, капитан! Пороху у нас век не перестреляешь, подчеркнул он под ржанье команды.Навигация всякая: карты, компасы и прочее. Хендс повернулся к зарослям. И островок вовсе не плохой. Был я здесь раньше, с Флинтом. Вода есть, фрукты растут съедобные. Козы прыгают. И даже блокгауз где-то построен. Эгей! Поток воспоминаний Израэля Хендса прервал окрик Сарни Сойера, Он шагал рядом с группой моряков, подталкивающих кончиками обнаженных сабель перепуганного до смерти Билли Бонса, опутанного сетью с пробковыми поплавками. Во какую рыбку изловили, капитан. Билли спрыгнул за борт, когда пожар начался, ясное дело. Только как он из кандалов выпрыгнул? И откуда всю эту тряхомудию выудил, очень бы интересно узнать. Однако интересно это было не всем. Очень многие предлагали сразу повесить Бонса поближе к солнышку на ветку. Тихо, тихо! крикнул Сильвер, пробираясь по песку к Билли Бонсу.Что за наряд на тебе, Билли? Джон потрогал сети и поплавки. Бонс только пыхтел. Такого ведь в момент не соорудишь. Это заранее задумано. И как из кандалов выпрыгнуть. И как судно спалить. Так ведь, Билли, цыпка моя? Много усилий пришлось приложить Сильверу, чтобы спасти жизнь Бонса. Если б не Долговязый Джон, пришлось бы Бонсу молить небеса лишь о том, чтобы смерть его оказалась как можно менее мучительной. И опять причиной такой странной позиции Сильвера оказалось то же, что и раньше. Он единственная квадрантная башка под рукой, убеждал Сильвер.Без него нам тут, на острове, с козами, век вековать. Так Бонс остался в живых. И еще один член команды Моржа, приближенный к Флинту, прибился к Сильверу.; Попутай, капитан. Весь в дырках, как решето, но, зараза, живучий.Сарни Сойер предъявил Сильверу птицу, вид которой и вправду оставлял желать лучшего. Пустить его в суп, что ли? Все-таки Флинтов шпион. Но Сильвер не дал боцману отведать супа из попугая. С чего это? Если мы такую гнусную паскуду, как Билли Бонс, помиловали, то за что казнить бедную птаху? Иди сюда, милый. Мы тебе чего-нибудь поклевать сообразим, водички нальем Долговязый Джон снял шляпу и посадил попугая в нее; как в гнездо, в точности, как это делал ФлинтСильверу попугай давно нравился, и он, если не считать Флинта, был единственным, кто мог прикасаться к птице, не рискуя потерять пальцы. Нет, Капитан Флинт, сказал он попугаю.Мы тебе не свернем шею, не бойся. А ближе к вечеру, когда, наконец, над Южной бухтой потянуло ветерком, на остров пожаловал Джо Флинт собственной персоной. Ну, не совсем на остров. Он прибыл на катере Моржа, установив на носу его вертлюжную пушку. Флинт явился с флагом как парламентер на переговоры. Остановился чуть дальше мушкетного выстрела, ради вящей личной безопасности, но так, чтобы доораться можно было. С чем прибыл, Джо? приветствовал его Сильвер вопросом, стоя перед своими вооруженными до зубов матросами.Что расскажешь? Да немногоФлинт улыбнулся.Билли Бонс с тобой Что, Билли, сменил хозяина? Бонс с воем вырвался из удерживавших его лап и понесся к Флинту. Пусть бежит! крикнул своим Сильвер.Плавать это полено не умеет, а Флинт за ним не пожалует, струсит. Да, зря Бонс надеялся, слезно умолял и убеждал Флинта, что он его вернейший слуга. Не поверил ему Флинт. То есть сделал вид, что не поверил. Не признаваться же, что и вправду трусил. Ну, так что же, Джо? снова поинтересовался Сильвер. Привез тебе надежду, которая тебя согреет ночью. Сильвер молча ждал, пока Флит покончит с клоунадой и перейдет, наконец, к делу. У тебя остров, у меня судно, так? Ну И у меня твоя чернушка, которая по доброй воле остается со мной. Ей осточертел одноногий калека, не способный удовлетворить естественные потребности здоровой женщины.Флинт засмеялся. Ублюдок, произнес Сильвер себе под нос. Джон, не кипятись, спокойно пробормотал сзади Израэль Хендс.Заврался хмырь, ему даже собственная команда не верит. Все знают, что она твоя. И тогда, когда мы плавали к поповской морде, она выпрыгнула, чтобы к тебе уплыть, да попалась этому выродку, Хендс кивнул в сторону все еще заливавшегося соловьиным смехом Флинта и усмехнулся:А что до него, то я тебе скажу: никто никогда не видал его с бабой. ХмСильвер вспомнил о том, что Селена говорила о Флинте. Четко и раздельно, чтобы все поняли, он прокричал: Врешь, Джо! Селена видит мужика издали и насквозь. А ты не мужик, и она это знает. Сильвер чуть было не продолжил. Он мог бы рассказать и о дырочках в переборке. Такое убило бы Флинта в глазах всей команды, стоило вы ему судна и головы. Но, с другой стороны, могло вызвать и месть Флинта Селене. Сильвер не хотел рисковать этим. Ни за какие сокровища. Однако и сказанного; хватило. Сильвер рассчитал верно. Флинт сник. Он опустился на банку, сокрушенный отпором. Уж он-то понял, что имел в виду Сильвер. Страх кольнул его в позвоночник. Флинт воображал, что никто ни о чем даже не догадывался. Он ведь, вроде бы, проявлял осторожность. Пошли назад! крикнул Флинт гребцам. Живо! Так скоро, Джо? крикнул Сильвер под гогот своей команды. Флинт, однако, быстро опомнился. Он снова вскочил и выкрикнул, чтобы оставить последнее слово за собой: Я вернусь, Джон, вернусь с полной командой и сниму шкуры со всех вас, с каждого, никого не пощажу! А потом зажарю над костром!Глава 51
12 сентября 1752 года. Южная Атлантика, Борт Моржа Предполуденная вахта
Селена поняла, что Флинт безумен. И безумен как-то по-особенному. Как он и обещал, дверь кормовой каюты починили и Селену заперли. Но лишь только остров исчез за горизонтом, он выпустил девушку, пригласил на палубу и обходился с нею столь же по-королевски, как и при первом ее появлении на борту. И дорогая, и мадам, и моя нубийская принцесса Но видно было, что Флинт уже не тот. Он мог в любой момент взбеситься, чего с ним раньше никогда не случалось. Для нее он, правда, в такие моменты опасности не представлял только для команды. Селена полагала, что голову, которую мистеру Коудрею снова пришлось заделывать, Флинт изрядно повредил. И еще она считала, что Флинту сильно недостает попугая, хотя он исчезнувшую птицу ни разу не помянул. К счастью для Селены команда теперь боялась капитана пуще прежнего, особенно из-за его непредсказуемых припадков бешенства. На нее отныне и глянуть-то боялись, не говоря уж об усмешках или репликах Только и слышно было робкое: Так точно, мисс Селена, Никак нет, мисс Селена, Будет сделано, мисс Селена, и тому подобное. Так что ей ничто не мешало разгуливать по палубе и залезать куда вздумается. И Флинт больше не подглядывал в дырочки. Более того, они вдруг оказались заделанными. Селена ведь давно знала, где располагались половые щели капитана Флинта. Зато завел Флинт новую моду: он целовал Селене руку, как знатной леди, да обнимал за талию, Казалось, он при этом млел, поэтому она заподозрила, что старая игра велась на новый лад. Что бы там ей ни казалось, а вот с Джоном Сильвером ей точно не суждено скоро увидеться, да и суждено ли вообще И это плохо, очень плохо. И ничего ведь не поделаешь. Ждать и надеяться, вот и весь выбор. Чтобы не терять времени зря, она упросила Флинта научить ее заряжать и стрелять, что ему и самому понравилось. И вскоре Селена стала весьма неплохим стрелком.Глава 52
12сентября 1752 года. Остров. Холм Подзорная Труба. Утро
Хоть ходить стало легче, и то слава богу! Плотник приделал к концу костыля кругловатую деревяшку, чтобы Сильвер не утопал в песке или в трясине болотной. На сухой твердой поверхности костыль стал на дюйм выше, да и ладно. И вот Джон Сильвер пустился осматривать остров, проводить инвентаризацию, можно сказать. С макушки острова открывался отличный вид. Но на сей раз он не радовал. Да и воздух не был чистым и свежим, особенно при таком жарком солнце. И кто бы это мог быть? спросил Сильвер, вглядываясь в раздутый, кишащий личинками мух труп, валяющийся под мускатным орехом.Сдается мне, встретились мы с Джимми Камероном, мистер Хендс. Точно, капитан, подтвердил Израэль Хендс и добавил:И вон еще Фрэнки Скиллет, подальше, голова глаже задницы и пуля в брюхе. Он, точно, из всей шестерки один бритый был. Попугай на плече Сильвера квакнул и потерся клювом о капитанов висок. Да, навидался ты, бедняга пробормотал Сильвер и пощекотал зеленые перья. Ты бы точно смог рассказать, как эти бедные олухи простились с жизнью. Но ладно, ладно, молчи, не растравляй старые раны, мы и сами все понимаем. Попугай благодарно щипнул Сильвера за ухо. Раны его оказались несерьезными, вот устал он сильно. Особенно духом устал. Через день-другой попугай уже взлетел и опустился на плечо Сильвера, как будто и всегда там сидел. И корм брал теперь только от Сильвера, на остальных косился. Итого, значит, четыре, капитан, по-бухгалтерски подвел итог Хендс. С Питером Эвансом на пляже и Йеном Фрезером там, он мотнул головой в сторону большой Флинтовой скалы.Это же Флинт их, так я понимаю Ну, не мамочки же их родные! Бот только где Роб Тэйлор и Генри Говард Души их там же, так что помочь им ты теперь ничем не сумеешь. Ф-фу, вонища! Пошли вниз, мистер пушкарь. Он заковылял обратно. Спуск дело неудобное. Пройдя несколько шагов, Сильвер остановился и обернулся. Израэль, приятель А вот скажи-ка мне, что бы случилось, если бы ты, Слепой Пью да Сарни Сойер всучили мне тогда черную метку, тогда, на Льве? Может, помирились бы с Флинтом и была б у вас сейчас палуба под ногами Не-е, кэп, не-е! Хендс истово замотал головой, как дикарь пращой.Не было никакой метки, не было. Мы пришли, чтобы сказать, что мы с тобой, все до одного. Мы обсудили и решили, что дурака сваляли, надо было против захоронения голосовать. Флинт себя выдал, когда велел Льву и Моржу следить друг за другом и стрелять, коли другой подастся к берегу, Этот скот науськивал нас друг на друга. Ты все время прав был, и мы хотели прощения просить. Да ну? Точно, капитан! Не было тогда на борту человека, как и теперь нет на острове, который бы затобой не пошел, куда ни поведешь. Все остатние зубы даю! Чтобы не проявить эмоций, позволительных женщине или ребенку, но никак не капитану и боевому командиру, Сильвер стиснул зубы и глянул куда-то в сторону. Он вздохнул, потер глаза и улыбнулся Израэлю Хендсу. Много работы предстоит в этом заброшенном Богом местечке. Флинт обещал вернуться, и он вернется, коли жив останется. И за. Селену Сильвер не мог не беспокоиться. Да и суждено ли ему снова ее увидеть Но со всем можно сладить, если с тобой добрая команда. Долговязый Джон снова повернул вниз, на козью тропку, ловко виляя меж камней. Он шел, высокий, на голову выше самого рослого в команде, в синем обожженном мундире с большими латунными пуговицами, в шляпе над красным шелковым платком, впитывающим пот. На боку сабля, за поясом два пистолета, в плечо вцепился когтями большой зеленый попугай. Идем, идем, мистер Хендс. Много нам дел предстоит!Примечание
Юлианский и григорианский календари
В пятницу 15 октября 1582 года просвещенная католическая Европа приняла новый Григорианский календарь, предложенный калабрийским астрономом Алоизиусом Аилиусом и введенный буллой Его Святейшества Папы Григория XIII, в честь которого этот календарь и назван. Григорианский календарь корректировал ошибку, накопившуюся в прежнем, юлианском календаре, заставлявшую естественные природные явления, такие, как равноденствия, сползать все дальше и дальше от года к году. Введение нового календаре требовало, чтобы после четверга 4 октября 1582 года следовала пятница 15 октября. Протестантская Европа, включая Англию и ее заморские владения, сопротивлялась всему католическому, в том числе и новому календарю, до тех пор, пока глупость такой политики не стала слишком очевидной. Наконец, через 170 лет, под негодующие вопли невежд, требовавших: ВЕРНИТЕ НАШИ ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ! Британия все же ввела григорианский календарь, и за средой 2 сентября 1752 года последовал четверг, 14 сентября. События, описанные в этой книге, в частности захоронение сокровищ, имели место как до, так и после даты перехода на новый календарь, и, дабы избежать путаницы, все даты даются по юлианскому календарю, по старому стилю.Фрэнк Йерби Гибель «Русалки»
Пролог
1 апреля 1900 года Ланс Фолкс ехал под проливным дождем из Фэроукса в скверном настроении, что в его обстоятельствах было вполне понятно. – Дурак, – ворчал он про себя, – с дурацким поручением в День дураков! Черт бы побрал эту Джуди, чем старше она становится, тем больше похожа на своего папашу… Он имел в виду тестя, покойного Гая Фолкса. Джуди считалась дальней родственницей Ланса и от рождения носила фамилию Фолкс. Поскольку и замуж она вышла за Фолкса, ей не пришлось даже менять фамилию. Как только Ланс вспомнил старика, он сразу смягчился. Он души не чаял в своем тесте и понимал, что этот яркий своенравный человек был ему ближе, чем собственный отец. Когда два года назад восьмидесяти лет от роду Гай умер в одиночестве и горе, вызванном потерей любимой жены Джо Энн Фолкс, матери Джуди, которую он пережил всего на полгода, Ланс плакал, никого не стесняясь. Хотя Ланс и ворчал, сходство характеров Джуди и ее отца на самом деле еще больше привязывало его к жене. Погода была совершенно отвратительной, сказал бы он на своем безукоризненном, почти оксфордском английском, правда в особой манере, проглатывая буквы. И именно погода послужила причиной поездки. Прошлой ночью случилась сильная буря: разверзлись хляби небесные, а ветер достиг штормовой силы, поэтому утром Джуди настоятельно попросила его съездить к тому месту на высоком берегу Миссисипи, где было семейное кладбище. – Люди говорят, что могилы совсем смыло. Бога ради, Ланс, съезди посмотри! – сказала она ему обеспокоенно. Сама она из-за детей не могла с ним поехать. Их было теперь пятеро: три мальчика и две девочки. Джуди, бывало, говорила с лукавой улыбкой: – Раз папа так решил, чтобы в Фэроуксе всегда были Фолксы, мы уж ради него постараемся. И ведь дети такая радость… Он еще думал о них и о том, как ему повезло с женой, родившей ему целый выводок озорников, сущих чертенят, как он и хотел, когда наконец показался кладбищенский холм. Ланс остановил лошадь, увидел представшую его глазам картину и даже слегка присвистнул, ошеломленный. Джуди оказалась права. По всему кладбищу были разбросаны деревья, надгробный камень могилы Гая и Джо Энн Фолкс заметно покосился. Гигантский дуб рухнул, проломил железную ограду, окружающую участок, и сбил памятник на могиле Ивонны де Сомпайак Фолкс. У Ланса, которого Джуди основательно познакомила с историей семьи, возникло ощущение святотатства над могилой, совершенного стихией. Ланс спешился, привязал лошадь к уцелевшей части ограды и распахнул калитку. Увязая в черном речном иле, он пробрался к могиле Ивонны. Надгробие в виде скорбящего ангела лежало на боку, сложенные за спиной ангела крылья наполовину погрузились в грязь. Ланс наклонился, чтобы поднять его, но не смог. Памятник весил не одну сотню фунтов, и это было не по зубам даже Лансу с его недюжинной силой. «Надо бы прислать сюда несколько негров с инструментом и веревками», – подумал он, но додумать до конца не успел, потому что внезапно увидел шкатулку. Она была небольшая, из бронзы, позеленевшая от времени, и лежала в квадратном отверстии-тайнике, вырубленном каменщиком в постаменте памятника и скрытом от глаз под ногами у ангела. Ланс наклонился и поднял шкатулку за ручку, приделанную к крышке. Он потряс ее, но ничего не услышал. Тогда он снова сел на свою серую лошадь и поскакал в Фэроукс. Дома Ланс положил шкатулку в ящик письменного стола в кабинете, запер его, а ключ спрятал в карман. Поднявшись наверх, он сообщил жене о том, что натворил ураган, и послал слугу-негра собрать работавших в поле мужчин для расчистки кладбища. – Я был бы тебе очень благодарен, Джуди, – подчеркнуто спокойно сказал он жене, – если бы ты не пускала ко мне пару часов этих чертенят. У меня есть несколько непросмотренных счетов, и нужна тишина, чтобы управиться с ними. – Конечно, дорогой, – ответила Джуди. – А когда кончишь, принеси их мне, чтобы я еще разок проверила. Ты ведь не очень силен в арифметике. А теперь иди, будь хорошим мальчиком. Видишь, я занята? Исполненный благодарности, он поцеловал ее в щеку, спустился вниз, запер дверь и, вооружившись молотком и зубилом, взломал шкатулку. Внутри был только конверт, выцветший, влажный и покрытый плесенью, и большая тетрадь в кожаном переплете с линованными страницами – в столь же плачевном состоянии. В конверте лежало письмо, написанное по-французски человеком, знавшим, по-видимому, этот язык довольно слабо. «MachereIvonne,*["903] – прочитал он, а потом машинально начал переводить: – Прошлого теперь не вернешь, и ничто не может оправдать отсутствие мужества, которое вынудило меня лгать тебе до самого конца. Теперь я знаю, что мог бы сказать тебе правду и ты бы поняла меня. Незадолго до своей кончины ты доказала мне, что любила не имя, а человека. Что, в конце концов, значило для тебя имя Фолкс? Ты никогда не умела даже произнести его правильно. Имя Сэмюель Мили могло бы быть для тебя столь же дорогим, как и Эштон Фолкс. Суета сует, говорит Писание, а я, да простит меня Бог, прожил суетную и пустую жизнь. Здесь, в моем дневнике, – правда. Я верю, что в огромном, пронизанном ветром пространстве, разделяющем миры, где всяческая суета навеки исчезает из виду и помыслов, ты прочтешь мои слова и простишь человека, который любил тебя больше жизни и который все эти годы был не одним человеком, а сразу двумя. Моя двойственность простирается настолько далеко, что я, любивший тебя удвоенной любовью своего раздвоенного «я», должен подписаться обоими своими именами… Сэмюель Мили / Эштон Фолкс, 20 июня 1820 года».«Чертовски любопытно», – подумал Ланс, раскрывая заплесневелую тетрадь в кожаной обложке. На форзаце вновь оказались два имени, написанные точно так же: «Сэмюель Мили / Эштон Фолкс: Его / их дневник». Склонившись над тетрадью, Ланс начал читать. Почерк был неразборчивый, в повествовании случались большие пропуски, однако живость изложения свидетельствовала о природной одаренности писавшего. Почти до самого конца имя Эштон Фолкс не упоминалось. «Я, Сэмюель Мили, – читал Ланс, – и Джекоб, мой младший брат, родились в задней комнате таверны, что у Старого Причала в Уоппинге. А может, и не там… Но скорее всего, в Уоппинге, потому что мне было не больше семи-восьми лет, когда я начал скитаться по Лондону, таская за собой своего братишку, в поисках места, где можно было бы выпросить или украсть еду для нас обоих, и единственное, что я помню, это сам Причал, а не таверну и не прилегающий к ней квартал. Я родился, по собственным приблизительным подсчетам, году в 1760-м, а Джейк – в 1762-м. Мы считали себя сыновьями Денниса Мили, всю жизнь бывшего бродягой, пьяницей и мелким вором. В 1764 году, когда мне было четыре, а Джейку не больше двух, он пытался совершить грабеж на большой дороге, но неудачно, и в результате кончил жизнь на виселице в Тайберне. Был ли он в действительности нашим отцом или нет, так и осталось неизвестным, поскольку наша мать, которая бросила нас вскоре после рождения Джекоба, тем самым дав мне право говорить так откровенно, была прислугой в таверне и обычно пополняла свои скудные доходы способом, наиболее доступным для женщин такого сорта. Надо ли говорить о том, что подобное занятие едва ли способствовало выяснению истины в деликатном вопросе отцовства. Не исключено, что она выбрала Денниса Мили из всех равноценных кандидатов уже после того, когда довольно эффектная кончина придала его образу некое зловещее величие…» Ланс усмехнулся: «Надо же, до чего откровенный тип! Хотя ирония здесь малоуместна». Он читал дальше: «Моя первая честная работа, хотя, по правде говоря, она была не намного лучше моей предыдущей профессии – попрошайки и вора, – состояла в том, что я таскался по улицам Лондона с продувной бестией Хирамом Хенксом, который, обнаружив мою природную способность к имитации, научил меня развлекать толпу ради брошенных кем-нибудь полпенни, подражая разным известным людям вроде Чарльза Таунсенда, чей налог на чай привел к Бостонскому чаепитию*["904], и, таким образом, способствовал рождению новой счастливой нации. Среди других моих героев были: лорд Норт, премьер-министр, Чатем, знаменитый виг*["905], и Чарльз Фокс, лидер парламентской оппозиции. В узком кругу я также часто имитировал короля Георга III, но мистер Хенкс был слишком умен, чтобы позволить мне делать это на публике…»
Еще один пропуск, но Ланс Фолкс, не обращая на него внимания, читал дальше. Что это была за история! «В начале 1775 года Джейк и я поступили на службу, как это ни удивительно, в дом графа Блумсбери. Это стало возможным благодаря моему совершенному владению языком и манерами благородных сословий и прекрасным рекомендациям, которые я купил у одного безработного, мастера подделывать разные документы, временно пребывавшего вне своих привычных апартаментов в ньюгейтской тюрьме. Всем сердцем хотел я прожить в тепле, чистоте и комфорте остаток своих дней. Но этому не суждено было случиться. В 1777 году мы были уволены за кражу, в которой я был совершенно неповинен, поскольку слишком ценил свое положение, чтобы рисковать им ради нескольких пенсов, шиллингов или даже фунтов. Я полагал, что и Джейк был обвинен ложно, но брат, уличный мальчишка до мозга костей, вскоре признался мне, что украл он… А вот что было дальше: банда вербовщиков похитила нас и мы были зачислены матросами 1-го класса на службу во Флот Его Величества. Это случилось вскоре после нашего возвращения к обычным занятиям. Во времена моей юности жизнь моряка королевского флота напоминала в лучшем случае чистилище, а в худшем – ад, вот почему, когда наш корабль бросил якорь в устье Темзы в декабре 1779 года, мы сбежали и сразу же оказались вне досягаемости властей, нанявшись матросами на «Русалку», торговое судно, плывущее в Вест-Индию, где мы собирались улизнуть с корабля и таким образом навсегда распрощаться с Англией…» А затем он пришел, этот день: 8 апреля 1780 года у берегов Южной Каролины, точно в 8 часов утра. Тот день, когда случилось чудо: Сэмюель Мили поймал свою мечту двумя мозолистыми руками и облек ее в плоть. Повествование оживилось. Новые детали, речи, произносимые невольными актерами, играющими в нескончаемой драме жизни Сэма, описания места и действия – все это было образно, ярко и вполне завершение Ланс перечитал все записи от начала до конца четыре раза. Он сидел здесь, в своем доме, но его воображение целиком было во власти прочитанного. Стены его кабинета куда-то исчезли, кругом было море, над ним – небесная ширь, и он, Ланс Фолкс, был там, вместе с людьми того давно прошедшего времени, он видел все их глазами и жил их жизнью…
Сэм и Джейк Мили с высоты бизань-мачты во все глаза глядели на людей, завтракавших на полуюте внизу. – Господи Боже, до чего же они нарядные! – сказал Джейк. – Как, ты сказал, их зовут, Сэм? – Фолксы. Сэр Персиваль Фолкс из Хантеркреста, леди Мэри и два их сына, Эштон и Брайтон. Его назначили губернатором Антигуа, вот почему они взяли с собой весь свой скарб. Малый в военной форме – сэр Милтон Тарлетон, их кузен, это из-за него мы забрались так далеко на север… – Храни нас Бог, – сказал Джейк. – Я-то думал, мы идем прямо по курсу… – Так и есть, – перебил его Сэм. – Но только курс теперь – на Саванну, в королевской колонии Джорджия, а не в Карибское море. Нужно доставить этого типа на берег. Он везет секретные распоряжения губернатору Райту и военному… – Ну и красиво же ты говоришь, Сэмюель! Ни дать ни взять – лорд. Оно конечно, ты и раньше был мастак, только вот как это ты не разучился; ведь с тех пор, как нас выгнали из Хеджкрофта, у тебя не было другой компании, кроме меня? – Мы и сейчас могли бы быть там, – огрызнулся Сэм, – все из-за тебя! Ну да ладно, Джейк. Может статься, я еще когда-нибудь скажу тебе спасибо за твой глупый поступок… – Мне спасибо? Ты, наверно, шутишь, Сэм? Я ведь и сам знаю, что жутко виноват. Там у нас были чистые постели, еды сколько влезет и красивые ливреи. И мы могли бы иметь все это до конца нашей жизни, если б не я. Есть за что говорить мне спасибо! Сглупил я, чего уж там… – И все же я говорю: спасибо тебе. Или еще скажу, дай срок. Слишком уж я был доволен собой в Хеджкрофте. Меня вполне устраивало, что остаток дней я проведу на побегушках у какого-нибудь важного господина, будь они все неладны. Теперь совсем другое дело. Когда-нибудь у меня самого будет такая одежда, как у них, и лакеи в ливреях на посылках. Человек может разбогатеть где угодно, только не дома… – Пинок в зад – вот все, на что можно рассчитывать дома. Верно говоришь, Сэмюель. Но как ты думаешь всего этого добиться? – Не знаю. Там видно будет. Сначала надо разобраться, что это за место такое – Антигуа. Будем работать, само собой, пока не отложим гинею-другую. Затем откроем винную лавку. Спиртное – это верные деньги. Потом на доходы, которые даст лавка, купим гостиницу или что-нибудь в этом роде. И наконец – землю. Все, кто чего-то добился, имели собственную землю. – Ты добьешься, – сказал Джейк уверенно. – У тебя всегда была голова на плечах, Сэм. Плохо только, что в тебе слишком мало терпения, для тихой жизни ты не годишься. – Пожалуй что так. Хотя не знаю, что хуже: слишком мало терпения или слишком много, как у тебя. В чем-то ты прав, хотя вспомни тот мятеж… – Не напоминай мне об этом. – Джейк даже содрогнулся. – У меня все еще перед глазами бедняга Дэниелс, как его прогоняли сквозь строй. Те, кого повесили, – они еще легко отделались. От его спины ничего не осталось, одни кровавые кости, когда его принесли к нам на «Харви». Он уже больше часа как был мертвый, а его все били и били. С тобой было бы то же, если б не я. Они, как пить дать, протащили бы тебя под килем. Или заставили бы сплясать на конце реи свой последний танец… – Вот-вот, не удивительно, что колонисты так долго не сдаются, – сказал Сэм. – Уже пять лет, как мы их усмиряем, а они по-прежнему продолжают драться… – Не пойму, к чему ты клонишь, Сэм. – Сам посуди: ведь чего только с ними не вытворяют – и под килем протаскивают, и порют, и вешают. Может, потому они и сражаются. Они сыты нами по горло. И еще другое: посмотри на всех этих щеголей, вроде Фолксов, – разодеты в пух и прах, едят досыта самое лучшее, а мы носим лохмотья и колотим о стол заплесневелыми галетами, чтобы вытряхнуть из них долгоносиков! У одних слишком много, у других – ничего. Несправедливо это, Джейк. Не годится, чтобы человек всю жизнь ходил нищим и верил всякому вздору, который плетут так называемые благородные. Посмотри на этих парней. Они примерно нашего роста и ничуть нас не крепче. Да отскреби с нас грязь, вычеши вшей и одень в их одежки… – И мы сразу же себя выдадим, как только откроем наши дурацкие рты, – сказал Джейк. – Ты-то уж точно, – огрызнулся Сэм Мили, – но не я. Вот послушай: «Не соблаговолите ли вы, любезный, развести огонь. В комнате дьявольски холодно. И поторопитесь, голубчик: я не могу ждать целый день!» – Здорово! – рассмеялся Джейк. – Ты всегда умел передразнивать этих господ. Если бы только у нас была одежка и деньги, как у них… – Вижу парус! – крикнул впередсмотрящий с топа мачты. – Три румба слева по курсу! Капитан Дженкинс, который завтракал с сэром Персивалем Фолксом и его семьей, мгновенно отодвинул свой стул. Он поклонился благородной компании, а затем побежал, выкрикивая на ходу: – Боцман! Свистать всех наверх! Мистер Мартин! Поднять все паруса! – Что это он так переполошился? – спросил Джейк, когда они поднимались на бом-брам-стеньгу бизани. – Из-за парусника… В здешних водах это скорее всего капер*["906] колонистов или французское судно, не наше. Весь наш флот – вблизи Нью-Йорка, где сэр Генри Клинтон держит его для обороны. Очень рискованное дело – плавать у берегов Каролины. Если б не этот тип Тарлетон, мы взяли бы в Португалии на борт торговцев с Юга и сразу же направились бы к островам, а теперь… – А что теперь? – Наверно, придется вступить в бой с их кораблем, он-то, пожалуй, вооружен получше нашего. Матросы карабкались по вантам ловко, как обезьяны. «Русалка» при попутном бризе и так шла почти на всех парусах, но теперь, понукаемый командами капитана и его помощников, экипаж постарался поднять на мачтах все, что можно, включая рубашку повара. Но при всем этом скорость «Русалки» увеличилась всего на каких-то жалких пять узлов. Массивное судно, построенное для того, чтобы перевозить грузы, которыми обычно набивали его до отказа, просто не было рассчитано на большую скорость. А хуже всего было то, что все его вооружение состояло из четырех древних каронад, способных выбросить ядра в лучшем случае чуть дальше кабельтова. Эти пушки могли пригодиться, если бы противник вздумал пойти на абордаж. Заряженные картечью и легко управляемые, они помогли бы очистить палубу от неприятеля. «Если к тому времени кто-нибудь останется на борту в живых, – подумал Сэм мрачно, – любой мало-мальски вооруженный неприятель легко разнесет „Русалку“ в щепки, не получив ни единого ядра в ответ». – Это судно янки! – крикнул впередсмотрящий с топа мачты. – На флаге звезды и полосы! По виду капер! В душе у Сэма шевельнулась надежда. Капер не потопит их. Они слишком заинтересованы в денежном вознаграждении и товарах, что на борту судна. А если команде придется драться с ними, то у матросов «Русалки» хорошие шансы в рукопашной схватке на палубе. Большинство каперов невелики, и их абордажная команда вряд ли превысит по численности команду «Русалки». – Раздать оружие! – скомандовал капитан Дженкинс. Затем, подняв рупор, прокричал впередсмотрящему: – Ты можешь разглядеть его получше? – Да, сэр. Малый корвет, оснащенный как шхуна. Двенадцать орудий. Все заняли свои места, ожидая исхода погони. Впрочем, Фолксы и полковник Тарлетон спустились вниз только после прямого приказа капитана Дженкинса. – Я отвечаю за вашу безопасность, господа, – сказал капитан. – Если с вами что-нибудь случится, Адмиралтейство шкуру с меня спустит. Немедленно вниз! Янки гнались за ними почти целый день. Поздним вечером капер подошел достаточно близко для того, чтобы дать предупредительный выстрел из носовой пушки – приказ остановиться и сдаться на милость победителя. – Ответим им огнем, мистер Мартин, – сказал капитан Дженкинс. – Мы не попадем в них отсюда, но дадим им знать, что они имеют дело с британскими моряками. Может, тогда эти трусливые псы призадумаются… Старый военный моряк был виден в капитане Дженкинсе невооруженным глазом. Сэм недоумевал, почему он командует тихоходным торговым судном. Между тем матросы давно уже выкатили четыре маленькие жалкие допотопные пушки, посыпали палубу песком и заняли места у пожарных насосов. Один из моряков поднес дымящийся фитиль к запальному отверстию орудия. Короткая массивная каронада дернулась и громыхнула, откатившись назад к вантам. Для такого маленького орудия звук был внушительный. Вдалеке в небо поднялся столб воды, затем несколько всплесков там, где круглое ядро промчалось по водной поверхности. Затем оно нырнуло и скрылось в воде, не долетев нескольких сот ярдов до капера. Корабль янки отклонился влево от курса и сделал пристрелочный выстрел. Столб воды дорической колонной поднялся в кабельтове от носа по правому борту. Второе ядро упало в воду на том же расстоянии слева. Сэм взглянул на брата. Даже самый скверный артиллерист мог теперь скорректировать угол прицела. Капер полностью исчез за завесой огня и дыма, когда с него раздался первый бортовой залп. Он разнес все шлюпки левого борта «Русалки». Обломки древесины с пронзительным жужжанием разлетелись во все стороны. Сэм видел, как один моряк упал, пронзенный, как копьем, доской в ярд длиной. – Глупцы! – взревел Дженкинс. – Они пытаются потопить нас. Неужели у них не хватает ума сначала снести наши мачты? – Как видно, нет, – сказал Мартин, первый помощник. – Смотрите, капитан, – надвигается шторм. Это нам на руку – мы сможем уйти от них: встречную волну мы выдержим лучше, чем они. – Верно, – ответил капитан. – Дайте курс рулевому, мистер Мартин… Мартин бросился к корме. Он не успел добежать до штурвала, когда второй бортовой залп с капера пришелся как раз на середину судна. Люди со стонами падали на палубу. Из расщепленной обшивки показалось пламя. – Боже правый! – выдохнул Сэм. – Они хорошо пристрелялись! – Все к помпам! – крикнул боцман. – Чертовски странно ведет себя этот капер, – сказал Сэм, с трудом переводя дыхание. – Можно подумать, добыча им ни к чему! Джейк не ответил брату. Лицо его стало мертвенно-бледным: он плохо переносил опасность. Огонь был быстро потушен, но три шлюпки правого борта успели сгореть на своих шлюпбалках. Их пришлось выбросить в море. Сэм даже представить себе не мог, что они будут делать, если возникнет сильный пожар и придется покинуть судно: на всю команду и пассажиров оставалось всего две шлюпки. Кроме того, море начинало волноваться не на шутку. Корабль янки теперь пытался пробить корпус «Русалки» и заметно преуспел в этом. Внизу моряки отчаянно работали у помп по колено в воде. На выручку пришел шторм – море так разбушевалось, что ни один артиллерист не мог бы толком прицелиться. Снаряды с капера, не нанося особого вреда, со свистом пролетали над палубой раскачивавшейся на волнах «Русалки» или падали в море, не долетая нескольких ярдов. Но вот выпущенный наугад снаряд расщепил фок-мачту. «Русалка» опасно накренилась на левый борт. Вся команда бросилась к мачте. Матросы, вооруженные топорами и абордажными саблями, стали рубить спутанный такелаж. Через несколько минут фокмачта была высвобождена и выброшена за борт, и «Русалка» вновь выпрямилась. Корабль янки окончательно скрылся из виду, но это было слабым утешением. Теперь стало совершенно ясно, что они захвачены краем настоящего шторма. – Взять рифы! – приказал капитан, но ветер унес его слова. Да и не было необходимости в этой команде: моряки знали, что надо делать. Ветер порвал верхние паруса на грот-мачте еще до того, как матросы добрались до рей. Затем начала трещать сама грот-мачта, поврежденная огнем янки. Она рухнула – и с ней пять матросов. Когда ее рубили, Сэм мрачно подумал: «Если так и дальше дело пойдет, то двух шлюпок, пожалуй, и хватит». Но места всем не хватило. Когда стемнело, «Русалка» начала медленно тонуть, и любой матрос на борту знал это. Ветер несколько стих, но волны вздымались, как горы. Хотя берег Каролины слабо виднелся с подветренной стороны, добраться до суши и не быть разбитым вдребезги гигантскими волнами казалось совершенно невозможным. Именно в этот момент капитан Дженкинс проявил свой характер. Он приказал приготовить обе шлюпки и предложил команде тянуть жребий, чтобы решить, кому достанутся места. Ни Сэму, ни Джейку не повезло. Затем капитан послал матроса вниз, к сэру Персивалю Фолксу с семейством, с просьбой подняться на палубу. Как только все собрались наверху, он сказал им правду: есть один шанс из тысячи, что корабельные шлюпки достигнут берега, но у тех, кто останется на борту «Русалки», шансов не было вовсе. Стоя неподалеку от них, Сэмюель Мили получил незабываемый урок – вот когда он понял, что значит быть настоящим джентльменом. Сэр Перси повернулся к жене и, хотя ему приходилось кричать, чтобы она услышала сквозь рев моря, сумел задать вопрос так, что он прозвучал удивительно мягко: – Что скажешь, Мэри, моя дорогая? – Мы прошли с тобой вместе такой большой путь, Перси! – прокричала она в ответ. – Одолеем и это расстояние. Умирать не так трудно, когда ты не один… Сэр Перси повернулся к сыновьям. – Мы с вами, губернатор! – послышались сквозь бурю их голоса. Сэр Милтон Тарлетон вел себя не столь достойно. – Я должен добраться до берега! – пронзительно закричал он. – У меня депеши чрезвычайной важности. Капитан, я должен… Короткое затишье между порывами ветра позволило капитану Дженкинсу ответить с надлежащим спокойствием: – Место для вас оставлено, сэр. – Отлично! – прокричал сэр Милтон. – Тогда скорее! Не будем терять времени. – Я остаюсь на борту, сэр, – сказал капитан Дженкинс. – Места на всех не хватит. Они изумленно посмотрели на него. – Черт побери, сэр! – пролепетал сэр Милтон. – Я… – Шлюпки на воду! – скомандовал капитан Дженкинс матросам. Они прошли пятьдесят ярдов в подветренную сторону, когда их настигла волна. Сэм видел, как она поднялась до самых небес, нависнув над двумя лодками подобно длани Господней. Затем волна обрушилась вниз густым клубом пены и серо-черной воды, и лодки исчезли. Какое-то время можно было видеть лишь черные пятнышки, мечущиеся за кормой на фоне серебряно-серого океана. Так оборвалась история этой ветви семьи Фолксов. Вернее, так она должна была оборваться. Братья слышали, как трещат шпангоуты «Русалки» по мере того, как она погружалась. К капитану подошел боцман: лицо его от страха стало серым. – Послушайте, сэр! – закричал он. – Если сейчас же взяться за дело, мы смогли бы сделать плот из обломков. В таком море плот куда надежнее, чем шлюпка! Нужно только привязать себя к бревнам. Может, нам повезет! Ради Бога, капитан, дайте нам шанс! – Хорошо, хорошо, – устало сказал капитан Дженкинс. – Приступайте к работе. И они взялись за работу с отчаянной решимостью. Плот был сделан неправдоподобно быстро. Они спустили его за борт и прикрепили прочными канатами, затем полезли сами. Сэм уже перебросил одну ногу через планшир, когда что-то словно толкнуло его, и он обернулся. Его брат бежал прочь, в сторону люка. Сэм соскочил назад на палубу и бросился вслед за ним. Вот так они и уцелели, благодаря трусости Джекоба Мили. Когда Сэм наконец вытащил своего царапающегося, рыдающего, отчаянно сопротивляющегося братца назад на палубу, плот исчез. Далеко за кормой мелькнули разметанные волнами бревна. И больше ничего – ни капитана, ни команды. Братья остались совсем одни на борту тонущего судна. По крайней мере, так они сами думали. Но судьба распорядилась иначе… Во время боя и после него просто не было времени промерить лотом глубину со стороны бушприта, поэтому братья не знали, что «Русалка» уже затонула – насколько это позволяла глубина. И корабль, который обычно имел осадку двадцать футов, коснулся дна на глубине всего десяти футов, поскольку его выбросило на мель. Всю ночь они лежали, тесно прижавшись друг к другу и укрывшись брезентом, и ожидали смерти. Вскоре после полуночи ветер стих, но волны высоко вздымались до самого утра. Когда взошло солнце и море успокоилось, братья изумленно посмотрели друг на друга. – Ты знаешь, – сказал Сэм, – по-моему, мы сели на мель. Теперь мы точно не утонем, Джейк, слышишь? – Благодарю тебя, Господи! – прорыдал Джейк, чувствуя, что страшная тяжесть свалилась у него с плеч. Затем, увидев, что брат направляется к люку, он закричал: – Сэм, куда же ты? – Мне надо кое-что сделать, – загадочно сказал Сэм и исчез внизу. Когда он вернулся, Джейк изумленно уставился на него. Сэм был одет в алый вельвет, под треуголкой – напудренный парик, стройная талия затянута ремнем, на ремне – шпага. Ни дать ни взять – юный лорд. – Чтоб мне провалиться! – воскликнул Джейк. – Какого дьявола… – Успокойся, мой друг, – сказал Сэм твердо. – Видишь паруса на горизонте? Вероятно, к нам спешат на помощь. Полагаю, мы не слишком далеко от Саванны. А уж если нам придется сойти там на берег, я хочу выглядеть прилично. А теперь иди, переоденься в одежду Брайтона. И запомни: это отныне твое имя, заруби себе на носу. – Брайтон… Фолкс! – прошептал Джейк. – Бога ради, Сэмюель!.. – Не Сэмюель, а Эштон. Сэр Эштон Фолкс, с вашего позволения! – Но как же можно! – завопил Джейк. – А вдруг кто-нибудь узнает? И вообще, грабить мертвых и само-то по себе скверно, а уж если в придачу присвоить их имена, то мне кажется… – Не теряй времени, Брайт! – оборвал его новоявленный Эштон Фолкс. – Ступай и поторапливайся! Следующие два часа они провели, перетаскивая имущество Фолксов на палубу. Некоторая его часть, конечно, была испорчена морской водой, но большинство вещей не пострадало. Сэр Эштон Фолкс (поскольку теперь в своем воображении он был им целиком и полностью) сидел, вцепившись в сумку, набитую банкнотами и драгоценностями, и с восхищением разглядывал картины, наполовину выпавшие из разбившихся от качки ящиков. Внимание его привлек завитой по тогдашней моде, в лентах, кавалер эпохи Реставрации с мрачным лицом. – Приветствую вас, сэр, – сказал он очень вежливо, – мой достопочтенный предок, не так ли? Не беспокойтесь, старина, я о вас как следует позабочусь… – Ты сошел с ума, – сердито набросился на него брат. – На что тебе этот ящик с картинами? Они не стоят и пенни и… – Они стоят чертовски дорого, – сказал Сэм невозмутимо. – Человеку нельзя без предков, особенно в чужом краю. Пойдем, Брайтон, мой мальчик, корабль уже близко. Надо приготовиться и достойно встретить спасителей – так, как это подобает людям нашего круга. Саванна по-прежнему верна нам. И я совершенно убежден, что верноподданные британской короны проявят к лордам подобающее им уважение…
Ланс откинулся на спинку стула и громко рассмеялся: – Каков нахал! Какое неслыханное нахальство! Затем он посерьезнел. «Интересно, знал ли старик, – подумал он. – Нет, не может быть. Он так гордился тем, что носит это имя – Фолкс, его религия, вся его жизнь заключалась в этом. Вера, такая истовая вера, что ее можно было назвать святой. И не так уж важно, не правда ли, Гай, старина, что весь этот маскарад построен на обмане? Ты стал таким, каким хотел тебя видеть тот самонадеянный нищий кокни, – джентльменом до мозга костей. Благослови тебя Бог, куда бы ты ни попал после смерти. Ты был достойным человеком и воспитал мою Джуди под стать себе…» Он сидел нахмурившись: «Единственное, что меня волнует теперь: как, черт возьми, поступить с этими проклятыми бумагами? Сжечь их все-таки было бы неправильно…» Он еще долго сидел, пока не принял решение. С задумчивой улыбкой он засунул письмо и тетрадь в карман пальто и поднял сломанную шкатулку. Оседлав лошадь, Ланс поскакал к баварскому поселку и подождал, пока кузнец припаял сломанные петли и приладил новый замок. Положив письмо и тетрадь назад в шкатулку, он запер ее и поехал к реке. Там, размахнувшись изо всех сил, он швырнул ключ в мутную воду. На кладбище Ланс приехал как раз тогда, когда негры поднимали с помощью рычага ангела на прежнее место. – Стойте! – крикнул он им и, проскакав галопом до железной ограды, на ходу соскочил с лошади. Ланс пробежал через калитку, нагнулся и, закрыв шкатулку своим телом, чтобы негры не видели, аккуратно положил ее назад, на место ее вечного хранения. – Давайте! – сказал он, выпрямившись. И негры установили на пьедестал ангела, чтобы он вечно оплакивал давно ушедшие, невозвратные времена.
Глава 1
День, когда все это началось, наполненный солнцем день весны 1832 года, ничем не отличался от всех других дней, которые уже были в жизни юного Гая Фолкса. Сосны, промытые солнцем, высь холмов, вой ветра в лощинах – все это было привычно и знакомо. Даже сегодняшняя драка с Мертом Толливером не была чем-то из ряда вон выходящим: они с Мертом дрались всякий раз при встрече, сами не зная почему. Мальчики относились к своей многолетней вражде как к чему-то совершенно естественному, вроде неприязни между кошкой и собакой, и никогда об этом не задумывались. Единственное, что выделяло нынешнюю баталию, – ее ожесточенность. Шагнув назад, Гай пристально и угрожающе воззрился на Мерта Толливера. Этот взгляд едва ли мог достичь желаемого эффекта, поскольку один глаз Гая был подбит: он почти закрылся. Синяк стремительно багровел, из носа струилась кровь, но Гай не обращал внимания на подобные пустяки. Его целиком охватило единственное, простейшее, первобытное стремление – уничтожить своего врага. Именно тогда Мерт сделал неверный ход. Он был старше, крупнее и массивнее Гая и до сих пор с успехом этим пользовался. И теперь он решил добавить к побоям еще и оскорбление. – Чертов оборванец! – сказал он, ухмыляясь. – Хочешь знать, как появился здесь твой дурацкий папаша? Он бежал, как дворняжка, у которой хвост болтается между ног! А как он правильно говорит, какая в нем ученость! Произносит слова важно, как классная дама! Мой отец говорит… – Мерт! – прошептал Гай. Но Мерта понесло, и он потерял всякую осторожность: – …что он, видно, был конокрадом или городским мошенником. Чтение, скажи пожалуйста! Занятие для женщин. У мужчин есть дела поважнее. А как он себя держит, как смотрит на всех сверху вниз, называет нас «горной швалью». А кого он сам взял в жены? Только поглядеть! Твоя матушка! Ну она… Больше он ничего не успел сказать: терпение Гая лопнуло. Каждой клеточкой его худого мускулистого тела, которое уже теперь, в четырнадцать лет, было крупнокостным и большим и почти достигало той легкой силы, что была присуща его отцу, двигала ярость. Его левый кулак по самое запястье погрузился в жирный живот Мерта, и, когда тот как бы сломался пополам, Гай нанес удар правой в подбородок – такого апперкота не постыдился бы и профессиональный боксер. Мерт весь обмяк и стал оседать, но еще до того, как он коснулся земли, Гай уже сидел на нем верхом, молотя его большую голову обеими руками. Через две минуты лицо Мерта было все в крови, но Гай продолжал колотить его, выдыхая в ритм ударам: – Никогда – не произноси имя – моего отца – своим грязным – ртом! Не вздумай – даже думать – о моей маме, тем более – говорить о ней! Слышишь меня, Мерт? Ты большая – жирная – горная шваль – ублюдок! Слышишь меня? – Сдаюсь, – прошептал Мерт. – Сдаюсь, Гай, ради Бога остановись! Ты что, меня убить собираешься? Гай медленно поднялся с земли и теперь стоял рядом, глядя на Мерта сверху вниз. – Поднимайся! – приказал он. – Будем считать, что я дал тебе урок. Но никогда не забывай: я – Фолкс. Помни, Мерт, что мы никому не позволяем шутить с нами. А теперь вставай и убирайся! Мерт встал, превозмогая боль. Он постоял минуту, глядя на Гая, а потом повернулся и медленно побрел прочь; впрочем, Гай поторопил его, дав напоследок Мерту хороший пинок в зад. Глядя вслед своему недругу, Гай улыбнулся. Зубы его были ровными и белыми, и улыбка сверкнула на угрюмом лице подобно летней молнии. У Гая было хорошее лицо, но его бы очень смутило, если бы кто-то сказал об этом. Люди, живущие среди холмов, скупы на комплименты. Если о нем и говорили, то так: – Похож на отца. А Вэс Фолкс – мужчина что надо… Впрочем, улыбка исчезла так же быстро, как и появилась. Он прикоснулся пальцем к распухшему глазу и нахмурился: «С этим что-то надо делать, а не то мама шкуру с меня спустит за драку. Попрошу-ка я кусочек сырой говядины у старого Дэна Райли и приложу к синяку. Говорят, это помогает…» Он стремглав сбежал вниз с холма, направляясь к кучке некрашеных лачуг, составлявших поселок, пересек пыльную площадь и распахнул дверь лавки Райли. Старый Дэн Райли сидел в центре цветистого, усеянного мухами беспорядка, взгромоздившись на коробку из-под крекеров, и говорил нескольким мужчинам: – Это его родня из той части нашего штата, где равнина. Они и выглядят как Фолксы. И говорят так же: гладко и правильно. Сразу поняли, что я их рассматриваю. Я себе и говорю: глянь-ка, Дэниел, никак это родичи Вэса Фолкса… Наконец он заметил какую-то напряженность в выражении лиц своих слушателей и обернулся. Мальчишка, стоявший в дверях, пристально глядел на него. Однако Дэн вовсе не был смущен оттого, что его подслушал сын Вэса Фолкса. – Гай, – сказал он строго, – почему это ты не дома? Там тебе найдется компания. Твои родственники с равнины. Проезжали здесь полчаса назад в чудной маленькой карете, запряженной парой серых лошадей, лучше которых я в жизни не видел. Дуй-ка, парень, домой! Твоему отцу будет неловко, если ты не встретишь родственников… Не сказав ни слова, Гай повернулся и вышел из магазина. Не успел он ступить за порог лавки, как уже бежал, а синяки и сырая говядина мигом вылетели из его головы. Когда он выбрался из последнего, выжженного солнцем оврага на плато, где стоял дом, и увидел толпу людей, смотревших раскрыв рот на полированное дерево и дорогую темную кожу маленького ландо, он так запыхался и чувствовал такое головокружение, что не мог ясно усвоить детали представшей ему картины. Что больше всего изумило жителей холмов – а известие об этом передавалось из дома в дом по мере продвижения ландо, запряженного серыми в яблоках лошадьми, по извилистым улочкам, ведущим к дому Фолксов (впрочем, лошади, не обращая внимания на дорогу, продвигались к хижине Вэса Фолкса кратчайшими путями) – так это негр-кучер, восседающий с вожжами в руках, подобно статуе из черного дерева, одетый в ливрею, которая явно стоила больше, чем могли заработать три семьи обитателей холмов за целый год. Гай едва взглянул на черного кучера, как его взгляд, будто притянутый магнитом, остановился на крошечном создании, словно плавающем в облаке розовых кружев на заднем сиденье ландо. Девочке было лет восемь, она сидела вся розово-белая и золотистая, вымытая до зеркального блеска и благоухающая. Уже в восемь лет она знала, кто она и чья она дочь, и это было видно по тому царственному спокойствию и равнодушию, граничащему с презрением, с каким она взирала на толпу раскрывших от изумления рот обитателей холмов. Но не таков был Гай. За каких-то пару минут он проложил себе путь в толпе и уже стоял рядом, глядя на нее. Маленькая богиня повернула голову, внимательно посмотрела на него и сказала: – Ты – Гай Фолкс. Гай судорожно глотнул раз или два, прежде чем обрел дар речи. – Но откуда… откуда вы знаете? – спросил он. – У тебя темные волосы, – рассудительно молвила принцесса. – У всех Фолксов темные волосы. Кроме меня. Я похожа на маму. Кроме того, ты похож на моего папу. Мы – кузены, ты и я. Ты разве не знал этого? – Боюсь, что нет. Но, наверно, так оно и есть, раз вы так говорите, мэм… – Не называй меня «мэм». Я еще не такая взрослая. Мне восемь, а тебе сколько? – Четырнадцать, – ответил Гай, но еще до того, как он успел придумать, что бы сказать еще, она придвинулась ближе. – О Боже! – воскликнула она. – Ты дрался! И тебе не стыдно, Гай Фолкс? Иди и сейчас же умой лицо! Оно все в грязи и синяках. Ты меня слышал? Иди умойся! – Да, мэм, – прошептал Гай и прошмыгнул к калитке. Но сразу остановился. Его поразил вид человека, сидевшего на веранде и весело болтавшего с его отцом. Гай ни за что бы не смог раньше представить себе, что такие люди существуют. Этот человек был так же высок, как Вэс, но гораздо стройнее, а изящество, с которым он держал стакан шотландского виски, непонятно почему странно взволновало Гая. Одежда его была великолепна: все, что читал Гай о нарядах принцев, не шло ни в какое сравнение с тем, что он увидел. Но помимо одежды – пышного белого галстука, повязанного вокруг тонкой шеи, пены кружев на рубашке, желтовато-коричневого жилета с отделкой из золотой парчи, безупречного покроя рыже-коричневого сюртука, жемчужно-серых брюк, скульптурно облегающих ноги, которых не постыдился бы балетный танцовщик, – мальчика поразило его лицо, спокойно улыбающееся и обрамленное локонами жестких темных волос, тем, что оно было до странности похоже на лицо самого Гая. Мальчик застыл, поглощенный этим зрелищем. И тогда отец произнес своим сильным голосом: – Подойди сюда, сынок, и познакомься со своим дядей. И не жмись сзади, это большой день в твоей жизни! Как во сне, когда ноги движутся не по своей воле, а руки кажутся непомерно большими и неловко болтаются вдоль тела, Гай подошел к веранде. – Гай, – сказал отец, – это мой кузен Джеральд. Он приехал, чтобы забрать нас отсюда – туда, где человек может жить по-человечески! Джеральд Фолкс поднялся с места, и вэтом движении, как и во всех его движениях, было что-то нереальное, какая-то странная томная грация, отчего на мальчика повеяло необъяснимым холодом. – Рад познакомиться с тобой, Гай, – сказал он и протянул руку. К удивлению Гая, пожатие было теплым и в то же время крепким. Не выпуская руку мальчика из своей, он слегка повернулся в сторону Вэса. – Этот – настоящий Фолкс, чему я очень рад, – сказал он весело. – А я уже начал отчаиваться!..Когда они, покидая свой дом, спускались вниз в большом фургоне, запряженном двумя мулами, размеры и мощь которых были непостижимы для людей, выросших среди холмов, Гай оглянулся и смотрел, пока дом не скрылся из виду. – Вот это мулы! – ликовал братишка Том. – Лучшей пары в жизни не видел! А фургон этот… – Хороший, правда, папа? – перебила его сестра. – Заткнитесь же, наконец! – оборвал их Вэс Фолкс. – Какая наглость с его стороны… – О ком ты, папа? – спросила Матильда. – О Джеральде, – прорычал Вэс, и по его тону Гай понял, что он не столько отвечает Мэтти, сколько выпускает пар, выплескивая наболевшее: – Прислать фургон. Фургон! Для меня! – Очень хороший фургон, если хочешь знать мое мнение, – сказала Чэрити Фолкс мягко. Вэс резко повернулся к жене, как большая хищная птица, готовая броситься на жертву. Его голос задрожал от ярости, поднявшись от обычного низкого громыхания почти до визга. – Никто тебя не спрашивает, Чэрити! Когда, черт возьми, ты наконец научишься держать язык за зубами, пока тебе в голову не придет что-нибудь разумное? Гай прервал молчаливое унылое созерцание дома и посмотрел на отца. Мальчика давно уже беспокоила открытая неприязнь отца к матери. А теперь он увидел, что Вэс Фолкс не просто не любит ее, он ее ненавидит. Гай переводил взгляд с отца на мать, чувствуя, как подступает из глубин живота холодная и влажная тошнота. Это было тяжелое чувство, и как он ни пытался объяснить себе этот разлад, ничего у него не получалось. Конечно, он давно уже знал, что мать неподходящая пара для отца. И все же это была бессмыслица. Когда человек женится, его святая обязанность – любить, чтить и лелеять жену, как говорил об этом проповедник, иначе зачем вообще он на ней женился? И тем более завел с ней детей? Все это имело какое-то отношение к тому разговору на передней веранде две недели назад, когда дядя Джеральд приехал, захватив с собой малышку Джо Энн, сойдя к ним словно из другого мира. Вспоминая это, Гай буквально захлебывался от ненависти, хотя он никогда бы не мог объяснить, за что, собственно, он уже ненавидел своего родственника, которому теперь, по словам отца, они были безгранично обязаны. «Этот дядюшка, его изысканные, прямо-таки женские повадки, – горько думал он, – его манера держать стакан и выталкивать слова изо рта так, как будто он целует их. Черт с ней, с его прекрасной душой, нам неплохо жилось там, наверху. И не нужно было срываться с места, продавать дом и все вещи за бесценок и…» Однако слова Джеральда вновь всплыли в его памяти, испортив все удовольствие, которое Гай испытывал от своей ненависти к нему. – Да, Вэс, последние из них ушли. Молодой Бертон сломал шею во время скачек с препятствиями – ты знаешь, как он всегда сходил с ума по лошадям… Тимоти переехал на Север этой весной, чтобы получить место в банке своего дядюшки. Плантация совсем пришла в упадок. Теперь можешь возвращаться, бояться тебе нечего. – Я никогда и не боялся, – проворчал отец. – Просто я против ненужных убийств. Боже правый, неужели ты не понимаешь, Джерри, что всему этому не было бы ни конца ни края? Я достаточно посчитался с этими проклятыми Редфилдами. А сознавая, что и справедливость не на моей стороне… – Ты был не прав, должен тебе сказать. Убивать человека после того, как ты развлекался с его женой, мягко говоря, нечестно… – Он сам меня вызвал, – медленно проговорил Вэс. – Все было по правилам. Но потом я увидел, что мне придется драться со всеми ними по очереди. Ей-богу, Джерри, я был более искусным стрелком, чем любой из них, но сколько крови может взять на себя человек, особенно если он не прав? – Да я не виню тебя, – сказал Джеральд. – Главное, чтобы ты мог начать все снова. Хорошо зная тебя, я долго думал, прежде чем предложить тебе работу надсмотрщика на старом месте. Опасался, что ты сочтешь это оскорблением. Но это не так, Вэс. Во-первых, года через два-три сможешь накопить достаточно денег, чтобы купить несколько собственных акров. И уж конечно я мог бы нанять дюжину хороших надсмотрщиков. Но мне пришло в голову, что как Фолкс я просто обязан дать тебе шанс, любой шанс, чтобы возместить потерю Фэроукса и прозябание здесь все эти годы. – Да, – тихо сказал Вэс, – я глубоко признателен тебе, Джерри. Ты прав. Я бы взялся и за гораздо худшую работу, чем гонять твоих негров, лишь бы выбраться из этой забытой Богом дыры… Джеральд внимательно взглянул на него: – То, что ты сюда перебрался, меня не удивляет. Место достаточно уединенное, а кроме того, никому из тех, кто знает Фолксов, и в голову не придет искать тебя здесь. Но что я не могу понять, так это… – Знаю, знаю. Видишь ли, Джерри, человек иначе смотрит на вещи, если он упал духом, одинок и пьян… – А кроме того, осмелюсь добавить, – продолжал Джерри сухо, – когда он знакомится со странным обычаем обитателей холмов защищать неприкосновенность дома и оскорбленную женскую добродетель с помощью двустволки… – Ружье было с одним стволом, – усмехнулся Вэс. – Но этого более чем достаточно, Джерри. Особенно когда его на тебя наставит бородатый старый дурак, который набрался и так взбешен, что его палец на спусковом крючке дрожит. Кроме того, я тогда был вдали от цивилизации целую вечность, и мне казалось, что Чэрити совсем недурна, даже при дневном свете. Но теперь… – Что теперь? – эхом отозвался Джеральд дурачась. – Я бы сказал ему: «Стреляй – и будь ты проклят!» – ответил Вэс. – И все же я кое-что выиграл благодаря всей этой истории. – Что же, позволь тебя спросить? – Мальчишку. Ты ведь и сам сказал, что он настоящий Фолкс. Вряд ли у меня вышел бы лучший даже с самой что ни на есть леди… – Тебя послушать, – улыбнулся Джеральд, – можно подумать, что это твой единственный ребенок. – Так и получается, – сказал Вэс раздраженно, – у двух старших щенков нет ничего от Фолксов, Джерри, ни единой капли. Настоящая горная шваль: слабосильные, с костлявыми коленями, соломой вместо волос, тупые до идиотизма. Если бы я не знал наверняка, что они мои, я мог бы поклясться, что ничего общего с ними не имею. Но они мои, поэтому каждый раз, как я гляжу на Тома и Мэтти, я готов расплакаться. Застрелить бы их, да пороху и пуль жалко!.. Ландшафт теперь стал более плоским, а сосны росли гуще. Они ехали в молчании – никто не решался нарушить раздумья Вэса. Негр, который правил лошадьми, ни разу за всю дорогу не раскрыл рта: из них всех только Вэс, охваченный молчаливой яростью, понимал почему. Он совершенно точно знал, о чем думал чернокожий: Вэс весь дрожал внутри, поскольку возница ни словом, ни жестом не давал ему повода выместить на нем злобу. Но вот теперь, когда начало темнеть, негр принялся мурлыкать какую-то песенку. Вэс дал исполнить ее дважды, а затем совершенно спокойно вытащил кнут. Негр посмотрел на него и вздрогнул. – Ну-ка спой! – приказал Вэс. – Ты, проклятый черный ублюдок, пой вслух! – Масса Вэс, – начал было негр, но Вэс напал на него с быстротой пантеры. Кнутовище угодило негру в лицо, и, хотя он был грузен, удар выбросил его из фургона в дорожную пыль. Вэс спрыгнул вниз. В его глазах плясали огоньки холодной ярости. – Спой это! – прошипел он. – Ты меня слышал? Пой! Странно высоким для такого крупного человека, дрожащим голосом негр начал: – Пусть я лучше буду тварью черной, и людьми, и Господом забытой… О Боже, масса Вэс, можно мне не петь? – Тебе придется петь, Кэсс, продолжай. – Чем проклятой… – Продолжай, Кэсс. – …белой швалью горной с красной шеей, тощей и немытой. – Кэсс кончил петь и стоял, покорно ожидая своей участи. На губах Вэса Фолкса появилась улыбка. – Хорошо, Кэсс, – сказал он тихо. – Забирайся назад в фургон. Если б я был горной швалью, я бы шкуру с тебя спустил, чего ты, наверно, и ждешь. Но я не белая шваль, и ты понимаешь это. Залезай обратно и правь. И все с этим. Ведь ты теперь знаешь, что со мной шутки плохи. Ты здесь достаточно давно, чтобы понять, что такое человек из рода Фолксов. Кэсс вскарабкался назад на свое место. Вдруг, ни с того ни с сего, он заговорил: – Да я-то хорошо знаю. Но дело здесь вот в чем, масса Вэс. С тех пор как ваш отец умер, некому было взять все в свои руки. Масса Джерри, он… – Продолжай, – приказал Вэс спокойно. – Что там насчет массы Джерри? – Это останется между нами, правда, масса Вэс? Вы ему не расскажете о том, что я сказал? – Нет, Кэсс, продолжай. – Ну, масса Джерри… он не тот Фолкс. Внешне он похож на Фолкса, но чего-то не хватает. Даже трудно сказать чего. Он не такой, как ваш отец, упокой, Господи, его душу, или ваш дядюшка Брайтон. Он вроде не знает, как браться за дело. Если бы не миссис Речел, все хозяйство давно бы уже полетело к черту. Стыдно это говорить, масса Вэс, но миссис Речел управляет всем хозяйством, да и массой Джерри тоже… – Продолжай, – сказал Вэс. – Она очень хорошая леди, миссис Речел, но, Боже милосердный, какой у нее крутой нрав! Кажется, она разочарована, что ей достался такой муж… – Достаточно, Кэсс, – сказал Вэс тихо. – Но это сущая правда, масса Вэс! И еще вам скажу: я уверен, что это масса Джерри убедил вашего отца отказаться от вас, когда вы попали в беду. Старый масса был уже болен тогда и… – Я сказал – достаточно! – повторил Вэс, и, хотя он не повысил голоса, в нем послышался лязг стали, вкладываемой в ножны. – Да, сэр, – поспешно сказал Кэсс. – Я молчу, масса Вэс… – Хорошо, и держи язык за зубами, – сказал Вэстли Фолкс.
Утром, когда Гай ехал на лошади рядом с Вэсом, он почувствовал, что настроение отца поднялось. Теперь наконец сосны исчезли, пошли эвкалипты и кипарисы, а также далеко вымахавшие ввысь и вширь дубы. Рощи сменялись полями, простирающимися до края горизонта; вдоль борозд двигались чернокожие и пели. – Все это, – сказал Вэс, – все это и даже больше того стало бы однажды твоим, мой мальчик, если бы твой отец не был проклятым Богом идиотом! – Папа… – сказал Гай. – Да, сынок? – Как ты думаешь, то, что сказал Кэсс – ну, насчет дяди Джерри, что он убедил дедушку… – Не думай об этом. Это болтовня негров, сынок, не более того. Джерри, в чем бы он ни был виноват, остается Фолксом. А Фолксы, хоть и бывали страшными грешниками – бездельниками, игроками и распутниками, всегда считались людьми чести… – Вэс, – вмешалась Чэрити, – что ты говоришь мальчику? – Он должен когда-нибудь узнать это, Чэрити. Пусть уж лучше у него будет естественная фамильная тяга к радостям жизни, чем другие пороки: мелочность, малодушие, низость. Гляди в оба, мальчик, через пять минут ты увидишь дом… – Где мы будем жить, папа? – пропищала Матильда. – Где нам следовало бы жить, Мэтти, – с грустью ответил Вэс, – но где мы жить не будем. Ничего, прежде чем ты выйдешь замуж, у нас будет дом не хуже, поверь мне на слово… Фургон поскрипывал, продвигаясь вперед. То и дело за полями мелькала, извиваясь, река, блестя золотом на солнце. Быстрый почтовый пароход пыхтел вниз по реке, две его трубы фыркали, выбрасывая клубы черного дыма. – Пароход за излучиной реки! – возбужденно воскликнул Том. – Фу-у-фу-у! Фу-у-фу-у! – Бога ради, прекрати орать! – прикрикнул на него Вэстли. – Вполне допускаю, что тебе трудно не быть законченным идиотом – кровь сказывается, но, черт возьми, Том, сдерживай себя, когда я поблизости, или мне придется задать тебе трепку. Том погрузился в угрюмое молчание. Фургон продолжал двигаться. Гаю казалось, что сам воздух полон ожидания. Мулы навострили уши и ускорили ход: Кэссу даже не пришлось их подгонять ударами кнута. Внезапно кучер натянул поводья, все его черное лицо расплылось в улыбке, и он сказал, указывая рукой вперед: – Вот он! Гай почувствовал, как холодная дрожь пробежала у него по спине, когда увидел дом. Он стоял в конце дубовой аллеи длиной в две мили такой белый, что эта белизна казалась криком в темноте, полный величавого достоинства, даже великолепия, превосходившего самый смелый полет воображения. – Фэроукс! – сказал Вэстли голосом человека, произносящего заклинание или молитву. Гай, почувствовав это, обернулся и взглянул на Вэса. И в первый раз в жизни он увидел слезы на глазах отца, слезы, которых Вэс и не думал стыдиться. Кэсс встряхнул вожжами, и задние ноги мулов напряглись. Фургон тронулся, повернув на аллею, под сень гигантских дубов. Здесь было прохладно, дул легкий шелестящий ветерок, вздымая пыль. Все молчали, глядя, как Фэроукс становится ближе и ближе, а дорические колонны фасада все толще и толще, вздымаясь в то же время все выше и выше, и вот уже начинало казаться, что их вершины и крыша галереи, которую они поддерживали, вонзаются в небо. Веерообразные окна над дверьми и над маленьким железным балкончиком высоко под крышей ловили солнечные лучи и отражали золотым потоком на их лица. Розы, шток-розы, гиацинты и астры росли вокруг пруда, а клумбы анютиных глазок тянулись вдоль дорожек из камня-плитняка через весь красиво подстриженный газон, наполняя воздух своим ароматом. Гай увидел два белых флигеля, примыкающие к особняку, меньше его по размеру, но сохраняющие все его величие и изящество. Он повернулся к отцу, в его темных глазах можно было прочесть немой вопрос. – Нет, – грустно сказал Вэс, – даже не они, сынок… Но вот как из-под земли высыпала ватага оборванных негритят. Они выскочили изо всех дверей дома, из сада, лохмотья весело развевались у них за спиной, и они кричали: – Гости приехали! Гости приехали! Как бы в ответ на этот гвалт на балконе появилась крошечная фигурка. Девочка была одета во все белое, кроме розовых лент, украшающих ее золотые волосы. Гай застыл, уставясь на нее, а когда она замахала носовым платком, подобным белой вспышке, он не нашел в себе сил на то, чтобы поднять руку для приветствия. Потом, зажатый между матерью и отцом на сиденье фургона, он почувствовал, как мышцы на бедре Вэса напряглись, став твердыми как сталь. Он взглянул на отца. Вэс теперь тоже смотрел вверх, желваки на его лице явственно подергивались. Гай проследил за его взглядом и увидел как бы глазами отца лицо женщины, чувствуя то же вожделение и тоску, которые, наверно, испытывал Вэс, то же благоговение, боль и изумление… Она перегнулась через маленькую Джо Энн, взяв ее за руку, чтобы ввести назад в дом. Но именно в этот момент ее взгляд встретился со взглядом Вэса, встретился и тотчас же разминулся, так что Гай почти увидел вспышку молнии, проскочившей между ними, хотя нет: молния – это зигзаг, исчезающий мгновенно, тогда как прямые как стрела линии напряжения между мужчиной и женщиной все висели и висели в воздухе, пока существовали время, мир и человеческое сознание, то ли колеблясь на краю катастрофы, то ли накапливая силы для атаки на самое небо. – Вэс, – укоризненно хныкнула Чэрити. Он не ответил ей. Он был вне досягаемости любого звука, менее громкого, чем удар грома, или прикосновения, менее властного, чем касание смерти, одетой в черный саван. Женщина горделиво выпрямилась. Гай увидел, что ее волосы краснее заходящего солнца, и он знал наверняка, даже не будучи в состоянии издалека рассмотреть их, что глаза ее цвета ярко-зеленых изумрудов. Она подняла руку и сделала указующий жест. Он был так короток, что Гай засомневался, не почудилось ли ему, но, услышав всхлип, вырвавшийся из горла отца, чувствуя абсолютную безграничность ярости, владевшей им в эту минуту, он понял, что видел презрительный жест Речел Фолкс, которым она гнала их прочь, понял это еще до того, как Кэсс повернул упряжку на боковую аллею, ведущую прочь от Фэроукса, еще до того, как услышал непроизвольно вырвавшийся хриплый шепот Вэса: – Ах ты, сука! Проклятая высокомерная сука! Я еще проучу тебя! – Вэс! – гневно воскликнула Чэрити. – Мне кажется, ты бы мог проявить хоть толику уважения… Вэс глянул на жену так, что слова застряли у нее в горле. Когда он заговорил, звучание его голоса было подобно скрежету ломающегося льда в горном водоеме. – Уважения? – произнес он протяжно. – К тебе, Чэрити? У меня его нет. Ни капельки, даже самой разнесчастной толики. Тебе давно пора это уяснить. Я никогда ничего тебе не обещал. Когда ты обманным путем вынудила меня жениться на тебе, все, что ты получила, – мое тело. А сердце мое осталось свободным, Чэр, и, чтобы надеть на него уздечку, нужно что-то большее, чем костлявая неряха с холмов, гораздо большее, разрази меня гром… Он повернулся к Кэссу, который позволил мулам остановиться. – Чего ты ждешь? – обрушился Вэс на него. – Гони, забери дьявол в ад твою черную душу! – Да, масса Вэс, – сказал возница и сильно стегнул по спинам мулов. Животные рванули вперед. Когда Гай обернулся, облако пыли, поднятой фургоном, скрыло дом из виду.
Глава 2
Домик надсмотрщика был скорее не копией Фэроукса, а карикатурой на него. Крашенный в тот же безукоризненно белый цвет, он вроде бы, особенно если смотреть издалека, был выдержан в том же неогреческом стиле. Однако колонны, которые поддерживали крышу, были не круглые, а квадратные и представляли собой просто полые коробки из четырех планок, грубо и неумело обтесанных скобелем, со щелями, куда Том мог просунуть палец, что он тут же и сделал. Вэс, глядя на все это, зло ругался. Гай, как всегда, стоял рядом с отцом и мрачно кивал, разделяя его чувства. Конечно, по сравнению с любым другим домом, который Гай когда-либо видел до приезда в Фэроукс, это был королевский дворец, но отнюдь не для человека из рода Фолксов. А вот Фэроукс – это то, что нужно, и Гай, будучи сыном своего отца, ни в коем случае не был согласен на что-либо меньшее. Негры-слуги вышли на галерею дома и стояли там, кланяясь и улыбаясь. Они улыбались и кланялись Вэстли Фолксу, но во взорах их, обращенных на Чэрити и двух светловолосых ребятишек, Гай увидел затаенное презрение, и это обожгло его, как удар кнута. – Здравствуйте, масса Вэс! – повторяли они хором. – Как хорошо, что вы вернулись, сэр! Да, сэр, очень хорошо. Господь милосердный дал вам целую кучу красивых ребятишек! А это вот ваша миссис? Добрый вечер, мэм, добрый вечер… Гай чувствовал, что хоть слова были правильными, произносились они неискренне и звучали как пародия на учтивость. Но время для них было выбрано удачно и очень точно: вот-вот могла сверкнуть молния, зарождавшаяся в глазах Вэса Фолкса; негры видели это, но понимали – достоинство белого человека не позволит ему показать, что он заметил плохо скрытую насмешку, а принадлежность к касте господ не даст унизиться до мелкой мести. – Ладно, ладно, – сказал Вэс. – Ты, Руф, забери вещи из фургона. А ты, Бесс, приготовь ужин. И я, черт возьми, надеюсь, что девушки выметут хотя бы половину грязи из дома… – Да, сэр, – снова сказали они хором. – Все готово, масса Вэс. Вэс обернулся как раз вовремя, чтобы заметить, как Руф смотрел на потрепанные саквояжи, которые он передавал Кэссу. Черное лицо слуги было перекошено откровенно презрительной гримасой. Увидев, что Вэс смотрит на него, негр мгновенно стер усмешку с лица. Вэс перевел взгляд с Руфа на свои пожитки. – Ты совершенно прав, Руф, – спокойно сказал он после некоторого молчания. – Эта рухлядь недостойна человека, в котором есть хотя бы капля крови Фолксов. Вынеси их куда-нибудь подальше и сожги. – Папочка, – заскулила Матильда, – там кукла и все мои вещи! – У тебя будут куклы получше этой, мисси, – сказал Вэс мягко. – Давай, Руф, неси весь этот хлам на задний двор и сожги его. Кэсс… – Да, сэр, масса Вэс? – Сходи-ка в дом на горе и скажи мистеру Джерри, что я хочу видеть его. Прямо сейчас. А вы, дети, идите умойтесь. Бесс мигом приготовит ужин… Мебель в доме была простая, но хорошего качества. Однако по всему было видно, что прежний надсмотрщик не придавал большого значения порядку в доме. Негритянки подмели и протерли мокрыми тряпками, как они это всегда делали, если за ними как следует не присмотреть, только середину комнат, оставив в углах хлопья пыли. Вэс посмотрел на жену. – Давай-ка, – проворчал он, – скажи им! В конце концов, хозяйка ты или нет? – Здесь не очень хорошо прибрано, – робко сказала Чэрити. – Гром и молния! – проревел Вэс. – Здесь совсем не прибрано! Слушайте, вы, ленивые, никчемные черные девки! Завтра вечером в это же время здесь должно быть так чисто, чтоб можно было есть с этих полов! Слышите меня? – Да, сэр, масса Вэс, – ответили служанки. – Ладно, ладно. Ты, как, черт возьми, тебя зовут? – Руби, сэр. Руби Ли, вот как. – Ты, Руби, возьми детей и отмой их. Кроме этого мальчика. – А ты, как тебя? Скажи Бесси… – Тильди, сэр. – Тильди, скажи Бесси, что я хочу поужинать сейчас, а не через неделю! Он насмешливо взглянул на жену: – Ну, Чэрити? Что ты об этом думаешь? – Это… это отлично, Вэс, – сказала Чэрити. Они сидели вокруг стола и ждали. Наконец вошли Бесс и Руби, неся огромную суповую миску. Руби держала ее, а Бесс щедро наливала суп в тарелку Вэса. Не дожидаясь остальных, Вэс поднес ложку ко рту. Гай сидел, во все глаза глядя на отца. Вэс резко встал и шагнул вперед, так что стул с треском качнулся. Ни слова не говоря, он схватил миску, сделал два широких шага к открытому окну, и струя горячего супа с шипением выплеснулась на землю. Вэс повернулся к кухарке, держа суповую миску в вытянутых руках. – Послушай, Бесс, ты знаешь меня. Ты, можно сказать, меня вырастила. Я не ем помои. Если бы ты не знала, как надо готовить, – другое дело. Но ведь ты, разрази меня гром, одна из лучших кухарок во всем штате Миссисипи. А теперь возвращайся на кухню и начинай снова. Я буду ждать. И я голоден. А чем дольше я сижу голодный, тем я злее. Слышишь меня, Бесс, ступай! – Да, сэр, масса Вэс! – пропела Бесси и выскочила из гостиной со скоростью, поразительной для ее грузного тела. Ужин, когда он вновь появился (через такое короткое время, что Гаю подумалось: без помощи джиннов и демонов здесь не обошлось), оказался чудом кулинарного искусства. Настоящее креольское филе с окрой*["907] сменило суп, а затем последовал золотисто-коричневый жареный цыпленок с сухим, легче воздуха, печеньем из взбитого теста, таким горячим, что Том выронил его, взвыв от боли. Были и засахаренные бататы, и блюдо с овощами, в котором плавали куски жареной свинины. Руби подавала, а когда они, наевшись до отвала, собирались уже встать из-за стола, торжественно вплыла Бесс, неся огромный графин персикового напитка. Такого вкусного Гай еще в жизни не пробовал. Бесс не уходила, вся сияя. – Ну как теперь, масса Вэс? – спросила она довольно. – Вам понравилось? Вэс встал, его темные глаза горели. Он торжественно взял Бесс за руку: – Ты сделала очень большую ошибку, Бесс, потому что отныне, если ты подашь мне обед хоть самую чуточку хуже сегодняшнего, мне придется спустить с тебя твою жирную шкуру. Ты меня слышишь, Бесс? – Да, сэр, масса Вэс, – рассмеялась Бесси. – Но думаю, это как раз то, о чем нам с вами не придется беспокоиться. Нисколечко, сэр! Вэс обернулся к семье. – Что ж, Чэрити, – сказал он благодушно, – ты с детьми можешь идти отдыхать. А Гай пойдет со мной. До темноты еще далеко, и нам надо начинать приводить все в порядок… – Да, папа, – сказал Гай, став рядом с отцом. В этот момент он уловил выражение боли в глазах Тома и в первый раз пожалел старшего брата. – А можно и Том пойдет с нами? – Ну… – заколебался Вэс, – ну ладно. Но ты, – на этот раз он обратился непосредственно к Тому, – должен шевелиться поживее и держать язык за зубами, пока что-нибудь разумное не придет тебе в голову. Они втроем вышли из дома и остановились на переднем дворе, осматриваясь. Двор был страшно запущен, весь зарос сорняками и куманикой. Вэс видел, что все это выросло не за один год: не было ни малейшего сомнения в нерадивости прежнего надсмотрщика. – С этим надо что-то делать, – сказал Вэс. – Послать кого-нибудь в Фэроукс за семенами и саженцами. Ваша мать хорошо умеет разводить цветы. Стоит расчистить эти заросли, и двор хоть на что-то будет похож. Он прошел дальше, слегка приобняв Гая за плечи одной рукой, но, заметив обиду в глазах Тома, почувствовал жалость к старшему сыну. В конце концов, сам мальчишка не был ни в чем виноват. Он давно понял, что Том отставал в развитии во многом из-за его собственного пренебрежения к первенцу. Было отнюдь не справедливо, что с самого рождения ребенка он перенес на него часть досады, которую испытывал по отношению к жене, хотя Том вовсе не был повинен в тех рабских узах, что приковали Вэса к Чэрити, а Вэс Фолкс был прежде всего справедливый человек. И теперь он обнял Тома другой рукой. Том горделиво распрямился. Так они и шли вокруг дома, мимо птичника, пока не пришли к конюшням. Это были, конечно, не главные конюшни Фэроукса, и в них содержались всего лишь три или четыре клячи, которые по необходимости предоставлялись обычно во владение надсмотрщика. И ничто на Юге так красноречиво не говорило о низком положении надсмотрщика в обществе, чем это. В краю, где о мужчине судили по его знанию лошадей, надсмотрщику давали ездовых животных, чаще всего годных только для живодерни. Вэс с горечью осознавал это, но он вовсе не собирался позволять кузену обращаться с собой подобным образом. И вот теперь он размышлял, как бы вытребовать приличных лошадей для себя и Гая. Это была мучительная мысль. В конце концов, он добровольно согласился на должность надсмотрщика, столь низкую по своему общественному положению. Сделав это, он как бы отказался от права что-то для себя требовать. Но, черт бы их всех задрал, остался он Фолксом или нет? А кроме того… Эта земля должна принадлежать ему: он потерял ее по глупости, из-за собственной похоти. Он отказался верить предположению Кэсса, будто Джеральд из эгоистических соображений повлиял на его отца, старого и больного, и подточил его терпение и силы разговорами о бесконечных, связанных с женщинами скандалах, в которых был замешан Вэс. Но теперь мысли об этом начинали преследовать его. Душевный склад и особенности характера Джеральда вполне допускали такую возможность. Даже тогда, когда Эштон Фолкс пригласил своего брата Брайтона (который терпел неудачу во всем, за что ни брался), его хворую жену и болезненного сына в качестве пожизненных гостей в процветающий Фэроукс, маленький Джерри отличался не только открытой ненавистью к Вэсу, но и хитростью, благодаря которой он часто брал верх над более простодушным кузеном. Вэс отогнал беспокоящую его мысль. В конце концов, ничего этого не докажешь. Да теперь это и не важно. Главное сейчас – начать возвращение назад, к месту под солнцем, которое принадлежало ему по праву… И тут они услышали треск расщепляемых досок, пронзительное дикое ржание, которое было подобно звуку трубы для Гая, истинного сына своего отца. Вэс снял руки с сыновних плеч и ринулся вперед. Большой черный жеребец уже наполовину выбрался из стойла. Еще одна атака на загон, и он будет свободен. Негр-конюх с серым от ужаса лицом схватил вилы, чтобы защититься. Один прыжок – и Вэс оказался рядом, оттолкнув его в сторону. – Масса Вэс, масса Вэс! – Голос негра дрожал. – Не подходите близко, сэр! Это не лошадь, а сущий дьявол! Уже убила одного человека! Боже милосердный, масса Вэс, не подходите близко! – Все в порядке, Зеб! – улыбнулся Вэс. Его голос дрожал от возбуждения. – Я сумею управиться с ним… – Нет, сэр, не сможете. Простите, Бога ради, сэр, но никто не может совладать с этим дьяволом. Он сбросил массу Джерри и сломал ему три ребра, и масса Джерри отдал его массе Хентли, последнему надсмотрщику. И в первый же раз, как масса Хентли пытался сесть на него, он сбросил его тоже и сломал ему шею. Пожалуйста, сэр, не надо! Гай заметил, что жеребец немного успокоился. Веревка болталась на шее животного, ее конец свободно свисал: могучий зверь разорвал ее в первом безумном прыжке. – Зеб, – сказал Вэс тихо, – подойди с той стороны и убери доски. Только осторожно, чтоб он тебя не услышал… – Масса Вэс! – взвыл Зеб. – Не могу! Боюсь! До смерти боюсь! – Я это сделаю, папа! – сказал Гай, шагнув вперед. – Отлично! – крикнул Вэс возбужденно. – Давай, только осторожно… Подкравшись бесшумно, по-индейски, шаг за шагом, Гай вытащил первую из оставшихся досок. Больше он ничего сделать не успел. Жеребец мощно прыгнул и, разнеся доски в щепы, вырвался наружу. Гай увидел, как отец схватил веревку и прыгнул, нет, даже не прыгнул – это движение было внезапно, как взрыв, но в то же время так изящно, так своевременно, так совершенно, – он скорее взлетел, как большая и ловкая хищная птица, на спину жеребца. Затем Вэс подался вперед, запустил левую руку в черную гриву и изо всех сил натянул веревку правой, так что петля перекрыла дыхание животного. Но сил у этого жеребца было побольше, чем у обычной лошади. Он врылся передними копытами в землю, а сильные задние ноги равномерно сгибались и разгибались, выбрасывая огромные комья земли за пределы двора конюшни. Большие ворота, высотой в двенадцать досок, которые еще ни одна лошадь в истории Фэроукса не могла перескочить, были закрыты, но черный жеребец перемахнул и эту преграду, взлетев вверх по правильной дуге, будто проведенной гигантским циркулем. Вэс держался крепко. Когда жеребец вновь опустился на землю за воротами, Гай услышал смех отца, громкий и торжествующий. Затем всадник и конь скрылись в облаке пыли, которое постепенно уменьшалось, мчась с непостижимой быстротой над полями и изгородями напрямую, преодолевая препятствия, и еще долго после того, как они исчезли, раскаты смеха Вэса Фолкса висели в вечернем воздухе, как затухающее эхо большого медного гонга. Два мальчика и негр ждали. – Я боюсь! – захныкал Том. – Эта дикая лошадь убьет папу! Что мы тогда будем делать? Гай посмотрел на брата с жалостью и презрением. – Не беспокойся, Томми, – сказал он мягко. – Еще не родилась такая лошадь, которая могла бы сбросить папу. Они стояли и ждали, пока не заметили всадника, скачущего по дороге со стороны Фэроукса, но вскоре увидели, что это не отец на черном жеребце, а женщина на красивой гнедой кобыле. Зеб подбежал к воротам и распахнул их. Женщина въехала во двор и взглянула на них сверху вниз. Гай услышал скрип ворот, закрываемых Зебом, но осознал этот звук только наполовину. Он видел ее глаза, такие зеленые, как он их себе и представлял, ее волосы – цвета пламени в ореоле заходящего солнца. Ее красота была царственной: в каждой линии ее великолепного тела было горделивое достоинство, она сидела в седле, высокая и прямая. – Подойди сюда, – сказала она Гаю. Он вышел вперед, распрямившись, неосознанно подражая гордой осанке отца. – Да, мэм? – сказал он, и в его голосе не было ни малейшего намека на униженность. Гай был сыном Вэса Фолкса и хотел быть достойным его. Он видел, как в зеленых ледяных глазах Речел загорелась ярость. – Где твой отец? – требовательно спросила она. – Поехал на лошади, – ответил Гай, намеренно затянув паузу, прежде чем добавить «мэ-эм». – Когда он вернется, – сказала Речел Фолкс, – скажи ему, что мой муж не привык, чтобы его вызывал к себе надсмотрщик. Если он хочет видеть мистера Джеральда, пусть сам приезжает в Фэроукс и попросит его позвать – с заднего входа. Теперь повтори то, что я тебе сказала. Хочу убедиться, что ты понял все правильно. – Нет, – сказал Гай. – Нет! – гневно воскликнула Речел. – Что с тобой, мальчик? У тебя не хватает ума запомнить несколько простых слов? – Я хорошо их запомнил, – сказал Гай тихо, – только никто так не разговаривает с моим папой, леди. – Ну ты, щенок с холмов! Я собираюсь проучить… – На вашем месте я не стал бы этого делать, леди, – произнес Гай тем же скучным, мертвенно-спокойным голосом. – Я – Фолкс, мэм, а люди обычно не угрожают Фолксам – они нас знают. И кроме того, – тут он услышал стук копыт возвращающегося жеребца, – если вы подождете полминуты, сами ему все сможете сказать… Речел Фолкс обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Вэс Фолкс, едущий без седла, с веревочным поводком вместо уздечки, легко поднял черного жеребца, с которым никто до сих пор не мог совладать, над воротами высотой в двенадцать досок, которые еще никто не преодолевал на скаку, с грацией, поражающей воображение, как будто они парили в воздухе. Вэс легко и красиво остановил жеребца перед ней. – Никак кузина Речел! – сказал он насмешливо. – Вы оказали мне честь. И чем же я могу служить вашей милости? Увидев лицо Речел в это мгновение, Гай понял, что в ее душе борются противоречивые чувства. Но причины этого он не знал. Ни опыт, ни воображение не могли подсказать ему ответ. Но Речел была сильной натурой и очень быстро уняла внутреннее смятение. Чувствуя давящую сухость в горле, биение крови в венах, жар в пояснице, она выплеснула весь свой гнев, все горькое презрение к себе за внезапно поразившую ее слабость на Вэстли Фолкса, чтобы очиститься от чувств, которые она, как и все женщины ее времени и ее круга, привыкла считать недостойными, принадлежностью низших существ, падших женщин. На свою беду, она никогда не имела дела с Фолксами, если не считать ее мужа, и была слишком разъярена, чтобы постичь характер человека, показавшего такое замечательное умение обуздать черного жеребца, – а ведь это было всего лишь одной гранью его натуры. – Я приехала сказать тебе, что мой муж не привык, чтобы его вызывал к себе надсмотрщик. А если ты когда-нибудь захочешь видеть мистера Фолкса, можешь подъехать к дому и спросить его, но с заднего крыльца. Я ясно говорю? – Вполне, – ответил Вэс, – даже яснее, чем ты, возможно, того хотела, Речел. Твой муж не привык, чтобы за ним посылал надсмотрщик, но он очень даже привык, чтобы ему приказывала жена. По-моему, это просто позор. Потом, еще пара вещей, которые ты забыла, Речи, или, может быть, не знала. Хотя я и сомневаюсь, что… – Не называй меня Речи! – выпалила она. – Может быть, мне объяснить тебе, где твое место, Вэс Фолкс? – Не стоит трудиться: я знаю свое место куда лучше, чем ты, Речи. А теперь заткнись и слушай меня. Я буду краток. Во-первых, ты разговариваешь с мужчиной. Во-вторых, если ты еще раз осмелишься приехать сюда сказать мне что бы то ни было, я огрею тебя кнутовищем, что следовало бы сделать Джерри, если б он был мужчиной, а он, Бог тому свидетель, не мужчина. В-третьих, мой отец построил Фэроукс, засадил его деревьями, превратил в сад. Единственная ошибка, которую он совершил, – пожалел своего никчемного брата, моего дядюшку Брайтона, и пустил в дом этого отвратительного проныру, за которого ты вышла замуж. Я не могу доказать, что Джерри украл у меня Фэроукс, но думаю, это не исключено… – Я не желаю этого слушать! – выкрикнула Речел. – Я не буду… – Послушай, Речи, – сказал Вэс терпеливо, как будто объяснял трудный вопрос ребенку, отставшему в развитии. – Ты продолжаешь делать ту же ошибку. Я – Фолкс, настоящий Фолкс, а не дрянная подделка, как Джерри. А люди не говорят Фолксам, что они чего-то не желают. Особенно женщины. В семье Фолксов женщины говорят, когда к ним обращаются, и говорят тихо. Я пытаюсь быть терпеливым, но ты меня страшно раздражаешь. А теперь будь хорошей девочкой, выслушай и не серди меня. Я буду приезжать повидать Джерри, когда мне это будет удобно, а если не будет, то и не приеду. Я буду управлять имением за него и буду делать это хорошо, черт меня побери, каким бы спорным ни было его право на владение, а ты уж поверь мне, Речи, оно очень спорно. Но я не позволю, чтоб со мной обращались как с мелкой сошкой, мне никто не будет диктовать свои условия, особенно несчастный маленький хорек, посылающий жену с поручением, которое ему недостает мужества выполнить самому. И что бы мне ни говорила какая-то растреклятая баба, мне на это в высшей степени наплевать! Я достаточно ясно выразился, миссис Фолкс? – О! – задохнулась Речел, пытаясь сказать что-то в ответ, но не могла выдавить ни одного слова из перекосившегося рта. Вэс повернулся к негру, совершенно ошалевшему от изумления. – Зеб, – сказал он насмешливо, – будь добр, открой ворота леди. Мне сдается, она хочет уехать… Речел свирепо рванула уздечку, развернув лошадь, и помчалась к воротам. – Скажи Джерри, – крикнул ей вслед Вэс, – я по-прежнему жду его. И я не люблю ждать! Речел с такой силой опустила хлыст на бок своей кобылы, что та взвизгнула и прыгнула вперед, чуть не выбросив ее из седла. – Па! – закричал Гай. – Папа, она упустила поводья! Вэс ударил пятками в бока черного жеребца. Послушно, словно это был кротчайший зверь на свете, конь рванулся за Речел. Гай видел, что отец сдерживает огромное животное: он мог бы догнать Речел в три прыжка, но не сделал этого. Две лошади неслись ровным галопом уже не по дороге, а напрямик через поле, в сторону дубовой рощи, что была в нескольких милях отсюда, на границе плантации. Два мальчика и негр стояли, глядя, как лошади и их наездники уменьшаются, становясь на расстоянии совсем крошечными и наконец полностью растворясь в сгустившихся вечерних сумерках, мелькая удлиненными тенями среди дубов. – Смешно, – сказал Том. – Папа давно уже мог бы поймать ее. Гай взглянул на брата. Мысли его были смутными и расплывчатыми, но при этом мрачными и горькими. Они стояли так, наверно, минут десять, а тени во дворе делались все длиннее, и вот наконец последний клочок света перешел во тьму. Над домом встала и замерцала звезда. Зеб прочистил горло. – Вам бы, ребятки, спать пора идти, – проворчал он, – поздно уже… Они ушли в дом. Через полчаса Том уже храпел, но Гай никак не мог уснуть. Так он и лежал, чувствуя себя несчастным, пока первые рассветные лучи не засерели за окнами. И тогда-то наконец он услышал, как сапоги отца прогромыхали по лестнице. Вэс Фолкс вошел в комнату и остановился, глядя на сына. Гаю показалось, что лицо отца посерело от усталости или, может быть, от света, падавшего на него, – он не знал этого точно. Но улыбка на лице отца была торжествующей – в этом не могло быть никакого сомнения. Гай зевнул и потянулся, как будто проснулся только что. – Па-а, – сказал он сонно, – миссис Речел, она очень плохая женщина, правда? Вэс откинул голову назад и громко рассмеялся. – Скажу тебе по секрету, сынок, – сказал он, – необъезженные лошади, как и женщины, – самые лучшие!Глава 3
Позавракав, Гай встал из-за стола и не торопясь направился к конюшням. Его живот был тугим, как барабан, от целой горы съеденных гречишных оладий с маисовой патокой и колбасы – все это он запил почти половиной галлона кофе, лучше которого в жизни не пробовал. Гай шел, насвистывая, и мир казался ему теплым и славным местом, где для тела было жратвы больше, чем он мог слопать, и мягкая постель для сна, а впереди – новая, неизведанная, таинственная жизнь. Жизнь, которая создавала таких людей, как Вэс Фолкс, хозяев своих владений, мчащихся сквозь ширь полей, неустрашимо возвышаясь в седле. Он обнаружил, что Зеб уже заседлал двух лошадей: костлявую чалую и маленькую серую. Серая была неплоха, особенно для него, но если бы отец увидел чалого мерина, он бы стал кричать и ругаться последними словами. – Слушай, Зеб, – твердо сказал Гай, – отец никогда не сядет на эту дохлятину. Давай-ка сними с него седло и заседлай черного жеребца. Я тебе помогу. – О Господи, масса Гай! Я и подступиться боюсь к Демону. Он же нас обоих на тот свет отправит, если мы подойдем к нему близко! – Теперь уже нет, – уверенно сказал Гай. – Папа его пообломал немного. Подожди, я тебе покажу. Он прошел прямо к стойлу Демона, протянул руку к ограде, и черный великан вздрогнул и отступил. Но что-то, возможно любопытство, заставило жеребца снова вытянуть вперед голову, и Гай ласково погладил его. Конь опять дернулся, но в этот раз не так сильно. Ласка мальчика ему понравилась – это было видно по его глазам, – и он потянулся к Гаю. Гай взял в руки веревку и с усмешкой повернулся к Зебу. – Сними доски, – сказал он. Удивленный негр подчинился приказанию, и мальчик вывел во двор могучего жеребца, послушного как ягненок. – Я бы никогда так не смог! – воскликнул Зеб. – Кто бы мог подумать! За какие-то пять минут они надели седло на Демона. Еще через минуту или две Гай увидел, что отец выходит из дома. Глядя на Вэса Фолкса, нельзя было догадаться, что он не спал всю ночь. Вид его был бодрым, на ходу он негромко мурлыкал какую-то мелодию. Когда Вэс увидел жеребца, его темные глаза загорелись: – Хорошая работа, мальчик. Я очень спешил: боялся, что ты сам попытаешься надеть на него седло. Думал, он будет еще чуток упрямиться. Мне следовало догадаться, что ты сумеешь управиться с ним. А теперь давай поедем посмотрим все вокруг… Они сели в седла и двинулись легким галопом вокруг дома, но, когда достигли переднего двора, Вэс остановил Демона. Лицо отца побагровело. Гай подъехал ближе и увидел то же, что и Вэс, но никак не мог понять, что так разгневало отца, хотя и знал, что в это состояние он легко мог впасть в любую минуту. Во дворе были Чэрити и Мэтти с мотыгами и серпами: они усердно боролись с разросшимся кустарником. Гай наблюдал, как отец слезает с лошади и неторопливо идет в их сторону, по-кошачьи бесшумно ступая. Подойдя достаточно близко, он сделал резкое движение, такое быстрое, что Гай не смог сразу понять, в чем дело. Чэрити вскрикнула: Вэс вырвал у нее мотыгу одним легким движением и швырнул в кусты. Потом повернулся к Мэтти. – Дай мне серп, Мэтти, – сказал он тихо, – ну дай же мне его! Мэтти молча повиновалась, и Вэс запустил его в небо: вращаясь как бумеранг, серп скрылся за верхушками деревьев. И тогда он вновь обернулся к жене: – Наверно, ты так и останешься дурой, Чэрити, раз уж ты ею родилась. Но, Боже правый, неужели тебе не хватает простого здравого смысла посоветоваться со мной, прежде чем делать что-то? – Я не делала ничего плохого, Вэс! – воскликнула Чэрити дрожащим голосом. – Ты сам говорил, что вот этот двор… – Послушай, Чэр. Я собираюсь тебеобъяснить на этот раз, что к чему, но я не хочу никогда повторять этого снова. Ты моя жена, и значит – хозяйка этой части Фэроукса. Тебе надо забыть, что ты родилась и воспитывалась как горная шваль. Ты должна научиться вести себя как подобает леди. А леди не выпалывают сорняки! Для этого есть ниггеры. Леди может шить, вышивать или ухаживать за больными. Леди следит за работой в доме и в саду. Но она не делает эту работу сама – никогда! Я не смогу держать в узде ниггеров, если они хоть раз увидят, что моя жена и дочь делают черную работу! Ступайте в дом обе! Через некоторое время я пришлю сюда пару негров. Тогда вы выйдете и скажете, что им надо делать. И еще одно: завтра или послезавтра я приглашу сюда цветную девчонку, чтобы она сняла с тебя и Мэтти мерки на платья. И не вздумай говорить ей, как шить эти платья: у тебя нет ни малейшего представления о том, как должна одеваться леди. Я все скажу ей сам. И не приглашай ее посидеть и попить чаю или что-нибудь в этом роде, хотя у нее очень светлая кожа, почти как у тебя, если не светлее. Будь у нее всего одна капля негритянской крови – и того достаточно. Ты меня поняла? – Да, Вэс, – прошептала Чэрити. – Хорошо. В следующий раз, когда тебе очень захочется сделать какую-нибудь глупость, посоветуйся со мной. Ладно, мальчик, поехали. С той особой грацией, которая свойственна мужчинам, большую часть жизни проведшим в седле, они выехали со двора, направляясь на южный участок плантации, где под палящим солнцем работали негры. Заслышав приближающийся конский топот, старший рабочий поднял голову и, не проронив ни слова, увеличил темп со скорости улитки до примерно половины той скорости, какой без особых усилий может достичь любой сельскохозяйственный рабочий где-нибудь в Огайо или Иллинойсе. – Видишь, сынок, – сказал Вэс, указывая на негров рукоятью плети, – такая работа не имеет смысла. Я не тот человек, который стал бы рассуждать о справедливости или несправедливости рабства. Но то, что есть сейчас, – сущая бессмыслица с точки зрения экономики. Я давным-давно уже понял, что негр не дурак, хотя, по большей части, он из кожи вон лезет, чтобы выглядеть дураком. Чертовски тяжело добиться проку от наемного работника, что уж говорить о том, кто ничего не получает за свой труд. Человеку нужно о чем-то мечтать, например, о том, что он когда-нибудь будет работать на своей земле, что завтра у него будет хороший дом, послезавтра – экипаж, а потом его сын поедет учиться в колледж и вернется юристом или хирургом. Мы стараемся изо всех сил, но, во-первых, хлопок разрушает землю, а во-вторых, ниггеры не проявляют о ней и половины той заботы, которая необходима. Да и как их заставить? Мы можем пустить в ход плетку, и они будут работать по-настоящему полчаса или полдня. Но мы не сумеем выбить из них и половины того, что дает свободный труд, потому что у нас рука не поднимется дать им хорошую лупцовку: ведь у нас доброе сердце и злость на них быстро проходит. – Почему бы нам от этого не отказаться? – спросил Гай. – Не можем мы такого себе позволить: мы в силках системы, которую сами же и создали, мы ее рабы, а янки вынудили нас защищать ее изо всех сил, и теперь нам нельзя отступить без того, чтобы не нанести урон своей гордости и чести. Да, мы рабы этой системы, не имеющей ни малейшего смысла с точки зрения экономики, и этой кучки ублюдков с репейником в волосах, которым на все наплевать, да это и понятно, если рассудить здраво… А теперь поедем посмотрим, что делают остальные. Еще немалый путь предстояло им проехать до западной части плантации, когда они увидели Джеральда Фолкса, скачущего навстречу им на одном из тех серых в яблоках коней, что составляли предмет особой гордости обитателей Фэроукса. Рядом с ним ехала дочь на молочно-белом пони, круглом как бочонок. Вэс остановил Демона и ждал, мускулы на его смуглом лице напряглись. Но Джеральд был само спокойствие. – Слышал, вы поссорились с Речел, – сказал он как бы между прочим. – Не обращай на нее внимания, Вэс. Она немного вспыльчива, да и я ее избаловал. Кстати, я не посылал ее надрать тебе уши, это была ее идея. Как видно, уши оказались крепче, нежели она думала. Так или иначе, забудь это, ладно? Вэс Фолкс пристально, с нескрываемым презрением посмотрел на кузена. – Никаких обид, – сказал он коротко, – и раньше приходилось иметь дело со своенравными бабами. – А зачем ты хотел меня видеть? – Сделай одолжение. Мои дети совершенно раздеты. Они могли шляться Бог знает в чем там, на холмах, но здесь совсем другое дело… – Конечно. Все, что тебе нужно, Вэс, ты ведь сам знаешь… – Он повернулся к дочери: – Почему бы тебе не прогуляться со своим кузеном? Нам нужно поговорить с его отцом. – Хорошо, – сказала Джо Энн. – Поехали, Гай. Не тратя лишних слов, Гай направил за белым пони своего серого, придерживая его, чтобы он не перегонял миниатюрную лошадку Джо Энн. – Ты когда-нибудь разговариваешь? – спросила девочка. – Иногда, – ответил Гай. – Когда есть что сказать. – А когда это бывает? – не унималась Джо Энн. – Не знаю. От многого зависит. – От чего? – Ты слишком любопытна, – сказал Гай и пустил лошадь в галоп. Через мгновение он пожалел об этом. Несмотря на всего его старания не слишком перегонять Джо Энн, белый пони оказался на сотню ярдов сзади. – Да уж, ездить верхом ты умеешь! – восхищенно воскликнула Джо Энн. Гай покраснел: – Ерунда. Это мне раз плюнуть. – Не говори так, – строго поправила его Джо Энн. – Запомни, что ты Фолкс. Тебе надо научиться говорить так, как подобает джентльмену. Гай подался вперед. Вся неутоленная жажда знаний, снедавшая его, прозвучала в голосе мальчика: – А ты меня научишь? Не очень-то много довелось мне учиться. Научишь, Джо? – Конечно, – молвила маленькая богиня. – Давай-ка спустимся к пруду…Этот день стал началом целой череды таких же волшебных дней. Они ездили верхом, смеялись, плескались вместе в пруду, после того как Гай научил ее плавать, – ведь даже в четырнадцать лет он не утратил еще невинности детства. Их не смущала нагота друг друга. Но помимо этого было еще одно обстоятельство, столь же драгоценное, сколь и редкое: тогда, в длинные дни этого первого лета, когда теплые бризы колыхали многолетнее сорго, из сосняка доносился плачущий голос горлицы, а охотничьи псы жалобно выли в дубовой роще, словно пели свою древнюю песнь погони и смерти, далекую и грустную, растворенную в беспредельности воздуха, подобную звону колокольчиков на ветру, они научились любить друг друга задолго до того, как в них проснулись настоятельные веления плоти и когда они впервые поцеловались, крепко прижимаясь ртами, смущенные от охвативших их чувств. И, когда эти желания пришли к ним, им было чем их оправдать, поэтому темное волшебство ищущих рук и тесных объятий никогда полностью не заменило им яркого волшебства дружбы, привязанности друг к другу, общности. Хорошо, когда бывает именно так, но это случается очень редко. Осенним днем они ехали верхом через дубовую рощу, через груды опавших листьев, красных и золотых, гонимых ветром. – Я не смогу быть завтра, – сказала Джо Энн. – Снова надо браться за учебу. Эта противная мисс Брэнвелл приезжает. – И я бы хотел начать заниматься, – откликнулся Гай. – Нужно много знать, так как же не учиться… Джо Энн повернулась в седле и посмотрела на него. – Я поговорю с папой! – воскликнула она. – Прямо сейчас попрошу его! – Он никогда не согласится! – Согласится, вот увидишь! – заявила Джо Энн самодовольно. – Папа сделает все, о чем бы я его ни попросила. Пойдем! Они поехали к дому. Один из негров вышел им навстречу и взял поводья. Джо Энн схватила Гая за руку и потащила за собой вверх по лестнице. – Уж и не знаю, – сказал Гай. – Никогда не бывал у вас. А вдруг твоей маме это не понравится? – О, не беспокойся! – рассмеялась Джо Энн. – Она очень изменилась за это лето. И кричит гораздо меньше, чем раньше. Папа говорит, он сам не может понять, что с ней стало. Они поднялись по лестнице на галерею, а оттуда – в большой зал. Гай отстал, разглядывая все вокруг. Он был поражен непривычным великолепием огромных канделябров из граненого стекла, позванивающих, как миллионы хрустальных колокольчиков, при малейшем движении воздуха, и ковров, в которых нога утопала по щиколотку. Мягко отсвечивала дорогая мебель темного цвета, отполированная заботливыми руками, одни занавески и портьеры стоили больше, чем дом, в котором жил теперь Гай со своей семьей, а со стен, ряд за рядом, хмуро смотрели на него Фолксы, воинственные и суровые предки, их одежда менялась от поколения к поколению – великолепные кавалеры в сверкающих переливчатых шелках и кружевах, плюмажах и париках, завитые и напудренные. Здесь было над чем задуматься: вот его предки, всегда, с самого начала его рода, избранные, все сплошь лорды и леди, мужчины властного вида, женщины непревзойденной прелести. Гай почувствовал прилив гордости. Он замер, огонь запрыгал и затанцевал в его темных глазах. – Я – Фолкс, – прошептал он. – Я потомок этих людей. Таких замечательных людей, и я буду… – Ну пошли же! – позвала его Джо Энн. Она распахнула дверь в кабинет и остановилась, до них донесся голос Джеральда: – Но должно же быть какое-то объяснение, Речел. Ты никогда раньше не ездила верхом ночи напролет. Если не можешь заснуть, я вызову доктора Уильямса, чтобы он прописал тебе… – А мне нравится ездить верхом в темноте. Это чудесное, чудесное ощущение, Джерри. Наплыв темноты, ветер свистит у тебя за спиной, но ты этого не поймешь. Ты всегда страдал от недостатка воображения, да и многих других качеств тебе недостает. – Возможно, – голос Джеральда вдруг стал ледяным, ломким, – у меня больше воображения, чем ты думаешь, Речел. Мне приходилось его несколько обуздывать в последнее время. Не добивайся, чтобы я дал ему волю. Последствия могут быть… Его слова внезапно оборвал звенящий, как серебро, смех Речел: – Гибельными? Возможно, Джерри, но для кого? Говоришь, ты сдерживаешь свое воображение? А зачем, трусишка? Ведь в душе ты трус и знаешь это. Невыгодно иметь слишком богатое воображение, не правда ли? Того, о чем ты думаешь, конечно нет, тем хуже… – Речел! Она спокойно продолжала говорить, как будто не слышала его: – …ведь так ты мог бы наконец узнать, что такое Фолкс и что такое мужчина… – А ты, значит, узнала? – Я узнала, – грустно сказала Речел, – только одно, Джеральд Фолкс, если у тебя есть хоть какое-то право называть себя так, – что такое мужская честь. А этого ты тоже не поймешь. И не приставай ко мне, Джерри, а то я… – Папа, – сказала Джо Энн, – я хочу… Родители обернулись. Джеральд поймал взгляд жены. – Думаешь, они… – начал он. – Нет. А если и слышали, то не поняли. Входите оба! Какого дьявола вам нужно? – Я хочу, чтобы Гай приходил и учился вместе со мной, – твердо сказала Джо Энн. Она не испытывала чувства благоговения к матери. В их отношениях уже появились ростки отчуждения, которое нередко впоследствии переходит во вражду. – Не знаю даже, – нерешительно проговорил Джеральд, глядя на жену. – Что уж там, – сказала она, – пусть приходит. В конце концов, он Фолкс, и, насколько я могла видеть, настоящий Фолкс. Она приблизилась к детям и, внезапно протянув руку, положила ее на темноволосую голову Гая. – Ты добьешься, – мягко сказала она, – вот увидишь, ты многого добьешься. Думаю, из тебя выйдет толк – ты сделан из хорошего материала… Вот так это началось, войдя в его жизнь как нечто очень важное, а точнее, продолжилось, а не началось. Отец учил Гая читать вначале по складам, когда ему было восемь – он уже тогда был худым и мускулистым, – вечерами, когда вспыхивал огонь в камине и трещали сосновые сучья. Ум был и гордостью, и проклятием Гая. Читать он научился за считанные дни. И вот уже его глаза так быстро пробегали текст, что обгоняли палец, которым он вначале водил по строчкам. С тех пор его сдерживало лишь одно – почти полное отсутствие каких-либо книг. Но дружба с Джо Энн положила этому конец: библиотека Фэроукса содержала бесконечное множество, целый мир книг. Он набросился на них, поглощал их, наслаждался ими до пресыщения. А потом, когда его память уже не могла больше удерживать огромного количества непереваренной информации, он пытался втиснуть ее в голову усилием воли. Неосознанно желая дать себе время на раздумья или просто уступая своей крайне противоречивой, двойственной натуре, он внезапно захлопывал книгу и исчезал в лесах, в те времена еще девственных, – даже следы, которые оставляли индейцы чикасо, зарастали снова, – неся ружье, подаренное отцом, – эти блуждания по лесу были как лекарство от книг. Он уходил на многие часы, даже дни, а вернувшись, шел опять в лес, с безошибочной точностью ведя за собой негров к туше оленя, которую он уже успел освежевать, оттащить в сторону и подвесить на сук. Лес, как и книги, научил его многому. Он умел теперь определять север по густоте мха на дубах или по Полярной звезде; по тому, как помят кустарник, – размеры и вес животного, продиравшегося через него; как давно, с точностью до часа, копыто или коготь оставили отпечаток на сырой земле; инстинктом почувствовать, какой зверь появится из чащи, пума или медведь, чтобы быть наготове. На следующий день после своего шестнадцатилетия он ехал на серой лошади, которую накануне ему подарил Джеральд Фолкс, сказав как бы нехотя: «Тот, кто ездит верхом, как ты, заслуживает приличного скакуна». В тот день он ехал один, потому что был уже в том возрасте, когда мальчик начинает ощущать свое тело, и присутствие десятилетней Джо Энн, еще ребенка, как-то смутно, неопределенно (словами он бы это не смог выразить) раздражало его. Еще больше он злился, когда его одиночество без особого повода нарушали юные служанки, всегда находившие предлог заглянуть в его комнату: «Погладить ваши рубашки, масса Гай? Вам чего-нибудь поесть принести, масса Гай, перед тем как вы спать ляжете? », – а сами шарили своими темными сонными глазами, медленно, ласкающе, по его худому телу, такому же длинному, как у отца, хотя и не такому мощному. А уходя, они так зазывно виляли своими крепкими африканскими ягодицами, что он впадал в ярость, почти столь же сильную, как у отца, крича: – Мне ничего не нужно! Убирайтесь отсюда, черт бы вас побрал! Наконец-то он один. Серый жеребец, почти чистых арабских кровей, был чудом быстроты и горячей нервной понятливости. Он брал барьеры, словно был наполовину птицей, а воздух, как и земля, – для него родная стихия. Вот почему мальчик назвал его Пегасом, и действительно, казалось, что у него есть крылья. Гай уехал далеко, к границам поместья Мэллори, чья плантация была почти столь же внушительна, как и Фэроукс, а легенды, связанные с этим поместьем, были еще мрачней: о женах, доведенных до сумасшествия и самоубийства мужчинами из рода Мэллори, постоянно и в открытую изменявшими им с негритянками. Гай слышал эти истории, но не придавал им никакого значения, считая их откровенно неправдоподобными. Как бы мало ни текло в его жилах крови горной швали, унаследованной от Чэрити Нэнс, он впитал в себя свирепое, ледяное презрение белой голытьбы ко всем без исключения неграм и не мог даже представить себе, что белый способен возжелать черную девушку. Сейчас Гай не думал об этом. Он вообще ни о чем не думал и, с языческим самозабвением отдавшись упоению езды, перемахнул через последний забор, не заметив, что покинул пределы Фэроукса и вторгся во владения Мэллори, а подобные действия всегда вызывали необузданную ярость хозяев, чем они давно прославились. Почти сразу же Гай увидел девушку. Он остановил серого и рассмотрел ее повнимательней. Она была одета как служанка, но имела кожу белую или почти белую. Скорее цвет ее был как у охотников, трапперов, – всех тех, кто день-деньской слоняется под солнцем. Цвета золота, пришло ему на ум, темно-розовая кожа золотистого оттенка – Боже милосердный! Темные волосы девушки, заплетенные в косы, как у индианок, свободно свисали до самой талии. Она была того же возраста, что и он, может, на год старше. Девушка стояла, в свою очередь разглядывая его, затем ее полные, красные как вино губы сложились в улыбку. – Здрасте, – сказала она просто. – Кто ты? – спросил он громко. – Фиби. – Фиби? – эхом повторил он. – Фиби, а дальше как? – Просто Фиби. Другого имени нет. Если вам не взбредет в голову называть меня Мэллори. Думаю, что и на это имя у меня есть кое-какие права… – Тогда ты… – Да. Из цветных дворовых детишек Мэллори, о которых вы слышали. Теперь вы знаете. Но я могла бы спросить вас о том же, юный господин. Кто вы? – Гай Фолкс, – коротко ответил он. – В какой стороне дом? – Туда, – показала Фиби. – Подождите, не уезжайте. Давайте поболтаем немного. Вам когда-нибудь говорили, что вы ужасно красивый? – Нет! – в ярости выкрикнул Гай. – И я не желаю, чтоб мне говорили это, особенно такие, как ты! Он пришпорил коня и понесся прочь, слыша за спиной, как взлетает и звенит серебристым колокольчиком ее смех. Это, однако, вовсе не улучшило его душевного состояния. Гай был настолько ослеплен гневом, что наткнулся на кучку людей на выгоне, заметив их в самый последний момент. Они обернулись, заслышав стук копыт, и уставились на него. При этом люди расступились, и он теперь мог видеть то, что они разглядывали: это был теленок, лежавший с разорванной глоткой, – хищник, убив его, протащил ярдов десять, о чем ясно говорили следы. Гай спешился и подошел ближе. – Какой зверь это натворил? – спросил он. – Волк, – ответил мальчик его возраста. – Большой… смотри! – Нет, – сказал Гай. – В штате Миссисипи больше не водятся волки. Это, видно, собака, скорее всего буль-мастифф. Может, смесь гончей и мастиффа: таких собак используют для ловли беглых негров. Одичала, наверно… Мальчик повернулся к отцу: – Знаешь, папа, а ведь он прав! Помнишь ту пятнистую суку, у которой родились щенки, а потом она исчезла три года назад? Она и правда была почти чистокровным мастиффом. – Слишком большой след, – ответил отец, – как у датского дога, даже больше. А зверь, который так далеко проволок теленка, сам, наверно, был размером с шетлендского пони. – Одичала, – повторил Гай, – и вернула свои родовые признаки. А в лесу они становятся больше. – Ты знаешь чертовски много для мальчика твоего возраста, – сказал Алан Мэллори. – Однако кто ты, дьявол тебя забери? Ты хоть понимаешь, что вторгся в чужие владения? – Нет, – твердо сказал Гай. – Я не нарушитель, а гость. Меня зовут Гай Фолкс, мистер Мэллори. – Отпрыск Вэса Фолкса, значит? Похоже на то: сложение, лицо, осанка и нахальство – все сходится! Рад приветствовать тебя, сынок! Я – Алан Мэллори, а это мой сын Килрейн… Гай пожал им обоим руки. – Если не возражаете, мистер Мэллори, – сказал он, – я убью эту собаку. Иначе она изведет весь ваш скот, да и наш тоже. Алан Мэллори окинул Гая долгим оценивающим взглядом. – Хорошо, – сказал он. – Пожалуй, ты и впрямь сумеешь это сделать. Ваши ниггеры разнесли по всей округе, какой ты охотник. Сделай это, мальчик. У меня нет никаких возражений. – Я пойду с тобой, Гай, – сказал Килрейн. Гай посмотрел на мальчишку. Килрейн Мэллори, высокий и мускулистый, не был человеком лесов. Это сразу бросалось в глаза. Он был бы хорош в седле, но в зарослях кустарника, где надо ступать тихо, как рысь, он будет помехой, если не хуже. Начнет путаться под ногами, с ним собаку никогда не выследишь. Гай медленно покачал головой: – Думаю, ты плохо представляешь себе, что нам предстоит. Это не будет забавой, Килрейн. – Будь я проклят! – взорвался Килрейн. – Ну ты и наглец! Какая-то горная шваль приезжает в наши владения и корчит из себя джентльмена! Хочу тебе сказать… – Да, я в твоем поместье, это так, – тихо сказал Гай, – и я здесь гость. Поэтому не буду придавать большого значения твоим словам. Но твой отец знает моего, и он тебе скажет, что люди с нами так не говорят – никогда! Как бы то ни было, ты заставил меня изменить свое решение. Встретимся здесь через час. Возьми ружье. Мы пойдем на этого зверя вместе. И тогда, может быть, ты по-настоящему узнаешь меня или себя самого, хотя надеюсь, что этого не случится – ведь едва ли тебе понравится то, что ты узнаешь… Гай обернулся к Алану Мэллори. – До свидания, сэр, – сказал он церемонно и взлетел в седло. Алан Мэллори посмотрел на сына. – Иди возьми ружье, – сказал он холодно, – и в следующий раз хорошенько подумай, прежде чем оскорбить человека. Кем бы ни была его мать, ясно как день, что Вэс Фолкс воспитал себе на смену настоящего мужчину…
Когда Гай вновь перемахнул забор – на этот раз он был одет в охотничьи штаны из оленьей кожи, пороховой рог перекинут через плечо, нож болтался сбоку, длинное пенсильванское кремневое ружье – в левой руке, – девушка, Фиби, была уже там, поджидая его. – Привет! – крикнула она. – Приветствую вас, чертовски красивый мистер Гай Фолкс! – Уйди с дороги! – раздраженно бросил в ответ Гай и поскакал к выгону. Килрейн, которому добираться было ближе, уже ждал его, одетый в красивые охотничьи штаны зеленого цвета, его ружье было украшено узорчатой насечкой. Гай сразу увидел, что это хорошее ружье, и по тому, как юный Мэллори держал его, было видно, что он умеет с ним управляться. Однако, увидев его обутые в сапоги ноги, Гай нахмурился: – У тебя что, нет мокасин? В сапогах слишком много шума. – Нет. Извини, – коротко ответил Килрейн. – Тогда как бы тебе не пришлось подкрадываться в носках, когда мы приблизимся. Ну ладно, тронулись. Они доехали до края леса и спешились, привязав лошадей. Затем вошли в лес: впереди Гай, Килрейн в ярде или двух сзади. Гай почти сразу увидел, что недооценил напарника: какими бы ни были Мэллори, они не были ни трусами, ни дураками. Килрейн, несмотря на свои сапоги, производил на удивление мало шума. Гай двигался как тень, как призрак, слегка пригнувшись над следами больших лап, которые вели в глубь леса. Когда стало слишком темно, чтобы идти по следу, они сделали привал. Килрейн сразу же принялся разводить костер, и делал он это с подлинным мастерством. Гай некоторое время наблюдал за ним, а потом вдруг, повинуясь внезапному порыву, протянул руку. – Извини, – сказал он. – Ты хороший парень. Я рад, что встретил тебя. – Я тоже, – улыбнулся Килрейн. – И прости меня за то, что я сказал. Думаю, мы составим хорошую компанию, Гай… Они молча съели галеты и бекон, извлеченные из заплечных мешков, и улеглись спать у костра, прикрытого валежником так, чтобы он не гас всю ночь до самого утра. Проснувшись, они вновь шли по уже малозаметному следу, пока не потеряли его на берегу ручья. Они видели, что следы ведут к воде, но за ручьем их не было. – Это не собака, – сказал Гай, – а настоящий университетский профессор. Отлично знала, что по ее следам пойдут, поэтому вошла в воду и вышла в миле или двух отсюда. И что хуже всего: никогда не догадаешься, вверх или вниз по течению она пошла… Килрейн стоял рядом нахмурившись. Затем он ухмыльнулся. – Придумал! – сказал он. – Ты пойдешь вверх по течению, я – вниз. Тот, кто увидит следы, выстрелит и… – Нет, – сказал Гай. – Собака услышит выстрел и вовсе уберется из этих мест. К тому же нам лучше держаться вместе. Пройдем мили полторы вверх по течению. Если не найдем следов, вернемся назад и пойдем в обратную сторону. Так или иначе, мы ее выследим… Они молча двинулись в путь. После полудня мальчики проделали две полные мили вверх по течению и две – вниз, так и не обнаружив следов, и уже собирались прекратить свои попытки, когда услышали треск в подлеске. Не успели они взвести курки ружей, как большой олень-самец с обезумевшими глазами выскочил на поляну у края ручья. Килрейн поднял ружье легким, привычным, уверенным движением. На долю секунды он задержал взгляд на груди оленя, затем его палец коснулся курка. Ружье грохнуло, и животное, умирающее, но все еще стоящее на ногах, сделало несколько шагов вперед, влекомое силой, продлившей его жизнь на несколько мгновений. Затем олень кувыркнулся, его большие ветвистые рога зарылись в землю, и он перевернулся через голову. Было слышно, как треснули шейные позвонки. Красно-золотая масса его тела дугой рухнула в ручей, вода от удара взметнулась белыми крыльями, затем вновь сомкнулась, поглотив его. И еще до того, как Гай успел выкрикнуть в ярости: «Дурак! Зачем ты стрелял? Не знаешь разве, что мы выслеживаем собаку? Она бы даже и рычать не стала, как охотничья собака, подкралась бы молча и уверенно…», – она появилась – внезапно, подобно пятнистому призраку, более крупная, чем положено быть собаке, бесстрашная, с глазами, горящими пламенем. Не останавливаясь, не прерывая свой бег, просто взмыв без всяких усилий вверх, изящно и уверенно, она ударила Килрейна в грудь всем своим весом, сбив мальчика с ног. Видя, что невозможно стрелять в упор без риска попасть в Килрейна, Гай прыгнул на спину собаки и сунул левую руку между ее широко раскрытыми челюстями мгновением раньше, чем ее длинные желтоватые клыки сомкнулись на горле Килрейна. У него было такое ощущение, будто все это происходит с кем-то другим: обжигающая вспышка боли, когда зубы собаки сошлись на его руке, сошлись и не разомкнулись… Не спеша, как будто все время мира принадлежало ему, он пошарил правой рукой и нащупал рукоятку ножа, тогда как Килрейн выполз из-под мастиффа, поднял ружье Гая и стоял наготове, беспомощно наблюдая и, как и Гай за минуту до этого, не осмеливаясь выстрелить. Наконец Гай дотянулся и воткнул лезвие в горло зверя по самую рукоятку. Поворачивая нож, он нашел яремную вену, перерезал трахею, и собака начала оседать, огонь в ее сверкающих глазах потускнел, но и когда она захлебнулась собственной кровью и красная струя хлынула из ее ноздрей, и даже когда ее большое сердце конвульсивно содрогнулось в последний раз, даже после смерти она не разжала клыки, которые прошли сквозь левую руку Гая. Гай встал на колени, его лицо было белым как полотно. – Она мертва, – сказал он. – Разожми ей зубы, Кил. Кил примостился на коленях рядом с ним, действуя своим собственным ножом. Челюсти животного наконец разомкнулись, и Гай вытащил свою изувеченную левую руку. Когда Килрейн увидел ее, его вырвало. Гай твердой походкой дошел до ручья и промыл руку. Холодная вода обожгла рану адской болью. – Оторви мне кусок от подола своей рубашки, Кил, – попросил он. Килрейн, которого мучило сознание своей вины, сумел все же трясущимися пальцами перевязать ему руку. Гай вернулся назад, где лежала собака, и остановился, глядя на нее. – Жаль, что пришлось убить тебя, старина, – сказал он. – Мы бы с тобой составили неплохую пару. И только тогда он почувствовал слабость, тошноту, пронзительную боль, с трудом дошел до ближайшего дерева и опустился на землю. – Послушай, Гай, – сказал Килрейн. – Ты тяжело ранен. Пойдем, я помогу тебе. Нам надо бы выбраться отсюда и найти доктора. – Нет, – ответил Гай. – Боюсь, я не смогу дойти, Кил. Возвращайся домой и приведи своего отца и негров… – И доктора, – сказал Килрейн. – С рукой-то плохо, Гай… – Если считаешь нужным. Так или иначе, иди. Но, перед тем как уйти, положи свое ружье сюда, чтобы я мог достать его, если вдруг запах крови привлечет пуму. Килрейн стоял, глядя на Гая, лицо его подергивалось. Ему хотелось плакать, но он бы скорее умер, чем показал Гаю свою слабость. – Гай, – прошептал он, – ты… ты спас мне жизнь. Теперь мы друзья навеки… – Бога ради, иди, – сказал Гай.
Но он не учел неопытность Кила. Юный Мэллори, как и любой новичок на его месте, безнадежно заблудился, пройдя всего каких-то пять сотен ярдов от поляны. Он шел наугад всю ночь, и все время по кругу, а когда под утро упал, обессилев, под дуб, держась за голову и плача, он не только не вышел к полю на краю леса, где они оставили лошадей, но и удалился на милю или две в сторону. Забрезжило утро, когда Гай, уже охваченный жаром быстро развивающегося воспаления в руке, изуродованной желтыми клыками, понял наконец, что Мэллори скорее всего заблудился, и сам пустился в путь. А Килрейн вновь поднялся и, поскольку у него не хватило ни опыта, ни сообразительности остаться там, где он был, пока не вернутся силы, бродил полумертвый от усталости, делая все более широкие круги, вновь и вновь пересекая свой собственный след. Гай и сам на какое-то время потерял дорогу, ведущую к дому, и это ясно показывало, насколько он устал. Но когда с первыми утренними лучами он вышел, спотыкаясь, к развалившейся хижине, о которой знал, но которой никогда не пользовался, потому что эта часть леса была выжжена пожарами, вырублена, а подрост так незначителен, что охотиться здесь было бесполезно (и дичь и охотники не любили этой скудости растительного покрова), то сразу понял, где он и куда идти дальше. Гай прислонился к дереву, чувствуя боль, страшную боль. Рука чудовищно распухла, и он отдыхал, близкий к отчаянию, готовясь снова тронуться в путь. И именно в этот миг к окну хижины подошла женщина. Она была обнаженной. Гай никогда раньше не видел взрослой голой женщины. Она стояла у окна, как языческая богиня, первые лучи солнца играли на ее теле, таком белом, что даже тусклый утренний свет не мог омрачить эту белизну. Подняв руки, она откинула назад тяжелую массу волос, пламенеющую на фоне этого света. Гай стоял, во все глаза глядя на нее, скрытый сумраком леса. Рядом с ней появился мужчина, его темные мускулистые руки вобрали в себя эту белизну, а потом прозвучал его голос, знакомый, любимый, рокочущий: – Отойди от окна, Речи, – зачем показывать себя деревьям? У них нет глаз, зато, хвала Господу, они есть у меня! И мальчик пустился прочь от этого места, он бежал, рыдал, падал, бранился, вставал снова и кричал, чувствуя всем существом гнев и отвращение: – Будь она проклята! Будь она трижды проклята, а с нею и все женщины, забери их ад, все они шлюхи, суки, будь они прокляты все, все, все!
Глава 4
Он уже почти достиг границ владений Мэллори, когда понял, что не дойдет. Соседские поля хорошо были видны оттуда, где он лежал, в ярком солнечном свете, плясавшем перед его воспаленными глазами за трепещущим на ветру занавесом последних деревьев на опушке леса. Гай хотел встать на ноги, но не смог. Он лежал, пытаясь собраться с мыслями, но и этого не смог сделать. Превозмогая боль, Гай повернулся на живот и пополз. Бесконечно долго преодолевал он два ярда пути. И остаток сил покинул его. Он лежал, глядя на поля, начинавшиеся в каком-то ярде от него, и горячие слезы стекали по его покрытому грязью лицу, оставляя влажные дорожки. Этот последний ярд был как тысяча миль для него. Он не мог больше двигаться и ясно понимал это. Гай закрыл глаза. Почти тотчас, как ему тогда показалось, хотя позже он понял, что, наверно, прошло гораздо больше времени, может быть час или даже два, он увидел Фиби, которая стояла на краю поля, глядя в сторону леса. Он позвал ее. Она не пошевелилась, даже выражение ее лица не изменилось. Тогда Гай понял, что хотя он и двигал губами, произнося ее имя, но звука не было, как и самого слова. Он сделал еще одну попытку. – Фиби! – выдохнул он. Это был сдавленный всхлип, но он был услышан. Она перевела взгляд туда, где он лежал, и сразу же, без всякого промежутка во времени, поскольку оно удивительным образом сжалось, и это было частью его бреда, опустилась на колени рядом с ним, шепча с побелевшим лицом: – Ты ранен! Ты тяжело ранен! Боже милостивый, масса Гай, ваша рука! И тьма сомкнулась вокруг него, и мир померк… Когда он очнулся вновь, его рука была перевязана обрывком нижней юбки. Под перевязкой он почувствовал что-то прохладное и влажное, смягчающее боль, и удивленно взглянул на нее. – Я положила на рану примочку из листьев, – тихо сказала она, – чтобы вытянуть гной. Сейчас вам полегчает. Обопритесь на меня, и я помогу вам, масса Гай. Я отведу вас в господский дом, а меня Алан отвезет домой. – Нет! – в ярости выкрикнул он. – Я не могу сейчас вернуться домой! Мой отец… – Что ваш отец? – переспросила она. – Ничего, – пробормотал он. – Помоги мне встать, Фиби. А потом отведи меня назад в лес… – Но вы умрете! – запротестовала она. – Вам крыша над головой нужна и хороший уход. Листья-то… они помогут, но доктор… – Нет! – выпалил он. – К черту доктора! Делай так, как я тебе сказал, Фиби! Некоторое время она стояла размышляя. – Почему бы вам не пойти домой, масса Гай? – спросила она. – Если даже вы сделали что-то ужасное, вам отец… – Не говори о моем отце! – взвизгнул Гай. – Проклятие, Фиби, помоги мне встать! Она обхватила его за талию. Гай изо всех сил подался вперед. И вот он стоял, вцепившись в нее, а деревья исполняли медленный и величавый танец над его головой. Мало-помалу они остановились, и он улыбнулся ей. – Хорошо, – сказал он. – Пойдем теперь… – Я знаю, что делать, – проговорила Фиби, обращаясь больше к себе самой. – Раз вы не хотите домой, я вас к Ричардсонам отведу. – К каким еще Ричардсонам? – Я их знаю. Белые бедняки, у них лодка, а на ней хижина. Они немного сумасшедшие, но хорошие. Такие бедные и опустившиеся, что и кожа-то у них не совсем белая, а им и заботы мало. Ко мне-то они, по крайней мере, всегда хорошо относились. – Ну ладно. Раз так, пойдем туда. Путь был не очень далек, к берегу реки, через вырубку, но он занял у них более часа. Каждые несколько минут Фиби приходилось останавливаться, чтобы Гай мог отдохнуть. И вот он увидел ее: лодку, причаленную к берегу, и на ней домик. Из ржавой железной трубы вился дым, в лодке спал человек, рядом с ним лежала с довольным видом жирная свинья. – Масса Тэд! – прокричала Фиби. – Масса Тэд! Старик всхрапнул и вновь погрузился в сон. Но дверь, если это нелепое сочетание покоробленных и ломаных досок можно было так назвать, распахнулась, и на свет Божий явилась девушка. Она была тонкая и белокурая, как водяная нимфа. И ничто, даже лохмотья, которые она носила, ни пятна сажи на ее лице, ни грязь, комьями налипшая на ее голых ногах, не могло скрыть ее прелесть. – Мисс Кэти, – сказала Фиби, – подойдите и дайте руку. Этот вот джентльмен… он сильно ранен. Девушка Кэти стояла, уставясь на него своими огромными глазами газели, то ли зелеными, то ли голубыми. Потом она сделала невыразимо грациозный скачок и, оказавшись на берегу, железной хваткой вцепилась в руку Гая. Они вдвоем втащили его в лодку и уложили на тряпичный тюфяк в лачуге. – Вы голодны? – спросила Кэти. – Да, – прошептал Гай. – У нас есть немного похлебки. Она для дедушки, но это неважно. Он еще рано утром добрался до кувшина с виски. Думаю, теперь до ночи не проснется. Я ему тогда еще приготовлю. – Спасибо, мисс Кэти, – сказала Фиби. – А масса Тэд не будет сердиться, если масса Гай останется на денек или два, пока немного не окрепнет? – Наверно, нет, – сказала Кэти, не отрывая глаз от лица Гая. – Что бы я ни делала, дедушка на меня никогда не сердится. – Ты хочешь, чтобы я остался здесь? – прошептал Гай. – Почему, Кэти? Робким движением испуганного зверька она качнула головой, отчего разлетелись ее светло-золотые волосы, прямые, как лошадиный хвост. – А почему бы и нет? – спросила она. – Ты молодой и милый. И мне нравится твое лицо. Когда ты выздоровеешь, ты, наверно, окажешься очень красивым. Похлебка оказалась вкусной. Он заснул, не донеся до рта последнюю ложку. Когда он проснулся, снова был день: он проспал сутки напролет. Кэти стояла на коленях рядом с постелью. Фиби нигде не было видно. – Фиби! – позвал он. Его голос прозвучал так громко, что это его даже удивило. – Ушла. Прошлой ночью, – сказала Кэти. – Ей пришлось вернуться, а не то эти спесивые Мэллори послали бы за ней людей с собаками. Она ведь совсем белая, и это просто позор, что с ней обращаются как с негритянкой. – Но она и есть негритянка, – сухо сказал Гай. – Глупости. Она белее, чем ты. Хочешь еще похлебки? Гай громко рассмеялся: – Вы когда-нибудь едите что-то кроме похлебки? – Иногда. Но не очень часто. Когда дедушка не пьет достаточно долго, чтобы подстрелить оленя или поймать в капкан опоссума, мы едим мясо. И рыбу едим почти каждый день. Но, я думаю, похлебка будет тебе полезнее, пока ты не окрепнешь. Она села на сундук, наблюдая за тем, как он ест. – У тебя еще какие-нибудь родственники есть кроме дедушки? – спросил Гай. – Нет. Мои мама и папа умерли. Это так давно было, что я их даже не помню. Правда, у меня есть дядя. Он моряк. А ты умеешь читать? – Да. А что? – Дедушка письмо получил от него. По крайней мере, мы так думаем потому, что он наш единственный родственник. Пришло около месяца назад. Дедушка говорил, хорошо бы найти кого-нибудь, кто прочел бы его, но пока он сыщет такого, пройдет года два, не меньше. Пойду принесу письмо, и ты его нам прочтешь. И она ушла, вскочив с места с какой-то присущей только ей грацией. «Наполовину звереныш, – подумал Гай, – но если ее поскрести щеткой и отмыть мылом со щелоком, она будет совсем недурна». Вернулась она вместе со стариком. – Привет, сынок, – сказал он. – Ты выглядишь получше. – Мне и вправду лучше, спасибо. Ваша внучка говорит, вы бы хотели, чтоб я вам что-то прочитал, сэр? – Да. Письмецо от моего мальчика, Трэя, – сказал Тэд Ричардсон. – Очень хороший парень, только немного буйный. Мы с ним повздорили, он сбежал из дома и стал моряком. Ничего о нем не слышал с тех пор, как родилась эта девчонка. Дай-ка мне взглянуть… да, вот оно! Он вытащил письмо из кармана штанов. Оно было помято и так засалено, что надпись на конверте стала неразборчивой. Штемпеля были иностранными. Гай открыл конверт и увидел, что письмо послано с Кубы, из Гаваны, около двух месяцев назад. «Дорогой отец, – читал он. – На днях я повстречал человека из Натчеза, и он рассказал мне, что и Джо и Мэри умерли и ты живешь теперь с их дочкой в плавучем доме вблизи плантации Мэллори. Вот почему я посылаю это письмо на адрес Мэллори. Надеюсь, они будут настолько любезны, чтобы передать тебе письмо…» – Они передали, – усмехнулся Тэд Ричардсон. – Прислали его с одним из своих ниггеров. Продолжай, сынок. «Я был страшно огорчен известием о смерти брата и его дорогой женушки. Конечно, я не знал ее достаточно хорошо, но она всегда казалась мне очень милой. Но что еще больше меня огорчило, так это то, как вам тяжко приходится. Никогда не думал, что вы будете вынуждены вести такую жизнь…» – Но почему, черт возьми! – проворчал старик. – Чем плоха такая жизнь, я вас спрашиваю? Жратвы хватает, ни на кого работать не надо, мы свободны! Что за дурацкие мысли! Читай дальше, сынок… «И вот я решил приехать повидать вас. Я приплыву недели через две: срок зависит от ветра и приливов, точно я вам не могу сказать, ну самое большое – месяца через полтора…» – Боже правый! – прошептал старик. – Мой мальчик скоро будет здесь! – Да, – сказал Гай. – И судя по дате, он должен появиться со дня на день. Тут еще приписано: «Когда приеду, я собираюсь купить вам хороший маленький домик и малость земли, а еще заплачу за содержание и обучение Кэти в хорошей школе…» – Школа! – взорвалась Кэти. – Да я сбегу! – Не беспокойся, Кэти, – проворчал старик. – Я скоро выбью эти глупости из его головы. Это мне-то ферму? Сыт по горло! Быть привязанным к земле, сидеть по уши в долгах, гонять кучку никчемных ниггеров. Нет уж, спасибо! Я живу так, как хочу, и я свободен! Может, здесь у нас грязновато, ну да ладно. А что он пишет в конце, сынок? – Ничего особенного. Просто шлет вам привет. Думаю, мне лучше убраться отсюда, сэр. Вашему сыну может не понравиться, что здесь живет нахлебник. – Ерунда! – сказал Тэд. – Это не его дело. Оставайся здесь, сынок, пока не поправишься и не окрепнешь. Кэти, ты поменяла повязку, как тебя учила Фиби? – Да, дедушка. И листья положила тоже. Гной почти весь вышел. Эта Фиби такая умная… – Она толковая, Бог тому свидетель, – сказал Тэд Ричардсон. – Жаль, что она не совсем белая… На следующее утро, когда Фиби пришла повидать его, Гай уже был на ногах. Они со стариком сидели на носу лодки и ловили рыбу. Вдвоем они наловили уже около дюжины зубаток. Гай расположился в удобной позе, всем своим видом выражая довольство. – Привет, Фиби, – сказал он лениво. – Посмотрите-ка на него! – гневно воскликнула Фиби. – Здоров как бык! А папа ваш бедный чуть с ума не сошел, беспокоясь о вас. Я не осмелилась сказать ему правду. Но, если вы прямо сейчас не отправитесь домой, я как пить дать скажу ему, где вы! И уж когда он вас отыщет, то всыплет по первое число. – Папа беспокоится? – спросил Гай. – Но почему? У него нет для этого никакого повода. Я раньше и на два, и на три дня пропадал из дому… – Они нашли массу Кила в лесу едва живого, и он сказал им, как вы тяжело ранены. И теперь они думают, что вы погибли. Ваш отец вне себя от горя. Не перестает повторять, что это его вина… Гай сидел нахмурившись. «Наверно, я слишком жесток к папе, – размышлял он. – Мог бы сообразить, что он будет сильно волноваться из-за меня. В некотором смысле я – это все, что у него есть. И он мой папа. А такая распутная женщина, как Речел, может любого мужчину заморочить…» – Ладно, Фиби, – сказал он. – Я приду домой сегодня вечером, сразу как стемнеет. А до этого ничего не говори. Я хочу удивить папу… – Вы бы лучше… – начала Фиби, но Кэти прервала ее. – Фиби! – позвала она. – Подойди сюда на минутку. Фиби повернулась и направилась в сторону Кэти. Гай видел, как они горячо обсуждали что-то, тесно сдвинув головы. «Интересно, о чем они говорят?», – подумал он, а потом вновь отдался расслабляющей лени этого жаркого дня и тут же забыл о них. – Сынок! – позвал его Тэд Ричардсон. – Не принесешь ли мне жевательного табака? Жестянка в хижине на полке. – Конечно, сэр, – ответил Гай и поднялся. В хлипкой и непрочной на вид хижине было темно, несмотря на щели, через которые пробивался солнечный свет. Наконец он нашел табак и уже ставил жестянку на место, когда услышал сквозь тонкие стены, как Кэти произносит его имя. Он остановился и прислушался. – Но он на меня не обращает ни малейшего внимания, Фиби, – жаловалась девушка. – Ты говоришь, я хорошенькая. Не знаю, поможет ли мне это хоть немного. О, ради Бога, Фиби, милая, скажи, что мне делать? Когда Фиби отвечала, голос ее был бесконечно грустен: – Бог свидетель, он красивый парень. Да и вы очень хорошенькая, мисс Кэти, я уже говорила вам об этом. Я могу вам кое-что посоветовать, но обещайте мне, что вы не рассердитесь на меня… – Конечно нет! – воскликнула Кэти. – Давай же, Фиби, говори! – Прежде всего вам надо почаще мыться. И мыть всю себя. – Всю себя? – выдохнула Кэти. – Но я не могу! Дедушка сказал, что я насмерть простужусь… – Ваш дедушка очень стар, и он не все знает. Взять Мэллори: они моются с ног до головы раз в неделю зимой и два раза – летом. А когда очень жарко, каждый день… – Каждый день! – изумленно воскликнула Кэти. – Вот, наверно, от них хорошо пахнет! – Еще бы! Значит, мойтесь горячей водой с хорошим мылом. Я вам принесу немного. И волосы мойте тоже, причесывайте их и вплетите ленточки. Наденьте такое платье, чтобы поменьше дыр было видно. – Но ведь… другого у меня нет. – Я принесу вам пару старых платьев миссис. Масса Алан их не хватится. Он и не заходил в ее комнату с тех пор, как она умерла… Может, они будут длинноваты для вас, но я подверну подол, и ей-богу, Кэти, он не позабудет к вам дорогу! Он ведь и впрямь красив, скажу я вам! Гай вышел из хижины: его переполняло волнение от услышанного, теплое опьяняющее чувство первой любовной победы. Он тотчас увидел, что Тэд Ричардсон обнимает незнакомца. Сходство между ними сразу бросалось в глаза, несмотря на то что половину лица старика закрывали неопрятные седые бакенбарды. Было ясно, что незнакомец – сын Тэда. Гай держался в стороне, разглядывая приезжего. Трэвису Ричардсону было под пятьдесят, это был грубо вытесанный, квадратный, крепкий человек. Он был невысок, но недостаток роста с лихвой восполняла ширина. Гай мог бы побиться об заклад, что один удар этого огромного кулака сбил бы мула с ног. Его одежда была добротной, но слишком яркой, и все в нем: морщинки в углах глаз, пристальный взгляд, легкое покачивание при ходьбе – выдавало человека, который многие годы провел на море. – Господи, Трэй! – лепетал старик. – Боже правый, ну и молодцом же ты выглядишь! Кэти, иди сюда, поздоровайся со своим дядей! И ты, сынок! День-то какой счастливый, просто душа поет! Гай подождал, пока Кэти и дядя обменяются поцелуями, и только потом вышел вперед. Краем глаза он видел, как Фиби легко соскочила на берег и через мгновение скрылась в лесу. «Бедняга, – подумал он, – тяжко же ей приходится в жизни…» Пришла и его очередь быть представленным. Капитан Трэвис Ричардсон внимательно выслушал несколько приукрашенный рассказ об охоте, едва не стоившей Гаю левой руки. – Ты держишься молодцом, мальчик, – сказал он, – но почему ты не пошел домой? Твои родные, наверно, уже с ума посходили от беспокойства… – Я пойду сегодня вечером, – ответил Гай. – Мы с папой немного повздорили, ну да это уладится. А почему я до сих пор не вернулся – раньше просто не мог, был слишком слаб. Мы ведь с папой нужны друг другу. На свете мало такого, из-за чего стоило бы разрывать кровные связи… – Это верно, – сказал капитан. – Всегда держись своих близких, мальчик. А отцу сын всегда нужен. Когда я сбежал из дома, мой отец был уважаемым фермером с приличным наделом. Останься я тогда, он бы до этого не дошел… – Не смотри свысока на мой плавучий дом, Трэй! – рассердился Тэд Ричардсон. – Мне намного лучше здесь, чем на этой проклятой ферме! Кроме того, ты ее сам ненавидел, значит, у тебя нет права осуждать меня. Если бы было иначе, тебе бы так не приспичило уйти в море! – Все это верно, папа, – сказал капитан Ричардсон, – но я был тогда молод и глуп. А если бы знал то, что знаю сейчас, я остался бы… – Вы хотите сказать, что вам надоело море? – спросил Гай недоверчиво. – Нет, сынок. Море – это прелестная чародейка, от которой никогда полностью не освободишься. Оно влекло меня и когда я был мальчиком, и когда стал взрослым. Пятнадцать лет простым матросом и пять – на шканцах, большую часть из них капитаном. Это большой срок, мальчик, и многие из этих лет были прекрасны. Но море лишает тебя уютного пристанища, жены, детишек, и эту потерю ничем не возместишь… – Наверно, было бы здорово поплавать с таким капитаном, как вы, сэр… – Думаю, из тебя вышел бы хороший моряк, – сказал капитан Трэй. – Пусть меня свяжут канатом и протащат под килем, если это не так! – Тогда возьмите меня с собой, когда будете уезжать! – воскликнул Гай. – Я буду стараться, я научусь… Капитан Трэй положил свою тяжелую руку на плечо мальчика. – Я бы взял тебя, парень, – мягко сказал он, – если бы не два обстоятельства: во-первых, я, возможно, навсегда покончу с морем еще в этом году, если на этом будет настаивать черноволосый ангел, которого я оставил на Кубе. Она надумала завести там плантацию сахарного тростника. Во-вторых, я никогда не дам койку на борту судна, которым командую, молодому человеку, пока не получу от его отца письменное разрешение. Теперь подумай-ка, мальчик, и скажи мне честно: твой отец тебя отпустит? – Нет, – ответил Гай с несчастным видом. – По крайней мере, теперь. Может быть, попозже, когда я стану старше… – Я так и думал, – сказал капитан Трэй ласково. – Вот что я тебе скажу. Если когда-нибудь ты все-таки получишь разрешение, доберись до Гаваны и спроси меня. В любой портовой таверне знают капитана Трэя и проложат тебе прямой курс ко мне. А если я к тому времени стану на якорь, у меня много друзей, которые возьмут тебя на борт, стоит мне только замолвить за тебя словечко. Но хорошенько подумай, прежде чем решишь уйти в море: жизнь моряка – ненадежная штука… – Расскажите мне о ней, сэр, – попросил Гай. – Позже. Сейчас я хочу немного образумить моего старика. Продолжай рыбачить, парень, а мы со шкипером пойдем на корму и поговорим… – Да, сэр, – сказал Гай и взял удочку. Через мгновение Кэти сидела рядом с ним. Она долго молчала, поэтому Гай мог слышать отголоски спора, приглушенные выкрики старого Тэда Ричардсона: – Да не нужна мне ферма, разрази ее гром! Нынешняя жизнь меня вполне устраивает! Трэй, ты что, хочешь, чтобы твой старенький папа умер от перенапряжения? Что-что? Ниггеры? Господи, сынок, куда как легче вести дело самому, чем выколачивать работу из этих тупоголовых черных ублюдков. Я еще раз тебе говорю… – Гай, – робко позвала Кэти. – Да, Кэти? – нехотя откликнулся Гай. – Как ты думаешь… я красивая? – прошептала она. Гай критически оглядел ее: дикое лесное создание, стройное, с глазами лани. – Да, – сказал он безжалостно. – Если судить по тому немногому, что я могу видеть под слоем грязи… – Я… я буду умываться, – чуть слышно сказала она. – С этого дня и впредь я буду чистой. Вплету ленточки в волосы, надену красивое платье и… – Но зачем? – сказал он насмешливо. – Зачем тебе это, Кэти? Она не отводила от него глаз, полных боли. – Чтоб… Чтобы нравиться тебе хоть немного, Гай, – сказала она напрямик. – Я что угодно сделаю, чтобы тебе понравиться… – Что угодно? – бесстрастно вопросил Гай. – А скажи мне, Кэти, что ты имеешь в виду под этим «что угодно» ? – Все, что бы ты ни захотел от меня, Гай, – сказала она, и голос ее был так искренен и чист, что он почувствовал стыд. – Не мели ерунды! – сказал он резко и отвернулся. Услышав, как она всхлипнула, Гай взглянул на нее. Но, прежде чем он успел найти слова утешения, к ним подошли капитан Ричардсон и его отец. – Чересчур крепкий орешек для меня! – вздохнул капитан Трэй. – А может, он и прав. Фермерская работа очень тяжела в таком возрасте. В его жизни есть своя прелесть, во всяком случае, могла бы быть… Не окажешь ли мне услугу, сынок? – Да, сэр, – с готовностью ответил Гай. – Найми для меня на одной из соседних плантаций пару хороших работников, умеющих плотничать. Я хочу превратить эту развалюху-лодчонку в уютное жилье. У Кэти будет приличная одежда, и ей надо ходить в школу. – О нет! – завопила Кэти. – Кэти, – мягко сказал Гай, – помнишь, что ты только что говорила? – Да-а-а-а, – всхлипнула она. – Если ты это сделаешь, ты очень… очень меня обрадуешь. Пойди в школу, научись читать, писать, считать и разговаривать как леди… – Хорошо, Гай, – прошептала Кэти. – Ты уже знаешь, как обращаться с женщинами, не правда ли, сынок? – сказал капитан Трэй. – Так ты найдешь мне этих работников, мальчик? И портного? – Да, сэр. – Хорошо. Тогда простимся с тобой, и приводи их. Скажи их хозяину, что я хорошо заплачу, в разумных пределах разумеется… Что ты ждешь, парень? – Раньше чем завтра я вам все равно ниггеров не найду, капитан, а вы обещали рассказать мне все о моряцкой жизни. И о ваших приключениях, сэр… – Хорошо, – сказал капитан Ричардсон. – Начнем с того, что я командую невольничьим судном и не стыжусь этого. Мне кажется, что человеку, который сам держит ниггеров, не стоит презирать тех, кто ему их привозит. Кроме того, все эти рассказы о жестоком обращении с ними в пути – выдумка от начала до конца. Да всякому здравомыслящему человеку ясно, стоит только немножко пошевелить мозгами: какая нам польза от дохлых ниггеров? Мы уж стараемся обращаться с ними поласковей… Он продолжал говорить, и Гай почти видел все это: караваны невольников, извилистой вереницей бредущие в предназначенные для них загоны; каноэ, переполненные неграми, прыгающие в волнах прибоя; огромных акул, ждущих, когда они перевернутся; невольничий парусник, принимающий свой груз; матросов, ведущих негров вниз, пристегивающих цепями их ноги к нижней палубе, а затем медленно поднимающихся наверх, чтобы внимательно следить, не рыскают ли у берега крейсеры Международной комиссии по борьбе с работорговлей, и успеть вовремя послать в их сторону пушечное ядро… Это были волнующие, будоражащие картины. Гай огорчился, когда рассказ подошел к концу. Он торжественно потряс руку капитана, сказав: «Постараюсь найти вас через год или два…» – Верю, что твои слова не разойдутся с делом, юный Фолкс, – сказал капитан. В тот же вечер Гай вернулся в родной дом, где все пребывали в глубоком трауре по поводу его предполагаемой смерти. Он распахнул дверь отцовского кабинета и увидел Вэса, который сидел спиной к двери и глушил свое горе и чувство вины с помощью виски. Нестерпимая боль терзала сердце этого сильного человека, оно истекало слезами и кровью. Одна мысль непрестанно сверлила его сознание: «Я сделал это. Я убил своего сына. Бог отнял его, чтобы проучить меня за то, что я блудил с чужой женой…» Гай на цыпочках обошел вокруг стола, глядя на массивную фигуру отца, склонившегося над бутылкой. – Папа! – позвал он. – Папа! И Вэс, увидев его, поднялся выше гор, грома, облаков и воскликнул: – Сын! Мой сын! И, стиснув мальчика в могучих объятиях, он устремил свои налитые кровью, затуманенные виски глаза к небесам: – Мой любимый сын, с которым мне так хорошо! Господи, благодарю тебя!Глава 5
Гай послал негров чинить лачугу Ричардсонов, как и обещал, и портниху, чтобы снять мерку на платья, заказанные капитаном Трэем для Кэти. Однако через неделю, когда капитан Ричардсон объявил о своем незамедлительном отъезде на Кубу, Гай не пошел к ним. Причины этого поступка делали ему честь. В шестнадцать лет он знал уже источник темных, необузданных желаний, терзавших его. «Кэти? Нет. Это было бы позорно, низко. Она милая, но слишком юная, и сама не понимает, что говорит. И к тому же – кто она? Внучка речной крысы… Нет, никак нельзя, иначе получится, как у папы с мамой. Не мешает и о будущем подумать: это должна быть настоящая леди, такая, как Джо Энн… Влипнешь еще с этой Кэти, и станет она камнем на шее. Но, Боже милосердный, как же девчонку хочется! Тело не должно так мучиться, оно просто сгорает от желания и…» Фиби… Фиби… Это имя непроизвольно всплыло в его сознании: «Она же, черт возьми, почти белая, да и кому какое дело? Если сын плантатора позабавится с цветной девушкой, люди посмотрят на это как на само собой разумеющееся. В этом нет никакой опасности – совсем никакой. Да ведь я ей и нравлюсь – пойду-ка я разыщу ее сейчас!» Но в поле за забором ее не было. Гай проскакал еще немного в глубь владений Мэллори, но не встретил ее. Он подумал, что она, наверно, в самом доме, и наконец в отчаянии отбросил всякую осторожность и послал негра поискать ее. Фиби пришла почти сразу. Гай восседал на Пегасе, глядя на нее сверху вниз. – Садись на лошадь позади меня, – приказал он. Она подчинилась, не проронив ни слова. Он направил Пега в сторону леса, а потом поехал вдоль русла ручья, пока не добрался до поляны, на которой убил того громадного мастиффа. – Слезай, – сказал он грубо. Она спрыгнула с лошади, он тоже спешился, привязав Пегаса к одному из небольших деревьев. – Я и не думала снова вас увидеть, – сказала Фиби, – ведь мисс Кэти была так мила с вами… – Давай не будем о ней говорить. – Ладно. О чем же нам говорить, масса Гай? – О тебе. Обо мне. О нас обоих. Так и не поблагодарил тебя толком за то, что ты спасла мне жизнь. Я очень благодарен тебе, Фиби… – Я была рада помочь вам, масса Гай. Наступило молчание, которое все длилось и, казалось, будет длиться, пока трубный глас не возвестит начало Страшного суда. Гай сидел кляня себя на чем свет стоит, мысленно называя себя дураком, пока наконец достаточно не распалился. Он повернулся, грубо схватил ее за плечи, вжался губами в ее рот. Затем на мгновение отпрянул, хрипло дыша. – Фиби! – выдохнул он почти беззвучно. – Нет, масса Гай, – спокойно сказала она. Но его не так легко было остановить. Он повалил Фиби на поросшую травой землю, разрывая на ней одежду, шаря по ее телу жадными руками. – Масса Гай, – прорыдала она. – Пожалуйста, не надо. – Но почему нет? Почему нет, Фиби? – Подождите. Не рвите на мне одежду, масса Гай. Если хотите, я сама ее сниму. Но прежде вы должны выслушать… – Я слушаю, – сказал он мрачно. – Я… я могла бы любить вас, масса Гай. По-настоящему – как любит женщина. Но мне не нравится, когда все происходит так, как сейчас. Я не хочу, чтобы мне делали больно, терзали меня и позорили. Вы слушаете, масса Гай? – Да! – выкрикнул он. – Что, черт возьми, ты возомнила о себе, Фиби, что ты белая? – Мое сердце – да. И мой ум. Я не самка, не сучка, которой попользовались и отшвырнули в сторону. Вот оно здесь, мое тело, а ведь оно даже не принадлежит мне. Я это знаю. Я знаю, что любой молодой белый господин, когда у него разгорелась похоть, может пользоваться им. Только я думала, что вы другой, масса Гай… – Другой? – повторил он в ярости на себя за этот вопрос, задавая который он как бы признавал свое поражение. – Чем же это другой? – Лучше. Добрее. С сердцем, которое может испытывать сочувствие, и умом, который может понимать… – Что понимать? – Что я настоящая женщина. Так легко просто уступить вам, масса Гай… Наверно, я даже сама хочу этого. Но то, что происходит между мужчиной и женщиной, это не просто переплетение, слияние их тел в темноте. Это гораздо больше: это облегчение боли друг друга, взаимное утешение и покой. Я хотела бы, чтобы мужчина, с которым я делю ложе, радовался, что я рядом, масса Гай. Чтобы ему было приятно разговаривать со мной или даже молчать, и чтоб ему было хорошо просто от одного моего присутствия. И чтоб мне было бы так же хорошо с ним. Хочу, чтоб он был со мной и был бы ласков со мной всегда, а не только когда ему что-то от меня нужно. Любил бы, лелеял бы меня, как говорят в таких случаях проповедники. Всегда был бы рядом: ел, спал, и чтоб мы вместе с ним преклоняли колени в молитве, переполненные благоговения перед Господом. Чтоб это был мой мужчина, на всю жизнь, пока смерть не разлучит нас. Вот почему я не могу быть вашей маленькой сучкой, вещью, игрушкой. Вот почему я не в силах раскрыть вам навстречу свое сердце и любить вас, как могла бы. Слишком многое нас разделяет, масса Гай, ваш род и мой, целая пропасть смертей, проклятия и несчастья… – Фиби… – попытался прервать ее он. – Поэтому, если хотите взять меня силой, сделайте это, масса Гай. Я не буду сопротивляться. Но думаю, что завтра вы проснетесь и вам будет очень стыдно и тошно из-за того, что вы совершили поступок, недостойный настоящего мужчины. Хотите, чтобы так было, давайте… Хотите оставить меня с ребенком, который по закону будет собственностью Мэллори, а это будет ваш сын, в жилах которого будет течь ваша горячая кровь, и он станет вещью, которую можно будет продать, как какого-нибудь мула… – Фиби! – Давайте действуйте. Я ведь даже прошу вас. Но не думаю, что вы сами себя когда-нибудь простите… И только тогда она увидела, что по его загорелому лицу, искаженному душевной мукой, струятся слезы. – О! – всхлипнула она. – Простите меня! Я не хотела сделать вам больно, масса Гай. Простите, я так виновата, любите меня, если хотите, если вам от этого будет легче… – Нет, – сказал он хриплым голосом. – Это я виноват перед тобой, Фиби. Мне больно и стыдно. После всего, что ты сделала для меня. А я пришел и набросился на тебя, как дикий зверь, и… – Не вините себя, масса Гай. Вы молоды и нуждаетесь в любви. Многие были бы счастливы дать вам все, что вы хотите, когда бы вы этого ни захотели. Жаль, что я такая сумасшедшая дура, куда как лучше было бы, умей я вести себя вольно. Тем более – я не надеюсь когда-нибудь получить то, что хочу, никогда… – Почему же? Ты можешь выйти замуж за человека своего круга. Не негра, а какого-нибудь красивого мулата или квартерона. Да ведь их полно в поместье Мэллори… – Нет, – сказала Фиби спокойно. – Я не могу. Мне нужен мужчина, масса Гай. – А что же они? – Они не мужчины. Вот вы – мужчина. Хотя вы и молоды, но вы уже мужчина. А эти мальчики никогда не повзрослеют, доживи они хоть до девяноста лет. Они совсем другое дело… – Я тебя не понимаю, – проворчал он. – А вам и не надо понимать, – сказала Фиби с улыбкой. – Просто относитесь ко мне хорошо, масса Гай, и этого достаточно. Это все, что я прошу… Она ласково взяла его левую руку в свою, так что стал виден неровный полукруг шрама, оставленного собачьими клыками, все еще воспаленный и красный на фоне его загорелой кожи. – Вот, – сказала она. – Вот он здесь, этот шрам. Этот знак, символ мужества и доблести, масса Гай… – Ты совсем спятила! – сказал Гай и попытался выдернуть руку, но она крепко держала ее. – Может быть, – ответила она, – но с этим я ничего не могу поделать. Это знак мужчины. А мужчина без долгих раздумий идет и делает то, что нужно сделать. Вы не рассуждали, что важнее: ваши руки или горло массы Килрейна, ведь правда? Просто сделали то, что было нужно, это у вас в крови. Поняли, что я хочу сказать? – Нет, не понял. Почему бы тебе не согласиться на парня, за которого можно выйти замуж, как положено? Не понимаю… Она прижалась головой к его плечу. Он почувствовал приятный запах ее волос, их чистоту. – Послушайте, – сказала она решительно. – Дайте мне сказать и не перебивайте меня. Женщина – одинокое создание, полное печали. Она слаба и тянется к тому, кто силен. Ей нужен мужчина, о чем я уже говорила. А мужчина не может быть рабом. Его нельзя купить и продать, как мула, выгнать кнутом работать на чужом поле. Никогда. А тот, с кем можно это проделать, не имеет права считать себя мужчиной, он даже не знает, что такое власть и доблесть… – У них и не было возможности узнать это, – сказал Гай. – Что же им остается делать? – Умереть, – сказала Фиби просто. – Вот взять вас. Если бы вас ударили плеткой из кожи черной змеи, приказали бы вам идти пахать или собирать хлопок, вы бы тотчас убили такого человека. Даже если бы знали, что потом убьют вас, все равно это ничего бы не изменило. Возможность умереть вас бы не испугала. Вы бы смело встретили смерть, протянули бы руки, чтобы обнять ее, как возлюбленную, но никогда бы не склонили голову перед человеком, не стали бы думать о выгоде и позорить себя. Разве я неправду говорю? – Ты права, – сказал Гай. – Но какой прок женщине от мертвеца? Растолкуй мне, Фиби. – Куда больший, чем от живого труса. Так у нее хоть будет что вспомнить. Кроме того, смерть – не единственный выбор. Мужчина мог бы бежать и взять меня с собой. Это его право. Вот на что у него нет права – так это спать со мной и наделать детишек, которыми будут владеть другие люди, как вы владеете вашим серым Пегом, и которых они могут продать, как выводок свиней… Гай распрямился и внимательно посмотрел на нее. – Боже правый, Фиби, – сказал он. – Как ты можешь так думать? – Я настоящая женщина, Гай, как вы – настоящий мужчина. Она наклонилась и поцеловала его. – Не будем больше говорить о грустном, масса Гай. Да и возвращаться нам пора, становится поздно. – А куда ты спешишь? – спросил Гай. – До темноты еще далеко. – Из-за массы Кила. Он стал таким подозрительным. Сегодня утром следил за мной. Еле-еле сумела удрать. – Проклятие! – выругался Гай, понимая, что ничем не может ей помочь. – Что это на него нашло? Разрази меня гром, если я понимаю, какое ему до тебя дело! Фиби пожала плечами: – Думаю, это просто любопытство. Не обращайте внимания, а впрочем, все равно… – Все равно? – Он ведь не знает, где я. А теперь поедем, Гай. Они выехали из леса. Фиби сидела позади Гая на Пегасе, ее руки обвивали его талию. А он, погруженный в свои мрачные раздумья, со взором, обращенным в глубь себя, не видел другого всадника, пока не почувствовал, как Фиби конвульсивно сжимает его, не услышал, как она, прерывисто дыша, выталкивает из себя слова, словно пытаясь преодолеть охвативший ее ужас: – Боже милосердный! И тогда он поднял голову. Но было слишком поздно. Ничего не оставалось делать, как ехать дальше, выпрямившись в седле под действием той силы, которая позволяла ему встречать лицом к лицу любую опасность, несчастье, угрозу позора, той силы, которая плохо поддается определению, ее можно назвать гордостью или честью, и это правильно, но не исчерпывает ее сути; это всегда большее – то, что составляло самую сердцевину его натуры, то, что пронизывало его до самых костей, до самого нутра, так что ему никогда не приходилось задумываться об этом – случалось ли с ним что-нибудь, подобное этой внезапной встрече или связанное с какой-нибудь опасностью, – и в таких случаях ничего не надо было решать, поскольку все решения были приняты задолго до того, как он родился, и непреложно, безоговорочно вошли в плоть и кровь, а поэтому он всегда делал то, что ему надо было делать, потому что был тем, кем он был. Килрейн поджидал их: на его лице была гримаса злобного веселья… – Скажи пожалуйста! – насмешливо бросил он. – Оказывается, не только мы, Мэллори, понимаем толк в черном мясе! Ну и как она, Гай? Я давно уже заметил, что она на это напрашивается. – Кил! – сказал Гай. И все. Всего одно слово, произнесенное ровно, спокойно, тихо. Но этого оказалось достаточно. Килрейн внимательно посмотрел на него. – Боже правый, Гай! – быстро заговорил он. – Что это ты так разволновался? Я не скажу никому. Если тебе захотелось развлечься с одной из наших девок, меня от этого не убудет. Делай с ней что пожелаешь. А если ты ее обрюхатишь, это только улучшит породу. Такая девчонка, почти белая, стоит в четыре раза дороже хорошего работника в поле… – Хорошо, – устало сказал Гай. Говорить о чем-либо с ним не имело смысла – он знал это. Даже сердиться не стоило. Просто не существовало таких слов, которые Кил смог или захотел бы понять. Далее если бы он признался, что между ним и Фиби ничего не было. Да и какой плантаторский сынок поверил бы этому! – Ладно, – сказал он. – Слезай, Фиби. – Да, сэр, масса Гай, – сказала она. Они сидели в седлах и смотрели на Фиби, стремглав бегущую в сторону негритянских лачуг. – Бог ты мой, парень, – сказал Килрейн. – Похоже, ты и впрямь в нее втюрился. Скверное дело. – Давай не будем говорить об этом, Кил, – отозвался Гай. И они оба замолчали. С этого мига их всегда разделяло молчание, пропасть, бездна, которая все более увеличивалась с годами. – Наверно, ты уже подготовился, – сказал Килрейн. – Подготовился? К чему? – Ко дню рождения Джо Энн. Самое важное событие года в этих краях. Уж ради своей дочки Джерри в лепешку расшибется. Гай все еще пытался отрешиться от охватившей его душевной смуты. – Все же я не могу понять, – сказал он, – к чему эти хлопоты, что особенного в дне рождения. – Это не простой праздник, а день рождения Джо Энн. Он длится с утра до позднего вечера. Тут и скачки на лошадях с награждением победителя, и стрельба по индюшкам, и охота на лису, и состязания по метанию кольца. Тот, кто в результате наберет больше очков, провозглашается королем и сидит на троне рядом с Джо Энн. Последние два года королем был я, – самодовольно добавил Килрейн. Внезапно почувствовав замешательство, он взглянул на Гая. – Странно, что тебя там не было, – сказал он. – Ты ведь уже года два как сюда приехал. Гай медленно покачал головой: – В этом мире есть очень большие расстояния, Кил, но, наверно, самая длинная дистанция разделяет усадьбу плантатора и дом надсмотрщика, побольше даже, пожалуй, чем расстояние от нашего дома до негритянских хижин, хотя среди черных есть и такие, как Фиби… – Но ты же всегда там, в Фэроуксе. Ты с Джо Энн учишься и… – Только потому, что она сама попросила об этом родителей. Жалость к бедному родственнику, что ли. А день рождения – совсем другая штука. Пригласить на него – значит громко заявить о признании… – Но я же этого не знал! – …родства, – невозмутимо продолжал Гай. – В прошлый день рождения я как раз охотился неподалеку и слышал все это гиканье и крики, видел всех этих господ в красных камзолах, которые гонялись как сумасшедшие за одной маленькой лисицей. Интересно, сколько бы их потребовалось, чтобы загнать пуму или медведя? – Ты не понимаешь, – сказал Килрейн. – Это такой же спорт, как и любой другой. – Ну уж нет. Спорт – это когда у животного есть хоть какой-то шанс. Но когда двадцать пять всадников и сотня гончих преследуют одну маленькую лисичку, это все что угодно, но только не спорт! – Может быть, ты и прав. Извини, что затронул эту тему, Гай. Я не знал. Я думал, раз вы родня, то не имеет никакого значения, что твой отец – надсмотрщик на плантации твоего дяди. Кроме того, Фэроукс по праву должен принадлежать вам. Я много раз слышал, как мой отец говорил: если человек не круглый дурак, он сразу смекнет, что Джерри каким-то образом повлиял на твоего дедушку, когда тот был очень болен и безразличен ко всему, ведь как раз тогда, умерла креолка… – Креолка? – переспросил Гай. – Его вторая жена. А ты что, не знал? Старый Эш Фолкс женился вновь в 1815 году, как раз после битвы под Новым Орлеаном, на девушке-креолке, которую он встретил во время службы под началом у Энди Джексона. Ее звали Ивонна или как-то там еще, остальную часть имени не помню, потому что люди всегда звали ее la belle Creole, прекрасная креолка. Все старики до сих пор сходят с ума, вспоминая, как она была красива. Странно, что ты не знал… – Я не знал. Отчего она умерла? – Во время родов. И ребенок родился мертвым. Наверно, здоровье у нее было слишком слабое. А старому Эшу, твоему дедушке, уже шестьдесят стукнуло, когда это случилось. Он строил Фэроукс для нее. У него лет пять ушло на это. А прежде тот дом, где вы сейчас живете, назывался Фэроукс. Он и его построил… – Так ты сказал, что, по словам твоего отца, Джерри… – Украл Фэроукс у Вэса. Конечно, твой отец был необуздан и совершал безумные поступки, но назови мне молодого человека из хорошей семьи в здешних местах, про которого нельзя было бы сказать подобное! Бог ты мой, да хотя бы мы, Мэллори, мы и дьявола бы покраснеть заставили!.. Этого никак не докажешь, но в словах моего отца определенно есть смысл. Он даже не верит, что Джерри просто переубедил старого Эша. Видишь ли, Гай, редко какого отца слишком уж беспокоят грешки сына. Он скорее будет даже втайне гордиться им. А вот дочь – другое дело. И уж тем более если взять такого, как старый Эш, который и сам-то святым не был… Человек, который в пятьдесят пять лет женится на девушке, которая годится ему в дочери, а в шестьдесят делает ей ребенка, мог бы уж понять зуд, который обуял его сына, когда девчонка распустила хвост перед ним, верно? – Да, – сказал Гай. – Продолжай, Кил… – Вот почему мой отец и думает, что, пока Вэс был в отъезде – а он уехал отсюда за год перед битвой, – твой дедушка счел себя не вправе остаться в стороне от этой драки, и это еще одно доказательство того, каким бесшабашным стариком он был. В пятьдесят пять лет, когда, Бог тому свидетель, он мог бы и не ввязываться в эту заваруху, он не только участвовал в битве, но отличился в ней настолько, что его наградил сам Энди Джексон, поставив в пример более молодым мужчинам… – Боже милосердный, Кил, – прервал его Гай, – ну и любишь же ты ходить вокруг да около. Недаром и в лесу тогда заблудился. Говори по существу! – Сейчас скажу, погоди немного. Такой человек, как твой дедушка, никогда бы не отрекся от сына всего лишь из-за того, что тот бегает по бабам или принимает вызов на дуэль. Поэтому мой отец думает, что Джерри сам изменил завещание или, может быть, подделал подпись старика под новым, которое сам составил. И это похоже на правду, Гай Фолкс! Гай покачал головой: – Не вполне. Зачем тогда Джерри было приезжать за нами туда, на холмы? Мне кажется, что, если бы у него был такой грех на душе, он никогда бы не захотел, чтоб отец жил поблизости… – А угрызения совести? Да и какой из Джерри плантатор! Если бы не Речел, Фэроукс пришел бы уже в полное запустение. Он решил, наверно, что, если Вэс будет управлять имением, он сможет поставить это себе в заслугу и Речел перестанет его пилить. А кроме того, это был очень ловкий ход. Хорошо зная Вэса, он понимал, что твой отец будет рассуждать как раз так, как ты сейчас: «Он не может быть виновен, иначе зачем было звать меня назад?» Вспомни: Джерри и Вэс росли вместе, и он еще с детских лет знает, что за человек Вэс. Видно, сразу понял, что Вэс не из тех, кто пойдет в окружной суд требовать, чтобы ему показали утвержденную копию завещания. Даже если бы Вэс пошел туда, что бы он доказал? Он жил вместе с твоим дедом и никогда не получал писем от старика, а после их разрыва они не писали друг другу, потому что оба были чертовски горды, да старый Эш и не знал, где Вэс. Значит, твоему отцу скорее всего едва ли приходилось видеть почерк старого Эша, разве что в бухгалтерских книгах, которые надсмотрщики таких плантаций, как Фэроукс, обычно ведут, а стало быть, могли отдавать твоему деду на проверку. Так что он не мог быть уверен, подделал Джерри завещание или нет. Да ведь Эш был болен, и Джерри всегда мог сказать, что у старика тряслись руки. Гай молча сидел, глядя на Килрейна. Да, конечно, у дядюшки всего этого вроде бы было вдоволь: и желаний, и возможностей, и даже черт характера, которые могли бы толкнуть его на подделку, хитрость, воровство. Но где доказательства? И он подумал в ярости: а мне и не нужны доказательства! Я верну имение отца и заставлю этого слюнтяя проглотить обиду. А потом внезапно он понял: пригласят его или нет, он пойдет на этот день рождения, пойдет и покажет им, чего стоит, раз и навсегда. И тут вновь заговорил Килрейн: – Слушай, Гай, я совсем забыл, зачем искал тебя. Прошлой ночью у свинарника появились новые следы. Так что этих собак, наверно, несколько. Бог ты мой, ты только подумай: эта пятнистая сука могла наплодить еще дюжину щенят. А если так, ну и задала же она нам работенки! – Я не хотел бы больше их убивать, – сказал Гай. – Это, наверно, плохо – стрелять в собаку… – Боже правый, но если в них не стрелять, они же перегрызут все стадо. Там были следы трех размеров вокруг свинарника, уж никак не меньше. – Мы не должны убивать их, Кил. Можем, правда, попытаться поймать в капкан. Ты только подумай: это же лучшие собаки в штате для охоты на медведя и пуму. – Если бы мы могли их приручить… – засомневался Килрейн. – Знаешь, я иногда просыпаюсь по ночам, потому что вижу во сне, как на меня из темноты надвигаются эти желтые глаза. Уж лучше их поубивать, Гай. Обещаю тебе: я не буду стрелять, пока не увижу наверняка, что это собака, а не какая-то другая тварь. Кроме того, я принесу по паре пистолетов для каждого из нас, чтобы у нас было по три выстрела на брата, не меньше… – Ладно, – сказал Гай. – Мы поубавим их в числе. Но я хочу все-таки оставить парочку на развод. Сделаю западню с петлей и оленьей тушей для приманки, и уж одна-то из них попадется. А потом и вторую добудем, правда, еще не знаю как. Это такая умная порода, что один и тот же трюк вряд ли дважды сработает. Согласен? Охота прошла неудачно. Они убили трех буль-мастиффов, но двое, кобель и сука, ускользнули из ловушки и от ружейного огня. Мальчики преследовали животных до реки и видели, как уже далеко от берега две собачьи головы, черные в серебристом лунном свете на фоне темных вод, быстро продвигаются в сторону Луизианы. Угроза для скота миновала, но Гай был разочарован. «С такими собаками, – думал он, – я бы мог…» А потом он перевел взгляд немного ниже по течению и увидел лодку-хижину. Она была как новая и сверкала под луной молочно-белой краской. – Ты езжай домой, Кил, – сказал он, – а мне надо проведать людей в лодке. Они меня выходили, когда с моей рукой было плохо, так что нужно их навестить. – Вот это лодочка! – восхищенно воскликнул Кил. – Я тоже могу пойти с тобой. – Нет. Это люди не твоего круга, Кил. Увидимся позже… Убедившись, что Кил действительно уехал, он прыгнул на борт плавучего дома. На палубе, как обычно, храпел Тэд Ричардсон, баюкая в руках кувшинчик с виски. – Кэти! – ласково позвал Гай. – Эй, Кэти! Она стремительно выскочила из хижины в одной мятой ночной рубашке. Ее блестевшие волосы были перевязаны сзади синей ленточкой. Кэти была безупречно чиста и завораживающе красива при свете луны. Гай неподвижно стоял, разглядывая ее. – Гай! – прошептала она. – О Гай, я так рада тебя видеть! Входи же! – Нет, – сказал он, пытаясь унять волнение в крови. – Надень платье и пойдем погуляем. Ночь слишком хороша, чтобы сидеть в тесной хижине. – Ладно. Подожди немного, Гай. Вернувшаяся Кэти являла собой непривычное для Гая зрелище. На ней было белое платье, на ногах – белые туфельки. Девушка подошла к нему вплотную и взяла за руку. При этом его обдал аромат духов, так что голова закружилась. «Боже правый, – екнуло его сердце, – о милосердный Боже!» – Давай уйдем далеко отсюда, – сказала она. – Далеко-далеко. Дедушка проснется только завтра к полудню, а луна так красива. От этого все тело ощущает такое… такое… – Такое что, Кэти? – спросил он. – Не знаю, – засмеялась она. – Никогда так себя не чувствовала раньше: мурашки бегут по спине, будто гусиной кожей покрылась в морозное утро. Слушай, Гай, покатай меня на своей красивой лошади. – Хорошо, – пробормотал он, а сам думал: «Не надо мне этого делать, я не должен, я…» Но при этом знал, что сделает это. Теперь уже не было надежды, что дело обернется иначе. «Это все Фиби виновата, – мрачно подумал он. – Если бы она не была такой недотрогой…» Они ехали молча, пока не добрались до поляны. Кэти в восторге вскрикнула, когда увидела ее: – О Гай! Она такая красивая! «Красивая, – подумал с раздражением Гай, – этим словом она все на свете называет». Он спешился, потом приподнял ее и поставил на землю. Она тотчас выскользнула из его объятий, побежала к ручью и села на берегу, сбросив туфли. Затем поболтала ногами в воде весело, как ребенок. Гай нахмурился. Начало было плохое. «А может, – подумал он угрюмо, – оно было хорошим». Дитя было так прелестно и невинно, что было грехом, если не преступлением, даже думать об этом. Однако он не перестал об этом думать. Просто не мог ничего с собой поделать. От мелькания ее ног, плескавшихся в воде, он почувствовал головокружение и отвернулся. Стояла полная луна, и ночь была такой светлой, что можно было читать газету, поэтому Кэти заметила его движение. – Гай, – спросила она жалобно, – разве ты не счастлив? – Нет, – произнес он ворчливо. – Но почему, Гай? – пролепетала она. – Я что-то не так сделала? – Нет. Наверно, я просто чувствую себя одиноким. Я уже стал взрослым теперь, Кэти, и мне… мне просто нужна девушка… – Но у тебя есть девушка, если она нужна тебе, Гай. У тебя… у тебя есть… я. Он повернулся к ней, хмурый как грозовое облако. – Ты это серьезно, Кэти? – спросил он хриплым голосом. – Да, Гай. Я тебя поцелую, чтобы ты поверил. Вот… – Ты это называешь поцелуем? – насмешливо спросил Гай. Она уставилась на него в полнейшем замешательстве. – А разве это не поцелуй? – спросила она. – Иди сюда, Кэти, – сказал он и заключил ее в объятия. Когда он разжал руки, она все еще прижималась к нему. – Гай! – выдохнула она. – О Гай, милый, поцелуй меня так еще раз… я не знала… я ведь даже не догадывалась… О Господи, Гай!.. Кэти лежала в его объятиях. – Пожалуйста, не надо! – пролепетала она. – Подожди минутку. Я чувствую… Я сама не знаю, что я чувствую… Он аккуратно опустил ее на зеленый дерн, не переставая целовать, а его пальцы расстегивали пуговицы ее платья, впуская неожиданно холодный ночной воздух. – Гай! – простонала она, но слова были заглушены, искажены его плотно прижатым ртом. – Не надо! Пожалуйста, не надо!.. Прохлада больше не овевала тело Кэти, ее вытеснил жар ищущих рук Гая. Она еще раз застонала, очень тихо, а потом смолкла. В ее больших глазах отражалась полная луна удивительного серебристого цвета. Кэти лежала, глядя на него, не пытаясь кричать или сопротивляться, когда он стаскивал с нее одежду… Она пронзительно вскрикнула от резкой боли. Потом опять начала тихо стонать, это были приглушенные стоны боли и стыда, потом нотки боли исчезли, и наконец она издала громкий крик, победно метнувшийся вверх, к наблюдающей за ними луне. – Гай! – прошептала она. – О Гай… о милый… я… – Тише! – оборвал он ее, чувствуя, как в нем, где-то глубоко внутри, разгорается стыд за содеянное, как начинает точить его червячок раскаяния. – Тише, Кэти! Послушай. Прости меня. Я не хотел… о Кэти, милая, мне так стыдно и больно… Ее пальцы, подобно серебряному гребню, погрузились в смоль его волос. – Простить тебя? – спросила она, и голос ее был низким, хриплым, полным теплоты. – За что, Гай? Когда-нибудь это с любой девушкой случается, правда, любимый? Просто я теперь стала женщиной. А раз уж так случилось, я счастлива, что это был ты… Он немного отодвинулся от нее, шаря по земле в поисках разбросанной одежды. – Гай, – прошептала она, и в ее тоне пробивались нотки довольства собой, – лежи спокойно! Разве я тебе не сказала, что дедушка проснется не раньше чем завтра к полудню?..Направив Пегаса в сторону имения Мэллори, Гай увидел стройную маленькую фигурку, приближающуюся к нему верхом на приземистом белом пони. «Проклятие, – подумал он, – я не смогу видеть Кэти теперь, когда…» Но тут же вновь повеселел: скоро день рождения Джо Энн, меньше чем через месяц, и на этот раз он был готов забыть свою гордость ради того, чтобы показать Джеральду и особенно Речел, чего стоит мужчина из рода Фолксов. Он остановил серого и стал ждать. – Гай, – сказала Джо Энн жалобно, – тебя так давно не было! Я знаю, конечно, что ты теперь взрослый, но мне кажется… Он сидел в седле и улыбался, глядя на нее сверху вниз. В неполных десять лет Джо Энн еще не сформировалась и была тонка как березка, унаследовав от Фолксов длинные руки и ноги. Когда он вырастет, она будет казаться карлицей рядом с ним, как большинство других женщин, правда, у нее никогда не будет пропорций Юноны, как у ее матери, она будет выше – высокая, как ива, и очаровательная. Может, она и родилась для того, чтобы составить пару такому мужчине, каким будет Гай, да каким, пожалуй, он уже и стал. Правда, когда они познакомились, он еще этого не знал. В четырнадцать лет он был еще мечтательным ребенком, и расстояние между ним и восьмилетней бело-розовой богиней, которая словно спустилась с облаков в элегантном экипаже, каких он никогда в жизни еще не видел, было не так уж велико. Но теперь, когда ему шестнадцать, эти шесть лет пролегли непроходимой пропастью. Он ее по-прежнему любил, но это была теплая, хотя и не без нотки раздражения, неровная, горящая то ярче, то слабее, любовь старшего брата к младшей сестре. Он был не прочь изредка поездить с ней верхом, но книги и охота стояли у него на первом месте. Если бы ему пришлось выбирать, с кем провести день – с ней или с Килрейном, он, не задумываясь, предпочел бы общество юного Мэллори. И, если бы случилось так, что она помешала бы роману с его возлюбленной из сословия белых бедняков, он, точно так же не задумываясь, постарался бы избавиться от ее присутствия. У него было то, чего недоставало ее отцу, – хватка, как у старого Эштона, – качество, позволившее старику построить Фэроукс, основать новую династию и через несколько лет стать тем, кем он никогда не был (прекрасно помня об этом, иначе не развесил бы напоказ на стенах Фэроукса всех своих краденых предков), – аристократом и джентльменом. И теперь Гай, встретив ее, не стал заводить речь о дне рождения, не говорил с ней об этом и в последующие дни. Он просто ездил верхом в ее компании целую неделю, так что Джо Энн была на седьмом небе от счастья, в то время как бедняжка Кэти все глаза выплакала. Только в ту субботу, когда все должно было решиться, он наконец коснулся этого предмета: – Джерри давно следовало бы подарить тебе настоящего скакуна. На этом жирном бочонке, набитом потрохами, ты никогда не научишься ездить правильно. Тебе ведь скоро исполнится десять, и, если бы у тебя была одна из серых лошадей, мерин или кобыла, я мог бы научить тебя… – О Гай, правда? – вскрикнула она. – Конечно. Почему бы Джерри не подарить тебе хорошую лошадь на день рождения? – Я попрошу! Обязательно попрошу! Тогда я смогла бы верхом охотиться на лису… – Что за охота на лису? – спросил Гай как бы ненароком. Она уставилась на него: – А разве ты не знаешь? Каждый год в мой день рождения мы… – Но ведь я никогда не бывал на твоем дне рождения, – сказал Гай резко. – Поедем, что ли? – Гай, – жалобно протянула она, – я хотела, чтоб ты пришел. Очень хотела. Только боялась, что мама… А впрочем, что за чушь! В этот раз ты придешь! Я прямо сейчас поеду и скажу папе, чтобы он прислалтебе приглашение. – Не надо! – сказал Гай. – Если твоя мама не хочет видеть меня, то и у меня нет никакого желания приходить. – Она никогда этого не говорила, Гай, – поспешно сказала Джо Энн. – Она всегда твердит, что ты умный и мужественный, весь в своего отца. Но они с папой так ужасно ссорятся. Папа думает, что ей слишком нравится твой отец. А когда она выходит из себя, она всем говорит гадости. Поэтому я и не приглашала тебя в прошлый раз. Ну а в этом году все будет по-другому. Вот увидишь… – Мне не нужно приходить, Джо, – медленно проговорил Гай. – Я не хочу быть причиной какой-нибудь… – А ты и не будешь. В прошлом году я ужасно скучала по тебе. О, я так хочу, чтоб ты пришел, Гай. Ну скажи, что ты придешь, обещаешь? Он хмуро посмотрел на нее. Потом смягчился. – Ладно, – сказал он. – Обещаю, если получу приглашение по всей форме от твоего отца. Ну, поехали, малышка.
Глава 6
Он возвращался от лодки-хижины и, отдавшись неторопливому бегу жеребца, чувствовал, как все его тело охватывает усталость. – Гай! – позвал его кто-то хриплым шепотом, полным боли. Он осадил серого и оглянулся: – Фиби! Что случилось, детка? – Масса Кил… – простонала она. – Он… он пытался… масса Гай. А когда я стала сопротивляться, взялся за хлыст и… Гай соскочил с лошади и обнял Фиби. Он увидел большие багровые полосы, идущие через плечи крест-накрест. Когда он сильнее сжал ее талию, она коротко вскрикнула. – Спина! – прошептала она. – На ней живого места нет, масса Гай. – Ублюдок! – скрипнул зубами Гай. – Подожди, я еще доберусь до этого вонючего хорька! – Нет, – устало усмехнулась Фиби, – он в своем праве, масса Гай. Ведь хозяин всегда может отстегать своего раба… – Плевать мне на это! – выкрикнул Гай в ярости. – Он сам у меня попробует хлыста! Пойдем со мной в дом, Бесс приведет тебя в порядок, а потом… – Нет, – повторила она. – Нельзя, масса Гай. Самого худшего-то вы еще не знаете… – А разве было что-то еще хуже? – Было. Масса Алан выбежал на шум. А масса Кил сказал, что я… что я… Она разразилась рыданиями. – Успокойся, девочка, – сказал Гай ласково. – Теперь-то все будет хорошо. – Нет! Не видать добра, если у тебя черная кожа или хотя бы только бабушка-негритянка! А теперь и вовсе все пропало! – Что же все-таки произошло? Расскажи толком, Фиби. – Массе Килу надо было как-то выпутаться, вот он и сказал, будто я с ним заигрывала, и это, мол, так его взбесило, что он отстегал меня кнутом. – И Алан Мэллори поверил? – Нет, конечно. Не такой он дурак. Только мне-то что с того? Об их семье и так идет дурная молва из-за шашней с черными девушками. Вот он и отправил массу Кила в Дьердр, на плантацию, что выше по реке. А там, дескать, домашний учитель засадит его за книги и продержит до самого дня рождения Джо Энн. А со мной он так решил: послал человека сказать работорговцу, чтобы тот пришел к ним в Мэллори-хилл завтра. Он… он собирается продать меня еще дальше на Юг, масса Гай! Мне теперь только бежать остается! – Ну ты пока не очень-то далеко убежала! Давай отвезу тебя к Ричардсонам. А потом попрошу денег у отца и отправлю тебя на Север. – Нет, – сказала Фиби. – Если меня найдут у Ричардсонов, у них будет куча неприятностей. А ведь они мне друзья… «Да, – подумал Гай, – она права. Если ночные патрули, которые рыскают по полям и дорогам, выслеживая беглых негров, найдут ее в лодке-домике, Ричардсоны попадут в беду. Содействие и помощь беглецу – одно из самых серьезных преступлений. – Он стоял и думал нахмурившись: – Есть только одно мало-мальски надежное место – хижина. Ведь не ходят же отец с Речел туда каждую ночь… Только вот в чем загвоздка: а вдруг они договорились встретиться там нынче? И все-таки придется воспользоваться хижиной. Больше спрятаться негде». – Послушай, Фиби, – сказал он. – Я отвезу тебя в старую развалюху в лесу. Там ты будешь в безопасности. – Он посмотрел на нее в раздумье. – Услышишь храп коней – прячься в лесу. Но не слишком пугайся, если кто-то появится. Это скорее всего будет мой отец… или миссис Речел… Фиби нашла в себе силы улыбнуться. – Вы можете довериться мне, масса Гай, – сказала она. – Знаю. Поэтому и рассказал тебе о хижине. Пробудешь там сегодняшний вечер и завтрашний день. Я принесу тебе еды, платье и шляпу, какие носят белые девушки. Кэти даст что-нибудь из своих вещей. У нее сейчас одежды много. Переоденешься и, может, проскочишь. У многих белых кожа ничуть не светлее твоей. А я возьму у отца деньги на пароход до Цинциннати. Ты знаешь толк в шитье, в рукоделии – значит, работу найти себе сможешь… – Спасибо вам, масса Гай, – прошептала Фиби. – А ведь я оказалась права. Вы как раз такой, как я и думала: хороший и добрый, настоящий джентльмен… – Вовсе нет, – отрезал Гай. – Скорее такой же ублюдок, как и все кругом. Но есть вещи, которых я не выношу. Ну ладно, пора трогаться в путь… Взять деньги у отца казалось делом нетрудным: Вэс Фолкс был человеком щедрым. Кроме того, Гай точно знал, как подойти к нему с этой просьбой: отцовская сущность была его собственной сущностью, они и в самом деле ничем не отличались один от другого, разве что Гай был выдержаннее и не впадал так легко, как Вэс, в неистовство и ярость – даже в шестнадцать лет он был больше мужчиной и меньше ребенком, чем его отец. – Это долг чести, папа, – сказал он. – Я побился об заклад с Килом на пятьдесят долларов, что мы свалим всех буль-мастиффов одним залпом, и проиграл. Ты всегда говорил, что слово Фолкса свято. И пока я не отдам ему деньги, не буду чувствовать себя спокойно… – Боже милосердный! – рассердился Вэс. – Ты что же думаешь, парень, деньги на деревьях растут? Я тебе одно скажу: правильно, если мужчина платит долг чести сразу. Пусть люди знают: его слово – закон. Но именно поэтому он прежде всего должен избегать азартных игр и всяких там пари, чтобы не попадать в такие ситуации… – Да, папа, – ухмыльнулся Гай, – уж ты-то никогда в них не попадал… Вэсу пришлось улыбнуться. Он положил руку на плечо сына. – Тут ты меня поймал, – сказал он. – Скажу тебе еще: твой отец, к примеру, живет в жестокой бедности. Так вот, сынок. Умному человеку незачем делать ошибки, чтобы потом учиться на них. Ему достаточно помнить то, чему его учила в детстве мать, немного сообразительности да простого здравого смысла, наконец, – и не будешь обжигаться сам: умный человек учится на чужих ошибках. Твой отец, сынок, в погоне за удовольствиями лишил тебя того, что положено тебе по праву рождения и… – Нет, – сказал Гай. – Не ты, папа, а Джерри украл у нас это право. Вэс удивленно воззрился на сына. – Кто тебе это сказал? – прорычал он. – Кил. Мистер Мэллори считает, что Джерри подделал подпись дедушки под новым завещанием или изменил старое. И, зная Джерри, молено сказать, что это похоже на правду. Вэс покачал головой: – Если б я мог доказать это, я бы давно так и сделал, а сплетням верить не надо, сынок. Они не могут ничем помочь, даже если в них есть доля правды. Сейчас уже не докажешь, так было дело или иначе. Все это случилось семнадцать лет назад и… – Папа, тебе никогда не приходило в голову съездить в окружной суд и посмотреть на утвержденную копию завещания? Вэс некоторое время молча глядел на сына. – Гай, – сказал он наконец. – Ты мое единственное утешение за все несчастья, а иначе какой, к дьяволу, был бы смысл во всем, – ведь я был всего лишь юным повесой, прославившимся своим буйным поведением. Не помню, видел ли я отцовскую подпись хоть раз в жизни. Никогда не интересовался счетоводством и тому подобным. Кстати, бухгалтерские книги вел Уилл Стивенс. И как же, черт возьми, – его голос сорвался от едва сдерживаемой ярости, – как бы я мог сказать, что Джерри подделал подпись старика, и доказать подделку, если бы даже знал это наверняка? – Не мог бы ты найти какое-нибудь старое письмо дедушки, чтобы сличить почерки? – спросил Гай. – Тогда мы сумели бы… – Вряд ли. Папа в жизни не писал писем. Единственным его родственником был брат, Брайтон, а он жил здесь. Видимо, они были сиротами. По крайней мере, ни тот ни другой никогда не писали писем в Англию, а ведь они родились там… – Тогда дело плохо. А как насчет денег, папа? – Ладно, ладно. Но никогда больше так не делай, сынок! Вы, молодые, вечно вляпаетесь в историю. Как твой дружок Кил… У Гая перехватило дыхание. – А что Кил, папа? – спросил он. – Эл его поймал на шашнях с негритянкой. Совсем стыд потерял. Отослал его на плантацию выше по реке, а девку продал на Юг. Торговец из Натчеза забрал ее сегодня утром. – Так, значит, – прошептал Гай, – работорговец увел… ее… утром? – Ну да. Пыталась сбежать прошлой ночью, но патруль ее поймал. Она бродила по тому выжженному участку леса… – Папа, – спросил Гай, чувствуя страшную горечь, – ты ведь вернулся домой поздно прошлой ночью, верно? Вэстли Фолкс уставился на сына. – Что, черт возьми, ты имеешь в виду? – рявкнул он. – Ничего. Но деньги ты можешь оставить себе, папа. Они мне уже не нужны. Лицо Вэса стало чернее тучи. – Ты, – сказал он, – ты хотел помочь бежать этой цветной! – Да, папа, – признался Гай. – Послушай, сынок, – тихо сказал Вэс. – Это мне очень не нравится. Вот уж не думал, что ты можешь спутаться с черной или цветной девчонкой. Мы ведь не Мэллори. А уж Фолксы уважают себя настолько, чтобы держаться подальше от негритянских лачуг. А потом родит такая, и сын, твоя плоть и кровь, будет полунегром и рабом. Это не должно случиться с человеком, в жилах которого течет кровь Фолксов: мы не должны смешивать ее с негритянской и обрекать ребенка – это при нашей-то фамильной гордости, силе духа, высокомерии даже – на жалкую участь быть чьей-то собственностью, которую можно продать, как лошадь… – А можно ли вообще продавать ребенка любой крови, папа? – тихо спросил Гай. – Проклятие! – взревел Вэс. – Не смей говорить со мной на языке этих чертовых аболиционистов! – Нет, папа, – возразил Гай. – Если их освободить, куда они пойдут? Что они умеют делать? Если мы не будем о них заботиться, они через месяц умрут с голоду. Я совсем о другом говорю. Ведь все то, что мы делали и делаем, – страшная несправедливость. И это понял любой из нас, кому достает мужества взглянуть правде в глаза. Но мы слишком глубоко увязли. Наверно, грехи отцов не дают нам вырваться… – Боже милосердный! – воскликнул Вэс. – Вот уж не думал, что шашни с цветной девчонкой так задурят голову моему сыну! Я тебе так скажу… – Нет, я скажу тебе, папа… У меня никогда не было с Фиби ничего такого, что ты имеешь в виду. Я ей просто благодарен за то, что она спасла мне жизнь. Раньше я об этом тебе никогда не говорил: ведь это она нашла меня в лесу, перевязала руку и отвела в домик-лодку Ричардсонов. Если бы я помог ей бежать, прежде чем ее продадут, чтобы греть постель какому-нибудь старику, это было бы хоть малой платой за все, что она для меня сделала. Вэс сидел молча, его голова склонилась под грузом тяжелых раздумий. – Очень жаль, – сказал он наконец. – Ты прав, сынок. Только ты взялся за дело не с того конца. Надо было мне сказать, и я бы ее выкупил у Алана Мэллори и отправил на Север с письменным пропуском. Все по закону. Что обидно: ты мне недостаточно доверяешь и не рассказываешь все начистоту… – Дело не в этом, папа. Я просто как следует не подумал.Глава 7
– Вэс, нам бы лучше пока не ходить в хижину. После того как они поймали поблизости беглую девчонку, патруль может туда воротиться. Не перестать ли нам встречаться на какое-то время? – Да что ты несешь, черт возьми! – рявкнул Вэс. – Может, и дышать прекратить? По мне, так это легче… – Знаю. Для меня тоже. Но, Вэс, я так боюсь! – Не бойся, Речи. Есть много других мест. Я знаю, например, чудесную маленькую поляну ниже по ручью, со всех сторон ее обступают деревья, там ты в безопасности, как в церкви, и она закрыта от посторонних взоров, как будуар… Речел колебалась. – Ты уверен, что там мы будем в безопасности? – спросила она. – Я тебе покажу ее, детка, – ухмыльнулся Вэс. – Пойдем. Они оставили лошадей на некотором расстоянии от поляны и тихо пошли через лес. Вэс уже собирался шагнуть на открытое место у ручья, когда Речел внезапно судорожно схватила его за руку. И он увидел их двоих, плывущих рядом через освещенную луной заводь немного выше маленького речного порога. Он замер в оцепенении, слушая серебристый голосок Кэти: – Пойдем, Гай! Уже поздно, и дедушка, наверное, проснулся! Они вышли из ручья вместе, их тела были покрыты капельками воды, блестевшими в лунном свете, как драгоценные камни. На краю ручья они обнялись: белая, как кора молодой березки, кожа Кэти особенно бросалась в глаза на фоне смуглого тела Гая. – О! – прошептала Речел. – Как они красивы! Как красивы и молоды! О Вэс, я так им завидую! Ее голос развеял чары, и ярость Вэса вырвалась наружу. Он подался было вперед, но Речел сомкнула руки за его спиной и ценой немалых усилий удержала на месте. – Нет! – прошептала она. – Какое мы имеем право им мешать? Какое право, Вэс? Вэс не двинулся с места. Он весь дрожал. – Проклятье! – простонал он. – У меня у самого рыльце в пуху, ты это хочешь сказать, Речи? Но ведь я-то знаю, что девчонка – внучка старой речной крысы Ричардсона. И клянусь Создателем, я костьми лягу, чтобы помешать ему повторить мою ошибку! Речел ласково взглянула на него: – Ошибку, Вэс? Но она такая хорошенькая! – Чэрити тоже была недурна в молодости, – проворчал Вэс. – Пойдем, Речи, я провожу тебя домой. После того, что я увидел, у меня все настроение испортилось…Стоило Кэти увидеть высокого мужчину на большой черной лошади, как она поняла, что это отец Гая. Сходство между ними было пронзительно, как крик в чащобе ее страхов. – Что вы сказали, сэр? – прошептала она. – Я спросил, где твой дед, девочка, – рявкнул Вэстли Фолкс. – Он… он спит, сэр. – Иди разбуди его, – бесстрастно приказал Вэс. – Не могу! – выпалила Кэти. – Если разбудить дедушку, он рассердится и будет злой, как медведь. – А я сказал, разбуди! Я, черт бы тебя побрал, не могу торчать здесь целый день! Кэти кинулась прочь; лицо ее было белым от ужаса. Вернулась она вместе с Тэдом Ричардсоном. – Меня зовут Вэс Фолкс, – начал Вэс, – и я привык говорить напрямик. Я пришел сюда, чтобы потолковать с тобой, старик, на малоприятные темы. Но, прежде всего, я хочу, чтобы ты мне обещал, что не будешь слишком суров с девчонкой. Боюсь, что она недостаточно сильна, чтобы выдержать хорошую порку… – Не могу взять в голову, о чем вы, черт вас возьми, говорите! – сказал Тэд Ричардсон. – Послушай, ты, проклятая старая речная крыса, изволь говорить вежливей с людьми, чье положение в обществе выше твоего! Я тебе прямо скажу: эта вот твоя девчонка путается с моим парнем. А я, уж будь уверен, не хочу, чтобы он сеял урожай, не обнеся поле забором. Особенно когда, как мне сдается, участок земли не стоит того, чтобы городить вокруг него забор… – Скажи-ка мне, девочка, – обратился Вэс к Кэти, – ты беременна? – Беременна? – прошептала она. – А что это такое, сэр? – С большим животом. С ребенком внутри. Мне нужно знать, не будет ли у тебя ребенка от моего парня? – Нет, сэр, – прошептала Кэти. – Хорошо, – сказал Вэс. – Тогда я буду краток. Я не богач, но здесь, в моем кармане, две сотни долларов. Это больше, чем проходит через твои руки за год, старик. Деньги станут твоими в ту же минуту, как ты отвяжешь свою дурацкую лодчонку от этого пня и уплывешь так далеко вниз по реке, чтобы эта девчонка никогда больше не попадалась на глаза моему парню… Тэд Ричардсон стоял молча, внимательно разглядывая Вэса. Когда он наконец заговорил, голос его был очень спокоен: – Мне нечасто приходилось иметь дело с людьми такого сорта, как ты, но, сдается мне, я не много от этого потерял. Может быть, там у вас, белых господ, в ваших больших домах и принято торговать вашим честным словом и честью ваших женщин. Но я к этому не привык… Вэс, сидя верхом на Демоне, буравил Тэда взглядом: – Ты что же, старик, настаиваешь на свадьбе? – Нет. Я и впрямь привязался к твоему мальчику. Но я теперь понял, что, раз в его жилах течет твоя кровь, он не годится для моей внучки. Пусть она выйдет замуж за хорошего и верного человека, а не щенка белых господ, выросшего и разжиревшего на поте и крови негров… – Ну ты, старый ублюдок! – взревел Вэс. – Если бы не твои седины, я бы показал тебе… – Пусть мои седины не беспокоят тебя, сынок. Хочу тебе только сказать, что вот здесь, в этой коробке, лежит двустволка двенадцатого калибра. Она заряжена кусками железа и ржавыми гвоздями. Я бы ее достал, да не люблю показухи. Но вот стрельба по лисам доставляет мне удовольствие. Так что подумай маленько, стоит ли тебе слезать с лошади. Будет куда как лучше, если ты ее развернешь потихоньку и уедешь отсюда прямо сейчас. Гнев Вэса спал. Его всегда восхищали люди, умеющие владеть собой. А Тэду Ричардсону, похоже, мужества было не занимать. – Ладно, старик, – сказал Вэс. – Ты победил. Я только хочу знать: чего ты добиваешься? – Ничего, – ответил Тэд. – Мне нечего беспокоиться. Моя девочка не побежит искать твоего щенка. Следи, чтобы он резвился поблизости от своего дома, и все будет хорошо… – Я так и сделаю, – сказал Вэс. – Мне нравится твое хладнокровие. Может, и вправду я начал разговор не с того конца. Я пригляжу за парнем, а ты не спускай глаз с девчонки. По рукам, старик? Тэд Ричардсон пожал протянутую руку. – Дедушка! – взвыла Кэти. – Ты этого не сделаешь! Не можешь этого сделать! Если сделаешь, я утоплюсь в реке! Клянусь! Не могу жить без него, не могу… – Заткнись, Кэти, – сказал старик. – Прибереги свои причитания для порки, которую я собираюсь задать тебе, как только уедет этот джентльмен!
В ту же ночь Тэд Ричардсон вошел в хижину с фонарем в руке. Склонившись над спящей внучкой, он осветил ее лицо, на котором еще не просохли следы горьких слез. «Бедная маленькая девочка, – подумал он. – Сердце приручить нелегко, я это знаю. Трудно понять, что не всегда найдешь лучшее, когда высоко занесешься. Может и так случиться, что наверху найдешь одну гниль, а внизу – добродетель. И все-таки этот парнишка мне полюбился. Но лучше тебе не видеть его больше, детка, гораздо лучше…» Потом он вышел на берег и отвязал лодку от пенька. Оттолкнув ее изо всех сил от берега, он влез на борт и медленно выгреб на середину реки. Течение подхватило лодку и понесло к югу. Старик сидел на корме, попыхивая трубкой из кукурузного початка и глядя на звезды. «Есть и другие тихие гавани, – думал он, – и я приведу мою девочку в одну из них…»
До дня рождения Джо Энн оставалась всего неделя, и у Гая не было времени съездить к Ричардсонам. Он и подумать не мог, что речное течение унесло Кэти из его жизни навсегда. Да и Вэс бы ему ничего не сказал, если бы об этом зашла речь. Ведь они пришли к соглашению с Тэдом Ричардсоном, и Вэс не желал больше касаться этой темы. На следующий день после отъезда Ричардсонов Гай отправился на южный участок плантации, где, как он знал, должен был быть в этот час Вэс. Он остановил своего серого рядом с черным жеребцом отца, сдвинул шляпу на затылок и сказал: – Привет, папа. Ты все еще носишь эту старую розовую куртку? Если бы ее немного обузить в плечах, она была бы… Лет через двадцать негры, присутствовавшие при этой сцене, все еще не уставали описывать ее: – Масса Вэс, он сидел просто и смотрел на мальчишку. Минут, наверно, десять и словечка не вымолвил. А потом как откроет рот да как начнет ругаться. Уж мне-то за мою жизнь приходилось слышать ругань, но то, что масса Вэс выдал в тот день, это просто диво-дивное! Он так ругался, что листья на старом сорокафутовом дубе могли бы свернуться и пожелтеть. Он выпустил столько пара, что хватило бы протащить пароход вверх по течению от Нью-Орлеана до Натчеза с невиданной скоростью. – А молодой масса Гай сидел все это время на своей серой лошади, слушал отца и ухмылялся. Когда же масса Вэс совсем запыхался, он наконец открывает рот и говорит: – Ты все сказал, папа? Думаю, что Брутус, портной-негр у Мэллори, мог бы выкроить тебе куртку так, чтобы она действительно хорошо сидела… Разъяренный Вэс воззрился на сына: – Прекрати говорить об этой куртке. Поехали на другой конец поля, где нас не услышат негры. Нам есть о чем с тобой поговорить, мальчик. Гай поехал рядом с ним. Он был очень спокоен: вспышки ярости, случавшиеся у Вэса, не пугали его. Вэс сидел в седле, глядя на сына, медленно распаляя себя до необходимой степени гнева. – Тебе надо бы устроить хорошую взбучку! – проревел он. – Чтоб не бегал тайком по ночам миловаться с этой желторотой голодранкой! И, имея такой грех на душе, ты приезжаешь ко мне на поле как ни в чем не бывало, без словечка раскаяния, и заводишь разговор о розовой куртке, даже не поздоровавшись! Ну, что скажешь в свое оправдание? – Ничего, папа, – ответил Гай. – Ничего! Гром и молния! Слушай, ты, юный зазнайка! Видно, пришла пора всыпать тебе дюжину горячих! – Нет, папа, – сказал Гай веско, – ты этого не сделаешь. Начнем с того, что я взрослый, и колотить меня – занятие неблагодарное. Во-вторых, поскольку речь идет о Кэти, я просто не понимаю, почему я вообще должен тебе что-то объяснять… – Ты считаешь, что не должен передо мной отчитываться? – спросил Вэс, раздельно произнося каждое слово в мертвой тишине. – Нет, папа. Кэти моя. Может быть, ее родные и маленькие люди, но, если уж на то пошло, и не все мои предки в шелках и бархате являлись на свет. А она девочка хорошая: верная, милая и любящая. Сколько я ни пытался, так и не смог понять, чем же ее кровь отличается от нашей. Да тебя не так уж волнует, что мы с ней близки, по-настоящему тебя гложет страх, что меня могут принудить или я сам захочу жениться на ней. Так или иначе, это мое личное дело, папа. И я буду тебе очень благодарен, если ты не будешь вмешиваться… – Твое дело – это и мое дело, пока ты не стал взрослым, мальчишка! – взревел Вэс. – А кроме того, речь идет о том, правильно ты ведешь себя или нет… – Бога ради, папа, давай закончим этот разговор. Я люблю Кэти и буду любить так долго, как только смогу, правильно это или нет, неважно. И хватит об этом. Разве Кэти, никому ничем не обязанная, хуже твоей Речел, которая чуть ли не каждый день тайком убегает из дома, чтобы встречаться с тобой в заброшенной хижине на выгоревшем участке леса? Лицо Вэса потемнело как грозовое облако, потом покраснело от ярости. – Ты, – прошептал он, – ах ты, проклятый маленький шпион! – Нет, папа, я не шпионил. Я об этом никому слова не сказал, даже тебе, до этой самой минуты. Я вышел тогда из леса с рукой, наполовину откушенной собакой, мне было так плохо, я весь горел от лихорадки, и тут вдруг увидел тебя с Речел. Мог бы обратиться к вам за помощью, мне она очень была нужна тогда, но не хотел смущать тебя, не хотел делать тебе больно. Я ведь и сам мужчина и могу понять, что ты нашел в Речел. Вот я и пошел прочь, чтобы ты мог спокойно грешить в свое удовольствие. Поэтому… – Гай! – взмолился Вэс. – …не устраивай мне выволочек, папа. Можешь называть Кэти белой швалью, но она моя, и я по-настоящему люблю ее. И что бы я ни делал сейчас или в будущем – это мое дело, папа. Я тебе больше скажу: мне уже сейчас совершенно ясно, что я всегда буду самим собой и не смогу быть святошей. Мои женщины от меня никуда не уйдут, как и от любого другого Фолкса, так уж повелось с давних пор. Но я даю тебе слово, папа: никогда моему сыну не придется выпрашивать у меня поношенную куртку из-за того, что я лишил его места в мире, которое должно принадлежать ему от рождения, обрек на участь младшего надсмотрщика за неграми, а все потому, что был охоч до чужих жен! Вэс долго и внимательно разглядывал сына. Потом отвернулся. Он сидел на своем большом черном жеребце, склонив голову, его могучее тело обмякло под грузом поражения, и весь его вид красноречиво свидетельствовал о том, какой стыд и унижение он сейчас испытывает. Это зрелище перенести было трудно. Особенно Гаю, чья любовь к отцу была, вероятно, самым сильным чувством, владевшим им… – Папа! – произнес он, наконец. – Папа! Вэс не ответил. Тогда Гай подъехал ближе и обнял отца за плечи. – Папа! – выдохнул он, сдерживая слезы. – Прости меня. То, что я сказал, это низость и подлость. Ты самый лучший отец, которого кто-либо имел, и я горжусь тобой. Я рад, и я горжусь… – Нет, Гай, – прошептал Вэс. – …что я твой сын. Есть вещи, которые нельзя изменить. Я не могу не любить Кэти, также как и ты – Речел. Она, а не мама, – та женщина, которая нужна тебе. Речи даже и винить-то не за что. Поэтому я от всего сердца прошу у тебя прощения за то, что сказал. Мужчина не должен распускать язык, как бы он ни был рассержен. Так только женщины делают. Прости, папа. Я никогда больше не буду… Вэс вновь повернулся к Гаю. Было больно видеть его вымученную улыбку. – Все в порядке, мальчик, – сказал он. – Давай-ка съездим в город и купим красного бархата. А приедем назад, ниггер Алана Мэллори снимет с тебя мерку. Человек имеет право чувствовать себя не хуже окружающих, даже если речь идет всего лишь о камзоле для охоты на лису. Поехали, мальчик!
Через день после первой и последней ссоры, случившейся между ними, чувствуя что-то большее, чем стыд, – может быть, гордость или необходимость в самооправдании, возможно, даже желание, чтобы сын выглядел достойно в том кругу, откуда сам Вэс был изгнан из-за своего безрассудства, – он предложил сыну взять Демона для охоты на лису или скачек с препятствиями, и не потому, что считал серого жеребца Гая недостаточно хорошим для этого, но потому, что знал: никакая другая лошадь не вынесет напряжения соревнований, рассчитанных Джеральдом на весь день. – Дело в том, сынок, – сказал он, – что с Демоном ты обязательно победишь в первых двух испытаниях, потому что для них нужны в основном скорость и сила. Днем для метания колец и тому подобного Пег подойдет лучше: он легче и послушней. – Спасибо, папа, – сказал Гай. – И еще одно. Я бы хотел, чтобы ты выиграл. Это будет очень много значить для меня. И все же лучше проиграть, чем выиграть нечестно. Не перебивай! Знаю, что ты не привык лгать и обманывать. Но другие – те, что с неба звезд не хватают, будут мошенничать вовсю. И может возникнуть соблазн отплатить им той же монетой, пойми меня правильно, мальчик. То, что это делают другие, не может послужить тебе оправданием: обманом славы не добудешь, так было испокон веку. Может быть, – добавил Вэс улыбнувшись, – именно это надо было сказать тебе в ответ вчера, когда ты попрекал меня Речел, просто в голову не пришло… – Папа, – начал Гай. – Забудь об этом. Да вот и Джо Энн высматривает тебя. Прелестное дитя. Может быть, когда она вырастет и созреет… смотри, парень: шесть лет разницы между мужчиной и женщиной – это пустяк… – Я об этом думал, – не сразу ответил Гай, – но только для этого нужно, чтобы мы подходили друг другу. Не для того, чтобы вернуть Фэроукс. Но я все-таки верну его или построю новый дом выше по реке, такой, что и Фэроукс, и все остальные поместья не смогут с ним сравниться. Они сейчас взяли верх над нами, но это не вечно будет длиться. Фолкс никогда не смирится с поражением, да и нет никого, кто победил бы нас надолго. Ну пока, папа… И он поехал навстречу Джо Энн, синие глаза которой выражали восторг, изумление, почти благоговение. – Гай! – сказала она. – Я так беспокоилась, так давно тебя не видела. Боже правый! Ты только погляди на себя. Тощий как жердь и черный как головешка. Где ты пропадал? Ох, уж эти мужчины, скажу я тебе! Гай сидел, глядя на нее сверху вниз, и улыбался. «Она мила, – думал он, – очень мила, а подрастет, еще больше похорошеет. Сейчас, правда, это трудно представить: она – как длинноногий жеребенок… Вот позже, может быть…» – Давай, малышка, – сказал он как обычно. – Поехали. – Не называй меня малышкой. Мне уже десять, вернее, послезавтра исполнится десять. И вот еще, Гай: папа собирается отдать мне одну из своих серых лошадей, как ты и предлагал, – правда, здорово? Когда я заговорила с ним об этом, он замялся, притворился, что не думал об этом всерьез, но я-то знаю: он просто хочет сделать сюрприз. А кроме того, я вчера видела, как Руфус чистил красивую маленькую кобылу… О Гай! – Хорошо, – сказал Гай. – А что ты сейчас собираешься делать? – Попробую упросить тетушку Бекки, чтобы она дала нам облизать горшки, в которых делает глазурь для пирожных. Нет, сейчас еще слишком рано. Поехали на пристань, посмотрим, как негры выгружают лед с парохода. – Лед? В это время года! – Конечно, глупый. Его привозят к нам с Севера упакованным в солому. Он нам нужен: а как бы иначе негры готовили мороженое для моего дня рождения? Мало кто в наших краях ест его, ведь оно такое дорогое. Но папа говорит, что мой день рождения – это особый случай. Гай, конечно, видел лед раньше, когда они еще жили на холмах. Там в разгар зимы пруд покрывался тонкой ледяной пленкой, которая сохранялась лишь часов до десяти утра. Дважды за его семнадцать лет даже шел снег, один раз так сильно, что полностью растаял только через два дня. Но такого он себе и представить не мог – эти громадные блестящие бруски льда, которые негры носят на берег, защищая руки и плечи толстым слоем мешковины, и грузят на телегу. Подъехав к телеге, он отломил зазубренный кусочек льда и отдал Джо Энн. Она сунула его в рот, но быстро выплюнула. – Боже, до чего он холодный! – проговорила она, с трудом переводя дыхание. – У меня весь рот заледенел. – А что, и мороженое такое холодное? – спросил Гай. Джо Энн уставилась на него: – Ты разве никогда не пробовал? – Нет, – угрюмо сказал Гай. – Никогда. – Ничего страшного. Ты обязательно попробуешь мороженое послезавтра. Оно не такое холодное, как лед, и какое вкусное! Я всегда норовила наесться им до отвала: ведь оно у нас бывало только раз в год, в мой день рождения. Давай-ка сейчас сходим на кухню: может, удастся что-нибудь выклянчить у тетушки Бекки. Но надо быть осторожными. Когда у нее работы невпроворот, она бывает очень вспыльчива… Они повернули лошадей и направились к Фэроуксу. Обогнув усадьбу и проехав еще футов десять, они добрались до кухни. Джо Энн остановилась, ее лицо светилось ребячливым озорством. – Гай, – прошептала она. – Ты такой высокий. Наверно, сумеешь дотянуться до этой миски с миндальными пирожными? Тетушка Бекки выставила их на окно, чтобы они остыли. Гай с изумлением посмотрел на нее: – Но ведь это воровство… – Да нет же, глупый! – рассмеялась Джо Энн. – Она ведь их для меня приготовила, они мои! Ответь мне, Гай, разве может человек украсть сам у себя? Гай был в замешательстве: вопрос поставил его в тупик. Тогда он еще не знал, что потерпел поражение в первой же стычке с тем, что абсолютно непобедимо, – женской логикой. Хотя это и не был чистый образец изощренности женского ума: довод Джо Энн в этом случае не был лишен логики начисто и мог быть принят мужчиной. Но позже ему предстояло понять и прийти в изумление и замешательство оттого, что женщины используют самые немыслимые доводы как что-то само собой разумеющееся, что они последовательно громоздят высоченное строение из поражающих воображение несообразностей, скрепленных друг с другом явными противоречиями, на фундаменте такой безграничной и трудно постигаемой хитрости, что обычно мужчина позорно отступает и признает свое поражение, особенно когда убежден, что его подруга искренне верит всему этому, несмотря на противоречия, несуразности, а иногда и полную бессмыслицу своих аргументов. И часто случается, что это головокружительное сооружение уже непостижимо для неповоротливой мужской логики, и тогда поражение мужчины становится полным разгромом. Видно, женщины рождаются с инстинктивным знанием нелогичности жизни, ведь вся человеческая история – длинная и горькая хроника этой нелогичности, а мир во все времена со свирепой враждебностью отвергал наивную логичность человеческого ума. И вот в изумлении и страхе мужчина наблюдает, как его подруга, складывая два и два, получает шесть или три или сколько ей там взбредет в голову, нежно и ласково отвергая его упрямые доводы, что сумма всегда составит четыре, понимая своей сокровенной женской сутью, что, какие слагаемые ни возьми, результат никогда не известен заранее. – Вот, – сказал он, передавая ей шляпу, – возьми, – и встал на цыпочки боком к кухонному окну, так что тетушка Бекки сумела бы заметить его, лишь высунув голову наружу. Через мгновение он дотянулся до еще теплой миски – и вот они уже мчались к ивам, склонившимся над ручьем. Они сидели в тени деревьев, набив рты мягкими пирожными, задыхаясь от беззвучного смеха. Когда они все съели, Гай улегся на мох, которым порос берег, устремив взгляд вверх, в небо. Джо Энн сидела рядом, глядя на него с серьезным видом, ее маленькое лицо горело, несмотря на холодную воду, которой она смывала следы пирожного. – Гай! – прошептала она. – Что? Что такое, Джо? – Ты не хочешь… не хочешь меня поцеловать? Он сел, его карие глаза удивленно расширились. – Ну, – спросила она еще раз, несколько раздраженно, – хочешь или нет? – Боже милосердный! – воскликнул он. – Ты сама не знаешь, что говоришь! Ты ведь совсем еще ребенок, а я… – Ты на шесть лет старше. Я знаю. Но мой папа на десять лет старше мамы, а ведь они женаты. И потом, я не ребенок, и я хочу, чтобы ты меня поцеловал. Ну поцелуй меня, пожалуйста… Она закрыла глаза и замерла в ожидании, подставив губы для поцелуя. Он посидел немного, внимательно разглядывая ее, затем тихонько рассмеялся и, подавшись вперед, легко поцеловал в лоб. Ее голубые глаза широко раскрылись, в них сверкнул огонь. – Не так! – сказала она. – Я достаточно взрослая, Гай! Она схватила своими маленькими ручками Гая за уши, притянув его лицо к своему. – А теперь целуй меня! – скомандовала она. «Словно на изгородь налетел», – подумал Гай. Ее маленькие губы были сжаты и холодны как лед от воды из ручья. Она отпустила его уши и откинулась назад вся сияя довольством. – Теперь мы обручены, – сказала она, – и, если ты когда-нибудь хоть мельком взглянешь на другую девочку, Гай Фолкс, я тебя отхлещу плеткой, а ей глаза выцарапаю! – Что ты, никогда! – прошептал Гай, но она уже поднялась с земли и тянула его за руку. – Пошли! – весело говорила она. – Я хочу показать тебе платье, которое надену в день рождения. Оно такое красивое! Он пошел к дому вслед за Джо Энн, испытывая чувство добродушной снисходительности. Они вошли в огромный холл, на цыпочках пройдя мимо предков с хмурыми лицами, но остановились у дверей кабинета Джерри: они были приоткрыты, а оттуда, из кабинета, лестница, по которой они собирались подняться, была хорошо видна. Гай осторожно двинулся вперед, столь же бесшумно, как на охоте. Потом он обернулся, поманил за собой Джо Энн, и они вдвоем прокрались мимо двери к ступеням. Но не успел он преодолеть четыре или пять ступенек, как мельком увиденное заставило его остановиться, настолько оно было странным. Он обернулся и еще раз внимательно посмотрел, нахмурив густые брови: «Любопытная штука, более чем любопытная. Просто странная». Джеральд Фолкс сидел за письменным столом спиной к двери, деловито обстругивая перочинным ножом кусок белого дуба. Перед ним на столе лежал открытый футляр с бархатной подкладкой, а в нем – дуэльные пистолеты. Оттуда, где стоял Гай, со ступенек, было видно, что почти все в футляре не тронуто: пули, шомполы, щеточки для чистки, маленькая масленка, коробка для ударных капсюлей, – практически все, кроме одной из покрытых узорами пороховниц. Она была прислонена к шкатулке, а кусок дуба под ножом умелого резчика быстро приобретал форму пороховницы. Странно. Большинство мужчин в округе выстругивали что-нибудь из дубового и орехового дерева в часы досуга. Но только не в своих кабинетах. И строгали они, по большей части, без определенной цели, а результатом их трудов обычно была только горка стружек. Джерри же выстругивал точную копию серебряной пороховницы и делал это с подлинным мастерством, только по размеру она выходила значительно меньше оригинала. Гай даже потряс головой от удивления. Он никак не мог осознать, что Джеральд Фолкс режет по дереву в кабинете своими мягкими, как у женщины, руками. Может, кто-то другой, но Джерри – никогда… Он почувствовал, что Джо Энн с силой тащит его за руку. – Да пойдешь ты наконец или нет? – говорила она.
Красный камзол прекрасно сидел на нем. Так же как и бриджи желтовато-коричневого цвета и желтый жилет, который великодушно предоставил в его распоряжение отец. Брутус принес камзол и бриджи уже после полуночи, но время ничего сейчас не значило. Гаю было совсем не до сна. Утром, еще до того как рассвело, он встал и облачился в принадлежащую ему впервые в жизни по-настоящему красивую одежду. Пришел отец и помог намотать белоснежный шарф на его худую шею. Потом Вэс надвинул на голову сына охотничью шапку с козырьком. Сидела она на Гае залихватски. – Ей-богу, мальчик! – воскликнул он. – Ты прекрасно выглядишь! Гай удивленно взирал на свое отражение в зеркале. Превращение было разительным: на него теперь смотрел не долговязый деревенский мальчишка, одетый в рубашку из грубой полушерстяной ткани и хлопчатобумажные штаны, но юный лорд, готовый занять место в картинной галерее Фэроукса среди своих хмурых предков. Он пытался придать лицу присущее им выражение строгости и властности так, что Вэс, наконец заметив это, грубовато поинтересовался: – Что за дьявол, сынок? Тебе не нравится камзол? – Очень нравится, папа, – ухмыльнулся Гай. – Я просто пытался придать себе значительный вид… – А тебе и не надо стараться, – сказал Вэс ласково. – Ты именно так и выглядишь, и никогда не забывай этого. А теперь пошли: Зеб уже заседлал Демона… Они вместе прошли к конюшне. Массивная фигура черного жеребца неясно вырисовывалась в полумраке, его атласная шерсть блестела в свете раннего утра. Гай протянул руку и похлопал его, в ответ конь нежно ткнулся носом в его щеку. Мальчик взлетел в седло и, сидя в нем, глядел сверху вниз на отца и негра. – Вот, – неожиданно произнес Вэс, передавая ему маленький пакет, обернутый в папиросную бумагу. – Подарок для Джо Энн. Медальон из чистого золота. Думаю, ты не хотел бы, чтоб твой подарок был хуже других… – Спасибо, папа, – прошептал Гай и положил пакетик в карман. Затем, отчасти для того чтобы скрыть свои чувства, он развернул Демона и вихрем помчался к еще не растворенным воротам. – Остановись! – проревел Вэс. – Боже! Но Гай без всякого видимого усилия поднял черного жеребца, и тот взмыл ввысь в бледном рассветном воздухе, преодолев ворота с гораздо большим запасом, чем это когда-либо удавалось отцу, может быть, потому, что Гай был легче. За воротами конь опустился на землю, из-под копыт во все стороны полетели большие комья земли, и вот он уже несся по дороге мощными скачками. – Боже правый! – прошептал Вэс. – Ну уж ездить он умеет! – ликовал Зеб. – Почти как вы, масса Вэс! – Лучше, – сказал Вэс гордо. – Да и вообще мальчик уже сейчас мужчина получше, чем я.
Когда Гай остановил Демона на аллее, ведущей к Фэроуксу, почти все уже были в сборе. Килрейн, увидев Гая в безукоризненно сидящем на нем великолепном охотничьем камзоле, сердито нахмурился. Причина гнева не была ясна даже ему самому. Но все объяснялось просто: легко прощать тому, кто был несправедлив к нам, но те, кого мы сами обидели, одним своим существованием напоминают об этом, причиняя боль самой незащищенной части нашего естества – самоуважению. – Скажи пожалуйста! – произнес он насмешливо. – Разодет, как джентльмен, и верхом на Демоне. Всякий подумает… Гай подъехал на черном жеребце поближе к Килрейну. – Что же всякий подумает, Кил? – спросил он холодно. – Слушайте, вы двое! – обратилась к ним Джо Энн. – Я не хочу, чтобы здесь ссорились! А тем более в мой день рождения. Ведите себя прилично! Юноши утихли, но продолжали неприязненно поглядывать друг на друга. Обстановку разрядил сигнал охотничьего горна, сзывающего свору, – это главный егерь появился со стороны псарни в гуще бросающихся друг на друга, оглушительно лающих коротконогих гончих. За ними подали голос, заливаясь ликующим лаем, более рослые английские паратые гончие для охоты на лис. Следом, привстав в стременах, ехали два всадника, свет отражался от их серебряных горнов, звуки которых чисто и протяжно разносились над холмом и лесом, отдаваясь вдалеке эхом, слабым и печальным. Теперь все двигались медленной чередой – мужчины и женщины, впереди Джеральд с Речел, следом за ними по двое – остальные. Паратые затихли, обнюхивая землю, и, развернувшись веером, рыскали по лесу; коротконогие гончие лихорадочно лаяли и натягивали поводки; всадники двигались медленно и тихо; горны трубили время от времени, сверкая серебром в лучах утреннего солнца. Затем гончие подали голос: их лай разнесся далеко вокруг, колокольчики вызванивали на ветру свою древнюю погребальную песнь погони и смерти, а всадники теперь подались вперед в седлах, пуская в ход кнут и шпоры; они безмолвно неслись напрямик по вспаханному полю, лошади порезвее умчались вперед в перестуке копыт, звуках горна, тявканье коротконогих гончих и отдаленном лае паратых. Все это очень волновало Гая. Он чувствовал, как поддается магии происходящего, и это нельзя было свести просто к спорту: это была высокая драма, блестящее зрелище, неминуемая трагедия, языческая и варварская, принесение в жертву маленького пушистого зверька, жестокость, облеченная в музыку и великолепие, величественная церемония в честь древних кровавых богов. Когда он подоспел, все уже было кончено. Лисица не выдержала жестокой травли, и Гай, привстав в седле, отогнал кнутом свирепых маленьких преследователей, а потом поднял с земли и перекинул через седло изорванную и изломанную собаками тушку. Другие охотники подъехали к Гаю и окружили кольцом. Не проронив ни слова, Джеральд передал ему обтянутую кожей фляжку с виски – это напоминало обряд посвящения в рыцари и было признанием того, что мальчик стал теперь мужчиной. Когда Гай поднес флягу к губам, онзаметил краем глаза, как вспыхнуло, а потом потемнело от гнева лицо Килрейна. Чувствуя, как обжигает глотку огненная жидкость, он думал с холодным спокойствием: «Хорошо же, ублюдок. Это только начало. Тебе это еще станет поперек горла. Я тебе все припомню: и Фиби, и искалеченную ради спасения твоей шкуры руку, и этот твой взгляд…» Они медленно двинулись назад через лес, Джо Энн ехала рядом с Гаем на резвой серой кобылке, глядя на него с нескрываемым обожанием. – После завтрака – скачки с препятствиями. – Ты опять будешь на Демоне или твой конюх приведет Пега? – На Демоне. Хочу поберечь Пега для второй половины дня. Кофе, наверно, горячий и вкусный. Я бы выпил немного… Кофе был вкусным. Как и гречишные оладьи, плавающие золотистой горкой в сиропе из тростникового сахара и растопленном масле, и сочные колбасы, кольцами лежащие на блюде. Гай набросился на еду с откровенным аппетитом здоровой юности, но вскоре заметил, что Килрейн едва прикоснулся к кушаньям. «Можешь голодать, – подумал он мрачно, – наверно, твой зоб и без того набит. Но дождись скачек, парень, только дождись». Маршрут скачек изобиловал многочисленными препятствиями: приходилось преодолевать поваленные деревья, канавы, крутые обрывы, с трудом пробираться сквозь лесные заросли, где низко висящие ветви легко могли вышибить из седла неосторожного всадника. Победить, без всякого сомнения, мог только лучший из двадцати пяти юношей, выстроившихся у стартового столба, да еще на самой лучшей лошади в придачу. Гай небрежно сидел в седле, всем своим видом показывая, что он спокоен и уверен в успехе, и ждал, когда Джеральд вскинет вверх один из своих дуэльных пистолетов, который он держал наготове, глядя на стрелки часов. Пистолет подпрыгнул в его руке, звук выстрела был удивительно тихим. Сжимая коленями бока Демона, Гай почему-то невольно вспомнил о деревянной пороховнице, которую вырезал Джерри: она была намного меньше серебряной. Должно быть, использует ее, заряжая пистолеты. А пистолет издает такой звук, как будто его недозарядили. Но все это было мгновенно забыто, когда Демон мощно и плавно рванул с места и скоро вырвался вперед. Не отставал только Килрейн на крупном чалом жеребце: они вдвоем так и неслись рядом к первому препятствию, белому заборчику из жердей, воткнутых у края ручья. Они оба одним длинным прыжком легко преодолели этот фальшивый забор и ручей позади него и помчались к гигантскому упавшему дубу, слыша плеск воды сзади, – видно, кто-то из всадников не сумел перемахнуть через ручей, – а вслед за тем – пронзительный визг раненой лошади: так кричит женщина от острой боли. Заборчики из жердей между Фэроуксом и Мэллори-хиллом были пустяком: он брал такие препятствия десятки раз. Но одно место было труднопроходимо: заросли камыша, достигавшие высоты шести-семи футов, и за ними – крутой обрыв с руслом высохшего ручья внизу, поэтому прыжок, который вначале вроде бы не представлял большой сложности даже для посредственного наездника, таил в себе непредвиденную опасность, и всадник в самой высокой точке дугообразной траектории своего полета вдруг с ужасом обнаруживал, что прямо под ним не зеленый дерн, готовый гостеприимно принять копыта его лошади, а зияющая пустота в пятнадцать-двадцать футов, на дне которой – камни вперемешку с песком. Лошадь и всадник уже не могли изменить крутую дугу своего полета на более пологую, – а ее-то и требовал прыжок, – и через несколько долгих, как вечность, секунд падали на камни и оставались там лежать, пока всадника не уносили с переломанными костями, а лошадь не пристреливали. Прыжок через заросли камыша не был обязательным. Помня о юности и неопытности кое-кого из участников, Джеральд Фолкс предлагал на выбор еще один маршрут, который пересекал русло высохшего ручья на полмили выше по течению. Но ни один из тех, кто предпочтет второй маршрут, не выиграет скачки – это Гай знал наверняка. Гай не боялся самого прыжка: и он, и Килрейн, и полдюжины других участников скачек преодолевали и не такие преграды. Его беспокоило, отличит ли он именно эти камышовые заросли от других трех или четырех и не получится ли так, что он обнаружит свою ошибку уже в воздухе, когда будет поздно менять траекторию полета, по которой он направит Демона. «Придется в любом случае использовать широкий прыжок, – твердо решил он. – Если камыши немного поцарапают брюхо Демону, это не причинит ему большого вреда, а вот если он переломает себе ноги, папа ему этого не простит. Но не трусь, парень!.. Вперед и вверх – и все будет в порядке…» Они сразу же оставили всех далеко позади. Борьба за первенство шла между ним и Килрейном. Он знал, что так будет: Килрейн Мэллори был превосходным наездником, а все его недостатки здесь не играли никакой роли. Сейчас вперед вырвался Гай. Он обернулся и взглянул на Килрейна. Еще не настало время уходить в отрыв от юного Мэллори. Слишком рано было давать предельную нагрузку скакуну, даже такому выносливому, как Демон. Он оглянулся и сразу понял; что его опасения вполне оправданны: Кил явно сдерживал своего чалого, пропуская вперед Гая, который, вновь повернувшись, увидел перед собой камышовые заросли – первые по счету. «Каков умница, – мрачно подумал он. – Видно, хочет посмотреть, как я преодолею эти камыши, ведь он знает их лучше меня. Уж три раза выигрывал скачки. Нет, он, наверно, рассчитывает увидеть, как я сломаю себе шею, не сумев воспользоваться его опытом. А я его одурачу: буду преодолевать эти препятствия широким прыжком с пологой траекторией, слегка касаясь верхушек. А уж когда доберусь до самого опасного из них…» Он поднял Демона вверх у самого препятствия, так что пролетел, задевая верхушки камышей, и опустился на землю в считанных ярдах от преграды. Так же разделался Гай и со вторым препятствием, а приблизившись к третьему, сразу понял: вот оно, хотя и не смог бы объяснить, откуда взялась эта уверенность, – выглядело оно точно так же, как и два предыдущих. В первый раз за все скачки он вонзил шпоры в бока Демона и понесся к преграде, а затем взмыл ввысь, испытывая то странное чувство возбуждения и одновременно спокойствия, которое ощущает человек, понимающий, что с самого начала делает все правильно, красиво, ловко. Камышовые заросли проплыли под брюхом Демона, далеко внизу осталось высохшее русло ручья, желтое от лучей солнца; вот уже с сонной медлительностью начало приближаться зеленое пятно противоположного берега, и вот копыта Демона коснулись земли – они были одни на другой стороне ручья… Оглянувшись назад, Гай увидел, что Килрейн совершил прыжок с такой же легкостью, как и он. Оставшаяся часть маршрута не представляла сложности: единственное, что от него требовалось теперь, – держать коня в узде, и это было делом нехитрым с такой лошадью, как Демон. И все же чалый Килрейна был удивительно быстр. Он отставал от Демона на каких-то пол-ярда. Но, когда они оказались на финишной прямой, на том же участке, по которому шла гонка вначале, перескочили через поваленный дуб и приблизились к краю ручья, Килрейн, без устали колошматя чалого рукоятью плети, внезапно вырвался вперед. Потом, привстав в седле, он махнул плетью вниз и назад, попав Демону по глазам, так что огромный черный жеребец отпрянул, поднялся на дыбы, молотя копытами воздух, попятился в сторону и тяжело рухнул, а Гай, в распоряжении которого оставалась какая-то доля мгновения, успел вытащить левую ногу из стремени до того, как жеребец неминуемо раздавил бы ее всем своим весом, и то ли упал, то ли выкатился из-под Демона. Падение ошеломило его. Поднявшись и обнаружив, что Демон снова на ногах и не ранен, Гай вновь метнулся в седло и устремился за Килрейном. Конечно, было уже поздно, но он пересек линию финиша всего на два корпуса позади чалого. Подъехав к Килрейну, Гай взглянул на него не проронив ни слова. – В чем дело, парень? – усмехнулся Килрейн. – Твоя кляча что, на ногах уже не держится? – Погоди, – ответил Гай. – Мы с тобой позже разберемся, Кил. – Сказав это, он отъехал прочь. До самого конца состязаний Гая не оставляло чувство холодной ярости, и, видя это, все понимали: у них нет ни единого шанса. Он легко выиграл гусиную забаву, стремительно вскакивая на Пега, с головокружительной скоростью настигая соперников, вовремя убирая голову, чтобы избежать столкновения с гусем, подвешенным за ноги над тропинкой, хотя до этого старая птица сумела выбить из седла, к их стыду, четырех всадников, включая Килрейна. Затем состязались в искусстве верховой езды, и Гай демонстрировал аллюр своего скакуна, безукоризненно запрыгивая в круг, без труда преодолевая близко расположенные барьеры, даже не задев ни одного из них, не говоря уж о том, чтобы сбить, и наконец самое трудное – состязание с кольцами, когда всадник, мчась на полном скаку, продевает пику через двенадцать подвешенных на веревках колец подряд. Он остановил Пегаса и, как бы салютуя своей победе, скинул все двенадцать колец на колени Джо Энн. Единственный из участников, он не проиграл вчистую ни одного вида состязаний и, если бы не скачки с препятствиями, набрал бы максимальное количество очков. – Везет же тебе! – сказал Килрейн. – Просто какая-то негритянская удача! Ладно, подождем до следующего года, тогда уж я… – Погоди, Кил, – мрачно проговорил Гай. – Вот закончится праздник… – Леди и джентльмены! – провозгласил Джеральд Фолкс. – А сейчас состоится церемония чествования нового короля! После этого подадут угощение. Дети захлопали в ладоши. Гай, щеки которого стали пунцовыми от смущения, соскочил с серого жеребца и приблизился к большому креслу, покрытому белой тканью, – оно служило Джо Энн троном. Улыбаясь, девочка встала, ее светлые кудри венчала корона из золоченой бумаги. Каждый миг этого спектакля доставлял ей огромное наслаждение. – На колени! – властно приказала она. – На колени, сэр Гай, мой благородный и безупречный рыцарь! Гай неловко опустился на колени на краю дощатой платформы, служившей подножием трона. Джеральд вручил дочери деревянный меч, и Джо Энн опустила его на плечо Гая с такой силой, что он едва не упал. Толпа взорвалась смехом. Тогда Джо Энн взяла еще одну бумажную корону и водрузила на его темноволосую голову. – Встаньте, король Гай Первый! – радостно прокричала она. – Встаньте, Ваше Величество, и поприветствуйте своих подданных. Люди, приветствуйте Его Королевское Величество, короля Гая Первого, моего сеньора! Потом она поцеловала его, но не в лоб, как того требовал обычай, а в губы. «Опять как на столб налетел», – ухмыльнулся Гай про себя. И тут он увидел, как изумленно взглянули друг на друга Джерри и Речел. «Далековато ты зашла в этот раз, Джо, крошка», – подумал он. Потом появились негры с мороженым и пирогом. Он пошарил в кармане и извлек маленький сверток. – Вот, – произнес он хрипло. – Это для тебя. – О, Гай! – выдохнула она, разрывая обертку тонкими пальчиками, и потом еще раз, тише, когда развернула сверток: – О, Гай! – Ее глаза блестели от прихлынувших слез. – В чем дело? – удивленно спросил Гай. – Он… такой красивый. Я буду носить его всегда, до самой смерти. И пусть меня похоронят вместе с ним. Гай, милый, ведь это же залог нашей любви! Пока смерть нас не разлучит. А теперь надень его на меня. Гай надел маленький золотой медальон ей на шею, но, хоть убей, никак не мог застегнуть цепочку. Его пальцы стали слишком грубыми от трудов и охоты. В конце концов, ей самой пришлось это сделать. Затем внезапно, повинуясь порыву, она наклонилась и поцеловала его в щеку. Джеральд Фолкс сердито покачал головой. – Это дитя, – сказал он жене, – чересчур быстро взрослеет! – Или же она – Фолкс целиком и полностью, – сухо сказала Речел. – Уж и не знаю, что хуже… Наконец все закончилось, пироги были уничтожены до последней крошки, мороженое исчезло, тарелки были такими чистыми, что тетушка Бекки клялась, что их и мыть не надо, а гости один за другим покидали Фэроукс. Увидав, что Килрейн направляется к коновязи в компании нескольких юношей, Гай поднялся с трона и быстро пошел за ними. Коновязь была за углом дома, вне поля зрения оставшихся гостей, и это было, пожалуй, кстати.
Килрейн уже занес одну ногу в стремя своей чалой лошади, когда Гай настиг его. – Кил, – сказал он тихо, – мне сдается, нам с тобой надо свести кое-какие счеты… – Да брось ты, Гай! – огрызнулся Килрейн. – Ведь ты выиграл, в конце концов, так что тебе жаловаться? – Речь идет не о скачках, – сказал Гай. – И даже не о том, что ты пошел на мошенничество, чтобы победить. Это ничего не меняет. Ты ведь всегда был лжецом, мошенником и трусом. Даже не в том дело, что ты распустил свой язык сегодня. Но вот Фиби, Кил… Думаешь, я так быстро это забуду? – Плевать я хотел на то, что ты помнишь, а что забыл, Гай. Эта цветная девчонка была моей собственностью, и я был вправе делать с ней все, что хотел. Скажу больше, – Килрейн посмотрел по сторонам, явно рассчитывая на одобрение своих приятелей, он был из тех, чье мужество подстегивает поддержка толпы, – не вижу причины, почему я должен здесь стоять и терпеть нравоучения от сынка надсмотрщика, да еще и горной швали в придачу. Гай смотрел на него внимательно, спокойно и серьезно. – А зачем тебе терпеть, Кил? – спросил он не повышая голоса. – Не нужно тебе этого терпеть, и этого тоже! И пощечина обожгла лицо Килрейна. – Ах ты… – взревел Килрейн и рванулся вперед. Гай слегка отступил назад, лицо его было по-прежнему холодно и спокойно. – Я не ставил себе целью просто отлупить тебя за все, что ты здесь наболтал о горной швали. Но тебя ударили при свидетелях, и я хотел бы знать, что ты намерен предпринять в ответ на это. Килрейн медлил, лицо его побелело. Затем он внезапно напрягся. В глазах его появилась усмешка: – Мы будем драться с тобой на дуэли. Хотя я мог бы, принимая в расчет твое происхождение, приказать своим неграм отдубасить тебя палками. Только это ничему тебя не научит, болвана эдакого. Я собираюсь проучить тебя по-настоящему, раз и навсегда… – Когда? – спросил Гай. – Примерно через час. На опушке леса, там, где кончаются наши земли. У тебя есть секундант? Вперед вышел Тайр Вильсон. Он, как и многие из присутствующих мальчиков, немало пострадал от высокомерной наглости Килрейна. – Я бы хотел просить тебя оказать мне такую честь, Гай, – сказал он. – Хорошо, – сказал Гай. – Спасибо, Тайр. – Не стоит благодарности. Я рад этому. – А ты, Боб, – сказал Килрейн, – будешь моим секундантом. Согласен? – Ладно, – ответил Боб Диксон. – И еще одно, – медленно проговорил Килрейн, смакуя слова. – Поскольку мне нанесли оскорбление, я обладаю правом выбора оружия. И я выбираю… Все ждали, глядя на него. – …рапиры! – торжественно провозгласил Килрейн. – Ах ты, ублюдок! – вырвалось у Тайра Вильсона. – Ты ведь знаешь, какой хороший стрелок Гай. И хотя ты и сам стреляешь ничуть не хуже, ты не хочешь честной схватки, чтобы дать ему шанс. Проклятье, Кил, я буду секундантом на дуэли, но не на экзекуции! Гай, наверно, рапиру и в руках-то никогда не держал! – Он всегда может извиниться. И я даже приму его извинения. Ведь проткнуть человека – дело нешуточное. Все перевели взгляд на потемневшее лицо Гая. Он медленно покачал головой. – Нет, Кил, – сказал он. – Я не буду просить прощения. Так, значит, через час? – Да, – ответил Килрейн Мэллори. У Гая не было ни одного шанса, и он знал это. Получасовой урок фехтования, преподанный ему Тайром Вильсоном, – рапиры были взяты под надуманным предлогом в Фэроуксе – стал тому красноречивым свидетельством. Несмотря на преимущество Гая в росте и длине рук, Тайр мог нанести ему столько уколов, сколько хотел, а Килрейн был – и все это знали – лучшим фехтовальщиком среди сыновей плантаторов: здесь Тайр ему и в подметки не годился.
Гай ждал в назначенном месте, и, когда пришел Килрейн, оба секунданта предприняли еще одну, последнюю попытку. – Извинись, Гай, – взмолился юный Диксон. – Тебя от этого не убудет. Мы и так знаем, что ты не трус. – Слушай, Гай, – Тайр Вильсон почти плакал, – есть большая разница между трусом и дураком. А ты ведешь себя как надутый, законченный дурак! – Нет, – тихо ответил Гай. – Ну, тогда к барьеру! – рассмеялся Килрейн. Но, к своему величайшему удивлению, он был отброшен назад яростной атакой Гая. Выпады, резкие удары клинка Гая загнали его на опушку леса. Это был такой отчаянный натиск, что Килрейну потребовалось целых пять минут, чтобы осознать неловкость, неумелость этой атаки. А когда он понял это, все закончилось почти сразу же. Килрейн парировал en terce*["908], еще раз парировал en quince*["909] с силой отбив рапиру Гая. Затем нанес жалящий riposte*["910], низко пригнувшись, а потом выпрямился – и вот уже рапира направлена в сердце Гая. Но Гай обладал глазомером и ловкостью лесного человека, и именно это спасло ему жизнь: он парировал удар, хотя слишком поздно и не полностью, так что острие рапиры распороло его правое плечо почти до кости, сделав глубокий разрез длиной в десять дюймов и широко распахнув кровоточащую плоть. У них не было ни бинтов, ни доктора, и никто из юношей не видел раньше так много крови. – Ах ты, ублюдок! – кричал Тайр плача. – Ах ты, вонючий кровавый хорек! Ты мне еще за это ответишь! Я тебе обещаю… – Нет, – сказал Гай устало. – Не надо, Тайр. Это был честный бой, и я проиграл. А теперь не будет ли кто-нибудь из джентльменов столь любезен, чтобы пожертвовать для меня полу своей рубахи? Они опустились на колени рядом с ним, чтобы перебинтовать рану полосами ткани, оторванными от рубашек. Кровь за считанные секунды просочилась сквозь эту неумелую повязку. Килрейн стоял рядом, его лицо было мертвенно-бледным. – Боже мой, Гай! – прошептал он. И, к своему величайшему изумлению, Гай увидел, что Килрейн плачет. – Помоги мне, Кил, – попросил он. Килрейн при помощи других мальчиков поднял его на ноги. Потом перекинул левую руку Гая через свое плечо. – Прости, Гай, – прошептал он. – Мне очень жаль, что так получилось. Я только хотел подколоть тебя немного. И прямо сейчас при вас, ребята, я хочу попросить прощения… – Все в порядке, Кил, – сказал Гай. – Принеси мою куртку, Тайр. – Отведите его домой, – сказал Килрейн. – Папа убьет меня за это: рана тяжелая… Ты, Боб, поезжай за доктором. – Нет, – сказал Гай. – Не надо никаких докторов! Помогите мне надеть куртку, посадите на Пега и проводите до дома. Надо замять это дело. Не стоит поднимать лишнего шума. Бесс обо мне позаботится. Если бы еще папа подольше не знал ничего! – Послушай, Гай, – начал Боб Диксон, – тебе бы лучше… – Делай, черт побери, как я тебе сказал! – выпалил Гай. Они доехали с ним почти до порога дома надсмотрщика и беспомощно смотрели, сидя в седлах, как он распрямился и въехал во двор, как будто ничего не произошло. Когда Гай вошел, Вэс Фолкс сидел за ужином с семьей. Он сразу увидел, что сын бледен, но решил, что это из-за усталости. – Ну что, мальчик? – спросил он. – Как все прошло? – Я… я выиграл, папа, – прошептал Гай, – все, кроме скачек с препятствиями, но здесь мне не повезло. Упал, и Кил обогнал меня… – Прекрасно! – прогремел Вэс. – Я знал, что ты победишь! Дай-ка я пожму твою руку! Гай взглянул на свою бессильно свисающую правую руку. Красные ручейки медленно струились по ее тыльной стороне. – Не могу, папа, – прошептал он. – Когда падал, повредил ее. – Разреши-ка мне взглянуть на нее, сынок, – сказал Вэс обеспокоенно. – Возможно, ты сломал кисть. – Позже, папа. – Гай изобразил подобие улыбки. – Ничего, кроме сильного растяжения, а сейчас я страшно голоден. – Том! – рявкнул Вэс. – Придвинь стул брату. Не снять ли тебе эту куртку, Гай? – Не стоит, – пробормотал Гай и протянул левую руку, чтобы ухватиться за стул. Но слишком поздно. Падая в нахлынувшей на него темноте, он услышал, как закричали мать и сестра и как Том в ужасе прошептал: – Кровь, папа! Смотри, кровь! И вслед за этим могучий вопль Вэса: – Они убили его! Какой-то негодяй убил моего сына! Гай пришел в себя довольно быстро, голова его покоилась в отцовских руках. Обезумев от беспредельного горя, Вэс раскачивал его из стороны в сторону, словно баюкая, горячие слезы падали на лицо Гая. – Я до него доберусь! – ревел этот огромный человек. – Уж я доберусь до него! Вырву ему печень зубами, глаза ему выбью, и… – Папа! – отчетливо произнес Гай. – Ты меня чуть не задушил! Вэс уставился на сына. – Великий всемогущий Боже! – прошептал он. – Том! Поезжай за доктором! Мэтти! Принеси мне мамины ножницы. Надо разрезать эту куртку и снять с него. Черт, ради Бога, не стой как истукан – позови Бесс! Она умеет ухаживать за больными. Он взглянул на сына, не заботясь о слезах, катящихся по его коричневому от солнца и ветра лицу, или просто не чувствуя их: – Кто это был, сынок? Это все, что я хочу знать! Кто? Гай ласково улыбнулся отцу: – Это дело, касающееся только двоих, – сказал он. – Драка была честной. Давай не будем больше к этому возвращаться, ладно, папа?
Глава 8
На следующий день пришел доктор Вильсон и зашил рану. Она страшно болела, хотя мальчик находился в полубессознательном состоянии от принятой настойки опия и виски. Но Гай терпел боль, не проронив ни звука, губы его побелели, а по лицу было видно, что он не покоряется этому страданию, такому мучительному, что от него темнело в глазах. Отец все время сидел рядом, вцепившись в его левую руку и обливаясь потом. Оторвавшись от работы, доктор Вильсон взглянул на него. – Проклятие, Вэс, – проворчал он, – если ты собираешься упасть в обморок, лучше выйди отсюда. Можно подумать, что я накладываю швы тебе… – В обморок? – прогремел Вэс. – Я? – Да, ты. Мне раньше доводилось видеть такое, особенно при родах. Мужчины, бывало, не издавали ни стона, ни шепота, когда я вправлял им сломанные ноги или выуживал пистолетные пули из брюха, но хлопались в обморок, как зеленые девчонки, оттого, что их жены испытывали небольшую естественную боль. Все знают, как ты сходишь с ума из-за мальчишки. Послушай-ка, выйди отсюда. Сядь лучше на кухне с бутылкой. Напейся, делай все что хочешь, только уйди с моих глаз, не торчи здесь. Пришли Бесс. Она в подобном деле стоит десятка таких, как ты. – Нет, – спокойно ответил Вэс. – Я останусь, Джо. Ведь ты с его правой рукой имеешь дело, лекаришка несчастный! За тобой не проследи, так оставишь его калекой на всю жизнь! Джо Вильсон в ответ только усмехнулся. – Ну разреши мне остаться, Джо! – взмолился Вэс. – Я возьму себя в руки. – Ладно, – сказал Джо, – но если почувствуешь себя нехорошо, ради Бога, уходи! Джо Вильсон вновь склонился над раной. В комнате было тихо, слышалось прерывистое дыхание Вэса Фолкса. Наконец доктор распрямился. – Все в порядке, – сказал он. – Через несколько недель рука будет как новенькая. Может, сгибаться будет плоховато, но, когда немного заживет и он начнет ею действовать, не надо слишком уж оберегать ее, а не то она никогда не будет такой сильной, как прежде. Главная неприятность с такими ранами: рука не гнется и немного болит в сырую погоду, так что люди чрезмерно щадят ее, и в результате она так и остается больной. Дела не так уж плохи. Я вскрыл продольный мускул так, чтобы рука хорошо работала даже тогда, когда образуется рубец. Если бы такая рана прошла поперек, руку бы парализовало. Вэс, я глотну немного виски, если там что-то осталось… – А можно ли оставить его одного теперь? – засомневался Вэс. – Конечно. С ним теперь все хорошо. Нужен только отдых и хорошая пища, чтобы он окреп. Пусть Бесс заглядывает к нему ночью время от времени. Думаю, у него будет жар. Это нормально. Но, если жар будет очень сильным и он начнет бредить, пошлите за мной. Я буду дома всю эту неделю. Впрочем, с такими сильными, здоровыми парнями обычно не бывает проблем… Выздоровление, как и предсказывал доктор Вильсон, шло быстро и без осложнений. Через три недели Гай снова был на ногах, но походил скорее на свой призрак. Правая рука по-прежнему не гнулась и болела, и даже когда она вновь обрела большую часть своей прежней силы, Гай обнаружил, что, вероятно, вследствие повреждения нервных окончаний рука утратила прежнюю ловкость. Он об этом не говорил, а с тихой сосредоточенностью принялся учиться писать, есть и стрелять левой рукой, что оказалось весьма нелегким делом. Оно продвигалось медленно, но в конце концов Гай добился успеха. Но вот с чем он не мог смириться, так это с той пустотой, которая возникла в его жизни с исчезновением Кэти. Лишь только Гай смог взобраться на лошадь, он съездил на берег реки, надеясь разыскать ее. Он проявил подлинное мужество во время стычки с Килрейном, стойко и терпеливо переносил боль от раны, но, стоя здесь, на берегу Миссисипи, глядя на пустынную гладь вод, понял, что он не настолько взрослый и мужественный, чтобы сдержать слезы. Разумеется, он не удержался от того, чтобы бросить упрек отцу: лицо Вэса потемнело от стыда, и он виновато и даже отчасти правдиво, хотя эту искренность он мог позволить себе скорее благодаря старому Тэду Ричардсону, ответил сыну: – Да, верно. У меня был разговор с ее дедом. Только речь не шла о том, чтобы увезти девчонку. Мы только договорились с ним, что постараемся держать вас подальше друг от друга. Наверно, он решил, что так будет лучше. Но я тут ни при чем, мой мальчик… Эту пустоту было невозможно заполнить. Детская привязанность Джо Энн не могла возместить утрату. Разрыв между их возрастами был так велик, что его можно было измерять эрами, световыми годами… Гай, хотя и имел склонность к уединению, теперь тяготился одиночеством. И он гораздо больше тосковал по бесхитростной дружбе с Кэти, чем страдал от неутоленного зова плоти, который, если на то пошло, был не так уж и силен во время его долгого, медленного выздоровления. Гай скучал также и по обществу Килрейна, и гораздо больше, чем ожидал, но никогда бы в этом не признался. Он был слишком горд, чтобы сделать первый шаг к восстановлению их былой дружбы, а Килрейн всю осень провел со своим младшим кузеном Фитцхью Мэллори, ставшим сиротой после одной из вспышек желтой лихорадки в Нью-Орлеане, во время которой погибли брат Алана Мэллори Тимоти, один из самых предприимчивых комиссионеров по продаже хлопка в Креснт-сити, и его жена, оставив девятилетнего Фитца на попечение дяди. Но помимо внезапно обретенного младшего двоюродного брата была и другая причина, сдерживавшая Килрейна, – стыд и страх. Доведенный до крайности одиночества, Гай пытался даже как-то наладить отношения со старшим братом, что оказалось и вовсе пустой затеей – Гай понял это уже через неделю. «Бедняга Том, – думал он. – Полное ничтожество. Видно, придется всю жизнь заботиться о нем и Мэтти». Итак, Гай вернулся к своим былым привычкам, отчасти из-за слабости, вызванной ранением и делавшей верховую езду и охоту весьма утомительными. Он, как и раньше, проводил долгие часы в библиотеке Фэроукса, читая книги из превосходной коллекции, собранной дедом. Он мог теперь по-настоящему оценить их, изведав уже и страсть, и печаль; это помогало понимать чувства, изложенные на бумаге мастерами слова. Для каждого юного мужчины наступает пора дать волю уму и воображению, если, конечно, он обладает этими качествами от рождения. А Гай Фолкс, который статью, кровью, плотью и духом пошел в своего деда, обладал ими в гораздо большей мере, чем кто-либо из Фолксов до него. Он проглатывал книги с жадностью вечно голодного человека, и что бы он ни читал – все становилось частью его самого, материалом для его роста. Когда Хоуп Брэнвелл приехала из Бостона для занятий с Джо Энн и Гаем, она обнаружила в нем удивительные перемены. Он парил в высях латинского и греческого, как голодный орел, а когда наткнулся на французские и испанские романы, которыми наслаждалась вторая жена деда, попросил Хоуп обучить его и этим языкам – то, что она не знала их, явилось для Гая сильным разочарованием. Но он был не из тех, кто легко смиряется с поражением. Случайно узнав, что Тайр Вильсон собирается на две недели в гости к родственникам в Нью-Орлеан, он поручил мальчику купить ему словари и грамматики этих двух языков. К весне он мог уже сносно читать на обоих, хотя, к сожалению, не имел ни малейшего представления, как произносить слова. В ту же зиму ему удалось также несколько улучшить свою речь и манеры, за образец при этом он взял Джеральда Фолкса – несмотря на свое презрение к Джерри, он признавал его достоинства, манерность же дяди ему не грозила – надежной защитой от нее была его здоровая мужественность. Джерри в совершенстве обладал тем, что в обществе называется хорошими манерами: он получил образование на Севере, учился и в Англии, и ему был присущ подлинный лоск, о котором немало судачили другие плантаторы, тщетно воображая, что он есть и у них. Трудно сказать, было ли это случайностью или чем-то большим, чем просто совпадение, но именно эту зиму 1834 – 1835 годов Гай Фолкс посвятил напряженному умственному труду. Он как будто чувствовал приближение времени, когда ему потребуется вся сила его ума и духа. И, хотя он этого еще не знал, такое время уже стояло на пороге. До роковой весны 1835 года было рукой подать. Он сидел на сером жеребце, вместе с отцом наблюдая за работой негров, когда заметил, что к ним едет Джеральд. Как всегда в таких случаях, Гай весь напрягся, холодное чувство ужаса коснулось его спины, словно рука призрака. Это был именно ужас, а не страх. Его презрение к дяде было велико. Он и на мгновение бы не поверил, что Джерри может предпринять шаг, неизбежный для всякого человека чести, попавшего в его положение: нет, Джерри никогда не осмелится вызвать на дуэль Вэса. Даже если бы дело до этого дошло, Гай непоколебимо верил в умение отца постоять за себя. То, что приводило его в ужас, было гораздо хуже: Джеральд, законный владелец Фэроукса, мог просто прогнать отца в любое время, как всякого своего работника. А Вэс не скопил денег, да и не мог, будучи таким, каким он был – человеком щедрым, широкой натурой: у него в кармане доллар и получаса не задерживался. Такой поворот событий означал бы для них возвращение на холмы, а теперь, когда Гай отведал лучшей жизни, даже мысль об этом была для него совершенно невыносима. Он сидел в седле, внимательно наблюдая за Джерри, – Вэс еще не заметил, как кузен подъехал к ним. И здесь, всего лишь на мгновение, Гай уловил взгляд Джерри, откровенный, лишенный всякого притворства. В его глазах горела неприкрытая ненависть, но она была смешана еще с чем-то, что мальчик не мог сразу определить: страх конечно, но и еще что-то – смесь ощущения собственного ничтожества и уважения к Вэсу, даже какого-то чисто женского восхищения им. «Итак, – подумал Гай, – ты что-то знаешь. Знаешь, но закрываешь глаза и уши: если бы ты имел доказательства, то вряд ли бы выдержал это. Если бы была полная уверенность, тебе бы пришлось что-то делать, а ты не осмеливаешься, не хочешь, чтоб тебя заставили изображать мужчину, верно, Джерри? У тебя не хватит мужества отвести взгляд от дула пистолета и посмотреть моему отцу прямо в глаза. Мне жаль тебя. Наверно, это адская мука – лежать ночью, зная, что ее нет дома, прекрасно понимая, где она и чем занимается. Надеюсь, что никогда не буду так трястись над своей жизнью. Смешно, но единственная возможность для мужчины жить полной мерой – всегда быть готовым умереть, прежде чем покроешь себя позором…» – Вэс, – сказал Джеральд легко, приветливо, – не уступишь ли мне мальчика на некоторое время? Я мог бы дать ему постоянную работу, так что у него всегда было бы немного денег на карманные расходы… – А что за работа, Джерри? – спросил Вэс. – Не слишком трудная. На прошлой неделе у меня был разговор в Натчезе с капитаном Моррисом из пароходной компании, что обслуживает линию на Цинциннати. Капитан сказал, что компании было бы выгодно, если б мы открыли топливную станцию в Фэроуксе. Я подумал, что Гай мог бы справиться с этим. Сначала ему надо будет присматривать за строительством пристани за пределами старого участка, – ну ты знаешь, там, где твой отец изменил русло реки, заставив ее течь мимо Фэроукса, – а потом следить, чтобы артель негров работала весь день, пилила бы лес для лодок и складывала его. Мне кажется, Гай вполне взрослый для такой работы. А десять процентов выручки он сможет оставлять себе. Что ты на это скажешь? Вэс Фолкс повернулся к сыну. – А что ты скажешь, мальчик? – тихо спросил он. – Я бы хотел попробовать, если ты не возражаешь, папа. – Отлично! – весело воскликнул Джерри. – Гай, поедем со мной. Мы наберем артель с южного участка, снабдим их топорами и пилами, а потом я возьму тебя на старый участок и покажу, где я хочу построить пристань. Затем полностью доверю тебе руководство. Ничто так не помогает становлению характера, как возложенная на человека ответственность, – так, бывало, говаривал твой дедушка. – Хорошо, – сказал Гай. – Пока, папа… – Пока, – ответил Вэс угрюмо. – Спасибо, Джерри… – Не стоит благодарности. Гай ехал с Джерри впереди, за ними вереницей брели негры, их было человек десять. Мальчик не знал, что имел в виду его дядя, говоря о старом участке, но не хотел спрашивать. Он инстинктивно избегал слишком длинных разговоров, а кроме того, через несколько минут он и сам все узнает. Внезапно Гай понял, что они движутся как раз в сторону старой хижины в вырубленной части леса. Он нахмурился, потом пожал плечами: Вэс сейчас был в поле с неграми, Речел, скорее всего, в Фэроуксе. Джерри, конечно, знал о существовании хижины, а поскольку в ней не было ничего, что могло бы привлечь чье-то внимание… Он ехал и думал: «Хорошо бы, чтоб папа бросил ее. Мужчине не следует ввязываться в историю, из которой ничего хорошего не может выйти. Хотя я не вправе так говорить. А вышло бы что-нибудь хорошее у меня с Кэти? Если бы даже папа все не разрушил, наверняка случилось бы еще что-то. Ребенок, например. Скверная вышла бы штука. Пришлось бы тогда на ней жениться, но, видит Бог, не хотелось бы связывать себя с женщиной, которая не умеет даже прочитать или написать свое имя…» Внезапно он остановился, так резко дернув поводья, что Пегас почти встал на дыбы. Он искоса взглянул на Джерри, пытаясь понять, не заметил ли и он тоже. Но лицо дяди было бесстрастно и спокойно. Гай пришпорил Пега, опередив Джеральда. Да, он не ошибся. Вспышка, которую он заметил, была отражением солнечного света от оконного стекла. А на окнах – Боже правый! – висели занавески. На подоконниках стояли горшки с цветами. «Женщины, – охнул он про себя. – Боже милосердный, ох уж эти женщины!» Он развернул Пега и легким галопом подъехал к Джеральду. – Дядя Джерри, вы собираетесь строить пристань на Ниггерхедской косе? – Да, – ответил Джерри. – А что? – Не думаю, что это хорошее место, – быстро сказал Гай. – Во время последнего паводка река смыла почти половину этой косы, а в следующий раз, может, и всю ее смоет. Вы же знаете, что это за река, – сами мне рассказывали, как дедушка сделал новое русло, прорыв неглубокий канал накануне паводка, а уж эта чертова река сама нашла дорогу к его двери… – Так, так… – задумчиво протянул Джерри. – И что же ты предлагаешь, Гай? – Плам Блафф. Я знаю, что это утес – место высокое, но именно этим оно и хорошо. Мы можем поставить причал немного наклонно, и тогда даже самый сильный паводок не сможет смыть его… Джеральд задумался. Он высоко ценил сметку Гая. И надо сказать, что его ненависть к Вэсу Фолксу (а он имел серьезный повод для такого чувства) не распространялась на его сына. Джеральд даже любил Гая, видя в мальчике силу и мужество, подобающие будущему хозяину Фэроукса. Он давно уже решил не препятствовать дружбе Джо Энн с Гаем, потому что ясно понимал: среди сыновей окрестных плантаторов ему не было равных. – Хорошо, – добродушно сказал Джеральд. – Но сначала надо взглянуть на Плам Блафф. Поезжай впереди, Гай. Мальчик круто развернул лошадь, думая об одном: прочь от хижины. Негры вытянулись в цепочку между ним и Джерри. Гай был уже готов вздохнуть с облегчением, но прежде оглянулся. И тотчас пришпорил своего скакуна, вихрем помчавшись к хижине; один из негров нагнулся к окну, заглядывая внутрь и прикрывая глаза рукой от яркого света. Гай привстал в стременах, поднял плеть и изо всех сил опустил ее на спину негра, как ножом располосовав рубашку из грубой ткани. Негр упал, отчаянно завыв. – Масса Гай! – стонал он. – Боже правый, масса Гай, я просто… Гай хлестнул плетью еще раз, попав по щеке негра. – Пошел вон отсюда! На место, безмозглый черный ублюдок! – Да, сэр, масса Гай, – угрюмо отозвался негр. – Мне показалось, я видел свет внутри и… – Ты, – сказал Гай с холодной яростью, – ничего там не видел. А если раскроешь рот и разболтаешь массе Джерри или еще кому-нибудь об этой хижине, то твою черную тушу найдут в реке, ты понял меня? – Да, сэр, масса Гай, – ответил негр. Но в голосе его прозвучала нотка, которая не понравилась Гаю. Нечто большее даже, чем возмущение, – легкий оттенок вызова, что ли, но мальчик не был в этом уверен. – Что он хотел сделать? – спросил Джерри Гая, когда тот поравнялся с ним. – Ничего особенного, – проворчал Гай. – Отстал от всех, наверно, высматривал, что бы стянуть. Но в этой старой хижине ничего нет. В ней уже долгие годы никто не живет, насколько мне известно… – Странно, – задумчиво сказал Джерри, – но мне показалось, в ней что-то не так, как было раньше. – Я там ночевал несколько раз, когда охотился, – сказал Гай. – Немного прибрал, чтоб было уютнее. Вы, надеюсь, не возражаете? – Нисколько. Пользуйся ею, пожалуйста. Хотя, должен признаться, никогда не мог понять, что за удовольствие – убивать животных. «Если бы ты был мужчиной, ты бы понял», – подумал Гай, но вслух сказал: – Не в убийстве соль, дядя Джерри. Охота – это вроде как поединок твоего ума с инстинктами зверей, их хитростью. Я выследил сотни животных, шел за ними до самых их берлог, а потом отпускал без единого выстрела, если мяса в доме хватало. Это трудно объяснить: ты или любишь охоту, или нет – больше и добавить нечего… – Что одному впрок, другому – яд, – так, кажется, говорит пословица? Может быть, я слишком щепетилен. Предпочитаю, чтобы вместо меня убивали другие. А вот и твой утес, мальчик. Посмотрим, что ты предлагаешь сделать… В течение долгого дня Гай чувствовал снова и снова, как глаза избитого им негра словно раскаленными углями прожигают его спину. Но стоило ему оглянуться, как тот мгновенно отводил взгляд. Гай не спускал с него глаз, однако негр работал усердно и умело, пожалуй, лучше всех остальных. «Видно, не хочет, чтобы я еще раз добрался до его шкуры, – мрачно подумал Гай. – Этот ниггер расскажет Джерри о том, что видел, при первом же удобном случае. Хорошо, хоть я догадался сказать, что прибрал в хижине. Черномазый теперь может болтать сколько влезет». И все же в нем зрело какое-то трудноопределимое предчувствие, леденящее и ни на секунду не исчезающее, цепко засевшее в мозгу. Что-то было не так, как надо, где-то рядом таилась ужасная, смертельная опасность, но в чем она заключалась, он никак не мог понять. «Негр, конечно, скажет, но это не так уж страшно. Главное – предупредить папу, чтоб он не ходил больше в хижину: Джерри, возможно, установил за ней наблюдение. И убрать эти проклятые цветочные горшки и занавески. Джерри без труда все поймет, если найдет их там. Это надо будет сделать сразу после того, как он отведет негров домой сегодня вечером. Ясно как день, что Джерри сам захочет съездить посмотреть на хижину». Негры уложили на дно реки, от берега до глубины, чуть меньшей человеческого роста, решетку из связанных друг с другом жердей. Затем начали укладывать на нее стволы деревьев, все более и более длинные, пока они не сравнялись с верхней частью утеса. Завтра скрепят крайние бревна с концами жердей, а сверху сделают настил из тяжелых, грубо обтесанных досок, положенных крест-накрест. И в самом конце работы на глубине осадки парохода им надо забить две сваи, которые будут поддерживать причал. Забивать их в речное дно придется с плота. Только сначала надо построить сам плот. На это уйдет еще два-три дня, прикинул Гай. Он имел представление о том, как строятся причалы, ведь в прошлом году, когда зыбучие пески вывели из строя причал у Мэллори-хилл, перегородив путь к нему многотонной массой, он помогал Тому Стивенсу и его сыну Брэду, надсмотрщикам Мэллори, строить новый, выше по течению, в более глубоком месте. Том Стивенс, сын Уилла, друга Эштона Фолкса, надсмотрщика на его плантациях, был прекрасным инженером-практиком, и знания его были почерпнуты отнюдь не из книг. И теперь, когда работа началась, Гай вспомнил весь ход строительства. Он привел негров обратно в их лачуги, уже когда стемнело. Джерри, конечно, давно вернулся домой, убедившись, что Гай гораздо лучше справляется с делом, чем Вэс, будь он на его месте. У Гая осталась только слабая надежда на то, что Джерри не поедет мимо хижины. А то, что Джерри выберет именно эту дорогу, было маловероятно, если, конечно, он уже не заподозрил что-то неладное: ведь путь от Плам Блафф к Фэроуксу мимо хижины был кружным. Настроение у Гая было самое скверное. Он не мог решить, ехать ли сейчас домой, чтобы поговорить наедине с Вэсом и предупредить его, или возвращаться к хижине, чтобы убрать красноречивые свидетельства женского присутствия. «Лучше ехать к хижине, – решил он наконец. – Папа там не появится до наступления ночи, и я застану его дома, за ужином или немного позже, если не поспею домой к этому времени…» Путь до хижины был долгим. Когда Гай добрался до нее, то обнаружил, что двери заперты, а окна плотно закрыты. Он потратил три четверти часа, пытаясь забраться внутрь, а потом разбил оконное стекло, сорвал шторы и завернул в них цветочные горшки, затем сдернул с кровати прекрасные поплиновые простыни с гербом Фолксов и бросил их в ту же кучу. За ними последовали оловянный кофейник и тарелки из Фэроукса. Когда же Гай удостоверился, что ничего не упустил из виду, он поехал к берегу реки, связал все в узел, нагрузив его камнями, хотя цветочные горшки и сами по себе весили немало, и швырнул узел в реку, с мрачным удовлетворением наблюдая, как он погружается в залитые луннымсветом воды. Но было поздно, слишком поздно, и он знал это. Единственное, что немного успокаивало, – это мысль о том, что если отец действительно придет, то разгром, который он обнаружит в доме, послужит ему предостережением. Но поймет ли он, в чем дело? Не припишет ли все это какому-нибудь вороватому негру и не успокоится ли на мысли, что этот негр, будучи виновным, никогда ничего не скажет Джерри? И мальчик понесся галопом во весь опор через темный лес, почти не различая ям и упавших деревьев, больше полагаясь на память, чем на зрение, пока не вырвался из мрака сосен на залитые лунным светом поля, поднимая Пега в воздух над изгородями, продвигаясь все ближе и ближе к дому… Он вылетел из седла еще до того, как серый жеребец остановился; едва коснувшись земли, он уже бежал и, широко распахнув дверь, ворвался в дом, крича: – Папа! Папа! – Его здесь нет, – ответила Чэрити устало. – Он так и не приходил домой… И Гай, повернувшись, помчался назад через дверь, во двор, к лошади, услышав, как мать прокричала высоким жалобным голосом: «Подожди, ты разве не хочешь ужинать?» – и, не обращая внимания на это, совершенно не думая о голоде, усталости, забыв о сыновнем почтении, вновь вскочил в седло и выехал со двора в поля, залитые великолепным лунным светом, но показавшиеся ему серыми и безрадостными. Его мучила ужасная мысль: слишком поздно, слишком поздно, слишком поздно… Он уже там сейчас, а этот негр, возможно, все уже рассказал Джерри, и тот следит за хижиной… Джерри может выстрелить из засады – большой храбрости для этого не нужно, и ни один суд в штате… – Проклятие, Пег, быстрее! На поляне перед хижиной было очень тихо. Из разбитых окон лился розоватый свет, в камине горел огонь, скорее для освещения, чем для тепла, – ночи уже были достаточно теплыми. И он, спешившись, пересек поляну, остановился перед дверью хижины и поднял руку, чтобы постучать, но не смог, увидев их фигуры в отблесках пламени и мелькании ночных теней, соединенные в тесном объятии, и отступил назад, чувствуя глубоко внутри страшную слабость; нагота Речел показалась ему осквернением святынь, настоящим святотатством в храме его богов, и он повернулся, ослепленный слезами, и угодил прямо в руки одного из пяти или шести мужчин, сопровождавших Джеральда Фолкса в его последнем беспощадном акте мщения за поругание чести, которой он не обладал, но должен был теперь защищать, как будто она у него была. – Держите его! – тихо сказал Джерри. – Если нужно, свяжите. Остальные – за мной! Гай не сопротивлялся, стоя со связанными руками между двумя крупными мужчинами, прекрасно понимая, что теперь слишком поздно бороться, кричать, убегать. Слишком поздно для всего, кроме древней как мир драмы двух мужчин, направивших стволы пистолетов друг на друга, соединенных случайностью, нелепой трагикомедией своих претензий на честь, одинаково виновных в гордыне и безрассудстве. И вот пробил час – и у Джерри вдруг обнаружилось мужество. «Завтра, – горько подумал Гай, – Миссисипи потечет вспять – от Нью-Орлеана до Цинциннати, луна взойдет на рассвете, а звезды упадут вниз». Он видел, как люди Джеральда отошли назад, готовясь к атаке. Потом ринулись вперед – дверь проломилась внутрь, разлетевшись в щепки под пронзительные вопли Речел и громкий рев Вэса: «Кто, черт возьми…» Потом наступило долгое, показавшееся Гаю бесконечным, молчание, разорванное высоким, но достаточно спокойным голосом Джеральда Фолкса: – Джентльмены, вы видите, что у меня есть все основания подать в Верховный суд ходатайство о разводе с этой женщиной… – Ах ты, плюгавый ублюдок! – проревел Вэс. – Я переломаю твои чертовы… – Ты, Вэс, – невозмутимо продолжал Джеральд, – попал в такое положение, что вряд ли можешь угрожать. Кроме того, я полагаю, у тебя есть хоть какие-то претензии на благородство. Давай обойдемся без этих пустых угроз. Я буду ждать тебя на песчаной отмели завтра на рассвете. Ты слывешь хорошим стрелком, поэтому, надеюсь, не будешь возражать против пистолетов. Право выбора за тобой, конечно, хотя я, надо сказать, поступаю великодушно. Я знаю, что ты в отличие от меня не владеешь саблей или рапирой. Ну, что ты скажешь на это? – Я бы выбрал длинные охотничьи ножи и расстояние в три шага, – прорычал Вэс, – но ты всегда был таким изысканным, таким щеголем, что я, пожалуй, оставлю твою шкуру в целости для похорон. Пистолеты! А теперь убирайся отсюда, трусливый соглядатай, ублюдок плюгавый, дай нам одеться! – Не беспокойся! – ухмыльнулся Джерри. – Мы вас оставим в покое до утра. Одной вашей встречей больше, одной меньше – какое это имеет значение, если завтра ты за все мне заплатишь, мой дорогой кузен! Развлекайтесь, дети мои, если сможете, я благословляю вас! Он повернулся и вышел, а вслед за ним и остальные направились туда, где ждали их двое мужчин, стерегших Гая. При свете луны мальчик видел, что все смотрят на Джерри с удивлением, даже со сдержанным восхищением. Джеральд Фолкс держал себя хорошо, куда лучше, чем от него можно было ожидать. «Я, наверно, застрелю этого негра», – думал Гай с горечью. В это время к нему подошел Джерри и остальные мужчины. – Развяжите руки мальчику, – мрачно сказал Джерри, а потом обратился к Гаю: – Прости, сынок, что стал свидетелем всего этого. Но даже ты не сможешь отрицать, что справедливость на моей стороне. Гай стоял молча, не желая отвечать. – Тебе бы лучше пойти с нами, мальчик, – сказал один из мужчин беззлобно. – Нет, – прошептал Гай. – Я хочу дождаться папы. – Тебе, возможно, придется ждать очень долго, – усмехнулся мужчина. – Вряд ли, – произнес Джеральд холодно. – Они выйдут минут через десять, мне так кажется. Есть такие дела, джентльмены, которыми можно заниматься, только если на душе спокойно. Ну что, Гай? – Я остаюсь, – упрямо повторил Гай. – Очень хорошо, – мягко сказал Джеральд. – И… мне жаль, что так вышло, Гай. – Еще бы не жаль! – взорвался Гай. – Если бы вы были мужчиной, вы бы сумели удержать жену дома! А так она бегает где попало и портит жизнь людям… – Это было моей ошибкой, – холодно сказал Джеральд, – но я был вправе поступать именно так. Спокойной ночи, Гай. Гай и на этот раз не захотел отвечать. Джерри был, конечно, прав. Не прошло и десяти минут, как Вэс Фолкс вышел из хижины. Речел опиралась на его руку. Она судорожно рыдала: – Ты не должен… Вэс… не должен… не можешь… Он многие месяцы занимается стрельбой… Я видела, как он попадает в такие мишени, которых ты и разглядеть-то не сможешь… – Папа, – сказал Гай, – могу я просить чести быть твоим секундантом? – Гром и молния! – проревел Вэс. – Что, черт возьми, ты здесь делаешь? – Мы проезжали мимо хижины с неграми утром, – сказал Гай. – Я увидел стекла в окнах и цветы, ну и пришлось придумать предлог свернуть на другую дорогу, чтоб Джерри их не видел. Но увидел один из негров. Я его отогнал от окна кнутом, папа. Наверно, я совершил ошибку. Не отстегай я его, он бы и не сказал ничего Джерри. После работы я вернулся сюда, влез внутрь и убрал все, что могло бы выдать тебя, если бы Джерри пришел завтра на рассвете, как я думал… – Но Джерри опередил события, – сказал Вэс задумчиво. – Вломился храбрый, как собака, преследующая пуму. Господи, кто бы мог вообразить такое? Но почему ты сюда вернулся, мальчик? – Мама сказала, что ты не приходил домой ужинать. И я решил, что лучше предупредить тебя. Я опоздал. Прости, папа… – Гай! – прорыдала Речел. – Скажи ему, что он не должен драться на дуэли! Скажи ему, сынок, он тебя любит больше всего на свете, гораздо больше, чем меня, о Гай, ради Бога, скажи… – Нет, – бесстрастно сказал Гай. – Он должен это сделать, мэм. И не надо так за него волноваться – папа сумеет за себя постоять. Кроме того, он вовсе не вашу честь будет защищать на дуэли… – Гай! – предупреждающе воскликнул Вэс. – …потому что, как мне кажется, вы не стоите того, чтобы мужчина рисковал ради вас жизнью, – продолжал Гай невозмутимо. – Да и, наверно, никакая женщина этого не стоит… Большая рука Вэса, как молот, опустилась на плечо сына. – Проклятие! – воскликнул он. – Тебе придется за это извиниться. Гай покачал головой: – Нет, папа. Зачем мне извиняться, когда я говорю сущую правду? Ты ведь не за ее честь будешь драться. Ты будешь защищать свою собственную священную честь мужчины. И не надо на меня кричать за то, что мне не по душе твоя любовница, из-за которой мы, считай, уже лишились лучшего дома, какой у нас когда-либо был или будет, денег, которые я мог бы заработать, а завтра можем и тебя потерять… – Гай… – начал Вэс, но Речел успокаивающе тронула его за руку. – Нет, Вэс, – сказала она. – Он прав. Я всего этого не стою, не стоила, да и не буду никогда стоить… А как все это случилось у нас, он все равно не поймет. Слишком молод и… – Я достаточно взрослый, – сказал Гай спокойно. – Я не раз ночами просыпался, когда у меня все болело внутри, до того мне хотелось женщину. А когда нашел, ее у меня отняли. Но она была моей, и никто другой не имеет на нее прав. Я, наверно, больше мужчина, чем мой папа, потому что я никогда не унижусь душой и телом до того, чтобы спать с чужими женами и брать их взаймы. Не из страха, а потому что это грязь и мерзость, да к тому же я не привык таиться, красться и прятаться как ночной вор… – Гай! – В голосе Вэса прозвучала смертная мука. – Боже милосердный, мальчик, я… – Ты просто об этом не думал. Я вовсе не хочу тебя стыдить, папа. Ты – это ты, а я – это я. Мне, наверно, надо сперва узнать мир за пределами Фэроукса, а уж потом читать тебе нравоучения. Как я уже сказал, папа, я бы хотел быть твоим секундантом. – Нет, – ответил Вэс мрачно. – Не надо этого, сынок. Иди домой. Я скоро приду. – Гай, – прошептала Речел. – Гай, пожалуйста… Но он повернулся четко, по-солдатски, и направился к ожидающей его лошади. Утром он лежал в кустах у Ниггерхедской косы, в десяти ярдах от берега, глядя на песчаную отмель. Он знал, что задумал отец, потому что Вэс сказал ему: – Собираюсь слегка подстрелить его, сынок. Думал пальнуть в воздух, но он слишком хороший стрелок, чтобы дать ему шанс. Я не могу его убить – просто не имею права. И нельзя дать убить себя и оставить твою маму одну с детьми. Я хорошо владею пистолетом, лучше, чем он, да и соображаю побыстрее. Поэтому ни о чем не беспокойся… Но то, что он испытывал, было не просто беспокойство. Это было что-то неуловимое – какое-то смутное воспоминание и одновременно таящийся в глубинах сознания страх. Странное это чувство терзало его, требуя ясности, разгадки, однако он не мог вспомнить, откуда оно взялось. «Джерри слишком храбр? – спрашивал себя Гай. И сам же отвечал: – Не похоже на него. Он вовсе не храбрец по натуре, а отъявленный трус с бабьими повадками: для того, чтобы он бросил вызов папе, такому хладнокровному и мужественному, должна быть причина, которую я не могу найти, не могу вспомнить. Господи, владыка небесный, помоги мне вспомнить, пока еще не поздно…» Но было уже поздно. Немного ниже косы показались лодки и направились к песчаной отмели. Он видел лицо отца: оно было холодным и спокойным, но, к его удивлению, таким же было и лицо Джеральда – это показалось ему какой-то ужасной, пугающей нелепостью – здесь что-то было не так. И это оправдывало его беспокойство: Джерри должен был бояться бросить вызов Вэсу, а он не боялся, Джерри должен был опасаться встречи с кузеном, но страха не было видно. Что-то нарушилось самым роковым образом, но что, что? И вот они стоят на отмели лицом друг к другу. С ними доктор Вильсон и два секунданта. Он видел, как губы Джо Вильсона шевелятся, страстно призывая опомниться и остановить кровавое безрассудство, но он не мог слышать сказанного. Слова уносил ветер. Он видел, как Джерри повернулся, чтобы сказать что-то Хэнку Тауэрсу, секунданту Вэса. Услышанное, похоже, не слишком понравилось Хэнку, потому что он, в свою очередь, что-то сказал Вэсу. Тот коротко кивнул. «Нет, – заплакал Гай. – Нет, папа, – ты ни на что не должен соглашаться! Это обман, обман, говорю тебе, если б я только знал, что это, я бы…» Но Хэнк вернулся и начал заряжать пистолеты. Он положил их на сгиб руки и предложил Джерри на выбор. Тот колебался, и тогда Хэнк кивнул на один из пистолетов. Джерри взял его. Вот в чем дело, вот где был обман! Но Хэнк заряжал пистолеты, заряжал у всех на виду, – а он был преданным отцу человеком, одним из его лучших друзей, – тогда в чем, в чем же обман? Джеральд и Вэстли Фолкс теперь стояли спиной к спине, подняв вверх стволы пистолетов. Гай видел, как секунданты, двигаясь в противоположные стороны, отсчитывали шаги. Он заметил, сколько их было: двенадцать с половиной, двадцать пять ярдов. Господи Боже, да любой мало-мальски приличный стрелок на таком расстоянии никогда не промахнется! А Джеральд и отец были превосходными стрелками. Он лежал и смотрел, вцепившись в кусты с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Секунданты тем временем считали: раз – о милосердный, всемогущий Боже, помоги ему, не дай ему промахнуться, заклинаю тебя, Господи! Два – не дай промахнуться, направь его прицел, он ведь не убивает, а защищает себя, чтобы спасти свою жизнь, дом, своих… Три – Господи! Господи! Пистолет Вэса выплюнул клуб дыма, пронзенный вспышкой пламени, звук выстрела был до странности тих – Джерри развернуло на пол-оборота, но каким-то чудом он остался стоять на месте, а затем распрямился и поднял пистолет, спокойно и тщательно целясь, как будто у него в запасе была вечность, пока Гай не услышал свой собственный голос, кричавший: – Стреляй, прокляни тебя Бог, стреляй скорее и кончай с этим! О господи Боже, не дай ему, не дай… Вырвалось пламя в клубе дыма, а затем раздался звук, короткий и резкий, как будто кто-то переломил доску; он заглушил голос мальчика, а Вэс стоял на месте, подобно дубу, не двигаясь, долго-долго, так долго, что Гай выдохнул: «О, благодарю тебя, Господи», но в этот миг пистолет выскользнул из ослабевших пальцев Вэса, а его большие руки дернулись вверх и вцепились в грудь. Через считанные секунды к нему уже мчался доктор Вильсон: он схватил его за широкие плечи и осторожно опустил на песок, а Гай, не в силах вынести это, вскочил и рванулся, разбрызгивая воду, вброд через мелководье к косе и, выбравшись на нее, закричал: – Док, он не убит! Ради Бога, скажите мне, док, что он не… – Нет, сынок, – сказал Джо Вильсон. – Но пуля попала в живот. Похоже, что пробита толстая кишка, а тут еще жара наступает… Он повернулся к остальным: – Помогите затащить его в лодку. Здесь я уже сделал все, что мог. Его надо довезти до дома, а там я смогу осмотреть его как следует… И это был конец, если не считать сорока одного дня, когда Вэс Фолкс умирал, со всей своей богатырской силой цепляясь за жизнь, пока августовская жара не нависла удушливым одеялом над Дельтой. И все это время за ним ухаживал сын, Гай, который со свирепой решимостью стоял на страже, не подпуская к отцу ни Чэрити, преисполненную самых добрых намерений, ни негров, делая для него все: он кормил его, купал, выносил судно, бинтовал рану, неделю за неделей проводя без сна и почти без еды, до самого конца слушая его бред, до того дня, когда Вэс проснулся с ясными и спокойными глазами, но в них уже была смерть, и положил свою большую руку на темноволосую голову сына, прошептав: – Плохо дело, мальчик, я ухожу от вас. Сегодня вечером или завтра. Я сделал все, что мог. Я хочу знать лишь одно, только одно: я попал ему прямо туда, куда метил, его даже развернуло, но не ранило. Джо говорит, на нем нет и царапины, но я ведь попал в него, говорю тебе, попал и… Гай весь напрягся, глядя на отца. – Папа! – выдохнул он. – Вы пользовались пистолетами Джерри? – Моего отца. Они были у Джерри. Да и какая разница? Это хорошее оружие, и я видел, как Хэнк их заряжал. Но я никак не могу понять… – Папа! – сказал Гай, его голос дрожал от слез. – Держись, я скоро вернусь! Мне нужно показать тебе что-то. Через час он вернулся с ящиком для пистолетов, который выкрал из кабинета Джерри с удивительной легкостью: в Фэроуксе никого не было, поскольку как раз в это время в суде высшей инстанции в Натчезе слушалось дело о разводе, а Джо Энн отправили на время в поместье Мэллори. Он положил ящик на стол, рядом с кроватью отца, и открыл его. Там оказались две серебряные пороховницы, которые он вытащил и по очереди встряхнул. Вэс следил за каждым его движением с немым изумлением в глазах. В одной из пороховниц что-то слегка брякнуло. Гай положил ее на стол, вышел и вернулся с охотничьим ножом и деревянным молотком. Он положил пороховницу на ребро, приставил к ней лезвие ножа и расколол одним точным ударом молотка. Его пальцы медленно сомкнулись на тщательно обструганной деревяшке. Это был кусок белого дуба, вырезанный так, что свободно входил внутрь пороховницы, заполняя ее чуть ли не целиком. Любой пистолет, заряженный из нее, был бы… – …Недозаряжен! – прорыдал Гай. – В этой пороховнице пороха не хватит даже на то, чтобы пробить шелковую рубашку, не говоря уже о мужском сюртуке! А по весу и на ощупь она ничем не отличается от обычной. Я видел, как он вырезал этот кусок дерева, папа! Я видел! И я могу это доказать! Джерри надо было расщепить пороховницу так, как я это сделал, чтобы засунуть внутрь эту затычку, но он уж конечно не мог спаять снова две половинки. Ему наверняка пришлось просить об этом Вила, нашего кузнеца! А Вил может подтвердить… – Нет, – прошептал Вэс. – Слово ниггера против белого человека для суда не доказательство… – Ты подожди, я покажу это судье Гриффитсу! Клянусь Богом, Джерри не уйдет от виселицы! И тогда он увидел, как Вэс Фолкс слегка покачал головой. Губы Вэса шевелились, произнося слова, но прозвучали они так тихо, что Гаю, чтобы расслышать их, пришлось приблизить ухо почти к самым губам отца. – Нет! Хватит смертей! Прости его, сынок. Отпусти с миром: ведь я причинил ему зло, как бы он ни… Я прощаю его. Ты тоже должен простить. Скажи, что так и сделаешь. Обещай мне… – Но как же я могу простить его, папа? – Обещай! – Голос Вэса Фолкса зазвучал отчетливо. – Обещай, никакой мести! Дай мне честное слово Фолкса. – И вновь его голос стал тише. – Это моя последняя воля, мальчик. Обещай мне… – Обещаю, папа, – сказал Гай и сел на место. Лица Вэса он не видел: глаза были полны слез. Он сидел, пока тени в комнате не стали длиннее. Он очень устал и ослабел, оттого что вот уже четверо суток спал урывками и три дня почти ничего не ел. Стало темно, и Гай слышал, как печально кричат козодои где-то за полями и рекой. В комнате было очень тихо, и он заснул, положив голову на покрывало у ног отца. Спал он долго и очень крепко. Вскоре после полуночи в соседнем лесу зловеще закричала сова. Гай резко выпрямился, вглядываясь в темноте в лицо отца. В Фэроуксе, во дворе, завыла собака, подняв голову к безлунному небу. Дрожащий звук, полный боли и одиночества, надолго повис в ночном воздухе, отдаваясь эхом в дубовом лесу и терзая натянутые, как струны, нервы мальчика. – Папа! – прошептал Гай. – Как ты, папа? Папа, ответь мне! Скажи, как ты себя чувствуешь? Он встал и приблизился к изголовью постели. – Папа! – позвал он нерешительно, чувствуя, как тает последняя надежда. И еще раз: – Папа, нет! Нет, папа, пожалуйста! Ты не можешь, не должен! Не уходи от меня, папа! Пожалуйста, останься! Гай упал на неподвижное тело Вэса, крича в отчаянии. Когда родные вошли в комнату, он все еще обнимал бренные останки Вэса Фолкса, рыдая так горестно, так безысходно, что Мэтти и Том выбежали прочь. Бесс и Чэрити вдвоем с трудом оторвали Гая от тела отца. Бесс увела его, положила в постель и, сидя рядом, баюкала его голову в своих огромных черных руках, что-то нежно напевала ему вполголоса, как маленькому ребенку. Он лежал в постели два дня, не ел, не разговаривал, даже глаз не открывал, а из-под закрытых век сочились слезы, оставляя влажные дорожки на исхудалых щеках. Но, когда пришел день похорон, Гай встал и тщательно оделся. Он стоял у могилы с сухими глазами и слушал, как преподобный Мортон произносит последние слова утешения, не замечая ни безутешных рыданий матери, ни воплей Мэтти. На такие детские проявления горя он уже не был способен… Когда цветы легли на могилу Вэса Фолкса, Гай повернулся и увидел, что неподалеку стоит Речел с букетом красных как кровь роз. Она опустилась на колени и положила свой букет рядом с другими цветами, но Гай нагнулся, схватил его и швырнул за ограду. Потом повернулся к ней и сказал так, что голос его прошел по сердцу Речел ржавым напильником: – Убирайся! Тебе здесь нет места. Когда хоронят мужчину, то при этом должны присутствовать его жена и дети, а не его шлюха. Ты слышишь меня, Речи? Уходи отсюда! Она еще постояла немного, глядя на лицо Гая с любовью и печалью, потом повернулась и вышла через железные кладбищенские ворота, оставив позади себя все ворота и двери, все печали и воспоминания… Когда в тот же вечер Речел уезжала из Фэроукса, она приказала служанке упаковать ее вещи, а неграм – доставить все ее саквояжи, дорожные сундуки, коробки для шляп и узлы на пристань ко времени отправления парохода, плывущего на юг. Она не попрощалась с Джеральдом, что едва ли было странно, поскольку он, получив развод и права опеки над ребенком, дал ей три дня, за которые она должна была собраться и покинуть Фэроукс навсегда. Она не поехала и в Мэллори-хилл попрощаться с Джо Энн… Точно известно лишь одно: она выехала верхом в темноте, навстречу темноте, в ночь накануне своего отъезда из Фэроукса и не вернулась. Отправившиеся на поиски вместе с хозяином Фэроукса негры обнаружили ее лошадь, стоящую в терпеливом ожидании перед дверью в хижину, где Речел обрела любовь. Они пошли по следу, оставленному копытами и ведущему в глубь леса, и вскоре нашли ее скрюченное тело в высохшем русле ручья: шея была сломана, но крови не было – наверно, она умерла сразу же, даже не почувствовав боли. На лбу был синяк: по-видимому, низко висящая ветвь выбросила ее из седла, когда она пыталась преодолеть высохшее русло ручья. Да, Речел совершала этот прыжок сотни раз и нередко в темноте – на это обстоятельство поспешили сослаться те, кто готов был добавить самоубийство к прочим ее грехам. Нет, в этом она не виновна, отвечали более милосердные и менее рассудочные, и глаза их были полны слез. Лошадь Речел все еще стояла перед хижиной, когда Джерри и негры вышли из леса, неся ее тело. И, увидев это и снова все вспомнив, Джеральд Фолкс приказал выкопать могилу у двери хижины и опустить Речел туда без священника, без погребальной молитвы и даже без камня в изголовье, который отметил бы место захоронения. По его указанию негры сровняли могилу с землей, а хижину разрушили до основания. И через несколько лет никто уже не мог сказать с уверенностью, где была хижина, а где могила… И, может быть, так было лучше.Глава 9
Оставалось выяснить лишь одну маленькую подробность, которая теперь уже не имела значения, но Гай должен был ее знать. Поэтому он разыскал Хэнка Тауэрса, секунданта отца, и спросил его напрямик: – Выбирал ли Джерри пистолет заранее перед тем, как он убил моего папу? Хэнк Тауэрс удивленно посмотрел на мальчика. – Нет, – сказал он. – Насколько я мог заметить, это был честный поединок… Хэнк замолчал, а потом в его глазах появилось выражение некоторого замешательства. – Была одна небольшая странность, после твоих слов она мне вспомнилась. Джерри тогда подходит ко мне и спокойно так говорит: «Заряди мой пистолет из более легкой пороховницы, Хэнк. По-моему, эти пистолеты бьют точнее, когда они слегка недозаряжены…» – И что же дальше? – спросил Гай. – Я обратился к твоему отцу: не будет ли у него возражений, надо ведь, чтобы все было по справедливости. Вэс сказал, что ему все равно: он на таком расстоянии может белке в глаз попасть независимо от того, как заряжены пистолеты. Тогда я прикинул обе пороховницы на вес, и точно: одна из них была легче. Ну, я и зарядил из нее пистолет Джерри. Тогда мне это показалось странным: многие беспокоятся насчет того, сколько пороха засыпано в пистолет. Я бы скорее обратил внимание, если бы он выбрал более тяжелую пороховницу; когда один из пистолетов недозаряжен, это может повлиять на исход дуэли. Но разница в весе была незначительной, да и Вэсу достался заряд тяжелее… – Спасибо, мистер Тауэрс, – сказал Гай и развернул Пега. – Погоди, сынок! – крикнул ему вдогонку Хэнк Тауэре. – Если что-то было не так, если ты что-то знаешь… Гай сидел на сером жеребце, глядя на мужчину сверху вниз. Его глаза были бесстрастными, холодными, спокойными. – Нет, – сказал он. – Все в порядке, мистер Тауэрс. – И он поехал прочь. Дома в похоронном молчании паковали вещи. Алан Мэллори, который питал дружеские чувства к покойному, пожалел вдову Вэса Фолкса и предложил ей с детьми дом и десять акров земли на плантации выше по реке. Это был совсем неплохой участок для того, кто знал, что с ним делать, но в этом-то и была загвоздка. Из всей их семьи только юный Гай Фолкс мог бы управиться с фермой, но было в нем что-то, словно припекавшее его изнутри, что не давало подолгу засиживаться на одном месте, а уж о том, чтобы навеки осесть на земле, стать йоменом-фермером, у него и мысли никогда не возникало. Поэтому он согласился взять две тысячи долларов, своего рода плату за кровь, которые Джеральд Фолкс предложил его матери, и купил на них трех превосходных работников-негров. Гай подумал: заставить негров работать – на это и Тома хватит, да они и сами знают, что нужно делать на ферме. Он строго наказал Тому не засевать всей земли хлопком: – Выращивай то, что годится в пищу: зерно, бобы, картофель, капусту и прочую зелень. На деньги, вырученные от первого урожая, купи немного живности: свиней, коров и цыплят. И помяни мое слово, Том, если я вернусь и увижу, что ты не сделал так, как я сказал, шкуру с тебя спущу! – А куда ты уезжаешь, Гай? – спросил Том испуганно. – Далеко. Мне многое надо сделать. И я не хочу, чтобы у меня голова болела о всех вас, пока я в отъезде. Вернусь я нескоро и хочу быть уверен, что вы не голодаете. И, ради Бога, следи, чтобы дом белили и чинили в срок. Не хочу, чтоб люди про нас говорили, что мы горная шваль и ничего больше. Обещаешь мне это? – Хорошо, Гай, обещаю, – ответил Том. Гай наблюдал минут десять, как идет упаковка вещей для переезда в новый дом, а потом поехал в Мэллори-хилл и разыскал Килрейна. – Сколько бы ты мне дал за Пега? – спросил он без всякого вступления. – Боже милосердный! – воскликнул Килрейн. – Зачем тебе продавать коня? Он тебе еще пригодится на ферме и… – Я там жить не буду, – спокойно сказал Гай, – а чтобы добраться туда, куда я еду, нужны деньги. Давай, Кил, предлагай цену… – Тысяча долларов, – сразу же сказал Килрейн, – если папа не будет против. Пойдем со мной, ты поможешь его убедить. Я в первый же сезон на скачках заработаю с Пегом вдвое больше, но папа немного прижимист. А куда это ты собрался ехать? Если бы ты взялся за эту ферму выше по реке, то через несколько лет смог бы из нее что-нибудь выжать. – Не собираюсь становиться фермером, – сказал Гай. – Да у нас в роду их никогда и не было. Кстати, как поживает твой маленький кузен Фитц? Всего один раз его и видел, с тех пор как он приехал сюда. – А, этот… – презрительно фыркнул Килрейн, – у него все в порядке, если судить по его мерке, все читает, читает – как ты. Но совсем не умеет ездить верхом, да и стрелять тоже. А учиться всему этому не хочет. Все книги, книги, книги! Ладно бы еще, если б он что-то другое умел делать. Вот ты, например, настоящий грамотей, но ты ведь и парень хоть куда, но Фитц – Боже правый! – Хочу попрощаться с ним тоже, – сказал Гай. – Хоть я его и видел мельком, этот парнишка мне понравился. Знаешь, Кил, люди на свете должны быть разными… – Ну ладно, ладно. Ты его увидишь. Но не пытайся уйти от прямого ответа, Гай. Расскажи, какие у тебя планы. – У меня сейчас нет ни гроша, Кил. Или я вернусь с набитым кошельком, или не вернусь вовсе. – Но куда же все-таки ты едешь? – не унимался Килрейн. – На Кубу. У меня есть там знакомства. – Знакомства? – переспросил Кил. – Насколько я знаю, ты в жизни не выезжал за пределы штата Миссисипи. Так откуда у тебя могут быть знакомые на Кубе? Объясни мне, Гай… – Ты любопытен, как старуха. У меня есть друг на Кубе, и хватит об этом. А как, откуда и почему – долгий разговор, да и язык у тебя слишком длинный, поэтому я тебе не скажу. Пойдем, Кил, поговорим с твоим отцом насчет денег. Килрейн долго и пристально смотрел на него. Потом пожал плечами. – Ладно, пойдем, – сказал он. Гай отчетливо слышал голос Алана Мэллори из-за двери кабинета. – Тысяча долларов? За лошадь? Ты что, спятил, Килрейн? И вообще, я уже достаточно сделал для этих людей. Сдается мне, я слишком дал волю своему сочувствию. Что-что? А, понял: ты вернешь мне деньги, выиграв скачки на этом удивительном создании. Нет уж, спасибо, сынок. Я представляю твое будущее иначе, служить жокеем у богатых господ – не для тебя, и хватит об этом. Даже слышать ничего не хочу больше! Дверь открылась, и отец с сыном вышли из кабинета. Увидев Гая, Алан Мэллори нахмурился. – Наверно, ты все слышал, – сказал он. – Извини, Гай. – Все в порядке, мистер Мэллори, – спокойно сказал Гай. – Вы вправе говорить все, что считаете нужным. Но раз вы жалеете о том, что сделали, я хотел бы передать вам Пега в счет платы за эту ферму. Составьте долговую расписку на остальную часть стоимости, и я подпишу ее. Не знаю, сколько стоит дом и земля и сколько мне понадобится времени, чтобы расплатиться сполна, но я даю вам слово, что сделаю это. Алан Мэллори внимательно посмотрел на мальчика. Потом положил руку ему на плечо. – Ты мужчина, сынок, – сказал он веско, – вряд ли мой оболтус станет когда-нибудь таким мужчиной и джентльменом, как ты. Нет, Гай, я не приму от тебя ни коня, ни расписки. Мне доставляет удовольствие, что я могу что-то сделать для семьи Вэса Фолкса, пусть даже я и сболтнул лишнее минуту назад. Замотался немного, дел невпроворот. Так что пусть твой конь и твоя честь останутся с тобой. Может быть, тебе удастся выгодно продать его кому-нибудь другому, знающему толк в скачках… – Нет, – сказал Гай. – Я не буду продавать его теперь. Хочу знать наверняка, что он будет в хороших руках, когда я уеду. Поэтому с вашего разрешения, сэр, я хотел бы отдать его Килу. Так я хоть могу быть уверен, что с ним хорошо обращаются. Килрейн впился глазами в отца. – Бога ради, папа! – взорвался он наконец. – Неужели ты хочешь, чтобы мы выглядели жалкими скупердяями. – Ладно, – вздохнул Алан Мэллори. – Вы выиграли оба. Но скажу вам честно, я не могу себе позволить выложить тысячу долларов. Когда сами станете плантаторами, поймете почему. Даже самые большие и прибыльные плантации, как эта, заставляют их владельцев влезать в долги. Мы богаты землей и рабами, но бедны наличными. Если ты, Гай, возьмешь пятьсот долларов, я приму у тебя коня. Если нет, придется тебе поискать других покупателей, а тогда уж побоку благородство и щепетильность! Гай долго стоял в раздумье. Но, по правде говоря, у него не было выбора, и он знал это. Он, конечно, мог добраться до Нью-Орлеана пешком, ночуя под открытым небом, но дальше – море! Пробраться без билета на судно, отправляющееся в Гавану? Он отбросил эту мысль сразу же, как только она пришла ему в голову. Ему, возможно, придется ждать не одну неделю без гроша в кармане, пока такой корабль не войдет в нью-орлеанскую гавань. Да и не хотелось ему предстать перед капитаном Ричардсоном голодным попрошайкой, а ведь не исключено, что на Кубе ему придется несколько месяцев ждать возвращения капитана, если невольничье судно отправилось к берегам Африки. – Хорошо, сэр, – сказал он. – Я возьму эти деньги – мне ничего другого не остается. И спасибо вам, мистер Мэллори, большое спасибо. – Не стоит благодарности, мальчик, – ответил Алан Мэллори. – Бог свидетель, Гай, – сказал Килрейн, когда они вышли, – ты умеешь найти подход к людям. Я бы не смог выудить у отца пять сотен долларов, если бы даже выпрашивал их стоя на коленях. И я рад, что тебе удалось уломать его. Знал бы ты, как мне было неловко из-за его скупости и… – Забудь об этом, – отрезал Гай. – Мне должно быть стыдно, а не ему. Твой отец – настоящий белый человек, если у тебя хватит ума понять, это. А если бы даже было иначе, когда есть отец – это уже очень много… – Прости, Гай, – тихо сказал Килрейн. – Не хотел напоминать тебе… Ужасно скверная вышла история. Люди в округе уверены, что с этой дуэлью не все было чисто. Никто, абсолютно никто, Гай, не верит, что Джерри мог превзойти твоего отца в меткости. Половина говорит, что там был какой-то обман, а другие… Он вдруг замолчал в замешательстве. – Продолжай, Кил, – сказал Гай. – Ох уж этот мой длинный язык! – тяжело вздохнул Килрейн. – Видно, мне все же придется договорить. Остальные, Гай, считают, что твой отец, чувствуя себя виноватым, и не пытался попасть в Джерри. Фред Далтон, секундант Джерри, даже пригрозил одному человеку, что вызовет его на дуэль, потому что тот всем говорил, будто Вэс выстрелил в воздух. – Фред прав, – спокойно сказал Гай. – Я видел дуэль, Кил. Прятался в кустах на Ниггерхедской косе. Папа не стрелял в воздух… – Но тогда как же так получилось? – прошептал Килрейн. – Я видел, как стреляет твой отец. Да он с двадцати пяти ярдов мог бы пулей крылья у мухи оторвать! А ведь он стрелял первым – все знают, что… Гай молчал, глядя на друга полными печали глазами. – Я хотел бы теперь попрощаться с Фитцхью, если ты не возражаешь, – сказал он. Килрейн умолк на полуслове с открытым ртом: слова уже готовы были сорваться с языка, но он стиснул челюсти. – Ладно, пойдем, – сказал он. Они застали мальчика сидящим в кресле и читающим «Жизнеописание двенадцати цезарей» Светония на латыни. В свои десять лет Фитцхью Мэллори мог уже читать на латыни и греческом. Он был прирожденным грамотеем, одним из тех кротких созданий, которые время от времени появляются, подобно белым воронам, даже в среде азартных любителей и знатоков лошадей, собак и огнестрельного оружия, которых много среди мелких землевладельцев. И Гай, который и сам был книгочей не из последних, мог это понять и оценить. Увидев их, Фитцхью встал и с улыбкой протянул руку. Это был удивительно красивый мальчик, гибкий и стройный, с лицом, словно написанным художником дорафаэлевской эпохи, и массой мягких кудрявых золотистых волос. Но его глаза были все еще печальны: горе не успело забыться. И это тоже очень хорошо понимал Гай. – Здравствуй, Гай, – сказал Фитц, когда Гай пожал ему руку. – Пришел попрощаться, – сказал Гай хрипло. Внезапно он понял, и эта мысль отозвалась в нем болью, что именно такого брата ему всегда недоставало – не такого, как Том, с его неразвитым примитивным умом, не такого, как Килрейн с его хвастовством и заносчивостью, а младшего брата, похожего на Фитца, славного, смышленого и доброго: учить и опекать такого – настоящее удовольствие. Глаза Фитцхью потемнели: он был явно огорчен. – Ты уезжаешь? – спросил он. – Как жаль, Гай. – Но почему? – удивился Гай. – У тебя даже не было времени узнать меня поближе… – Вот поэтому-то мне и жаль с тобой расставаться, – сказал Фитц. – Я хотел бы стать одним из твоих друзей. – Тогда можешь считать, что ты мой друг, – сказал Гай. – Дай руку. Увидимся, когда я вернусь. Но пока… – Что, Гай? – спросил Фитц. – …пусть Кил научит тебя ездить верхом и стрелять. – Но я не люблю этим заниматься, Гай. Зачем же мне учиться? Я люблю ухаживать за животными, а не убивать их. А если мне куда-то нужно добраться, я и пешком дойду. Гай принял эту точку зрения вполне серьезно, в то время как на лице Килрейна появилась презрительная улыбка. – А тебе и не надо любить подобные вещи, – проговорил он неторопливо, – ты ведь не любишь лекарства, которые мама давала тебе, скажем, от боли в животе? Но они необходимы. – Почему? – спросил Фитцхью. – Потому что у тебя есть голова на плечах. А умная голова не всякому дана, это большая ценность. Вроде сокровища. И мужчина должен уметь защитить его. Сдается мне, тебе суждено подарить миру что-то свое, Фитц. И ты не имеешь права загубить свой талант: люди не должны быть лишены его только потому, что ты не научился стрелять более метко, чем какой-нибудь задиристый идиот, который занимает место и дышит воздухом, предназначенным для лучшего, чем он, человека… – У тебя очень своеобразные взгляды, Гай, – сказал Килрейн. – Это не мои взгляды, по крайней мере, не я это выдумал. Я просто повторяю то, что много раз говорил мне отец, но это правда, Кил. И еще он всегда говорил, что единственная разновидность аристократии, которая чего-то стоит, это аристократия ума и таланта. Посмотри, что читает этот малыш. А ты смог бы? – Да уж конечно нет, – ответил Килрейн. – А я бы смог, но с трудом. Когда мы вошли, его глаза так и бегали по строчкам. Я тебе вот что скажу, Кил: у этого парня больше мозгов в левой ягодице, чем у тебя или у меня в голове. Его будут дразнить, изводить, оскорблять, если он к тому времени, когда вырастет, не научит всех хоть немного уважать себя, овладев их же собственным оружием. Они даже с его умом смирятся, если ему будет сопутствовать сила. Поэтому ему придется научиться бить в тамтам и плясать вокруг костра с раскрашенным лицом, завывая во всю глотку, если все так делают, потому что это единственный способ… – Боже правый, Гай, – прервал его Килрейн. – До чего же горьки твои слова… – …добиться того, чтобы его надолго оставили в покое и дали заниматься тем, чем он хочет. Поэтому ему надо научиться ездить верхом и стрелять, уметь выпить при случае так, как это положено джентльмену, знать толк в картах и быть галантным с дамами. Всему этому, всей той чепухе, по которой мы судим о мужчине, придется научиться. Эту цену ему придется заплатить – ведь никто не свободен в этом мире, – чтобы стать в конечном итоге самим собой. Пора мне заканчивать свою проповедь. Ну, что скажешь, малыш? Попробуешь? – Если ты этого хочешь, Гай, – сказал юный Фитцхью Мэллори.Через сорок пять дней Гай Фолкс стоял на палубе шхуны «Бонита», входившей в гавань кубинской столицы, и глядел во все глаза. Такого ему еще не приходилось видеть. Позади хмурой громадой нависал замок Морро, тянулись мрачные береговые батареи форта Кабаньяс, охраняющие подходы с моря, но, когда «Бонита» бросила якорь у сонной деревушки Регла, ему показалось, что он попал в настоящий рай. Вода была спокойной и гладкой, как стекло; цвет ее менялся от сине-фиолетового вдали до чистого сапфирового ближе к берегу и наконец превращался в бледный, молочно-зеленый. Прямо от воды амфитеатром поднимались холмы, которые сами были зеленее нефрита, даже изумруда. То здесь то там их расцвечивали белые как пена, кружевного изящества виллы, струились кроваво-пурпурные ручьи бугенвиллеи; алые всплески жасмина наполовину скрывали от глаз замок и блекло-серые стены форта; там, где кончалась суша, со стороны порта, подобно драгоценному камню, сиял на солнце город, а по правому борту, нависая над меняющей то и дело свой цвет водой бухты, безмолвно зияли темные жерла орудий береговой обороны. В то время, в 1835 году, на Кубе еще не были известны такие прелести цивилизации, как паспорта и таможенные чиновники, только и ждущие момента, чтобы переворошить до последнего лоскутка багаж путешественника. Поэтому Гай зашвырнул свой саквояж в баркас, уже ожидавший пассажиров, и вскоре был на берегу. И тотчас столкнулся с проблемой, которую, как он самонадеянно вообразил, давно уже разрешил: никто не мог разобрать ни единого слова из его испанского, обретенного им в таких муках! Вот что делает тяжелый акцент янки с восхитительно шелестящим кастильским говором, даже если осваивать его с помощью местных учителей, – это в лучшем случае бесчестье, но то оскорбление действием, которое нанес испанскому языку Гай, выучивший его по книгам, но ни разу не слышавший, как на нем говорят, было деянием, едва ли не заслуживающим виселицы. Добродушные кубинцы приветствовали его попытки бурным хохотом и тут же отправили стайку мальчишек поискать кого-нибудь говорящего по-английски. Гай ждал, тоскливо думая: «Я должен выучить язык как следует. Слова я знаю, а вот с произношением – беда. Да если б они еще не трещали все разом, я, может быть, и разобрал бы, что они говорят…» Ватага малышей возвратилась с ликующими кликами, сопровождая высокого с внушительными усами человека в мятом белом костюме. Голову его покрывала соломенная шляпа. – Добрый день, сеньор, – сказал он. – Чем могу помочь вашему сиятельству? – Здравствуйте. Я ищу американца по имени Ричардсон. Капитан Трэвис Ричардсон. Вы не знаете его, сэр? Его называют капитан Трэй… И тотчас малыши подняли крик: – El Capitan Tray! El Capitan Tray! Seguro, Senor! Venga con nosotros y…*["911] – Тихо! – заорал переводчик и снял свою широкополую шляпу, не обращая внимания на палящее солнце. – Ваша светлость имеет честь быть другом Великого Капитана Трэя? – Да, – ответил Гай. – Он мой друг. Где его можно найти? – Это, ваша милость, представляет определенную трудность. Капитан Трэй больше не живет в Гаване. Недавно он женился, перестал ходить в море и купил себе finca*["912] в нескольких милях отсюда. Но, если вы располагаете достаточными средствами, чтобы нанять пару лошадей, я с удовольствием покажу вам, где находится эта finca. Вы ведь этого хотите, не правда ли? – Да, я хотел бы туда добраться. Покажите мне, где можно нанять лошадей, и отправимся в дорогу, если это не оторвет вас от дел. – Ну, мои дела не так уж важны, они мало что значат в сравнении с удовольствием быть полезным другу el gran capitan*["913] Трэя! – сказал переводчик. Затем он повернулся к старшему из малышей: – Ты, Мигель, возьми вещи сеньора, пойдешь с нами. Нет, нет! Я сказал – один Мигель! Больше нам не нужно! Мигель схватил саквояж, и Гай впервые мог разобрать слова – ведь их сопровождали жесты и действия. Он был просто ошеломлен, когда понял, насколько велика разница между тем, как они произносились и как он сам бы их произнес. «Сколько времени потеряно, – подумал он с горечью, – придется все начинать сначала…» Они ехали по извилистой дороге среди холмов, окунувшись в ихблагословенную прохладу, причем сеньор Рафаэль Гонзалес (так звали переводчика) настоял на том, что саквояж будет везти он. Дон Рафаэль болтал без перерыва, выкладывая Гаю все новые и новые известные ему подробности о Ричардсоне: – Должен вам сказать, что ваш великий и благородный друг – один из самых любимых на Кубе людей, несмотря на то что он иностранец. Есть огромная разница между его поведением и тем, как ведет себя большинство extranjeros*["914], вы понимаете, ваша милость? Прежде всего он взял на себя труд в совершенстве овладеть нашим языком – мудрая политика, осмелюсь вам сказать, которой и вашей милости следует придерживаться в будущем… – Я последую вашему совету, – сказал Гай. – Продолжайте… – Хорошо. Во-первых, капитан был безгранично щедр к беднякам. Его доброта вошла в поговорку, и именно поэтому, я думаю, он сумел так удачно жениться. Сама донья Мария Кармен дель Пилар Ортега-и-Бассет не столь уж богата, но никакая другая местная дама не занимает такого высокого положения в обществе… Блестящая женитьба и такая романтическая! Ведь стоило донье Пилар выразить вполне объяснимое отвращение к профессии нашего доброго капитана… amvor de Dios*["915]! Что я говорю! – Ничего страшного, – сказал Гай. – Я знаю, что капитан Трэй – работорговец. – Как камень с сердца свалился! Мне не хотелось бы выдавать тайну капитана. Он заслужил всеобщее уважение на Кубе, когда без всяких колебаний согласился покончить с морем и ремеслом работорговца, чтобы стать уважаемым ranchero*["916] из любви к донье Пилар. И не так уж велика была эта жертва! Любой мужчина сделал бы это ради такой красивой женщины! «Проклятье, – подумал Гай. – Вот уж не везет так не везет! Собирался походить по морям с капитаном Трэем, а тут подвернулась какая-то глупая баба и все разрушила! Но, может быть, капитан даст мне рекомендации и я смогу подыскать себе другой корабль…» Наконец они доехали до ворот finca. Увидев дона Рафаэля, негр бросился отворять ворота, однако Гаю и переводчику пришлось ехать по аллее еще мили две, прежде чем они добрались до дома. Это был красивый испанский колониальный casa grande*["917]. Когда они остановились, их окружила толпа улыбающихся, что-то лопочущих негров, готовых расседлать лошадей, оспаривающих друг у друга честь донести до дома саквояж Гая и выкрикивающих малопонятные приветствия. На веранду вышла опрятная мулатка-служанка. – Сеньора капитана нет дома, – сказала она дону Рафаэлю. – Юный Americano – друг капитана? Конечно же, сеньора с радостью примет его. Подождите, пожалуйста, минутку. Они присели на веранде. Через несколько минут Гай услышал стук высоких каблуков, сопровождаемый шелестом сандалий служанки. Он весь напрягся: эта злосчастная глупая женщина, на которую он столь усердно накликал все муки ада за то, что она разрушила его планы, стояла перед ним. – Buenas tardes, Senor, – сказала она. – Haga el favor de entrar…*["918] – Но, увидев выражение непонимания на его лице, тотчас же перешла на почти безупречный английский: – Пожалуйста, входите, молодой господин. Мне сказали, вы друг моего мужа? Но Гай Фолкс потерял дар речи. Он стоял в полной растерянности, видя перед собой не толстую женщину средних лет, на которой, по его представлению, должен был бы жениться мужчина возраста Трэвиса Ричардсона, но стройную девушку с печальными темными глазами и с волосами такого глубоко-черного цвета, что, когда на них падал солнечный свет, они отливали синевой. Он обратил внимание на ее губы, подвижные, полные и теплые, как лепестки какого-то великолепного экзотического цветка. Она весело улыбнулась ему. – Понимаю, – сказала она. – Вы ожидали увидеть женщину гораздо старше, чем я, не так ли? Но пусть моя внешность не обманывает вас, сеньор. Я лет на десять старше, если я правильно угадала, что юному caballero*["919] меньше двадцати. – Вы правы, мэм, – выдавил из себя Гай. – Мне… мне девятнадцать. Она вновь рассмеялась, услышав эту неловкую попытку мальчика прибавить себе пару лет. – Или, ras vez*["920], несколько меньше? – насмешливо спросила она. – Не обижайтесь, юный господин. Пожалуйста, соблаговолите войти в дом. Но прежде назовите ваше имя. – Гай Фолкс. – Гай Фолкс? Мне кажется, я слышала это имя, – сказала донья Пилар. – Вы были знакомы с моим мужем до того, как он приехал на Кубу? Нет, это едва ли возможно. Вы слишком молоды… – Я познакомился с капитаном, – объяснил Гай, – когда он приехал на Миссисипи повидать своих родных. – Теперь вспомнила! – воскликнула донья Пилар. – Вы тот мальчик, который хочет стать моряком. Добро пожаловать, дон Гай. Хотя это стремление, которого я совершенно не одобряю, я рада вас приветствовать. Муж не раз говорил о вас. А вы, дон Рафаэль, – обратилась она к переводчику на своем родном языке, – как вы познакомились с этим благородным юным caballero, о котором так много говорил мой муж? Дон Рафаэль рассказал ей все в подробностях, сопровождая свою речь обильной жестикуляцией. Внимательно наблюдая за ним, Гай обнаружил, что понимает смысл разговора. Это приободрило его. «Я непременно овладею языком», – поклялся он про себя. Служанка возвратилась с вином и пирожными, после чего дон Рафаэль откланялся, захватив с собой и лошадь, на которой Гай приехал из Гаваны, а мальчик, к своему величайшему смущению, остался наедине с Пилар. – Муж вернется, когда завершит инспекцию finca и los ingenious*["921] – сахарных заводов, tu comprendes*["922], дон Гай, – сказала она. – А тем временем разрешите мне воспользоваться случаем и разузнать немного о вас. Семья у вас есть, наверно? – Да, мэм, – сказал Гай. – Но папа умер. Его убили на дуэли два месяца назад. – О! – воскликнула Пилар, и в ее темных глазах вспыхнул огонь. – Вот что я особенно ненавижу! Эту глупую заносчивость мужчин! Какое он имел право так поступить? Какое право, спрашиваю я вас, дон Гай, имеет мужчина дать себя убить из-за безрассудства, которое вы называете мужской честью? Для нас, женщин, она не имеет никакого значения, вы понимаете меня? Пустое место, и больше ничего! Если не считать слез, которые нам остается лить, и груза печали, чтобы нести его всю жизнь… – Но, увидев на его лице неприкрытое изумление, она внезапно порывисто схватила его за руку. – Простите меня, – сказала она мягко. – Муж говорит, у меня pajaros en la cobeza*["923] – маленькие птички в голове, и что я сумасшедшая, как лейка… – Но разве можно назвать лейку сумасшедшей? – Не знаю. Но мы всегда говорим так по-испански. По крайней мере, дон Трэй гордится тем, что я очень передовая женщина, и думаю, так оно и есть. Я бы многое изменила в мире, если бы мне разрешили создать правительство из женщин… – Из женщин! – рассмеялся Гай. – Ну вы и скажете, мэм! – Вы, мужчины! – воскликнула Пилар, надув губы в притворном негодовании. – Думаете, мы ни на что не годны, кроме любви и материнства или чтоб быть вашими любимыми домашними зверюшками! Но вы ошибаетесь. Такое правительство из женщин никогда не стало бы поощрять варварство и безумие войны или несправедливость и жестокость рабства… – Но ведь и у вас есть рабы, – заметил Гай. – У моего мужа, – мрачно поправила его Пилар, – и все они, согласно его завещанию, должны быть освобождены после его смерти. Я отпустила бы их на волю хоть сейчас, но муж справедливо заметил, что это было бы еще большей жестокостью: они просто не могут сами о себе позаботиться. Поэтому я должна научить их читать, писать и считать, а муж пригласил умелых ремесленников-негров, чтобы они обучили их полезным ремеслам. Когда он умрет, они смогут найти себе место среди цивилизованных людей… – Но, допустим, они научатся всему этому еще до того, как умрет капитан Трэй. Вы по-прежнему будете держать их в рабстве? – Да, – с грустью сказала Пилар. – Нам придется оставить все как есть: ведь правительство не слишком благоволит к тем, кто отпускает негров на волю. Поэтому их освободят согласно завещанию мужа: даже правительство может пренебречь своими законами, чтобы исполнить последнюю волю человека, – она священна. Но хватит говорить обо всем этом, соловья баснями не кормят. Ты, наверно, голоден? – Да, мэм, – ответил Гай на этот раз уже без стеснения. – Я голоден как собака. – И теперь его испанский был почти правилен. – О, – рассмеялась Пилар, по-детски захлопав в ладоши, – так ты все-таки говоришь по-испански? Нехорошо с твоей стороны меня обманывать. – Ни слова не говорю, – сказал Гай. – Но я умею читать. – Тогда я тебя и говорить научу. Сегодня же днем после сиесты и начнем… И они принялись за arros con polio*["924] – универсальное испано-американское блюдо, приготовленное из смеси риса, курицы, оливок, креветок, моллюсков и всего прочего, что оказалось на кухне. А потом слуги внесли бесконечно разнообразные рыбные блюда, вслед за ними – наваленные грудой куски свинины, приправленные подорожником, пропитанные несколькими сортами превосходных вин, с гарниром из картофеля, лука и других овощей. На десерт была подана гора фруктов. Гай попробовал любопытства ради манго и папайю, которые были ему незнакомы, но не смог их есть. Ему вполне хватило апельсинов, мандаринов, винограда и бананов, чтобы наесться до отвала. Не без труда встав из-за стола, он понял смысл испанской сиесты. После такого обильного обеда дневной сон больше не казался ему странным. Он последовал за опрятной мулаткой в предназначенную для него спальню. Стены, конечно, были щедро украшены распятиями, статуями Девы Марии и изображениями святых. На спинке кровати висели четки. Нетерпимый протестантизм его родных холмов отверг бы все это как святотатство. Но в это утро он получил уже жестокий и горький урок, убедившись в нелепости раз и навсегда затверженных истин, и, будучи умным и не лишенным воображения юношей, он начал свое первое путешествие в область независимого мышления. Он лежал и думал: «Нет, Бог не мог закрыть все ведущие к нему дороги, кроме одной. Миллионы людей думают так же, как мы, но еще больше тех, кто думает иначе. Речел – порождение нашего взгляда на жизнь, а у них – Пилар. Так кто же станет судьей? Не я, по крайней мере. Достаточно я побыл в этой роли». Размышляя таким образом, он погрузился в сон. Поздним вечером Гая разбудили тяжелый стук сапог и громкий голос, несомненно принадлежавший капитану Трэю. Обращаясь к жене, он говорил по-испански: – Так, значит, моя радость, ты развлекаешь незнакомого мужчину, когда мужа нет дома? Скажи мне, где он, и я перережу ему глотку, отсеку нос и уши! Гай услышал мелодичный смех Пилар и ее быстрый ответ, но не смог разобрать, что она сказала. Но тут капитан Ричардсон восторженно взревел и заговорил по-английски: – Этот мальчишка? Малыш из моих родных мест, где он, черт возьми? Куда ты его запрятала, mi vida*["925]? Гай начал слезать с кровати, и в этот момент дверь распахнулась. – Так ты все-таки приехал! – пробасил капитан Трэй. – Дай же я пожму твою руку, сынок! Где ты, черт возьми, пропадал так долго? Я уже и вспоминать тебя перестал! – Раньше не смог выбраться, капитан, – сказал Гай, сгибая пальцы, чтобы убедиться, что все они целы после могучего пожатия Трэя. – Но, похоже, я немного опоздал с приездом, ведь вы уже перестали ходить в море… – Да ничуть ты не опоздал, – сказал капитан. – Есть и другие, куда лучшие способы заработать на жизнь. Поговорим об этом позже. Главное – ты здесь. Наконец-то упросил родителей отпустить тебя? Отлично! Скажи, сынок, как долго ты сможешь тут пробыть? – Мне не пришлось никого упрашивать, – сказал Гай. – Отца убили, и теперь я как бы в бессрочном отпуске. Я могу пробыть здесь сколько хочу – вернее, столько, сколько вы захотите терпеть меня. – Любовь моя, – внезапно вступила в разговор Пилар, беря мужа за руку, – поскольку я не сумела пока подарить тебе сына, которого мы так страстно желаем, почему бы нам не принять его в свой дом? Ты бы мог выправить бумаги на усыновление в американском посольстве; ведь он твой земляк и… – Боже правый, мэм! – прервал ее Гай. – Подождите минутку! В сыновья я вам, пожалуй, не гожусь по возрасту, да вы меня толком и не знаете! Может быть, я и человек-то никчемный! – Тебе не так уж много лет, – рассмеялась Пилар. – Сомневаюсь, что тебе шестнадцать, мне, jovencito mi*["926], уже тридцать, а это немало. И я тебя знаю. Женщине не нужно много времени, чтобы понять, что к чему. Наше сердце сразу же дает нам правильный ответ. Да к тому же и выгодно иметь почти взрослого сына: не надо нянчить его, думать о пеленках и детских болезнях. Ну, что скажешь, mi amor*["927]? Могу я усыновить его или нет? – Конечно, можешь, – тотчас ответил капитан Трэй. – Было бы здорово иметь в доме еще одного мужчину. Давай сядем на веранде и потолкуем. Так твоего отца убили, Гай? Как это случилось? Начав говорить, Гай вскоре поймал себя на том, что рассказывает все как было, ничего не пропуская и даже не пытаясь утаить тяжелый груз вины, лежащий на отце. Когда он закончил, капитан и Пилар долго молчали, а потом Трэй сказал: – Ты пережил трудные времена, мальчик. Самое лучшее сейчас – забыть о них и начать жизнь снова, здесь. Ты мне будешь хорошим помощником. Управлять плантацией сахарного тростника – это не вести парусник сквозь бурю. Ты знаешь, что такое плантация, и твой опыт здесь очень пригодится. Но прежде всего тебе придется научиться разговаривать по-здешнему. Попрошу Рафаэля, чтоб он завтра же прислал кого-нибудь из города… – В этом нет необходимости, mi amor, – сказала Пилар. – Я обучу gran hijo mio*["928] кастильскому наречию, да и французскому языку, если он пожелает. Мне будет чем себя занять, и я совершенно уверена, что из меня выйдет куда лучший una profesora*["929], чем из тех пьяниц, которых прислал бы дон Рафаэль. Кроме того, мне это доставит огромное удовольствие. Ну, что скажешь? – Прекрасно, – сказал капитан Трэй. – Но только вечером, после сиесты. Утренние часы мальчик будет со мной. Придется нам как-то делить нашего сына… Так начался в жизни Гая период, который на первых порах показался ему самым счастливым в жизни. По утрам они ездили с капитаном Трэем по широким, залитым солнечным светом полям сахарного тростника, заезжали на сахарные фабрики, похожие на большие пароходы, бросившие якорь среди тростниковых полей; из их высоких труб струился дым и реял над ними подобно знаменам. Вечерами он изучал испанский и французский с Пилар, делая такие успехи, что уже к следующей весне бегло говорил на обоих, и что удивительно, почти без акцента. В те дни, когда работы не было, капитан Трэй брал его с собой на свой маленький шлюп «Пилар» и учил судовождению и навигации. Навигаторское искусство особенно полюбилось Гаю: он научился читать карты, пользоваться секстантом, правильно называть все тридцать два румба компаса в прямом и обратном порядке, точно делать расчеты и прокладывать курс так хорошо, что капитан Трэй с гордостью хвастался, что мальчик хоть сейчас может пойти штурманом на самый большой и быстрый клипер. День проходил за днем, завершаясь или в огненном блеске тропического заката, или под барабанный стук нескончаемых проливных дождей. Перетекая один в другой, все они сливались друг с другом в бесконечном потоке времени, и постепенно вместо очарования первых недель жизни на острове Гай начал ощущать душевный разлад. Он ходил в море, рыбачил, ездил верхом, охотился, читал с Пилар «Дон Кихота» и Лопе де Вега, Расина и Мольера, улучшая произношение, но его все больше и больше волновало ее лицо в свете лампы рядом с его лицом, аромат ее дыхания, шевелящего его волосы. Умом он принял ее слова о том, что ей тридцать лет, но его мятежное сердце отвергало различие в возрасте между ними, отвергало, в сущности, все, что разделяло их, включая грубоватую доброту человека, назвавшего его своим сыном. Он испытывал из-за этого такой стыд, что чувствовал себя совершенно больным, но ничего не мог с собой поделать. Да и как с этим бороться, не было лекарства от той болезни, что терзала его, лишала сна и всякой радости в жизни. Даже возможность дать волю своей похоти не приносила облегчения. Погруженный в мрачные раздумья, он ехал прочь от finca на многолюдные улицы Гаваны, чтобы отыскать себе подружку на ночь, что тогда, как и теперь, отнюдь не представляло трудности в этом самом веселом и порочном городе Антильских островов, а на рассвете возвращался с трясущимися руками и посеревшим лицом, измученный, чувствуя, что тот голод, который его терзал, ослаб, но вовсе не утолен. Но в конце концов и эти попытки пришлось бросить: каждый раз лицо Пилар выплывало из темноты и маячило между ним и его ночной партнершей… И ничто другое не помогало вытеснить мысль о ней: ни усталость, ни спиртное, ни холодные ванны, ни опасности, которые он сам искал. Тяжелым грузом лежало на нем и ощущение неисполненного долга, чувство человека, уклоняющегося от осуществления святой и только ему предназначенной миссии: возвращения утраченных прав на Фэроукс и мести убийце отца. И хотя как приемный сын одного из богатейших людей на острове он имел все возможности жить в свое удовольствие, получить университетское образование и жениться на девушке того круга здешнего общества, к которому он принадлежал с недавних пор, Гай не мог избавиться от мысли, что принять эти незаслуженные дары судьбы – значит предать себя, отказаться от своего «я». И он начал проводить больше времени в компании дона Рафаэля Гонзалеса. Дон Рафаэль, переводчик по профессии, занимался и многим другим. Гай, например, был уверен, что он частый гость на щеголеватых быстроходных невольничьих судах, приходивших в порт. В разговорах он много раз достаточно прозрачно пытался намекнуть на это (что воспринималось доном Рафаэлем с абсолютной невозмутимостью) и наконец не выдержал: – Почему бы вам не сказать мне правду, Рафе? Мне ужасно хочется попробовать себя в настоящем деле. Я ведь не могу торчать здесь всю жизнь, существуя за счет капитана. Я хочу ходить в море, плавать к берегам Африки, зарабатывать деньги собственным трудом. Почему бы вам не помочь мне, хотел бы я знать? Дон Рафаэль некоторое время пристально рассматривал кончик своей благоухающей puro*["930]. – Потому что ваш отец, всеми уважаемый капитан, шкуру с меня спустит, если узнает, что я познакомил вас с работорговцами. – Но ведь он сам был работорговцем! – Он теперь сожалеет об этом. И, пожалуй, он прав, сынок. Торговля неграми – отвратительное занятие. Когда-нибудь и моя совесть возобладает над страстью к золоту, – конечно, когда я буду достаточно богат, чтобы позволить себе это. А тебе деньги не нужны. Капитан – человек богатый… – Я не могу тратить деньги капитана на то, что задумал, – решительно сказал Гай. – Вы останетесь вне подозрений, Рафе, все, что от вас потребуется, – это показать мне место, где я мог бы совершенно случайно познакомиться с кем-нибудь из капитанов или их людей. Давайте-ка, лежебока, съездим туда! – Нет, – улыбнулся в ответ Рафаэль. – Ты правильно сказал, что я vago*["931], как это будет по-английски? Да, лежебока. А поскольку это действительно так, я не люблю браться за дело, не сулящее выгоды. Сегодня мы можем проехать из одного конца Кубы в другой и не встретить никого даже случайно. А вот завтра… – А что завтра? – недовольно спросил Гай. – Si Dios quiere – если на то будет воля Божья, кто знает, завтра вероятность случайной встречи несколько больше. Она очень, очень мала, но все же она есть. Сегодня ее нет. Вообще нет. – Тогда поедем завтра, – сказал Гай. – Хоть это вы мне можете обещать, Рафе? – Да, могу. Но не более. И помни: я не хотел этого. Я ни с кем не буду тебя знакомить. Мы просто едем на прогулку. Если и наткнемся на одну из тех немытых, дурно пахнущих тварей, которых ты так горячо желаешь встретить, это будет чистая случайность и ко мне она не будет иметь никакого отношения. Если вообще кого-то встретим… Широко улыбаясь, Гай поднялся с места: – Вам никогда не говорили, Рафе, что вы очень скользкая личность? – Да, – самодовольно ответствовал дон Рафаэль, – и не один раз. Seguro, ты не передумаешь? – Нет, – сказал Гай. – Тогда до завтра? – Si – hasta manana*["932], Гай, – сказал дон Рафаэль Гонзалес.
Глава 10
Они рысью выехали из Гаваны и, двигаясь по дуге вдоль берега залива, добрались до деревушки Регла. Там стояли на якоре две шхуны и бригантина, в которых по их виду и запаху безошибочно угадывались невольничьи суда. Но дон Рафаэль не удостоил их внимания, а повернул свою лошадь в сторону лесистых холмов за деревней. Гай последовал за ним. Выехав из леса, они оказались на убранном поле, и тут Гай увидел три или четыре сотни негров: они что-то лопотали все сразу, оглушительно смеялись, на некоторых были штаны, надетые задом наперед, на других – одни рубашки, штаны же были накинуты на плечи, как плащи; с нескрываемым благоговением взирали они на остановившийся перед ними экипаж, окружив гурьбой форейтора-негра, слезавшего со своей великолепной лошади. Форейтор щелкнул кнутом, чтобы привлечь их внимание, и выкрикнул какую-то фразу, несомненно, на одном из африканских диалектов. И в тот же миг его едва не сбили с ног бросившиеся к нему негры, которые принялись скакать вокруг, щелкая пальцами перед его лицом. Форейтор добродушно щелкнул пальцами в ответ. Гай в изумлении посмотрел на Рафаэля. – Они не жмут друг другу руки, – объяснил он. – Это они так здороваются. Затем форейтор произнес длинную речь, хлопая кнутом в конце каждой фразы. Африканцы сопровождали его выступление восторженным ревом. – Что он там говорит, черт его побери? – спросил Гай. – Честно сказать, и сам не знаю. Я не владею языком вайдах. Но думаю, он объясняет им, по поручению своего господина, как это замечательно – быть рабом белого человека. – А если бы он призывал их к мятежу? Не думаю, что кто-нибудь уловил бы разницу… Рафаэль кивнул головой в сторону леса: – Уверен, что эти hombres*["933] все бы поняли. Среди них наверняка найдутся люди, говорящие на ашанти, мандинго, сусу, вайдах и кру… Обернувшись, Гай увидел небольшую группу белых мужчин, стоявших на краю поля. Один из них, судя по его одежде и осанке, несомненно, был землевладельцем, хозяином finca, прочие же – представители уголовного сброда всех мастей, какими только способна одарить мир западная цивилизация. «Их капитан наверняка американец», – подумал Гай. – Я, пожалуй, поболтаю немного с этими hombres, – сказал он дону Рафаэлю. – Раз уж вы не хотите меня представить… Дон Рафаэль ласково улыбнулся ему: – Боюсь, что я не смог бы этого сделать. К моему величайшему сожалению, я не знаком с caballeros, о которых идет речь… Да к тому же, – продолжал он, по-прежнему улыбаясь, – боюсь, что я заблудился. Что-то не припомню, бывал ли я здесь раньше… – А завтра вы забудете, что были здесь сегодня, не правда ли, Рафе? – насмешливо спросил Гай. – Не беспокойтесь, amigo*["934], насколько я помню, я вас не видел вот уже недели три или что-то вроде этого… – И он рысью направил своего коня туда, где стояли работорговцы. – Приветствую вас, – сказал он капитану. – Не понадобится ли вам хороший штурман, когда вы выйдете в море? Капитан долго и очень внимательно рассматривал его. – Штурман – это ты, я так понимаю? – наконец проговорил он гнусаво, что сразу выдавало в нем уроженца Новой Англии. – Угадали, – спокойно ответил Гай, – и притом очень недурной. Нужен вам такой? – Нужен, – раздраженно ответил капитан, – если бы удалось его найти. Юнги идут по десять центов за дюжину, сколько бы они ни болтали о знании морского дела! – Прошу прощения, капитан Раджерс, – неожиданно вступил в разговор землевладелец, – боюсь, что вы ошибаетесь. Этот молодой человек – приемный сын капитана Трэя, а тот сам учил его навигации. – Сын Трэя? – переспросил капитан Раджерс. – Это полностью меняет дело. Слушай, парень, поехали-ка в город со мной и там все обсудим… Не успел Гай ответить, как к ним подлетел негр верхом на лошади. – Они едут, сеньоры! – завопил он. – Уланы! А с ними драгуны! Хозяин поместья мгновенно влез в экипаж, и лошади с головокружительной быстротой умчали его. Банда головорезов рассеялась по полю, щелкая бичами. Через поразительно короткий промежуток времени все негры были загнаны в густой кустарник. Дон Рафаэль закуривал очередную риго, поджидая Гая, скакавшего к нему легким галопом. – Нам лучше убраться отсюда, – сказал юноша. – Почему же? – холодно спросил дон Рафаэль. – Скорее нам нужно подождать командира драгун, чтобы предоставить ему необходимую информацию… Гай взглянул на переводчика. «Если уж быть плутом, – подумал он, – то именно таким, как этот!» Тем временем вдали показался отряд драгун. Когда они приблизились настолько, что можно было разглядеть их лица, Гай понял, что они не ищут рабов или работорговцев, а если и ищут, то без особого рвения. Молодой лейтенант, командовавший ими, поднял руку, и колонна остановилась, бряцая сбруей и лязгая саблями. Лейтенант выехал вперед, отдавая честь рукой, поднятой к сверкающей меди шлема под огненным великолепием плюмажа. Он остановился в ярде от них, и его улыбка ослепительно вспыхнула под неизбежными усами: – Полагаю, мой негр поспел вовремя? Я вижу, все черные птички улетели? Дон Рафаэль воззрился на него с ледяным презрением, которое обычно испытывает мастер конспирации к шалопаю-любителю. Потом холодно улыбнулся. – Должен вас заверить, лейтенант, – сказал он, – что мы не имеем ни малейшего представления, о чем вы говорите. Не правда ли, майор? – Майор? – Лейтенант даже рот открыл от изумления. – Какой майор? – Майор Джон Хеннерси, – быстро ответил дон Рафаэль, – из разведки Его Величества короля Британии, находящийся здесь по специальному приглашению нашего дорогого генерал-губернатора для содействия в искоренении торговли рабами, этого гнусного промысла… Майор, разрешите представить вам лейтенанта Хосе-Мария Гарсиа-Монбелло, который, как я понимаю, выполняет ту же миссию, что и мы, в пределах своих полномочий, разумеется… – Искренне рад! – рявкнул Гай хриплым голосом, что объяснялось скорее душившим его смехом, чем желанием принимать участие в игре, затеянной Рафаэлем. – В таком месте, как это, наверняка водятся работорговцы, не правда ли, дон Рафаэль? Возможно, если бы лейтенант Гарсиа приказал своим людям прочесать окрестные леса… Рафаэль почтительно перевел предложение Гая на испанский. Замешательство лейтенанта доставило приятелям удовольствие. – Нет, нет! – закричал офицер. – Это частная собственность. А ее владелец – друг генерал-губернатора. Боюсь, генерал-губернатору не понравится, если… – Жаль, – сказал Гай. – Тогда нам придется искать другие средства, как вы считаете, дон Рафаэль? До свидания, лейтенант. Он развернулся и поехал прочь. Дон Рафаэль последовал за ним. Но лейтенант догнал их, пустив лошадь в галоп. – Пожалуйста… – Он чуть не плакал. – Дон Рафаэль, я буду вам век благодарен, если допущенная мной неучтивость не достигнет ушей генерал-губернатора. – Неучтивость? – удивился дон Рафаэль. – Я что-то не припомню какой-либо неучтивости с вашей стороны, лейтенант. Возможно, если бы вы перестали говорить загадками и выражались хоть немного яснее, я бы смог… – Нет, нет, благодарю вас! – обрадованно воскликнул лейтенант, уступая им дорогу. – Желаю вам обоим удачного дня, caballeros! Да хранит вас Бог! Они поехали дальше, скрючившись от сдерживаемого смеха, пока драгуны не промчались галопом через лес в противоположную сторону и стук копыт не растаял вдали. Затем вернулись назад, к finca. Через несколько минут там все было так, как и вначале: кругом кишели улыбающиеся африканцы, внимая речам форейтора, а хозяин поместья и работорговцы отдыхали в тени деревьев на краю поля. Но теперь уже в толпе ходили надсмотрщики землевладельца, уводя негров группами, чтобы накормить и начать обучение. А работорговцы неуклюже садились на лошадей, взятых напрокат. Дело было сделано – теперь оставалось ждать следующего рейса. Капитан Раджерс подозвал Гая. – Поедем со мной, сынок, – сказал он. – Я должен нанести визит генерал-губернатору. Ты можешь присоединиться ко мне, а после этого я собираюсь выяснить, много ли ты понимаешь в навигации: раз тебя учил капитан Трэй, кое-что ты должен был усвоить, но я-то знаю, как трудно вбить науку в голову юнцов, так что я лучше сам проверю… – Есть, сэр! – сказал Гай и направил своего коня рядом с лошадью капитана. В Гавану въехали все вместе, но задолго до того, как добрались до резиденции генерал-губернатора, группа рассеялась, так что Гай остался наедине с капитаном Раджерсом. Янки, казалось, был расположен помолчать, и Гай тоже не пытался начать разговор. Капитан так и не открыл рта, пока они не доехали до величественного casa grande и не спешились у дверей. Когда же он заговорил, речь его была краткой и касалась существа вопроса. – Ты сын Трэя, – проворчал он, – иначе я не взял бы тебя сюда. Надеюсь, тебе можно доверять. Что бы ты ни увидел и ни услышал, ты должен это забыть, понял меня? – Да, сэр, – ответил Гай. – Хорошо, тогда пошли! – сказал капитан Раджерс. Он поднялся по ступенькам и уверенно постучал. Как только дверь открылась, Гай понял, что это не первый визит капитана Раджерса к высшему должностному лицу острова. Часовой тотчас провел их мимо длинной очереди ожидающих приема у генерал-губернатора, но не в главный кабинет, а в меньшую по размеру комнату, где сидел секретарь. И здесь Гай вновь получил наглядный урок, как ведутся дела в мире мужчин. Капитан-американец сидел битых полчаса, ведя непринужденную беседу с секретарем. Они обсуждали погоду, виды на урожай, красоту Гаваны, цены на ром и сахар в Массачусетсе – все что угодно, кроме торговли рабами. На взгляд Гая, разговор был ужасно скучен, но это было не так. В прокуренной комнате ощущались скрытые токи волнения, напряженности, иногда даже сверкала незримая молния. Гай все это чувствовал, но не мог уловить суть дела, понять причины и следствия. Капитан Раджерс слегка сдвинулся с места, как будто собирался встать. Секретарь предупредительно поднял руку. – Не уходите, – сказал он вкрадчиво. – Полагаю, что его превосходительство будет рад побеседовать с вами. В тот же миг, будто по заранее условленному сигналу, дверь распахнулась, и его превосходительство генерал-губернатор острова Куба вошел в комнату. Это был высокий человек с огромными руками и ногами, чрезмерно тяжелым подбородком и мощными челюстями, что свидетельствовало о родстве с Габсбургами. Волосы его были светлыми, а маленькие серо-зеленые глаза все время конвульсивно, непроизвольно мигали, что оказывало на собеседника почти гипнотическое действие. – А! – воскликнул он. – Капитан Раджерс, дорогой мой! Надеюсь, у вас все в порядке? – Дела идут хорошо, ваше превосходительство, – ухмыльнулся Раджерс. – А как насчет контрабанды? – спросил генерал-губернатор. – И здесь никаких трудностей, amigo mio*["935]? – Никаких, сэр, – ответил Раджерс. – Ваши парни, как обычно, на все закрывают глаза. – Хорошо. Но комиссии из Англии проявляют все большую подозрительность. Боюсь, что в связи с этим придется увеличить расходы… – И я так думаю, – сухо сказал Раджерс. – Между прочим, раз уж речь зашла о расходах: я хотел бы отдать свой карточный долг дону Хайме в вашем присутствии, чтобы он не ссылался на свою забывчивость, как уже было однажды… Он вытащил из кармана кожаный мешочек, развязал шнурок и начал отсчитывать золотые монеты, выкладывая их столбиками на стол секретаря. Гай зачарованно смотрел, как росла эта куча. Наконец генерал-губернатор почти незаметно кивнул, и секретарь смахнул монеты в свой собственный маленький мешочек. – Я несу ответственность за эти деньги, – с улыбкой сказал генерал-губернатор. – Ваша уважаемая сеньора будет мне благодарна, если я не дам вам проиграть их… «Им нравится этот спектакль, – подумал Гай. – Все здесь прекрасно понимают, что происходит, но им надо соблюсти хотя бы видимость благопристойности. Из-за меня? Вряд ли. Генерал-губернатор знает, что я не пришел бы сюда с капитаном Раджерсом, если бы был в полном неведении относительно их дел…» Правила комедии требовали посвятить еще несколько минут праздному разговору прежде чем уйти. Они обменялись рукопожатиями с его превосходительством и направились к двери. Секретарь, дон Хайме, придержал капитана Раджерса за руку. – Мой дорогой капитан, – сказал он, – вы имеете репутацию щедрого человека. Должно быть, вы знаете, что моего секретарского жалованья едва хватает, чтобы обеспечить моей жене достаточное количество servidumbre*["936] для ведения хозяйства. Не могли бы вы привезти для меня следующим рейсом маленького Negrito*["937] не слишком прожорливого? – …или его стоимость в rouleaux*["938], не так ли, дон Хайме? – усмехнулся Раджерс. – Вас это устроит, надеюсь? – Вполне, вполне! – воскликнул дон Хайме, после чего капитан отсчитал две или три золотые монетки ему в ладонь. Попрощавшись, капитан и Гай неторопливо проследовали по длинному коридору на улицу. Весь следующий день Гай гонял шлюп своего приемного отца от острова к острову, взяв на борт капитана Раджерса в качестве пассажира. Старый янки был искусным мореплавателем. Он приказывал мальчику доставить его в определенные точки отдаленных островов и даже открытого моря. По прибытии он проверял местоположение корабля с помощью секстанта. Гай прекрасно знал, что мог бы проделать эти простейшие упражнения по навигации с завязанными глазами, но капитан Раджерс не выразил своего одобрения или неодобрения ни словом, ни жестом, ни выражением лица. Он сидел, подобно огромному языческому идолу, вырезанному из слоновой кости или тикового дерева, и наблюдал, как Гай демонстрирует искусство мореплавания и навигации. Наконец он проворчал: – Годится. Мы отходим завтра с приливом. Потрудитесь к этому времени быть на борту, штурман Фолкс. Теперь, когда дело было сделано, Гай начал осознавать, сколь велик его грех перед приемными родителями. Без сомнения, капитан Трэй любил его как собственного сына, а Пили (этим ласковым уменьшительным именем Гай мысленно называл Пилар) любила его не как сына, скорее, как любимого младшего брата, а в глубине души, возможно, и сильнее… Подобно многим другим одержимым морем юношам, Гай предпочел прощальную записку душераздирающей сцене расставания. Чтобы вынести ее, ему недоставало мужества высшего рода, хотя он, несомненно, обладал физической храбростью. Но он так долго возился в темноте и так шумно собирал вещи, возможно не без тайного умысла, что разбудил Пилар. Без сомнения, это не было похоже на него, умевшего на охоте бесшумно подобраться к своей добыче на расстояние полета стрелы, Тем не менее дело обстояло именно так: Гай Фолкс, ловкий, уверенный в себе, в ночь своего отъезда стал вдруг неуклюжим, перевернул скамеечку для ног, лихорадочно искал вещи, хотя точно знал, где они лежат. Состояние духа человека подвластно его воле в гораздо меньшей степени, чем он привык думать. Она вошла в комнату в одной ночной рубашке со свечой в руке. Ее распущенные волосы волной вздымались вокруг прекрасного лица и были черны, как бездна, как ночь без звезд, как мир до появления света. Она стояла, глядя на него; в мерцании свечи было видно, как дрожат ее побледневшие губы. – Ты… ты уезжаешь от нас, – прошептала она. – Но почему, Гай? Он распрямился, высокий рядом с ней; его тень, падавшая на потолок, казалась гигантской. Он долго-долго стоял глядя на нее. Когда же наконец заговорил, его голос дрожал от ярости и страсти. – И ты меня еще спрашиваешь об этом, Пили? – прошептал он. – Я… не понимаю, – сказала она. – Что я такого сделала? Разве я не была добра к тебе? Не любила как сына? Его глаза были холодны как лед. – Да-да, – сказал он спокойно. – Ты была так добра, так заботлива… Но я ведь мужчина, Пили, в моих жилах течет кровь. А ты – женщина, которая никогда не смогла бы быть матерью такому мужчине, как я, приехавшему сюда с моим прошлым, мужчине с моим характером… – Гай! – прошептала она. – Матери – старые женщины, Пили. У них седые волосы. Мужчина не сходит с ума от желания целовать их губы, они не стройны, как пальмы весной… Их походка не заставляет кровь пульсировать в ритме негритянского тамтама… – Гай! – воскликнула она умоляюще. – Нет, ты уж выслушай. Ты была ко мне добра, это верно, но твоя доброта понемногу убивала меня. Ты относилась ко мне с любовью – и это было адской мукой, проклятием, потому что та любовь, которую я желал от тебя получить, опозорила бы тебя навеки, а я бы не смог от стыда глядеть на себя в зеркало до конца своих дней, вспоминая о том, как добр был ко мне капитан. Теперь ты видишь… – Гай! – Я должен уехать. Может, я и смогу забыть, если это вообще возможно – забыть тебя, Пилар, когда любишь так, как я… Внезапно он отвернулся и, сделав несколько неверных шагов, опустился на стул, а когда она подошла к нему, то увидела в колеблющемся пламени потрескивающей свечи, что его плечи сотрясаются от мучительных рыданий. Ведь ему было всего лишь семнадцать лет. – Гай, – сказала она, и голос ее потонул в нахлынувшей печали, – послушай меня, hijo mio, мой большой и неистовый сын, если я виновата перед тобой, я смиренно прошу твоего прощения… Тогда он поднял покрасневшие глаза, схватил Пилар за руку, жадно и нежно целуя ее, и в этих поцелуях было больше страдания, чем страсти. – Ты просишь у меня прощения? – выдохнул он. – Пили, я готов встать на колени перед тобой, чтобы ты простила меня за то, что я наговорил! Я чувствую себя как жалкий шелудивый пес, который заслуживает, чтобы его пристрелили… – Нет, – сказала она с нежностью. – Ты мужчина, Гай, настоящий мужчина. Счастлива та женщина, которая станет твоей! Наверно, это моя вина, что я полюбила тебя, сама того не сознавая… Успокойся. Я не сержусь, но мне горько, что я тебя теряю. Гай неотрывно смотрел на нее. Она наклонилась и поцеловала его в губы, нежным, долгим поцелуем, но в нем не было страсти. – Adios, mi Гай*["939], – прошептала она. – Vaya con Dios – ступай с Богом! Потом она повернулась и вышла. Через некоторое время, собравшись с силами, вышел и Гай. Он ехал сквозь ночной мрак в сторону Реглы в полной уверенности, что сердце его навсегда осталось с Пилар. Позднее, как и все мужчины, он поймет и не слишком будет печалиться по этому поводу, что у каждой новой любви есть начало и конец. Но это будет позже. А теперь он всеми силами боролся с желанием громко кричать в пустые небеса о своем горе и своей муке.Глава 11
«Сюзанна Р.», судно капитана Раджерса, было бригом, то есть имело две мачты, а не три, как обычный корабль. Оно было очень узким, а нос подобен лезвию ножа: хотя жажда наживы требовала просторного, вместительного судна, осторожность (поскольку почти все великие державы объявили работорговлю вне закона) заставляла использовать быстроходные корабли, которые могли бы, как говорил капитан Раджерс, «обогнать британский крейсер, имея по паре матросов на баке и шкафуте, чтобы поднять кливера и мартин-гики…» Конечно, это было преувеличением, но «Сюзанна Р.» и на самом деле могла выжать узел или два при таком легком ветерке, когда даже с помощью смоченного пальца, поднятого вверх, невозможно определить, откуда он дует. К тому же на судне имелись три разные корабельные книги и соответственно три флага: португальский, поскольку Португалия была единственной великой державой, разрешавшей работорговлю и имевшей право согласно договору вести ее к югу от экватора; американский, потому что хотя возможность повстречать британский крейсер к северу от экватора и была велика, но все еще причинявшие англичанам боль воспоминания о 1812 годе сильно уменьшали вероятность попытки офицеров флота Его Величества взять судно на абордаж; и испанский, так как корабль фактически принадлежал Кубе: ведь синдикат, купивший и снарядивший его в плавание, возглавлял не кто иной, как скромный и якобы бедный переводчик дон Рафаэль Гонзалес. Для команды корабля было загадкой: обязан ли Гай своим привилегированным положением на судне тому, что его «представил» дон Рафаэль, или тому, что он был приемным сыном капитана Трэвиса Ричардсона. Никто среди навербованного из подонков сброда или тех, кто был выкуплен из тюрем доном Рафаэлем, ни даже среди тех, кто сам нанялся на судно, чтобы избежать ареста за воровство или непреднамеренное убийство, никто из них не был достаточно умен и сообразителен, чтобы понять резоны Джеймса Раджерса, этого лишенного сантиментов янки. На самом деле все обстояло гораздо проще: у капитана уже много лет не было толкового штурмана, и теперь, когда ему не нужно было исправлять ошибки вконец опустившихся пьяниц (а только такие офицеры шли на невольничьи суда), он испытывал огромное облегчение. Кроме того, по манере держаться Гай разительно отличался от других офицеров, а Джеймс Раджерс когда-то был джентльменом, и юноша давал пищу его ностальгическим воспоминаниям о прошедшей молодости. Вот почему он с грубоватым добродушием вверил Гаю управление кораблем и таким образом, сам того не желая, поставил под угрозу его жизнь. Слишком уж тесно тому приходилось соприкасаться с командой. Моряки питают инстинктивную неприязнь к любому новичку, становящемуся любимцем капитана, а эти отбросы гаванских тюрем и клиенты вербовочных контор чувствовали, что все в Гае: его юность, приятная внешность, опрятность, манера речи – свидетельствует о принадлежностик миру, в который они не могли войти, что вызывало в них черную зависть, столь обычную для дрянных людишек, и страстное желание этот мир уничтожить… На пятый день после отплытия из Гаваны, стоя у леера с подветренной стороны и наблюдая, как тяжело вздымаются и опадают волны, в то время как «Сюзанна Р.» бесконечно медленно продвигалась вперед, Гай Фолкс и не подозревал об опасности. Все вокруг восхищало его: элегантные обводы брига, кипение пены, которая вырывалась из-под его носа, как ножом разрезающего воду, туго наполненные ветром паруса, матросы, карабкающиеся как обезьяны по мачтам на самый верх, безбрежная пустота океана… Гай взглянул вниз на решетку, через которую поступал воздух на нижнюю палубу, предназначенную для невольников. Нагнувшись, он попытался заглянуть внутрь, но ничего не увидел. Там была полная темнота. В этот бело-голубой, залитый солнцем день люки не были задраены. Да и зачем – ведь грузом «Сюзанны Р.» были сейчас только товары на продажу и балласт. Гай быстро огляделся. На баке было пусто, никого не было и у переднего люка. Он глянул вверх: моряки ставили паруса, поскольку ветер изменил направление на четверть румба. Он нырнул в люк и через мгновение был уже внизу. Когда глаза Гая привыкли к темноте, он обнаружил, что на палубе для невольников было невозможно не только стоять, но и сидеть выпрямившись. Он быстро, но точно вычислил, что расстояние между двумя палубами меньше ярда в высоту. Встав на четвереньки, он рассматривал прикрепленные рядами к палубе ножные кандалы и цепи, предназначенные для невольников. Гай знал, что лодыжки двух рабов сковываются вместе кандалами, напоминающими своим устройством наручники, и приковываются к палубе короткой цепью. Подсчитав количество ручных кандалов и разделив его на два, он мог точно определить число негров, которых они возьмут на борт судна обратным рейсом. И он решительно пополз. Не преодолев и четверти расстояния до переднего трюма, он был уже весь в поту. Ему приходилось несколько раз останавливаться, потому что голова кружилась от недостатка воздуха, хотя все решетки и были открыты. Но Гай упорно двигался дальше. Если он сумел правильно высчитать, обратно они повезут двести двадцать африканцев. Он лежал прямо под одной из решеток в том же положении, что и негр, прикованный цепями, и подсчитывал в уме: «Палуба – четыреста четыре квадратных фута, это я знаю из судовых книг. Если разделить на двести двадцать, то получится меньше двух квадратных футов на взрослого человека!» Он пытался представить себе, как это будет, но не мог. Такая ужасная, безграничная жестокость была за пределами его опыта, его воображения. Здесь, под самыми решетками, он мог дышать, не испытывая большого неудобства, но стоило сдвинуться на несколько футов в ту или иную сторону, и сразу появлялись зловещие симптомы удушья. И это сейчас, когда невольничья палуба была пуста. А когда сотни чернокожих будут бороться за каждый глоток воздуха? Он пополз назад к люку, заметив по дороге, что палуба была безупречно чистой. Она была промыта из шланга, выскоблена и отдраена пемзой. И все же, несмотря на это, слабое, но почти непереносимое зловоние – сочетание запахов пота, мочи и человеческих испражнений – так и не выветрилось. «Если сейчас такая вонь, – подумал Гай, – хватая ртом воздух, что же нас ждет, когда судно будет до отказа забито ниггерами?» Он выбрался на палубу и столкнулся с помощником капитана Хорхе Санчесом, удивленно поднявшим брови. – И что же вы делали внизу, дон Гай? – вопросил он. – Смотрел, – спокойно ответил Гай. – Дон Хорхе, нельзя держать там так много людей, они все умрут! – Какие это люди! – улыбнулся Хорхе. – Черномазые. А это большая разница, мой милосердный юный друг. И они не умрут, по крайней мере, не все… – Но, – возразил Гай, – там не хватает места и воздуха… – Когда двинемся в обратный путь, установим виндзейли так, чтобы воздух попадал в трюмы при бризе, – сказал Хорхе. – При отсутствии бриза мы полностью снимем решетки, если поведение los Negros позволит это сделать. Мы даже будем их поочередно выпускать на палубу, чтобы они могли размяться, поесть и подышать воздухом. Кроме того, внизу мы держим только мужчин. Женщины находятся в каюте, а дети – всегда на палубе. При хорошем поведении женщинам разрешается гулять по палубе ночью, а это весьма занятное зрелище: из соображений гигиены мы везем их совершенно голыми, и хотя лица у них как у старых обезьян, зато тела нередко как у изваянных из черного дерева богинь. Гай уставился на него: – Вы хотите сказать, что спите с негритянками? И вам не противно, дон Хорхе? Меня бы, наверно, вырвало от одного прикосновения к какой-нибудь из них! Санчес откинул назад голову и громко расхохотался. – О мой юный пуританин! – проговорил он сквозь смех. – Такой взгляд на вещи, как у вас, очень редко встречается, и со временем он, несомненно, изменится. Конечно, я сплю с las Negras. А почему бы и нет, мой безгрешный дон Гай? Они устроены точно так же, как и все остальные женщины, и с большой охотой этим устройством пользуются. Вы убедитесь, что они – сосуды, полные пламени, и доставляют гораздо больше удовольствия, чем наши прекрасные кубинки, у которых хоть теплая кровь течет в жилах, не то что у ваших ледяных Nordicas*["940], которые все как одна ненавидят мужчин, питают отвращение к любви и производят потомство каким-то таинственным способом непорочного зачатия! Гай двинулся прочь, качая головой. Он был слишком погружен в свои мысли и не заметил, что Жан Ласкаль, мало напоминающее человека существо, исторгнутое из клоак Марселя, города, который мог бы с успехом поспорить за звание порочнейшего в мире, намеренно выставил свою огромную мускулистую ногу как раз на его пути. Гай рухнул на палубу, но тотчас вскочил. Его темные глаза горели гневом. – Morbleau!*["941] – выругался Ласкаль. – Протри глаза, дьявол тебя задери! Ты что, вообразил, будто можешь безнаказанно наступать на людей? – Ты нарочно это сделал, – сказал Гай, с трудом подбирая французские слова. – Вставай, ты, гнусная свинья, пока я не вбил тебе зубы в глотку! – О! – восторженно выдохнул Ласкаль. – Как он раскукарекался, этот юной петушок! Voila, mes gars! Regardez*["942], как я выщиплю из него перья! Он встал, приземистый, квадратный, мощный, и двинулся на Гая, вытянув руки. Гай сразу понял, что мериться с Ласкалем силой мускулов – глупость. Но уж в ловкости-то он мог с ним поспорить. Он отступил под медвежьим напором француза. Когда же Ласкаль бросился на него, Гай внезапно упал на палубу ему под ноги. Ласкаль неминуемо рухнул бы на него, но Гай, уперевшись в живот француза ногами, с силой распрямил их и бросил Ласкаля через себя, да так, что тот, ударившись о пушечный лафет, потерял дар речи. Француз встал на одно колено, тряся большой головой. Гай отступил к лееру и схватил кофель-нагель. И, когда Ласкаль, качаясь, поднялся на ноги, Гай вновь свалил его ударом, который расколол бы менее прочный череп. На этот раз француз остался лежать без движения. Гай постоял немного, глядя на него. Подняв голову, он увидел разбойничьи физиономии матросов, окруживших его кольцом. Переводя взгляд с одного лица на другое, Гай уже ясно осознавал, что должен делать дальше. И он пнул Ласкаля по ребрам еще три раза, точно и решительно. Гай уже не испытывал гнева и сделал это вполне хладнокровно, бесстрастно рассчитав, что лучше теперь один раз хорошенько отделать Ласкаля, чем в течение всего рейса бороться с этим сборищем отпетых негодяев. Отойдя от лежащего недруга, он понял, что достиг цели. Матросы глазели на него с благоговением и страхом. Жестокость, превосходящая их собственную, – единственный язык, который был им понятен. Ему, конечно, пришлось предстать перед капитаном и его первым и вторым помощниками, чтобы объяснить свой поступок. Но дон Хорхе, первый помощник, решительно встал на его сторону, заметив между прочим: – Сдается мне, что этот вспыльчивый бойцовый петушок хорошо поддержал дисциплину на судне. Он, con permiso*["943], сеньор, внушил этим свиньям немного крайне необходимого уважения к офицерам. Считаю, что его надо оправдать, предупредив, чтобы в будущем лучше владел собой. Удара кофель-нагелем вполне хватило, ногами – это уже было, guiza*["944], лишнее… Капитан Раджерс взглянул на Гая. Лицо капитана выражало суровость, но в глазах можно было заметить озорной огонек. – Ладно, – проворчал он. – Господин Фолкс, я буду высчитывать с вас дневное жалованье Ласкаля, пока он не поправится. Вопрос решен! На сорок первый день после отплытия из Гаваны они увидели Африку. Малым ходом они миновали три бесконечные линии, составлявшие Невольничий Берег: белую линию прибоя, желтую береговую линию и зеленую линию джунглей. Достигнув устья Рио Понго, они вошли в него. Гай стоял на носу, глядя на мангровые топи, на возвышавшиеся над ними шерстяные деревья и тамаринды, когда бородатый матрос ткнул его под ребро. – Смотри, парень! – сказал он, указывая пальцем вниз. Гай посмотрел и ничего не ответил. Но костяшки его пальцев, вцепившихся в леер, побелели. Они плыли в волнах прибоя, их было около пятидесяти: женщин и мужчин, уставившихся невидящими глазами в залитое солнцем небо. Их качало на волнах взад и вперед, между ними мелькали акулы, пихая их мордами, уже слишком сытые, чтобы продолжать свое пиршество. – Что это? – выдавил из себя Гай. – Что произошло? – Судно, на котором их везли, перехватил крейсер, – ухмыльнулся старый моряк. – Пришлось от них избавиться. Эти джонни булли*["945], они могут признать тебя виновным только тогда, когда найдут на борту ниггеров… Гай стоял не в силах отвести взгляд. – Ну как, парень, все еще думаешь, что сможешь стать работорговцем? – насмешливо спросил морской волк. Гай повернулся и взглянул на него, когда же наконец заговорил, голос его был холоден как лед, когда он вскрывается весной в горных озерах. – Да, – сказал он. – Уверен, что смогу. Так началась для него Африка.Глава 12
Они плыли вверх по реке сквозь густые, дышащие испарениями заросли. На ветвях деревьев, нависших над Понго, покачивались конусообразные гнезда ткачиков, причем птицы выбирали те ветки, которые были слишком гибкими для того, чтобы обезьяны и змеи могли добраться до драгоценных яиц. Обезьяны тараторили, прыгая по вершинам деревьев, время от времени останавливались поискать паразитов друг у друга, а затем неслись дальше, вспугивая стаи разноцветных птичек. Река золотом блестела на солнце. Гай заметил в воде множество полузатонувших бревен. Но в этот момент матрос на корме швырнул за борт какой-то мусор, и «бревна» тут же ожили и превратились в злобные существа, с невероятной скоростью ринувшиеся за добычей. – Крокодилы! – вскрикнул Гай, и старый морской волк, по какой-то непонятной причине взявший на себя задачу завершить его образование, расхохотался: – Они самые, – произнес он сквозь смех, – и заметь, парень: там, где загоны для рабов, там и крокодилы. Эти уродины, похоже, знают, где можно поживиться. Гай повернулся к старому моряку. – Из того, что ты мне говоришь, – сказал он, – я никак не могу взять в толк, какую прибыль можно извлечь из работорговли, ведь все, похоже, только и делают, что убивают ниггеров целыми партиями… – Нет, парень, ты неправильно понял мои слова, – серьезно сказал моряк. – Единственное, что я пытался тебе растолковать: эта жизнь сурова, и таким, как ты, лучше кончать с ней как можно быстрее. Ты производишь впечатление ученого человека и джентльмена. Мне доводилось видеть таких и раньше. Вначале-то они бодры и здоровы, а через несколько лет Африка губит их. Они подхватывают лихорадку и малярию, и им приходится накачивать себя ромом, чтобы как-то унять болезнь. Они живут с черными девками, которые своей ненасытностью доводят их до слабоумия и кормят всякой дрянью, состряпанной колдуном. Потом, когда они превращаются в трясущиеся развалины и больше не могут доставить удовольствие женщине, доза яда из дерева сэсси – и корм для крокодилов готов… – И все же, – сказал Гай, упорно возвращаясь к исходной точке разговора, – как все-таки насчет ниггеров, что плыли утром по реке? Я никак не могу понять, какой можно получить доход, если так много их умирает? – Доход, – мрачно произнес старик. – Да, пожалуй, из тебя выйдет работорговец. Будь уверен, парень, доход никуда не денется. Во-первых, капитан страхует свой груз в морских страховых компаниях на случай его утраты, поэтому несколько мертвых негритосов ничего не значат. Во-вторых, черный, который обходится нам долларов в двадцать-сорок, приносит от трех до пяти сотен долларов на Кубе. И пусть даже половина нашего груза перемрет – мы не будем внакладе. Уж конечно, мы делаем все, что в наших силах, чтобы доставить нашу черную слоновую кость по назначению не просто живыми, а так, чтобы они были здоровыми и упитанными. Само собой разумеется, парень. За мертвого негра денег не получишь… – Но ведь их там было больше сорока, – сказал Гай. – Несчастный случай. Скорее всего, крейсер болтался в устье Понго и укрылся, чтобы подловить невольничье судно. Дурак капитан перепугался и избавился от груза. Судя по тому, что плыло не больше пятидесяти мертвецов, это было маленькое судно. Из числа любительских. У настоящих капитанов побольше мужества. Никогда не слышал, чтобы профессиональный работорговец намеренно убил бы рабов, если они не взбунтовались, конечно. Но почти всегда происходят какие-нибудь несчастные случаи, приводящие к смерти. Помню, однажды вышли в море из Байи на португальском судне, заполнив бочонки соленой водой как балластом, собираясь сменить ее на пресную, перед тем как взять на борт рабов. Я пополнил запасы воды для экипажа, но чертов пьяница капитан забыл отдать приказ насчет воды для ниггеров. Им ведь на большинстве судов дают воду всего два раза в день, утром и вечером, поэтому лишь через двенадцать часов после отплытия от берегов Африки обнаружили, что взяли пресную воду только для команды. А капитан пьян, как всегда. Так и не смогли убедить его повернуть назад. Он свел наш рацион воды почти на нет, только бы черные выжили. И вот, когда мы прошли половину пути и было уже все равно, продолжать идти вперед или возвращаться, боцман нечаянно проговорился, что, по его расчетам, вода кончится за десять дней до того, как мы увидим землю… – И что же дальше? – Мы подняли мятеж. Даже офицеры присоединились к нам. Капитана в горячке убили и после этого совсем перестали давать воду черным. И все равно целых два дня жили без воды, пока не увидели Рио… – А что же негры? – спросил Гай. – Чистый убыток. Мы плыли еще двадцать пять дней после того, как подняли мятеж. Но такое редко случается. Чаще всего мы теряем ниггеров, когда приходится задраивать люки перед бурей или когда нас преследуют, – тогда они задыхаются или убивают друг друга, борясь за место у люков. Очень редко бывает, что врач или с пьяных глаз, или по невнимательности пропускает на борт ниггера, больного оспой. Если это обнаруживается вовремя, бедняге вливают настойку опия и выбрасывают за борт, потому что нет ничего хуже оспы. Кстати, парень, тебе делали от нее прививку? – Нет, – ответил Гай. – Лучше бы тебе ее сделать, когда мы вернемся на Кубу. Это не очень больно, только тошнит немного. Никогда не знаешь, какая зараза тебя ждет в этой Африке. Но мы-то уже прибыли! В Понголенде мы возьмем нашу черную слоновую кость… Стоя на палубе, Гай разглядывал расположенную как раз напротив группу приземистых строений в джунглях недалеко от берега. Все они были выстроены из бамбука, густо обмазанного илом. Одно или два из них побелены. Рядом с «Сюзанной Р.» стояло на якоре еще одно судно, между ним и пристанью сновали взад и вперед каноэ, загружая его рабами. Гай прочитал название судна – «Луи» и вновь переключил свое внимание на работорговую факторию. – Я должен идти, парень, – сказал старый моряк. – Надо получить товары для торговли с его милостью монго Жоа… – Что еще за монго Жоа? – спросил Гай. – Владелец этой фактории. Португальский ниггер по имени Жоа да Коимбра, и до чего спесивый! Ты его скоро увидишь. Ну пока, парень… Гай перегнулся через леер и тотчас услышал шелест шагов, как будто кто-то осторожно, на цыпочках шел по палубе. Подняв голову, он увидел Жана Ласкаля, который только вчера стонал, уверяя, что совсем не может двигаться. Подкравшись к ограждению левого борта, Ласкаль свесился вниз и начал какие-то переговоры с неграми, которые подплыли в каноэ, чтобы выпросить dash*["946], как называют подарки на Невольничьем Берегу. Говорил он на сусу, поэтому Гай не имел ни малейшего представления, о чем идет речь. Негр из лодки прокричал что-то в ответ. Через мгновение сделка состоялась, и Ласкаль швырнул за борт рулон белой ткани, очевидно украденной из судовых запасов. Затем он извлек свой матросский мешок из-под шлюпки, где, очевидно, спрятал его прошлой ночью, и с проворством, удивительным для человека, который в течение сорока дней твердил, что на всю жизнь остался калекой, перекинул свое тело через леер и спрыгнул в каноэ. Черные гребцы опустили весла в золотистые от ила воды реки, и лодка стрелой понеслась к «Луи». На мгновение у Гая возникло желание сообщить об этом человеке капитану Раджерсу, но он решил не делать этого. «Скатертью дорога, – подумал он весело. – Теперь можно плыть назад спокойно…» Через несколько минут матросы спустили на воду капитанскую шлюпку. Раджерс и дон Хорхе покинули каюту и сошли вниз по веревочному трапу. Гай смотрел на плывущую к берегу шлюпку и ругал себя за внезапную застенчивость, помешавшую попросить взять и его с собой. Их не было весь день. Когда же они вернулись на берег, с ними был и сеньор Коимбра, монго Понголенда. Гай разглядывал огромного мулата с откровенным любопытством. Жоа да Коимбра был выше шести футов и обладал могучим телосложением, но теперь, после многих лет малоподвижной жизни, его мускулы ослабли и заплыли жиром, а лицо, которое в молодости было красивым, портил тяжелый подбородок, да и отекло оно изрядно от разгульной жизни. Цвет его кожи был не намного темнее, чем у белого, проведшего годы под африканским солнцем, но волосы курчавились так же сильно, как у чистокровного негра, а губы, полные и мясистые, придавали всему лицу выражение жестокой чувственности и странно контрастировали с орлиным носом, характерным для европейца. На нем были тропические брюки безупречной белизны, белоснежная рубаха, расстегнутая до пупка, что позволяло ему время от времени вытирать свое большое брюхо огромным носовым платком из прекрасного шелка. Капитан Раджерс приказал накрыть стол на палубе, поскольку жара в его каюте даже поздно вечером была невыносимой. Гостю были предложены портвейн, шерри и богатый выбор прекрасных французских и итальянских вин, а кушанья, поданные к столу, включали все лучшее из корабельных запасов. Гай изумленно взирал на это представление. В Фэроуксе он не раз был свидетелем того, как торговцев-квартеронов или портных, имевших лишь восьмую часть негритянской крови, – людей, внешне ничем от белых не отличавшихся, впускали в дом только с заднего крыльца, если было известно хотя бы о капле негритянской крови в их жилах. Гай не мог даже представить себе, что белый может принимать негра за своим столом, а для него негром был человек, имевший хотя бы ничтожную примесь негритянской крови. Но вот сейчас капитан Раджерс и его помощник не только ужинали в компании этого большого толстого мулата, но и непринужденно беседовали с ним, любезно и уважительно. Разговор велся на английском, и монго говорил на нем прекрасно, с заметным британским акцентом. Время от времени он обращался к дону Хорхе на испанском, почти столь же безупречном, а иногда и на родном португальском, достаточно похожем на испанский, чтобы Гай мог легко уловить смысл. Товары на продажу стоимостью в пятнадцать тысяч долларов, включающие ткани, огнестрельное оружие, кубинские сигары, были осмотрены и одобрены еще до начала трапезы, и теперь, когда она подходила к концу, монго Жоа с явным удовольствием закурил puro и, гостеприимным жестом разведя свои большие сильные руки, сказал: – Надеюсь, вы не откажетесь провести несколько дней с нами, капитан Раджерс. К несчастью, француз, это безмозглое существо, значительно опустошил мои запасы: из-за его недальновидности я вынужден предложить вам на пятьдесят негров меньше… – Что же случилось, сеньор? – спросил капитан Раджерс. – Вы видели тела, плавающие в волнах прибоя? Три дня назад я передал ему партию груза. Когда чернокожие были на борту, этот проклятый дурак приказал задраить люки. При такой-то жаре! Ясно, что к утру пятьдесят негров умерли от удушья. Пришлось их заменить… – Но почему же, дон Жоа? – спросил дон Хорхе. – По-моему, у вас не осталось перед ним никаких обязательств… – И я так считаю, – рассмеялся монго, – но лягушатник так жалобно скулил, что в конце концов я выделил ему еще одну партию, но по сто долларов за голову! Естественно, джентльмены, когда он согласился на такую неслыханную цену, я не смог ему отказать. В конце концов, я занимаюсь этим бизнесом не ради удовольствия… «Хотя это и француз, но ведь речь идет о белом человеке, – раздраженно подумал Гай. – Проклятый цветной ублюдок! А капитан с доном Хорхе сидят рядом и позволяют ему говорить черт знает что! Эту жирную тушу на недельку бы в Фэроукс! Я б его научил уважать белого человека!» – Между прочим, – продолжал да Коимбра, – один из членов вашей команды сбежал к мсье Уазо. Вы знаете это, капитан? – Нет, черт возьми! – воскликнул капитан Раджерс. – А кто? – Да эта скотина из Марселя, Ласкаль. Сегодня утром он появился на борту «Луи», жаловался на плохое обращение. Дескать, один из ваших младших офицеров жестоко его избил. Думаю, он вполне это заслужил. Хотел бы я увидеть человека достаточно сильного, чтобы отдубасить это животное. Ведь он будто сделан из дуба… – Сейчас я вам его представлю, – усмехнулся капитан Раджерс. – Господин Фолкс, подойдите сюда, пожалуйста! Гай приблизился. – Этот мальчик! – воскликнул монго. – Не может быть! Господи, как же он сумел? – Отвага, а к тому же – преимущество в быстроте и сноровке. Так или иначе, я рад избавиться от Ласкаля. Отличный подарок для Уазо! А теперь, сеньор да Коимбра, разрешите представить вам моего штурмана Гая Фолкса… Монго Жоа встал и протянул руку. Гай не сдвинулся с места, храня холодное молчание. – Господин Фолкс! – прогремел капитан Раджерс. – Что это значит? –Я с Миссисипи, сэр, – спокойно сказал Гай. – Мы не подаем руки неграм. Никаким неграм, сэр, даже таким изысканным, красноречивым мулатам. Капитан Раджерс вскочил, лицо его было каменным. – Господин Фолкс, – сказал он ледяным тоном, – ступайте вниз. Считайте, что вы под арестом. – Не надо, капитан, – рассмеялся монго. – Мне нравится его самообладание. Прошу вас, простите мальчика. Он молод, и ему еще многому предстоит научиться. Мне и раньше встречались южане. Ужасно упрямые люди, но при этом очень порядочные, если жизнь научила их уму-разуму. Я, может быть, даже смогу, по мере своих сил, способствовать его образованию… – Ладно, – сказал Джеймс Раджерс, – но только при условии, что вы сразу же извинитесь, господин Фолкс! Гай взглянул на капитана. – Это приказ, сэр? – спросил он. – Конечно! – проревел Раджерс. – Тогда я приношу извинения. – Хорошо, можете идти, – произнес капитан холодно.На следующий вечер монго устроил им африканское пиршество, которое не уступило бы королевскому по своей щедрости. Там были зажаренные целиком молочные поросята, начиненные картофелем и маниокой, цыплята, тушенные в свежем виноградном соке и поданные с гроздьями винограда и миндалем, рис с шариками бараньего фарша и молотым арахисом. На десерт подали вареный рис, высушенный на солнце и истолченный в пудру, которая была затем вновь проварена в козьем молоке и перемешана с медом, а для тех, кто обладал более тонким вкусом, – дольки апельсина, посыпанные сахаром и высушенным кокосом, плавающие в розовой воде среди лепестков роз. Все это запивалось пальмовым вином, бренди, шерри, портвейном, виски, джином, какао-ликером, абсентом и дюжиной других напитков, о которых Гай и не слыхивал. Он потягивал вино маленькими глотками, помня о совете отца не напиваться в присутствии человека, которому не доверяешь. Он видел, что даже капитан навеселе, что же касается дона Хорхе Санчеса, то он пел кастильские песни, выкрикивая их во всю мощь легких. Да и сам монго уничтожил чудовищное количество спиртного, но, насколько мог заметить Гай, это никоим образом на него не повлияло. Монго поднял огромные руки и дважды хлопнул в ладоши: тотчас в комнате появились музыканты. У них были арфы – деревянные треугольники со струнами из тростниковых волокон, банджо – бутылочные тыквы, с туго, как барабан, натянутыми шкурами и струнами из кишок, маримба – примитивные ксилофоны из дощечек красного дерева с тыквенными резонаторами под каждой из них. Были, конечно же, и неизменные тамтамы. По сигналу монго они подняли адский шум, который Гай вначале едва ли мог воспринять как музыку. Но вскоре из визгливого диссонанса начал выделяться отчетливый ритм. Барабаны подхватили его, усилив, затем занавески, отделяющие гостиную от алькова, раздвинулись, и одним длинным парящим прыжком вылетела и встала перед оркестром танцовщица из Тимбо. У племени фулахов из Тимбо арабская кровь преобладает над негритянской, и это сразу бросалось в глаза. Густые черные брови сходились над орлиным носом; горящие пламенем глаза были как раскаленные угли; на ее, словно из красного дерева, лице выделялись губы цвета темного вина, полные, влажные и зовущие. Она была обнажена до пояса, если не считать бряцающих браслетов. Ее великолепные груди, высокие и торчащие, блестели от ароматизированного масла, которым была умащена вся верхняя часть тела. На ней были турецкие шаровары дымчато-багряного цвета, стан танцовщицы опоясывал кушак, какие носят в гареме, стройные лодыжки охватывали браслеты чеканного золота. В уши были вдеты золотые кольца, и, когда она, вращаясь, приблизилась, Гай увидел, что у нее проткнуты ноздри и в одной из них – жемчужина величиной с яйцо небольшой птицы. Она все кружилась и кружилась, и вместе с ней, подобно языку пламени, кружился повязанный вокруг головы алый шелковый шарф, а из-под него, как темный дым от огня, пенились черные словно ночь волосы. Когда же ритм барабанов замедлился, она остановила свое кружение как раз напротив Гая. Широко расставив ноги и подняв руки к потолку, танцовщица стояла совершенно неподвижно, хотя казалось, что ее стройное тело выше бедер жило своей собственной жизнью. Постепенно волнообразная дрожь охватила ее: мускулы под кожей цвета красного дерева вздымались и ползли вверх как змеи, в то время как великолепные груди совершали кругообразные движения в наполненном дымом благовоний воздухе. Она теперь двигалась короткими резкими толчками, пока не оказалась в каких-то дюймах от юноши. И вот ее мускулистое тело уже покачивалось рядом с ним, как большая, темная, удивительно грациозная змея, но чудесным образом не касалось его. Лицо Гая стало краснее закатного солнца, а на лбу выступили большие капли пота, блестевшие в свете масляных ламп. Музыка резко смолкла. И мгновенно, как будто с наступлением тишины из нее ушла жизнь, девушка из Тимбо всем своим внезапно ослабевшим, словно бескостным, телом рухнула в руки Гая Фолкса. А он сидел как истукан, с выражением такого нелепого изумления и испуга на юном лице, что вся компания покатилась со смеху. Они хохотали во все горло, улюлюкали, гоготали, хлопали друг друга по спине, показывая трясущимися от смеха пальцами на ошеломленного юношу. «Прокляни их всех Бог, – подумал Гай. – Я покажу им, как надо мной смеяться!» Внезапно он подался вперед, пригнув танцовщицу к полу, нашел ее рот и грубо впился в него губами – глаза ее широко открылись, опалив его пламенем, а затем вновь закрылись, что, видимо, означало полную расслабленность, сдачу на милость победителя. Смех прекратился. Гай почувствовал на своем плече тяжелую руку. Повернувшись, он увидел улыбающееся лицо монго Жоа. – Прошу прощения, господин Фолкс, – сказал он учтиво, – эту женщину трогать нельзя. Она моя третья жена. Но вы очень храбрый юноша и понравились мне, поэтому я предложу вам взамен другую… Он повернулся к одному из негров. – Нимбо! – приказал он. – Приведи сюда Билджи! Огромный негр приложил руку ко лбу в знак повиновения, поклонился и исчез. Через две минуты он вернулся, ведя за руку еще одну девушку из Тимбо. Грубо впихнув ее в комнату, он остановился в дверях, безучастно сложив руки на груди. Девочка, а ей было не больше четырнадцати лет, нетвердо стояла на ногах вся дрожа, по ее медно-красному лицу струились слезы. В ней не было свирепой, хищной красоты танцовщицы. Красота Билджи была мягкой, детской и делала ее удивительно привлекательной. Из-под густых бровей – а они были отличительной чертой девушек племени фулах из Тимбо – смотрели светло-серые глаза, резко выделявшиеся на темном лице с тонкими чертами и орлиным профилем, – чувствовалась сильная примесь арабской крови. Мягкий и нежный рот, казалось, был создан для ласки, а не для сладострастия. Тело, в самой поре цветения, пока еще не обрело зрелых женских форм и было пленительно гибким и стройным – или, по крайней мере, должно было быть таким, поскольку она была беременна, что сразу бросалось в глаза. – Ну, господин Фолкс, – сказал монго, – она вам нравится? – Она… она… – выдавил Гай. – Знаю. Но вам не стоит беспокоиться по этому поводу, – учтиво сказал да Коимбра. – Я осведомлен о вашей неприязни к своим темнокожим собратьям. Ребенок должен родиться почти таким же белым, как и вы, господин Фолкс, а может, даже светлее – ведь у вас темный цвет волос, а мужчина, от которого он родится, – блондин… – Так это не ваш ребенок? – непонимающе переспросил Гай. – Конечно, нет. Состояние бедняжки Билджи – прекрасный пример высоких моральных качеств высшей расы. Я выкупил ее у бывшего хозяина, хотя фактически она была свободна и не подлежала продаже. Видите ли, господин Фолкс, она жила раньше у одного торговца, вашего соотечественника и аболициониста. Билджи считалась личной служанкой его дочери, которая была на два года ее старше. Само собой разумеется, этот благородный белый джентльмен не мог держать ее больше у себя – ведь тогда состояние Билджи открылось бы его дочери. А поскольку я всегда рад оказать услугу представителю высшей расы, я ее выкупил за такое количество рома, что он пил целый месяц и был на седьмом небе от счастья… – Вам не следует так говорить о белых людях! – возмущенно воскликнул Гай. – Осмелюсь предположить, – вежливо заметил монго, – что белым людям не следует поступать подобным образом. Так вам понравилась девушка, господин Фолкс? – Нет, – холодно произнес Гай, вставая. – Довольно с меня ваших шуток, монго. Забирайте девчонку и развлекайтесь с ней сами. И он шагнул за порог в темную африканскую ночь.
На следующее утро Гай проснулся от грохота ружейной пальбы. Он соскочил с гамака и бросился к окну бамбуковой хижины, в которой поселил его монго. Посреди площади негры да Коимбры палили из мушкетов в небо. Гай почувствовал разочарование: им не надо было отражать атаку неприятеля – первое, о чем он подумал, заслышав залпы. Негры улыбались во весь рот, явно радуясь тому дьявольскому шуму, который они производили. Гаю показалось, что залпы отдаются в холмах и эхо разносится над джунглями, но через мгновение он понял, что этот слабый отдаленный звук вызван ответной стрельбой. Он поспешно оделся и вышел на площадь. – Что, черт возьми, происходит? – спросил он одного из негров. – Караван идет, кэптен, – весело сказал негр. – Кэптен знает караван? Много негров, толстых, сильных. Стоят много мушкетов, табака, тканей. Кэптен знает? – Да, – ответил Гай. – Я тебя понимаю. Но почему вы стреляете? – Приветствуем их. Говорим, рады, что они идут. Шлем им fanda. И bungee тоже. Делаем colungee. Много говорим! – Хорошо, – сказал Гай. – Не так быстро, парень. Что вы им шлете? – Fanda – еду, вино – много выпивки. Шлем им также bungee – подарки, даем вещи, они довольны. – Вы отправляете навстречу каравану еду и вино, – сказал Гай, – потом шлете подарки. А ты еще говорил о чем-то, что это такое? – Кэптен не знает? Кэптен очень новый, очень молодой. Мы здесь делаем colungee – много еды, много вина, много танцев… Потом большой разговор. Все говорят. Начальники каравана делают dantica – говорят, зачем они пришли. Потом торгуем… «Да, ужасно много надо еще узнать», – подумал Гай. Впрочем, он уже узнал немало нового. До сих пор он был убежден – или же такое впечатление сложилось у него из прочитанных книг, – что работорговлей во внутренних районах Африки занимаются исключительно арабы, а не купцы, приплывающие из заморских стран. Теперь он видел, что это не так. Единственное различие между предводителем каравана, его стражами и людьми, чьи шеи были связаны попарно веревками, состояло в том, что первые были свободны и умело орудовали плетьми. Позднее он узнал, что не меньше девяноста процентов черных продаются в рабство за океан своими же соплеменниками…
Гай увидел, что дон Хорхе выходит из своей хижины сладко зевая, и тотчас же подошел к помощнику капитана. – Посмотрите! – сказал он. – Они все негры! А я-то думал… – …что мы лазаем по лесам и сами на них охотимся? – спросил дон Хорхе. – А зачем? В этом нет необходимости, мой мальчик. Негры были рабами еще с доисторических времен. Задолго до того, как белые люди появились в Африке, одни из них порабощали других, а потом продавали египтянам и арабам. Конечно, сейчас еще хуже. Мы разожгли в них алчность, и они сделали рабство наказанием за любое преступление: воровство, убийство, супружескую измену, колдовство, бунт против отцовской власти… – Вы хотите сказать, что они продают собственных детей? – спросил Гай. – Конечно. А также братьев, сестер, надоевших жен, отцов, чью власть они хотят незаконно захватить. Разве вы не знаете, что в большинстве африканских языков нет слова, обозначающего добро в его духовном значении? Они могут сказать, что пища хороша на вкус или что женщина хороша, когда лежишь с ней в темноте. Но они не могут сказать, что человек – хороший. Эта мысль просто не приходит им на ум… – Ум! – фыркнул Гай. – Никогда не приходилось встречать негра, в мозгах у которого было бы что-то похожее на ум. – Ну, здесь ты не прав, сынок. Некоторые из них очень умны. Люди, которые привели этот караван, по своим умственным способностям нисколько не уступают белым. Это фулахи, мусульманское племя. Они могут читать и писать по-арабски, хорошие математики и чуть ли не лучшие в мире ремесленники, работающие с золотом и железом… – Но я думал, – сказал Гай, – что эта танцовщица – из фулахов. Она ведь не негритянка. А эти – негры! – Та девушка тоже фулашка. Фулахи – смешанное племя. Многие из них унаследовали черты своих арабских предков, особенно те, кто живет в городе Тимбо, – они благодаря бракам между родственниками свели к минимуму примесь негритянской крови. Ты видишь, что, хоть они и черные, носы и губы у них скорее как у белых, а не как у африканцев… Гай принялся внимательно рассматривать невольников. – Не у всех, – сказал он. – Конечно, нет, – согласился дон Хорхе. – В конце концов, фулахи – негры, несмотря на свою арабскую кровь. И все же удивительно, что многие из них столько веков спустя больше похожи на мавров, чем на негров. Мандинго, их соседи, которые тоже мусульмане, – совершенно черные, может, потому, что не пытались сохранить арабскую кровь… А вот и наш добрый монго пришел вручить им подарки, щелкает пальцами и начинает переговоры… Гай наблюдал странную церемонию африканских приветствий. Все с большим энтузиазмом щелкали пальцами. Затем монго одарил гостей рулонами белой хлопчатобумажной ткани, немецкими зеркалами, бусами и ромом. Вождь фулахов произнес свою dantica, в которой объяснил цель своего визита. Монго выслушал его с серьезной учтивостью, хотя цель визита была очевидна: обнаженные невольники стояли позади вождя в цепях и оковах, пока он говорил. Гай был уверен, что теперь-то уж начнется торг. Но он не учел африканской страсти к церемониям и представлениям. Никакая сделка не заключалась без соlungee – большого пира. Он продолжался весь день и большую часть ночи. В конце концов все это так надоело Гаю, что при первой же возможности он улизнул к себе в хижину, чтобы поспать. Шум долго не давал ему уснуть, но лишь только начал он погружаться в сон, как что-то – то ли шепот, то ли какой-то тихий звук – заставило его вскочить с гамака. В темноте хижины возникли очертания чего-то еще более темного, двигавшегося, приближаясь к нему. Гай опустил руку и нашел пистолет. Но в этот момент тень пересекла оконный проем и яркий блик костра осветил лицо. – Билджи! – выдохнул Гай. Она приложила палец к губам. – Молчите, господин! – прошептала она на удивительно хорошем английском. – Монго Жоа не должен ничего знать! Она подошла ближе. И Гай увидел слезы на ее темном лице: в свете пламени они были красными, как капли крови. – Почему ты не возьмешь меня с собой, господин? – прошептала она. – Я хорошая девушка. Я трудолюбивая. Я принесу господину много мальчиков, да! Не бросай меня, господин! Монго жестокий. Монго бьет Билджи, когда пьян. Может и ребенка убить, да. Пожалуйста, господин, возьми меня с собой! – Билджи! – воскликнул Гай. – Я не могу! Ты не знаешь, какой у нас корабль! В твоем положении ты наверняка умрешь! Билджи медленно осмысливала сказанное. – Корабль плохой? – спросила она. – Очень плохой, – выпалил Гай. – Негде спать. Пища ужасная, качка, ветер воет, матросы жестоки. Ты поняла, Билджи? Поняла, почему я не могу тебя взять? Билджи кивнула. Сочувствия, явственно прозвучавшего в его голосе, было достаточно, чтобы она приободрилась. – Да, я понимаю. Но господин добр, он вернется после того, как родится ребенок, и заберет с собой бедную Билджи? – Она внезапно улыбнулась, зубы ее блеснули жемчужинами на темном лице. – Господин – добрый и красивый человек! – Спасибо, Билджи, – усмехнулся Гай. – Ты тоже красивая. Скажи мне, как ты научилась говорить по-английски? – Старый хозяин научил Билджи. – А какой был твой старый хозяин? – Большой. Тоже красивый, хотя и старый. Волосы как желтая трава, как закат солнца. Глаза как море. А маленькая мисси! Красивая! Но старому хозяину пришлось продать Билджи, чтобы маленькая мисси не видела моего большого живота и не видела ребенка, почти такого же белого, как старый хозяин. Теперь Билджи хочет уехать за море, подальше от плохого, безобразного, толстого, жестокого монго. Господин вернется и возьмет ее, да? – Да, – поспешно сказал Гай. – Я вернусь, Билджи. – Господин поцелует Билджи в знак нашего договора? Гай воззрился на нее. – Ладно, – угрюмо сказал он. – Иди сюда… Ее губы были удивительно теплыми и мягкими. И солеными от слез. Но поцелуй не был неприятен ему. Совсем нет. Лежа в темноте после ее ухода, Гай жестоко ругал себя. «Бедняжка, – думал он, – несчастная негритянская девчонка! Но что еще я мог сделать? Никогда бы от нее не отвязался, если бы сказал ей правду». Он долго не мог уснуть. Через три дня партия негров для «Сюзанны Р.» была набрана. Гай помогал дону Хорхе надзирать за их подготовкой к путешествию. Чтобы избежать вшей, головы всех мужчин и женщин были гладко выбриты. Затем матросы с удовольствием, покоробившим Гая, заклеймили их всех раскаленным железом, проставив метки различных владельцев груза. Клеймо не вдавливалось глубоко в кожу, а быстро и легко касалось ее, образуя волдыри. Дон Хорхе заверил Гая, что клейменые места со временем полностью заживут. В день выхода в море для всех обитателей невольничьих загонов было устроено обильное пиршество, причем в меню входили и деликатесы различных племен. Пальмового вина им было выдано ровно столько, чтобы поднять настроение, но чтоб они при этом не перепились. А когда трапеза, сопровождавшаяся пением, завершилась, их погрузили в каноэ и повезли на «Сюзанну Р.». Они поднимались на борт, и матросы грубо срывали с блестевших от пота тел едва прикрывавшие их клочки одежды. Голыми появились они здесь, в Африке, на свет, голыми их отсюда и увозили. Мужчины были закованы в ножные кандалы: каждый из них, изогнувшись, лежал на правом боку головой на коленях соседа; женщины помещены в каюту, а детям разрешалось свободно ходить по палубе. Когда все они были благополучно размещены, монго Жоа пришел на корабль, чтобы попрощаться. Он обменялся рукопожатием с капитаном и помощником, а затем протянул руку Гаю. На этот раз Гай пожал ее. – Счастливого пути, господин Фолкс! – прогудел огромный мулат. – Если вам когда-нибудь надоест море, приезжайте в Понголенд. Вы получите должность моего секретаря и малютку Билджи в придачу, если захотите. Подумайте об этом. Уверяю вас, что еще ни один человек, если он не капитан, не разбогател, плавая на невольничьем судне, да и весьма немногие капитаны добились этого. Другое дело – фактория. Подумайте, мой мальчик… – Спасибо, монго, я обязательно подумаю… – ответил Гай. Возможно, если бы первый обратный рейс хоть сколько-нибудь походил на последующие, Гай сразу бы отказался от всего, что связано с работорговлей. Но рейс оказался исключительно удачным. Негры были послушны, погода превосходной. Никто из рабов не пытался совершить самоубийство, удушив себя, или выбросившись в море, или прибегнув к какому-нибудь более сложному способу вроде отказа от пищи. Не возникло и какой-либо ужасной болезни, из тех, что уничтожают половину груза. Все это вместе взятое и обмануло юного Гая Фолкса. На судне быстро установился обычный распорядок. В десять утра и четыре дня людей выводили на палубу и кормили. Их разбивали на группы по десять человек и заставляли мыть руки в соленой воде. Затем под крики «viva laHavana!*["947]» и громкое хлопанье в ладоши перед каждой группой, в зависимости от того, к какому племени она принадлежала, ставили общий бачок с рисом, маниокой, картофелем или бобами. Матрос, вооруженный плетью-девятихвосткой, стоял рядом. После первого щелчка плети неграм разрешалось погрузить руки в бачок. Другой щелчок – они подносили еду ко рту и глотали. «Если бы не такой порядок, – объяснил Гаю старый моряк, – все пожирали бы самые жадные, а медлительные оставались бы голодными». Дважды в сутки каждому негру выдавалось по полпинты воды. Во время прогулок по палубе между мужчинами и женщинами бродили мальчики с трубками, набитыми табаком, давая и тем и другим сделать одну-две затяжки, чему они, казалось, были безмерно рады. Трижды в неделю их рты промывались уксусом, и его же заставляли пить по глотку каждое утро, чтобы предотвратить цингу. Раз в неделю цирюльник скреб им подбородки и срезал ногти до мяса, что предохраняло от серьезных ранений во время драк, случавшихся по ночам, когда, стараясь отвоевать себе как можно больше места для сна, рабы яростно сражались за каждый дюйм палубы, на которой они лежали мокрые от своего и соседского пота. Днем мужчинам и женщинам разрешалось разговаривать друг с другом, но строгое наблюдение мешало им завязывать более близкие отношения. На ночь мужчин с руганью и щелканьем плети загоняли вниз, и матросы могли беспрепятственно развлекаться с женщинами. Как почти всем прочим, Гаю приходилось ночевать на палубе, поскольку помещения для младших офицеров и для членов команды были теперь заняты женщинами, и только через неделю или две он научился крепко спать, не обращая внимания на тесно сплетенные в каких-то двух футах от себя тела и производимый ими шум. В течение всего рейса не прекращались и бесконечные уборки судна под руководством боцмана. Матросы ежедневно окатывали водой и драили палубу, поливали негров из шлангов. Группа рабов скоблила и терла пемзой невольничью палубу, когда их товарищи по несчастью были наверху. И все же оттуда шло отвратительное зловоние, хотя со временем Гай к нему притерпелся и не замечал больше. Да и к жизни этой новой он привык, на свою беду. И если раньше, еще до того как он вышел в море на борту «Сюзанны Р.», его иногда еще мучили угрызения совести, а воспоминания о Фиби вызывали жалость к неграм вообще, то в этом первом плавании сомнения и жалость все реже и реже посещали его. Он видел, как чернокожие, которым давали кнут и назначали надзирать ночью за собратьями-рабами, награждая за этой старой рубашкой и парой матросских штанов, стегали своих товарищей по несчастью с такой жестокостью и удовольствием, что было противно смотреть. Он узнал, что два или три негра, закованные в цепи, – свободные люди, которым заплатили, чтобы они играли роль рабов и сообщали бы команде о малейших признаках мятежа. Он видел услужливость чернокожих женщин, их всегдашнюю готовность удовлетворить похоть матросов, а подчас и сознательное стремление разжечь ее. К тому времени когда они достигли берегов Кубы, он уже не испытывал к негритянской расе ничего, кроме презрения. А самое печальное – он смирился со своим новым местом в жизни. И, хотя ему минуло восемнадцать – а это случилось на пути в Африку и осталось никем не замеченным, – он все еще был слишком юн и неопытен и не мог понять, что путает причины и следствия. И не его вина была в том, что он судит о целом народе по тем его подонкам и отбросам, с которыми вынужден был общаться. Для него негр всегда оставался негром: Гай не делал никаких различий между гордыми, благородными масаи, кафрами, дагомейцами и ашанти и племенами вайдах, эбоу, конго, фулах, вей и фольджи, которые испокон веков пребывали в рабстве и настолько усвоили непременные признаки рабского состояния – жестокость, трусость, отсутствие расовой солидарности и сплоченности, что за триста лет рабовладения в Америке ни одна из многочисленных попыток восстаний не привела хотя бы к частичному успеху. Если бы юный Гай Фолкс был более беспристрастен, он мог бы понять, что этику человеческих отношений нельзя свести к алгебраическим формулам, нельзя, приравняв одно зло к другому, взаимно их нейтрализовать. Какими бы ни были люди, которых Гай помогал покупать и продавать, – жадными, корыстолюбивыми, эгоистичными, неверными, лишенными собственного достоинства (что превосходно сочеталось с той ролью двуногих вьючных животных, для которой они были предназначены), факт остается фактом: нет никаких оправданий тому, что Гай Фолкс на целых четыре года, с восемнадцати до двадцати двух лет, подавил в себе милосердие, заглушил угрызения совести, стал бессердечным как камень, отверг саму идею братства между людьми, погряз в жестокости и равнодушно взирал на самые немыслимые человеческие страдания… Итак, обратный рейс был на редкость успешным. Только три негра умерли и были выброшены в море. А самое главное – капитан Раджерс не вычел из жалованья Гая деньги, предназначенные Ласкалю, так что, направляясь из Реглы в Гавану, он слышал звон серебра в карманах и знал, что он наконец на верном пути…
Глава 13
В третий день сентября 1842 года клипер «Марта Джин» отчалил от берегов Африки и вышел в море, увозя из родных мест восемьсот рабов-вайдахов, так что на невольничьей палубе на каждого приходилось шестнадцать дюймов в ширину и пять футов два дюйма в длину. Эти цифры заслуживают внимания, ибо говорят о плотности загрузки, необычной даже для невольничьего судна, что и вызвало решительный протест второго помощника Гая Фолкса. Однако словно вытесанные из камня капитаны Новой Англии, плавающие на клиперах балтиморской постройки, не слишком расположены выслушивать легкомысленные советы младших офицеров, тем более когда речь идет о молодом человеке двадцати четырех лет. – Черт бы вас побрал, мистер Фолкс, салага вы этакий! – загремел капитан Пибоди. – Еще хоть одно словечко, и я прикажу заковать вас в кандалы. Ни слова более, или вам придется попробовать вкус плети! – Хорошо, сэр, – сказал Гай твердо. – Но прошу меня простить, сэр, я не ставлю под сомнение ваше знание морского дела. Если бы я это сделал, то заслужил бы наказание. Вы – лучший капитан из всех, с которыми мне приходилось плавать, а их было немало. Речь идет о ремесле работорговца. Я занимаюсь этим делом уже шесть лет, а вы, насколько мне известно, в первый раз командуете невольничьим судном… – Мистер Фолкс, – проговорил капитан угрожающе тихим голосом. – Я даю вам еще пять минут, чтобы высказаться. На этот раз я вас выслушаю. А после, если хоть одно слово, за исключением слов «есть!», «есть, сэр!», сорвется с ваших губ, не считая, конечно, ответов на непосредственно к вам обращенные вопросы, вы будете закованы в кандалы! Я ясно выразился? – Вполне, сэр, – сказал Гай. – Я с удовольствием приму эти условия. Допускаю, что восемь долларов за человека – страшный соблазн, но то же можно сказать и о двух долларах за негра, что имеем мы с боцманом. Я только хочу вас убедить, что лучше взять меньше ниггеров, но доставить их живыми. Поступая таким образом, вы сохраните доброжелательное отношение к себе со стороны рабовладельцев и достаточно долго сможете заниматься этим бизнесом, чтоб накопить приличную сумму денег… – Ладно, – проворчал капитан Пибоди. – Вам дали высказаться. Я здесь хозяин, и разрази меня гром, если потерплю, чтобы мои слова ставились под сомнение! Я облечен властью, я и отвечаю за все. А теперь будьте так любезны, укажите рулевому курс корабля. Время не ждет, так что поторапливайтесь! – Есть, сэр! – сказал Гай и отправился на корму. Они вышли в море при почти полном безветрии и сияющем небе. Ветер был слаб весь день, и клипер, чтобы наполнить паруса, шел под большим креном, вспенивая воду за кормой, двигаясь в сторону заходящего солнца. Наступила безоблачная ночь, небо было усеяно звездами, взошел серп молодого месяца. В такие светлые ночи все море серебрится, а стремительное движение красавца клипера в темноте вызывает восторг, граничащий с опьянением. Однако капитан Джосая Пибоди, прогуливаясь по палубе, наткнулся на боцмана, лежащего с негритянкой. Он высек женщину кнутом, а боцмана велел заковать в кандалы. К утру «Марта Джин» была обречена, и все на борту знали это. Сбродом подонков, составляющих команду невольничьего судна, необходимо было управлять твердой рукой, но дисциплина, которая была бы вполне уместной на борту военного корабля или первоклассного торгового судна, здесь не годилась. Капитаны невольничьих кораблей это знали, а кто не знал, очень скоро доходил своим умом. Поэтому они закрывали глаза на пьянство и распутство и уделяли больше внимания чистоте судна, чем морскому делу, что помогало им благополучно приводить корабли в родные гавани, несмотря на то что их команды состояли из головорезов, воров, пьяниц и сумасшедших. Но капитан Пибоди был чрезвычайно упрямый и, пожалуй, слишком хороший человек, чтобы заниматься тем делом, за которое он теперь взялся. Хуже того, по складу характера он был сторонником строгой дисциплины. И вот, когда над кораблем взошло ослепительное солнце, команда была на полпути к бунту: мрачные матросы недовольно ворчали. А тем временем на нижней палубе восемьсот африканцев обливались жарким потом, целые лужи его перетекали от одного к другому, повинуясь качке. Боцман был закован в кандалы, а никто другой не подумал, что надо установить виндзейли для подачи воздуха вниз, туда, где лежали рабы. Уборки в то утро не было: она также входила в обязанности боцмана. К полудню сотни негров барахтались в собственной моче и экскрементах, а вонь стала невыносимой даже для людей, притерпевшихся к ней за долгие годы, проведенные в тропических широтах. Один из матросов подошел к капитану и отдал честь. – Прошу прощения, сэр! – сказал он. – Негры там внизу подняли ужасный шум. Капитан Пибоди задумался. Он был упрямый человек, но вовсе не дурак. – Пусть мистер Роджер и мистер Фолкс сию же минуту явятся сюда! – проворчал он. Оба помощника тотчас явились и отдали честь, целиком обратившись во внимание. – Что, черт возьми, происходит? – вопросил капитан Пибоди. – Видите ли, сэр, – неуверенно начал Джеймс Роджер, – многое не было сделано… – Гром и молния! В чем же причина? – Это обязанности боцмана, сэр, – решительно сказал первый помощник, – а вы приказали заковать его в кандалы, сэр! – Да, приказал, и так будет, пока я не сочту нужным освободить его! Скажите, мистер Фолкс, что не было сделано из того, что надо было сделать? – Прежде всего, сэр, – неторопливо проговорил Гай, – не были установлены виндзейли, и ниггеры, вероятно, умирают от удушья. Во-вторых, сейчас полдень, а их обычно кормят в десять утра. В-третьих, если невольничью палубу не мыть, не скоблить и не драить пемзой каждый день, они все умрут от болезней, вызванных грязью. В-четвертых, днем их обычно выпускают размяться на палубу. В-пятых… – Достаточно, мистер Фолкс! Какого же черта, вы, зная обо всем этом, не приказали это сделать? – Прошу прощения, капитан, – сказал Гай мягко, – но, поскольку я являюсь третьим офицером на корабле, мне едва ли надлежит отдавать приказания, не относящиеся непосредственно к моим обязанностям, пока оба старших офицера живы и находятся на борту судна… – Ах вы, дерзкий молокосос! А вы, Роджер, почему вы не отдали приказ? – Я счел это нескромным, сэр, – сказал Джеймс Роджер. – Почти все из того, что надо было сделать, выполняется под руководством боцмана, поэтому мне пришлось бы просить вас освободить его или назначить кого-то другого на его место. А честно говоря, сэр, видя, в какую вы пришли ярость из-за такого пустяка, как шашни с негритянкой, я просто не осмелился… – Пустяк! – прорычал Пибоди. – Так знайте же вы оба, что я не позволю, чтобы мой корабль превращали в плавучий бордель! С этого дня любой офицер или матрос, которого я поймаю с негритянкой, получит тридцать плетей! – Тогда, сэр, – решительно сказал Гай, – бунта не избежать. – Бунт! Какой бунт? Фолкс, мне кажется, я приказал вам говорить только тогда, когда вас о чем-то спрашивают. Бунт! Да скорее все это сборище козлов и обезьян провалится в ад, чем кто-нибудь из них осмелится поднять на меня руку! – Прошу прощения, сэр, – сказал Роджер, – но мистер Фолкс прав. Я много раз ходил с вами в море, сэр, но я также сделал два рейса на «Королеве Конго», когда вы были прикованы к постели, и мне довелось кое-что узнать. Матросам на невольничьем судне всегда предоставлена полная свобода в отношении женщин. Это одна из их старейших привилегий. Они ведь не первоклассные матросы, сэр, не военные моряки. Было бы разумнее смириться с их человеческими слабостями, чем сдерживать всю эту шайку… – Хватит! – визгливо крикнул капитан Пибоди. – Убирайтесь отсюда оба! Вон, я сказал! Освободите этого мерзавца боцмана! Накормите негров! Вы, Фолкс, составьте правила содержания чернокожих и через час положите на мой стол! А теперь по местам оба, да поживей! Гай тщательно подготовил свой доклад. И капитан Пибоди, надо сказать, принял его вполне благосклонно. Но было уже поздно: дело зашло слишком далеко. Матросы, которым пытались навязать непереносимую для них дисциплину, вымещали свою злобу на неграх. От носа до кормы «Марты Джин» разносилось щелканье хлыстов. Капитан Пибоди, новичок в работорговле, не взял на борт переводчиков, а среди офицеров и матросов никто не говорил на языке вайдах, поэтому плеть была единственным ответом на все жалобы и стенания негров. Через день появился первый признак надвигающейся беды: ночью один из негров обмотал цепь вокруг горла и задушил себя. На следующее утро во время еды еще один с диким криком перелез через сетку, высоко натянутую над планширом как раз для того, чтобы предотвратить подобные случаи, и бросился в море. На третий день боцман разыскал Гая Фолкса и прошептал: – Девять негритосов отказываются от еды, сэр. Вам бы надо сказать капитану… Гай отправился на корму и отдал честь. – Добрый день, сэр, – сказал он холодно. – Я бы хотел попросить разрешения сообщить вам… Это очень важно… – Говорите, черт бы вас побрал! – рявкнул капитан. – Ну что там на этот раз, Фолкс? – Девять ниггеров отказываются есть, сэр, – сказал Гай. – Если ничего не предпринять сейчас, зараза перекинется и на остальных и тогда начнется настоящая волна самоубийств. – А вы знаете, мистер Фолкс, – сдержанно спросил капитан Пибоди, – что нужно делать в таких случаях? – Да, сэр. Но это малоприятная процедура. – Приятная или нет, прикажите, чтоб это сделали! Видит Бог, этот корабль как будто заколдован! Что ни делается, все идет вкривь и вкось! Пойдемте, я хочу посмотреть, как кормят негров… Зрелище действительно было не из приятных. Боцман и пятнадцать матросов приволокли на палубу девять негров. Затем принесли жаровню. Один матрос принялся раздувать угли ручными мехами, пока они не стали огненно-красными. Двое других схватили негра, заставив его опуститься на колени. Потом боцман взял щипцами тлеющий уголь и приложил его к губам негра. Кожа зашипела и треснула, кровь полилась по подбородку, чернокожий закричал, и тут же в его раскрытый рот вставили большую воронку, в раструб которой плеснули черпаком липкое месиво из разваренных бобов. Глотать негра заставляли, периодически ударяя рукояткой плети по кадыку. Подобным образом пришлось накормить четверых, и только тогда удалось сломить упрямство невольников – остальные сдались. Трое чернокожих, однако, тут же исторгли пищу обратно. Гай знал по опыту, что для них уже нет никакой надежды, очень скоро они умрут… На шестой день после отплытия, когда стемнело, капитан Пибоди поймал на месте преступления еще трех матросов с негритянками из племени вайдах. Он приказал отстегать их плетью на палубе на следующий день после полудня… Проходя мимо матросов, Гай пытался уловить в их глазах хоть какой-то намек на то, чего следует от них ожидать, но все, словно сговорившись, отводили взгляд. Впрочем, не стоило гадать, Гай и так все знал: недаром он провел уже шесть лет на невольничьих судах. В тот же вечер Гай попытался добиться аудиенции у капитана. Однако вспыльчивый и благочестивый пуританин из Новой Англии с криками и проклятиями прогнал его с порога, не дав и рта раскрыть. После этого Гай выставил черных женщин из бывшей каюты помощника капитана и созвал военный совет, на который пригласил Джеймса Роджера, первого помощника, Пола Талли, боцмана, и Пако, могучего негра-повара. – Они собираются поднять мятеж, – сказал Гай прямо. – Я провел с этими ублюдками лето и зиму и достаточно их знаю. Пытался предупредить капитана, но он послал меня ко всем чертям. И вообще он сейчас не способен сохранять хладнокровие. А значит – ты у нас старший, Джимми, поэтому я замолкаю и предоставляю слово тебе… – Нет, Гай Фолкс, – сказал Джеймс Роджер. – Я хоть и занимаю на корабле более высокое положение, но не знаю о работорговле и малой толики того, что знаешь ты. Никак не могу понять, почему вдруг наша компания решила связаться с кубинскими работорговцами? Тебе слово, Фолкс, – скажи, что нам делать? – Ладно, – сказал Гай. – Но прежде всего я хотел бы кое-что выяснить. Ты, Пол, пострадал по милости капитана. Как ты теперь: с нами или против? – Он, конечно, упрямый старый осел, – сказал боцман, – но капитан хороший. Да ведь они знают, эти парни, что мне их завтра пороть, так что особенно им любить меня не за что… – Хорошо. А ты, Пако? – Я с вами. Эти белые дьяволы никогда не забудут, что я негр. Мне от них не раз доставалось… – Тогда ладно. Прежде всего благодарите Бога, что ночь выдалась темной. Ты, Пако, раздевайся догола и в полночь ползи к оружейному ящику. Принеси все огнестрельное оружие и по абордажной сабле на брата. Ты, Джимми, прикажешь вахтенному покинуть палубу: все, мол, спокойно, а на вахту заступаем пока мы с тобой. Можешь даже выразить сочувствие тем парням, которых приказано выпороть завтра. Скажешь, что попытаешься убедить капитана простить их. И отдай Пако ключи от оружейного ящика. А ты, боцман, не пускай сюда женщин. Бьюсь об заклад, что матросы собираются напасть на нас во время порки, чтобы застать врасплох. А каюта – подходящее место для хранения оружия… Но рок продолжал преследовать «Марту Джин». Пако вернулся и сообщил, что ключи ему не понадобились. Ящик с оружием взломан, возможно, еще несколько дней назад, унесли почти все пистолеты, наверно, потому, что их легко спрятать. Джеймс Роджер и Гай понимающе переглянулись. Четыре человека против всей команды – шансы были неравными. Гай повернулся к боцману. – Заряжай все мушкеты картечью, – сказал он. – А потом свистать всех наверх! Мы должны атаковать первыми – это наш единственный шанс… Заслышав пронзительный свист боцманской дудки, разъяренный капитан Пибоди вышел на палубу. Но ни один матрос даже и головы не высунул. – Что за дьявольщина у вас тут творится! – заорал капитан, и словно в ответ на его вопрос из носового кубрика вырвался язык пламени, разорвав ночную тьму. Капитан тяжело повернулся и рухнул на палубу. Стрелявший высунул голову, и Гай Фолкс, тщательно прицелившись, всадил мятежнику пулю прямо между глаз, и это было удачей, потому что Гай видел только неясные очертания его головы на фоне белой переборки. В ту же минуту из кубрика раздался оглушительный вой, и вспышки выстрелов на короткий миг разорвали тьму. Этого было достаточно, чтобы разглядеть капитана, корчившегося на палубе. – Прикройте меня, – сказал Гай. – Я выйду – заберу капитана. Он еще жив. Гай перезарядил пистолет, засунул его за пояс рядом со вторым и пополз от пиллерса до бухты каната, укрываясь в тени планшира, пока не добрался до капитана. Осторожно обхватив руками худое жилистое тело старика, он не без труда поднял его. Когда Гай бежал к полуюту, мимо просвистело несколько пуль. Раненый дернулся и застонал, и Гай понял, что в капитана попала еще одна пуля. Он достиг каюты целым и невредимым. Одежду капитана разрезали. Вторая рана была нетяжелой: пуля застряла в плече, но из синеватого отверстия от первой пули под самым пупком медленно сочилась кровь. Корабельный врач или присоединился к мятежникам, или был пленен ими. Но это не имело значения. В сороковых годах девятнадцатого века любое ранение в живот было смертельным. Джосая Пибоди открыл глаза. Они были похожи на глаза большого орла. – Фолкс! – громко позвал он. – Я здесь, сэр, – ответил Гай. – Хочу попросить у тебя прощения, парень, – отчетливо произнес капитан. – Ты был прав. Прости старого упрямого дурака, ладно? – Все в порядке, сэр, – мягко сказал Гай. – Нет. Не все в порядке. Боцман! – Да, сэр, – отозвался боцман. – Принесите мне перо, чернила и судовой журнал. Хочу вписать в него свое завещание и благодарность трем прекрасным офицерам, которых у меня не хватило ума оценить по достоинству. И негру тоже. Принесите журнал, боцман! – Есть, сэр! Боцман сумел пробраться в капитанскую каюту и вернуться с судовым журналом, не подставляя себя под выстрелы. Джеймс Роджер написал завещание под диктовку капитана. Джосая Пибоди оставлял все свои наличные деньги, около шести тысяч четырехсот долларов, Гаю Фолксу. Роджеру он завещал половину стоимости судна, составляющую около пяти тысяч долларов: Джимми долгое время был помощником капитана. Боцману за его труды по завещанию причиталась тысяча долларов, а Пако – пять сотен. Жене, дочери и брату он оставлял еще тридцать тысяч. Морская профессия оказалась прибыльной для старика… Едва он дрожащей рукой подписал документ, а за ним в качестве свидетелей и два его помощника, как негр прошептал: – Они выходят – сейчас нападут на нас! – Ладно, – сказал Гай. – Не стреляйте, пока они на траверзе этого пиллерса. А потом дайте им жару. Цельтесь в ноги. Эти ублюдки получат хорошую взбучку, но они еще нам понадобятся. Четверо мужчин подняли мушкеты. Пако положил еще по три заряженных ружья рядом с каждым из них. Они спокойно ждали. – Огонь! – крикнул Гай Фолкс, и изо всех иллюминаторов вырвались языки пламени. Шестеро нападавших с воем рухнули. Остальные бросились наутек, но Гай и его товарищи свалили еще четырех, прежде чем они достигли спасительного кубрика. Затем наступила тишина, прерываемая только стонами раненых. Ночь подошла к концу. Наступил туманный облачный день, штормило. И вот, когда совсем рассвело, около сотни чернокожих высыпали из люков на палубу, пронзительно крича как черти, вылезшие из ада. Они были вооружены поленьями, выданными им в качестве подушек. И теперь, вопя, визжа, приплясывая, они атаковали одновременно носовой кубрик и каюту. Ничего не оставалось, как только стрелять. Под перекрестным огнем офицеров и команды негры падали как подкошенные. – Смотрите! – крикнул первый помощник, и Гай увидел белый флаг, развевающийся над кубриком. Матросы сдавались офицерам, но не чернокожим. Перед лицом этой новой, смертельной опасности они предпочли прекратить мятеж и объединиться с единственными на корабле людьми, достаточно храбрыми и умными, чтобы возглавить их. С абордажной саблей и пистолетом в руках Гай Фолкс вывел на палубу свой маленький отряд – матросы с приветственными криками бросились им навстречу. Вскоре после этого все было кончено. Осыпаемые градом свинца, негры дюйм за дюймом отступали к люкам. Гандшпуги, кофель-нагели и со свистом разрезающие воздух плетки загнали их обратно вниз. И тогда офицеры и матросы в поту и крови предстали друг перед другом. Точнее, только Гай Фолкс и Пол Талли стояли перед матросами: Джеймс Роджер лежал, распластавшись на палубе, его голова была проломлена поленом. Таким образом, среди белых оказались двое убитых: матрос, которому Гай прострелил голову, и помощник капитана. Никто из негров не был убит. Несколько человек, раненных в ноги мушкетными и пистолетными пулями, лежали на палубе, остальные бушевали внизу. Гай отдавал короткие команды. Пако притащил из камбуза огромные котлы с кипящей водой. Их вылили через решетки на рабов. Раздались крики ошпаренных, потом все смолкло. Лишь два здоровенных негра выли, вцепившись в прутья одной из решеток. Гай кивнул боцману. Ни слова не говоря, Пол застрелил обоих. Так закончился двойной мятеж – команды и рабов, – единственный, о котором Гаю когда-либо доводилось слышать. Но на него навалилось столько забот, что просто не оставалось времени ломать голову над разгадкой двух тайн: как удалось неграм освободиться от кандалов и почему взбунтовались вайдахи, обычно наиболее послушные из африканцев. Ответственность, лежавшая на нем теперь, была огромна: как единственный офицер, оставшийся при исполнении обязанностей на борту клипера, он стал капитаном корабля и должен был решить, что делать с мятежной командой. К счастью, за него эту проблему решил капитан Пибоди. Старик приказал Пако вынести его на палубу. Он лежал на тюфяке, укрытый просмоленной парусиной, и все матросы, способные двигаться, чередой проходили мимо него. Он брал каждого за руку и говорил, что прощает его, если он согласится безоговорочно подчиняться новому капитану. Вероятно, он имел в виду Джеймса Роджера, поскольку Гай скрыл от умирающего, что первый помощник погиб. Так или иначе, это не имело значения: команда была достаточно напугана, обуздана и готова подчиниться любому, кто обладал твердой рукой и громким голосом. И Гай вышел к матросам. – Теперь капитан – я. Мистер Талли – мой помощник. Ты, Мартин, – обратился он к одному из сохранивших остатки порядочности матросов, – боцман. А сейчас – за работу, ребята! По местам! Поднять все паруса, кроме кливеров, спенкеров и передней брам-стеньги! Ветер очень слабый, поэтому шевелитесь! В тот же вечер, укутанный в дождевик, с трудом различая текст в залитом потоками ливня молитвеннике, Гай совершил погребальный обряд над телами застреленного им матроса и помощника капитана. Их, так же как и трупы двух негров, убитых Полом Талли, приняло море и, как щепки, отшвырнуло к корме… Через два дня при точно такой же погоде Гай прочитал заупокойную молитву над телом своего капитана. Затем стал готовиться к надвигающемуся шторму. Он продолжался девять дней без перерыва. Все это время люки были задраены, негров кормили галетами и холодными бобами, которые им приносили дети, жившие в каюте. Если бы не ветер и проливной дождь, вонь, идущая снизу, была бы непереносимой. На шестнадцатый день после отплытия из Африки тучи рассеялись и хлынул ослепительный солнечный свет. Гай Фолкс подумал, что это добрый знак, благословение свыше, знаменующее окончание всех бедствий. Но увы, предчувствие обмануло его. В тот же день, когда они стремительно и плавно, подняв почти все паруса, двигались в подветренную сторону, когда в небе быстро рассеивались облака, а на море наступал полный штиль, к нему пришел Мартин, новоиспеченный боцман. На лице его было беспокойство. – Капитан, сэр, – сказал он, – трое негров там, внизу, мертвы. Хуже того, они так давно мертвы, что я даже не могу сказать, что с ними случилось. Восемь человек больны, и если не ошибаюсь, у них оспа. Загорелое лицо Гая сделалось серым. Но, когда он заговорил, голос его был очень спокоен. – Вы уверены, боцман? – спросил он. – Абсолютно уверен, капитан, – ответил Мартин. – Все признаки оспы: пульс частый и сильный, лицо и глаза красные, опухшие. Жар. Розовые прыщи на шее и груди. Если это не оспа, то ее двоюродная сестра, сэр… – Значит, так, – сказал Гай, чувствуя, как страшная усталость разливается по всему телу, – прежде всего вытащите мертвецов и выбросьте за борт, потом… – Прошу прощения, капитан, – сказал Мартин, – тут такое дело – никто не хочет их трогать. Трупы полностью разложились, сэр. А бедные негры, которые прикованы к ним цепями, сошли с ума. Послушайте, капитан, я вам прямо скажу: команда не собирается бунтовать снова. Но я очень надеюсь, что вы не прикажете матросам вытаскивать мертвых ниггеров. Это просто ужасно – брать руками трупы, которые разваливаются на части… – Понимаю, боцман, – сказал Гай и глубоко задумался. – Послушай, Мартин, – сказал он наконец. – Возможно, большинство и не подчинится приказу. Мне трудно их винить за это: не слишком приятно, когда тебе приказывает выполнять грязную работу надраенный до блеска офицер, у которого нет ни крошки смолы под ногтями. Но если подать им пример… – Понял, к чему вы клоните, – сказал Мартин. – Собираетесь сами туда спуститься и… – Да, боцман. И надеюсь, что ты пойдешь со мной. Это не приказ. Такого приказа я никому не отдам. Что ты на это скажешь? Трудно было себе представить более печальное зрелище, чем лицо Мартина в эту минуту. – Видите ли, сэр, – сказал он наконец, – если вы пойдете, то и я готов. Но мы вдвоем не сможем вынести три разложившихся трупа. Раз сходим, и нас так вывернет наизнанку, что снова туда идти мы уже не сможем… – Я все устрою, – сказал Гай. – Давай зови всех наверх, боцман. Команда уже знала, какая новая напасть их постигла, – это Гай увидел сразу по мрачным, насупленным лицам матросов. Но в двадцать четыре года Гай Фолкс уже знал, как нужно говорить с людьми. – Мы попали в беду, – сказал он. – Я не буду пытаться скрыть от вас, насколько плохи дела. На судне оспа, а в море нет ничего хуже этого. Чтобы справиться с ней, придется как следует потрудиться. И первое, что надо сделать, – выбросить за борт трех мертвых ниггеров, что лежат там внизу… Угрюмый ропот был ответом на его слова. – Я знаю, – спокойно продолжал Гай, – что это не очень приятное занятие. Поэтому я никому не приказываю. Мы с боцманом спустимся вниз и вытащим первого мертвеца. Но вы должны согласиться, что три трупа – слишком много для желудка одного человека. Вот почему я приглашаю добровольцев из числа тех, кому делали прививку против оспы, или тех, кто перенес болезнь и выздоровел… Матросы молчали. – Ну что ж, боцман, – весело сказал Гай, – придется нам начинать, больше мужчин на судне нет… Это подействовало: из толпы вышли трое. – Выдайте этим людям двойную порцию рома, мистер Талли, – сказал Гай, – и повысьте им жалованье. Матросы зашумели и все разом шагнули вперед. – Мне нужны еще только трое, – сказал Гай. – Ты, Хименес, ты, Стокатетти, и ты, Джонсон. Я беру этих людей, – объяснил он, – потому что они рябые, а значит, невосприимчивы к болезни. Все прочие отправляйтесь на осмотр к судовому врачу. Те, кому сделана прививка, будут в дальнейшем иметь дело с ниггерами. Остальным придется держаться подальше как от чернокожих, так и от тех, кто с ними общается. Речь идет и о женщинах тоже. Не думаю, что кусок черного мяса стоит человеческой жизни, как вы считаете? – Верно, капитан! – взревели матросы. – Выдайте порцию рома всем, – распорядился Гай. – Добровольцы, за мной! Через полчаса Гай, Мартин и шесть добровольцев спустились вниз. На их лицах были повязки, пропитанные уксусом, на руках – густо намазанные дегтем перчатки. Двоим пришлось удерживать сошедших с ума негров, пока освобождали от цепей останки тех, к кому они были прикованы. Это было ужасное, отвратительное занятие… После того как трупы были выброшены в море, а за ними и перчатки, восемь мужчин перегнулись через планшир, дав волю мучительным спазмам, пока вместе с тошнотой не исторгли из себя владевшие ими ужас и отвращение. От их рук, волос, одежды исходило жуткое зловоние. Как только к Гаю вернулся дар речи, он приказал всем раздеться. Когда это было сделано и одежда выброшена за борт, Пако принес горячую воду, едкое мыло, щетки, и они принялись безжалостно тереть друг друга, пока их кожа не стала красной как кровь. После того как они переоделись во все новое, Гай выслушал сообщение судового врача. Из тех, кто не переболел оспой раньше и не имел прививки, заболели еще двое. Гай приказал женщинам покинуть каюту и послал несколько человек отдраить ее стены, потолок и пол горячей водой, щелоком и продезинфицировать. Каюта превратилась в корабельный лазарет. Поминая про себя добрым словом старого моряка, который когда-то давно посоветовал ему сделать прививку, Гай распорядился выгнать на палубу негров. Это сделали те, кто не был восприимчив к заразе. Оказалось, что кроме тех восьми, о которых сообщил боцман, были больны еще тридцать человек. Следующие пятнадцать дней полностью выпали из памяти Гая. Заболели еще тринадцать членов команды, кому в свое время не привили оспенную вакцину. Трое из них выжили. Но и двое матросов, на руках которых были отметины прививки, тоже заболели и умерли. Что же касается негров, то творящееся с ними было настоящим кошмаром. Уже на второй день эпидемии лазарет оказался переполненным. Гай с трудом сдерживал внизу еще не заболевших рабов, но смертность не уменьшалась: каждый день по утрам и вечерам сбрасывали в море трупы. Рабы и матросы (и тем и другим давали вдоволь рому, чтобы они могли вынести чудовищное зловоние) вытаскивали наверх разлагающиеся останки тех, что еще недавно были живыми людьми, и выбрасывали их в залитое солнцем, ласковое море. На десятый день впередсмотрящий крикнул, что видит парус. Корабль быстро нагонял их: у Гая просто не осталось людей, которых можно было бы послать на такелаж, чтобы увеличить парусность. К полудню он уже мог разглядеть английский крейсер с убранным бегучим такелажем, готовый к бою. Он глянул вниз на палубу, по которой ползали, не в силах стоять на ногах, черные обнаженные люди, услышал их гортанные стоны, увидел скользкие дорожки из крови и гноя, которые они оставляли за собой, и влажные пятна, еще оставшиеся на палубе от тел, только что выброшенных за борт. Зловоние клубилось вокруг его головы тошнотворным облаком, выжигало ноздри, проникало в глубь легких. Он стоял худой как скелет, обтянутый серой от усталости и недоедания кожей, глаза его запали. Провианта было в достатке, но Гай с трудом заставлял себя есть. «Пусть они приблизятся, – думал он, охваченный усталостью, поглотившей все его существо без остатка, – пусть… У меня нет больше сил. Я не могу… не могу…» И тогда он услышал свист снаряда, пролетевшего над баком «Марты Джин». – Мистер Талли, – прошептал он. – Сдавайтесь и ложитесь в дрейф… Он стоял, глядя, как шлюпки, набитые моряками Королевского флота, медленно ползут к ним по залитому солнцем морю. Помощник приказал спустить веревочные трапы, и трое англичан вскарабкались на борт. Первым добрался до палубы краснолицый лейтенант. Ему хватило только одного взгляда, чтобы броситься обратно с криком: – Стойте! Назад! Во имя Господа Бога, прочь отсюда! Этот барк – очаг заразы! Над планширом показались головы еще двоих, карабкавшихся следом. Один из них тут же разжал руки и нырнул прямо в море как был – в мундире, башмаках и с карабином. Второй пустился наутек вниз по трапу, как испуганная обезьяна. Остался только лейтенант; который застыл, разглядывая палубу «Марты Джин». – Господи Боже! – прошептал он. Затем перелез через леер и последовал за остальными. Гай видел, как они отчаянно гребли назад к крейсеру… А потом было еще пять страшных дней. И вот все кончилось. Люди больше не заболевали, те, у кого болезнь протекала в легкой форме, начали выздоравливать. Гай приказал отдраить весь корабль от носа до кормы. Теперь это было нетрудно сделать: невольничья палуба стала гораздо просторнее. Из команды, первоначально насчитывавшей пятьдесят матросов, в живых осталось тридцать восемь, из восьмисот вайдахов выжило двести девяносто два серых ходячих скелета. Он распорядился, чтобы их не заковывали в кандалы. На судне образовался излишек провианта и воды – рационы умерших, поэтому он разрешил неграм пить вволю, вместо того чтобы мучить их обычными двумя порциями в день. Матросы теперь уже почти не пускали в ход плеть, а на мелкие нарушения просто не обращали внимания. За те три недели, которые понадобились еще, чтобы добраться до Кубы, негры воспрянули и физически, и духовно, как, впрочем, и команда. Гай приказал выдавать матросам по две порции рома и закрывал глаза на забавы с немногими оставшимися в живых женщинами. За девять дней он полностью избавил «Марту Джин» от запаха смерти. И, когда корабль бросил якорь в Регле, это было самое чистое невольничье судно в истории работорговли.Глава 14
Гай Фолкс сидел с доном Рафаэлем Гонзалесом в прохладном патио его виллы, расположенной на одном из холмов в окрестностях Гаваны. Здесь дон Рафаэль обходился без тщательно продуманного камуфляжа, составными частями которого были мятый тропический костюм и педантичные манеры портового переводчика. Он был великолепен в белой шелковой рубашке, парижских туфлях – во всем самом красивом, что только можно было купить за деньги. Вилла ни в чем не уступала дворцу, не менее пяти рабов убирали посуду со стола после обеда и подавали ликер, кофе и сигары. – Ну что, Гай, – промолвил дон Рафаэль, – как ты себя чувствуешь в роли героя дня? – А я себя им не чувствую, – неторопливо ответил Гай. – Сплю я от этого не лучше, да и нос мой никак не может избавиться от запаха мертвых и разложившихся тел. И вообще, все эти разговоры о геройстве – сущая чушь. Большую часть времени я был полумертвый от страха. Просто делал, что должен был делать, как и любой другой на моем месте… – Чего многие не сделали бы или не смогли бы сделать, – поправил его дон Рафаэль улыбаясь. – Компания чрезвычайно довольна тобой, Гай. Ты спас отличный корабль в немыслимо тяжелой ситуации, привез достаточное количество африканцев в весьма приличном состоянии, так что мы смогли их продать и, несмотря ни на что, получить прибыль, хоть и небольшую, но все же прибыль. Эти негодяи-мятежники из команды «Марты Джин» поют тебе хвалу по всей Гаване. Совсем неплохо для человека двадцати четырех лет от роду… – Спасибо, – произнес Гай сухо. – Вот почему, – важно добавил дон Рафаэль, – я уполномочен подтвердить, что ты являешься капитаном «Марты Джин». Mis felici taciones, hijo mio*["948], – ты теперь самый юный капитан на всех семи морях. Гай пожал протянутую руку, но на его лице не отразилось никакой радости. Дон Рафаэль, наживший состояние благодаря умению разбираться в людях, сразу это заметил. – Тебя это не радует? Странно. А я-то думал, ты будешь доволен. – Я рад, – сказал Гай. – Это большая честь, я весьма польщен. Только… – Продолжай. Пожалуйста, будь со мной откровенен, Гай. – Хорошо. Быть капитаном – очень здорово в любом возрасте, я понимаю, конечно. Год назад, да что там говорить, еще шесть месяцев назад я был бы счастлив при мысли, что достигну этого звания годам к сорока. Сейчас все иначе. Мне слишком многое пришлось повидать. Речь идет не только о «Марте Джин», о многом другом тоже. Например, о старом добром Раджерсе, первом капитане с которым мне довелось плавать; он сейчас в тюрьме – американский крейсер захватил его корабль у берегов Дагомеи. Или о Нельсоне, моем втором капитане, чью глотку перерезали негры-фольджи, – он имел глупость взять с партией невольников двадцать человек ашанти, воинов, которых продали их же соплеменники за то, что они восстали против своего царька. И одного-то ашанти более чем достаточно. Они не знают, что такое страх. Я тебе скажу без всякого вранья: с них хоть кожу сдери плеткой – все равно будут бунтовать. А Нельсон взял двадцать. Понятное дело, что, имея столько храбрых и умных людей во главе, даже трусливые фольджи решились на мятеж… – Я слышал об этом, – сказал дон Рафаэль. – И все же… – И все же судья-аболиционист из Массачусетса поцеловал Библию да и освободил их всех, и отправил назад в Африку – после того как они убили Нельсона и всю его команду, кроме помощника капитана, – эти хитрые дьяволы-ашанти понимали: он им нужен, чтобы продолжить курс и стоять у штурвала. Это только одна сторона вопроса. О риске я уж и не говорю. И не потому, что боюсь риска, но если бы при этом люди, пересекающие экватор и выполняющие грязную работу, еще и прибыль получали! А ведь настоящего-то дохода и нет! За те шесть лет, что я хожу в море, Рафе, я сумел скопить немногим более шести тысяч долларов, включая две тысячи триста тридцать шесть, что я получил за последний свой рейс. Короче говоря, по тысяче в год. Если так и дальше пойдет, я умру от старости, прежде чем разбогатею… – Капитан получает за негров гораздо больше, – сказал дон Рафаэль. , – Знаю. Вспомни, сколько я получил за последнее плавание? Восемь долларов за человека, если удастся довезти негров живыми, если судно не перехватят крейсеры, если весь доход от плавания не сожрут взятки, если не случится при этом миллион и еще одно несчастье. А с прошлого года, Рафе, судно может быть арестовано по пути в Африку, когда оно еще пустое, на том основании, что оно оборудовано для невольничьего промысла. Скажи-ка мне, Рафе, сколько богатых капитанов невольничьих кораблей ты знаешь, не считая капитана Трэя? – Двух или трех. – Двух или трех из многих сотен, занимающихся работорговлей. А остальные? Они болтаются в порту, старые и больные, выпрашивают выпивку, продают игрушечные кораблики в бутылках и медленно умирают от голода. Над этим ремеслом тяготеет рок. – Значит, ты хочешь покончить с ним. Помнишь, что я тебе говорил? – Ты был прав. Но пока не собираюсь. Наоборот, я хочу еще глубже окунуться в этот омут, туда, где можно заработать большие деньги. Короче говоря, я хочу стать комиссионером, Рафе, – в Африке. – Хм-м… – задумчиво проговорил дон Рафаэль, – неплохая мысль… Если бы ты сотрудничал с нами, а мы бы тебя поддерживали, это значило бы, что все дело от начала до конца – под нашим контролем, а такие воры, как Педро Бланко, да Соуза и да Коимбра больше не смогут обирать нас, как сейчас. Однако невольничья фактория – хитрая штука: чтобы там заработать, нужен большой опыт. Скажи-ка, на каких африканских языках ты можешь говорить? – На сусу и мандинго. Конечно, они очень похожи. Смешанный язык с преобладанием французских слов. Изучал и арабский, но без практики в нем многого не добьешься. Признаю, что у меня не хватает опыта, но я знаю, как это исправить. После моего первого рейса этот заносчивый сукин сын мулат да Коимбра предлагал мне место своего секретаря. Думаю принять его предложение, провести год-два с ним, изучить дело изнутри и следить, чтобы он нас не надувал. Затем заведу собственнуюфакторию, поддерживая, естественно, непосредственные связи с тобой и компанией. Что ты на это скажешь, Рафе? – Мне это нравится, – задумчиво сказал дон Рафаэль. – Голова у тебя работает. Пойдешь суперкарго на «Аэростатико», который отплывает на следующей неделе. А в Африке уж устраивайся сам. Если да Коимбра узнает, что ты представляешь нас, это едва ли поможет делу… – Ты услышишь обо мне очень смешные сплетни, Рафе. Матросы «Аэростатико» разнесут по всем портовым кабакам слухи, что меня не назначили капитаном «Марты Джин» из-за моего возраста и что компания отказалась выплатить мне за доставку негров деньги, предназначенные для капитана Пибоди. Я был взбешен из-за такого скверного отношения ко мне, и поэтому, когда я доберусь до Понголенда, никто особенно не удивится, что я, едва сойдя с корабля, отправился просить работу у монго Жоа… – Превосходно! – рассмеялся дон Рафаэль. – У тебя есть задатки заговорщика, мой мальчик! Я посвящу в твои планы и других членов синдиката, так что они не будут ничего отрицать или чему-нибудь противоречить. Между прочим, тебе бы надо повидать капитана Трэя. Он как-то при мне прозрачно намекнул, что простил тебя. Мне кажется, Гай, ты с ним не очень хорошо поступил… – Знаю, – спокойно ответил Гай. – Так уж получилось, Рафе. Тут и другое было замешано… – Донья Пилар? Понимаю. Она чрезвычайно красивая женщина. А мальчики, когда им столько лет, сколько было тебе тогда, они… Ну как бы тебе сказать… впечатлительны, что ли… – Мальчики любого возраста, – сухо сказал Гай, – лет этак до девяноста. Вся беда в том, что я и подумать не мог, что она, по крайней мере на тринадцать лет, старше меня. Она выглядела как девочка. Но она была настоящей женщиной, Рафе. Сердечной и преданной, а обо мне как заботилась! Вот это-то меня больше всего и ранило. Не мог вынести, юный дурак, что она считает меня ребенком… – Так ты и был во многом ребенком, – мягко заметил дон Рафаэль. – Теперь ты стал взрослым. Думаю, сможешь нанести им визит… – Нет. Я еще не настолько повзрослел. Это не доставит мне удовольствия. Таких женщин, как Пили, не так-то легко забыть. Их можно только заменить какой-то другой, совсем непохожей женщиной. Не лучшей, чем она, – лучше просто не бывает… – Боль еще не прошла, сынок? – Бывает плохо, когда все это вспоминаю, но нечасто. Время и расстояние странным образом излечивают от любых чувств, даже таких. Но посетить их – значит вновь вызвать чувство, которое я уже почти обуздал. Так что передай им мои извинения за то, что уехал, не повидав их, и скажи, что обязательно когда-нибудь помиримся… – Хорошо, – сказал дон Рафаэль, – я все передам. Приказать, чтобы приготовили комнату для сиесты? – Нет, спасибо, – весело ответил Гай. – Мне еще надо разнести кое-какие слухи. Пока, Рафе… Все долгие тридцать девять дней плавания (судно «Аэростатико» вполне оправдывало свое название) Гай заботился о том, чтобы лицо его хранило неизменную печать угрюмости, – это должно было убедить офицеров и матросов, что он находится в соответствующем расположении духа. Некоторые знали его по совместному плаванию на «Марте Джин», когда ему довелось короткое время быть капитаном. Матросы невольничьих судов, как и прочие моряки, постоянно меняли корабли из-за настоящих или выдуманных обид, а скорее всего из-за своей врожденной непоседливости. Да и сам Гай (главным образом для того, чтобы обогатить свой опыт) сменил четыре корабля за шесть лет, проведенных в море. Но именно присутствие на судне людей из его бывшей команды дало ему возможность убедиться в том, как удачен его план. Во время рейса то один, то другой украдкой подходили к нему, чтобы посетовать: – Какая досада! Вы были лучшим капитаном, с которым нам когда-либо доводилось плавать. Вы понимали, что существует матрос, а ведь никому из этих придир и дуболомов, с которыми обычно приходится плавать, нет до этого дела. Если когда-нибудь будете набирать команду, дайте мне знать, и я – ваш, капитан, провалиться мне на этом месте! – Тебе, видно, долго придется ждать, – говорил в ответ им Гай. – В этом ремесле такие порядки, что раньше умрешь от старости, чем тебя сделают капитаном… К тому времени, когда они бросили якорь в илистом устье Рио Понго, Гай был совершенно уверен в успехе задуманного. Тем не менее, прежде чем самому ступить на землю Понголенда, он подождал, пока капитан не отпустит на берег большую часть команды. Более того, он попросил Мартина, своего бывшего боцмана, на чью разговорчивость мог положиться, передать привет монго Жоа. Не было ни малейшего сомнения в том, что да Коимбра выжмет из Мартина все новости за каких-нибудь пять минут. Думая об этом, Гай улыбнулся сквозь дым своей гаванской сигары. Он пристрастился к приятному пороку курения еще в начале своей карьеры работорговца, во многом из-за того, что это помогало хоть немного заглушить зловоние из трюма, битком набитого рабами. Когда Мартин, слегка шатаясь от выпитого, вернулся на корабль, он принес записку от самого монго, написанную по-английски, рукой опытного каллиграфа школы Спенсера, с такими причудливыми завитушками и вензелями, что Гай с трудом ее прочитал. Помимо всего прочего, там говорилось: «Если у Вас есть возможность нанести мне визит, то беседа со мной за бутылочкой вина наверняка будет весьма полезной и приятной для Вас. Несмотря на наши расхождения во взглядах в прошлом, Вы найдете во мне человека, который знает истинную цену вещей, а этого, к сожалению, недостает некоторым людям (последние два слова были жирно подчеркнуты). Пришлите мне весточку с одним из круменов». Как только Гай одолел трудный почерк монго, он подошел к лееру и подозвал одного из хару мону, или круменов, как называли их работорговцы. Короткий обмен репликами на сусу (а этот язык в достаточной степени походил на диалект круменов, чтобы быть понятным им), пригоршня сигар – и дело будет улажено. Завтра, когда Гай Фолкс сойдет на берег, монго Жоа будет ждать его. И он действительно ждал его. Монго, еще более разжиревший и заметно потрепанный жизнью, после настоящего пира, который он задал Гаю по случаю встречи, впал в благодушное настроение, чему способствовала и бутылка бренди. – Думаю, я могу быть откровенным… – сказал он, сияя лучезарной улыбкой и потирая свои огромные руки. – Твой друг Мартин – ты уж, пожалуйста, не брани его за это – нечаянно проговорился о том, как скверно обошлись с тобой эти кубинские свиньи. Признаюсь, что я отчасти даже рад этому; теперь ты, возможно, не откажешься принять мое предложение… – Может быть, – ответил Гай уклончиво. – Говори, монго. Я внимательно слушаю. – Оно чрезвычайно заманчиво, – сказал да Коимбра. – Если бы я предложил тебе стать моим младшим партнером, что бы ты на это ответил? – Странно, – сказал Гай. – Помню, ты мне однажды предложил стать твоим секретарем. По правде говоря, когда я сошел на берег, собирался дать тебе свое согласие. Но такое резкое повышение в должности слишком неожиданно. К тому же в этом нет смысла. Партнеры вносят в дело свой капитал, или полезные связи, или что-то еще, представляющее ценность. У меня же нет ни гроша, а те знакомые, что у меня были, видит Бог, оказались плохими друзьями. Поэтому давай говорить начистоту, выложим все карты на стол. Скажи мне одну простую вещь: зачем, ради всего святого, тебе нужно, чтобы я стал твоим партнером? – Ну это совсем нетрудно объяснить, мой мальчик. Ты обладаешь одним чрезвычайно ценным качеством, в котором я заинтересован, – цветом твоей кожи. Подожди немного: я тебе все объясню. Среди невольничьих судов, которые заходят в Понго, все больше и больше американских. Когда имеешь с ними дело, мой цвет кожи становится помехой. Они пытаются обмануть меня, видимо считая, что раз я негр, значит – идиот. Когда я вывожу их на чистую воду, они вне себя от возмущения. Если бы ты стал моим партнером, я бы возложил на тебя все сделки с твоими жуликоватыми соотечественниками. С большим удовольствием сыграю роль твоего секретаря или помощника в их присутствии. Я не тщеславен. Они поверят, что я мелкая сошка, или просто не обратят на меня внимания, – думаю, это будет нам только на руку. Главное – так или иначе делать дело… – А раньше, – прервал его Гай, – тебе разве не встречались другие белые люди, которых… – Нет. Сам по себе факт принадлежности к белой расе недостаточен. Мне нужен человек умный, решительный, сильный – а эти качества довольно редки у любой расы. Средний белый человек – и пусть это не оскорбит твои чувства – глупое животное. Об этом говорит хотя бы его наивная детская уверенность в своем несомненном превосходстве над другими людьми только потому, что ему посчастливилось родиться белым. А в тебе есть именно то, что мне нужно, хотя и ты не свободен от этих дурацких англосаксонских предрассудков. Думаю, со временем ты избавишься от них. Впрочем, это не имеет значения. Важно то, что ты мог бы быть мне очень полезен, да, кстати, и сам внакладе не останешься. Что ты на это скажешь, Гай? – Звучит заманчиво. А жалованье? – Пять отличных негров каждый месяц по твоему собственному выбору. Будешь продавать их или менять на товары, как захочешь. Они принесут не менее двухсот долларов в месяц, а если умело будешь вести дело, то и все пятьсот. И не говори мне, что ты больше имел на невольничьем судне, уж я лучше знаю… – Ну что ж… – нерешительно сказал Гай. – В твоем распоряжении, конечно, будет дом. Чистый и хорошо обставленный. Еда. Ткани из моих кладовых и услуги портного… – А Билджи? – неожиданно спросил Гай, скорее для того, чтобы увидеть, как отнесется к этому монго. Да Коимбра нахмурился. – Нет, – сказал он веско. – Я сделал ее своей четвертой женой, как добрый мусульманин… – Разве ты мусульманин? А я думал… – …что я добрый католик, как все люди португальской крови? Понимаю. Да разве так уж важно, к каким заклинаниям прислушивается человек? Чепуха все это. Я веду торговлю главным образом с последователями аллаха, поэтому в интересах дела… – И также для того, – сказал Гай сухо, – чтобы иметь оправдание своему гарему, не правда ли, монго? – Вовсе не для этого. Полигамия существует почти у всех здешних племен, и мне не нужно искать оправдания. К тому же от четырех жен беспокойства не в четыре, а в восемьдесят раз больше, чем от одной. У меня не раз возникало желание бросить их всех на съедение крокодилам. – И тем не менее ты взял в жены малышку Билджи, – заметил Гай. – Минутный каприз. За те без малого пять лет, что ты ее не видел, она стала изумительно красива. Но пойми меня правильно: женщины мало что значат. Будь она хоть в двадцать раз красивее, я бы уступил ее тебе, но есть вещи, которые монго не может себе позволить. Я мог бы подарить тебе прекраснейшую из своих наложниц, и это не вызвало бы у моих подданных ни малейшего удивления. Но отдать жену означало бы полное бесчестье. Если бы я даже развелся с ней и позволил приходить к тебе, они относились бы ко мне как к рогоносцу, и это был бы конец моей власти над ними. Так что забудь Билджи, ладно? Я найду тебе замену не хуже. – Нет уж, спасибо, – рассмеялся Гай. – Во мне слишком много глупости, свойственной белому человеку, о чем ты сам только что говорил. Я предпочитаю белых женщин, пахнущих мылом и духами… К его удивлению монго, казалось, воспринял эти слова всерьез. – А вот это, мой мальчик, – сказал он печально, – в Африке трудно найти. Но если ты примешь мое предложение и начнешь действовать, я съезжу отдохнуть в Европу – давно об этом мечтал – и привезу тебе маленькую парижаночку. Это тебя устроит? – Вполне! – рассмеялся Гай, желая и дальше продолжать эту игру. – Пусть она будет маленькая, мне такие больше нравятся. Цвет волос значения не имеет, хотя я неравнодушен к блондинкам и рыжим. Если она хорошенькая и знает толк в том, для чего предназначена женщина, я буду доволен. – Я учту твои пожелания, – сказал да Коимбра. – Так ты принимаешь мое предложение? – С удовольствием, – ответил Гай и протянул руку. Монго пожал ее: хватка у него была стальная, несмотря на слой жира. – Вот видишь, – сказал он улыбаясь, – как далеко ты продвинулся: больше не придаешь рукопожатиям такого значения, как раньше. – Человек растет, монго. Нельзя же оставаться всю жизнь глупым мальчишкой. – Хорошо сказано, – рассмеялся монго. – А теперь Унга Гуллиа покажет тебе твое новое жилище. – А не лучше ли мне сегодня отправиться спать на корабль? Там осталась моя одежда и пара матросских сундуков, набитых любимыми книгами. Они тяжелые: придется немало потрудиться, чтобы доставить их на берег. – Ну, об этом можешь не беспокоиться, дон Гай. Я передам капитану Мартинесу, что тебя свалила желтая лихорадка, и поэтому лучше тебе пока пожить у меня. Если он не поверит на слово, я велю Мономассе, моему колдуну, приготовить зелье, которое уложит тебя в постель на целые сутки, а потом все пройдет без следа. Уверяю тебя, что даже главный врач эдинбургской больницы не заподозрил бы обмана… – В этом нет необходимости, – сказал Гай спокойно, – кубинцы так боятся желтой лихорадки… Он лгал намеренно, точно зная, что Жоа да Коимбра никогда не бывал на Кубе. На самом деле большинство кубинцев непоколебимо верили, что желтая лихорадка – болезнь новичков, а они к ней невосприимчивы, поскольку давно акклиматизировались. К тому же Мигель Мартинес и не стал бы выяснять, действительно ли он болен, по той простой причине, что капитан «Аэростатико» знал о его намерениях. Через два часа в дверь постучала Унга Гуллиа. Гай открыл, и она вошла, а вслед за ней – целая процессия дюжих негров, несущих два его огромных сундука и матросский мешок. Гай поблагодарил ее на языке мандинго, а когда она ушла, открыл один из сундуков и вытащил из него книгу, даже не взглянув на заглавие, прошел в другой конец дома и лег на застеленную шкурами леопарда постель, для изготовления которой, как обычно в Африке, послужил речной ил. Кусок дерева с углублением для головы служил подушкой. Она оказалась на удивление удобной. Гай лежал, перелистывая страницы книги дантовского «Ада», читая лениво, без особого интереса, пока не остановился на песне седьмой из четвертого круга:Но спустимся в тягчайшие мученья: Склонились звезды, те, что плыли ввысь, Когда мы шли; запретны промедленья.*["949]
Он долго лежал, перечитывая эти строчки. Затем сел, размышляя: «Да, мои звезды склонились одна за другой – Кэти, и папа, и Пили, – каждая звезда проносится по небу и исчезает в небытие, напоминая о том, что всему есть начало и всему есть конец: детству, вере и даже надежде. И нельзя медлить, надо идти дальше, спускаться глубже…» Он закрыл книгу с почти благоговейным чувством, но стихи неотвязно преследовали его. Он сердито потряс головой, чтобы избавиться от наваждения. Последняя строчка – явная бессмыслица, пусть она и пережила столетия. Разве есть на свете человек, способный избавиться от самых своих горьких воспоминаний? У него украли Кэти, он видел смерть бесконечно дорогого ему отца, любил и потерял Пили, пережил страшные невзгоды и опасности, плавая на невольничьих судах… Гай распахнул дверь и вышел под палящее солнце. Толпы чернокожих бежали к площади. Он пошел вслед за ними, прокладывая дорогу сквозь людскую гущу, пока не оказался в каком-то ярде от двух хмурых молодых мускулистых негров, свирепо уставившихся друг на друга. Рядом с ними стоял колдун Мономасса в своей страшной маске из дерева и слоновой кости, украшенной ястребиными перьями; в одной руке он держал плеть из воловьей шкуры, а на серовато-розовой ладони другой руки лежала пара раковин каури. Не проронив ни слова, он швырнул их в воздух, посмотрел, как они упали, а затем, что-то злобно и неразборчиво прокричав, вручил свою ужасную плеть одному из юношей. Другой стоически сложил руки, подставив спину под удары. Толпа расступилась, освобождая место его противнику. Тот размахнулся, и плеть со свистом опустилась на спину врага с такой силой, что он упал на колени, по спине потекла кровь – рана была глубокой, как от ножа. Еще один удар. И еще. Пятнадцать ударов – и ни звука, ни содрогания, ни гримасы боли. Но вот он выпрямился и повернулся лицом к своему мучителю. Тот, тяжело дыша, передал ему плеть и, в свою очередь, принял пятнадцать ударов, превративших его спину в кровавое месиво. Третья серия ударов была еще ужасней: на спинах просто не оставалось живого места. Но бичевание продолжалось, плеть переходила из рук в руки, пока первый негр не упал на землю, и тогда ликующая толпа подняла на плечи победителя, с триумфом пронеся его до самого дома. – Боже милосердный! – воскликнул Гай, обернувшись к Унге Гуллиа. – Как же, разрази их гром, это называется? – Поединок, – ответила Унга. – Молодой господин знает поединок? У белых людей он тоже бывает. Только они стреляют из ружей. Это плохо: один из них умирает. – Этот парень тоже умрет, или я ошибаюсь? – спросил Гай. – Нет. Унга приведет его в порядок. Через пять дней будет лучше, чем прежде. – Но что они не поделили? – Билджи, – бесхитростно ответила Унга Гуллиа. – Билджи! – воскликнул Гай. – Но ведь она – жена монго! – Да. Жены смеются над ним. Он слишком толстый, слишком старый, слишком много виски, его словно околдовали. Все юноши берут его жен, а он не знает. Спит после виски. Все новые дети черные, юноши делают большой живот всем его женам. Кроме Билджи. Она на них не смотрит. Вот почему они дерутся, хотят доказать, кто сильнее и храбрее, кто жарче любит в темноте. Они дураки. Билджи никого из них не выберет. – Потому что она любит монго? – спросил Гай. – Нет. Она ждет красивого белого человека из-за моря. Но теперь, я думаю, она будет счастлива. Потому что, я думаю, он приехал. Сказать ей, что ты здесь, Гай? Ведь ты – тот красивый белый человек… – Унга, ты хочешь сказать, – прошептал Гай, – что все это время она… – Ждала тебя, да. Только об этом и говорила. Какой ты высокий, какой хороший, как ты приедешь и заберешь ее с собой. Я скажу ей, да? – Но, – сказал Гай, – но… ее ребенок? – Умер. Монго ударил ее ногой в живот, был пьян. Ребенок вышел раньше срока, мертвый. Красивый, как ангелочек, волосы как солома, глаза как море. Очень плохо. А она никого не хочет выбирать, поэтому больше нет ребенка. Ждет, когда ты вернешься. – А что же монго? – Не может сделать ребенка, больше не может. Большая толстая лохань, набитая кишками, не мужчина. Даже не пытается любить их больше, жен. Знает, что не может, и не пытается. – Ты хочешь сказать никогда? – Иногда, может быть, – неохотно уступила Унга. – Но жены кладут ему зелье в еду, и он засыпает и не может докучать им. Суфиана, его старая жена, первая, иногда ему позволяет, потому что она старая, ни одному воину в поселке она не нужна. Но он своих жен обычно не беспокоит. Ест и пьет, и курит сонную траву, а их не любит. Другие, те берут себе молодых, горячих, сильных юношей, кроме Билджи, а теперь она возьмет себе тебя, да? – Не знаю, – сказал Гай. – Монго – мой друг, и я не хочу… – Ха! – презрительно усмехнулась Унга. – Он курит банжи, сонную траву и спит. Тогда Билджи приходит. Он не знает. Сегодня вечером она будет, ты жди… Спустимся в тягчайшие мученья… Он лежал в темноте, обливаясь потом, возрождая в памяти картины собственного позора – свой персональный ад. Но ведь все это было давно: после Пили его мало привлекала продажная любовь. Он перерос это. Но Билджи! Боже правый, Билджи! Какая она теперь, через четыре года, ей восемнадцать, почти девятнадцать, она теперь, наверно, как красное дерево, обожженный тик, пурпурное вино? И вот дверь отворилась, и она вошла. Он приподнялся на своей узкой постели, а она рухнула на колени, схватила его загрубевшие руки, осыпая их поцелуями, орошая своими слезами. – Билджи, не надо! – выдохнул он. – Я… Но она медленно, спокойно поднялась с колен и закрыла его рот своим ртом: ее мягкие нежные губы и движущийся кончик языка разбудили в его крови молоточки, бьющие в огненную наковальню сердца. Она была красива. Это слово стерто праздными языками и перьями настолько, что утратило свою первозданную силу, и все же она была так красива! Дитя Востока, полное неги, как мрак тропической ночи, как медленно извивающаяся царица змей. Удивительно теплая и трепещущая, когда он входил… …в Африку. Дальше, дальше, глубже, глубже… …в боль. И это было тоже: линия раздела между наслаждением и сопутствующим ему страданием, пока звезды не погасли и не настал день, и она встала дрожа с постели и поспешно выскользнула за дверь… Запретны промедленья…
Глава 15
Сезон дождей пришел и ушел (как раз вовремя, чтобы окончательно не сойти с ума, подумал Гай). Весь апрель лило беспрерывно, день и ночь, и звук дождя, барабанящего по листьям монгонго, которыми кроют здесь хижины, был бесконечно длящейся пыткой. Все кожаные вещи покрылись плесенью. Он спасал свои книги, яростно отскабливая сафьяновые переплеты и расставляя для просушки вокруг жаровни, топившейся древесным углем, однако лишился трех пар хороших башмаков, которые попросту сгнили. Гай был так озабочен спасением тех немногих сокровищ мысли, которые он имел, что начисто забыл о простых удобствах плоти. Утрата обуви была серьезной неприятностью. У него оставалась всего одна пара; стоит ей износиться, как его ступни и лодыжки окажутся ничем не защищенными от укусов кишевших здесь насекомых и ямкоголых змей. Негры, казалось, инстинктивно чувствовали близость змей; хотя они и бродили босиком по залитому тропическим дождем лесу, Гай никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из них был укушен. Ничего другого не оставалось, как ждать, пока очередное невольничье судно зайдет в устье Понго, и тогда, возможно, удастся купить пару-другую матросских башмаков, если, конечно, они придутся ему впору. Эта мысль его не радовала. Но хуже всего было то, что бесконечные дожди угнетающе действовали на душевное состояние Гая. Он погрузился в мрачное уныние, из которого его не могла вывести даже Билджи. Он ругал себя на чем свет стоит за то, что вообще приехал в Африку. Однако использовал вынужденное безделье с толком: совершенствовал свои познания в сусу и мандинго, научился вразумительно изъясняться на арабском (правда, начисто игнорируя его грамматику, что, впрочем, не слишком препятствовало общению с неграми-магометанами, чье владение языком своей веры было далеко от совершенства) и первым в Понголенде начал по-настоящему вести бухгалтерский учет. В делах Жоа да Коимбра царил страшный беспорядок. Если бы Африка не была столь несметно богата, он бы уже давным-давно разорился. Но земля эта так обильна, что мулат преуспевал даже при своем совершенно наплевательском отношении к счетам и имуществу. Подчиненные всячески обирали монго, не потому что он был глуп или не понимал, что творится вокруг, – просто ему все было безразлично. Для Гая не составляло секрета, что да Коимбра не слишком приспособлен для жизни в дождливых лесах Центральной Африки – ведь монго был почти белым. Хотя негритянская кровь позволяла ему лучше белого человека приспособиться к местным условиям, унаследованное им от белых предков делало монго легкой добычей тоски и уныния, ведущих к медленному разрушению воли, сил, характера, неизбежному практически для всякого европейца в этом зеленом аду, где белому человеку не стоит даже пытаться жить. Процесс распада шел у него несколько медленней, только и всего. В конце концов и этому могучему человеку суждено быть сломленным той медленно действующей порчей, которую насылают на всякого незваного гостя древние и кровавые африканские боги. «Мне, – думал Гай с грустью, – придется убираться отсюда. Заработать денег побыстрее и уезжать. Если я останусь в Африке – умру или сойду с ума. Здесь есть что-то такое, с чем невозможно бороться. Не знаю что, но есть…» От одной заботы Гай хоть отчасти, но избавился. Он добыл у колдуна Мономассы – не сам, конечно, а через Унгу Гуллиа – горького белого порошка, который, как считалось, оказывал противозачаточное действие. Он подсыпал небольшое его количество в пальмовое вино, которое они пили с Билджи. Гай не знал, было ли это в самом деле действие порошка или ужасный климат настолько ослабил жизненные силы его организма, но проходил месяц за месяцем, а Билджи не беременела – к его облегчению и ее горю. – Монго испортил бедную Билджи, – плакала она. – Пнул ее ногой в живот – и нет больше ребенка. У Билджи горе. Не родит бване Гаю мальчика. Может быть, ему лучше взять себе другую девушку. Билджи плачет, но бвана может так сделать. – Нет, Билджи, – мягко говорил Гай. – Я доволен тобой. Мне не нужен ребенок. Когда я уеду в свою страну, я не смогу взять его с собой. Там не любят людей смешанной крови. Ему будет плохо. – Хозяин еще долго не уедет? – в страхе шептала Билджи. – Он уедет – Билджи умрет. – Еще несколько лет, – говорил Гай. – Не беспокойся, Билджи. И ей приходилось довольствоваться этим слабым утешением. Гай больше не боялся, что монго Жоа обнаружит его связь с Билджи. Спать монго ложился пьяным, накурившимся банжи, растения, вызывающего галлюцинации, – европейцы называют его марихуаной. Гай понимал, почему у да Коимбры ослаб интерес к утехам плоти. Обжорство, пьянство и наркотики, да еще и климат в придачу пагубно влияют на мужскую силу. Даже он, молодой человек, воздержанный в еде и питье, совсем не употребляющий наркотики (об этом и речи быть не могло), чувствовал, что зов плоти в нем ослаб. Африка создана для африканцев, а те белые, что не хотят отсюда уезжать, платят страшную цену за свое упрямство… В мае небо прояснилось, но появились бабочки. Гай никогда бы не поверил, что можно возненавидеть этих приятных для глаза, порхающих повсюду почти круглый год насекомых, которых можно с полным правом назвать украшением тропиков. Но не успел подойти к концу май, а Гай уже испытывал к ним отвращение, его просто тошнило от них. Именно в мае начали роиться два вида маленьких бабочек, черные и белые. Сначала их были тысячи, потом миллионы и наконец миллиарды. Они полностью закрывали небо, проникали всюду, их маленькие бархатистые тельца делали пищу несъедобной. Приходилось и днем и ночью носить маску из противомоскитной сетки, закрывавшей лицо. Процесс еды превратился в почти невыносимую пытку. Сон не приносил облегчения: сетка, натянутая над кроватью, была такой плотной, что почти не пропускала воздуха. Птицы дохли от переедания, и вся деревня провоняла их гниющими телами. Умирали и люди от плохой пищи и загрязненной воды, из которой приходилось вылавливать сотни красивых маленьких насекомых. А потом, в июне, бабочки исчезли так же быстро, как и появились, и жизнь вошла в свою привычную колею, насколько вообще можно привыкнуть к жизни в Центральной Африке. В джунглях слышался рык леопардов. В поселок пришла женщина, прижимая руку к разорванному животу, из которого на целый фут выпирали искромсанные кишки, свисая между ее перепачканными кровью пальцами. Она кричала еще пять часов, прежде чем умереть, и ни одно из снадобий, приготовленных знахарем, не могло облегчить ей боль. Чернокожие, во главе с Гаем, отправились в джунгли и после недельных поисков убили леопарда, выскочившего со взрослой козой в зубах из поставленной на него западни глубиной в девять футов. Но оставались другие леопарды. И генетты. И питоны. Ночью звери и насекомые, истинные хозяева и властители Африки, и тысячи разнообразных видов птиц, которые, казалось, состязались друг с другом в резкости и неблагозвучии своих голосов, наполняли тьму джунглей отвратительными звуками. Гай пришел к выводу, что ни один большой город не производит столько шума, сколько джунгли, и нет на земле ничего более ужасного. Почти ежедневно в лесистых холмах раздавалось эхо ружейных выстрелов, возвещавших о приближении караванов, и навстречу им спешили люди с дарами – табаком, порохом, ромом. Поскольку монго был достаточно умен и по щедрости значительно превосходил других владельцев факторий, успех почти всегда сопутствовал его людям, и через несколько часов они возвращались, ведя за собой караван. Настоящий караван, а не просто караван невольников, – в этих краях было чем торговать, кроме рабов. Гай взял эту хитрость на заметку, чтобы самому потом ею воспользоваться. Караваны извилистой лентой спускались с холмов: носильщики несли на головах связки шкур, мешки с рисом, кувшины с пальмовым маслом, пчелиным воском, медом, большие изогнутые бивни слонов, тюки с кусками слоновой кости, связки бананов и других тропических фруктов, овощи, кожаные мешочки с золотым песком и многие другие доселе неизвестные Гаю дары Центральной Африки. За носильщиками шли воины, вооруженные мушкетами, ассагаями*["950] и копьями, ведущие вереницу рабов, попарно связанных за шеи стеблями лианы. За рабами обычно гнали стада волов, коз, отары овец, вслед за ними робко семенили женщины, а последним шел воин, ведя за собой ручного окапи*["951], или страуса, или еще какое-нибудь редкое животное в дар монго Жоа. К середине лета Гай уже настолько овладел ремеслом, что сам вел все переговоры с белыми работорговцами. Он был честен, вежлив и точен – его доходы, а следовательно и капиталы монго, росли. Да Коимбра все чаще и чаще позволял ему вести дела с людьми, приводившими караваны товаров и невольников из самых глубинных областей материка. А в конце июля монго объявил Гаю: – Ты превзошел мои ожидания и какое-то время вполне можешь обходиться без меня. А я наконец-то съезжу в Европу: целых десять лет откладывал я это путешествие. Аккуратно веди учетные книги и следи, чтобы никто из местных молодцов не лазал в мой гарем. Если сам туда забредешь, соблюдай осторожность. Я не ревнив, да и бабы эти мне до смерти надоели. Но обычаи нашей страны требуют, чтобы я убил тебя, если ты попадешься. Будет очень жаль, если мне придется расстаться с тобой по такому пустяковому поводу… – Не беспокойся, монго, – усмехнулся Гай. – Я так и не распробовал черное мясо. – Тогда постараюсь привезти тебе маленькую француженку, как и обещал. Французские женщины – занятные штучки. Думаю, это не будет слишком трудной задачей: больших материалистов, чем французы, просто не существует. Небольшое проявление щедрости – и твоя маленькая Жанна последует за мной… – Если хочешь… – беспечно сказал Гай. Разговор не казался ему серьезным. Возможность появления европейской или вообще какой-либо белой женщины в компании этого толстого мулата казалась ему столь маловероятной, что он о ней даже не думал. Еще до того как да Коимбра сел в свой маленький шлюп, отплывающий на юг, в сторону Конго, где наверняка можно было встретить французское судно, Гай полностью забыл об этом разговоре. Прошло немного времени, ему пришлось забыть не только об этом. Наступил август с его ослепительным солнцем, дожди полностью прекратились, началась засуха. Окрестные племена стали все чаще наведываться в Понголенд в поисках пищи. Гай и его люди и сами не ели мяса уже много дней, что в этих краях, обычно изобилующих дичью, считалось серьезным лишением. Гай несколько раз водил людей на охоту, но добыча была крайне скудной. Рабы в загонах худели с каждым днем, так что пришлось их уступить капитанам-янки за смехотворно низкую цену. Гаю так надоели подорожник, ямс, овощи и фрукты, что он поклялся не есть больше зелень до конца дней своих. К концу августа ему пришлось отправить гонцов с известием, что он не будет больше принимать рабов по той простой причине, что их нечем кормить. Нужно было прожить еще весь сентябрь до прихода осеннего сезона дождей. Гай вряд ли бы все это вынес, если бы не Билджи. Ночь за ночью, когда луна, казалось, занимавшая четверть неба, расплескивала свое жидкое серебро по сухим и пыльным джунглям, а голубые кукушки хрипло гукали с вершин деревьев, она приходила к нему и приносила с собой успокоение. Он испытывал к ней настоящую нежность, смешанную со стыдом и жалостью. Но не любовь. И не по той причине, что когда-то удержала его от близости с Фиби, но потому, что теперь, в двадцать пять лет, он был взрослым мужчиной и умел владеть собой. Когда он полюбит вновь, то – навсегда. Поэтому он не хотел отдать свое сердце Билджи, хотя знал, что она вполне достойна его любви. Все равно ничего хорошего из этого не выйдет. Гай ясно понимал (и это вызывало у него чувство горечи), что невозможно ввести это дитя, в жилах которого смешалась негритянская и арабская кровь, в мир белых людей. В душе он разделял все скверные предрассудки своего народа, в его сознании белого человека почти не было места для понимания негра, сострадания к нему. Нет, бросить ее было меньшим злом – уж лучше отсечь острым ножом то, что связывало его с Билджи, этим благоуханным тропическим цветком, обречь ее любовь на медленное угасание от одиночества и непрерывного страдания… Она лежала в его объятиях, а в густой темноте за окном пищали и визжали большие летучие мыши, и, глядя на пурпурное вино ее губ, полночную вуаль ее ресниц, маленькую жилку, пульсирующую на шее, темной, как обожженное тиковое дерево, он чуть не плакал от стыда и горя… Гай лежал, прислушиваясь к ночным звукам. Где-то удивительно близко рыкнул леопард-болози. По ночам невыносимая засуха гнала этих огромных кошек к деревням, где они рыскали в поисках добычи, – отсутствие дичи превращало их в людоедов. По утрам находили их следы, но прогнать не пытались. До самого рассвета люди сидели взаперти, слушая испуганное блеяние коз и надеясь, что обезумевшие от голода звери не полезут на обнесенные частоколом стены. «Что-то нужно предпринять, – думал Гай. – Завтра возьму несколько воинов, пойду в джунгли и не вернусь, пока не перебью всех этих пятнистых дьяволов, а заодно и накормлю деревню мясом…» В этой мысли было что-то успокаивающее. Она позволяла ему переключиться на насущные заботы и перестать, хотя бы на время, думать о Билджи. Он лежал, погруженный в раздумья о предстоящей большой охоте, пока не заснул. Они вышли из Понголенда с первыми лучами солнца: Гай возглавлял процессию, несколько человек, идущих следом, несли его ружья, а за ними длинной чередой растянулись загонщики. Они несли недельный запас провизии, поскольку путь их лежал далеко за пределы местных охотничьих угодий, которые покинула дичь, в обычное время в изобилии водившаяся здесь. Он шел и шел вперед, чувствуя внезапный душевный подъем. Лучи солнца едва проникали сквозь полог пыльной листвы. Зловеще каркнула птица-носорог. Гай ускорил шаг. За первые пять дней они убили трех леопардов, старых, покрытых шрамами былых битв и до крайности отощавших. Животных, пригодных в пищу, и след простыл, единственным исключением была карликовая восточно-африканская антилопа величиной не больше зайца. Они убили ее и съели, тщательно разделив на равные части, так что каждому досталось по маленькому кусочку. В общем-то, они не были голодны, но вынужденное вегетарианство измучило их. Оруженосцы Гая питались лучше, чем он, и, хотя они приглашали его на свои пиры, одного взгляда на котел, полный улиток, ящериц, лягушек, кузнечиков, гусениц, над которыми они чмокали губами от удовольствия, было достаточно, чтобы у Гая окончательно пропал аппетит. Походный повар выбивался из сил, чтобы вернуть интерес к еде у своего господина. На пятый день он поставил перед Гаем котелок с превосходным тушеным мясом. Гай почти уничтожил свою порцию, когда вдруг увидел на дне котелка маленький череп, точь-в-точь как у новорожденного младенца. Зажимая рукой рот, Гай помчался к ближайшим кустам. Огорченный повар последовал за ним. – Бвана не любит обезьяньего мяса? – озабоченно спросил он. – Нет, черт возьми! – заорал Гай, но, увидев вытянувшееся лицо Нимбо, сказал: – Понимаешь, Ним, обезьянка так похожа на ребенка… – Лесные люди говорят, ребенок тоже вкусный, – сказал Нимбо с мрачным видом, – но у нашего народа табу. Мы идем, я и хозяин, к Бириби, большому колдуну, скоро, когда пройдем еще полдня. Бириби поможет. Мы принесем домой много мяса, да? Бвана пойдет? – Да, – сказал Гай. – А сейчас приготовь мне что-нибудь другое… Бириби, колдун из джунглей, жил в пещере. Он, конечно, как и все прочие колдуны, был большим мошенником в непременной маске черного дерева, ястребиных перьях и с обширным запасом тарабарщины на устах. За несколько фунтов табака и бутылку рома он показал свое колдовское искусство. Сначала он убил цыпленка, извлек кишки и перемешал с коричневатым порошком, который, как показалось Гаю, сильно смахивал на экскременты животных. Затем обмазал этой липкой смесью лица Гая и Нимбо. – Вам нельзя умываться, пока не найдете дичь, – торжественно сказал колдун на языке мандинго. – Белый господин должен вести людей и не должен говорить. Вы переправитесь через три реки и выйдете на равнину. На это уйдет два дня. На равнине будет много буйволов. Они не убегут. У вас будет столько мяса, сколько вам надо, если сделаете все так, как я говорю… Чувствуя себя полным идиотом, Гай тем не менее в точности следовал всем этим наставлениям. Они шли два дня, Гай впереди всех, причем он ни разу не открыл рта и не смывал с лица вонючую смесь. Они перебрались через три реки. С наступлением ночи устроили привал на краю холмистой саванны с редкими низкорослыми деревьями. Утром их разбудило мычание буйволов. «Конечно, это чистое совпадение», – убеждал себя Гай, пока негры готовили ружья. Но он достаточно долго прожил в Африке, чтобы не быть в этом абсолютно уверенным. И чем дольше он жил в этом глухом краю, где легко и многократно опровергались законы природы и чистая наука, тем меньше уверенности у него оставалось. Первым же залпом они свалили трех молодых буйволиц. Взяв еще одно заряженное ружье, он увидел, что старый, покрытый боевыми шрамами бык поднял голову и втянул ноздрями утренний воздух. Гай поднял ружье и стал ждать. Еще не совсем рассвело, и буйвол стоял, глядя в его сторону. Гай хорошо знал, что стрелять сейчас нельзя. В Африке нет зверя более злобного, чем буйвол, и более бесстрашного. Даже львы предпочитают не связываться с буйволом. У него нет врагов среди зверей, кроме молодых буйволов-самцов, которые в брачную пору бьются с ним до смерти за право обладать буйволицами. А этот старый бык, судя по всему, участвовал во многих подобных сражениях и всегда побеждал. Гай знал, что поразить в голову бегущего навстречу буйвола практически невозможно. Черепная коробка защищена твердой, как броня, костью больших рогов, закрывающих лоб. Когда буйвол перед нападением опускает голову, этот же костный щит закрывает его грудь. Даже ружье для охоты на слонов в сороковых годах девятнадцатого века не обладало достаточной убойной силой, чтобы свалить идущего в атаку буйвола, единственный шанс давал выстрел с фланга, в бок животного, до того как оно начало двигаться. Гай и оруженосцы начали медленно подбираться сбоку. Они обливались потом, хотя утро было прохладным. Гай вспомнил, во что превратилось тело женщины, натолкнувшейся на буйволицу у водопоя вблизи Понголенда. Им пришлось соскребать багровое месиво из искрошенной в мелкие кусочки плоти и костей с земли, в которую буйволица втоптала женщину. Иначе собрать ее останки было просто невозможно. Сначала они даже не были уверены в том, что эта мягкая масса из плоти, кишок, мозгов и обломков костей когда-то принадлежала человеческому существу. Если бы Гай не видел волос, зубов и обрывков ткани, которые подобрал в грязи Мономасса, чтобы использовать потом в своих целях, все это вполне можно было бы принять за останки какого-нибудь животного. Он молил Бога, чтобы направление ветра не изменилось. Всем известно, что у буйволов плохое зрение, но невероятная острота обоняния. Охотники почти достигли удобной для стрельбы точки, когда вдруг вспорхнули птицы, выбиравшие насекомых из щетинистой, покрытой шрамами шкуры буйвола. И тотчас, не издав ни звука, даже не ударив копытом землю, животное сорвалось с места и понеслось с быстротой скорого поезда. Гай всадил пулю ему в шею, целясь поверх рогов и рассчитывая перебить позвонки. Буйвол даже не замедлил хода. Второй выстрел отколол куски от костного панциря, заставив быка на мгновение поднять голову. И в тот же миг Гай схватил новое ружье и вогнал пулю точно в грудь старому буйволу. Больше он ничего не успел сделать. Буйвол бросился на них, зашвырнул одного из оруженосцев высоко в небо, с огромной силой откинул в сторону еще одного негра и Гая. Животное продолжало свой бег еще ярдов двадцать, потом его колени подогнулись, и оно рухнуло на землю с такой силой, что пропахало головой борозду. И больше уже не двигалось. Но когда Гай попытался подняться на ноги, чтобы убедиться, что буйвол мертв, он обнаружил, что не может сделать этого. Его левая нога была сломана в двух местах, но пока еще не болела. Инстинктивно он поднял руку и вытер лицо. На пальцах осталась липкая грязь. Гай с благоговением глядел на нее. «Подари я колдуну еще бутылку рома, он, может быть, и об этом бы меня предупредил», – подумал он. Изготовив бамбуковые шины для ноги Гая и руки оруженосца, негры разделали тушу старого буйвола и обнаружили, что третья пуля прошла навылет через его сердце. Но, прежде чем умереть, он успел разорвать бедро до самой кости одному человеку, переломать кости еще двум и пробежать несколько десятков ярдов. Теперь у них было много мяса. Устроили настоящий пир. К столу были поданы печень, сердце, языки и сочные бифштексы из мяса трёх буйволиц. Засолив мясо четырех убитых животных, пустились в обратный путь. Для Гая и раненых негров были сооружены носилки. Это было жуткое мучение. Каждый толчок отзывался в сломанной ноге Гая такой болью, словно в нее вонзались раскаленные ножи. И вот наконец первого ноября они добрались до Понголенда. Воздух был теперь густо насыщен туманами, но дождь не шел. Засуха миновала, однако перенасыщенные влагой туманы стояли еще не одну неделю. Конечно, этого было достаточно, чтобы буйно взошла растительность, а звери вернулись к своим старым пастбищам. Можно сказать, что это был самый лучший и приятный за долгие годы сезон дождей. На Рождество 1843 года Жоа да Коимбра возвратился в Понголенд. Он похудел на сорок фунтов и был одет по последней европейской моде. Ясные глаза искрились весельем. Казалось, он помолодел лет на двадцать. А под руку его держала, глядя на него снизу вверхбольшими восхищенными глазами, элегантная маленькая парижанка.Глава 16
В следующие две недели Гай Фолкс чуть не сошел с ума. Нога его все еще не зажила, но совсем другое терзало его – то, чего он уже совершенно не мог вынести: монго поселил изящную миниатюрную Моник Валуа не в серале с другими женами, а в собственном доме. Он перестал ходить в свой гарем. Монго являл собой глупую картину без памяти влюбленного пожилого человека. За эти недели он ни разу не посетил Гая в его доме, где тот просиживал целыми днями со своей сломанной ногой, которую он держал на скамеечке, мучаясь и неистовствуя, как раненый лев. – Что с тобой? – шептала Билджи. – Бвана влюбился в белую девушку? Билджи не знает, что и думать. Ты теперь ее не замечаешь. Почему ты лишился рассудка? Ты влюбился в нее? Скажи Билджи, и я уйду… – Да не люблю я ее! – простонал Гай. – Мне до нее дела нет – жива она или мертва. Но она белая, Билджи, понимаешь, белая! Как ты не можешь понять? А этот навозного цвета ниггер с репейником вместо волос просто не имеет права… – И бвана белый, – заметила Билджи. – А Билджи почти совсем черная. Ну и что? – О Боже! – проскрежетал зубами Гай. – Убирайся отсюда! Уходи, пока я тебя не убил! Билджи выскользнула за дверь. Гай остался сидеть в полной темноте. Снова и снова в его воображении возникала Моник, белая и обнаженная, в толстых смуглых руках монго. Его чуть не стошнило. Он никогда не видел Моник Валуа, не имел ни малейшего представления о том, как она выглядит, но неотвязная мысль о ней и монго не давала ему покоя. Наконец монго пришел навестить его. – Слышал о твоем несчастье, – приветливо сказал мулат. – Давно собирался проведать тебя, но был занят, извини. Гай сидел, вцепившись в подлокотники кресла, внимательно глядя на монго. – Сам знаешь, – продолжал да Коимбра, – в Понголенде трудно что-то удержать в тайне, так что мне вряд ли нужно пускаться в длительные объяснения. Пожалуй, у тебя есть некоторые основания считать, что я не сдержал слова. Наверно, это так, но здесь нет моей вины. Крошка Моник предназначалась для тебя. У меня и в мыслях не было, что ее может заинтересовать такой толстый и немолодой человек, как я. Но, кажется, я ошибся. Для нее не имеет значения ни мой возраст, ни толщина, ни… – Цвет кожи? – спросил Гай сквозь зубы. – Цвет кожи? – переспросил монго. – Почему ее это должно волновать? Для цивилизованных людей цвет кожи значит не больше, чем окраска оперения для голубей. А французы – люди цивилизованные, несмотря на все свои недостатки. Ты уж извини, что так вышло. Но я рад: должен тебе признаться – приятно иметь женщину, с которой есть о чем поговорить, хотя и все остальное, конечно, имеет немалое значение… – Убирайся отсюда, монго! – заорал Гай. – Уходи, ради Бога! Я не хочу тебя убивать, но ей-богу, я… – Сомневаюсь, что тебе бы это удалось, – спокойно сказал да Коимбра, – но очень прискорбно, что у тебя возникло такое желание. Я-то думал, ты избавился от этого предрассудка, который превращает англосаксов в невоспитанных детей, отставших в своем развитии дикарей. Увы, нет. Очень жаль. – Дикарей! – прошептал Гай. – И это говоришь ты, наполовину черный сукин сын! Да как ты смеешь! – Мой народ не вышел из состояния дикости, потому что у него не было такого шанса. А у твоего народа, мой пылкий юный друг, такая возможность была, и он отверг ее, вероятно, потому, что был слишком малодушен для этого. Весьма прискорбно… – Убирайся! – прошептал Гай. – Хорошо. Но прежде чем уйти, я должен сказать тебе, зачем приходил. В нашу сторону движутся полчища бродячих муравьев – впервые за последние семь лет. Может быть, они пройдут мимо деревни, а может, и нет. Во всяком случае, необходимо, чтобы пара негров всегда была наготове, чтобы вынести тебя отсюда, – ведь сам ты не можешь двигаться. Иначе от тебя утром, после того как муравьи пройдут, ничего, кроме одежды и сломанной ноги на скамеечке, не останется – даже клочка мяса: они сожрут его до самых костей. Должен тебе сказать, это чрезвычайно неприятная смерть, так что поберегись… С этими словами он вышел и исчез в густом тумане. Через два дня все жители Понголенда были готовы покинуть деревню: они лишь ждали известия о направлении движения бродячих муравьев. Унга Гуллиа с дикарским благоговением перед силой поведала Гаю об этом маленьком насекомом, не больше четверти дюйма длиной, подлинном царе животного мира и всевластном хозяине африканской земли. Каждые пять-семь лет при повышенной влажности муравьи трогаются с места. Их десятки миллиардов, триллионы. На их пути погибает все живое без исключения. Старый лев, изувеченный ревматизмом и неспособный двигаться. Раненый слон. Улитки, гусеницы, змеи, скорпионы. Животные на привязи или в загоне, независимо от их размеров и силы. Старые и немощные люди, если их вовремя не унесут более молодые и здоровые. После того как муравьи пройдут, находят скелеты их жертв с такими чистыми костями, как будто с них выварили мясо. Даже чище. Белые и сухие… Рабочие муравьи слепы и бесполы. Немногие мужские особи обладают зрением. Матка в двадцать раз больше других муравьев: она такая толстая, что не может двигаться – ее тащат рабочие муравьи. Эта чрезвычайно продуктивная машина откладывает яйца, потомство ее исчисляется миллионами. Она единственная самка в своем племени. Гай лениво слушал рассказ Унги о прожорливости бродячих муравьев; спасаются только пауки: они подвешивают себя к стеблям трав такими тонкими нитями, что муравьи не могут подняться по ним. Но Гай думал не о муравьях, а о том, что, видно, пришла пора покинуть Понголенд навсегда. Однако прежде чем уехать, он должен повидать Моник Валуа и поговорить с ней. Билджи? С ней лучше рвать сейчас. А еще лучше было бы, если она решит, что он погиб. Он вдруг вспомнил, что в первые две недели декабря он несколько раз был близок с Билджи (даже сломанная нога Гая не помешала ее гибкому ласковому телу, а он не принял обычных мер предосторожности), но тут же отбросил эту тревожную мысль: при его нынешнем состоянии здоровья вероятность каких-то последствий их близости была крайне ничтожной… Повидать Моник, предложить ей свою помощь – и прочь отсюда. Месяц или два, пока не выздоровеет, он пробудет на одной из прибрежных факторий, а потом откроет собственную… – Унга, – внезапно прервал он ее, – не могла бы ты передать записку белой жене монго? Тайком, конечно. Монго не должен знать… – Конечно, бвана, – ответила Унга. Французским он давно не пользовался и несколько подзабыл его. Это обстоятельство помогло ему: оно придало записке оттенок некой таинственности, на что Гай вовсе не рассчитывал, и Моник, женщина до мозга костей, более того, француженка, не смогла преодолеть любопытства и пришла. Она проскользнула в хижину и теперь стояла, разглядывая его, прелестная, крошечная, как кукла, с мальчишеским лицом, которое нарушало все законы красоты, – и все же в ней было нечто большее, чем миловидность. Скулы ее выступали, рот был очень широк, глазам не хватало места на маленьком лице. Но это были удивительные глаза: огромные, полные какой-то неутоленной печали. – Вы хотели видеть меня, мсье? – спросила она. Голос ее был низкий и хриплый, но звучал нежно, как ласка. – Да, – сказал Гай по-французски. – Я хотел вас видеть, Моник. И я рад, что вы пришли… – Zut alors!*["952] – рассмеялась она. – И я рада вас видеть. Но в чем дело? Думаю, это не слишком осторожно с моей стороны – прийти сюда. Моему мужу, монго, это бы не понравилось… – Вашему мужу? – изумленно вымолвил Гай. – Конечно. Мы поженились перед отъездом из Франции. Но что в этом такого странного, мсье? – Послушайте, Моник. Мне не удалось скопить большого состояния. Но я оплачу ваш проезд до Франции и, кроме того, дам достаточно денег, чтобы вы открыли маленькое дело. Магазин дамских шляп или даже ателье мод. Она воззрилась на него в безграничном изумлении. – Но почему вы это предлагаете? – спросила она. – Вы совсем меня не знаете и… – Я вас достаточно знаю. Дома вы сможете по-настоящему выйти замуж. – Но у меня была уже свадьба! В церкви. С цветами, вуалью и… – Моник! Неважно, как проходила ваша свадьба, – белая женщина вообще не должна выходить замуж за ниггера! – Ах вот как! Боюсь, что вы начинаете меня сердить. Да кто вы такой, мсье, что позволяете себе подобным образом говорить о моем муже! – Не имеет значения, кто я. Белый человек, и этого вполне достаточно. Может быть, вам многое пришлось испытать в жизни, но все равно это не оправдание для… – Assez!*["953] – выпалила Моник. – Хватит! Теперь позвольте мне кое-что сказать вам, мсье. Я вышла замуж за человека, который добр и ласков со мной, и я люблю его. У него очень нежная кожа, и мне нравится ее цвет. Именно поэтому я сразу обратила на него внимание. Я видела много-много мужчин, таких как вы. Вот вы белый. Но, скажем, брюхо у рыбы тоже белое. Рыба ведь не надувается от гордости – это простое явление природы, ничего больше. Некоторые люди белые, некоторые желтые, некоторые краснокожие, некоторые черные. Это цвета, не более того, и никакого значения они не имеют. Люди разных цветов кожи интересны, как интересны различные виды цветов. Но в конечном счете все они человеческие существа, в их сердцах – любовь и ненависть, жалость и боль, все они маленькие дети милосердного Бога, который любит их всех одинаково. Вы хорошо поняли, что я сказала? – Я понял, что вы безнадежны. – Если этим словом вы называете мою любовь к человеку, которого я не собираюсь покидать только из-за того, что вам не нравится цвет кожи, дарованный ему Богом, то тогда вы правы, мсье. Вы слишком далеко зашли. Может быть, мне не особенно нравится цвет вашей кожи – я же не беру на себя смелость сказать вашей жене, чтобы она из-за этого от вас ушла! Это было бы чересчур. А теперь я пойду. И скажу вам, мсье, с вашего разрешения, что мне очень вас жалко. Вы были бы приятным человеком, если бы очистили свое сердце и в нем было бы больше доброты… Она направилась к выходу, но было поздно: в дверном проеме стоял монго Жоа, внимательно глядя на нее. Он весь дрожал и был не в состоянии говорить, но когда наконец заговорил, его самообладанию можно было позавидовать. – Пойдем, моя дорогая, – сказал он мягко. – Уже очень поздно. Спокойной ночи, мистер Фолкс. Надеюсь, ничто не омрачит ваш сон… Гай, конечно, не спал вовсе. Он лежал на своей постели, держа пистолеты наготове. Так он пролежал два часа, а потом по всей деревне зазвучали голоса и послышался топот бегущих ног. Он встал и проковылял к двери, опираясь на бамбуковые костыли. Задвижка была открыта, но дверь не поддалась – кто-то подпер ее снаружи тяжеленным бревном железного дерева. Гай отошел назад и бросился на дверь всей своей массой, однако она даже не шелохнулась, а он упал на пол, чувствуя страшную боль в сломанной ноге. Потом встал, сделал еще одну попытку – результат был тот же. Лежа на полу, он слышал, как ночной воздух пронзают крики ужаса. У самой двери раздался голос Билджи, звавшей его по имени. Он слышал, как она берется за бревно, с усилием тащит, прерывисто дыша. Потом она закричала. Сквозь ее крики пробились угрюмые хриплые голоса: – Не надо сопротивляться, женщина. Уходи! Монго приговорил его. Он осмелился коснуться белой жены монго и теперь должен умереть. Уходи, дьявольские муравьи уже близко! Он слышал, как она в отчаянии выкрикивала его имя. Потом крики стали глуше и наконец совсем затихли, как будто кто-то зажал ей рот рукой. Он еще полежал, собираясь с силами, затем встал и направился к окну. Этот выход тоже был загорожен. Он вернулся на середину комнаты. Охранявшие его негры наверняка убежали. Никто не осмеливался оказаться на пути бродячих муравьев. Гай сел и задумался. Потом, улыбнувшись, поднял мушкет, проскакал на одной ноге к задней стене дома, построенного из прутьев, обмазанных речным илом, размахнулся и ударил в нее мушкетом. Приклад пробил стену с первого удара. Гай бил и бил, пока дыра не стала достаточно большой. Потом стал выбираться наружу. Это было тяжким делом. Он упирался руками и здоровой ногой и с силой отталкивался, пока наконец не вылез наружу, да так неловко, что сломанная нога подвернулась. Боль была такой острой, что он потерял сознание. Гай пришел в себя от ощущения, что в него сразу во многих местах вонзают раскаленные добела иголки. Он лежал еще какое-то время, пока не понял, что это. Попытался встать, но не смог: костыли остались в хижине. Тогда он перевернулся и пополз. Уколы раскаленных игл усилились. Он был очень смелым человеком, но такая смерть показалась ему ужасной. Гай преодолел еще три ярда и тогда почувствовал, что больше не в силах сопротивляться острой режущей боли от укусов насекомых. Он лежал в густой муравьиной массе, отчаянно молотя руками и пронзительно крича. Билджи услышала эти крики и нашла его. Она была маленькая, хрупкая и не очень сильная, но сумела каким-то чудом вытащить его из этой гущи, поднять и понести, вознося молитвы большому Богу белого человека, а заодно и всем мрачным и кровавым африканским богам. И ее молитва дошла до кого-то из них, а может, даже до нескольких. Потому что нет ложных богов, если верить в них достаточно сильно: каждый человек носит в душе свое собственное божество, наделяя его своим безобразием или озаряя светом своей истины. Билджи вынесла Гая на высокое место, в стороне от потока муравьев. Они лежали там, тяжело дыша, а когда услышали крики, подползли к краю обрыва и глянули вниз. Кто-то боролся с муравьями из последних сил, но они ничем не могли помочь. Крики перешли в булькающие стоны, и все стихло. Они лежали, держа друг друга в объятиях, и рыдали от сознания собственной беспомощности… Утром, когда муравьи ушли, Билджи спустилась в покинутую людьми деревню и взяла костыли Гая. Она принесла также его пояс с деньгами и пистолеты, а потом они двинулись вниз по тропке, ведущей к реке и дальше к морю. И прямо под обрывом обнаружили скелет женщины. Одна нога погибшей была прикована к бревну, нетронутыми остались лишь украшения – бусы и браслеты. – Унга! – пронзительно крикнула Билджи. – Унга! – Она рухнула на колени рядом с этими жалкими останками, сотрясаясь от бурных рыданий. – Но как… как ты узнала? – прошептал Гай. – Браслеты! Браслеты Унги, бвана! Но за что? За что монго убил ее? Гай не ответил ей. Не мог. Но он знал, знал совершенно точно. За то, что Унга передала его записку Моник. И ни за что больше. За это она умерла в мучениях, которые не испытавший укуса бродячего муравья просто не мог бы себе представить… Билджи обложила его табачными листьями, чтобы муравьиные жала вышли наружу. Он чувствовал себя теперь гораздо лучше. По крайней мере, это можно было сказать о его теле. Но терзавшие его душевные муки нельзя было описать словами.Глава 17
21 июня 1852 года Гай Фолк на веранде своей рабовладельческой фактории в Фолкстоне беседовал с капитаном Джеймсом Раджерсом, который, лениво развалившись, сидел на бамбуковом стуле. Годы, проведенные в тюрьме, не прошли бесследно для капитана, и это бросалось в глаза. Гай не знал, каким образом компания добилась его освобождения, и не спрашивал об этом. Если Раджерс захочет, он и сам расскажет, а впрочем, это было не так уж и важно. С того места, где сидел Гай, был хорошо виден океан. Сразу же за темными купами баобабов, тамариндов и пальм виднелись мачты и спардек «Воладора», судна Джеймса Раджерса, и ползущие к нему по безграничному пространству сверкающих вод, подобно черным насекомым, каноэ, на которых люди из племени кру везли рабов. Джеймсу Раджерсу следовало бы, конечно, быть на борту и следить за погрузкой, но годы заключения так изменили характер уроженца Новой Англии, что он поручил это дело помощнику, а сам посиживал здесь, на веранде. – Везет же тебе! – проворчал он. – Везет? – удивился Гай. – С чего ты это взял? – У тебя есть все, что надо: легкая жизнь, чудесная женщина, которая о тебе заботится… – Какая женщина? – усмехнулся Гай. – У меня их было не меньше дюжины, с тех пор как ты впервые пришел в Фолкстон… – Билджи, – решительно сказал Джеймс Раджерс. – Эти португальские квартеронки не в счет. Они приходят и уходят, но Билджи – надежная помощница. – Пожалуй, ты прав, – нехотя признал Гай. – Иногда она мне надоедает до смерти. Но я к ней привык. И все-таки не вижу, с чего бы мне так уж везло… – И все же это так. Самая большая фактория в этой части побережья, а ты – богатейший работорговец в Африке. – Третий по богатству, – поправил его Гай. – Педро Бланко и да Соуза все еще опережают меня. – Ну и что? Ты их догонишь. Люди говорят, у тебя больше миллиона долларов разбросано по банкам Лондона и Нью-Йорка. – Люди болтают много лишнего, – сказал Гай сухо. – Уж я-то тебя знаю! Бьюсь об заклад, они скорее недооценивают, чем переоценивают твое богатство… Капитан был прав. К тому времени Гай имел на банковском счету в Лондоне четверть миллиона, но в фунтах, а не в долларах, и еще семьсот тысяч долларов в банках Бостона, Филадельфии и Нью-Йорка. – Интересно устроена жизнь, – проговорил капитан Раджерс в задумчивости. – Звезда одного человека восходит, другого – падает вниз. Слышал, как плохо идут дела у монго? – Да, – ответил Гай. – Крошка Моник ему недешево обходится. – Не в этом дело. До того как ты завел свою факторию, он мог себе позволить потакать ее прихотям. Она очаровательная женщина. И ребенок у них чудесный. – Слышал. – На берегах Понго слишком тесно для двух факторий такого размера, как Фолкстон и Понголенд. А после тебя монго остаются одни объедки… – Я же не заставляю караваны идти сюда, – возразил Гай. – Разве? Твои подарки богаче, чем у кого-либо, включая Бланко и да Соузу. Ты тратишь больше денег на угощения, чем все пять остальных владельцев факторий вместе взятые. Ты платишь больше других за негров. Ясно, что тебе достаются самые лучшие. – А потом я продаю их по более высоким ценам. Это умение хорошо вести дела, капитан, не более того. А посмотри, что творится у монго. Жалкое зрелище! Ниггеры грабят его на каждом шагу. Он не умеет или не желает вести учет. Бьюсь об заклад, что он ни разу не проверял свои бухгалтерские книги с тех пор, как я ушел от него. – Я в этом и не сомневаюсь. Но уж если говорить о прихлебателях-неграх, то и у тебя их немало. Кстати, у здешнего вождя есть брат-близнец, вождь какого-то лесного племени? – Да. Флонкерри – брат-близнец Флэмбури, который живет выше по реке, за владениями монго. А что? – Видишь ли, я видел второго брата, Флэм… Флэм… – Флэмбури. – На днях Флэмбури имел задушевную беседу с монго. Думаю, что его милость не упустил случая разжечь вражду между этими, похожими друг на друга как две капли воды, порождениями смертного греха в надежде, что и Фолкстон будет в нее вовлечен… – Ты немного отстал от жизни, капитан, – рассмеялся Гай. – Монго давно их пытается столкнуть. Флон и Флэм родились одновременно, кто раньше, не может сказать ни их мать, ни повивальная бабка, – так что им пришлось разделить власть над племенем между собой. И теперь у фольджи два вождя, что сразу внесло смуту. Чтобы как-то разрядить обстановку, Флонкерри попросил меня разрешить ему поселиться здесь со своими людьми. – И ты ему позволил? Но зачем? – Потому что фольджи – превосходные воины, хотя и глупы, как чурбаны. У них нет ни холодного ума ашанти, те хоть и ниггеры, но чертовски башковиты, ни кровожадности дагомейцев. Главный недостаток фольджи: они пытаются нехватку мозгов возместить за счет безрассудной храбрости. Я видел, как они нападали на караваны фулахов и мандинго с ассагаями и копьями. А эти мусульманские племена пользуются огнестрельным оружием еще с тех времен, когда берберы и арабы обратили их в свою веру, поэтому они тогда перестреляли всех фольджи. Но я могу на них положиться: если они идут, то с дороги не сворачивают. Если разразится внутриплеменная война, я их возглавлю. – Так ты думаешь, война будет? – Да. Между двумя половинами одного и того же племени, что весьма прискорбно. Флонкерри и его люди, с тех пор как пришли сюда, втрое увеличили свое богатство, а Флэмбури и его шайка грызут кости генетт*["954]. Зависть, капитан, очень злой колдун… – Особенно когда ее разжигает монго, – заметил Джеймс Раджерс. – Монго даже умнее, чем ты думаешь. Он подослал нам троянского коня, колдуна по имени Мукабасса. Как бы в подарок брату от Флэмбури. Такого безобразного косоглазого черного ублюдка я в жизни не видывал. Но колдун он хороший, это уж точно. Стоило ему появиться, как все пошло кувырком. Скот стал болеть. Один из детей ослеп. Здоровый, могучий воин сошел с ума, потому что ему померещилось, будто он видел в джунглях призрак смерти, охваченный белым пламенем. У первой жены Флонкерри на прошлой неделе случился выкидыш. Старинные друзья поссорились и порезали друг друга ножами. И все из-за этого старого хрыча Мукабассы. – Как его зовут, я не разобрал? – Мукабасса. Недурное имечко, не правда ли? Ему очень подходит. Я говорил Флонкерри не один раз, чтобы он прогнал этого сукина сына колдуна ко всем чертям, но Флон его боится. Придется мне, видно, самому это сделать… – Тем более теперь, когда я тебя предупредил, – сказал Джеймс Раджерс. Гай отправился вместе с капитаном на пристань, где его уже поджидали крумены, чтобы доставить на борт «Воладора». Они обменялись рукопожатиями. – Побереги себя, – сказал Раджерс. – Хочу вновь тебя увидеть, когда приду сюда в очередной рейс… – Не беспокойся, капитан, я себя в обиду не дам, – сказал Гай. Проводив его, он вернулся на веранду. Он сидел там и думал о надвигающейся опасности. Было совершенно ясно, что замышлял да Коимбра: надеялся посеять раздор среди фольджи Фолкстона и таким образом ослабить их боевой дух, а затем побудить завистливую клику Флэмбури напасть на факторию и сжечь ее. На самом деле все обстояло еще хуже, чем даже мог предположить Гай. Мукабасса не просто сеял рознь среди фолкстонских фольджи – он убивал их. Всякий раз, когда Флонкерри, вождь фольджи, пытался выяснить у него причину целой череды несчастий, обрушившихся на племя, у колдуна был наготове один и тот же ответ: кто-то навел порчу на людей Флонкерри. Почти каждый день Мукабасса устраивал разбирательства, которые называл судом Всевышнего, чтобы доказать вину или невиновность того или иного воина, и уже пять человек умерли, выпив воду сэсси, ядовитое варево, образующееся при кипячении коры дерева джеду. Понятно, что Мукабасса признал их всех виновными. Поскольку «суды Всевышнего» происходили не в самом Фолкстоне, а в джунглях, Гай ничего не знал об этих якобы освященных свыше казнях. Никто не осмеливался рассказать ему о них. Все хорошо знали о его неприкрытой ненависти и презрении к колдунам и их деяниям. Но столь велика была власть предрассудка над их дикарским сознанием, что они не решались ослушаться Мукабассы. Вот так монго Жоа ослаблял оборонительные рубежи Гая… Гай увидел, что к нему идет Флонкерри. Это был высокий, исполненный чувства собственного достоинства чернокожий, мускулистый и еще молодой. Но сейчас лицо его выражало глубокую печаль. Крупные слезы сверкали на черных щеках. «Что там еще стряслось», – подумал Гай. Прежде чем заговорить, Флонкерри быстро огляделся по сторонам. – Прогуляемся немного, бвана? – произнес он наконец. – Хорошо, – сказал Гай и встал. Они прошли через поселок и углубились в джунгли. Флонкерри испуганно поглядывал на него. – Здесь никого, – наконец сказал он. – Говори, в конце концов! – взорвался Гай. – Чем ты так обеспокоен? – Капапела, бвана. Мукабасса ее запер. – Что? – взревел Гай. – Да как может Мукабасса, дьявол его забери, запереть твою вторую жену? Ты хочешь сказать, что позволил ему посадить ее под замок? Проклятье! Сколько раз я говорил тебе, Флон, что нужно прогнать отсюда этого старого мошенника? – Мне пришлось подчиниться, бвана. Мукабасса сказал, что Капапела навела порчу на Никию, и ее ребенок родился слишком рано, мертвым. А завтра Капапела будет пить сэсси, чтобы узнать, хорошая она или плохая. Но я боюсь, она умрет, очень боюсь. Те другие все умерли. Пять мужчин и женщин умерли… – Гром и молния! Уж не хочешь ли ты сказать, что позволил Мукабассе убить пять человек, не сказав мне ни слова? Флон, сдается мне, ты заслуживаешь хорошей порки! – Он великий колдун, – прошептал Флонкерри. – Он только дает им воду сэсси, а убивают их собственные черные сердца, да… – Послушай, Флон, – решительно сказал Гай. – Кора дерева джеду ядовита. Как укус гадюки. Дай любому человеку отвар коры дерева джеду, и он, если выпил достаточно, через некоторое время умрет. Господи Боже! Да напряги немного свои мозги, если они у тебя есть! Эти колдуны спасают тех, кого хотят спасти, тех, чьи родственники дали взятку этим злобным негодяям; они дают им ровно столько отвара коры джеду, или воды сэсси, если тебе так больше нравится, чтобы их вытошнило. Вот и вся хитрость. Флонкерри покачал головой с важным видом: – Бвана не знает силы колдовства. Большая магия. Только черные сердца задыхаются от древесного отвара сэсси. Чистые сердца бьются сильно и… Его не переубедишь. Гай понимал это: между ними – стена, разница в несколько веков цивилизации. Он очень любил Флонкерри, однако сейчас ему хотелось задушить его. Но что этим изменишь? Он вспомнил Капапелу такой, какой видел ее в последний раз. Она была так прекрасна, как будто явилась из «Песни песней»: стройная, как пальма, с бархатисто-черной кожей. Шапка коротко подстриженных волос на маленькой изящной голове, маленький носик кнопочкой и мягкие пухлые губы – воплощение африканской красоты. Да, Капа красива. Даже он, несмотря на все свои предрассудки, не мог не видеть этого. И завтра ей предстоит умереть, потому что этот черный осел с репейником вместо мозгов, за которого она вышла замуж, так боится колдовства, что даже не пытается спасти женщину, которую любит больше жизни… И словно в ответ на его мысли Флонкерри сказал: – Капапела умрет – я умру. Не стану жить без нее. – Постой! – сказал Гай. – Послушай, Флон, если я докажу, что колдовство белого человека сильнее, чем колдовство Мукабассы, обещаешь прогнать его отсюда? Глаза Флонкерри вспыхнули: – Твое колдовство будет сильнее, бвана! Тогда я возьму свой ассагай и распорю его от зубов до живота, да! – Этого не потребуется, – сказал Гай. – Пойдем, потолкуем с его милостью… Мукабасса впился в Гая своими злобными косыми глазами. – Бвана хочет сделать колдовство белого человека сильнее колдовства Мукабассы? – прорычал он. – Бвана не знает, что говорит! – Прекрасно знаю! – решительно сказал Гай. – Больше того, я знаю, что ты мне надоел до смерти, проклятый черный убийца! Ты и я испытаем, чье колдовство сильнее, дважды. В первый раз я докажу тебе, что твоя вода сэсси ничего не сможет сделать против моей. А потом ты увидишь, что даже папа Дамбалла на моей стороне! При упоминании имени священного змея Мукабасса побледнел. Но какие-то соображения, возможно гордость за свое ремесло, побудили его принять вызов. – Ладно, – сказал он. – И как же бвана докажет это? – Я хочу поговорить с женщиной десять минут, прежде чем ты дашь ей воду сэсси. Сначала я дам ей мое зелье. Ты можешь смотреть, как я готовлю его. Можешь утроить свою колдовскую силу – все равно ничего не добьешься. И тогда ты увидишь… – Ладно. Но думаю, что не я, а бвана увидит. До свидания, бвана. Гай посмотрел на него с ледяным презрением в глазах. – Пошли, Флон! – негромко сказал он. – У нас много дел. Он увлек Флонкерри за собой. Они углубились в джунгли и шли, пока не добрались до священной рощи змеиного бога Дамбаллы. Здесь Гай отломал от ближайшего дерева раздвоенную ветку. Он стоял нахмурившись, держа ее в руке: в чем же, черт возьми, нести домой гадюку, поймав ее? – Флон, – сказал он. – Сбегай принеси мне пару мешков из шкур. Больших, в которых женщины носят воду. Сможешь? – Смогу, бвана, – ответил Флонкерри и тотчас исчез среди деревьев, легко и красиво сорвавшись с места. Через десять минут он вернулся с мешками. Когда же он увидел, что собирается делать Гай, его блестящая черная кожа стала пепельно-серой. Гай уверенно вошел в рощу, зная, что крепкие башмаки защитят его ноги от змеиных укусов. Как обычно, роща кишела гадюками. Он ловко прижал к земле раздвоенной веткой одну из безобразных тварей, затем очень спокойно нагнулся и поднял, держа ее за голову сзади так, чтобы она не могла вывернуться и укусить его. Змея обвила его руку своим длинным извивающимся телом. Он снял ее правой рукой. – Открой мешок, Флон, – сказал он. Могучий негр повиновался, и Гай бросил змею внутрь хвостом вперед. Флонкерри плотно закрыл мешок и завязал его кожаным ремешком. Через пять минут Гай поймал еще одну змею и поместил ее в другой мешок. Глаза Флонкерри расширились от удивления. Это действительно казалось настоящим колдовством. – Что бвана сделает сейчас? – спросил он. – Большое колдовство, – рассмеялся Гай. – Возьмем их домой. Завтра увидишь… У себя в фактории он порылся в ящике с инструментами и разыскал прочный пинцет. Затем постоял некоторое время, погруженный в раздумья. Он никак не мог вспомнить способ извлечения змеиного яда. Бродячие фокусники в Миссисипи проделывали это перед показом номеров с гремучими и мокасиновыми змеями. Они давали им что-то укусить, а потом… Вспомнил! Они заставляли гадов выпускать свой яд в надутый мочевой пузырь свиньи. Но у него не было пузыря свиньи или чего-нибудь в этом роде. И тогда он увидел стайку кур, пересекающих двор. Что ж, курица годится, не дать бы только гадюке втянуть обратно яд после укуса. Он вышел во двор, поймал толстую курицу и привязал за лапу к столбу. Затем, взяв раздвоенную ветку в левую руку, он развязал один из мешков и выбросил змею на землю рядом с курицей. Змея тут же ее укусила. Гай прижал гадюку рогаткой к земле, зубы ее все еще оставались погруженными в куриную плоть. Продолжая удерживать змею, он сдавил мешочек с ядом как раз между ее маленьких блестящих глаз. Убедившись, что весь яд выдавлен, Гай зажал голову гадюки между большим и указательным пальцами и поднял ее, не давая рту закрыться. Он знал, что малейшая небрежность смертельно опасна даже теперь: возможно, на зубах змеи осталось достаточно яда, чтобы уложить человека в постель на долгие недели. Взяв пинцет, он выдернул сначала один длинный кривой желтый зуб, потом другой. Теперь гадюка стала совершенно безвредной: только через эти полые зубы может она впрыскивать яд в свою жертву. Остальные зубы сплошные и служат лишь для того, чтобы удерживать добычу, пока яд не окажет своего смертоносного действия. Он положил змею обратно в мешок, пометив его своим складным ножом. Затем подозвал женщину и велел ей сплести две длинные, узкие, с откидными, на петлях, крышками, корзины-клетки, сквозь решетку которых гадюка была бы видна. Через четыре часа, когда она закончила работу, он посадил змею с вырванными зубами в одну из корзин, сделав на ней почти незаметную пометку кусочком пальмовой древесины. В другую корзину он поместил ядовитую змею. А потом, спохватившись, закопал мертвую курицу, чтобы кто-нибудь не съел ее. В полдень следующего дня, завывая и приплясывая, в ужасной маске колдуна, скрывавшей лицо, отчего его внешность, по мнению Гая, только выигрывала, пришел Мукабасса, ведя несчастную Капапелу. Ее руки были связаны сзади лианами, еще одна лиана петлей наброшена на горло. Она была полумертвой от страха. – Не бойся, Капа, – мягко сказал Гай. – Мое колдовство сильнее, чем его… Больше он ничего не успел сказать. – Что здесь происходит? – послышался решительный женский голос. Гай обернулся и увидел Билджи, во все глаза смотревшую на него, а рядом с ней – белую женщину, почти с него ростом. Он никогда не видел раньше Пруденс Стаунтон, но это, бесспорно, была она, ведь на много миль вокруг она была единственной белой женщиной. Ей было теперь лет двадцать шесть – двадцать семь. И, хотя Африка встретила ее неласково, она, несомненно, освоилась здесь. В тот момент Гай не осознал, что Пруденс по-своему привлекательна, он понял это значительно позже. Что поразило его с первого взгляда – так это безмятежное спокойствие всего ее облика. Именно эта безмятежность больше всего раздражала такого скептика, как Гай, – ведь за ней не было ничего, кроме бесхитростной веры. Он рассматривал девушку с оскорбительной неторопливостью. В ее внешности не было ничего замечательного. Пожалуй, ее можно было назвать худой, однако по-мальчишечьи стройная фигура не мешала ей быть необычайно женственной. Уголки голубых глаз Пруденс собирались в морщины, оттого что она слишком много бывала на солнце. И все же эти морщины не старили ее, а скорее придавали некоторое высокомерие, но, несмотря на это, он подумал, что при других обстоятельствах черты ее лица вполне могли бы выражать спокойное добродушие. Темно-золотистые волосы аккуратно собраны в пучок на тонкой загорелой шее. Широкий рот с удивительно полными губами – похоже, что холодная сдержанность – только видимость, скрывающая душевную теплоту. Солнце выжгло ее брови и ресницы почти добела, и они резко выделялись на покрытом густым загаром лице. В ее облике не было ничего примечательного. Но сама Пруденс Стаунтон была незаурядной личностью. – Я спрашиваю, – сухо повторила она, – что все-таки здесь происходит? – Ничего особенного, – нехотя ответил Гай. – Мы с этим почтенным колдуном побились об заклад. Он собирается дать женщине древесный отвар сэсси… – Но ему нельзя это позволить! – выкрикнула Пруденс. – Сэсси – смертельный яд! – Вы не сообщили мне ничего нового, мисс Стаунтон, – спокойно сказал Гай. – И все же из чистого интереса… Глаза Пруденс вспыхнули сапфировым пламенем. – Ах вот вы какой человек, мистер Фолкс! Вы хотите сказать, что человеческая жизнь – ставка в вашей азартной игре? – Пожалуй что так, если допустить, что негры – люди, – ответил Гай не без издевки, – у меня же на этот счет свое мнение. Кроме того, я куда лучший колдун, чем это порождение смертного греха. Женщина не умрет. Я даю вам слово. – Послушайте, вы… – задохнулась Пруденс. – А не кажется ли вам, Пру, – решительно произнес Гай, – что вы становитесь немного надоедливой. Отойдите в сторонку, как хорошая девочка, и не вмешивайтесь. Билджи, дорогая, дай-ка мне эту бутылочку… Билджи, не вымолвив ни слова, передала ему бутылку с настойкой рвотного камня. Если бы он сказал ей перерезать себе горло, она, наверно, повиновалась бы столь же быстро и беспрекословно. – Открой рот, Капа! – приказал он. Капапела послушно открыла рот, в глазах ее забрезжила надежда. Гай влил ей в глотку тошнотворную смесь. Затем повернулся к Мукабассе. – Твоя очередь, великий колдун, – сказал он. Мукабасса поднес чашку, полную отвара коры дерева джеду, к губам Капапелы. Краем глаза Гай видел, что Пруденс вся напряглась, готовясь к прыжку. Он помешал ей, крепко схватив за руки. – Не надо этого делать, – сказал он решительно. – Пари есть пари. И вообще, у нас здесь свои порядки. – Пустите меня! – завизжала Пруденс. – Пустите! – Должен вам разъяснить, Пру, – насмешливо сказал Гай, – что здесь, в Фолкстоне, действует одно правило: я говорю, а все остальные слушают. Особенно женщины. Да прекратите же вырываться! Капапела храбро проглотила яд. Обитатели поселка столпились вокруг и глядели на нее затаив дыхание. Не прошло и минуты, как Капапела согнулась вдвое и исторгла весь яд на землю. – С ней все в порядке, – сказал Гай. – Сок джеду должен находиться в желудке не менее десяти минут, чтобы начать действовать. Могу ли я теперь отпустить вас? – Я никогда… – проговорила Пруденс, тяжело дыша и выталкивая слова по одному, – за всю… свою жизнь… не подвергалась… столь бесцеремонному… обращению! – В таком случае, Пру, – сказал Гай, – вам еще многое предстоит узнать. – Он заметил, что Флонкерри взялся за свой острый как бритва ассагай. – Нет, Флон. Нам с Мукабассой предстоит пройти еще одно испытание. Мы спросим самого папу Дамбаллу, кто из нас говорит правду. Нибири, неси змей! – И вы считаете себя белым человеком и христианином! – воскликнула Пруденс. – Я белый человек, тут нет никакого сомнения, – торжественно сказал Гай, – а вот насчет христианства не уверен. Я приемный сын Африки, мэм, а мне сдается, что ни Иегова, ни Иисус никогда не перебирались через Атласские горы… Пруденс уставилась на него с неподдельным изумлением: – Вы хотите сказать, что верите во весь этот шарлатанский вздор? – Да, мэм. А вы разве нет? Кажется, я только что показал вам его силу, которая ничуть не меньше, чем сила Библии и сила меча. Вы, миссионеры, уже двести лет пытаетесь отмыть ниггеров в крови агнца, а они по-прежнему остаются такими же черными и ленивыми, насколько я могу заметить… Принесла их, Нибири? А теперь, будь умницей, покажи их, чтобы все видели. Негры отпрянули на несколько шагов от клеток со змеями. Гай взял помеченную им вчера клетку и поднял ее в вытянутой левой руке. Затем взялся правой рукой за петлю крышки. – Бвана! – завопила Билджи. – Бвана, не делай этого. Укусит тебя, ты умрешь! – Выбрось эти мысли из своей хорошенькой головки, малышка! – ухмыльнулся Гай. – Мы друзья с папой Дамбаллой. Со мной ничего не случится… – Вы что – собираетесь засунуть голую руку в клетку с ямкоголовой змеей? – спросила Пруденс. – Да, мэм, – протянул Гай. – Говорит же Библия, что вера движет горами! А я очень-очень верю в старого папу Дамбаллу. Змея не причинит мне никакого вреда. Он смело просунул руку в клетку. Гадюка, свернувшаяся полукольцом, укусила мгновенно, вонзив задние зубы в руку Гая. Гай слышал пронзительные вопли Билджи, полные отчаяния. Пруденс же не издала ни звука. Он обернулся: она глядела на него с холодным любопытством. – Вырвали ядовитые зубы, не правда ли? – спокойно спросила она. – Ловкий фокус! – С вами, надеюсь, все в порядке, Пру? – улыбнулся ей Гай. – Тем не менее я был бы вам очень благодарен, если бы вы помолчали… – Не беспокойтесь, – сказала она насмешливо. – Я горячо одобряю любые способы борьбы с колдунами. Он засунул в клетку другую руку и раздвинул челюсти змеи. Туземцы столпились вокруг, разглядывая крошечные капельки крови на его руке. – Бвана не умрет? – прошептала Билджи. – Еще лет сорок, по крайней мере, – усмехнулся Гай. Он повернулся к Мукабассе, который дрожал как осиновый лист. – Теперь твоя очередь, великий колдун, – сказал он, передавая знахарю вторую клетку. Мукабассе хватило всего одного взгляда на нее, чтобы броситься наутек. Флонкерри рванулся следом и в несколько прыжков почти настиг его. – Отпусти его, Флон! – закричал Гай. – Смотри только, чтоб он не вернулся. Флонкерри остановился и обернулся к Гаю. – Не убивать его? – спросил он с грустью. – Не надо. Он убежит в лес. А вечером Эсамба поймает его и погасит свет в его глазах. Он будет достаточно наказан… Флонкерри подошел к Капапеле и улыбнулся. Он обнял ее за тонкую талию, и они ушли. Это зрелище доставило Гаю большое удовольствие. Он повернулся к Пруденс Стаунтон. – А теперь, – сказал он сдержанно, – позвольте мне, хоть и с некоторым опозданием, пригласить вас в Фолкстон, мисс Стаунтон. Как говорят фулахи, мой дом – твой дом… Пруденс не сразу ответила ему. Она стояла, разглядывая его с неподдельным любопытством. – Ну как? – усмехнулся Гай. – Вы удовлетворены увиденным? На мгновение в ее глазах появилось беспокойство. – Простите, – сказала она. – Мне следовало бы вести себя сдержанней, мистер Фолкс. Дело в том, что я с семи лет не видела белых людей, за исключением отца. – Ну и что вы можете сказать теперь, когда увидели? Она холодно улыбнулся ему, сохраняя полное самообладание: – Все суждения основаны на сравнении, не правда ли, мистер Фолкс? А у меня нет для них почвы, поэтому как я могу судить? – Вы, Пру, – сказал Гай торжественно, – настоящий адвокат из Филадельфии. Но, клянусь всем святым, вы мне нравитесь. Проходите в дом… – Благодарю вас. И если позволите, я осмотрю вашу руку. У меня есть опыт врачевания змеиных укусов. Она опустилась на колени у его кресла в гостиной и разрезала рану бритвой, которую Билджи предварительно прокипятила. Потом Пруденс несколько раз сильно сдавила место разреза, так что обильно полилась кровь. – Думаю, яда нет, – решительно сказала она, – но лучше проверить. Если есть, кровь его вымоет – и этого будет достаточно… Она взглянула на Билджи. – Скажи, девушка, – обратилась она к ней на суахили, – где можно взять кусок ткани для перевязки? – Она говорит по-английски, – сказал Гай. Пруденс с интересом взглянула на Билджи. Она уже видела сегодня на пристани эту девушку из Тимбо, но до сих пор обращала на нее не больше внимания, чем на любую другую африканку. Но сейчас, заметив в глазах Билджи затаенную печаль, она сразу все поняла. Сразу и до конца. Но что ее особенно поразило, буквально пригвоздило к полу, так это ее собственная реакция. Она знала, что сожительство белых мужчин с туземными женщинами – дело для Африки обычное, может быть, именно поэтому представители ее расы (а их в этих краях было немного) никогда не искали встречи с ней. К тому же отец так дорожил ею, так боялся, что ее чистота будет оскорблена видом факторий и рынков рабов на Невольничьем Берегу, что не брал ее в свои редкие поездки, которые предпринимались, отчасти, по крайней мере, именно с целью проповеди против этой позорной практики. Однако его усилия были бесполезны, о чем он знал заранее, но считал это своим христианским долгом. Она медленно поднялась с колен. – Перебинтуешь сама, – сказала она Билджи. Резкость собственного тона неприятно поразила ее. Она вовсе не хотела давать волю своим чувствам. – Да, госпожа, – покорно сказала Билджи. Пруденс поняла: ей нужно время, чтобы подумать. А когда он смотрел на нее своими большими черными глазами, она ни о чем не могла думать. Ей начинало казаться, что он видит ее насквозь, знает все ее мысли и чувства… Главным же чувством,овладевшим ею (она понимала это и не могла обманывать себя, унаследовав от отца беспощадную честность), было не возмущение и гнев по поводу этого вопиющего нарушения христианского кодекса морали, а мучительная боль, вызванная чисто женской ревностью. «Я его совсем не знаю, – в ярости твердила она себе. – То, что я говорила ему, истинная правда: мне не с чем сравнивать – ведь папа так оберегал меня… А он – торговец рабами, человеческой плотью. Чуть ли не атеист. Не знаю, уродлив ли он или все-таки красив, как языческий бог. Папе следовало быть дальновиднее. Если бы он брал меня в свои поездки, я бы имела возможность видеть и других белых мужчин и не стояла бы сейчас в полном смятении, уже наполовину влюбившись в него, незнакомца, которого встретила какой-то час назад…» Гай улыбнулся ей. – Стоит покинуть пределы миссии, – мягко сказал он, – и мир становится совсем иным… – Не спорю, – сказала она резко. – Однако должна вас разочаровать, мистер Фолкс. Проповедник – мой отец, а не я. И вообще, ваша жизнь меня совершенно не касается… – Неужели? Думаю, вы не правы. Я свято верю в братство людей. А вы меня разочаровали. Я-то уж предвкушал, как прекрасная миссионерка спасет мою душу. Теряюсь в догадках: зачем же вы тогда пришли сюда? – Меня прислал отец, – не сразу ответила Пруденс. – Вокруг миссии разгорелась война, и он увидел, что дикари Диакьяра вытворяют с женщинами. Я не хотела уходить, но папа обещал, что, если станет совсем плохо, он пришлет гонца с просьбой о помощи. Мы можем на вас рассчитывать, мистер Фолкс? – Разумеется. Насколько я знаю, ваш отец весьма достойный человек. Думаю, что тот вред, который он причинил, насаждая религию, неподходящую для Африки, не так уж велик по сравнению с пользой, что он приносит, знакомя негров с простейшими навыками гигиены и врачуя их болезни. Я и сам хочу послать к нему нескольких пациентов… – Иначе говоря, – холодно заметила Пруденс, – вы обеспокоены состоянием их тел, а не душ. Что ж, это понятно. Чем здоровее африканец, тем дороже его можно продать, не так ли, мистер Фолкс? – Совершенно верно. Однако я нерадиво отношусь к своим обязанностям хозяина. Что бы вы хотели на обед, мисс Стаунтон? Пруденс покраснела и не сразу ответила. – Прошу прощения, – сказала она наконец. – Все-таки я у вас в гостях, а вам приходится напоминать мне об этом. Я вела себя отвратительно. Пожалуйста, простите меня, мистер Фолкс. – Вас не за что прощать, – улыбнулся Гай. – Пойдемте, я покажу вам факторию, пока повар стряпает ваше любимое блюдо. Какое именно, мисс Стаунтон? – Люди, живущие в миссии, – печально сказала она, – не могут позволить себе такую роскошь, как любимые блюда. Пусть это будет ваша повседневная пища, мистер Фолкс. – Прекрасно, – сказал Гай. – Что ж, пошли?Глава 18
Лунный свет, озаряющий серебряным сиянием все небо, едва пробивался сквозь кроны деревьев. С моря дул ветер, деревья колыхались и рассеивали свет, так что весь пейзаж находился в постоянном движении. Стайка обезьян, что-то лопоча, пронеслась по верхушкам тамариндов. Хрипло прокричала кукушка. Потом все стихло, кроме шума волн, которые накатывались и разбивались о берег, и кровь в ее висках, казалось, пульсировала в ритме морского прибоя. Она лежала на спине, глядя в потолок. Ветер глухо шуршал в листве баобаба, и на ее лице отражались попеременно то тень от листьев, то лунное серебро. Ей чудилось, что она ощущает кожей смену света и тени, как ощущала бы легкие, щекочущие прикосновения травинки в детской руке. В пятне лунного света, отраженного зеркалом на потолок, пробежала ящерица и с шуршанием скрылась. А Пруденс Стаунтон лежала, сжимая и разжимая тонкие пальцы, с трудом сдерживая слезы. «Я не должна думать, – говорила она себе, – не должна. Он совсем не такой, о каком я мечтала: атеист, торговец человеческой плотью – злой, жестокий человек. Нет… он мог бы позволить своим воинам убить знахаря, но ведь не позволил. В его душе есть добро, но оно загнано вглубь. Я могла бы помочь ему, могла бы… Только я ему не нужна. Он такой сильный, ужасно сильный, он горд и не ведает сомнений. Если бы я смогла помочь ему прозреть, убедить его бросить это гнусное занятие, какие чудеса могли бы мы сотворить вместе, если бы эта сила была обращена на службу Господу. Я была бы тогда так счастлива – и мне не нужно больше никаких сравнений. Он так красив, как я себе и представляла: высокий, с этими дерзкими глазами, насмешливым и нежным ртом…»Внезапно Пруденс села, свесив длинные, стройные ноги со своего ложа. На ней была только сорочка: в Фолкстоне не нашлось ночной рубашки, а свои она взять не догадалась. Пруденс прошла к зеркалу и уселась перед ним. Ей не пришлось зажигать лампу с пальмовым маслом: на этой стороне комнаты, залитой лунным сиянием, было светло как днем. Она сидела, разглядывая свое отражение в зеркале. Фигура хорошая – если бы не худоба, ее можно было бы даже назвать красивой. Немного побольше бы мяса на костях, думала она, но знала, что, наверно, так и останется худой…
Пруденс сидела, вслушиваясь в рокот прибоя, шорох деревьев, шум, который поднимали пробегающие обезьяны, писк летучей мыши, и чувствовала, как в ее крови все сильней, отчетливей, яростней звучат голоса мрачных и жестоких африканских богов. «Он прав, – всхлипнула она. – Прав! Они никогда не переходили через горы. Ни Иегова, ни добрый, кроткий Иисус! Африка не место для них и никогда им не будет. Здесь правят Джу-Джу, Дамбалла, Болози, Эсамба – все эти ужасные черные боги, которые бормочут что-то в ночи… А я…» Она вдруг вся напряглась, услышав, как Билджи напевает сладкозвучную любовную песенку. Ее голос, негромкий, хрипловатый и нежный, звучал в насыщенной ароматами темноте тропиков. Пруденс сидела и слушала, а по щекам ее текли жгучие слезы. «Это несправедливо, несправедливо… Она с ним – черная африканская дикарка. А я… я…» Пруденс туго, обеими руками, обтянула сорочкой грудь так, чтобы хлопчатобумажная ткань как можно рельефнее обрисовала ее очертания. Плотно сжала губы, подалась вперед, разглядывая себя в зеркале. Все же у нее красивое тело, но со вкусом подобранное платье может сделать его еще красивее. Родись она на сто лет позже, ее стройную мальчишескую фигуру сочли бы весьма изящной… Пруденс отшатнулась назад, устыдившись того, что делала. Отвернувшись от зеркала, она быстро оделась и вышла в залитую лунным светом ночь. Она застыла у перил веранды, глядя поверх темных силуэтов деревьев, окаймляющих берег, на широкую лунную дорожку, ослепительно блестевшую на темной воде. Она не знала, как долго простояла так, ни о чем не думая, не шевелясь, будто растворившись в ночи, исполнившись ее безмятежного покоя, когда что-то, даже не звук, а скорее некое ощущение, внезапная вспышка сознания, заставило ее обернуться, и она увидела в тени тамаринда тлеющий кончик сигары, мерцающий, словно красная звездочка. Он вышел навстречу ей из тени дерева в лунный свет. – Что, не спится, мисс Стаунтон? – спросил он спокойно. – Нет. А вам? – Тоже, как видите, – сухо сказал Гай. – Почему же? – спросила она, стараясь не обращаться к нему по имени. Она не хотела опять называть его мистером Фолксом. Он долго смотрел на нее, прежде чем ответить: – Мне следует сказать вам правду или ничего не значащую любезность? – Правду, – твердо сказала она. – Я уже больше двенадцати лет не видел белой женщины. И я, честно вам признаюсь, взволнован, что такая молодая и красивая женщина гостит у меня. Хочу сказать больше… – Больше? – эхом отозвалась Пруденс. – Гораздо больше. Я человек не особенно стеснительный, мисс Стаунтон. Но мне никогда не доводилось встречать дочь миссионера. Чувствую, что религия очень много значит для вас, и в этом-то вся загвоздка… – В чем же тут загвоздка? – Я придерживаюсь убеждения, что все женщины похожи друг на друга, как сестры, и до сих пор ни разу в этом не обманывался. Еще не встречал такую, которую бы долгое время угнетало сознание своих человеческих слабостей. Но вы другая, Пру… Я хотел сказать, мисс Стаунтон… – Зовите меня Пру, – мягко сказала она. – Мне это нравится, я, пожалуй, даже огорчилась сейчас немного, когда вы вспомнили о приличиях и стали столь церемонны. Пру звучит очень по-дружески… – Тогда зовите меня Гай. Вы другая. Большинство людей воздают хвалу Господу, а потом при случае всегда находят причину позволить себе то, за что они осуждают других. Но вы вряд ли себе такое позволите. Может быть, вы никогда не простите себе, если сойдете с пьедестала, на который вас вознес отец. Вас может больно ранить, если вы обнаружите, что в ваших жилах течет кровь, а сердце подвластно человеческим страстям… «Уже обнаружила», – с горечью подумала она, но вслух этого не сказала. – Не знаю, что вам ответить, Гай. Я воспитывалась в Африке, не зная материнской любви и заботы. Женщинам не положено говорить на определенные темы, даже думать об этом. Я несколько раз безмерно огорчала отца возмутительно вольными, с его точки зрения, речами. И теперь я очень робка в своих высказываниях, даже не знаю, как пристало говорить леди… – Мне вы можете говорить все, что придет вам в голову, Пру. – Хорошо. Но должна вас предупредить, что я ужасно прямолинейна. Из того, что вы говорите, можно понять, что, если бы не боязнь оскорбить мои религиозные чувства, вы пытались бы сделать меня вашей… вашей любовницей. Я правильно поняла? – Совершенно правильно, – усмехнулся Гай. – Продолжайте, Пру. – В таком случае я очень рада, что вы испытываете эту боязнь. – Понятно, – сказал Гай сухо. «Ничего тебе не понятно, – подумала она тоскливо. – Ты ничего не понимаешь. Когда вернусь домой, попрошу отца запереть меня и давать целый месяц только хлеб и воду в наказание за мои греховные мысли. Я хотела сказать, что, если бы ты попытался, я бы изо всех сил сопротивлялась тебе, Гай. Но у меня нет больше уверенности в своих силах. Ты очень привлекательный мужчина. Сначала мне казалось, что я так отношусь к тебе, потому что никого другого не видела, но теперь-то понимаю, что и в окружении других мужчин ты сразу бы бросился в глаза. И если бы ты сделал такую попытку, то (Господи, прости меня!), возможно, добился бы успеха. Я это знаю. И это было бы самое ужасное, что могло бы случиться…» Он стоял молча, не желая прерывать ее раздумья, «…потому что я тогда возненавидела бы тебя за то, что ты меня опозорил, – с горечью думала она, – и себя – за слабость…» – Нет, – прервала она затянувшееся молчание, – не думаю, что вы поняли меня до конца. И именно поэтому вы должны завтра же отправить меня домой. – Домой? Неужели вы настолько меня боитесь! – Боюсь? – прошептала она. – Я боюсь нас обоих, Гай. Дикари Диакьяра и те менее опасны. Они могут убить только мое тело. Думаю, что это куда меньшее зло, чем… разрушение моей души. Наступило молчание. Лился лунный свет, медленно тянулись мгновения. Наконец Гай заговорил. – Хорошо, Пру, – сказал он тихо. – Вы победили. Но вы должны оставаться здесь, пока ваш отец не пришлет кого-нибудь за вами. Я уберу прочь свои грязные руки, обещаю вам это. Она стояла, глядя на него, в глазах ее сверкнули слезы. – Благодарю вас, – прошептала она. – Надеюсь, вы поймете меня, если я скажу, что это самая бесплодная победа, которую я когда-либо одерживала в своей жизни. И она повернулась и с достоинством удалилась обратно в дом. Пруденс прожила в фактории целый месяц, и все это время пламенная война готова была вот-вот разразиться. Не началась она только потому, что Гай, избавив Фолкстон от Мукабассы, этого троянского коня, лишил да Коимбру уверенности в успехе. Для Пру этот месяц был ужасен. Возможно, если бы Гай нарушил данное им слово, ей послужило бы опорой чувство оскорбленной добродетели. Но Гай свое слово сдержал. Он был подчеркнуто вежлив и добр, ни разу не дав понять ни жестом, ни намеком, что помнит об их странном недолгом разговоре. Больше всего ее терзало то, что ему, скорее всего, ни разу не пришел в голову очевидный для нее выход из положения. Она тысячу раз представляла, как он опускается перед ней на колени и говорит: «Выходите за меня замуж, Пру. Ради вас я прекращу торговать рабами, стану христианином, и мы вместе вознесем молитвы Господу…» В конце концов Пруденс не выдержала. Не сказав ни слова Гаю, она отправилась в поселок и, поскольку прекрасно владела большинством местных диалектов, без труда договорилась с Флонкерри об эскорте из пяти дюжих воинов, чтобы проводить ее до миссии. Вождь предложил Пруденс подождать, пока для нее не изготовят типой, своеобразное транспортное средство, состоящее из подвешенного на двух жердях удобного стула, который несут на плечах четыре носильщика. Поскольку на эту работу требовалось не более двух часов и можно было отправляться в путь уже на рассвете, она с благодарностью согласилась. Пруденс вернулась в дом и легла не раздеваясь на постель. Она так и не заснула и, встав за час до рассвета, написала прощальную записку Гаю. Взяв свою сумку, она на цыпочках прошла в его комнату. Пруденс молила Бога, чтобы там не оказалось Билджи, и он внял молитвам праведницы. Гай крепко спал, раскинувшись на леопардовых шкурах, закрытый до пояса легким одеялом. Она стояла, завороженно глядя на его мускулистый торс, на большой рубец, оставленный рапирой Килрейна на сильном плече, на полукруг шрама от клыков (леопарда, решила она) на тыльной стороне левой руки и на загорелое лицо, смягчившееся во сне и полное такой благородной мужской красоты, что у нее не было сил на него смотреть. Пруденс положила записку на столик у его ложа и повернулась, чтобы идти. Но в последний момент страсть возобладала над волей. Она быстро наклонилась и поцеловала спящего в губы. Его длинные руки взметнулись, сомкнувшись за ее спиной. Глаза открылись – мгновенно ставшие ясными глаза охотника. – Да это Пру! – рассмеялся он. – Очень мило, что вы зашли! – Пустите меня! Слышите, пустите меня, Гай Фолкс! – Ну уж нет! – фыркнул он. – Вы меня поцеловали. Значит, я должен вернуть вам долг с процентами! Он сел и нашел ее рот. Поцелуй был умелым и продолжительным. Когда наконец он отстранился, ее лицо было покрыто смертельной бледностью, щеки залиты слезами стыда. – Гай, – прошептала она, – вы, наверно, большой охотник? И спортсмен тоже? Он нахмурился на мгновение, но тут же черты его лица смягчились. – Пожалуй что так, – протянул он. – А что, Пру? – Папа говорит, что нет ничего хуже, чем стрелять в ручных беззащитных уток. Вы меня поняли, Гай? – Да, – сказал он. И широко развел руки, освободив ее, как пойманную птицу. – Спасибо, – прошептала она и направилась к двери. Проходя мимо стола, она смахнула юбкой на пол записку. Пустячное происшествие, но такие пустяки нередко имеют трагические последствия. Поднявшись утром, Гай, как всегда, швырнул одеяло на пол, и оно накрыло послание Пруденс. Только вечером, когда он вернулся, после того как обошел все вокруг и убедился, что фактория готова отразить внезапное нападение, Билджи вручила Гаю записку, найденную во время уборки комнаты. Но было уже слишком поздно посылать людей вдогонку. Гай узнал от Флонкерри, что он отправил с Пруденс вооруженный эскорт. И все же всю следующую неделю его мучило беспокойство. Оно еще больше усилилось, когда к нему пришел Флонкерри с известием, что люди, ушедшие с Пру, до сих пор не вернулись. Гай хотел было уже приказать вождю готовить воинов к выступлению, но вдруг услышал, как Флон издал гортанный возглас, полный удивления. Гай обернулся и увидел людей у причала – высокого белого мужчину, окруженного чернокожими. Негры поддерживали его: по-видимому, сам он стоять не мог. Гай и Флонкерри бегом бросились к пристани. Не было ни малейшего сомнения, что белый человек – отец Пру. Преподобный Обадия Стаунтон едва держался на ногах, поддерживаемый двумя фольджи из числа воинов, сопровождавших Пру. Он был ранен копьем в плечо. Наконечник прошел насквозь, неумело наложенный бинт пропитался кровью. – Здравствуйте, ваше преподобие! – мягко сказал Гай. – Похоже, вам требуется помощь. – Не беспокойтесь обо мне, – сказал Стаунтон устало. – Помогите моим людям. Диакьяр увел их с собой, тех, кто остался в живых. Если вы спасете их, мистер Фолкс, я буду вам очень признателен… – Конечно, – сказал Гай решительно. – Но сначала нужно заняться вашей раной. Плечо у вас выглядит неважно… – Нет! – вскричал миссионер. – На это нет времени! Вы разве меня не поняли? Диакьяр увел… – Да, я слышал. Но мы сможем выкупить их позднее. – Вы меня не поняли, сэр, – сказал Обадия Стаунтон. – Диакьяр не отдает пленных за выкуп. Его люди – настоящие дикари. Они… они их съедят! Гай застыл, уставившись на проповедника. И тут он увидел в его глазах смертную муку. – Пру? – спросил он. – Мертва, – сказал преподобный Стаунтон ровным, безжизненно-спокойным голосом; видно было, что священник в состоянии глубокого шока. – Один из ваших фольджи застрелил ее по моему приказу. Она… она не мучилась, сынок… – По вашему приказу?! – Да. Она хотела, чтоб это сделал я, но… я не смог… А надежды никакой не было… Мне довелось как-то увидеть, что вытворяют с женщинами люди Диакьяра. Гай смерил его взглядом. Когда же заговорил, голос его был тверд как кремень. – Но вы-то спаслись, – сказал он. – Меня освободили ваши фольджи. Те, что пришли с Пру. Бандиты Диакьяра уже тащили меня на костер. Они, видно, решили, что я еще пару часов помучаюсь, прежде чем умереть. Я хотел избавить Пруденс от этого, сэр, и от гораздо худшего… – Простите, ваше преподобие. Разрешите помочь вам дойти до дома. – Постойте. Мне нужно кое-что узнать. Вы можете доверять своим фольджи, мистер Фолкс? – Безоговорочно. А почему вы спросили? – Потому что фольджи замешаны в этом деле. Пруденс нам сказала, что Флонкерри и половина племени живут здесь. А его брат Флэмбури стал причиной несчастья… – Между ними не осталось любви. Продолжайте, ваше преподобие. – Флэмбури украл младшую жену своего дяди Тамаррара. Это и дало толчок последующим событиям. Я столько трудов положил на то, чтобы искоренить полигамию… – Вы пытаетесь бороться с человеческой натурой, – сухо сказал Гай, – а это безнадежно. Ближе к делу. Что же случилось потом? – Тамаррар напал на деревню Флэмбури. Эта стычка не дала никому перевеса, и тогда Флэмбури обратился за помощью к Диакьяру и его отвратительным свиньям-людоедам. То, что началось как незначительная усобица, вылилось затем в ужасные события… – Знаю, – прервал его Гай. – Я знаю, как воюют ниггеры. Скажите только одно, ваше преподобие, где они? – Думаю, что около миссии. Они ее сожгли. У меня гостил священник-француз. Они… выпустили из него кишки. Изрезали на куски его слугу – и удрали, забрав с собой детей… – Каких детей? – удивился Гай. – С отцом Тиссо были дети-пигмеи. Он хотел взять их с собой во Францию, чтобы они помогли ему собрать деньги на католические миссии. – Но, – заметил Гай, – пигмеи не живут в этой части… – Знаю. Отец Тиссо привез их откуда-то с реки Конго. Да это и неважно. Господи, как я устал… – Отведите его в дом! – приказал Гай.
Через полчаса отряд воинов с Гаем и Флонкерри во главе выступил вверх по реке по направлению к миссии. Идти нужно было два дня – плыть на каноэ против течения они не могли. Стаунтону и сопровождавшим его фольджи, которые двигались вниз по реке, минуя пороги, неся каноэ по берегу мимо водопадов, понадобилось полтора дня, чтобы преодолеть это расстояние. Гай шагал во главе своего черного легиона, и мысли его были черными, горькими. «Бедняжка, – думал он, – она втайне надеялась выйти за меня замуж, а я… я даже не дал ей шанса. И она была бы жива сейчас, не просто жива, но, возможно, и счастлива… Может быть, стала бы мне хорошей женой, кто знает? Да если даже и не стала бы, все лучше, чем такая смерть – в окруженной людоедами горящей миссии, с пулей, выпущенной по приказу собственного отца… с пулей в голове, как у сломавшей ногу лошади…» Но что толку было теперь думать об этом! А может быть, пленников уже растерзали и сожрали каннибалы Диакьяра?.. Но нужно было спешить, и поэтому они вышли налегке, не взяв даже запасов пищи. Когда не было засухи (которая случалась достаточно редко), найти пропитание в джунглях не составляло для них большого труда. Гай раздал воинам-фольджи все мушкеты, которые имел, приказав пользоваться ими только в сражении: пули и порох, находясь так далеко от фактории, приходилось беречь. Луков и стрел вполне хватало, чтобы обеспечить отряд мясом – джунгли изобиловали дичью. Да и другой пищи было достаточно. Даже не замедляя шага, воины на ходу срезали листья монгонго. На поляне возле озерца они набрали маленьких желтых грибов, которые завернули в листья вместе с орехами колы. Собирая какие-то растения, негры старались не прикасаться к другим, ничем от них, на взгляд Гая, не отличающимся. Собирали они также гусениц, термитов, личинок, опустошили пчелиный улей в высохшем дереве, проделав в его стволе дыру и вытащив через нее соты, которые поместили опять-таки в те же самые листья монгонго. Перед тем как стемнело, несколько воинов отправились к солонцам, куда животные приходили лизать выходившую здесь на поверхность каменную соль. Оттуда они вернулись, неся на плечах четырех красных антилоп. Расположились на привал. Первым делом каждую гусеницу, каждую личинку завернули в листья и положили поближе к огню, чтобы подсушить, а потом сварили в пальмовом масле. По виду это ничем не отличалось от креветок. Гай знал, какими отбросами обычно питаются креветки, но ведь пища гусениц – чистые древесные листья. И хотя раньше ему была противна сама мысль о том, что можно есть личинок и гусениц, приготовленных таким способом, они не вызывали отвращения, наоборот, выглядели аппетитно. И, когда ему предложили этот деликатес, он без колебаний согласился. Зажав личинку между большим и указательным пальцами, он отправил ее в рот. Вкус был изумителен. Но термитов он так и не отведал: вид их был ему противен. Остальная еда: жаренная на костре антилопа, грибы, подорожник и зелень – не была для него чем-то диковинным. Он завершил обед орехами колы и медом. Гай видел, как негры набивают свои трубки какой-то травой, скорее всего банжи. Он и не пытался их останавливать. Если они хотят курить дурман, пусть курят. Нравоучения – самое бесполезное занятие, в этом он давно убедился. Лежа у костра, Гай долго не мог уснуть. Его беспокоила недавняя встреча с людьми монго, на которых они наткнулись, пытаясь обойти Понголенд стороной. Сейчас да Коимбра уже знает, что Гай ушел из Фолкстона вместе со своими воинами. И это было плохо. Пришел Флонкерри и уселся на корточки рядом с ним. Вождь, казалось, был расположен к разговору. Что ж, это была хорошая возможность узнать интересующие его подробности. – Расскажи мне о Диакьяре, – попросил Гай. – Плохой, – сказал Флонкерри, пользуясь английским словом, – в языке его племени отсутствовало слово, обозначающее это качество. – Ест людей. – Это я знаю. А как он выглядит? – Большой. Уродливый. Страшнее Мукабассы. Грязный. Спит с собственной матерью. Гай знал, что кровосмешение у африканцев считается самым отвратительным преступлением. И впрямь, наверно, этот Диакьяр – законченный выродок. – Не верю, – сказал Гай. – Его убили бы тогда соплеменники. – Колдун Херфера велел ему это делать. Сказал, что тот выиграет битву, если прольет собственную кровь. Тогда Диакьяр взял своего ребенка и разбил ему голову о дверной косяк. И выиграл битву. А когда Херфера сказал ему, что он никогда не умрет, если вернется в чрево матери, он и это сделал. С тех пор ему не страшны ни стрелы, ни копья. Херфера – великий колдун. – Когда я поймаю этого ублюдка Херферу, – сказал Гай, – ты увидишь, насколько он велик. – Бвана – большой колдун, – ухмыльнулся Флонкерри. – Даже змея его не убила. Но талисман Херферы посильнее, чем колдовство бваны. – Вот же дьявольщина! – сказал Гай устало. Спорить бесполезно. Ни одному человеку не дано победить тысячелетние предрассудки, хоть всю жизнь с ними борись. К вечеру следующего дня они достигли сожженной миссии. Все вокруг говорило о том, что дикари где-то неподалеку. Но ни угрозы, ни уговоры не могли заставить фольджи выйти на разведку в джунгли ночью. Они заявили, что Болози или Эсамба наверняка поймают их и погасят огонь в их головах, и они впадут в безумие, если вообще не умрут. – Вы и так самые настоящие идиоты! – заорал на них Гай. – Если бы среди вас были мужчины… Флонкерри вышел вперед. – Я иду с бваной, – сказал он. – Мы осмотрим все вокруг. А когда взойдет солнце, поведем воинов к лагерю Диакьяра… Всего лишь один человек… Но все же это лучше, чем ничего. Бесшумно крадясь по свежему следу, Гай и Флонкерри за два часа до рассвета вышли к лагерю людоедов. Забравшись высоко на хлопковое дерево, они посмотрели вниз. То, что они увидели при свете костров, было ужасно. Дикари танцевали вокруг грудой лежащих на земле изувеченных и окровавленных пленников. Время от времени появлялись новые воины, волоча за собой очередную жертву, и бросали ее в общую кучу. – Флон, – прошептал Гай. – Приведи остальных. Оставь мне свое ружье. Ты хорошо управляешься с ассагаем, а любой шум может все испортить. Если встретишь одного из этих кровавых дьяволов, не давай ему кричать. Расколи ему череп до самых зубов. Иди скорей! – Я разрублю его до самого живота! – прорычал Флонкерри. – Жди, бвана, я приведу своих парней! Когда он спускался с дерева, ни один лист не шелохнулся. Но, если б даже он сломал несколько веток, никто бы не услышал. Дикари подняли такой невообразимый шум, что любой звук тише ружейного выстрела едва ли всполошил бы их. Гай внимательно наблюдал за происходящим. Мужчины теперь отошли в сторону, а танцевали женщины. Их лица были вымазаны белой глиной и кровью. Более омерзительных тварей, чем эти, трудно было представить. Каждая из них выбрала себе жертву из кучи пленников и терзала ее с жестокостью, которую неспособна передать человеческая речь. Гай закрыл глаза, но и это не помогло. Он слышал крики несчастных жертв и дьявольские вопли дикарей. Он откинулся назад, прислонившись к стволу дерева, и мир поплыл перед его глазами. Ему уже было тридцать четыре года, он видел столько жестокости, что другому этого хватило бы на всю жизнь, но даже для него зрелище было невыносимым. Когда ж он наконец выпрямился, то увидел, что очертания деревьев начинают проступать сквозь тьму и черное ночное небо светлеет. Прошла еще целая вечность (все это время людоеды продолжали свое отвратительное пиршество), и вот Гай наконец услышал хруст ветки внизу – то были Флонкерри и его воины. Он спустился с дерева и присоединился к ним, дрожащий, посеревший от ужаса. – Не стреляйте, – сказал он. – Пользуйтесь холодным оружием. Дайте мне кто-нибудь ассагай… Один из воинов передал ему острый как бритва африканский меч. – Все в порядке, – сказал Гай. – Окружите их. Не кричите. Ни звука, пока не нападем. И, – добавил он решительно, – не берите пленных. Даже женщин. Если есть живые пленники в этих хижинах, спасите их. А людоедов убивайте всех. Так они и сделали. Вереницей черных привидений выходили они из джунглей. Обожравшиеся и одурманенные ромом дикари почти не сопротивлялись. Гай и Флонкерри продвигались вперед бок о бок, разя дикарей направо и налево. – Вот он, Херфера! – задыхаясь проговорил Флонкерри, указывая ассагаем, от острия до рукоятки перепачканным кровью. Колдун выл и приплясывал, размахивая копьем и щитом. Гай в два прыжка подскочил к нему, отбив выпад копья плоской поверхностью клинка. Потом поднял ассагай и со свистом опустил. Колдун вскинул свой щит из воловьей шкуры, но клинок прошел сквозь него, как раскаленный нож через масло. Херфера упал, умерев еще до того, как коснулся земли. – Смотри, Флон! – проорал Гай. – Взгляни на своего великого колдуна! Он оглянулся вокруг, ища новых врагов, но их больше не было. Флонкерри и его люди привели предводительницу женщин, ее мелкокудрявые волосы были совершенно седы. Группа воинов держала могучего, пытающегося вырваться людоеда. Диакьяр и его мать, догадался Гай. Он знал, какой мучительной смерти собираются предать его фольджи – с изощренностью, которой и сами людоеды бы позавидовали. Но он их не остановил. Милосердие – не африканское понятие. Они обнаружили детей-пигмеев живыми и невредимыми в одной из хижин. Гай подумал, что их спас именно крошечный рост: они были такие маленькие, что дикари не стали их убивать из суеверного страха. Пигмеи были прекрасно сложены, темно-шоколадного цвета. К его удивлению, они понимали язык кингвана и могли говорить на нем. Мальчику, Никиабо, было восемь лет, Сифе, его сестре, – шесть. Гай же готов был поклясться, что и ему и ей не больше трех лет. Они оставили мертвых на съедение хищникам и стервятникам и поспешили назад к миссии. Дикари почему-то не тронули каноэ: наверно, сами собирались ими воспользоваться. Когда лодки спускали на воду в верховьях Понго, Флонкерри тронул Гая за руку. Черное лицо вождя было искажено страхом. – Что случилось, Флон? – проворчал Гай. – Флэмбури здесь нет, – прошептал Флонкерри, – и его людей тоже. Где они, бвана? Белый колдун сказал, что они с этими дьяволами-людоедами. Но их нет. Где же они, бвана? – Боже милосердный! – пробормотал Гай и скомандовал: – Вперед! Они не делали остановок, чтобы поесть или отдохнуть. Они преодолевали пороги, через которые вряд ли кто-нибудь до них пытался перебраться. Они тащили лодки по берегу в обход водопадов. Даже наступившая темнота их не остановила. Еще до рассвета они достигли Фолкстона. Вернее, того места, где был Фолкстон, потому что его там больше не было. Ничего не осталось, кроме еще тлеющего пепла и горячей золы. И мертвых. Гай искал среди убитых Билджи, но ее нигде не было. Он уже собирался прекратить поиски, когда услышал стон в подлеске и бросился в заросли с факелом в руке. На земле лежала Капапела, из глубокой раны под ее левым глазом струилась кровь. Рядом с ней он увидел труп преподобного Стаунтона, его череп был расколот ударом дубинки. «Легкая смерть», – подумал Гай. – Билджи? – спросил он. – Монго забрал ее с собой, – ответила Капа. Монго ждал их. Частокол был укреплен, все входы загорожены. «Хорошо, что мы не стали тратить пули и порох на дикарей», – подумал Гай. – Забирайтесь на деревья! – скомандовал он. – Перестреляйте их всех сверху! Флон, у тебя есть зажигательные стрелы? – Нет, но мы их сделаем, бвана. – Этот круглый дом, слева от того длинного, – пороховой склад. Подожгите его! Он взорвется, и все будет кончено. Быстро! Негры вскарабкались на деревья. Люди Флонкерри были меткими стрелками: их обучал Гай. Что же касается чернокожих да Коимбры, то они всегда стреляли только в воздух, приветствуя приходящие караваны. Половина людей монго попадала на землю после первого же залпа. Гай увидел, как взбирается на дерево Флонкерри с луком и стрелами, на наконечниках которых были нашлепки-шарики черной смолы. Следом лез чернокожий со сковородой, полной горящих углей. Гай увидел маленькую хижину, сделанную из сухой, как трут, пальмы рафия, и сразу догадался, что в ней. Хижина располагалась далеко от порохового склада, у противоположной стены частокола, поэтому он не стал останавливать Флонкерри: вождь мог взорвать порох, не подвергая опасности хижину. И вот первая из огненных стрел дугой прочертила ночь. Вторая. Третья. Флонкерри прекрасно владел луком, а цель была велика. Все три стрелы застряли в соломенной кровле порохового склада. Крыша загорелась, но Флонкерри продолжал слать огненные стрелы одну за другой. Люди монго беспорядочно бегали вокруг, отчаянно крича. Раздался низкий раскатистый гул: это взорвался порох. Склад вспыхнул ярким пламенем, горящие обломки разлетелись по всему загону. «Однако маленькую хижину огонь пощадил: здесь не обошлось без прямого вмешательства Бога, – подумал Гай. – С монго теперь наверняка покончено». Но он был еще жив. Размахивая факелом, да Коимбра выскочил на площадь. – Гай Фолкс! – взревел он. – Уйми своих псов! Сделай это, если хочешь увидеть Билджи живой! И тогда Гай выстрелил в него. Ниже пояса. В живот. Монго споткнулся и рухнул лицом вниз. Но тут же протянул руку и поднял факел. А потом пополз в сторону хижины. Зарядить мушкет со стороны дула нелегко, даже стоя на земле. Средняя скорострельность у солдата, хорошо владеющего этим оружием, – два выстрела каждые три минуты. А Гай Фолкс сидел высоко в ветвях баобаба и, прежде чем прицелиться, должен был засыпать порох, заткнуть патрон пыжом, загнать пулю в ствол и вставить капсюль. Гай был превосходным стрелком, но руки его так дрожали, что он не попал в монго. Да Коимбра продолжал ползти. К тому времени, когда Гай перезарядил свое громоздкое оружие, монго был уже в считанных ярдах от хижины. Гай поднял мушкет. И вновь опустил его: слишком трудно было попасть в голову мулата, только тогда он смог бы сразить его одним выстрелом. «Позвоночник, – подумал Гай, – надо перебить ему позвоночник». Он выстрелил и увидел, как дернулся монго. Потом медленно, как в ночном кошмаре, большая рука мулата, сжимающая факел, потянулась назад. Все дальше, дальше, пока Гай не понял, по боли в челюстях и легких, что он пронзительно кричит. И тогда монго швырнул головню. Она перевернулась, с какой-то мучительной, рвущей душу неспешностью проплыла в воздухе и стала падать, падать… Упала она рядом с хижиной. Гай увидел, как язык пламени жадно лизнул стену. В следующее мгновение он уже падал с дерева, скользя по стволу, обдирая ладони. – Флон! – заорал он. – Бревно! Тащи бревно! Нам надо вышибить ворота. Он терял драгоценные секунды, пытаясь растолковать им суть дела. Уйма времени, целая вечность ушла на то, чтобы найти подходящий таран. Они бросились к воротам, изо всех сил ударили в них бревном. Безрезультатно. Еще один удар. И еще. И еще. В паузах между ударами он слышал, как кричала Билджи. Наконец ворота распахнулись. Он бросился к хижине, рядом бежал Флонкерри. Они ворвались в бушующий огонь и вытащили наружу стонущее, корчащееся от боли, объятое пламенем существо, еще недавно бывшее… реальной и неотъемлемой частью его жизни. Он перевернул ее, сбивая пламя. – Не поможет, – сказал Флонкерри. – Она мертва, бвана. – И Гай увидел, что этот огромный чернокожий человек плачет. С той минуты он полюбил его как брата. Билджи лежала неподвижно, замолкнув навеки. Ноги ее были скованы цепями. Столб, к которому крепились ножные кандалы, сгорел, поэтому им удалось вытащить Билджи из хижины. Гай сидел на опаленной огнем земле и смотрел на нее. Слезы прочертили белые борозды на его покрытом сажей лице. Он сидел и плакал, сердце разрывалось от боли, и казалось, что соленые слезы текут, смешиваясь с кровью, – так плачут только сильные мужчины. Потом он встал и пошел туда, где стояла на коленях Моник Валуа, рыдая и сжимая в руках голову своего мертвого возлюбленного.
Глава 19
Через месяц, когда к нему вернулась способность размышлять спокойно, Гай понял, что, как ни ужасны были июньские события, они принесли ему чувство освобождения. Он имел наконец столько денег, сколько хотел: их вполне хватало, чтобы купить двадцать пять таких плантаций, как Фэроукс. Однако торговля невольниками перестала приносить прибыль не только ему, но и всем владельцам факторий на побережье. В состав Международной эскадры вошли быстроходные колесные пароходы, и невольничьи суда просто не могли теперь прорваться сквозь этот заслон. Даже самый быстрый клипер не мог тягаться в скорости с таким крейсером. И Гай не стал заново отстраивать Фолкстон, а просто ждал, когда вернется капитан Раджерс. На Рождество 1852 года Гай Фолкс стоял на палубе «Воладора» на рейде Реглы, наблюдая, как матросы ставят судно на якорь. Никиабо и Сифа, нарядно одетые, в тюрбанах, стояли рядом с ним и благоговейно взирали на Гавану, первый город, который им довелось увидеть в своей жизни. Гай ласково похлопал их по маленьким тюрбанам: он успел по-настоящему привязаться к этой яркой экзотической паре. – Пошли, Никиа, Сифа! – весело сказал он. – Мы сходим на берег. – Да, хозяин, – ответили пигмеи хором. Они уже неплохо говорили по-английски. Он остановился у дона Рафаэля Гонзалеса и провел в Гаване три недели, посетив всех своих друзей. Пигмеи в своих одеждах из шелка и атласа привели в изумление весь город. Последний визит он нанес капитану Трэю и Пили. Теперь Гай мог это сделать. За те шестнадцать лет, что он их не видел, он успел многое узнать и научился понимать женщин. И, когда он вновь встретил Пилар, ему сразу пришла на ум одна из усвоенных истин: женщины всегда скрывают свой возраст. Пили не была исключением. В 1835 году она сказала, что ей тридцать, а на самом деле ей было тридцать пять лет. Теперь ей пятьдесят два, она стала спокойной, дородной, почтенной женщиной с тронутыми сединой черными волосами. А капитан Трэй превратился в ворчливого беззубого старика. Все это было очень печально, но в то же время забавно. А чего иного, собственно, мог он ожидать? Но когда Гай уезжал от них, чтобы сесть на шхуну, отплывающую в Нью-Орлеан, он почувствовал огромное облегчение. Он мог теперь идти только вперед. Позади не оставалось ничего.Глава 20
Через час после прибытия в Нью-Орлеан, 15 февраля 1853 года, Гай Фолкс изменил все свои планы. С того дня, когда отец подарил ему камзол для охоты на лис, он понял, что такое хорошая одежда. На Кубе как приемный сын крупного плантатора он мог потворствовать этой безобидной прихоти, но Африка – не место для изысков в одежде. И, конечно же, проведя три недели в Гаване, он заказал несколько костюмов одному из лучших портных города. Но сейчас, в роскошном холле отеля «Сент-Луи», он видел, что костюмы эти безнадежно устарели. Гавана следовала моде Мадрида, а не Лондона или Парижа, а в испанской столице фасоны менялись сравнительно медленно. Появился длиннополый сюртук а-ля принц Альберт. Мужчины не носили больше тесно облегающих брюк. Лениво прогуливающиеся по холлу люди были в костюмах с широкими брюками, а входящие с улицы, из-под потоков проливного февральского дождя, – в коротких свободных пальто, бурнусах и регланах. Впервые в жизни Гай увидел круглую шляпу, называемую котелком в Англии, дыней – во Франции и дерби – в Америке. Воротники пальто у многих были отложными. Широкий шарф исчез, на смену ему пришли шейный платок (который через двадцать лет превратится в галстук с широкими, как у шарфа, концами) и узкий галстук-бабочка, охватывающий туго накрахмаленные высокие воротнички. Только шляпа и жилет Гая соответствовали моде: мужчины по-прежнему носили высокие касторовые шляпы и пестрые вышитые жилеты. Да и обувь не слишком изменилась. В большом ходу были булавки для галстуков, украшенные драгоценностями, и золотые цепочки для часов. Больше всего его поразило обилие и разнообразие бакенбардов, украшавших лица ньюорлеанцев. Когда он уезжал из Штатов в 1835 году, бороды носили только старики. Теперь же почти все обзавелись той или иной формой растительности. Популярностью пользовались длинные пушистые бакенбарды, окаймляющие выбритый подбородок. Креолы предпочитали усы и бородки-эспаньолки. Иным пришлись по вкусу так называемые сайдберны (впрочем, это название, происходящее от фамилии генерала Бернсайда, в которой переставлены слоги, появится только лет десять спустя, во время войны). Они спускались до самого подбородка и здесь образовывали маленькую бородку, похожую на меховую муфту. Гай обернулся к гостиничному клерку. – Кто лучший портной в городе? – спросил он. – Я провел много лет в чужих краях. Полагаю, что пришла пора обновить гардероб… – Вот оно что! – сказал клерк. – Тогда все понятно. Прошу прощения, сэр, но, пока вы не заговорили, я принимал вас за иностранца. Лучшие портные, вне всякого сомнения, – это Легостьер и его сыновья. Они квартероны, но, должен вам сказать, что ни один белый портной не способен состязаться с ними в мастерстве вот уже несколько поколений. Если желаете, я пошлю мальчика… – Сделайте милость! Пусть скорее пришлют сюда своего лучшего мастера с образцами тканей. А то я чувствую себя всеобщим посмешищем! – Всех поразили ваши маленькие негритята, сэр. Настоящие диковинки! Вы можете заломить за них немалую цену в Нью-Орлеане. Все необычное здесь пользуется спросом. Сколько им лет? Я бы дал пять или шесть, но, похоже, они все-таки постарше… – Мальчику девять, – сказал Гай. – Девочке семь. И если они еще вырастут, то ненамного. – Так они карлики? – Пигмеи. Из Конго. Давайте-ка теперь посмотрим мои апартаменты… – Да, сэр! – Клерк зазвонил в колокольчик. – Пигмеи! Вот уж никогда не думал, что увижу! Портной от Легостьера явился в тот же день. Гай заказал длиннополый сюртук, несколько пар брюк разного фасона, реглан, три костюма с широкими брюками, визитки, вечернее платье, три дюжины самых модных рубашек – фактически все, что ему было нужно, включая двадцать дюжин шейных платков и галстуков-бабочек. Гай заплатил двойную цену, и его заверили, что визитка, две пары брюк и один из костюмов будут доставлены не позднее семнадцатого вместе с несколькими рубашками и платками. Получив все это, он надел костюм, залихватски надвинул только что приобретенную шляпу-котелок, сунул в зубы сигару и отправился делать новые покупки, взяв, конечно же, с собой и Никиабо с Сифой. Именно благодаря им и получилось так, что Гай с удивительной легкостью, как бы между прочим, добился того, что только еще собирался сделать: он нашел Фиби. Дело в том, что два крошечных негритенка вызвали в городе небывалый интерес. Толпы зевак следовали за ними, куда бы они ни шли, глазея и бесцеремонно задавая вопросы. В конце концов все это так надоело Гаю, что, преследуемый любопытствующими горожанами, он отвел пигмеев обратно в отель. Он уже собирался подняться в номер, когда кто-то тронул его за руку. Гай сердито обернулся. – Прошу прощения, сэр, – обратился к нему остановивший его человек. – Я Том Хенесси из газеты «Пикаюн». Не удивительно, что вас немного вывело изравновесия внимание, которое привлекают к себе ваши карлики. Я бы хотел написать о них. Ведь это настоящая сенсация, сэр! Надеюсь, такой джентльмен, как вы, не будет возражать против того, что кто-то заработает себе на кусок хлеба… – Ладно, – оборвал его Гай. – Что вы хотите знать? – Нельзя ли подняться к вам и там поговорить, сэр? Здесь слишком многолюдно. Гай подумал, что лучший способ избавиться от непрошеного гостя – рассказать ему свою историю. И уж лучше беседовать в тиши своего номера, чем в переполненном любопытными зрителями холле. – Ну что ж, пойдемте, – сказал он. При виде номера, самого большого и роскошного в отеле, репортер вытаращил глаза. – Кто же вы, сэр? – спросил он. – Лорд, путешествующий инкогнито, или что-то в этом роде? – Мы пришли сюда, чтобы говорить о пигмеях, – решительно прервал его Гай. – Не хотите ли выпить, сэр? – Вообще-то, не пью так рано, – ответил Хенесси, – но, пожалуй, глоток виски не помешает… Гай прошел к буфету и наполнил два стакана шотландским виски. – Итак, мистер Хенесси, – сказал он, – что бы вы хотели узнать? Рассказ, появившийся на следующий день в «Пикаюне», имел все же некоторое отношение к тем скудным сведениям, которые Гай сообщил репортеру, хотя Хенесси дал полную волю своему воображению. Романтическое повествование о путешественнике-мультимиллионере «полковнике» Гае Фолксе, который во время своих странствий в дебрях Африки спас с риском для жизни двух детей-пигмеев, было напечатано на первой странице газеты. Подробно и многословно описаны Никиабо и Сифа, их экзотические наряды, вся же остальная часть статьи содержала не менее подробный рассказ о «полковнике» Фолксе, его осанке, манерах, внешности, сказочном богатстве и даже о его роскошном гостиничном номере. Не меньше половины столбца занимали догадки об источниках его доходов и комментарии торговцев, у которых он делал покупки, по поводу их стоимости, а также сообщение клерка одного из нью-орлеанских банков о том, что в день приезда «полковник» представил кредитные письма на сумму более чем в пятьдесят тысяч долларов. Клерк, впрочем, отказался назвать свое имя, иначе Гай Фолкс непременно свернул бы ему шею. За исключением выдуманного полковничьего звания все остальное репортер изложил верно, чего нельзя было сказать о расставленных им акцентах. Само собой разумеется, Гай отказался назвать источники своего богатства. Южане могут покупать рабов для работы на плантациях, но их имена никоим образом не должны ассоциироваться с работорговлей, даже если речь идет о далеком прошлом. Через три часа, после того как газета появилась на улицах города, пришел посыльный с запиской. Гай вскрыл конверт и прочел:«Дорогой мистер Гай! Если вы тот человек, который когда-то был моим другом, приходите повидать меня по адресу Рэмпарт-стрит, 12. Очень надеюсь, что это именно вы. Было бы здорово увидеть вас спустя столько лет. Я теперь вдова. У меня маленький мальчик четырех лет. Я хотела сама прийти в отель, когда прочитала о вас в газете, но потом решила, что этого делать не следует. Не хотелось бы вас беспокоить, но все же прошу: приходите ко мне в гости. Просто сгораю от нетерпения увидеть вас снова. Фиби».
Почерк крупный, разборчивый, как у ребенка. Гай дал мальчику-посыльному пять долларов, тем самым добавив новые штрихи к той легенде, что начала складываться в Нью-Орлеане вокруг его имени. Затем надел пальто и шляпу, взял тяжелую гуттаперчевую трость с золотым набалдашником и спустился по лестнице, оставив пигмеев в номере. Через пять минут он уже сидел в двухколесном экипаже, направлявшемся в сторону Рэмпарт-стрит. Дом под номером двенадцать – аккуратный, одноэтажный и белый, с верандой – был из тех, что обычно строили богатые нью-орлеанские джентльмены для своих любовниц-квартеронок. Гай заплатил кучеру и отпустил его. Не успел он постучать, как дверь перед ним распахнулась. – Милостивый Боже! – прошептала Фиби. – Милостивый Боже, до чего же вы изменились! «Да и она изменилась», – подумал Гай с грустью. Ей теперь было тридцать четыре, на год меньше, чем ему. Но выглядела она старше: печаль и невзгоды оставили свой след на ее лице, она похудела. – Входите, мистер Гай, – робко сказала она. – Для тебя – просто Гай, – сказал он ворчливо. – Господи, Фиби, я… Они сидели, разговаривали, и ему чудилось, что свершается траурный обряд над невидимым покойником – безвозвратно ушедшим прошлым. К нему не было обратной дороги, и они оба знали это. Мальчишки семнадцати лет, пытавшегося спасти шестнадцатилетнюю Фиби от печальной участи быть проданной в позорное рабство, больше не существовало: он превратился в подтянутого элегантного джентльмена, словно изваянного из благородного тикового или железного дерева. И той девушки не было: лишь отдельные ее черты сохранились в этой худой печальной женщине, пережившей конец всех своих надежд и мечтаний. Какой-то тупик, столь же окончательный, как смерть, и даже более трагический, ощущался во всей атмосфере этой со вкусом меблированной комнаты: они оба продолжали жить, чтобы скорбеть о несбывшемся. За восемнадцать минувших лет она успела побывать содержанкой трех богатых ньюорлеанцев. Первый из них, Хентли Дэвис, купивший Фиби на аукционе в Натчезе, разорился, опрометчиво играя на бирже, и вынужден был продать ее вместе со всем остальным движимым имуществом. Второй, Манфред Бёйлер, жирный грубый немец, купил ее у Дэвиса и увез на свою плантацию вверх по Миссисипи, откуда она сбежала, не вынеся его побоев и пьянства. Скорее всего, Бёйлер даже не пытался разыскать ее. Третий, юный англичанин по имени Уилкокс Тернер, относился к ней с такой добротой, заботой и вниманием, что она в конце концов полюбила его. Фиби стала его гражданской женой. Других женщин у него не было. Он бы даже брал ее с собой на балы и званые вечера, но Фиби, куда лучше этого чужеземца знавшая, насколько глубока пропасть американских предрассудков, сумела отговорить его. Он открыто жил с ней в этом домике и стал отцом ее единственного ребенка. Больше того, он дал сыну собственное имя, признал свое отцовство и завещал состояние ему и Фиби. Однако после того, как болезнь чужестранцев – желтая лихорадка свела его в могилу, появились какие-то сомнительные американские «кузены» и оспорили завещание. Тернер был очень богат, а «кузены» имели белый цвет кожи. Этого оказалось вполне достаточно. Фиби вот уже три года содержала себя и сына, беря шитье на дом. Она стала умелой модисткой, но заработки ее были прискорбно малы. Она рассказала ему все это очень искренне и с большим достоинством. Ничто в тоне Фиби не давало повода заподозрить ее в желании получить какую-либо помощь. – Могу ли я видеть мальчика? – поинтересовался Гай. Без лишних слов Фиби встала и привела маленького Уилкокса II. Это был красивый ребенок: как это часто бывает у людей, имеющих лишь восьмую часть негритянской крови, не только цвет его кожи, но и черты лица указывали на принадлежность к белой расе. Светлые волосы, мягкие и кудрявые, глаза – огромные, голубые, длинные ресницы. Именно таких светловолосых херувимчиков обычно помещают рекламные фирмы на календарях. Он был настолько хорошеньким, что казался девочкой. – Подай руку джентльмену, Вилли, – сказала Фиби. Однако ребенок не решался сделать шаг навстречу гостю. Тогда Гай сам протянул руки и заключил его в объятия. Он сидел, держа мальчика на коленях, и думал. Гай относился к разряду мужчин, которые страстно желают иметь сыновей. У него же, в его тридцать пять лет, не было ни дома, ни жены, ни ребенка. Настало время круто менять свою жизнь, сделать то, что не успел раньше. Но сначала надо отдать дань прошлому, освободиться от груза невыплаченных долгов. – Послушай, Фиби, – сказал он. – А ты бы не хотела перебраться на Север? – На Север? – эхом откликнулась она. – Как-то не думала об этом… я могла бы жить в любом месте, но почему вы об этом говорите, мистер… Гай? Ей было трудно избавиться от слова «мистер», особенно теперь, когда она разговаривала с этим… незнакомцем. – Потому что я хотел бы помочь тебе начать новую жизнь, – решительно сказал Гай. – Было бы тяжким преступлением воспитывать мальчика как негра. Ведь он белый. Капля-друтая негритянской крови роли не играет. Я собираюсь отправить тебя в Нью-Йорк. Когда приедешь туда, говори всем, что ты кубинка или мексиканка – кто угодно, но только не чернокожая. Северяне не докопаются до истины… – Да и южане тоже, – усмехнулась Фиби. – Мистер Уилкокс каждое лето брал меня с собой в Вирджиния Спрингс, нас там никто не знал. Мы жили в большом отеле, и он меня записывал там как свою жену. Господи Боже, Гай, сколько раз мне приходилось сдерживать себя, чтоб не расхохотаться, когда эти белые люди заводили со мной разговор о том, какие у них бестолковые, никудышные негры… – Это хорошо, – сказал Гай, – но теперь тебе предстоит окончательно войти в эту роль. Ты будешь жить как подобает состоятельной вдове, миссис Тернер, чей покойный муж завещал ей свое состояние. Сначала тебе будет трудно вести себя как белая женщина, но ты научишься. Ты всегда была сообразительной. Слушай, как говорят другие люди, и подражай им. Мои банкиры будут выплачивать тебе деньги каждый месяц. Что ты на это скажешь, Фиби? – А ты когда-нибудь будешь приезжать в Нью-Йорк, Гай? – спросила она нерешительно. – Иногда буду. Когда смогу. – Тогда я скажу «да», – прошептала Фиби, – и огромное тебе спасибо за все… и за то, что я смогу тебя видеть… хоть иногда…
Хотя весь заказанный гардероб был давно готов, Гай все еще оставался в Нью-Орлеане. Почему, он вряд ли мог бы объяснить даже самому себе. Именно теперь, когда казалось, еще немного – и все цели будут достигнуты, его охватила усталость, порожденная каким-то безымянным страхом. Он пытался избавиться от этого страха, разобраться, в чем причины. Но, когда наконец дал ему определение, наметил его границы, внес ясность в свои чувства, страх только усилился, парализовав волю. Джо Энн. Но ей теперь двадцать девять лет. Как она выглядит? В детстве они любили друг друга, даже Речел и Джерри понимали, что когда-нибудь они, возможно, поженятся. Но сейчас между ними – горные пики времени, покрытые облачной дымкой прошедших лет. А быть может, любовь уже давно умерла? Он так много прожил и столько страдал… Гай думал обо всем этом в двадцать седьмой день февраля, слушая в опере волшебный голос Аделины Патти. Музыка задела его за живое, хоть он и слушал ее вполуха. В антракте его внезапно охватил ужас. А ждет ли его Джо Энн? Он поверил ее детскому обещанию, но выдержало ли оно испытание временем и одиночеством? Особенно в краю, где девушки уже с двадцати лет боятся остаться старыми девами… Неделя проходила за неделей, а он все медлил с отъездом. В те дни весь город был взбудоражен гастролями Лолы Монтез, непревзойденной танцовщицы, чье очарование пленило Людвига I, короля Баварии, даровавшего ей титул графини Ландсфельд. В прошлом у балерины был судебный процесс по обвинению в двоемужии, и она жила в атмосфере непрекращающегося скандала, еще больше подогревавшего ее мировую славу. Разбитные молодые люди, поклонники Лолы, дрались на улицах с пуританами, требовавшими запретить ее выступления в Нью-Орлеане. Гай находился в суде, когда слушалось дело об оскорблении действием: почитатели балерины побили влюбленного в нее суфлера театра, который ответил на полученный от нее пинок, что дало ему возможность до конца своих дней пользоваться славой человека, давшего пинок самой Лоле Монтез. Гай смеялся вместе со всеми, когда необузданная Лола задрала юбки, чтобы продемонстрировать суду синяки на своих бедрах. Да, жизнь в Нью-Орлеане отнюдь не была скучной… Он слушал яростные споры об отделении южных штатов, о возможной войне. Гай не имел своего мнения на этот счет: слишком долго он был вдали от событий. Он прочел «Хижину дяди Тома», опубликованную годом раньше, и пришел к непоколебимому убеждению, что миссис Стоу никогда не видела и уж во всяком случае никогда в жизни не разговаривала с негром из южных штатов. Пришел апрель, и в воздухе повеяло ароматом ранних цветов. Гай почувствовал, что в нем пробуждается желание действовать. С каждым днем это чувство все больше крепло. И вот однажды утром он проснулся и сказал: – Никиа, спустись вниз и попроси портье прислать боя упаковать мои вещи. Сегодня мы уезжаем. На пути к Натчезу и дальше вверх по реке он чувствовал, как его все больше охватывает волнение. А когда тяжелые колеса парохода завертелись назад, замедляя ход, и он медленно двинулся к причалу Фэроукса, волнение Гая перешло в какую-то лихорадку. Негры толпой высыпали на пристань, приветствуя гостя, глазея на пигмеев, хватая его чемоданы и саквояжи, смеясь, крича, пока один из них, постарше, не узнал его, воскликнув: – Масса Гай! Боже милосердный, это же масса Гай! Оборванные чернокожие дети помчались к дому, выкрикивая: – Масса Гай! Масса Гай вернулся! Масса Гай! Стоя на балконе, она ждала его, высокая, стройная как ива, – именно такая женщина, о которой мечтает мужчина, слушая, как бесконечные африканские дожди барабанят по листьям монгонго. Она стояла, глядя на него, лицо ее было очень бледным. Не сказав ни слова, он заключил ее в объятия. Услышав позади кашель, он обернулся. Перед ним стоял, злобно усмехаясь, Килрейн Мэллори. – Что ж, – сказал Килрейн, – в этот раз я тебя прощаю. Ради старой дружбы. Но запомни на будущее, Гай Фолкс, мы, Мэллори, не любим, когда чужие мужчины целуют наших жен…
Глава 21
Человек менее мужественный сразу бы сбежал, сославшись на оскорбленную гордость. Уж чем-чем, а гордостью Гай Фолкс обладал в достаточной мере. И именно это удерживало его в Фэроуксе следующие две недели. Да еще свойственное ему чувство справедливости. Восемнадцать лет не появлялся он в родных краях. «Так чего же ты ожидал, парень?» – беспощадно спрашивал он себя. И вот однажды он сел на черную лошадь, родившуюся от Демона и одной из серых кобыл, и уехал подальше от дома, чтобы в одиночестве поразмышлять о Фэроуксе, разобраться в своих воспоминаниях и точно выяснить, что же здесь изменилось. А перемены произошли, хотя невнимательный взгляд едва ли бы их заметил. Это ощущение холода, глубокой печали, нависшей над домом и землей, которые он поклялся сделать своими, он поспешил связать с тем, что его взгляд на мир стал иным. Мужчина в тридцать пять лет и мальчик в восемнадцать смотрят на жизнь совершенно по-разному. Но причина была не только в этом, она крылась значительно глубже… Это проклятое место населено призраками, говорил он себе. Они таятся в комнатах дома как отзвук старых грехов, былых несправедливостей, да и нынешних горестей тоже… А может быть, он и здесь ошибается? Ее самообладание было изумительно, если, конечно, именно оно определяло ее поведение. Голубые глаза Джо Энн смотрели на него со спокойным дружелюбием, ее голос, когда она говорила, был удивительно безмятежным. Она не считала нужным объяснять обстоятельства своего замужества, да и вообще касаться этой темы. А стоит ли говорить об этом, подумал он. Десятилетняя девочка вдруг взяла да и поклялась в любви шестнадцатилетнему мальчику. Едва ли это было событием мировой важности. Родственники, друзья, знакомые вполне допускали, что они когда-нибудь поженятся. Но предположения, чьи бы то ни было, пусть даже его собственные, сами по себе ничего не значат. Трагедия его отца, воспылавшего страстью к чужой жене и поплатившегося за это жизнью; восемнадцать лет разлуки – и ни одного письма, ни единого словечка, весточки, чтоб перебросить мост через эту пропасть; Килрейн Мэллори – удивительно красивый, веселый, жизнерадостный, по-настоящему мужественный, – вот причины случившегося, их много. А результат один: в центре его вселенной – причиняющая мучительную боль безграничная пустота, грозящая поглотить его будущее, отняв у него цель и понимание того, как жить дальше. В своих раздумьях он всегда связывал воедино Джо Энн и Фэроукс – одно подразумевало другое. Теперь у него хватало денег: он мог купить двадцать пять таких имений, как Фэроукс, но зачем Килрейну продавать его? Да и какой мужчина, женатый на Джо Энн Фолкс и владеющий Фэроуксом, станет продавать имение и уезжать? А если бы и продал, что тогда? Он бродил бы по залам, где на стенах висели портреты предков, лишенный жены и ребенка, да и самого смысла обладания имением. «Допустим, его построил мой дед. Допустим, его украл у отца человек, позднее убивший его. Допустим, оно принадлежит мне по праву…» Единственное, на что каждый человек имеет право, подумал он в ярости, – это шесть футов земли, и недалек уже тот день, когда ему придется оспаривать их у червей… Фэроукс был построен с единственной целью: растить сыновей, основать династию – и эта цель не была достигнута. Джо Энн и Килрейн женаты уже десять лет, а детей у них нет. А он, Гай Фолкс, изжил необузданные желания юности. Теперь его поступками управляет рассудок, железная воля. Он не клюнет на первое попавшееся красивое личико или гибкий стан только потому, что ему нужна жена. У Гая было предчувствие, что теперь ему очень трудно будет угодить: ведь та женщина, которую ему предстоит выбрать раз и навсегда, должна будет успешно выдержать тяжелейшее испытание – сравнение с Джо Энн. Он ехал в одиночестве и испытывал странное разочарование, как человек, который опоясался мечом, взял щит, собрался с силами и отправился на битву, а врагов нигде нет; они, словно издеваясь над ним, растворились в тумане и облаках, исчезли в небесах. Он восемнадцать лет копил свое состояние, а теперь не может иметь ничего из того, о чем мечтал: дом, жену, сыновей… Какая-то мысль не давала ему покоя, просилась наружу. И теперь, когда Гай увидел забор, отделяющий Фэроукс от Мэллори-хилла, она внезапно выплыла на свет Божий из глубины подсознания. Мужчина, любой мужчина, гордо ведет свою невесту в родительский дом, если он у него есть. А для Килрейна такой дом – Мэллори-хилл, он сейчас должен принадлежать ему: Алан Мэллори умер, а Килрейн – его единственный наследник. Так почему же, черт возьми, он жил все это время в Фэроуксе? Это выглядело так, словно он воспользовался щедростью своей невесты. Гай не мог найти ответа, но получить его было нетрудно. Он пришпорил вороного, без труда перемахнул через забор и направился к особняку Мэллори. Надсмотрщик Кила или негры наверняка знают. Стоит только спросить и… И тут ему в глаза бросилось нечто такое, чему он пытался дать определение, но не мог. «Как же изменился Фэроукс», – снова подумал он. Контраст был разителен. Мэллори-хилл поражал своей ухоженностью. Ветви на деревьях и кустах подрезаны, стволы побелены, посадки сделаны умелыми руками. В Фэроуксе же больше всего его поразила заброшенность. Она не так уж бросалась в глаза, скорее, это было отступление от высоких стандартов, заданных Речел, а позднее его отцом. Все вставало на свои места, загадка решалась сама собой: Килрейн привык валяться в постели по утрам часов до одиннадцати, а делами заправлял Брэд Стивенс, надсмотрщик, что совершенно недопустимо в имении, подобном Фэроуксу. Да и любые мало-мальски важные дела так никогда не ведутся: жизнь безжалостно наказывает лентяев и нерях. Юный Брэд, впрочем, несомненно был хорошим надсмотрщиком: это было фамильное занятие Стивенсов на протяжении нескольких поколений. Его дед, старый Уилл Стивенс, был надсмотрщиком у Эша Фолкса, отец – в Мэллори-хилле. Но такие плантации, как Фэроукс и Мэллори-хилл, нельзя оставлять целиком на попечении надсмотрщиков: хозяину необходимо помнить о естественном свойстве человеческой натуры – ни один человек не будет заботиться о чужих полях, как о своих собственных. Дом семейства Мэллори выглядел великолепно. Негры опрятные, сообразительные, всегда готовые услужить. Не успел Гай спешиться, как высокий седовласый человек, спустившийся с галереи, приветствовал его. В его облике были степенность и уверенность в себе, серые глаза холодны как лед. – Добрый день, сэр, – сказал он. – С кем имею честь? – Его манера говорить вызвала замешательство у Гая. Надсмотрщики так не говорят. Да и одеты они по-другому. – Я – Гай Фолкс, – сказал он, протягивая руку, – сосед или, скорее, бывший сосед, приехавший с визитом. А вы, наверно, новый владелец? – Это был выстрел вслепую, но он попал в цель. – Не угадали. Скорее меня можно назвать попечителем. Не надсмотрщиком – их у меня перебывало уже четверо. Да, попечитель – это, пожалуй, верное слово. Меня зовут Уиллард Джеймс, я назначен банком Натчеза присмотреть за этим имением, пока на него не найдется покупатель. А это, боюсь, случится не скоро. Имение слишком велико, да и расположено таким образом, что если разбить его на отдельные участки… – Вы хотите сказать, – перебил его Гай, – что оно больше не принадлежит Мэллори? Уиллард Джеймс позволил себе холодно улыбнуться: – Вы, наверно, давно не бывали в этих краях, мистер Фолкс? – Восемнадцать лет. А до этого я жил в Фэроуксе. – Теперь понятно. Могу я предложить вам выпить, сэр? А может быть, и закусить немного? – Охотно принимаю оба предложения, – сказал Гай. Он надеялся выиграть время, потому что чувствовал: разговорить этот айсберг в образе человека и что-то узнать у него будет делом нелегким. Когда они поднимались по ступеням, Джеймс обернулся к нему: – Вы остановились в Фэроуксе, не так ли, мистер Фолкс? – Да, – ответил Гай не без досады. – А как вы узнали, сэр? – От негров. Когда здесь вдруг появляется человек, одетый как принц, в сопровождении двух черных карликов в тюрбанах и шелках, ему трудно остаться незамеченным. Да и чем могут интересоваться люди в таком забытом Богом месте, как не делами друг друга? Впрочем, я не разделяю этого пристрастия… – Мне следовало бы догадаться, – сухо сказал Гай. – Так как насчет закуски, мистер Джеймс? Я очень голоден. Уиллард Джеймс ел много, пил гораздо меньше, по крайней мере, выпитое ничуть не развязало его язык. Отчаявшись что-либо выпытать у него, Гай отбросил всякие околичности. – А вы разве не знаете? – спокойно спросил Джеймс. – Я-то думал, он сам вам сказал: ведь вы старые друзья… В голосе его без труда можно было почувствовать неодобрение. Гай догадался, что Уиллард Джеймс не слишком-то жаловал Килрейна Мэллори и его близких. – Он мне ничего не сказал. Возможно, эта тема слишком деликатна, чтобы ее обсуждать даже с друзьями… – Наверно, так оно и есть, – сказал Уиллард Джеймс. – Не желаете ли пуншу, мистер Фолкс? Гай расхохотался: – Мне приходилось встречать неразговорчивых людей, но им всем далеко до вас, мистер Джеймс. Почему вы не хотите мне сказать то, что я хочу знать? – Я вряд ли вправе это делать, – спокойно сказал Уиллард Джеймс. – Слишком уж это затрагивает семейные проблемы Мэллори. Вот если бы вы имели виды на это поместье, я был бы обязан подробно объяснить вам ситуацию. Но только в этом случае… Гай весь напрягся. А почему бы и нет? Мэллори-хилл – прекрасная плантация. И он не мог допустить, чтобы род Фолксов прервался из-за одной женщины, как бы она ни была прекрасна… – Хорошо, – сказал он. – Я, возможно, куплю это имение. Скажу вам больше: я наверняка его куплю, если меня устроят условия. Бога ради, говорите же, наконец! – Ну что ж, – не торопясь начал Уиллард Джеймс, – если вы искренни, а мне кажется, это так, я, пожалуй, могу вам рассказать. И попечитель наконец перешел к делу. Конечно, он был на редкость немногословен, но для человека, знающего Килрейна Мэллори, сказанного было вполне достаточно, чтобы домыслить подробности. Гай подвел итог услышанному одной фразой: – Вы хотите сказать, что Кил проиграл в карты и истратил на шлюх все свое состояние и таким образом потерял право на владение имением? – Резко сказано, конечно, но это правда, – сказал, подумав, Уиллард Джеймс. – Но не вся правда… – Что вы имеете в виду, сэр? – Он женился на этом милом кротком создании, чтобы спасти свою шкуру, – сказал Джеймс решительно. – А через какие-нибудь полгода он и ее оставит без средств к существованию, да и без дома в придачу. Она к нему привязана, вот что прискорбно. Он не заслуживает подобной преданности. Случалось мне на своем веку, – продолжал он, и в голосе его прозвучали гнев и презрение, – встречать никчемных подонков, но Килрейн Мэллори всех их заткнет за пояс! – Вы хотите сказать, что он… – …наделал кучу долгов и в счет Фэроукса тоже. Проигрывал в карты, дарил драгоценности своей любовнице… – Любовнице! – взорвался Гай. – Имея такую жену, как Джо Энн! – Некоторые мужчины склонны к супружеской неверности, – спокойно сказал Джеймс. – Пожалуй, даже большая их часть. Но думаю, что многие из нас достаточно разумны, чтобы ценить по-настоящему хорошую женщину, если уж нам довелось ее встретить, и умерить свои аппетиты, чтобы не потерять ее. К сожалению, у Килрейна Мэллори недостает для этого здравого смысла. Или хотя бы вкуса. Мы поедем в Натчез, и я покажу вам эту женщину. Думаю, когда вы увидите ее, вам станут еще менее понятны мотивы его поступков… – Ладно. Называйте цену. – Какую цену, мистер Фолкс? – Ту, что вы хотите получить за Мэллори-хилл. Я вам тотчас же выпишу чек! – Мне не нужен чек, – спокойно сказал Джеймс. – Нам придется съездить в Натчез и переговорить с президентом банка. И я не был бы честен с вами, если бы не сказал, что, по моему мнению, неуплаченные долги по Мэллори-хиллу превышают нынешнюю рыночную стоимость плантации. Но если вы все-таки захотите покрыть эти долги, вы получите на него все права. – А Фэроукс? – спросил Гай. – С ним еще хуже. Мы держим под своим контролем только часть этих земель. Постепенно выкупаем векселя Мэллори у кредиторов по цене, ниже номинальной (они, понятное дело, потеряли надежду когда-нибудь получить свои деньги), потому что два соседних участка земли составят солидное капиталовложение. Через несколько недель мы выкупим все имение. Но здесь есть одно странное обстоятельство… – Что еще? – проворчал Гай. – Отсутствуют неоплаченные долговые расписки на дом и землю, на которой он стоит. На всю остальную часть имения они есть. Как вы понимаете, это осложняет дело. Дом – лучшая часть Фэроукса. Без него покупатели вряд ли заинтересуются плантацией. – Напишите в Натчез сегодня же и скажите, чтоб они получили все эти расписки, – сказал Гай спокойно. – Когда они будут у вас, дайте мне знать, а о доме я сам позабочусь. Я освобожу вас от заботы об обоих имениях, мистер Джеймс, а что касается цены, то она значения не имеет. – Понимаю. – Джеймс позволил себе слегка улыбнуться. – Я имею неплохое представление о том, сколько вы стоите, мистер Фолкс. – Откуда же, черт возьми, вам это известно? – У нас есть… хм-м… возможности выяснять подобные вещи. Вы не должны беспокоиться: это просто часть нашей работы. Во всем штате вряд ли нашелся бы человек, который разом освободил бы нас от этого бремени. Сложность продажи участков земли по частям доставляла нам немало хлопот. А когда вы появились на сцене с вашими карликами в тюрбанах и дорожными сундуками, я взял на себя смелость как служащий банка провести небольшое расследование. Я собирался пригласить вас к себе, но вы меня опередили. Во всяком случае, я предоставлю вам точную информацию через месяц-полтора. Это вас устроит, сэр? – Вполне, – сказал Гай. – Спасибо, мистер Джеймс. – Это вам спасибо. До свидания, мистер Фолкс.В тот день Гай не вернулся в Фэроукс. Он поехал на ферму, которую Алан Мэллори подарил матери и Тому. Как он и предполагал, здесь было настоящее запустение: разбитые окна, просевшие ступени, половина полей заросла сорняками – и никаких следов хозяйской заботы. «Их можно увезти с холмов, – горько подумал он, – но дух холмов из них не выбить!» Наконец он отыскал Тома: тот спал под деревом, а мул, запряженный в плуг, терпеливо дожидался его на незаконченной борозде. Кругом не было видно ни единого негра, как, впрочем, и следов женского присутствия. Где же мама и Мэтти? Прошло так много лет, возможно, Чэрити и не дождалась его возвращения, но Мэтти? Он наклонился и сильно потряс Тома за плечи. – Хр-р-р! – произнес Том, обдав Гая перегаром дешевого виски. Тогда он пнул Тома под ребра. Это подействовало. Старший братец принял сидячее положение, щурясь, как пьяная сова. Впрочем, совы считаются мудрыми птицами, с отвращением подумал Гай. – За что это вы пнули меня, мистер? – заскулил Том. – За дело, свинья ты пьяная! Скажи мне: где мама и Мэтти? – Мама умерла пять лет назад от легочной лихорадки, а Мэтти… Господи Боже! Вы… вы… – Гай. Пойдем-ка в дом и вольем в тебя немного кофе, а то иначе от тебя толку не добьешься. Значит, бедная мама умерла? – Как Гай ни старался, он не мог вызвать в душе ничего, кроме легкой тени сожаления, как будто речь шла о человеке, которого он едва помнил, а не о собственной матери. «А я ее почти и не знал, – подумал он. – Всегда жил в тени отца, тени гиганта. Да папа и был им: даже его безрассудства и грехи были величественны…» Он наклонился и рывком поставил Тома на ноги. – А где Мэтти? – прорычал он. – Она сбежала с торговцем ниггерами через год после того, как ты уехал. Какое-то время она жила в штате Кентукки, в Лексингтоне, если не ошибаюсь. Потом у нее пошли дети, каждый год по штуке, а бывало и по двое. И она перестала писать. Думаю, с ней все в порядке, по крайней мере, плохих известий не было… – Хорошо, – сказал Гай. – Пойдем. Изнутри дом выглядел еще хуже, чем снаружи. Пахло потом, помоями и протухшей едой. «Постельное белье, наверно, год не менялось, – подумал Гай, – а уборка не делалась лет пять, не меньше». В доме не было ни единого целого стула. Том неумело разжег огонь и поставил на него разбитый котелок с кофе. Потом уселся на шаткий стул и с искренним восхищением уставился на младшего брата. – Господи, ну и шикарно же ты выглядишь! – воскликнул он. – Бьюсь об заклад, что твои одежки стоят больше, чем я зарабатываю за год! – Думаю, так оно и есть, если судить по тому, что я успел увидеть, – сухо сказал Гай. – Так ничего и не сделал из того, о чем я говорил тебе, не так ли? Распродал всех негров, сожрал всю скотину, насадил хлопок до самого крыльца, вместо овощей, истратил все деньги на поганое пойло, дешевых шлюх, вместо того чтобы содержать дом в порядке, превратился в такую свинью, что ни одна приличная девушка не пойдет за тебя замуж. Посмотри, на кого ты похож! – Я пытался что-то сделать, – захныкал Том, – Бог тому свидетель… Да сноровки у меня нет. Дела шли так плохо… Послушай, Гай, ты теперь богат, не мог бы ты… – Ни цента, даже ломаного гроша не дам. Хотя кое-что для тебя сделаю только потому, что мы родственники. Через месяц-полтора у меня будет свое имение. Тогда я буду присылать сюда каждый день своих ниггеров, чтобы они наводили порядок и работали в поле под присмотром толкового надсмотрщика. Я найму женщину для ведения домашнего хозяйства, какую-нибудь мулатку лет двадцати восьми – тридцати, достаточно молодую, чтобы ты держался подальше от деревенских шлюх. Я прикажу, чтобы дом побелили и навели в нем чистоту. И уж на этот раз тебе придется ее поддерживать, а не то задам тебе трепку! – Спасибо, Гай, – пробормотал Том. – Не стоит благодарности. Мне пора идти. – Ты поедешь в Кентукки искать Мэтти? – Нет, черт возьми! – раздраженно ответил Гай. – Очень жаль, что и ты не потерялся, как она! Обратная дорога к Фэроуксу вела через расположенную выше по реке плантацию, также принадлежавшую семейству Мэллори. Она была хорошо ухожена, но чувствовалось, что здесь хозяйничала не такая умелая рука. Мэллори-хилл являл собой холодное совершенство, зато в эту плантацию, по всему видно, была вложена огромная любовь, которая преобладала над знаниями и возмещала их недостаток… Через полчаса он проехал мимо высокого молодого человека на лошади, наблюдающего за работой кучки рабов. Гай с удивлением заметил, что на передней луке его седла не висит хлыст и при этом негры работают быстро и хорошо. Он дотронулся до шляпы в знак приветствия, а мужчина в ответ приподнял свою широкополую шляпу. Волосы его были светлыми. Гаю почудилось, что он когда-то видел этого человека. Проехав легким галопом еще сотню ярдов, он внезапно развернул своего вороного и поскакал назад. – Фитц! – закричал он. Юный Мэллори уставился на Гая. – Хотя вам и известно мое имя, но боюсь, что я вас не знаю… – начал он и вдруг закричал: – Гай! Гай! Гай протянул руки и заключил Фитцхью в свои объятия. Потом выпрямился и стал разглядывать старого приятеля, которому теперь было уже двадцать восемь лет: он был высок и крепок, а единственное, что напоминало в нем прежнего хрупкого юного книгочея, – выражение чистосердечия и искренности в больших голубых глазах. – Вот уж не думал, что буду так рад увидеть тебя через столько лет, – сказал Гай грубовато, чтобы скрыть те теплые чувства, которые всегда вызывал в нем юный Фитцхью, и вновь в голову ему пришла та же мысль, что и восемнадцать лет назад: почему Том совсем не такой? – И я рад, – улыбнулся Фитц. – Поедем домой, Гай, и поговорим толком… – Ты ведь не можешь бросить негров без присмотра, – заметил Гай. – Без тебя они палец о палец не ударят. – К моим неграм это не относится, – гордо сказал Фитц. – Они работают независимо от того, с ними я или нет. Верно, ребята? – Да, сэр, масса Фитц! – радостно закричали негры. Гай подумал, что он в жизни не слышал такого единодушного проявления любви. «Ему это удалось, – подумал он, – не пойму как, но удалось. Не удивительно, что плантация имеет такой ухоженный вид. Уж не знаю почему, но в детстве его все любили, даже Кил. И дело тут не только в обаянии. Просто он сам всех любит, по-настоящему любит, а ничто так не привязывает людей, как это…» Они подъехали к дому, аккуратному, свежевыбеленному. Во дворе – настоящее море цветов. Но стоило Гаю войти внутрь, и он сразу увидел, что в этом доме нет женщины, – возможно, никогда не бывало. – А подружка у тебя есть? – спросил он. – Да, – ответил Фитц и покраснел как девушка. – Грейс Тилтон. Вряд ли ты ее знаешь. Ей было всего три года, когда ты уехал. – Знаком с ее родней. Хорошие, достойные люди. А свадьба когда? – Не знаю, – печально сказал Фитц. – Как только рассчитаюсь со всеми долгами за эту плантацию – года через два, наверно… – А что же Кил? – Понимаешь… – начал Фитц и споткнулся. – Я все знаю, парень, – сказал Гай напрямик. – Мэллори-хилл и Фэроукс. Разве мог он обойти своим вниманием и эту плантацию? – Это какая-то болезнь у него. Страсть к карточной игре – настоящая мания. Мы не должны судить его слишком строго, Гай. Есть вещи, с которыми человек не может справиться… – Мне всегда недоставало христианского милосердия, – сказал Гай, – поэтому хватит о Киле. У тебя не найдется немного виски, сынок? – Конечно, – сказал Фитц и дернул за шнур. Зазвонил колокольчик, и вошла толстая служанка средних лет. Фитцхью, по-видимому, не был склонен к обычным для Мэллори порокам. – Принеси нам виски, Мэй, – сказал он. – Да сэр, масса Фитц, – просияла Мэй. – Будет сделано, сэр. – Я смотрю, ты умеешь обращаться с неграми! – воскликнул Гай. – В жизни не видел ничего подобного! – Все очень просто, – улыбнулся Фитц. – Я отношусь к ним как к человеческим существам, подобным себе. У меня на всей плантации нет ни единой плетки из змеиной кожи. Если хотят выйти прогуляться – пожалуйста, хоть ночью. Не заставляю их надрываться на работе, хорошо кормлю… – Но ведь дело не только в этом, – сказал Гай. – Конечно нет. Когда на них лень находит, я просто смотрю им в глаза и говорю, что мне стыдно за них, что они меня разочаровали и расстроили. Ты не поверишь, Гай, но однажды тридцатилетний мужчина плакал как ребенок, потому что я сказал, что, наверно, останусь без плантации – так мало они мне помогают. Их легко пронять добротой: наверно оттого, что редко они ее видели в жизни… – Возможно, ты прав, – сказал Гай. – Но ты бы этого не хотел, не так ли? – Чего бы не хотел? – Потерять плантацию. Я собираюсь оплатить долги. Пусть это будет подарком к твоей свадьбе. И ты разом освободишься от этого бремени. Что скажешь, парень? – Нет, Гай, спасибо тебе, но я должен рассчитаться с долгами сам. Ты меня понимаешь, надеюсь? Тогда у меня будет больше оснований считать плантацию своей. И Грейс будет знать, что я сам это сделал – для нее. Не хотелось бы, чтобы ты считал меня глупцом, но… – Ты совсем не дурак, – сказал Гай серьезно. Они сидели, неторопливо потягивая виски. – Книги небось забросил? – спросил Гай. – Занялся мужской работой? – Вовсе нет, – ответил Фитц. – Книги – это тоже мужская работа, Гай. Наверно, именно благодаря им человек начинает понимать свое предназначение. Пахота, уборка хлопка, надзор за рабами – все это занятия, которые лишь ненамного поднимают человека над животными. Но когда человек наносит краски на холст, ваяет из камня, пишет на чистом листе бумаги – тогда он лишь немногим ниже ангелов и Бог венчает его славою и честью*["955]. Именно так он может подняться к Богу вопреки одолевающей его похоти, звериной жестокости, глупости, никчемности… «Бог, – подумал Гай с горечью, – где был Он в ту ночь, когда кричала Билджи, умирая? Где Он на этом беспросветном пути, где нет ни справедливости, ни надежды?» Но он не сказал этого. Такие вещи не говорят людям, подобным Фитцхью Мэллори. – Пойдем, – сказал Фитц, – покажу тебе свою библиотеку. Она, правда, не очень велика, но, надеюсь, станет больше. «Из вещества того же, как и сон…» – «…мы созданы, – подхватил Гай. – И жизнь на сон похожа, и наша жизнь лишь сном окружена»*["956]. – А ты и сам читаешь книги, – ухмыльнулся Фитц, – что бы ты ни говорил… – Случается, – согласился Гай. В тот вечер он не вернулся в Фэроукс, а остался ночевать у Фитца, и они проговорили всю ночь напролет, охваченные волнением, высекая искры красноречия в словесном поединке, столь редком в той интеллектуальной пустыне, в которой они жили. У человека, помимо потребностей плоти, есть и другие стремления, а они оба изголодались по такому разговору, полному мысли, свободному от догм, подобному поединку на рапирах, когда один делает выпад, а другой парирует удар. Они спорили обо всем: об отделении южных штатов, о возможности войны, об умственных способностях негров, существовании Бога, смысле жизни. Они кричали, стучали по столу, выплеснули друг на друга огромное количество громогласной чуши, но и одна-две стоящие мысли проскочили в их разговоре. Легли спать они, когда уже совсем рассвело, охрипшие от крика и очень довольные собой и друг другом. Такая дружба длится всю жизнь, потому что она нужна обоим. Человек всегда ищет и иногда находит брата по духу. На следующее утро Гай встал поздно, а этого с ним не случалось многие годы. Он проснулся оттого, что прямо ему в глаза ярко светило солнце, и сразу вспомнил, где он, сладко зевнул и потянулся. «Возьму свои вещи, – решил он, – да и перееду сюда. Через месяц утрясем дела с Фитцем: помогу ему расплатиться с долгами за плантацию. Чем меньше буду видеть Джо Энн, тем лучше…» Гай выпил кофе, не вылезая из постели, оделся и вышел на крыльцо. Здесь он посидел немного, нежась на солнце, пока не увидел Фитцхью, возвращающегося с полей. Гай вскочил, его карие глаза удивленно расширились при виде собак, прыгавших вокруг чалой лошади Фитца. Это были собаки той самой породы, ошибки быть не могло, – размером с пони, темная лоснящаяся шкура с полосами, как у тигров, пламя, горящее в глазах. Завидев Гая, они беззвучно ринулись вперед, короткая шерсть на их спинах поднялась дыбом. Псы уже готовы были напасть, когда Фитц прикрикнул на них: – Лежать, Тигр! Лежать, Красотка! – И они послушно замерли на месте. – Тебе удалось! – прошептал Гай. – Ты их поймал! Как же, во имя всего святого, ты сумел… Фитц свесился с седла. – В отличие от тебя и Кила, у меня есть мозги в голове, – рассмеялся он. – Что думаешь о моих красавцах, Гай? – Они великолепны. Я сгораю от зависти. Но, Бога ради, растолкуй им, что я не враг, а то стоит тебе уйти, и мне придется пристрелить их, чтобы спасти свою шкуру! – Ко мне, Тигр, Красотка! – скомандовал Фитц. – Поздоровайтесь с джентльменом. Огромные звери приблизились и поочередно подали Гаю свои тяжелые лапы. Он поздоровался с ними, потрепал их большие головы и почесал за ушами. Кобель Тигр внезапно встал на задние лапы, положив передние на плечи Гая, и лизнул его в лицо. В таком положении мастифф был почти с Гая ростом. – Видишь, он тебя любит, – усмехнулся Фитц. – Теперь можешь ни о чем не беспокоиться. – Так-то оно так, – тяжело вздохнул Гай, – да только теперь одной заботой будет больше – как бы их украсть. Знал бы ты, как давно я хочу поймать парочку таких псов! – Знаю, – отозвался Фитц, бросив взгляд на шрам, оставленный на руке Гая собачьими зубами. – Кил мне рассказывал. Эта пара еще не дала потомство, но, когда появятся щенки, я подарю тебе кобелька и сучку, и ты сам сможешь их разводить. Собачки что надо, скажу я тебе… – Но как все-таки тебе удалось их поймать? – Немного удачи и сообразительности, – сказал Фитц, слегка его поддразнивая. – Видишь ли, они вновь и вновь возвращались все то время, пока тебя не было. Мы с Килом делали попытки отловить пару собак, но потом у него появились другие интересы. Лет семь назад псы исчезли и появились вновь только спустя пять лет. Их стая всегда была невелика – видно, охотники многих перебили. Но вот два года назад они вернулись – старый кобель и молодая сука, которая вот-вот должна была ощениться. Я за ними все время следил – думал, может, представится случай заманить их в ловушку… – И он представился, конечно, – сказал Гай. – Продолжай, Фитц. – Я все не мог придумать, как же это сделать. А потом нашел способ в книжке, мемуарах старого охотника, ставившего капканы на пушного зверя. О западнях когда-нибудь слышал? – Да! Я ловил в них леопардов в Африке. Почему же, черт возьми, это не пришло мне в голову? – Да и не могло прийти. У нас здесь, на Миссисипи, нет крупных зверей, на которых стоило бы охотиться ради их меха, если не считать редких медведей, поэтомуникто и не занимался западнями. Так или иначе, но мой замысел отчасти удался. Кобель и сука попались в яму, часть щенков (они уже родились к тому времени) тоже была там, а остальные тявкали у края западни. Этих зверюг я не смог вытащить из ловушки: пришлось в конце концов их пристрелить. А потом я спустился в яму и взял трех щенков, которые туда свалились. Отобрал этих двух из всего выводка, а остальных утопил. Противно было это делать, но всех я не смог бы вырастить. – Проклятие! – воскликнул Гай. – Ну и расстроил же ты меня! Я сам давно собирался этим заняться. Но как бы там ни было, парень, раз ты обещал мне щенков, ловлю тебя на слове. И еще: не будешь возражать, если я поживу у тебя немного? Я, конечно, и в Фэроуксе могу жить сколько захочу, но… – Конечно нет! Наоборот, буду рад! – сказал Фитц, а потом добавил: – Из-за Джо Энн, да? Скверно все вышло, Гай… – Знаю. Решил, что лучший способ избежать искушения – держаться от нее подальше. И Фэроукс я выкупаю главным образом для нее. Но бумаги оформляю на свое имя. Так Кил больше не сможет брать в долг, и придется ему волей-неволей взяться за ум… – Он не исправится, Гай. Просто не сможет. Уж такой он, видно, уродился. И дом, и чернокожих – все заложит… – Тогда и это все придется мне выкупать, – сказал Гай. – А я бы не стал. Джо Энн не захочет пользоваться твоими благодеяниями. Кил – это да: он возьмет что угодно и у кого угодно, а Джо Энн – совсем другое дело, тем более от тебя. Да ты и сам должен понимать. – А почему бы и не от меня? – Ты – ее первая любовь, – сказал Фитц тихо. – Конечно, она была тогда ребенком, но она тебя любила. Теперь она любит Кила, по-настоящему любит, несмотря на все, что он сделал, чтобы убить это чувство. Жаль, что так вышло. Бывают же ситуации в жизни, не подходящие под общие правила. И вот одна из них: двое просто созданы друг для друга, но так называемая мораль мешает им соединиться. Бессмыслица какая-то. Джо поступила бы куда более нравственно, если бы сбежала с тобой, вместо того чтобы позволить моему никчемному кузену промотать все ее состояние, да и саму ее загубить в конечном итоге, из ложного понятого чувства верности. – Ты говорил, что это любовь, – сухо заметил Гай. – Я и сейчас это говорю. Но есть ведь какой-то предел. Джо несчастна, Гай. Она безгранично добра, полна понимания и преданности, но нуждается в ответной верности. Есть одно обстоятельство, которое все может изменить: она ничего не знает о его любовницах. У него хватает мозгов не заводить шашни дома. Если бы она узнала хотя бы об этой красномордой потаскухе из Натчеза… – Предлагаешь, чтобы я ей это сказал? Да за кого, черт возьми, ты меня принимаешь, Фитц? Фитцхью вздохнул: – И я не могу. Мы оба пленники, Гай, оба верны библейской заповеди: праведной цели не добиться неправедным путем. А почему нельзя, хотя бы иногда, добиваться добра дурными средствами? Какая разница, если конечный результат – добро? – Дело в том, – медленно проговорил Гай, – что каковы средства, таков и результат. Нечестная игра не приводит к выигрышу. Это неизбежно. Здесь же ответ на древнее как мир сетование: почему злые преуспевают? Нам это только кажется, потому что мы упорно приравниваем богатство к счастью. На самом деле они никогда не выигрывают: человек может быть богаче, чем Крез, но на все золото мира он не купит того, что облегчило бы боль, разрывающую его сердце… – Да ты настоящий проповедник! – рассмеялся Фитц. – Проповедь закончена, – весело сказал Гай. – Я и двух своих негритят собираюсь сюда привезти. Не возражаешь, надеюсь? – Ничуть. Буду рад. Что там еще у тебя есть? Крокодилы, львы, тигры? – Больше ничего, – рассмеялся Гай. – Хватит этих маленьких дьяволов. Вот увидишь…
Первым, кого он встретил, возвратившись в Фэроукс, был Брэд Стивенс, надсмотрщик. Молодой человек легким галопом подскакал к нему и почтительно снял шляпу. – Прошу прощения, сэр, – сказал он. – Если вы располагаете парой свободных минут, я бы хотел поговорить с вами. Ждал случая встретиться с глазу на глаз с тех пор, как вы вернулись… – Хорошо, Брэд, – сказал Гай. – Но к чему такая таинственность? У тебя не раз была возможность поговорить со мной… – Но наедине никогда, сэр. Всегда кто-то был поблизости, а то, что я хочу вам сказать, не станешь говорить, будь даже рядом одни ниггеры… – Смелее, сынок, – сказал Гай. – Буду краток, сэр. Мисс Джо Энн и мистер Килрейн не имеют законных прав на владение Фэроуксом. Все права принадлежат вам, мистер Фолкс… – Видишь ли, Брэд, – ласково сказал Гай, – я знал это всю жизнь, но у меня не было доказательств… – О том и речь, мистер Гай. Вы можете доказать это. Нужно только сесть на ближайший пароход, отходящий в Натчез, и повидать мою тетушку Марту Гейнс. – Осади, парень. Какое отношение, черт возьми, имеет твоя тетушка Марта к доказательству моего права на владение Фэроуксом? – Самое прямое, сэр. Видите ли, она старшая сестра моего отца, а мой дедушка Уилл Стивенс, после того как его скрючил ревматизм и он не мог больше работать в Фэроуксе, жил в Гусберри-хилл, имении мужа тети Марты. Ваш дедушка время от времени писал ему письма. Они были близкие приятели. – И что же эти письма? – Они доказывают, что ваш дедушка никогда не отрекался от вашего отца. Эш Фолкс пытался разыскать мистера Вэса до самого дня своей смерти. Тетушка говорит, что подпись под завещанием, скорее всего, подделана, и… – Подожди минутку, Брэд, – спокойно сказал Гай. – Здесь все-таки многое остается неясным. Прежде всего, почему твоя тетушка молчала до сих пор? – Потому что ее здесь не было, сэр, и она не знала о том, что случилось. Она жила в Гусберри-хилл со стариком Гейнсом, пока тот не помер два года назад. Тетушка уже слишком стара, чтобы держать плантацию, она ее продала и переехала в Натчез. Там она открыла пансион Марты Гейне для джентльменов. Вы поедете в Натчез, остановитесь у тетушки, и она отдаст вам все письма, сэр. Она пришла в ярость, когда папа сказал ей, что ваш дядюшка Джеральд – владелец имения и… – Странно, что она этого не знала… – А как она могла знать? Гусберри-хилл далеко вниз по реке, в Луизиане. Ниже, чем Новый Орлеан. И она, и мой отец не очень-то любили писать письма. Несколько слов раз в два года о болях в спине и тому подобном. Но, когда она написала отцу, что переехала в Натчез, он поехал повидать ее и взял меня с собой. – Понятно, – сказал Гай. – Но еще один вопрос, парень. Почему ты рассказываешь все это мне сейчас? – Это непросто объяснить, сэр, – сказал Брэд, с трудом подбирая слова, – но я так думаю: всю свою жизнь я слышал о Фэроуксе от папы и, живя в Мэллори-хилл, часто видел, как вы с вашим отцом ехали бок о бок верхом. И мечтал быть там надсмотрщиком. Когда такой случай представился, я был счастлив. Через некоторое время я полюбил это место и не желал ничего другого, как, подобно деду, провести здесь всю свою жизнь. Вот почему мне совсем не нравится, что Фэроукс может быть распродан по частям каким-то чужакам, когда есть настоящий урожденный Фолкс, который будет управлять имением как надо, не говоря уже о том, что оно принадлежит ему по праву. Поэтому я и надеюсь, что вы нанесете визит моей тетушке, сэр. Она стара, тут ничего не скажешь, но при этом чертовски бойкая. На вашем месте я не стал бы с этим тянуть… – Хорошо, сынок. Держи язык за зубами, и получишь эту работу до конца своих дней на вполне приличных условиях… Войдя в дом, Гай приказал неграм упаковать его вещи. Потом разыскал Килрейна и попросил одолжить фургон с кучером, чтобы перевезти свое имущество в дом Фитцхью. Кил с готовностью отдал необходимые распоряжения. – Что это ты надумал, старина? – спросил он насмешливо. – Разве мы тебя плохо кормим? – Не в этом дело, Кил, – спокойно ответил Гай, – ты ведь сам знаешь, почему… – Догадываюсь, – ухмыльнулся Кил. – Ты умный парень, Гай, – умеешь учиться на чужом опыте, хотя бы твоего отца… – Во всяком случае, мне хватило бы ума не растрачивать попусту свою жизнь и собственность и ценить сокровище, которое у тебя в руках… – Так возвестил проповедник! – рассмеялся Кил. – А теперь ты куда идешь? – Попрощаться с Джо Энн, с твоего или без твоего, Кил, разрешения… – Ступай. Ты забываешь одну вещь, Гай. Мне не о чем беспокоиться: у Джо Энн совсем иные повадки, чем у ее матери… Гай ничего не сказал в ответ. «У меня появилась скверная привычка читать проповеди, – думал он уходя. – Фитц говорил об этом, теперь и Кил. А я и сам хорош, и нет у меня на это ни малейшего права…» Он нашел ее на галерее. Серые глаза Джо Энн были печальны. – Ты уезжаешь от нас, – сказала она. – Не будет ли бестактностью с моей стороны спросить тебя: «Почему?» – Нет, – сказал Гай. – Куда большей бестактностью был бы мой ответ. Тем более что ты наверняка знаешь почему… В ее глазах отразилась душевная мука. – Да, – сказала она с достоинством. – Думаю, что знаю, Гай. И мне жаль, что так получилось, очень жаль. Но девять лет без единой весточки – слишком большой срок для девушки. Нет, погоди уезжать. Я должна сказать тебе еще, что люблю своего мужа. Знаю, он мот, игрок и неудачник. Но я его люблю. Тебе, наверно, известно, что мы скоро потеряем Фэроукс, как до этого Мэллори-хилл. Мы сейчас пытаемся сохранить за собой дом и несколько акров земли. А если и их у нас отнимут, Килу придется уезжать, и я… я уеду вместе с ним. Теперь я все сказала. Но я хочу, чтобы ты понял… – Что мне не на что надеяться? – спросил Гай. – Я понял это с самого начала. А вот чего я не могу понять… – Чего, Гай? – За что ты его так любишь? – А как ты можешь это понять – ты ведь не женщина! Его есть за что любить: он веселый, нежный и ласковый со мной. А главное, он верен мне – ни разу не взглянул ни на одну постороннюю женщину. Он, наверное, знает, что неверность я не смогла бы вынести, это единственное, что могло бы меня заставить уйти от него… Да что же это ты такое делаешь, Гай Фолкс? – Молюсь, – сказал Гай. – Прости меня, Джо… – Как странно! Почему ты молился, Гай? – Чтобы Бог дал мне силы вернуться назад в пустыню, – сказал он глубоким голосом, полным печали, – самообладание, чтобы не поддаться дьявольскому соблазну. Проклятье, Джо, есть такие искушения, которым нельзя подвергать мужчину… – Я… я тебя не понимаю, – прошептала она. Он грустно улыбнулся. – Слава Богу, что не понимаешь, – сказал он и, забыв даже попрощаться с Джо Энн, пошел прочь, к фургону, где ждали его Никиабо и Сифа. Она глядела вслед, пока фургон не скрылся из виду, и только тогда осознала мысль, мелькнувшую у нее в голове. – И женщину тоже, – пробормотала она. А потом бесшумно скрылась в холодной тьме Фэроукса, такой беспросветной, словно ставни дома никогда не открывались, во мраке куда большем, чем она могла себе представить.
Глава 22
В жизни мужчины наступает такое время, когда кажется, что ты наконец приблизился к заветной цели, еще немного – и она в твоих руках. Но кроме того, это время свергнутых кумиров, роковых сплетений судьбы, расстройства планов, непредвиденных помех, возникающих в последнюю минуту. Именно в такой переломный период своей жизни вступал Гай, спускаясь вместе с Уиллардом Джеймсом по сходням парохода «Красавица прерий», прибывшего в Натчез в тот июньский день 1853 года. К заходу солнца он имел все нужные ему документы: бумаги по Мэллори-хиллу, неоплаченные долговые расписки по Фэроуксу, даже письма его деда к старому Уиллу Стивенсу. Более того, они с Джеймсом посетили окружного письмоводителя и изучили в его присутствии оригинал завещания, по которому Фэроукс переходил к Джеральду Фолксу. Самое поверхностное сопоставление его со старыми письмами позволяло утверждать, что подпись на завещании была подделана. Одно из писем, переданных Гаю Мартой Стивенс Гейнс, было датировано тем же числом, что и завещание, что окончательно снимало единственное возможное сомнение – не дрожала ли рука Эштона Фолкса от старости и болезней? – Нам осталось только предъявить эти доказательства судье Гринуэю, – сказал Уиллард Джеймс, – и начать судебный процесс против Джеральда Фолкса и его наследников, чтобы вернуть вашу собственность. Между прочим, Гай, если вы возвратите в банк долговые расписки на Фэроукс, мы обязаны вернуть вам ваши деньги. Килрейн Мэллори наделал эти долги под залог имущества, которое ему не принадлежало. И поскольку мы выкупили эти расписки у его кредиторов, пытаясь сохранить контроль над собственностью, убытки следует отнести на наш счет… – Нет, – сказал Гай. – Благодарю вас за предложение, но пусть расписки останутся у меня. – Но это лишено всякого смысла, мистер Фолкс, – заметил письмоводитель. – Вы владеете Фэроуксом, но какой смысл вам брать на себя долги Килрейна Мэллори? – Есть одна причина, – сказал Гай, – очень личного свойства. Давайте оставим все как есть, ладно? – Понимаю, – проговорил Уиллард Джеймс. – И даже одобряю вас, хотя мне, как деловому человеку, трудно согласиться с вами. Тем не менее я хотел бы дать вам совет, Гай Фолкс, и надеюсь, что вы его не отвергнете. Ладно, вы не хотите затевать судебный процесс против ее отца или лишать ее дома. Это очень благородный поступок. Однако вы желаете сохранить достаточный контроль над этими владениями, чтобы тот негодяй, за которого она вышла замуж, не разорил ее окончательно, не так ли? – Совершенно верно, – сказал Гай сухо. – Тогда представьте все эти документы судье Гринуэю. А присутствующий здесь мистер Монтроуз и я будем свидетелями. Вам не потребуется судебный процесс. Вы можете попросить судью не заводить дела против Джеральда Фолкса, учитывая преклонный возраст и немощь обвиняемого, хотя по законам штата его можно обвинить в подлоге. В подобных случаях слово потерпевшего очень весомо. У вас не будет бумаг по Фэроуксу, но вы будете обладать юридически безупречным документом, подтверждающим ваше право на них, и это, вместе с расписками Мэллори, если уж вы хотите оставить их у себя, послужит вам защитой перед лицом любой возможной случайности… Гай обдумал предложение. – Хорошо, – медленно произнес он. – Это не простая сентиментальность, Уилл. Я должен быть абсолютно уверен, что Фолксы не утратят прав на Фэроукс. У Кила и Джо Энн нет детей. У меня пока тоже. Но я собираюсь жениться хотя бы для того, чтобы мечта моего деда о Фолксах из Фэроукса не пошла прахом. Джо сможет управлять имением, пока жива. Но я хочу знать, что потом здесь будут жить мои сыновья. Пойдем сейчас же к судье… Судья Гринуэй оказался убежденным законником. Пылкий и честолюбивый человек, он был готов сейчас же упрятать Джеральда Фолкса в тюрьму. «Если уж он из-за подлога так разошелся, – подумал Гай, – что бы он сделал, если б я показал ему ту пороховницу? По закону штата Миссисипи – это убийство на дуэли, и Джерри болтался бы в петле еще до наступления темноты…» – Послушайте, ваша честь, – сказал он, – давайте посмотрим на дело с другой стороны: мне не нравится, что грехи отцов падают на головы их детей. А больше всех в этом деле страдают невиновные. Я питаю огромную симпатию к Джо Энн Мэллори. Мы с ней друзья с детства. Джерри Фолкс стар, болен и вот-вот умрет. Допустим, мы упрячем его в каталажку и лишим Мэллори их собственности, а что дальше? Женщина, не имеющая ни малейшего касательства к преступлению, будет обречена на голод. Сейчас Фэроукс мне не нужен. У меня есть Мэллори-хилл. Все, что мне нужно, – знать, что мои сыновья получат имение, когда придет срок. Если уж я, потерпевший, хочу, чтобы правосудие в этом случае было смягчено милосердием, что имеете против вы? – Это противоречит закону, – проворчал судья Гринуэй. – Но раз вы этого желаете, мистер Фолкс, пусть будет по-вашему. Монтроуз, позовите моего клерка, и мы составим документ, излагающий факты так, как вы их представили. Этот документ и приложенные к нему письма, а также завещание в качестве доказательств составят надежную основу для возбуждения судебного дела, если это когда-нибудь понадобится вам или вашим наследникам. Но, ей-богу, так делать не принято! – Но это не противоречит закону, – заметил Уиллард Джеймс. – Ничуть, – сказал судья Гринуэй. – Разрази меня гром, если это незаконно! – Ну теперь, похоже, все дела позади, – сказал Уиллард Джеймс, когда они покидали судейские апартаменты. – Нет, не все, – ответил Гай. – Я хотел бы увидеть ту женщину, хотя, конечно, это не мое дело. Верно, что любопытство до добра не доводит, и все же не могу побороть желание взглянуть на женщину, которую Кил предпочел Джо… – Вы будете разочарованы, – сказал Уиллард Джеймс, – но, если хотите, пойдемте… По дороге они заметили, что стены домов оклеены большими театральными афишами. Гай рассеянно читал их, еще не подозревая, какую роль им предстоит сыграть в его жизни. Эдвард Малхауз, самый знаменитый импресарио со времен Барнума, использовал чрезвычайно грубый рекламный трюк. Афиши, на которых крупным шрифтом было напечатано «Величайшая пароходная гонка», создавали полное впечатление, что профессиональное соперничество двух великих оперных певиц Джульетты Кастильоне и Нормы Дюпре разрешится в результате пароходной гонки. Эта идея показалась Гаю и Уилларду Джеймсу столь чудной, что оба они остановились и прочитали афиши внимательно. Здесь же была изложена вся предыстория, набранная мелким шрифтом, о том, как была сделана ошибка при продаже билетов в театр «Сент-Шарль» в Нью-Орлеане и ни одна из примадонн не пожелала отказаться от своих прав, но зато обе приняли предложение некоего джентльмена, любителя азартных игр, знакомого с ними обеими: отплыть в назначенный день из Цинциннати на разных пароходах – «Королева Натчеза» и «Том Тайлер». Та из певиц, что первой прибудет в Нью-Орлеан, получит право петь в театре «Сент-Шарль» первые две недели, а проигравшая – следующие две. Оба судна зайдут заправиться топливом в Натчез, а те из горожан, кто пожелает совершить путешествие до Нью-Орлеана, могут купить билеты по ценам, названным в афишах разумными, но, по мнению Гая, чрезмерным. Гай обернулся к Уилларду Джеймсу: – Вы верите всему этому? – Нет, конечно! – рассмеялся Джеймс. – Я знаю Малхауза. Он просто завлекает публику на концерты своей примадонны. Хотя должен сказать, что она того стоит. В прошлом году я слушал ее пение в Нью-Йорке… – Какой из них? – Кастильоне, конечно. Француженка – второстепенная певичка, никогда не исполняющая главные партии. Нет между ними никакого соперничества, да и быть не может. У Кастильоне самый красивый голос после Патти. Какая женщина! Впервые видел оперную певицу нормальных размеров… – Вы хотите сказать, что она стройна? – Я хочу сказать, что она ослепительна! Представьте себе, что я, старый дурак, с розами в руке дожидался ее появления за кулисами вместе с юными франтами. Она приняла приглашение пообедать со мной. Я был страшно польщен, пока она не сказала, почему сделала это… – Почему же? – Я показался ей достаточно дряхлым и безобидным. Она была уверена, что я не буду назойлив, как кто-нибудь из этих молодых щеголей. И оказалась права. Ей не пришлось меня гнать. У меня не хватило духу добиваться ее взаимности после этого ушата холодной воды. Боюсь, что я страшно ей надоел. Но она была очень мила со мной. Говорит она с легким акцентом, правда, фальшивым… – Вы таите в себе глубины, о которых я не подозревал, Уилл, – рассмеялся Гай. – Так, говорите, ее акцент фальшивый? – Она родилась в Нью-Йорке, в Ист-Сайде, в семье итальянца, торговца фруктами. Теперь, конечно, место ее рождения изменено, вроде бы на Флоренцию. Она действительно училась вокалу в Италии, тут ничего не скажешь. Но мой знакомый врач-итальянец из Нью-Йорка говорил мне, что акцент ее итальянский, а отнюдь не английский. – Уилл Джеймс в роли воздыхателя! – вскричал Гай. – Подумать только! – Я всегда страдал от некоторой чопорности своих манер, – сказал Джеймс с грустью. – Но это не моя вина. Я когда-то был обручен, но моя невеста умерла. Друзья шутили, что я заморозил ее до смерти. После этого я занялся банковским делом, финансами, а помимо этого содержал плантацию. Я ведь сын плантатора. И в том и в другом я преуспел. А вот с женщинами – нет. Смирился со своим холостым положением… – Надо подумать, как бы вам помочь, – сказал Гай. – Пойдемте… Дом, где жила Элизабет Мелтон, находился в пригороде. Здесь было тихо и уединенно. Они отпустили извозчика и направились по тропинке к дому. Но не успели постучать в дверь, как услышали крик. – Это все твоя вина, Кил Мэллори! – орала Лиз Мелтон. – Хотела бы я знать, что ты теперь собираешься делать? – Ничего, – устало ответил Кил. – Лиз, я… – Ничего! – оглушительно завопила Лиз. – Сделал мне ребенка и говоришь, что ничего не намерен предпринять! Ах ты, жалкий, бесчестный, вонючий ублюдок! Да я… – Надо сказать, словарь у леди изысканный, – прошептал Гай. – Так я тебе и поверил, Лиз! – сказал Килрейн. – Я сюда приходил не чаще чем раз в месяц. Кто знает, что здесь было без меня? Ты, моя голубка, уж не была нежной девственницей, когда мы повстречались. Готов биться об заклад, что ты и сама не знаешь, кто отец этого щенка! – Не правда ли, он галантен? – усмехнулся Гай. – Нам надо уходить, – прошептал Джеймс. – Момент совершенно неподходящий… Его слова потонули в очередном вопле. Они бросились к калитке, но не успели добежать до нее, как дверь распахнулась и из нее выскочил Кил. За ним гналась Лиз, размахивая большим кухонным ножом в опасной близости от его головы. Уиллард Джеймс с удивительным в его положении достоинством отступил в сторону. Гай сделал то же, правда с меньшей грацией. Он подождал, пока Лиз поравнялась с ним, и тогда схватил ее сзади за руки. – Отпусти его, Лиз, – сказал он смеясь. – Не стоит убивать этого беднягу. Услышав его голос, Килрейн обернулся. Некоторое время он стоял, беспомощно взирая на Гая Фолкса. – Ах ты, шпион! – наконец проговорил он. – Мерзкий соглядатай! Теперь ты побежишь в Фэроукс, чтобы рассказать Джо Энн… – Плохо же ты меня знаешь, Кил, – спокойно сказал Гай. – Сдается мне, у тебя и так неприятностей выше головы. Уилл, заберите у нее нож. Если она убьет этого паршивого хорька, то ничем себе не поможет. – О, мистер Джеймс! – заревела Лиз. – Знаете, что он сделал? Довел меня до такого положения, а теперь… Гай внимательно разглядывал женщину. Это была крупная блондинка, никак не моложе тридцати лет, грубая, толстая, со следами пьянства на лице – яркое воплощение женской вульгарности. Если она действительно была беременна, как утверждала, то уж, конечно, это никоим образом не было случайностью. Она специально забеременела от Кила или кого-то еще, а объявила отцом ребенка именно Кила, поскольку тот пользовался репутацией очень богатого человека. – Если ты снова появишься в моем доме, Гай Фолкс, – процедил сквозь зубы Килрейн, – я прикажу ниггерам отдубасить тебя палками и выбросить вон! А если хоть на милю приблизишься к Джо Энн, я застрелю тебя как собаку! – Ого, – сказал Гай спокойно, – как он высокопарно заговорил, не правда ли, Уилл? Только вряд ли, Кил, у тебя есть основание для подобных заявлений. Начнем с того, что ты не сможешь вышвырнуть меня из твоего дома или приказать неграм побить меня, потому что у тебя нет больше ни дома, ни негров. Вот это тебе раньше доводилось видеть? Он вытащил из кармана долговые расписки Кила и протянул их ему. Килрейн тотчас узнал их, и его красное лицо покрылось мертвенной бледностью. – Откуда ты их взял, черт бы тебя побрал? – прошептал он. – Оплатил твои долги по обеим плантациям. Придется тебе привыкать к моему соседству, Кил, ведь я теперь владелец Мэллори-хилла… – И Фэроукса? – Ты можешь там жить, если будешь вести себя подобающим образом. Приведи имение в порядок и не делай больше долгов. Живя на правах моего гостя в Фэроуксе, ты больше не сможешь использовать его, чтобы делать новые долги. Держись подальше от Натчеза. У тебя хорошая жена, а двух женщин ты теперь содержать никак не сможешь… – Вы хотите сказать, что он на самом деле не богат? – воскликнула Лиз. – Дорогая моя, – усмехнулся Кил с горечью, – ты с самого начала пошла по неверному следу. Думаю, тебе следует найти другого папочку для малютки Нелл, потому что у меня в кармане и пары медяков не найдется! – А-а-а! – завопила женщина. – Паршивый обманщик! – Перестаньте ругаться в присутствии джентльменов, Лиз, – сказал Уиллард Джеймс с презрительной холодностью. – Теперь вернемся ко второму твоему весьма умному замечанию о том, что ты застрелишь меня, – сказал Гай. – Для этого у тебя нет никакого повода; кроме того, должен напомнить тебе, что я и сам неплохой стрелок. Поэтому не дразни меня, Кил… – Ну что ж, – сказал Килрейн, – похоже, ты загнал меня в угол. Давай поговорим как мужчина с мужчиной, хочу сделать тебе выгодное предложение. Ты заглядывал в эти расписки? – Конечно. – Тогда ты должен знать, что там нет ни одного неоплаченного долга под залог дома или земли, на которой он стоит. У меня такое предложение: я ставлю на дом и землю, а ты – на расписки, что держишь в руках. Победитель получит все. Одна партия в покер – орел или решка? Что ты скажешь на это, Гай? – А зачем ему это нужно, – заметил Уиллард Джеймс, – когда у него и так… – Не вмешивайтесь, Уилл, – перебил его Гай. – Оставим все как есть. Нет – вот ответ на твое предложение, Кил. – Я так и знал – ты ведь не любишь риска, – усмехнулся Кил. – Я вполне допускаю риск, Кил, – сухо сказал Гай, – но я не собираюсь ставить на карту будущее Джо Энн. В твоем нынешнем положении ты не можешь лишить ее дома, поскольку тебе нечего больше закладывать. И забудь об этом. – Ты проявляешь такую трогательную заботу о моей жене, – сказал Кил. – Можно подумать… – А тебе нечего думать. Ты и так все знаешь. Давай-ка лучше немного выпьем в каком-нибудь уютном местечке и забудем об обидах. – Ладно, – сказал Кил угрюмо. – Пойдем. – А как же я? – заныла Лиз Мелтон. – Пропади ты пропадом! – воскликнул Килрейн. – Пошли отсюда! По пути к бару Килрейн, по всей видимости, впервые увидел афиши, валявшиеся даже на мостовой. Он наклонился, поднял одну из них, бегло прочитал, и тотчас в его глазах страстного игрока загорелся огонек азарта. – Вот это пари так пари! – сказал он, широко улыбаясь. – Не хочешь ли, Гай, побиться об заклад, какая из этих оперных певиц первой приплывет в Нью-Орлеон на своем пароходе? Гай холодно взглянул на него. – И какая же будет ставка, Кил? – спросил он. – Пятьсот долларов. Столько я могу себе позволить. Ну, что скажешь, парень? – Хорошо, – сказал Гай спокойно. – Чтобы ты знал, что я тоже умею держать пари, принимаю твой вызов и предоставляю тебе право выбирать первым. Давай, Кил! – «Том Тайлер»! – тотчас же воскликнул Килрейн. – И малышка Кастильоне. Поет она, говорят, будь здоров! – Принято, – сказал Гай Фолкс. – Отлично. Тогда пошли! – Куда? – Покупать билеты на пароход. Собираюсь прокатиться вниз по реке вместе со своей певчей птичкой. Вот увидите, когда мы первыми доберемся до Нью-Орлеана, она будет вне себя от счастья! – Ладно, – сказал Гай. – Это, наверно, будет забавно. А вы как, Уилл? – Я, пожалуй, тоже поеду, – сказал Уиллард Джеймс. Хотя оставалось всего две недели, билеты все еще не были распроданы. В этом жители Натчеза отличались от нью-орлеанцев: их могло привлечь необычное зрелище, а могло и оставить равнодушными. Последнее происходило чаще. Гай без труда заказал каюту на «Королеве Натчеза» для себя и Уилларда Джеймса. Кил столь же легко купил билет на «Тома Тайлера». «Интересно, где Кил раздобыл деньги, – подумал Гай. – Наверно, выиграл». В тот же вечер они сидели втроем в одной из таверн Натчеза. Килрейн был на редкость приветлив и дружелюбен. Впрочем, и пьян изрядно, хотя это было не очень заметно. – Прости, погорячился сегодня утром, – говорил он заплетающимся языком. – Сам понимаешь, неприятно, когда тебя застают врасплох. Да и ты ведь пришел не случайно, а чтоб сунуть нос в мои дела. – Так оно и было, – сказал Гай напрямик. – Я сгорал от любопытства, Кил, хотелось увидеть женщину, которую ты предпочел Джо Энн. Но я пришел не для того, чтобы узнать что-то, а потом использовать против тебя. Просто хотел взглянуть на эту Лиз Мелтон, больше ничего… – Ну вот ты ее увидел, и что же? – спросил Килрейн насмешливо. – Не могу, никак не могу понять тебя… – Потому что ты влюблен в мою жену. Постой, не сердись! Факты остаются фактами, какими бы они неприятными ни были. Человек не властен над своими чувствами, и я на тебя зла не держу. Да и повода для этого у меня нет. Ты слишком большой пуританин, чтобы решиться на что-то, а если бы даже и решился, у тебя все равно ничего не выйдет: ведь Джо Энн – сущий ангел… Гай заметил, что лицо Уилларда Джеймса передернулось от отвращения. – Послушай, Кил, – сказал он, стараясь сохранять спокойствие, – не кажется ли тебе, что подобный разговор допустим только наедине между двумя мужчинами? Друзьями даже, кем мы до сих пор, как это ни смешно звучит, остаемся? – Ты прав. Это говорит о моем дурном вкусе, – проговорил Килрейн заплетающимся языком. – Что ж, всем известно, что мои вкусы не слишком изысканны. Вот и Лиз тому подтверждение… – Раз уж ты сегодня так словоохотлив, – сказал Гай, – расскажи мне, как ты умудрился спутаться с ней… такой? Килрейн откинул голову и расхохотался: – Такой? Как ни смешно, но это очень для нее верное слово – «такая». Да я ее много лет знаю. Она меня никогда особенно не интересовала. Это жена меня к ней толкнула: Джо такая… безупречная. Терпеливая и покорная. Ей не нравятся мои безрассудства и взбалмошность, но она никогда и слова в упрек не скажет. Видишь ли, парень, мне нужна такая женщина, чтобы пыхтела, обливалась потом, кричала, кусалась – ну, в общем, ты меня понимаешь. Хочу, чтоб она пахла, как женщина, а не мылом, духами и рисовой пудрой… Уиллард Джеймс вскочил с перекошенным лицом. – Я пройдусь немного, Гай, если ты не возражаешь, – проговорил он. – Мне нужно… глотнуть воздуха. Килрейн усмехнулся: – Сидите, мистер Джеймс. Не надо корчить из себя святую невинность. Должен вам сказать, что мужчине более пристало грешить, чем сосать кровь своих ближних… – Довольно, Кил, – сказал Гай холодно. – Садитесь, Уилл. Я с ним сумею совладать. – Тогда сдаю его вам с рук на руки, – сказал Уиллард Джеймс, – только, боюсь, после этого их долго придется мыть. – И он с достоинством удалился. «Да, об Уилле Джеймсе можно сказать только хорошее», – подумал Гай. – Жаль, что все так получилось, – сказал Килрейн угрюмо. – Джо слишком хороша для меня. Ты ей больше подходишь. Да я ее и не любил никогда по-настоящему. Она не в моем вкусе: слишком уж всегда походила на ангелов, которыми разукрашены потолки в католических храмах. Но теперь-то она привязана ко мне, хотя заслуживает лучшей участи. И она никогда меня не бросит, даже если я потеряю Фэроукс, а я его потеряю с этой проклятой страстью к азартным играм. Даже если она будет голодать, все равно не склонит свою гордую голову. И в один прекрасный день она меня возненавидит, а может, уже и ненавидит втихомолку. Я этого не вынесу, Гай! Не вынесу! И в его затуманенных, налитых кровью глазах появились слезы. – Пойдем, Кил, – сказал Гай. – Я провожу тебя домой. «В жизни ничто не бывает просто, – подумал он с горечью. – Как же можно испытывать ненависть к человеку, если так его жалко?»Он провел большую часть следующих двух недель, обустраиваясь в Мэллори-хилле. Ему помогали Уиллард Джеймс и Фитцхью. Все трое стали закадычными друзьями. Банкир, несмотря на свои сорок восемь лет и поистине леденящую чопорность, оказался весьма приятным при ближайшем знакомстве человеком. Эти недели были омрачены двумя инцидентами, первый из них, правда, имел скорее комический оттенок. Как-то днем, вернувшись домой с плантации, они обнаружили, что одна из служанок корчится на полу от боли. Все, чего они сумели от нее добиться в перерывах между истошными криками, было: – Никиа заколдовал меня! Никиа заколдовал меня! Гай кликнул обоих пигмеев. – Что, черт возьми, здесь происходит? – вопросил он. – Она меня отшлепала, бвана, – сказала Сифа, – и за это Никиа напустил на нее порчу. Наступит ночь, Эсамба съест ее мозги, и она станет большой сумасшедшей дурой! – Никиа… – начал Гай. – Нет, хозяин! – воскликнул Никиабо. – Она самая плохая, подлая, мерзкая девка! «Однако, – весело подумал Гай, – Никиа чертовски быстро овладевает диалектом негров Миссисипи». – Сними с нее сглаз, Никиа, – сказал Гай. – Вы хотите сказать, что верите во всю эту чепуху? – изумленно воскликнул Уиллард Джеймс. – А вам не приходилось жить в Африке, Уилл? Вы же верите в воскресение из мертвых, хотя никогда и не видели его. А я видел, как Эсамба лишал людей разума. Проклятье, Никиа, сейчас же сними с нее колдовство! – Нет! – выпалил пигмей. – Хорошо же, – сказал Гай и перешел на суахили. – Твоя правая рука утратила свою силу, Никиабо! Твоя правая ноги искалечена! Ты больше не можешь ни поднять руку, ни ходить! – Что… что, черт возьми, ты говоришь, Гай? – прошептал Фитцхью. – Я напускаю на него еще большую порчу, – сказал Гай спокойно. – Смотрите: Никиа, ну-ка подними правую руку! Пигмей попытался выполнить приказание, но не смог поднять руку, хотя на его лбу цвета черного дерева от напряжения выступили капельки пота. – Теперь иди! – проревел Гай. Пигмей шагнул и тут же повалился на пол. Он лежал и плакал. – Сними с меня проклятие, бвана! Прогони злого духа! Я буду тебя слушаться! Я сниму порчу с этой противной черной девчонки! – Хорошо, – сказал Гай и добавил на суахили: – Заклятие снято, Никиа! Пигмей тут же встал на ноги. Подбежав к распростертой на полу девушке, он залопотал что-то, делая руками какие-то странные движения. Девушка прекратила кричать. Она лежала некоторое время совершенно неподвижно, расслабленно. Потом ее полные ужаса глаза раскрылись, она вскочила на ноги и бросилась вон из комнаты. – Мне нужно выпить, – прошептал Уиллард Джеймс. – Чего-нибудь покрепче! – И мне тоже, – проворчал Фитцхью. – Гай! Как, черт возьми, ты… – Не проси у меня объяснений, – сказал Гай с важным видом, – я и сам не понимаю. Единственное, что я знаю наверняка: это действует!
Второй инцидент был совсем другого свойства. Гай находился на участке плантации, граничащем с Фэроуксом, когда увидел Джо Энн, приближающуюся верхом к изгороди. Он подъехал, чтобы поздороваться с ней, и увидел ее глаза. Они были холодны как лед. – Кил сказал мне, – произнесла она, – что ты оплатил все его долги. Вижу, ты теперь владелец Мэллори-хилла. Это, конечно, твое право… Гай, сидя на своем черном жеребце, внимательно глядел на нее. – Продолжай, – спокойно сказал он. – Если бы ты лишил нас собственности, я бы назвала тебя негодяем и свиньей. Но Кил сказал, что ты не собираешься выгонять нас… – Не собираюсь, – сказал Гай. – Кто же я теперь, по-твоему? – Все равно свинья, ну, может, не такая большая. Ты не имел права так поступать, Гай Фолкс! Зачем было его обижать? – Боже правый, Джо, – сказал Гай. – Вот уж никогда не думал… – Нет, ты знал! Прекрасно понимал, что заденешь его мужскую гордость! Или заставишь меня презирать его за малодушие, за то, что он принял от тебя этот щедрый подарок. Но этот номер не пройдет, Гай. Можешь и Фэроукс выкупить. Мы уезжаем. В глазах Гая появилось выражение боли. – И куда же вы поедете? – спросил он. Ее замешательство ясно показало ему, что она и не думала об этом. – Я тебя спрашиваю, куда вы поедете? – повторил он. – Откуда вы возьмете деньги? Кто позаботится о твоем отце, даже если ты станешь работать – компаньонкой какой-нибудь знатной леди? Ведь Кил работать не станет. Да он ничего и не умеет, кроме как жить на плантации. У него остается только один выход – стать надсмотрщиком в каком-либо чужом имении. Ты думаешь, он на это пойдет? Ее лицо побледнело. – О!.. – начала она. – Если он вообще куда-то поедет, – продолжал Гай невозмутимо, – в чем я сильно сомневаюсь. Ты хоть его спросила? Вижу, что нет. Думаю, тебе бы надо его спросить, Джо, принимает ли он мой щедрый подарок, как ты его называешь. Поинтересуйся, уязвлена ли его гордость, которая, как ты полагаешь, у него есть, настолько, чтобы он уехал. Ступай. И в следующий раз, прежде чем бросать мне обвинения, удостоверься, что они на чем-то основаны. – О! – вновь воскликнула она. – Ты все-таки свинья, Гай Фолкс! И куда большая, чем я думала…
В следующий раз Гай увидел Килрейна Мэллори в то утро, когда «Королева Натчеза» и «Том Тайлер» должны были причалить к пристани чуть ниже Натчеза. Кил был уже пьян, несмотря на раннее утро. Выпивка становилась его единственным утешением. – Что с тобой стряслось? – сочувственно спросил Гай. – Проклятые бабы! – сказал Кил угрюмо. – Представляешь, Гай, за целую неделю и словечком со мной не перемолвилась! А знаешь почему? – Нет, – сказал Гай мягко. – Из-за того, что я не захотел уезжать из Фэроукса. Говорит, что настоящий мужчина никогда не согласился бы жить на средства своего друга. Может, она и права, но что мне остается делать? Я не знаю ничего, кроме плантации. Что же мне теперь, надсмотрщиком наниматься? «Я бы так и сделал, – подумал Гай холодно, – а не принимал чужую помощь. Но у тебя иное мнение, не так ли, Кил? Впрочем, ты всегда был ничтожеством». – Я ей и говорю: «Гай нас не прогонит. Разве может старина Гай нас выгнать?» А она вскочила и ну визжать: «Не смей произносить при мне имя этого негодяя, пока я жива!» Боже милосердный, чем ты ей так не угодил? – Наверно, она злится, потому что не хочет быть мне чем-то обязанной, – сказал Гай. – Не пойму я ее. Ты даешь нам возможность продержаться на плаву, а она, вместо того чтобы оценить это по достоинству… – Забудь об этом. Скажи лучше, Кил, что ты собираешься делать с красоткой Лиз? Доктор Моррис говорит, что она и вправду в интересном положении… – Ровным счетом ничего, – фыркнул Кил. – Откуда мне знать, чей он, этот маленький ублюдок? Эта Лиз – самая большая шлюха во всем штате Миссисипи! Гай молча разглядывал его. «Бедняга, – думал он, – ах ты, бедняга. Ничего у тебя не осталось: ни надежды, ни молитвы. Пусть уж хоть „Том Тайлер“ придет первым…» Возможно, так бы и случилось, если бы не Килрейн Мэллори. Проведя большую часть дня в тщетных попытках привлечь внимание Джульетты Кастильоне, он в конце концов спустился в машинное отделение. Отозвав в сторону машиниста, он показал ему толстенную пачку банкнот. Большую часть ее, правда, составляли куски нарезанной газетной бумаги, но машинист мог видеть только несколько двадцатидолларовых купюр, которые лежали сверху. Две из них Кил снял и протянул машинисту. – Для чего это, сэр? – спросил тот. – Перекроете предохранительный клапан за несколько миль до Нью-Орлеана. Когда мы намного вырвемся вперед, можете снова открыть его. Если сделаете, как я сказал, получите остальные деньги. Эту гонку я не собираюсь проигрывать! – Но, сэр, это ведь очень опасно! – воскликнул машинист. – Если давление станет слишком большим, убавите ход. Но выиграйте гонку, и тогда получите всю пачку! Сказав это, он вновь поднялся на палубу. Гай и Уиллард Джеймс стояли на палубе, непринужденно беседуя с Нормой Дюпре, когда «Королева Натчеза» поравнялась с Ла Плас, крошечной креольской деревушкой в нескольких милях севернее Нью-Орлеана. Примадонна, типичная нормандская крестьянка, крупная и цветущая, была весьма приятной женщиной, светловолосой, розовощекой и очень красивой. Именно такого типа женщина привлекла бы Килрейна. Она отличалась простодушием и добротой и к тому же – ни капли вульгарности. Если бы по счастливой или несчастливой случайности судьба не одарила ее приятным колоратурным сопрано, она могла бы стать женой какого-нибудь кряжистого нормандского фермера и родить ему не меньше дюжины сыновей. Она была в восторге от того, что может с кем-то поговорить на своем родном языке. Ее поразил тот французский, которому донья Пилар обучила Гая, и она нашла, что его французское произношение, несмотря на сильный американский акцент, намного лучше ее сельского нормандского. Гай заметил, что Уилл чувствует себя не в своей тарелке, и перешел на английский. – Мы совсем забыли о нашем друге банкире, – сказал он. – Давайте немного поговорим по-американски, мадемуазель. – Le banquiere?*["957] – переспросила она, и ее маленькие голубые глаза загорелись любопытством. Карьера певицы не мешала ей оставаться французской крестьянкой. – Так, значит, он богат? – Enormement!*["958] А кроме того, он сражен вами наповал, Норма… – И это было правдой. С самого начала поездки Уиллард Джеймс буквально пожирал ее глазами. – Неужели? Тогда я буду с ним очень любезна. Пение утомляет, мсье Гай, вы меня понимаете, а банкир… – Благословляю вас, дети мои! – рассмеялся Гай. Он наклонился к Уиллу и прошептал ему на ухо: – Будьте начеку, старина. Похоже, вы завоевали ее расположение. Сумейте теперь правильно им распорядиться… К его величайшему изумлению, Уиллард Джеймс покраснел. «И кто меня тянул за язык, – подумал Гай. – Наверно, я растревожил душевную рану Уилла». Он прошел немного дальше, оставив их вдвоем. Два пакетбота шли теперь рядом, тяжело пыхтя, выпуская высоко в небо султаны черного дыма из своих четырех труб, большие боковые колеса равномерно погружались в воду. «Королева» вырвалась вперед примерно на ярд. И тогда на расстоянии восьми-десяти ярдов, разделявших пароходы, Гай впервые увидел Джульетту Кастильоне. Она стояла на палубе «Тома Тайлера», рядом с ней находились Эдвард Малхауз и Килрейн Мэллори. Она явно была чем-то раздражена. Но даже в гневе Джульетта показалась Гаю самой красивой женщиной, какую он когда-либо видел. Ее волосы были черны, хотя этого слова недостаточно, чтобы дать представление об их истинном цвете. Чернее ночи, такой, наверно, была вселенская тьма до того, как Бог произнес Слово и воссиял свет. Еще чернее были ее глаза, и хотя это вроде бы невозможно, но их цвет был именно таков. Ее губы были цвета вина,которое производят на земле ее предков, в Тоскане. А ее тело, тесно стянутое корсетом… Он не мог глаз от нее оторвать. В этот момент Джо Энн Мэллори незаметно исчезла из его сознания, как будто перестала существовать. «Ну и вид у нее, – подумал Гай. – Кажется, вот-вот взорвется от ярости». Он пожалел, что так подумал, потому что в этот миг взорвался «Том Тайлер». Оледенев от ужаса, Гай смотрел, как медленно, словно мельчайшие доли секунд превратились в минуты, проплывал перед ним этот кошмар. Он видел, как толстый кусок металла, скорее всего часть балансира, ударил Кила Мэллори в поясницу и выбросил за борт. Он видел, как Джульетта открыла рот, чтобы закричать, но взрывная волна подняла ее и швырнула в реку между двумя пакетботами. Он видел, как Эдвард Малхауз скрылся в клубах обжигающего пара. Но больше он ничего не увидел, потому что успел уже скинуть обувь, сюртук и шляпу и погрузился в воду рядом с отчаянно барахтающейся Джульеттой. Гай едва не достал дна: потребовалась целая вечность, прежде чем он с разрывающимися от недостатка воздуха легкими выплыл на поверхность. В два взмаха добрался он до Джульетты и запустил пальцы в черную пену ее волос. – Постарайтесь расслабиться, – с трудом проговорил он, хватая ртом воздух. – Не боритесь со мной, и все будет в порядке. Она мгновенно повиновалась, и это очень ему помогло. В нескольких ярдах слева от себя он увидел Килрейна. Тот был придавлен массой обломков, из воды торчала только его голова. Лицо его побелело, оно выражало отчаяние. – Держись, Кил! – прокричал Гай. – Я вернусь через минуту! – Не бросай меня! – завопил Кил. – Не бросай, Гай! – Его голос захлебнулся от ярости и страха. – Ах ты, ублюдок, оставляешь меня тонуть, чтобы завладеть Фэроуксом и Джо! Будь ты проклят, Гай! Будь ты проклят! Пять сильных гребков – и вот он у борта «Королевы», и вот уже тянутся руки, чтобы помочь им. Раздаются команды: «Застопорить левый борт! Застопорить правый борт! Задний ход!» Джульетту оторвали от него и подняли наверх. Чьи-то руки вцепились в его плечи. – Отпустите меня! – заорал Гай. – Мне нужно назад, к Килу! Он повернулся, разбрызгивая воду. Расстояние было пустяковым: шесть или восемь ярдов. Через считанные секунды он уже достиг обломков и ухватился за них рукой. Он увидел, почему не утонул Кил. Под ним находился кусок палубы, поддерживая его на плаву. В воде вокруг них змеились канаты, которые бросали с парохода. – Ты… ты… – проговорил Кил, судорожно глотая воздух, – мог бы дать мне утонуть и получил бы Джо и Фэроукс. И ты этого не сделал… Остался незапятнанным… «А ведь он прав, – подумал Гай. – Впрочем, теперь это неважно…» Он извлек Килрейна из обломков и обвязал канатом. Гай видел, как Кила быстро потащили к «Королеве». Потом осмотрелся вокруг: не нуждается ли еще кто-нибудь в его помощи? Он успел помочь добраться еще двоим, прежде чем за борт «Королевы» была спущена шлюпка. На этом его работа кончилась. Гая вытащили на палубу, где он сидел, дрожа, кашляя и выплевывая илистую воду. Кто-то подал ему бутылку виски. Гай хлебнул, чувствуя, как обжигающая жидкость согревает его изнутри. Люди сгрудились вокруг него, все говорили, перебивая друг друга. Через толпу пробирался негр-стюард. – Мистер Фолкс, сэр, – сказал он, – мисс Кастильоне желает вас видеть… – Хорошо, – сказал Гай. Он с трудом встал и пошел вслед за негром. С его одежды ручьями стекала вода, волосы спутались, от него за милю разило речным илом. Джульетту поселили в каюте Нормы Дюпре и переодели в одно из платьев француженки, в которое можно было поместить двух таких, как она. Норма и Уилл Джеймс находились тут же. Когда Гай вошел, Джульетта поднялась с места и некоторое время пристально разглядывала его. Потом подошла к нему и взяла за руку. – Знаете, – сказала она, и голос ее звучал как музыка – это был самый чудесный звук, какой ему доводилось когда-либо слышать, – я передумала. Когда я попросила пригласить человека, спасшего меня, я собиралась поцеловать и горячо поблагодарить его. Но теперь… – Значит, теперь я даже не получу свой поцелуй? – спросил Гай. Она отступила назад улыбаясь. Эту улыбку надо было видеть. – Получите! – воскликнула она. – Но совершенно по другой причине, гораздо более важной. Раньше это была просто благодарность, а теперь это… – Что же это, Джульетта? – спросил он внезапно охрипшим голосом. – Счастье, – сказал она весело, – оттого что мне повезло. С удовольствием падала бы в реку по два раза в день, если бы при этом именно вы спасали меня! – Я! – воскликнул он. – Наверно, я тупоголов, потому что никак не могу понять… Она подошла к нему совсем близко и встала на цыпочки. – Неужели никто никогда не говорил вам, Гай Фолкс, – прошептала она, – что вы самый великолепный мужчина в мире?..
Вместе с ней он пошел в госпиталь навестить Эдварда Малхауза, запеленутого с ног до головы, словно мумия, в пропитанные жиром бинты, чтобы облегчить боль от ужасных ожогов. Потом они зашли в соседнюю палату, где лежал Кил. Гай убедился, что его раненому другу (а, несмотря ни на что, Кил оставался им) созданы прекрасные условия. Но это, увы, было слабым утешением: Люсьен Терребон, доктор, стоявший рядом с постелью, сказал по-французски, зная, что Кил его не поймет: – Этот джентльмен никогда больше не сможет ходить. Он полностью парализован ниже пояса… – Как это печально! – прошептала Джульетта, взяв Гая за руку. – Пойдем, Гай, нам лучше уйти сейчас… Они вернулись в отель «Сент-Луи», где оба остановились. Нормы в номере не было. Она, как обычно, ушла куда-то вместе с Уиллом Джеймсом. – Джулия! – прошептал Гай. – Нет, Гай, – сказала она, – не здесь. Послушай, мой большой и нетерпеливый возлюбленный, я тебе кое-что скажу. Во Вье Карре можно снять маленькую квартирку, очень дешево, не правда ли? Со служаночкой в переднике и чепчике. А, если с балкона спустить на веревке корзинку с деньгами, зеленщик и мясник положат туда свой товар. – Да, – сказал Гай, – это действительно было бы здорово. – Так вот, если мой большой и прекрасный возлюбленный отправился бы и подыскал такое гнездышко для себя и tua moglie*["959], никто бы этого не узнал. Тем более что гастроли не начнутся, пока Эдвард не поправится и все не устроит, а это будет не раньше чем через несколько недель. – Джульетта! – простонал Гай. – Я еще тебе что-то скажу. Я… сама сгораю от нетерпения. Так что поезжай!.. Поздно вечером он подыскал маленькую квартирку на четвертом этаже старого здания на Ройял-стрит. Служанка-мулатка была действительно в переднике и чепчике, а корзина на веревке для покупок исключала необходимость спускаться по лестнице. Потом он помчался в отель. Уиллард Джеймс и Норма Дюпре были уже там. Они сияли от счастья. – Гай, – сказал Уиллард с гордостью, – мы собираемся пожениться… – Поздравляю! – бросил через плечо Гай, волоча за руку из комнаты Джульетту. – Поехали, Джулия! – Ты был не слишком учтив, – сказала запыхавшаяся Джульетта, когда они влезали в экипаж. – Я буду более обходителен завтра, – обещал Гай, – или послезавтра… И вот она стояла в маленькой гостиной, разглядывая все вокруг. Потом повернулась к служанке-мулатке: – Спустись вниз и принеси нам сыра, пирожных, фруктов и вина. Много вина. Поставишь все это на столик, а потом уходи. И не приходи три дня и три ночи. А потом возвращайся. Но не раньше. Tu comprends ca, cherie?*["960] – Да, мэм, – хихикнула девушка. – Я вас хорошо поняла. Я выброшу в окно эту корзинку на веревке, а потом положу туда всю еду, так что мне даже не придется подниматься наверх! – Хорошо! – весело рассмеялась Джульетта. – Voir, ma petite*["961], – через три дня! – А вы уверены, что вам хватит трех дней? – фыркнула девушка. – Этот джентльмен, он такой сильный на вид! Джульетта шаловливо взглянула на Гая: – Через три дня он увянет, как старый салат, который оставили на солнце. Ведь я тоже, ma petite, кое в чем сильна!
Глава 23
Гай стоял на балконе маленькой квартирки и смотрел, но не вниз, на тихую улочку, а вверх – на звезды. Ночь была очень теплой, и в это время (а было около часа) город уже погрузился в глубокий сон. Он прислушивался к ночным звукам: тихому отдаленному цоканью копыт по булыжникам мостовой, приглушенному бряцанию сбруи, заунывному пению пьяницы, бредущего домой в этот поздний час, стуку двери в каком-то доме поблизости… Гай сделал лишь одну уступку условностям, надев брюки. Он сложил на голой груди свои большие, мускулистые руки и стоял, чувствуя, как довольство собой охватывает все его существо. Через открытую дверь он слышал, как Джульетта плещется в ванне, напоминающей по форме комнатную туфлю. Ванну в час ночи обычно не принимают, но, как понял Гай к своему изумлению и восторгу, то, что обычно делают люди, и то, что делает Джульетта Кастильоне, не имеет между собой ничего общего. Внезапно в ночи раздался звук, самый чистый из всех, какие ему когда-нибудь доводилось слышать. Он весь оцепенел, чувствуя, как мурашки бегут вверх и вниз вдоль позвоночника. Человеческий голос не мог бы так звучать; ему никогда не достичь этой округлости, чистоты, беспредельной раскрепощенности. И все-таки это был голос: он звучал то виолончелью, то флейтой, то скрипкой – Джульетта распевала гамму. Никакой инструмент не мог бы сотворить это чудо! Ничто и никто. А Джульетта могла. Он знал, что слушает один из лучших голосов своего века, да, пожалуй, всех веков. Гамма закончилась: она тут же начала «Robert, toi que j'aime»*["962] из «Роберта-дьявола» Мейербера и пела с такой разрывающей душу нежностью, что Гай, который не плакал с той ночи, когда умерла Билджи, заморгал и почувствовал, что глубоко в горле у него застрял, перекрывая дыхание, большущий комок. Внезапно Джульетта прекратила пение. – Гай! – весело крикнула она. – Иди потри мне спину! Он вошел в кухню, где стояла ванна. Джульетта лежала на спине, утопая меж холмов мыльной пены, воздух был тяжел от духов, которые она щедро налила в ванну. Она томно улыбнулась ему и протянула губку. – Наклонись! – проворчал он. Она неторопливо подалась вперед, и он стал тереть ее плечи и спину, в то время как она придерживала обеими руками волосы. – Спой это еще раз, – попросил он, – ту песню, что ты только что пела… – Вот уж нет! – рассмеялась она. – Если хотите услышать Кастильоне, синьор Гай, вам придется платить! – Ладно, – усмехнулся он. – И сколько же? – Поцелуй, впрочем, нет! Поцелуями не ограничимся, не правда ли, мой любимый? А теперь, когда я чиста и хорошо пахну… Подожди, я придумаю что-нибудь еще. Подай-ка мне полотенце… Она встала и вышла из ванны. – Хорошо бы издать закон, – сказал Гай хриплым голосом, – запрещающий тебе когда-либо одеваться! – Но это вряд ли будет очень здорово. Неужели ты хочешь, чтобы все мужчины глазели на то, что принадлежит только тебе? – Ну нет! – рассмеялся он. – Была бы моя воля, я бы тебя укутал в широченное платье, как то, что носила матушка Хаббард из детской песенки, и десять ярдов вуали… – Не пойдет! Тогда ты не сможешь увидеть зависть в их глазах. – Зависть! – воскликнул Гай. – Да этих типов надо высечь плетью, а то и застрелить за те мысли, что приходят им в голову, когда они на тебя смотрят! – А когда ты меня впервые увидел, что подумал? Не заслужил ли и ты подобного наказания? – Нет, – ответил Гай после некоторого раздумья. – Тебе может показаться смешным, но я тогда не думал… об этом. Единственное, что пришло мне в голову: «О, как она красива! Какая удивительная безупречная красота!» – За это, – прошептала Джульетта, – ты получишь поцелуй. И еще, и еще, и еще один! А теперь пойдем на балкон, посмотрим на звезды. – Ты этого хочешь? – Конечно! Сейчас очень поздно, и все спят. Я люблю ощущать кожей ночной воздух. Прохладно, но это такая приятная прохлада. Пошли! Она схватила его за руку и бегом пересекла маленькую квартирку. Он последовал за ней, полный удивления и радости. Они постояли немного на балкончике, тесно прижавшись друг к другу. Ее голова покоилась на его плече. Он вдыхал аромат ее волос. «Смешно, – подумал он. – Я боюсь. Я счастлив, слишком счастлив, и поэтому боюсь. Все это так замечательно, но не может длиться вечно. Прекрасное мимолетно…» – Гай, – пробормотала она, – ты сказал, что не думал… об этом. Но почему? – Не знаю. Но я не думал. Наверно, считал, что ты слишком красива, чтобы быть женщиной из плоти и крови. – Но я настоящая женщина. Самая что ни на есть настоящая. Может, правда, не такая, как большинство других женщин… – Да уж, конечно! – рассмеялся Гай. – А скажи, Джулия, как тебе удается избегать приступов меланхолии, обмороков, обычной для женщин истеричности, наконец? Никогда не встречал таких женщин раньше. Даже не знал, что они существуют… – Они бывают, но очень редко, – сказала Джульетта. – Мне повезло: меня спас дядя, брат моего отца. Он был музыкантом, очень, очень плохим музыкантом, но любил свое дело. Однажды, когда я была совсем маленькой, он услышал, как я пою. И тогда украл меня у родителей и начал шлифовать мой голос. Он знал, что иначе они со мной ни за что не расстанутся. – Ты сказала, он спас тебя. Но от чего, Джулия? – От глупых, бессмысленных вещей. От стыда за свое тело. От нелепой идеи, что будто бы порядочная женщина не должна испытывать никаких чувств. А я любила дядюшку. Он был бездельник и пьяница, да и вообще никчемный человек. Но вот умом его Бог не обидел. Он потешался над всем, во что люди привыкли верить. «Джульетта, – говорил он мне, бывало, – мужчины бегут от добропорядочных женщин, у которых сердце заковано в лед. Но, если женщина заставляет его смеяться весь день и трудиться всю ночь – от такой жены ни один мужчина не уйдет». Мне нравится, когда меня любят и сама я кого-нибудь люблю. А как можно выразить чувства? Пропеть любовную песню? – Да, – ответил Гай, – особенно когда умеешь петь, как ты! – Это правда. Когда я пою, я счастлива. Но не настолько счастлива, как в те минуты, когда ты меня обнимаешь. Пение и все прочее – поцелуи, флирт – это как увертюра. Но ведь должен быть и величественный финал, верно? Поэтому я люблю тебя всем своим существом и не стыжусь этого. Наши тела созданы для наслаждения друг другом. А какую радость приносишь ты мне, мой милый Гай! О-о-о! – Что тебя мучит, Джулия? – спросил Гай. – Я слишком много разглагольствовала о любви. Отпусти меня, Гай. Он повиновался и отступил назад, с удивлением глядя на нее. Она молча повернулась и убежала с балкона. Он остался стоять, насупившись, глядя ей вслед и размышляя: «Какого черта…» Потом он услышал, как из спальни взмыл ее дивный голос, мелодичный, нежный, полный теплоты и манящей прелести… – Den vien, non tardar, о gioja bella*["963], – пела она. Ему даже не доводилось слышать о моцартовской «Le Nozze di Figaro»*["964], он знал всего несколько итальянских слов, но любовный призыв безошибочно угадывался в арии Сюзанны, которую пела Джульетта. Да и слова очень напоминали испанские: – Приди, не медли… Но, даже поняв это, он все равно медлил. Таким наслаждением было слушать ее пение! На следующее утро, когда они ехали в госпиталь в маленькой, с плетеным кузовом двуколке, он наблюдал за ней уголком глаза. Ее лицо было спокойным, очень спокойным и печальным. Внезапно он увидел, как на глазах ее выступили слезы. – Джулия, – спросил он с тревогой, – что тебя мучит? Она обернулась и судорожно сжала его руку, прижавшись к ней лицом. – Я боюсь! – всхлипнула она. – О, Гай, я так боюсь! – Чего же, моя маленькая Джулия? – Потерять тебя! – прорыдала она. Он расхохотался, откинув назад голову, испытывая облегчение от того, что она назвала тот страх, который и он втайне ощущал, сведя тем самым его на нет. – И что же станет причиной нашей разлуки, Джулия, детка? – спросил он смеясь. – Ружейная пуля? Яд? Топор? Она склонила к нему лицо, ее черные глаза затуманились слезами. – Нет, – прошептала она. – Ты меня бросишь… – Боже правый! – воскликнул он. – Что за вздорная мысль! – Совсем не вздорная. Скажи, Гай, ты собираешься на мне жениться? – Конечно, – ответил он не раздумывая. – Вот видишь! – заплакала она. – Этого-то я и боялась! Он с удивлением посмотрел на нее. – Разрази меня гром, если я что-нибудь понимаю, – сказал он. – Ты говоришь и ведешь себя так, будто любишь меня, а когда узнаешь, что я хочу на тебе жениться, ты… – Меня трудно понять, ты прав. Я люблю тебя. Мне кажется, что, если ты бросишь меня, я покончу с собой. Подожди! Не перебивай. Я не могу выйти за тебя замуж, как бы мне ни хотелось этого, а мне этого так хочется, так хочется, Гай! – Так в чем же дело? Ты что, уже замужем? – Нет! Я бы тогда и не посмотрела в твою сторону. Не смогла бы изменить мужу. Это ты во всем виноват! Трудно устоять перед таким мужчиной! – Да уж, – сказал Гай с досадой, – чем дальше, тем понятнее… – Послушай. Если бы я вышла за тебя замуж, ты бы захотел, чтобы мы жили на этой твоей ферме, ведь так? – Это не ферма, а плантация. А в остальном, конечно, так. – А я, если бы вышла за тебя замуж, я бы захотела, чтобы ты повсюду ездил со мной: в Рим, Милан, Париж, Венецию – везде, где я пою. А ты не сможешь, да и не захочешь, чтобы тебя таскали туда-сюда по свету, как марионетку. А я не могу похоронить свой голос на ферме. Кому я там буду петь? – Мне, – сказал Гай. – Со всей душой. Но этого недостаточно. Мой дядюшка не раз говорил, что с таким голосом, как у меня, рождаются раз в сто лет. И что он принадлежит не его случайному обладателю, а всему миру… – Но я – часть этого мира. – Очень, очень малая часть, хотя для меня ты великан, который сидит верхом на горах, а голова его прячется в тучах. Ты не имеешь права просить меня об этом, а я не могу тебе этого дать… – Значит, – сказал Гай с горечью, – тебе хватило трех дней со мной, Джулия? – Нет! Мне трех жизней бы не хватило, не то что трех дней. Мы с тобой могли бы быть вместе только тогда, когда один из нас полностью подчинится воле другого, откажется от своего «я». Спрячь меня от мира на ферме, где только коровы будут слушать мое пение, – и я умру. А если я буду таскать тебя за собой по свету, твоя мужская гордость будет жестоко оскорблена. Ты станешь меня ненавидеть. А я этого не перенесу… – И что же ты предлагаешь? – спросил Гай уныло. – Будем вместе, сколько можем. Прежде чем откроется сезон в «Сент-Шарль», я хотела бы съездить на твою фер… плантацию. Ты говорил, что там чудесно, и мне хотелось бы увидеть ее. А потом я надеюсь, что ты поедешь со мной и, как прежде, никакие узы, кроме любви, не будут связывать нас. Потом, когда я тебе надоем, ничто не помешает тебе покинуть меня… – Или наоборот, – заметил Гай. – Никогда! Ты мне надоешь только тогда, когда мне положат монеты на глаза в мой смертный час. Да и тогда едва ли. Ты, наверно, всегда будешь слышать, как я пою сквозь шум ветра и дождя самые грустные любовные песни на свете. – Ты удивительное создание, Джулия, – сказал Гай ласково. – Конечно. И еще я поняла, что никогда не любила раньше, даже когда думала, что люблю. И знай, мой любимый, сердце мое, я никогда, никогда не полюблю снова и всегда буду принадлежать тебе, суждено ли нам быть вместе или врозь… – Давай не будем говорить глупости, Джульетта. – И не будем больше грустить! – воскликнула она, вновь развеселившись. – Пойдем проведаем беднягу Эдварда, нашу мумию! Малхаузу было уже намного лучше. Но бинты, которые закрывали все его лицо, кроме глаз, еще не были сняты, поэтому говорить он не мог, а разговор без его участия вскоре всем наскучил. Гай видел, что импресарио внимательно за ним наблюдает, и чувствовал страшную неловкость. Однако посещение Килрейна Мэллори доставило им еще меньше радости. Возле него сидела Джо Энн. Глаза ее покраснели от слез, но достоинству и выдержке можно было позавидовать. Гай представил ей Джульетту, но даже тогда, когда они жали друг другу руки и бормотали подобающие случаю любезности, напряжение висело в воздухе. Им хватило пары слов, чтобы возненавидеть друг друга со всей страстью, с какой могут ненавидеть женщины. Причин этому Гай не видел. Ведь Джо Энн назвала его свиньей при последней встрече. Кроме того, она была замужем за этим несчастным искалеченным получеловеком. Она выпустила руку Джульетты с такой поспешностью, как будто только что держала живую змею, и обратилась к Гаю с теплотой, показавшейся ему несколько преувеличенной: – Хочу поблагодарить тебя, Гай, за то, что ты спас жизнь моему мужу. – А разве Килрейн ваш муж? – воскликнула Джульетта с неподдельным изумлением. – Конечно. А почему вы спрашиваете, мисс Кастильоне? – Н… не знаю. Прошу меня извинить, но на борту «Тома Тайлера» он совсем не был похож на женатого человека… – Некоторым женщинам, – сказала Джо Энн с ледяным презрением, – все мужчины кажутся неженатыми, до тех пор пока они не прояснят ситуацию… – Согласна с вами, – улыбнулась Джульетта. – Но, к счастью, о вкусах не спорят. А ваш муж показался мне неженатым вот почему: просто мне трудно вообразить, что какая-нибудь женщина может им всерьез заинтересоваться, тем более такая привлекательная, как вы… – О! – задохнулась от возмущения Джо Энн. – Мне никогда… – Девочки, девочки, – рассмеялся Гай, – вы плохо себя ведете. И, если вы не прекратите эту ссору, придется вас утихомиривать при помощи трости. – Он повернулся к неподвижно лежавшему на кровати Килу. – Как чувствуешь себя, старина? – Как в аду, – проворчал Кил. – Ничего не болит, но это самое скверное. Если бы хоть болело, можно было бы на что-то надеяться. Боже милосердный, Гай! Как жить теперь? Я калека и не смогу управлять имением… – Джо справится, – сказал Гай. – Единственное, что ей придется делать, – отдавать необходимые распоряжения молодому Стивенсу. Фэроукс дает хорошие урожаи, а что касается долгов… – Он вытащил расписки и разорвал их, швырнув обрывки на постель. – Так-то будет лучше, парень… – Разрази меня гром, Гай… – выдохнул Килрейн. Джо Энн вдруг встала и подошла к Гаю. – Я предпочла бы не принимать этот… этот щедрый дар, – сказала она. – Но, очевидно, мне придется смирить свою гордость. У нас просто нет иного выхода. Прости меня за то, что я наговорила тебе в прошлый раз. Я была не права. Она мельком искоса взглянула на Джульетту, потом наклонилась и поцеловала Гая, но не в щеку, как он ожидал, а в губы. В следующее мгновение Джо Энн оказалась в далеко не нежных объятиях Джульетты и тщетно пыталась вырваться из них. Не успел Гай вскочить с места, как Джульетта наотмашь ударила ее по щеке. С лица Джо сошла вся краска, только отпечаток пятерни Джульетты, сначала выделявшийся белизной, начал медленно краснеть. – Не смейте его целовать! – крикнула Джульетта. – Даже в щеку, в знак благодарности. Он мой, весь мой, запомните это раз и навсегда, и если какая-нибудь женщина осмелится его коснуться… – Джулия, – спокойно сказал Гай, – остановись, довольно! – Нет, – прорыдала она, – и не подумаю молчать, это уж чересчур! Когда я вошла, я сразу заметила, как она на тебя поглядела! Все они друг друга стоят, эти невозмутимые блондинки! С виду-то они холодны как лед, а внутри… – …такие же, как все женщины, – тихо закончила за нее Джо. – Прошу прощения, мисс Кастильоне, за то, что поцеловала вашего… вашего возлюбленного. Готова забыть эту пощечину. Как вы сами говорили, о вкусах не спорят, так же как и о нормах поведения. Что касается меня, то я никогда не опущусь до публичного скандала. Желаю вам счастья с ним: хоть вкусы и разнятся, если позволите мне еще раз вас процитировать, однако в этом случае, надо признать, вкус вам не изменил. Джульетта отступила назад. Ее взгляд, обращенный на Джо Энн, выражал раскаяние. – Мне стыдно, – прошептала она. – Я вела себя недостойно, а ваше умение держать себя в руках еще более это подчеркнуло. Именно самообладание помогло вам, англосаксам, завоевать мир, – ваше sangfroid*["965]. Нам, латинянам, это не удается. У нас в крови солнце и музыка, вино и огонь. Мы или поем от радости, или вне себя от гнева. Наверно, это слабость. Простите меня, пожалуйста. – Охотно, – сказала Джо Энн, – хотя бы потому, что вы любите его. Ведь вы его любите? По-настоящему любите? – Да, – ответила Джульетта. – Очень-очень сильно. – Он заслуживает вашей любви. Надеюсь, он будет счастлив с вами. В Мэллори-хилле давным-давно не хватает хозяйки. – Я… – начала Джульетта, но не смогла закончить. Чувствуя на себе испытующий взгляд Джо Энн, она запнулась и повернулась к Гаю. – Гай, не отвезешь ли меня домой сейчас? – Хорошо. До встречи в Фэроуксе, – попрощался он с Джо Энн и Килом. Килрейн приподнялся на локтях, глядя им вслед. – Ах ты, счастливчик, сукин сын! – сказал он. Гай знал, что, решившись привезти Джульетту в Мэллори-хилл, он, выражаясь классическим испанским слогом, дает повод для самого громкого скандала за всю историю штата. Но его это ничуть не беспокоило. На нем не лежал груз вины перед каким-то мужчиной, так же как и Джульетта не была виновата перед какой-либо женщиной. Кроме того, он признавал, что тот, кто обладает таким голосом, как у нее, не обязан стеснять себя теми же правилами, что все прочие смертные. Поэтому они сошли с парохода на пристани Мэллори-хилла за десять дней до открытия сезона в театре «Сент-Шарль», дату которого объявил вызывавший сострадание своими многочисленными шрамами Малхауз. Пять дней, которые они провели здесь, стали для них днями ничем не омраченного счастья. Они вместе объезжали плантацию, бродили по саду, взявшись за руки, каждую ночь наблюдали с большого балкона, как луна погружается в воды реки. Джульетта пришла в восторг от Никиабо и Сифы и умоляла Гая взять их с собой, если он надумает сопровождать ее в гастрольных поездках. Днем она готовилась к открытию сезона, репетируя роль Лючии из оперы Доницетти «Лючия де Ламермур». Аккомпанировал ей Ганс Хейнкле, юный немецкий музыкант из тех степенных, спокойных баварцев, что бежали от революции 1848 года и в 1850-м, после двух лет скитаний, внезапно и необъяснимо осели на болотистых неосвоенных землях к северу от плантации Фитцхью Мэллори. Итак, в долгие полуденные часы Мэллори-хилл оглашался звуками чудной красоты. Гай, который никогда в жизни не слышал настоящей музыки, если не считать жалких попыток безголосых дочек соседских плантаторов, церковных гимнов и негритянских духовных песнопений, понял наконец, как много он потерял. Джульетта была обворожительна, восхитительна, божественна. У него не было сомнений, что ни одному мужчине не доводилось знать женщины, подобной ей, любившей его в сонной тьме с одержимостью языческой богини, певшей своим нежным, прелестным золотистым голосом: «Andante, molto calmo*["966], любимый мой! Lento, lento – allegro modekato*["967], любовь моя, – sostenuto*["968]. – Allegro con spirit*["969] – о, еще, еще! Molto vivace, allegro vivo*["970] – как бы glissando*["971] – о любимый! Финал, грандиозный финал! О-о-о!» – Чем ты, черт возьми, сейчас занимаешься, – рассмеялся Гай, когда наконец обрел дар речи, – управляешь оркестром? – О, si!*["972] И какую чудесную, дивную музыку исполнили мы с тобой вместе, правда, любимый? – Увертюра к бессмертию, мне кажется, это можно назвать так. Но и она должна была кончиться. И так случилось, что в конце прозвучала фальшивая нота. За день до отъезда Джульетты в Нью-Орлеан Гай сидел на балконе и слушал, как она репетировала в гостиной, когда подъехала Джо Энн Мэллори. Он встал и спустился вниз. – Я полагаю, – сухо сказала Джо Энн, – эта женщина все еще здесь? – Да, – спокойно ответил Гай. – А что, есть возражения? – Нет. Это не мое дело. Но ты не можешь так наплевательски относиться к общественному мнению. Она, конечно, красива, но тебе-то должно хватать простой порядочности, чтобы жениться на ней, а не… – Я просил ее об этом, – тихо сказал Гай, – но у меня есть соперник, которого я не в силах одолеть… – Соперник? – воскликнула Джо. – Ну и жалкое, должно быть, создание, если судить по тому, что он позволяет тебе вытворять! – Это не мужчина. Это ее голос. Она не может отказаться от своей карьеры. А чтобы ездить с ней по свету, мне придется все бросить… – Тогда ты просто дурак! – выкрикнула Джо Энн, кипя от ярости. – Если б она действительно тебя любила, она бы… – Погоди минутку, Джо, – сказал он серьезно. – Пойдем-ка со мной… Он повел ее вверх по лестнице. Когда они достигли балкона, Джульетта как раз начала ту проникающую в душу арию, где Лючия, уже сошедшая с ума, воображает, что вышла замуж за своего Эдгара; ее голос, полный жалкого фальшивого веселья, взмывает ввысь, он невероятно красив, мелодичен, кристально чист: «А1 fin son tua, al fin Sei mio*["973]», – и кажется, что сам воздух дрожит от какой-то невыносимой, но подавляемой грусти. – О Боже! – прошептала Джо Энн. – Это… это убивает, рвет на части! – Какое я имею право оборвать это пение, Джо? Скажи мне, разве есть у меня на это право? Пусть даже ради Мэллори-хилла, десятка тысяч Мэллори-хиллов, даже ради моих будущих сыновей, если они у меня будут. Ну-ка, ответь мне! – Нет, – смиренно ответила Джо. – Хуже того, ты ее никогда не бросишь. Тебе бы хватило просто слушать ее, даже если б она не была так дьявольски красива! – Джо… – сказал Гай. – Прости. Я не должна была так говорить. Я… я больше ни в чем не уверена. Когда ты так внезапно вернулся… это меня совсем выбило из колеи. Признаю это. Правда, тогда у меня был Кил и я его любила… И продолжаю любить, но теперь… – А что теперь? – Меня еще больше гложет какое-то беспокойство. Просто места себе не нахожу. Но только о чем мне беспокоиться? У меня есть Кил, по крайней мере, то, что от него осталось, у тебя есть она. Так что теперь, видно, пришло время нам распрощаться навсегда… Но прощания не получилось. В день открытия сезона Гай впервые в жизни слушал оперу. Он засыпал всю ее артистическую уборную розами: их было так много, что пришлось убрать часть цветов, чтобы Джульетта могла переодеться. Он сидел в зале, слушая ее чудесный голос, и сердце говорило ему (он понял это окончательно и определенно), что она никогда не будет по-настоящему принадлежать ему – ведь она была достоянием мира и вечности. К последнему акту у него не осталось в этом ни малейших сомнений. Он сидел неподвижно в течение всей сцены сумасшествия, околдованный страшной, мучительной силой искусства Джульетты – ее пением и блестящей игрой, почти столь же великолепной. Когда она начала заключительную арию, полную скорби «Spargi d'amaro pianto, il mio terrestre velo»*["974], – он эхом повторил эти слова – ведь она объяснила ему, что они значат: да, моя Джульетта, брось цветок на могилу нашей любви, но душа моя будет печалиться и страдать, пока я жив… Он подозвал капельдинера, попросил его принести карандаш и написал на обратной стороне программы: «До свидания, моя маленькая Джулия. Я не в силах разлучить тебя с твоим волшебным миром, но не могу и тащиться за тобой ненужным грузом, чуждый этому миру… Так будет лучше. Прости меня и знай, что сердце мое навсегда осталось с тобой». Подписал он записку просто: «Гай». Через час он уже был на борту парохода, отплывавшего вверх по реке. Два дня спустя оперная труппа прекратила представления, после того как примадонна Джульетта Кастильоне упала в обморок на сцене посреди третьего акта. Но Гай узнал об этом лишь пять месяцев спустя, когда получил из Нью-Йорка письмо от Эдварда Малхауза. Словно следуя взаимному негласному договору, он и Джо почти не встречались в течение этих пяти месяцев. В последнее время они и вовсе не виделись. И вот настал тот роковой день, когда Элизабет Мелтон, чья беременность была уже очевидной, заявилась в Фэроукс, разыскивая Килрейна. Этот день выдался плохим с самого начала. Килрейн, сидевший в своей коляске, был угрюм, раздражителен. Джо поссорилась сначала с ним, а потом с отцом. Она закричала на него: – Бога ради, папа, иди к себе наверх и оставь меня в покое! – Пойду, – отвечал Джеральд Фолкс дрожащим голосом. – Но не забывай, что я для тебя сделал: заполучил для тебя это имение, даже если я буду гореть за это в аду… – Замолчи! – проговорила Джо Энн, и Джеральд поспешно убрался. Через час негр объявил о приходе Лиз Мелтон. Она была пьяна. – Я хочу видеть Килрейна Мэллори, – заявила она напрямик. – Боюсь, что вам это не удастся, – сказала Джо Энн. – Он очень болен и… – Болен! Скажи пожалуйста! После того, как бросил меня в интересном положении без гроша! Джо Энн в изумлении посмотрела на нее. – Вы говорите, – прошептала она, – что мой муж несет ответственность за ваше состояние? –Вы совершенно правы, моя дорогая, – сказала Лиз, – и я добьюсь, что он будет платить, платить и платить, до тех пор пока у него ничего не останется: ни дома, ни плантации, ни даже такой бело-розовой душки-жены, как вы! Ему придется признать моего ребенка, взять его в этот дом, воспитать, чтобы он мог занять подобающее ему место в жизни, или… Здесь она смолкла, увидев наверху, в конце лестничного пролета, Кила, сидевшего в своей коляске. Очень медленно, будто во сне, Джо Энн начала подниматься вверх по ступенькам. Она остановилась на лестничной площадке, глядя ему в глаза. Увидев в них ответ на свой безмолвный вопрос, она содрогнулась от отвращения. – Так, значит, – прошептала она, – это правда, Кил? Ты… ты даже этого мне не оставил. Уж в этом-то я не сомневалась – в твоей верности. Это помогало мне переносить все остальное: твою ложь, пьянство, азартные игры… – Джо… – Непритворная боль прозвучала в голосе Килрейна. – Не беспокойся. Я тебя не брошу. Но только потому, что не имею на это права. Не будь ты калекой, я бы… – Джо, Бога ради! – воскликнул Килрейн. – Нет, Кил. Я останусь и буду о тебе заботиться не из любви к Богу. И не из любви к кому-нибудь еще. Я даже смогу сохранить доброе к тебе отношение, хотя бы внешне. Но ты не должен заблуждаться, Кил Мэллори, – как бы я ни была добра в будущем, никогда не забывай, что я ненавижу тебя от всего сердца за все то, чего ты лишил меня, за то, что ты украл у меня лучшие годы жизни! – Вот видишь, ублюдок поганый! – заорала Лиз, стоявшая внизу. – Ты уже начал получать то, что тебе причитается. Бог не любит таких пакостников и… Джо резко обернулась на звук ее голоса и в то же мгновение, услышав отчаянный скрип колес по ковру, взглянула назад, но было поздно: кончики ее пальцев лишь коснулись кресла, не удержав его. Подпрыгивая, каталка с грохотом пронеслась по бесконечной череде ступенек, опрокинулась, потеряла колесо, а Кил все падал и падал вниз, ударяясь о ступени, переворачиваясь, и наконец остался лежать у самых ног Лиз Мелтон. Все было кончено. Когда Джо Энн подбежала к нему, пронзительно крича: «Кил! Кил!», все еще хватая руками воздух, из его рта уже била фонтаном кровь. Невыразительным, почти беззвучным голосом она позвала негров. Бегства Лиз Мелтон она даже не заметила. Его отнесли наверх, в спальню, и один из негров поскакал за доктором. Она провела два часа у постели Кила, вытирая влажным полотенцем его уже застывшее лицо, пока наконец не приехал доктор Хартли. Врачебный осмотр занял не более минуты. Доктор, полный печали, выпрямился. – Мне очень жаль, миссис Мэллори, – произнес он, – но ваш муж умер. Джо молча встала и спустилась вниз по лестнице. Она приказала заседлать своего жеребца и отправилась в Мэллори-хилл. У нее не было ни малейшего представления, что она скажет при встрече Гаю Фолксу, но ей и не пришлось ничего говорить: Гай в это время вместе с пигмеями был на борту парохода, идущего вверх по реке в Цинциннати, откуда он мог добраться до Нью-Йорка поездом. Утром предыдущего дня он получил письмо и сразу же поскакал к Фитцхью, чтобы попросить его приглядеть за Мэллори-хиллом несколько дней, пока Уиллард Джеймс, все еще проводящий медовый месяц в Нью-Орлеане, не будет извещен телеграммой. Гай знал, что Уилл сможет приглядеть за имением в его отсутствие. Письмо он держал в руке, перечитывая его в сотый раз:«Джульетта потеряла двадцать фунтов веса. Она не нашла в себе сил смириться с тем, что вы ей написали. Она не ест, не спит, ко всему потеряла интерес. В конце этого месяца мы собираемся отплыть в Европу. Ради Бога, мистер Фолкс, приезжайте к ней, спасите для человечества этот дивный голос! Я не моралист. Меня не интересует, какие у вас были отношения, какими они будут впредь. Единственное, что я знаю, – в первый ее вечер в Нью-Орлеане она пела так, как никогда ни до ни после. Вся моя жизнь связана соперой, но в тот вечер я рыдал, не стыдясь своих слез, – это было настоящее чудо, и без вас оно бы не случилось. Не говоря уже о том, что, если она умрет (а она непременно умрет), вы станете убийцей, вы не имеете права лишать миллионы людей радости слышать ее голос, а певица с таким голосом рождается чрезвычайно редко! Знайте, что на следующий день после вашего отъезда она упала в обморок на сцене во время спектакля. Я видел вашу записку. Ваши чувства благородны, но умными их не назовешь. Умоляю, заклинаю вас, приезжайте. Эдвард Малхауз».
Через две недели нью-йоркские любители оперы четырнадцать раз вызывали Джульетту на бис, так потрясающе исполнила она партию Лючии, но, когда занавес поднялся в пятнадцатый раз, сцена была пуста. Джульетта уже убежала за кулисы и истерически рыдала в объятиях Гая Фолкса.
Глава 24
Гай сидел у окна своего номера в лондонском отеле «Королевское оружие», вглядываясь в серую пелену дождя. «Я все ей скажу сегодня вечером», – думал он мрачно. Но знал, что не скажет. Да в этом и не было необходимости. Джульетте, женщине умной, с самого начала было ясно, что когда-нибудь наступит конец. И все время, начиная с их отплытия из Нью-Йорка в ноябре 1853 года вплоть до этого холодного дня февраля 1856 года, они готовили себя к этому неизбежному концу. «Она не права в одном, – размышлял Гай. – Я не стану ее ненавидеть. Я люблю ее по-прежнему, даже больше, чем раньше. Но я не могу вынести эту праздность. Это просто выше моих сил. Она занята делом, имеет успех, счастлива, а я… я потерял почти три года – и ради чего?» Но это было неправдой: три прошедших года не были для него потеряны. Нескончаемые путешествия – Флоренция, Рим, Милан, Венеция, Ницца, Бордо, Лион, Париж, Вена, Мюнхен, Берлин – отшлифовали его, стерли последние следы былой неотесанности и сделали, хотя сам он об этом никогда не думал, светским человеком. Ведь праздность имеет и свою положительную сторону, особенно в сочетании со своего рода духовным голодом, а Гаю Фолксу он был присущ с самого рождения. Он посещал музеи и картинные галереи во всех крупных городах и стал чуть ли не экспертом в области живописи эпохи Возрождения, очень много читал и (здесь пригодились уроки, полученные когда-то у Хоуп Брэнвелл) удачно выбирал книги. К тому же он знал теперь о музыке, будучи просвещенным слушателем, куда больше, чем Джульетта. Для нее мир музыки начинался и заканчивался оперой. А Гай, познав ее волшебство благодаря Джульетте, пошел дальше, открыв для себя симфонию, камерную музыку, пьесы для скрипки и фортепьяно. Он пытался брать с собой на концерты Джульетту, но обычно она была слишком занята и утомлена бесконечными репетициями, а чаще всего ей было просто неинтересно. «Человеческий голос, – безапелляционно заявляла она, – совершенный инструмент. Все остальное мне быстро надоедает». «Почему же, черт возьми, она не идет, – подумал он. – В такую-то погоду…» Однако погода не помешала ему увидеть многое в Лондоне: Тауэр, Вестминстерское аббатство, Музей восковых фигур мадам Тюссо, Национальную галерею на Трафальгар-Сквере, Национальную портретную галерею в Сент-Мартине, Виндзорский замок, – словом, все, что привлекает туристов. Он и сам был туристом, усердным и любознательным, потому что знал: другой возможности увидеть все это у него, вероятно, не будет. Джульетта была сейчас в Ковент-Гардене, готовила роль Джильды в «Риголетто» Верди к своему первому выступлению в Лондоне. Она нашла наконец свой конек, то, что должно было принести ей всемирную славу: она, Кастильоне, отныне собиралась исполнять партии в операх Джузеппе Верди. Они встречали этого композитора в Венеции в 1854 году. Верди, которому только-только перевалило за сорок, им обоим очень понравился. Однако интерес Джульетты к Верди не был основан только на личной приязни: там, где дело касалось оперы, она обладала прекрасным чутьем и сразу поняла, что перед ней гений. «Пожалуй, надо выйти погулять, – размышлял Гай, – неизвестно, когда она вернется, уж лучше бродить под дождем, чем сидеть здесь и предаваться унынию. Надеюсь, она догадается как следует укутать Никиа и Сифу. Бедняги, этот климат совсем не для них…» Гай достал из шкафа пальто, шляпу и зонтик. Когда он спускался по лестнице, ему пришла в голову мысль, это была даже скорее не мысль, а ощущение: «Лондон кажется мне таким знакомым, как это ни смешно звучит. Как будто я всегда знал этот город. Идешь по улицам, которых никогда не видел, и чудится, что каждый камень говорит с тобой. Стоишь перед дверями, собираясь постучать в них, и знаешь, что, если тебе, чужестранцу, откроют и ты войдешь в комнаты, чье убожество, бедность, грязь покажутся тебе невыносимыми, ты все же воспримешь их спокойно, ведь это убожество, бедность и грязь… в которой жил мой дед. Да нет же! Он был лорд, сын баронета. Странное впечатление от тех писем, что передала мне Марта Гейнс… Ясно, что сын баронета должен был бы выражаться более изящным слогом. А уж орфография старого Эша и вовсе ужасна…» Вдруг он остановился как вкопанный посреди лестницы. Он в Лондоне уже две недели, а еще ни разу не подумал об этом. Целых две недели бродит по городу, из которого ведет свое начало клан Фолксов, а таки не удосужился вернуться к истокам и как можно больше разузнать о своем происхождении. Он спустился вниз и постучал в дверь хозяина гостиницы. Если кто-то и мог рассказать ему обо всем, что касается знати – крупной и мелкой, так уж, конечно, хозяин «Королевского оружия». Этот человек мог бы быть создателем самого понятия «снобизм», обладая врожденным умением отличать людей благородного сословия, что явно выдавало в нем бывшего лакея. В нем была и еще одна лакейская черта: плохо скрытое презрение к людям, чье социальное положение не было достаточно высоко, и к тем, чье происхождение казалось ему сомнительным. Не успел Гай войти в кабинет хозяина гостиницы, как тот встал: он давным-давно усвоил, что самая утонченная форма высокомерия – преувеличенная вежливость. К тому же это обеспечивало ему защиту в том случае, если бы он ошибся, что, надо сказать, случалось крайне редко. У него был отличный нюх, и, когда дело касалось деликатных проблем происхождения и связанных с ним аристократических манер, он безошибочно чуял тот легкий, едва уловимый аромат разложения, который при этом обычно присутствует. Именно это смущало его в Гае: манеры были налицо, аромат отсутствовал. Джульетта – вот кто мог помочь ему разрешить это противоречие, облегчить его задачу: хозяин «Королевского оружия» умел видеть в людях то, что не было заметно менее искушенному глазу. Но в то же время ему не хватало широты взгляда, чтобы видеть различие между оперной певицей, хористкой и проституткой. – Что вам угодно, – спросил он, сделав столь долгую паузу, что ее можно было счесть едва ли не вызывающей, прежде чем добавил, – сэр? Гай этого даже не заметил. Он был слишком поглощен взятой на себя миссией. – Есть ли в Лондоне люди по фамилии Фолкс? – спросил он. – Да, сэр. Думаю, что их не одна сотня. Вы, видно, ищете родственника, о котором давно нет никаких известий? – Именно так. Мой дедушка родом из Англии. Его звали Эштон Фолкс, сэр Эштон Фолкс из Хантеркреста в графстве Уорвик. Просто хочу узнать, существует ли еще этот род. Да что, собственно, вас беспокоит, мистер Дентон? – Не знаю, о чем вы, сэр. Может быть, вы чем-то недовольны: скажем, номером или обслуживанием, я был бы рад… – Нет, – учтиво сказал Гай, – все замечательно. Мне нужен лишь простой ответ на простой вопрос: жив ли еще кто-то из членов этой семьи? – Конечно! Сэр Хентон Фолкс, баронет, член парламента, кавалер ордена Британской империи и Креста Виктории, его жена леди Эстер, урожденная Форбс, дочь герцога Форбса, юный Хентон-младший, наследник, его брат Брайтон, говорят, что он собирается принять сан, обычная, знаете ли, вещь для вторых сыновей, леди Мэри, единственная дочь, и несколько кузенов, очень богатых, но не титулованных. Владеют фабриками, знаете ли… – Хорошо, – сказал Гай. – А теперь скажите, где они живут? – В Хантеркресте, конечно. Но в это время года они должны быть в своем городском доме. Это в Кенсингтоне, на Эрлз Корт-роуд, я полагаю. Если хотите послать им весточку, я был бы рад… – Нет, спасибо, – сказал Гай. – Я просто заеду к ним. Дентон воззрился на него: его лицо перекосилось и выражало неподдельный ужас. – Но, сэр! – вскричал он. – Так не принято делать! – Знаю, – улыбнулся Гай. – Это одно из моих любимых развлечений, Дентон, – делать то, что не принято. И вам когда-нибудь стоит попробовать. Увидите, что польза будет огромная, расширите свой кругозор, по крайней мере. Так или иначе, спасибо…Визитная карточка Гая с магическим словом «Фолкс» открыла ему двери дома, а дворецкий, объявляя о нем, сообщил шепотом: «Видно, что это джентльмен, сэр…» Сэр Хентон обернулся к жене. – Ну что, Эстер? – спросил он. – Не знаю, – сказала леди Эстер. – Так вы говорите, он американец, Роусон? – Да, леди, – ответил дворецкий, – по его акценту это сразу заметно, но если леди позволит мне высказать свое мнение: образование он получил за границей. Его манеры слишком хороши для американца… – Впустите этого малого, Роусон, – рассмеялся юный Хентон. – Он, вероятно, с поручением из Нью-Йорка. Если это так, то нас ждет развлечение сегодня вечером, чему я, например, очень рад. – Прими его, отец! – воскликнула его пятнадцатилетняя сестра. – Все это так таинственно! – Хорошо, – сказал сэр Хентон. – Роусон, пусть этот джентльмен войдет. Гай был, конечно, безупречно одет. Да и общаться с представителями младшего поколения европейской знати ему приходилось немало: все они полагали, что сезон охоты на молодых и красивых оперных певиц открыт круглый год – неважно, одиноки они или замужем, сопровождает их кто-то или нет. Научившись отражать их наскоки с юмором и изяществом, Гай приобрел умение держать себя в обществе, что пришлось теперь весьма кстати. – Надеюсь, вы простите меня за это вторжение, – сказал он с легкой улыбкой, – и, по крайней мере, позволите объяснить цель моего визита… – Я все знаю, – рассмеялся юный Хентон. – Вы давно пропавший кузен из Америки! – Хентон! – строго прикрикнула на него леди Эстер. – Я и сам не знаю, – сказал Гай. – Для этого и приехал, чтобы выяснить. – Пожалуйста, присядьте, мистер Фолкс, – обратилась к нему леди Эстер. – Так, говорите, вы наш родственник? – Нет, леди, едва ли. Я уже говорил, что не знаю. Мой дед Эштон Фолкс и его брат Брайтон были родом из Хантеркреста в графстве Уорвик. В доме моего деда в Миссисипи две стены увешаны картинами, часть из них относится к временам Реставрации. Некоторые из людей на этих картинах очень похожи на вас, сэр, – Гай кивнул головой сэру Хентону, – и даже на вашего сына. Про дам труднее сказать что-то определенное: даже тогда на женских портретах лесть преобладала над подлинностью. Не осталось никаких бумаг, документов. Правда, есть кое-какие драгоценности, но не думаю, что они могут служить доказательством… – Хм-м-м, – задумчиво протянул сэр Хентон. – Была какая-то история, связанная с кораблекрушением у берегов Каролины, году в тысяча семьсот восьмидесятом или тысяча семьсот восемьдесят пятом, не помню точно. – Не кораблекрушение, папа, – взволнованно воскликнула Мэри, – а пиратское нападение! Все это записано в наших семейных хрониках. Перси, брат нашего прадедушки, был назначен губернатором Антигуа, одного из островов в Карибском море. Он плыл со всей своей семьей: жена, которую звали Мэри, как меня, и двумя сыновьями, Эштоном и Брайтоном… – Скажи пожалуйста! – воскликнул Хентон II. – Ну и отпетая была шайка, должно быть… – Не перебивай, Хентон, – мягко пожурила его мать. – Продолжай, Мэри, дорогая… – Случилось так, уж не знаю почему, что они увидели землю, но это была не Каролина: они оказались за сотни миль от того места, куда плыли. Навигация тогда была недостаточно точной наукой… – Ну уж не настолько неточной, – заметил Гай. – Я всегда догадывался, что они забрались так далеко на север по какой-то другой причине… – Возможно, так оно и было, – сказала Мэри. – Мы с Тарлетонами в родстве по женской линии. А Банастр Тарлетон командовал кавалерией в Каролине. А может, они везли какое-то послание лорду Карнуоллису, так или иначе, но судно, на котором плыл Перси, «Русалку», атаковал американский капер и сильно повредил его. Затем началась буря, и он затонул. Записи говорят, что весь экипаж погиб. Рассказ вашего деда имеет к этому какое-нибудь отношение, мистер Фолкс? – Да. Отец говорил мне, что дед попал в кораблекрушение у берегов Южной Каролины, там, где она граничит с Джорджией. У дедушки вышел страшный спор с братом из-за фамильных картин: Эштон хотел их спасти, а младший брат считал, что это просто глупо – спасать картины. Вся эта часть побережья была захвачена революционной армией, и они не могли добраться до британских войск. Как видно, им понравилась эта страна, потому что они остались в ней жить. Дедушка в конце концов обосновался в штате Миссисипи и сильно разбогател, но до самой смерти он больше всего гордился тем, что он сын лорда. – Хм-м-м, – задумчиво протянул сэр Генри. – Хантеркрест. Пропавшие картины из северного флигеля. Кораблекрушение. Сдается мне, молодой человек, что мы все-таки родственники. – Прекрасно, – сказал Гай. – Рад, что это обстоятельство выяснилось. Был счастлив познакомиться с вами всеми. А теперь прошу меня извинить: пора возвращаться в гостиницу. – Нет, постойте! – вскричал юный Хентон. – Я не могу позволить вам вот так просто уйти отсюда, ведь мы так и не пришли к согласию по главному вопросу… – Что вы имеете в виду? – То, чего вы так старательно избегали, – сказал Хентон. – Если вы сумеете доказать достоверность этой довольно странной истории, то тогда или ваш отец, если он жив, или вы сами должны иметь законные права на фамильное имение Фолксов. Ведь наш прадедушка был младшим братом вашего прадедушки, да вы и сами, наверное, об этом догадались. А в Англии младшие братья не наследуют, по крайней мере, до тех пор пока у владельца титула живы сыновья. Поэтому я хотел бы знать, собираетесь ли вы заявить о своих претензиях? – Нет, – спокойно ответил Гай. – Зачем мне это? – Так вы не хотите стать сэром Гаем Фолксом, владельцем Хантеркреста? – спросил сэр Хентон. – Мне никогда не доводилось бывать в Хантеркресте, – сказал Гай медленно, – но, повидав немало английских имений, склонен думать, что любая из двух моих плантаций значительно больше и уж, конечно, куда доходнее. Я говорю все это не из хвастовства, а чтобы внести ясность. Мой отец умер, я не женат. В Америке у меня дела, которые не позволяют мне даже думать всерьез о переезде в Англию или еще куда-то. Титул – украшение, без которого я прекрасно смогу обойтись. Он повернулся к юному Хентону. – Надеюсь, вы мне верите, сэр, – тихо сказал Гай. – Я пришел сюда из чистого любопытства. Человеку иногда хочется узнать о своих предках… Хентон II стоял рядом, внимательно его разглядывая. – Клянусь честью, я верю вам! – внезапно воскликнул он и протянул руку. – Было очень приятно познакомиться с вами, Гай Фолкс. Кстати, вы умеете стрелять? – Немного, – ответил Гай. – А что? – Тогда я приглашаю вас в Хантеркрест – как только погода прояснится, мы устроим охоту на куропаток. Вы ведь еще не уедете к тому времени, не так ли? – Думаю, что нет, – ответил Гай. – Спасибо за приглашение. Еще раз прошу извинить меня за это вторжение. Спокойной ночи вам всем… – Ни о каком вторжении не может быть и речи, – сказал сэр Хентон Фолкс. – Добро пожаловать в любое время…
Вернувшись в гостиницу, Гай не успел еще и ключа в замке повернуть, как услышал голоса Джульетты и Малхауза, кричавших друг на друга. Он знал, о чем они спорят, потому что это продолжалось чуть ли не целый год. 6 марта 1853 года в «Театре ла Финче» в Венеции состоялось первое и последнее представление «Травиаты» Джузеппе Верди. Малхауз, будучи импресарио, не собирался рисковать репутацией Джульетты, пребывавшей сейчас в зените славы, ради успеха в опере, постановка которой, несомненно, вызвала бы уничтожающий отклик любого влиятельного критика. Джульетта была полна решимости петь партию Виолетты, что позволило бы ей (поскольку либретто оперы было написано по знаменитой «La Dame aux Camelis»*["975] Дюма-fils*["976]) не только носить сногсшибательные платья, но также благородно и жертвенно умереть на сцене от туберкулеза. Как и все примадонны, Джульетта обожала сцены смерти. Она всюду таскала в своем ридикюле вырезку со статьей из французской газеты, в которой критик клялся, что проникновенное исполнение ею сцены смерти в беллиниевской «Норме» могло бы заставить рыдать каменные статуи, украшающие Парижскую оперу. – Да, спектакль провалился! Провалился! – повторяла она. – Конечно, провалился! Но неужели ты ни разу не мог подумать своей твердолобой, глухой к оттенкам звука головой, почему? – Я и так это знаю, – проворчал Малхауз. – Оперная публика никогда не примет спектакль из современной жизни. Им нужно, чтобы воины размахивали копьями, чтобы бряцало оружие, шуршали шелка. – Привет! – со смехом воскликнул Гай, распахивая дверь. – Я услышал ваш спор, еще подходя к Пикадилли. Джулия, нельзя рисковать своим голосом, крича на Эдди. Она вскочила и крепко поцеловала его. – Давай-ка, любовь моя, помоги мне убедить Эдди, этого упрямого мула, который не хочет слышать никаких доводов… – Но «La Traviata»*["977] действительно провалилась, – мягко заметил Гай. – И ты о том же! Мне хочется ударить тебя, Гай Фолкс! Только ты в ответ ударишь меня в два раза сильнее, и не по лицу, а по тому, на чем сидят… – Хорошо, что ты это понимаешь, – сказал Гай с насмешливой серьезностью. – О, я люблю тебя! – воскликнула она без всякой связи с предыдущим и поцеловала его еще раз. – Так на чем я остановилась? – На середине «Травиаты» – ты так раскашлялась, что, казалось, твои легкие разорвутся, – поддразнил ее Гай, а потом спросил, переходя на серьезный тон: – Кстати, а как там пигмеи? – Прекрасно. Доктор сказал, что это всего лишь простуда. Он говорит, что в Лондоне довольно много чернокожих и никто из них, вопреки твоим опасениям, не умирает от чахотки. Я дала им касторовое масло, апельсиновый сок и бренди, а потом уложила в постель. Завтра они будут совсем здоровы. – Хорошо, – сказал Гай. Эти два маленьких африканца были ему очень дороги. Но Джульетта и не думала сдаваться. – Послушайте оба, – сказала она, с новым пылом бросаясь в бой. – «Травиата» провалилась, потому что они отдали роль Виолетты Сальвини-Донателли, а она толста, как корова, нет, как гиппопотам, петь не умеет, в одежде героини выглядит ужасно и, конечно, заставила зал смеяться, когда пыталась изобразить смерть от чахотки. Они должны были бы догадаться изменить либретто – чтобы ее кто-нибудь застрелил. Но и это бы не помогло. Трудно поверить, что пуля дошла бы до ее сердца сквозь слой жира. А теперь отвези меня… – С удовольствием, – пробормотал он. – Позже, – поддразнила она его, – когда закончу спор. Я могла бы ради сцены смерти наложить голубую пудру на лицо и перестать есть на некоторое время, чтобы похудеть на несколько фунтов… – Не смей этого делать! – рявкнул Гай. – Я помню, на что ты была похожа, когда я приехал в Нью-Йорк! – Это твоя вина, – сказала Джульетта. – Мне хотелось умереть, чтобы стать тебе вечным укором! – Она повернулась к Малхаузу. – Я смогла бы сделать это, Эдди, смогла бы! И я добьюсь успеха! – Эти современные платья – вот что больше всего меня тревожит! – простонал Малхауз. – Послушай, Эд, а почему бы не перенести действие на пару веков назад? – предложил Гай. – Тогда будут к месту все эти шпаги, шелка, манжеты и кружева, о которых ты говорил… Они оба уставились на него в изумлении. – А знаешь, Гай, – внезапно воскликнул Эдвард, – это чертовски хорошая идея! Джульетта схватила его за талию и начала кружиться по комнате, как дикарка, распевая от полноты счастья застольную песню из «Травиаты». – Пожалуй, этим стоит заняться, – сказал Эдвард, пытаясь изобразить улыбку на своем обезображенном шрамами лице. «Бедняга, – подумал Гай. – Теперь ни одна женщина не посмотрит в его сторону…» Джульетта склонилась над Эдвардом и поцеловала его в покрытую рубцами щеку. – Ты ведь сумеешь это сделать, правда, Эдди? – Думаю, что да, – ответил Малхауз. – Использовав идею Гая насчет костюмов, твою внешность и голос, мы, возможно, спасем оперу синьора Верди… – А теперь, – сказала Джульетта, когда Малхауз ушел, – я могу целовать тебя всерьез, как я того хотела весь день. Но сначала скажи, где ты пропадал все это время? Наверно, волочился за какой-нибудь длинноногой английской блондинкой? – «Questa о quella… – запел Гай, – per me pari– sono»*["978] Он столько раз бывал на репетициях «Риголетто», что знал большинство арий наизусть. Ария Герцога с ее шутливым смыслом «та женщина или другая, для меня равны они» пришлась здесь кстати. – Ах так! – воскликнула Джульетта, уперев руки в бедра и топая ногой в притворном гневе. – Но помни, любимый: «La donna e mobile! Qual puama al vento!»*["979] – Ты победила, – рассмеялся Гай. – Я не могу выиграть у тебя оперную дуэль, Джулия. Но если ты когда-нибудь попытаешься стать переменчивой, как ветер… – Что ты тогда сделаешь? – спросила она серьезно. – Не знаю. Наверно, уйду от тебя. – Гай, ты хотел бы… уехать домой, правда? Говори правду, мой любимый… – Да, Джулия, – сказал он печально. – Я бы этого очень хотел. Только… – Ты боишься, что я буду опять морить себя голодом? Перережу себе горло или приму яд? – Нет. Я боюсь только, что ты, наверно, будешь… несчастна. – Гай… – Да, Джулия. – Отведи меня в спальню и люби меня, пока я не засну. А потом уходи до того, как я проснусь… – Господи Боже, Джулия, я… – Я хочу, чтобы ты уехал. Я не могу видеть тебя таким, каким ты был все эти последние месяцы, – тоскующим, печальным… – Ты действительно хочешь, чтобы я уехал? – Да. Хочу, чтобы ты был счастлив. Может быть, калека уже умер. Так или иначе, она будет тебя ждать. Я знаю женщин. А эта любит тебя – страшно любит! Вот почему я ее так ненавидела! – Но как… как же ты, Джульетта? – Я… справлюсь. Я теперь стала сильнее. У меня есть музыка – в ней моя жизнь. В тот вечер, когда ты ушел от меня в Нью-Орлеане, этого оказалось недостаточно. Но теперь, думаю, будет достаточно. Когда боль притупится немного, если это вообще когда-нибудь случится… Он стоял, глядя на нее, видя, как слезы блестят алмазами на ее черных как сажа ресницах. – О! – зарыдала она. – Возьми меня, Гай! Возьми скорее, чтобы я не думала об этом! Теперь, когда во мне есть еще силы… О Гай, пожалуйста!..
Но утром, когда он оделся, Джульетта не смогла притвориться, что спит. Приподнявшись на локте, она неотрывно глядела на него, лицо ее было белее, чем смерть. – Гай, – сказал она, – оставь мне пигмеев, ладно? Я их так люблю, а Эдвард говорит, что они привлекают публику. Ты не против? – Совсем нет, – сказал он и наклонился, чтобы поцеловать ее. Но она отпрянула от него: – Нет, Гай. Я внутри как кристалл, который вибрирует на самой высокой ноте. Тронь меня, и я рассыплюсь на мелкие кусочки… – Ладно, – сказал он. – Прощай, Джулия… – Прощай, сердце мое, – прошептала она. Но как только дверь затворилась, она отвернулась, спрятав лицо в подушки, и громкие рыдания вырвались из ее груди с таким звуком, словно кто-то разрывал руками плотную ткань… Он услышал их за дверью, хоть они и были приглушены, и долго еще стоял прислушиваясь. А потом стал спускаться вниз по лестнице – ведь когда-нибудь это должно было произойти. Гай не сразу отправился домой: почему-то он этого немного боялся. Он поехал в Хантеркрест. Испытывая трепет, бродил по залам времен Тюдоров, глядел на стену, откуда накануне рокового путешествия много лет назад были сняты картины, и видел, что места, на которых они висели, благоговейно оставлены пустыми. Он стрелял куропаток и фазанов с юным Хентоном Фолксом. Они охотились с гончими и развлекались скачками с препятствиями. Мастерство, которое Гай показал при этом, раз и навсегда обеспечило ему восхищение Хентона. Он взял Гая в соседнее имение и представил его леди Мод, своей невесте, хрупкой девушке, последней представительнице старинного рода. – Думаю, я женюсь в конце концов, – весело сказал Хентон, – раз вы не собираетесь лишить меня права владения. Уж не знаю, что б я тогда делал: нет ничего ужаснее участи безработного аристократа… – Я бы на все решился, лишь бы связать свою судьбу с леди Мод, – пошутил Гай, – только вряд ли она захочет. Надеюсь, вы будете мне писать иногда? – С радостью. Но только при условии, что вы будете отвечать. – На том и порешили, – сказал Гай.
Со времени его юности мир сильно изменился. Тогда сорок – пятьдесят дней уходило на то, чтобы пересечь Атлантический океан. Теперь же первоклассный почтовый пароход, оснащенный, понятно, как и раньше, мачтами и парусами, проделал путь от Ливерпуля до Нью-Йорка за пятнадцать дней. Когда Гай в семнадцать лет покинул Фэроукс, человек, которому нужно было попасть в какое-нибудь далекое от реки место, должен был идти, или ехать верхом, или сесть в скрипучий дилижанс. Теперь железная дорога подходила к Миссисипи в десяти местах. Путь от Нью-Йорка до Сент-Луиса занял два дня, от Сент-Луиса до своей плантации, Мэллори-хилла, он добирался быстрым речным пакетботом меньше четырех дней. Через двадцать один день после отъезда из Ливерпуля он снова был дома. Мысль о подобной быстроте даже вызывала у него легкое головокружение. Плантация была так превосходно ухожена, что он сразу понял: Уиллард Джеймс все еще здесь. Гай не писал никому писем. В любом случае это было бы бесполезно: из-за его бесконечных блужданий по свету ответа на них он никогда бы не получил. Уиллард и его юноноподобная Норма приветствовали Гая с неподдельной радостью. У них уже был сын, Натан, здоровый полуторагодовалый малыш. Увидев его, Гай почувствовал новый прилив надежды. Ему теперь было почти тридцать восемь лет, ну и что же: Уилл Джеймс стал отцом, хотя был на десять лет его старше. А у старого Эша родился ребенок, когда ему было пятьдесят два… Они говорили обо всем и обо всех, кроме Джо Энн. Фитцхью наконец разделался с долгами, в июне они с Грейс собирались пожениться. Все вокруг были сильно раздражены агитацией против рабства, идущей с Севера. С каждым днем все громче раздавались разговоры об отделении южных штатов. Наконец Уилл Джеймс перешел к теме, наиболее близкой его сердцу. – Боюсь, Гай, – сказал он, – мне не удастся уговорить тебя продать Мэллори-хилл. Мы с Нормой очень к нему привыкли. Да и сын у нас растет… – Я не очень-то привязан к Мэллори-хиллу, – медленно проговорил Гай. – Но если б я продавал его, то должен был бы предложить его сначала Фитцхью… Жаль, если он окажется потерянным для рода Мэллори, ты ведь понимаешь, что я имею в виду? И еще одно, Уилл: куда я денусь, если продам имение? У меня и так много лет не было ни кола ни двора… – Куда тебе деваться? Да в Фэроукс, конечно. Я, естественно, предполагал… – Не собираюсь отнимать Фэроукс у Джо Энн и Кила, – решительно сказал Гай. – Я не раз уже говорил об этом. Пока они живы, они могут… Боже правый, Уилл, тебе нехорошо, что ли? – Нет, все в порядке, – сказал Уиллард. – Да ты же ничего не знаешь. Ты, наверно, не получил ни одного моего письма. – А как я мог его получить? Скитался все это время по свету… Что же ты хочешь мне сообщить, Уилл? – Я просто предполагаю, что после обеда ты поедешь в Фэроукс. Ты ведь ничего не знаешь о смерти Кила Мэллори: с ним произошел несчастный случай в тот самый день, когда ты уехал отсюда в пятьдесят третьем году… Гай с изумлением посмотрел на него: – Несчастный случай? Но это невозможно! Кил лежал пластом и… – Нет. К тому времени он достаточно поправился, чтобы передвигаться в кресле-каталке. Ты ведь знаешь эти длинные лестницы в Фэроуксе? Кажется, кресло вырвалось из-под него на краю лестничной площадки. Он умер мгновенно. Хартли говорил, череп раскололся… – Ты этому поверил, Уилл? – спросил он. – Нет. Думаю, он убил себя. Хартли с полной определенностью говорил, что Кил никогда больше не сможет ходить. Но я уверен еще в одном, если ты об этом сейчас подумал: его жена не собиралась избавиться от него ни этим, ни каким-либо иным способом. Не такой она человек. Я видел ее ногти, обломанные до самого мяса, и их следы на деревянной спинке кресла: она пыталась его удержать и спасти. Ты сходи повидай ее, Гай. В конце концов, уже почти три года прошло с тех пор, а у меня, – усмехнулся Уилл, – здесь свой интерес. Может быть, если ты будешь жить в Фэроуксе, удастся убедить тебя продать мне Мэллори-хилл! Дальнейшее ясно показало, что юность его безвозвратно прошла. Он принял ванну, неторопливо, с прекрасным аппетитом пообедал, ответил на все вопросы Нормы о Джульетте, затем вновь поднялся наверх, тщательно выбрился и надел костюм для верховой езды, сшитый в Англии. И только тогда сел на коня и отправился в Фэроукс. Когда Джо Энн спустилась по длинной лестнице, у подножия которой принял свою смерть Килрейн, Гай увидел, что она не носит траура. Да она никогда и не одевалась в черное, не желая лицемерить. Гай заметил и еще одно: за те почти три года, что он не видел Джо, она сумела обрести внутреннее спокойствие, глубокое и прочное умиротворение чувствовалось в ней. – Очень рада видеть тебя, Гай, – сказала она спокойно, подавая ему руку. – Когда ты приехал? – Сегодня утром. Ты изменилась, Джо… – А как Джульетта? – тихо спросила она. – Надеюсь, она здорова? – Вполне, – сказал Гай. – По крайней мере, была, когда я видел ее в последний раз двадцать один день назад… Голубые глаза Джо Энн расширились. Когда она заговорила, ее голос едва заметно дрожал. Другой, возможно, и не заметил бы этого, но ухо Гая к тому времени научилось различать тончайшие оттенки. – Она не приехала с тобой? – Нет. Мы расстались… по взаимному согласию. Все то же: с одной стороны – ее карьера, с другой – моя тоска по дому. – Понимаю. Ты, наверно, уже пообедал. Могу предложить тебе кофе с ликером. Пойдем, посидим в маленькой гостиной, поговорим… И она пошла прочь, холодная, далекая, спокойная. Это было невыносимо. Гай положил руки ей на плечи и очень осторожно повернул к себе лицом. Потом обнял, не внезапно, не грубо, но с нежностью, не сводя с нее глаз. Ее лицо было совсем белым… В самый последний миг она закрыла глаза.
Глава 25
– Давай не будем роскошествовать, Гай, – сказала Джо Энн. – У меня уже была пышная свадьба. Папа потратил на нее целое состояние, но ничего хорошего из этого не вышло… – Ты ведь была вроде счастлива с Килом, – сказал Гай. – Да, была. По крайней мере, несколько лет после свадьбы. Да и потом оставалась более или менее довольна жизнью до тех пор, пока ты не вернулся. А Кил – он был очень славный, Гай. Ничего, что я про него говорю? – Пожалуйста, если тебе этого хочется. – Да, хочется, но не потому, что я скучаю по нему. Я пытаюсь… начать с тобой разговор о том, что ты должен… имеешь право знать… – Почему ты говоришь так нерешительно и все время спотыкаешься, Джо? – Потому что я ужасно тебя боюсь! Так боюсь, что просто сердце уходит в пятки! Она внезапно уткнулась лицом в его грудь: – О, Гай, не женись на мне! Ты… не должен этого делать! Ты… во мне разочаруешься, так же как и Кил! Он мягко отстранил Джо Энн и приподнял рукой ее подбородок. Потом нежно поцеловал прохладный дрожащий рот, чувствуя на губах соль ее слез. Наконец она сумела изобразить на лице подобие улыбки. – Вот так будет лучше, – тихо сказал он. – У тебя просто разыгрались нервы, Джо. Ты пережила трудные времена. Думаю, мне стоит уйти сейчас домой и дать тебе время успокоиться… – Нет! – крикнула она. – Не уходи! Я хочу чтобы ты был рядом. Сядь и возьми меня за руку. Но не гляди на меня. Когда ты смотришь, я не могу говорить, я вся дрожу. В тебе есть это фамильное свойство Фолксов, как и у твоего отца: ты входишь в комнату, и кажется, что воздух трещит от невидимых разрядов, ты говоришь – и словно раздаются раскаты грома, правда, Гай! Теперь я понимаю, почему моя мать… – Давай не будем говорить об этом, – сказал Гай. – Хорошо. Нам и так есть о чем поговорить. Я думала, ты не вернешься, – вот почему я вышла за Кила. Я ведь тогда его не любила, да и не знала, что такое любовь. Потом я научилась любить, по крайней мере, убедила себя в этом. Пыталась быть хорошей, преданной женой, но… – Ты и была такой, – сказал Гай. – Я пыталась. Но в чем-то не оправдала его ожиданий, сама не знаю почему. Бывало, он смотрел на меня и я видела в его глазах разочарование. Я пыталась быть честной и справедливой, Гай. Кил никогда не был злым, а только слабым. Я это поняла. Я прощала его снова и снова за пьянство и азартные игры, потому что в этом была отчасти и моя вина. Если бы я была другой женщиной, более свободной, веселой, он бы не… «Он все равно бы поступал по-своему, – думал Гай, – и в этом нет твоей вины. Если мужчина с юных лет якшается со служанками-негритянками и белыми потаскухами, у него появляется неосознанный страх перед порядочными женщинами. Наверно, Кил так тебя уважал, что это мешало физической стороне любви. Думаю, он мысленно разделял эти два понятия: плотская и духовная любовь. Ты была его белым ангелом, поэтому акт любви казался ему оскорблением, почти святотатством…» Но он этого не сказал. В 1856 году мужчина не мог говорить о таких вещах женщине благородного происхождения. – А с тобой будет еще хуже, Гай… Ты – само воплощение мужественности. Килу до тебя далеко, и это пугает меня до смерти. Я знаю, ты добрый и терпеливый, но… – Но что, Джо? – …больше всего я боюсь, что я… я не смогу быть такой, как ты хочешь… А если я не смогу подарить тебе ребенка, о котором ты так мечтаешь? Было бы преступлением, если бы род Фолксов прекратился из-за меня. Мы с Килом были женаты десять лет, а ребенок так и не появился… – Возможно, в этом была его вина, – сказал Гай. – Нет. Он… имел ребенка от этой ужасной Лиз Мелтон. Маленькую девочку. Говорят, она… похожа на него как две капли воды! – Сомневаюсь. Хорошо известно, что за штучка Лиз, и могу побиться об заклад, что она сама не знает, кто отец ее ребенка. – Нет, это был Кил. Говорят, ребенок красивый. И еще: мне тридцать три года, Гай. Для женщины это очень много. Может быть, ты найдешь себе жену помоложе меня, и уж с ней наверняка… – Риск тот же. Когда ты вышла замуж за Кила, тебе было девятнадцать… Да если уж на то пошло, у молодой девушки будет один существенный изъян… – Какой изъян, Гай? – Это будешь не ты. Тогда она вдруг робко поцеловала его: – Спасибо тебе, любимый. Но, Господи Боже, сколь многое нас разделяет! – Нет ничего такого, что бы нас разделяло, абсолютно ничего. – Нет, есть. Призраки старых грехов, былой ненависти тех, кто умер, и тех, кто жив, Гай. Мой отец убил твоего… из-за моей матери. Знаешь, Гай, кажется, он страшно боится, что я выйду за тебя замуж, и больше всего – того что мы будем жить здесь… – Ему нечего бояться, – сказал Гай мягко. – Когда папа умирал, он взял с меня слово, что я никогда не причиню вреда Джерри. Всех этих призраков пора отправить на покой, Джо. – Хорошо, если так, Гай. Только они не дают мне покоя: Кил и то, как он умер… А твоя Джульетта… – Не беспокойся об этом, Джо. Мы расстались с ней навсегда. – Да, расстались. Но разве она ушла из твоего сердца, из твоих воспоминаний? Сомневаюсь. И вряд ли ты ее когда-нибудь забудешь. Она такая красивая, Гай… Веселая, талантливая, в ней столько очарования! Я так боюсь, что ты начнешь сравнивать меня с ней, после того как мы поженимся. Я просто не выдержу такого состязания с одной из самых знаменитых женщин в мире! – Никогда не занимаюсь такими сравнениями, – сказал Гай, – или противопоставлениями – это гораздо более удачное слово, когда речь идет о вас двоих. Ты станешь моей женой, Джо. Я всегда любил тебя, всю жизнь. И вот я вернулся домой – к тебе. Мне не помешают какие-то выдуманные тобой призраки! – А я и не собираюсь тебе мешать, любовь моя, – мягко сказала она. – Просто пытаюсь быть честной, чтобы ты слишком во мне не разочаровался. Если бы ты действительно ушел сейчас, я вряд ли бы это вынесла. Но теперь я высказалась и чувствую себя лучше. Когда ты хочешь, чтобы это произошло? – Тебе решать, Джо. – Через две недели, Гай, ладно? Это время потребуется для того, чтобы мне сшили свадебное платье. Розовое – на счастье, белое я теперь носить не имею права… – На две недели я согласен. Где ты хочешь устроить свадебную церемонию, Джо? – Здесь, в Фэроуксе. Я хочу начать нашу совместную жизнь там же, где мы ее завершим. Гостей много не нужно. Только Уиллард с Нормой да Фитцхью с Грейс. И отца придется пригласить ради приличия. Конечно, если ты хочешь позвать кого-то еще… – Нет, но пусть у нас будет медовый месяц. Скажем, в Нью-Орлеане… – Нет! Только не в Нью-Орлеане! Там ты… – Что я там, Джо? – Провел свой медовый месяц с… ней. Ведь это был медовый месяц, хоть и греховный! – Когда любишь, это не грех, – сказал Гай, – впрочем, неважно. Куда б ты, в таком случае, хотела поехать? – Наверно, в Нью-Йорк. Я о нем так много слышала… «Там, – усмехнулся про себя Гай, – я провел второй греховный медовый месяц с Джулией. Но ты об этом не знаешь, поэтому Нью-Йорк вполне подойдет. Боже милосердный, а ведь Джо права! Трудно найти такой крупный город, где бы этот призрак не преследовал меня…» – Хорошо, – сказал он. – А теперь я, пожалуй, пойду, дорогая, мне надо кое-что уладить. В конце концов, это и моя свадьба тоже… То, что он собирался уладить, для кого-то другого, возможно, и не представляло бы особой важности. У Гая же в плоть и кровь вошло уважение к традиции, семье, привитое отцом, и, пока он был жив, ничто не могло этого поколебать. Сама принадлежность к роду Фолксов была его raison d'etre*["980], его религией, давала основание чувствовать свою избранность. Поэтому то, что он предполагал сделать, не казалось ему недопустимым вмешательством в чужую жизнь; он рассматривал это как своего рода приведение в порядок некоторых дел. Мэллори-хилл принадлежал роду Мэллори на протяжении многих поколений. Фитцхью был последним из Мэллори, поэтому Мэллори-хилл необходимо было передать Фитцхью. Гаю даже ни разу не пришло в голову, что Фитцхью, возможно, и не нужна такая огромная плантация. Гай был полон решимости восстановить прежний порядок: Фолксы – в Фэроуксе, Мэллори – в Мэллори-хилле. Почему – такая мысль ему и в голову не приходила. Для него все это было очевидно и не нуждалось ни в объяснении, ни в оправдании. Все мысли его были направлены на то, как осуществить задуманное. По пути в Мэллори-хилл он все продумал. Уиллард Джеймс хочет стать полноправным плантатором. К тому же у него есть деньги. Гай надеялся, что ему удастся убедить Уилла купить старую плантацию Мэллори, где сейчас жил Фитц, за достаточно крупную сумму, что позволило бы Фитцхью выкупить Мэллори-хилл. Сам Гай не нуждался в деньгах и отдал бы плантацию Фитцу и Грейс в качестве свадебного подарка, но он знал, что они не примут этого дара. Возникла довольно-таки щекотливая ситуация: Уилл хотел завладеть Мэллори-хиллом, а Фитца, как сильно подозревал Гай, вполне устраивало его нынешнее положение, чего нельзя было сказать о Гае. Он сам задал себе задачу, но, Бог тому свидетель, сам же собирался и решать ее. Надо отдать должное силе его характера: он сумел все устроить за один день. Правда, у него нашлись два сильных союзника – о них Гай даже не подозревал и на их помощь не рассчитывал: Норма Джеймс, которая сочла Мэллори-хилл слишком уж большим, что шло вразрез с ее простым крестьянским вкусом, и Грейс Тилтон, которая родилась в небогатой фермерской семье и обладала непоколебимой решимостью добиться лучшей доли. – Что ж, – вздохнул Фитцхью с сожалением, – старая плантация была всем хороша для меня, но раз уж Грейс решила стать знатной леди, придется ей уступить. Ты очень благородно поступаешь, Гай, что соглашаешься взять за Мэллори-хилл ту же цену, что Уилл предлагает мне. Но все это сильно смахивает на благотворительность… – Ничего подобного, – поспешно сказал Гай. – Твоя плантация, хоть и меньше по площади, дает такой же урожай, что и Мэллори-хилл. Единственная разница – дом. А для меня это небольшая жертва, зато вы с Грейс будете теперь моими ближайшими соседями. Только не думай, что мне чем-то не нравятся Уилл и Норма, просто мне кажется, будет правильнее, чтоб в Мэллори-хилле снова жили Мэллори… – Спасибо, – сказал Фитцхью. – Кстати, Гай, у меня есть для тебя свадебный подарок. Красотка ощенилась месяц назад. Когда вернешься после медового месяца, я пришлю тебе пару щенков, как и обещал. Хочешь выбрать сейчас? – Еще бы, черт возьми! Пойдем-ка, дружище, глянем на этих маленьких тварей… Свадьба удалась на славу. Джо Энн плакала в течение всей церемонии, Норма и Грейс последовали ее примеру. Джеральд Фолкс выдавал дочь замуж во второй раз и имел вид человека, приговоренного к смерти. В 1856 году ему было немного за шестьдесят, но выглядел он лет на двадцать старше. Он был разбит параличом, весь трясся, пальцы его рук так скрючил ревматизм, что они скорее напоминали когти, лицо было серым, глаза подергивались от страха, когда он смотрел на Гая Фолкса. Гай все это заметил, но быстро выбросил из головы мысли о нем. Гораздо больше его беспокоило другое: если Норма Джеймс плакала от радости, а Грейс от счастья сбывшихся надежд, то его невеста рыдала от страха. «Как же Кил с ней обращался, – думал он с тоской, – что она такой стала? Она ведет себя, как юная девушка, подвергшаяся насилию. У меня и раньше бывали проблемы с женщинами, но иного рода. Что же, черт возьми, делать с такой женщиной, которая в глубине души боится мужчин и приходит в ужас от одной мысли о любви?» Сам о том не догадываясь, Гай знал ответы на свои вопросы. Чему-то его научила Кэти, многому – Билджи, но только Джульетта показала ему во всей полноте, как совершенна может быть любовь, когда она соединяет тело и дух, изысканность и вкус с душевной теплотой и здоровой чувственностью, не отравленной ложной стыдливостью. Гай был прекрасно подготовлен, чтобы решить задачу, поставленную ему Джо Энн Фолкс, полностью разделявшей все предрассудки своего времени и воспитания. Но он не осознавал этого – и его свадьба оказалась торжественной и в то же время унылой. Осыпаемые рисом и забрасываемые, по обычаю, старой обувью, они выехали из дому в маленькой двуколке Гая и помчались к пристани. Следом двигался фургон с багажом, вокруг которого, радостно крича и танцуя, носились негры. У пристани их ждал пароход: Уилл Джеймс проделал весь путь до Натчеза, чтобы сохранить за ними свадебную каюту. Пассажиры, высыпавшие на палубу, были предупреждены капитаном и держали наготове мешочки с рисом. Увидев Гая и Джо, они принялись выкрикивать приветствия и швырять в новобрачных пригоршни риса. Все попытки заказать спиртное, чтобы поздравить их, Гай добродушно пресекал, повторяя: «Позже, позже, дайте же леди переодеться». Но вот носильщики разместили их багаж в каюте и удалились, донельзя довольные неслыханными чаевыми, полученными от Гая, и Джо Энн предстала перед мужем дрожащая, с побелевшим лицом. Она ни слова не могла вымолвить. – Я пойду, – сказал ей Гай весело, – пропущу стаканчик с честной компанией. Надевай свой дорожный костюм и присоединяйся к нам, Джо. Негоже дичиться людей. Это их только подзадоривает. И они так любят подразнить новобрачных, а чтобы вынести эти шутки, нужно совсем немного мужества и чувства юмора. По ее глазам он понял, с каким облечением воспринимает она его слова, и подумал: «Да, черт возьми, ну и задачка мне предстоит…» Джо потребовался еще час, чтобы собраться с духом и последовать его примеру. Но стоило ей это сделать, как она почувствовала себя гораздо лучше. Пассажиры были преисполнены к ним симпатии. Женщины, прожившие долгие годы в супружестве, учили ее, как завоевывать благосклонность мужа. Мужчины смотрели на нее с восхищением: она сохранила внешность юной девушки, чему, возможно, способствовала неудача, пусть и неосознанная, ее попытки обрести гармонию в физической стороне их взаимоотношений с Килрейном. Даже самые злобные мегеры, при всей их недоброжелательности, считали, что она по меньшей мере на восемь лет моложе своего истинного возраста. К тому времени, когда они принялись за ужин, страхи почти покинули Джо Энн. «В конце концов, – подумала она, – с Килом у нас все было не так уж плохо. Мне это не доставляло удовольствия, но я слышала, что так бывает почти у всех женщин. Но я не должна разочаровывать Гая, не должна, даже если придется притворяться, я не выдам своего страха. Джульетта – иностранка, она, наверно, другая. Бьюсь об заклад, она как те женщины низкого происхождения, которые… которым это, как я слышала, нравится… Некоторым даже больше, чем мужчинам. Как им… как им повезло! Ведь без этого не обойтись: таковы мужчины, а нам нужно родить ребенка… Почему бы женщине и не получить от этого удовольствие? Но мне всегда немного противно заниматься этим. А ведь я любила Кила. А Гай… он так немногословен, так пугающе мужествен. Я его очень боюсь». – Выпей шампанского, Джо, – мягко сказал он. – Это помогает… – Думаешь, мне нужна помощь, Гай? – Да. Ты ужасно нервничаешь. У тебя нет для этого основания. Я не дикий зверь. Наоборот, ты скоро поймешь, что я очень терпеливый мужчина… Она прильнула к нему и взяла за руку. – Я не хочу, чтобы тебе приходилось быть со мной терпеливым, любовь моя, – сказала она. – Хочу быть тебе хорошей женой… во всем. Чего я очень боюсь – так это разочаровать тебя… – Этого не случится, – сказал он и поднял бокал. – За нас, Джо… – За нас! – эхом отозвалась она и одним глотком выпила шампанское. Он улыбнулся ей, держа в руке едва пригубленный бокал, и сделал знак официанту долить ей шампанского. «Вино, – подумал он весело, – может быть весьма полезно». Когда ужин завершился, она словно плыла, окутанная мягким розовым облаком. Он танцевал с ней, тесно прижимая к себе. Светловолосая голова Джо Энн покоилась на его плече, веки ее опустились в истоме. Матроны наблюдали за ними с повлажневшими глазами. – Отведи меня наверх, Гай, – прошептала она. – У меня… так кружится голова. И он увел ее, не обращая внимания на понимающие ухмылки мужчин и сентиментальные слезы женщин. В каюте она обвила его шею руками и поцеловала, пролепетав: – Я не боюсь, Гай! Правда, не боюсь! Он помог ей раздеться, чего бы она никогда ему не позволила, если бы не выпила шампанского. Ее белоснежная ночная сорочка, вся в оборках, застегивающаяся до самого горла, лежала нетронутой на стуле. Свою же ночную рубашку он даже не вытащил из саквояжа… Джо была гибка как ива, бела как снег. И хотя ее фигура в полночной темноте не казалась столь ликующе совершенной, как стройное, золотистого цвета тело Джульетты, она тем не менее была прекрасна. Он был мягок, терпелив, нежен и, что важнее всего, опытен. В тридцать восемь за плечами у него были многие годыопыта, и он удивительно владел собой… Она лежала, глядя на его темноволосую голову, казавшуюся ночной тенью на фоне снежной белизны ее рук, и кровь медленно и дремотно струилась в ее жилах. «Мой муж, – думала она, – мой первый настоящий муж… Кил – совсем не то. А если это значит, что меня обуревают низкие страсти, я стану еще хуже, и да простит меня Бог! Они лгут! Глупая ложь! Именно для этого рождена женщина – чтобы найти себе такого мужчину, который заставлял бы ее тело петь изнутри от переизбытка радости… Мне… мне показалось, что я лишилась чувств. Нет, я умерла и воскресла и вновь умерла… сколько же раз это было? Господи, что же я говорила при этом! Наверно, он подумал, что я… нет! Он все понимает. Должно быть, он видел, как я удивилась, что могу… Теперь я наконец стала женщиной. После всех этих лет…» Она склонилась над ним и легко, чтобы не разбудить, поцеловала в губы. Но он все равно проснулся и улыбнулся ей. – Знаешь, Джо, детка, – сказал он, – а ты, оказывается, женщина, каких поискать! – Давай помолчим! – лениво сказала она гортанным, полным теплоты голосом. И он замолчал. И молчал до тех пор, пока солнце не позолотило реку.Глава 26
Прошли четыре года, в течение которых медленное отступление сил сдержанности, компромисса, здравого смысла постепенно превратилось в беспорядочное бегство, верх взяли демагоги, фанатики, охотники за славой, вплотную приблизив нацию к глупой, ненужной, братоубийственной бойне, а Гай с Джо Энн Фолкс все эти годы были счастливы почти безгранично. Гай объезжал свои необъятные поля, вернул былое стремительное изящество серым лошадям Фэроукса, вывел прекрасную породу мастиффов и старался избегать разговоров о войне. Для них это были разговоры, не больше. Более неотложные заботы, чем казавшиеся далекими проблемы войны и мира, волновали их: мучило навязчивое присутствие в доме Джеральда Фолкса, его страх перед Гаем, медленно сводивший старика с ума, а больше всего то, что за это время у них так и не родился ребенок. – Ничего, – говорил Гай рыдающей жене, – у нас еще столько радости впереди, и не все еще потеряно! Но это было для нее слабым утешением. У Фитцхью и Грейс, поженившихся весной 1856 года, за эти четыре года родились два чудесных сына, Престон и Уилтон. Норма подарила Уиллу Джеймсу еще одного ребенка, дочь Франсуазу, а ведь ему было уже под шестьдесят. Из Англии приходили ликующие письма, извещавшие о рождении в 1858 году Банастра Фолкса, который должен был стать в будущем лордом Хантеркрестом, а в 1860 году – Ланса, второго сына Хентона II и леди Мод. Но у высокого и сильного Гая Фолкса и его прекрасной жены детей все еще не было. Робкое предложение Джо Энн взять приемного сына Гай отверг категорически: – Он не будет Фолксом. Главное – в нем будет другая кровь, как ты не можешь этого понять, Джо? Джо Энн настолько отчаялась, что обратилась за помощью к неизбежной в таких случаях мудрой старой рабыне, которая являлась непременной принадлежностью каждой большой плантации. Тетушка Руфь покачала своей укутанной платком головой и объявила: – Ты ешь сама больше яиц, детка. Много-много яиц. И хозяина ими корми тоже. Устрицами, когда на них сезон. И помидорами. Все эти штуки помогают. Не знаю уж почему, но помогают… Когда яйца в пятнадцатый раз подряд появились на столе к ужину, Гай с трудом сдержался, чтобы не вышвырнуть, как его отец когда-то, тарелку в окно. Однако он куда лучше Вэса умел владеть собой, поэтому ограничился раздраженным: – Снова яйца? – Да, – сказала Джо с грустью. – Тетушка Руфь говорит, что они… помогают. Они укрепляют тело, поэтому… – Думаешь, мне нужно укреплять свое тело? – Не знаю. Думаю, это моя вина, но все же, Гай, при таком беспорядочном образе жизни, что ты вел… – Проклятье, Джо! – взревел Гай. – Со мной все в порядке. – Но разве ты можешь быть в этом уверен, Гай? – спросила она. Он долго смотрел на нее с унылым видом. – Не могу, – сказал он наконец. – Может быть, ты и права, Джо. Она поднялась со стула и подошла к нему. Обвив руками его шею, она прошептала: – Прости, что сказала это, Гай. Я знаю, как ты хочешь сына. Не твоя вина, что его нет. Я… я бесполезна для тебя. Ты должен меня бросить. Ты должен… – Успокойся, детка, – мягко сказал он. – Ты всегда сетовала, что я недостаточно религиозен, но мне кажется, что именно ты теперь противишься Божьей воле… Как ни странно, но именно в эту ночь Джо Энн забеременела. Высчитывая дни впоследствии, она твердо пришла к такому выводу. Через две недели, когда обычные свидетельства ее продолжающегося бесплодия не появились, Джо Энн ничего не сказала Гаю. Она бы не сделала этого в любом случае: в 1860 году не было принято, чтобы женщины говорили на подобные темы с мужьями. Помимо обычной женской стыдливости она боялась, что ошибается. Через две следующие недели, когда появились вторичные симптомы: тошнота по утрам, возникающее вдруг посреди ночи страстное желание отведать что-нибудь необычное, нервозность, – она была вне себя от радости. По рассказам Грейс Мэллори и Нормы Джеймс она хорошо знала, что все это означает. – Я сейчас же скажу ему! – ликовала она. – Сегодня же скажу! – Она встала с кровати, накинула халат и отправилась искать Гая. Путь ее лежал мимо комнаты отца. Дверь была раскрыта, что поразило Джо Энн: очень уж это было не похоже на Джеральда, всегда закрывавшего свою дверь на ключ и засов еще с тех пор, когда они возвратились домой после медового месяца. Она спросила тогда отца, что случилось, и он ответил дрожащим голосом: – Он убьет меня, когда я буду спать, однажды ночью. Вот увидишь, он… – Ради Бога, папа, замолчи! – сказала она, испытывая омерзение, и тут же перестала об этом думать. Но теперь дверь была распахнута настежь, и Джеральд стоял на коленях у камина, разгребая кочергой угли. Потом он принялся возиться с какой-то шкатулкой, пытаясь взломать ее: это была шкатулка, которая всегда хранилась в кабинете Гая и содержала, как сказал он однажды Джо Энн, важные бумаги. Усилиям Джерри препятствовал ревматизм, который к тому времени так скрючил его пальцы, что они напоминали птичьи когти. Но в конце концов ему удалось взломать замок лезвием ножа, а Джо Энн стояла, глядя на него, и не понимала, почему не вмешивается. Джерри извлек бумаги и принялся их читать. Тогда она бесшумно вошла в комнату, остановилась за его спиной, заглянула через плечо отца, а потом выхватила бумаги из его бессильных пальцев. Он вздрогнул, обернулся и стремглав бросился мимо нее вниз по лестнице. Здесь его ожидал Гай Фолкс. – Послушай, Джерри, – сказал он тихо, – куда ты дел мою шкатулку с бумагами? Я знаю, что ты ее взял – никому другому она не нужна. Скажи-ка мне, что ты с ней сделал? – Сжег! – хихикнул Джеральд, охваченный радостью безумца. – Теперь у тебя нет никаких доказательств! – Они есть, папа, – это сказала Джо Энн, появившаяся на верху лестницы. – Все необходимые доказательства… – Она начала медленно спускаться. Лицо ее побелело, но она не плакала. – Да, папа, у него есть доказательства, что ты был лжецом и вором, что ты подделал подпись под завещанием. Ты украл Фэроукс у его отца. А я… помоги мне, Господи… все время, пока он позволял мне жить здесь с Килом и оплачивал наши долги, хотя вовсе не обязан был этого делать – ведь Фэроукс уже принадлежал ему, – думала, что он строит тайные планы, чтобы… О, прости меня, Гай! – Не надо об этом, Джо, – мягко сказал Гай. – Мне только жаль, что ты не поняла: если я что-либо и собирался делать, то всегда в твоих интересах, а не наоборот. Если бы было иначе, слово «любовь» ничего бы не значило, а понятие чести потеряло бы всякий смысл… – Но эти слова не утратили своего значения, правда, Гай? – прошептала она. – Этого никогда не понимал мой отец. А у меня никак не укладывается в голове: зачем ты хранил среди таких важных бумаг старую разломанную пороховницу с куском дерева внутри? – На этот вопрос я не дам тебе ответа, Джо. Этого тебе лучше не знать. А теперь, если ты вернешь мой ящик Пандоры… – Я тебе все расскажу! – ликующе воскликнул Джеральд. – Я был очень умен, детка! Этот негодяй Вэс… – Заткнись, Джерри! – …был хорошим стрелком. Я не мог позволить ему выиграть. Не имел на это права! Понимаешь меня, малышка? Он украл у меня твою мать и… – Джерри! – Дай же ему выговориться, Гай! – сказала Джо Энн. – Пусть уж извергнет все наружу, до самого конца! – Поэтому мне пришлось убить его. Он не заслуживал права на жизнь. Мне пришлось его убить, а иначе был риск, что он убьет меня. Поэтому я загнал деревяшку в пороховницу так, чтобы в нее могло поместиться не больше шести или восьми щепоток пороха – меньше половины нормального заряда. Я все проверил: натянул старую рубаху на раму и выстрелил в нее с двадцати пяти ярдов. Заряд был так слаб, что пуля не смогла пробить даже хлопчатобумажную рубашку, и тогда я понял, что он от меня никуда не уйдет! Джо не сводила с него глаз. – Да, я был умен! Я все устроил так, чтобы пистолет Вэса зарядили из пороховницы с деревяшкой. И вот меня даже не ранило, хотя он явно попал в меня, ну а он… Глаза Джо Энн расширились от ужаса. – Ты хочешь сказать, – прошептала она, – что помимо всех прочих гнусностей ты еще и убийца, презренный, трусливый убийца! – Джо, – сказал Гай. – Оставь его в покое. Разве ты не видишь, что он заплатил сполна даже за это? – Нет! – прорыдала Джо Энн. – Не заплатил! Твой отец упросил тебя не мстить. Но никто не просил об этом меня! А у меня есть причина для мести, такая же серьезная, как и у тебя, Гай Фолкс! Он лишил меня матери, вырастил в этом доме, полном молчания и горя, создал такую атмосферу, что мне пришлось бежать из дома, – вот я и вышла за Кила. И в этом его доля вины! Он все у меня отнял: юность, счастье, все те годы, что я могла бы быть с тобой, если бы тебе не пришлось уехать… – И все же, – веско сказал Гай, – он за все заплатил. Лучше уж провести, как я, восемнадцать лет в изгнании, чем думать день и ночь о том, что не давало ему покоя. Он совсем помешался, Джо, а такого наказания достаточно любому. Да ты и не можешь мстить своему отцу. Нет в тебе того, что необходимо для такой мести, – зла. И еще: каждый наш поступок влияет на нашу душу, Джо, будь он хороший или дурной. Если станешь мстить этому старому монстру, сама превратишься в такое же чудовище. И уж поверь, мне совсем не хочется, чтобы подобное чудовище было моей женой! – Мне… мне не надо было вам говорить, – дрожа забормотал Джеральд. – Вы теперь пойдете вдвоем к шерифу и… – Нет, Джерри, – сказал Гай и, обернувшись к Джо Энн, взял у нее шкатулку. – Вот она, – сказал он, отдавая ее Джеральду. – Возьми эти бумаги к себе наверх. Можешь разорвать их и сжечь. Мне они больше не нужны. Сам не знаю, почему хранил их так долго. Человек не нуждается в подобных вещах, если хочет остаться человеком. Он должен быть выше насилия, выше ненависти даже, если уважает себя. В конце концов начинаешь понимать… – Что, Гай? – прошептала Джо Энн. – …что только ты сам и никто больше можешь стать причиной гибели своей бессмертной души. Зло, что тебе причиняют другие, не имеет значения. Важно то, как поступаешь ты: наносишь ответный удар, набрасываешься в ярости на обидчика, падаешь вместе с ним в грязь и барахтаешься в ней, превращаясь в такую же свинью, как и он… – Я когда-то говорила тебе об этом, – сказала Джо Энн. – …или же находишь единственный приемлемый ответ. – И каков же он? – насмешливо спросил Джеральд. – «Отче! прости им, ибо не знают, что делают»*["981]. Я давно тебя простил, Джерри. Тебе же досталась куда более трудная задача – научиться прощать самого себя. И боюсь, что тебе не удалось ее решить. А теперь бери свои игрушки и ступай наверх. Мне надо поговорить с женой… – Гай, – спросила Джо Энн очень серьезно, после того как Джеральд поспешно поднялся по лестнице, – откуда у тебя такие мысли? Я знаю, что этому учит наш Господь, но… – Неважно кто: Иисус, Будда или Лао-цзы. Важно другое: это истинная правда. И самое трудное – научиться прощать себя. Других прощать куда легче, Джо. Стоит любому из нас заглянуть себе в душу, и он увидит там немало такого, чему трудно найти прощение. Большинству это не удается, о чем я и говорил Джерри… – Ты хочешь сказать, что ты… – Совершал поступки, которым нет прощения ни на земле, ни в горних высях, – медленно проговорил он, – но если я сейчас откажусь от того, чего достиг благодаря этому, то нанесу вред невинным людям… Ведь действительно «преступление отталкивает справедливость своей позолоченной рукой». Когда-нибудь мне все это припомнится… Но хватит этой науки. Есть проблема, которую только ты можешь разрешить… – Если смогу, Гай, – сказала она. – Когда я последний раз был в Нью-Орлеане, видел афиши у здания новой Французской оперы, его построил Галльер в прошлом году… – Да, – прошептала она, уже зная, что он собирается сказать. – На следующей неделе там открывается сезон «Травиатой» с участием Джульетты. Я хочу услышать, как она поет эту партию. Хорошо бы, чтоб и ты поехала со мной, и этому есть немало причин: во-первых, ты никогда не слышала, как она поет… – А во-вторых, – спокойно сказала Джо, – тебе не хочется, чтобы я думала, будто ты собираешься провести с ней ночь, раз уж ты оказался в Нью-Орлеане. Или это, или… – или что, Джо? – или же ты боишься поддаться искушению и хочешь, чтобы я была с тобой и защитила от самого себя… Гай ухмыльнулся. – Может быть, ты и права, – сказал он. – Так ты поедешь, Джо? – Конечно, глупый! Ты сошел с ума, если думаешь, что я позволю этому сладкоголосому вампиру прибрать тебя к рукам еще раз! У меня будет к тебе одна просьба, Гай Фолкс. Пошли кого-нибудь из слуг в Мэллори-хилл к Грейс, чтобы она прислала мне свою портниху. К счастью, у меня еще есть переливчатый шелк, который я купила в Нью-Йорке. Как хорошо, что я тогда так и не сшила себе платье из этой ткани! И уж, конечно, мне пришлось принять меры, чтобы драгоценности мамы не попадались на глаза Килу, поэтому… – Тебе нет нужды с кем-то состязаться, Джо, – сказал он. – Я от тебя никуда не денусь… – Жизнь каждой женщины – это непрерывное состязание, любовь моя. Возвращаю тебе назад твои слова: ты действительно от меня никуда не денешься и, наверно, даже не подозреваешь, насколько это верно… – Что ты хочешь этим сказать, Джо? – Потом объясню. После Нью-Орлеана. Во всяком случае, спасибо тебе, Гай… – За что? – За то, что не отправился в «деловую поездку», как поступило бы большинство мужчин на твоем месте. Тебе не придется об этом жалеть. А теперь поцелуй меня и ступай: пошли кого-нибудь за этой цветной девчонкой… Французская опера, построенная в 1859 году по проекту Галльера на углу улиц Бурбонов и Тулузы, близ озера на окраине Нью-Орлеана, была, без всякого сомнения, лучшей оперой во всей Америке. На Джо Энн театр произвел огромное впечатление: Гай понял это по восторгу, которым зажглись ее голубые глаза. Ему не раз приходилось бывать на открытии сезона в самых знаменитых театрах Старого Света, и теперь он пытался смотреть на все ее глазами, глазами человека, не избалованного подобными зрелищами, – на все эти ландо, виктории, двухколесные экипажи, рессорные двуколки, легкие двухместные экипажи и даже кабриолеты, которые подкатывали к дверям, исторгая из своих недр знатных дам – великолепно одетых креолок, украшенных драгоценностями, в сопровождении кавалеров с тросточками в строгих вечерних костюмах, плащах и цилиндрах; слышался быстрый свистящий французский говор, женский смех, в воздухе разносился опьяняющий аромат духов… Джо взглянула на Гая, стоявшего рядом; цилиндр он снял и держал в руке, на нем был плащ, подбитый белым шелком, фрак и брюки с галунами – все это сшито лучшими лондонскими портными, накрахмаленная на груди рубашка, белизна которой спорила с белизной висков. Он был на полголовы выше самого высокого из французских креолов, и сердце подсказывало ей, что он, без всякого сомнения, был здесь самым красивым и самым замечательным во всех отношениях мужчиной. Она с беспокойством посмотрела на свое красивое платье из переливчатого шелка. Достаточно ли оно хорошо? Боже правый, но как же прекрасны эти женщины!Когда занавес открылся, у Джо перехватило дыхание. Она помнила, что Джульетта красива, и все-таки ее поразила красота примадонны. Она искоса взглянула на Гая, но его лицо было серьезно, бесстрастно, даже немного грустно – выражение его трудно было точно определить. Впрочем, Джульетта, игравшая Виолетту, пела сейчас свою первую арию, в которой утверждала, что легкомыслие – лучшее лекарство от ее болезни, и Джо Энн забыла о своих страхах, забыла обо всем, очарованная этим несравненным голосом. На протяжении трех актов спектакля всего лишь дважды на смену этим чарам приходили новые приступы беспокойства. В первый раз это случилось к концу первого акта, когда Джульетта пела «Ah, fors'e lui» – «Возможно, это он», – человек, который мог бы заполнить пустоту ее жизни. В конце арии, когда Виолетта приходит к выводу, что счастье для нее не более чем безнадежная мечта, Джульетта бросила взгляд на их ложу. Инкрустированный золотом театральный бинокль позволил Джо Энн ясно увидеть при свете рампы, что слезы на глазах примадонны настоящие. Это сильно ее встревожило… Во второй же раз было и того хуже. В середине второго акта, уже после того как Виолетта отказала Альфреду, вняв мольбе его отца, она, не в силах сдержать чувства при виде возлюбленного, поет полную страсти арию «Amamil, Alfredo, amami quantio t'amo» – «Люби меня, Альфред, люби меня так, как я люблю тебя»; при этом Джульетта намеренно вышла вперед, на середину сцены, и, полностью игнорируя явно раздосадованного и сбитого с толку тенора, пропела арию, адресуя ее непосредственно Гаю и неотрывно глядя на него. Раздался гром оваций, и на этом акт закончился. Джо Энн сидела, чувствуя себя глубоко несчастной, оттого что увидела смятение и боль в глазах мужа, пряча от него свои слезы. В антракте капельдинер принес записку: Джульетта приглашала их обоих поужинать вместе с ней и ее мужем в номере-люксе гостиницы «Сент-Шарль». Джо заметила, что лицо Гая немного напряглось; прочитав записку, он молча передал ее жене. Увидев слова «мой муж», Джо едва сумела сдержать крик радости. Она ласково взглянула на Гая. «Бедняга, – подумала она, – ты, наверно, решил, что она всю жизнь будет изнывать от любви к тебе. Как же мало ты знаешь женщин! А может быть, так и лучше. Жизнь должна продолжаться. Даже женское непостоянство служит этой цели. Завтра ты узнаешь о нашем сыне и навсегда забудешь эту комедиантку…» Когда занавес вновь поднялся, она с готовностью отдалась чарующей власти голоса Джульетты. Затем были аплодисменты, крики «браво», не меньше десятка вызовов на бис. С томной грацией победительницы Джо Энн Фолкс встала и позволила мужу укутать ее плечи бархатной пелериной. – Мы примем это приглашение? – выдавил из себя Гай. Джо видела, что настроение у него скверное. – Конечно, любимый, – озорно улыбнулась Джо. – Такой ужин я не пропущу ни за что на свете! Но ожидаемый ею триумф был не столь уж радостен и полон, как она предвкушала. Мужем Джульетты, столь лаконично упомянутым в приглашении, оказался не кто иной, как постаревший, лысый, обезображенный шрамами Эдвард Малхауз. Любая другая женщина на месте Джульетты, несомненно, подумала бы о полном неприличии подобного приглашения своему бывшему любовнику разделить ужин с ней и ее мужем, посвященным во все перипетии их многолетнего романа. А уж приглашать еще и жену своего бывшего возлюбленного – прямая дорога к скандалу. Но, как ни странно, ничего ужасного не произошло. Через какие-нибудь пять минут они все трое если и не почувствовали себя совсем раскованно, то, по крайней мере, ясно понимали, что от Джульетты Катильоне нельзя ожидать, чтобы она думала и вела себя, как кто-то другой на этой земле. Даже Джо видела, что в ней нет ни капли утонченной женской мстительности. Джульетта просто хотела еще раз увидеть Гая, поговорить с ним, вволю на него насмотреться, и ей действительно было совершенно наплевать, понравится это или нет его жене и ее мужу. – Великолепно выглядишь! – сказала она. – Седина на висках тебе очень идет. Придает значительности… – Она обернулась к Джо: – Извините меня, дорогая, но он ведь все время проводит с вами, как и Эдди со мной, поэтому будьте так любезны – поговорите с моим мужем и предоставьте Гая мне, хотя бы на этот раз… – Хорошо, – сказала Джо, – ведь вам все равно придется вернуть его назад, мисс Кастильоне… прошу прощения, миссис Малхауз… На лице Эдварда Малхауза появилась вымученная улыбка. – Я к этому привык, – сказал он сухо. – Да и замуж за меня она вышла из жалости… – Вовсе нет, – сказала Джульетта. – Как раз наоборот: я подумала, что любой другой мужчина не станет терпеть мои вспышки раздражения, приступы меланхолии и ужасный характер – он будет лупить меня до полусмерти, а то и вовсе бросит. А Эдди так добр ко мне, и я действительно люблю его. Он так мил со мной и так некрасив, что мне не надо сходить с ума от ревности, как было с Гаем. А вы, – она встала, подошла к Джо и критически осмотрела ее с ног до головы, – хорошая пара своему мужу, миссис Фолкс. Вы чистая, милая и сдержанная, а я такая взбалмошная. Дети уже есть? – Нет, – поспешно ответила Джо. – Пока нет… – Жаль. Он так любит детей. А я не выношу этих мокрозадых, воющих, сопливых, дурно пахнущих зверенышей. Единственные дети, которых я когда-либо любила, – эти смышленые негритята, Сифа и Никиа… – Вот тут ты права, ей-богу! – воскликнул Гай. – Где же они, Джулия? – Они… умерли, – прошептала она. – Не смотри на меня так, Гай! Я хорошо о них заботилась. Все делала, что ты мне говорил, кормила их, держала в тепле. Правда, Эдди? – Да, Гай, – сказал Эдвард. – Она прекрасно о них заботилась. В этом не было ее вины… – Но что тогда случилось? – Колдовство, волшба, черная магия – не знаю, как и назвать! – сказала Джульетта. – Никиа проклял Сифу – и она умерла от его проклятия. Тогда он решил, что тоже должен умереть, – и умер! Клянусь, Гай, что говорю истинную правду! – Знаю, – сказал Гай с грустью. – Никиа был колдун не из последних. Одного не могу понять: почему он проклял Сифу? Ведь он любил свою маленькую сестру больше жизни… – Она… опозорила его… Мы были в Париже… Ну, в общем, ты знаешь этих французов. Они не питают отвращения к черной коже, разве что в малой степени. И один шустрый маленький бой лет пятнадцати из отеля «Империал» решил, что будет хорошим развлечением соблазнить Сифу. Потом мы провели в Риме пять месяцев, и вскоре стало заметно, что Сифа беременна. Никиабо был в бешенстве. Он обрушил на нее целый поток той тарабарщины, на которой они говорят, и в конце концов она во всем созналась. И вот тогда он вытянулся во весь свой крошечный рост и сказал… – Откуда, черт возьми, ты можешь знать, что он сказал, Джулия? – перебил ее Гай. – Он ведь наверняка сказал это на суахили? – Сифа рассказала мне потом. Он сказал: «Когда пойдет на убыль эта луна, и ты пойдешь на убыль, моя сестренка! А когда полмира укутает тьма, ты умрешь!» И она умерла. Я приглашала одного доктора за другим. Они говорили: это все гипноз, предрассудки, темные страхи. Так или иначе, она умерла от этого в первую же безлунную ночь. Этому Гай вполне мог поверить. Он помнил искусство гипноза, которому Бириби, последний колдун Фолкстона, обучил его. Если жертва по-настоящему верила или хотя бы испытывала достаточно сильное уважение к знахарю… – И что было потом? – спросил он. – Он сидел у ее тела и пел свою погребальную песню. Все ночь сидел и пел. Только на рассвете перестал. Когда я вбежала в комнату, он был там, мертвый, рядом со своей сестрой, и никаких следов от ран… – Я этому не верю! – воскликнула Джо Энн. – Это невозможно! Нельзя умереть от проклятия! – Ты так думаешь, Джо? – спросил Гай угрюмо. Он чувствовал, как его охватывает мрачная злоба, застарелая неприязнь к людям, безмятежно верящим, что их культура заключает в себе всю правду. Да и настроение у него было прескверное. Он горячо любил жену, но не мог не заметить, как она обрадовалась его замешательству, когда он получил записку от Джульетты. Были и другие причины, которых он даже не мог понять. Ему нравилось ощущать свою власть, а в эти несколько последних дней Джо словно ускользала от него. Казалось, она знает какую-то тайну, сводившую на нет его власть над нею. И это ему не нравилось. – Ты так думаешь? – сурово повторил он. – Посмотри-ка мне в глаза, Джо. Прямо в глаза. Не отводи взгляда, не шевелись. Так, так… Теперь хорошо. Огни меркнут. Ты погружаешься во тьму – ты в джунглях. Ночь. Вокруг рычат леопарды… – Нет! – пронзительно закричала Джо Энн. – Нет, Гай, нет! Ты не можешь оставить меня в джунглях на съедение зверям! Если бы даже ты хотел избавиться от меня, ты не можешь этого сделать! Из-за ребенка, Гай! Твоего сына, которого я ношу под сердцем! Ты не можешь, не можешь… Он щелкнул пальцами перед ее остекленевшими глазами. Очень медленно они начали проясняться. – Джо, – сказал он дрогнувшим голосом, заключая ее в объятия, – прости меня. Это была отвратительная выходка. То, что ты сказала насчет ребенка, правда? – Да, любимый, – прошептала она… – Я рада, что вернулась. В джунглях было ужасно и… Гай! Ты… действительно можешь проделывать такие штуки! Кто же ты, Гай? За кого я вышла замуж? – За дьявола, явившегося из ада, – сказал он язвительно. – Но не беспокойся по этому поводу, Джо:
«…От этих сил теперь я отрекаюсь! …Я раздроблю тогда мой жезл волшебный, И в глубь земли зарою я его,
А книгу так глубоко потоплю, Что до нее никто не досягнет»*["982]
– Пойдем, любовь моя, будет лучше, если мы уйдем отсюда… – А как же ужин! – вскричала Джульетта. – Прости, Джулия, – сказал Гай. – Как-нибудь в другой раз… И, обняв Джо Энн за талию, он вывел ее из комнаты. Через восемь с половиной месяцев родился их сын. Гай назвал ребенка Хантером, в честь Хантеркреста, поместья Фолксов, откуда пошли его предки. Но только тогда, когда Джо Энн взяла в руки вопящего краснолицего малютку, она перестала бояться, что он может родиться с раздвоенными копытами или рогами.
Глава 27
«Мир – театр, – нередко цитировал Гай слова Шекспира, – в нем женщины, мужчины, все – актеры; у каждого есть вход и выход свой…»*["983] Так и он весной 1884 года, когда почти вся жизнь была уже позади, готовился, как ему нравилось думать, к последнему грандиозному уходу со сцены, с любовью следя за другими, более молодыми актерами, впервые ступающими на подмостки. Некоторые из них уже нашли для себя роли, и новое поколение родственных кланов Джеймсов, Мэллори и Фолксов заявило о себе в полный голос. Престон Мэллори, старший сын Фитцхью и Грейс, женился на Франсуазе Джеймс, дочери Уилла и Нормы. У младшего сына Фитцхью Мэллори, Уилтона, куда в большей степени, чем у его отца, проявились фамильные черты. Он питал слабость к лошадям, женщинам и азартным играм, что делало его похожим скорее на покойного Килрейна, чем на Фитца. Впрочем, Гай знал, что в мальчике немало хорошего. Он великодушен, весел, в душе его нет злобы. Самая младшая из детей Мэллори, маленькая Трилби, родившаяся через год после возвращения Фитцхью с войны, была очаровательна – светловолосая, радостная, как солнечный лучик. Мэллори обрели счастье в детях. А вот Гай и Уилл Джеймс не могли найти общий язык с сыновьями, и это еще больше сблизило их на старости лет. Натан Джеймс, зачатый мужчиной, чей ум был отточен подобно клинку рапиры, был большим, неуклюжим, молчаливым мальчиком, погруженным в свой внутренний мир, болезненно робким, неловким в поступках и косноязычным. «Хороший мальчик, – говорили о нем люди, – но пороха не выдумает…» Хантера Фолкса никак нельзя было назвать неловким, неуклюжим или робким. Светловолосый и красивый, как нордический бог, великолепный стрелок, превосходный наездник, искусный боксер, фехтовальщик, пловец. Хантер с отличием сдавал экзамены в Оксфорде, где учился вместе со своим британским кузеном Лансом. И, обладая всеми этими качествами, он тем не менее медленно разбивал отцовское сердце. Увы, сын Гая Фолкса был для него незнакомцем: он столь же разительно отличался от отца, как луна от солнца. Любовь между ними была сильной, но причиняла обоим немало страданий. Гай понял, как любит его сын, однажды осенним днем, когда обрушил на Ханта град проклятий и ругательств: тот не попал в оленя с такого близкого расстояния, что и ребенок не промахнулся бы с завязанными глазами. – Опять! – взревел он. – Что с тобой, Хант? Ты, черт возьми, умеешь стрелять куда лучше меня и при том… – Папа, – тихо сказал Хант, – думаю, нам лучше объясниться раз и навсегда. Я старался избежать этого, но больше не могу от тебя скрывать. Пожалуйста, папа, не расстраивайся, но дело в том, что я ненавижу охоту. Всегда ее терпеть не мог и никогда не полюблю. Так жестоко, так отвратительно убивать прекрасных беззащитных зверей, как этот олень, например… Гай стоял, глядя на Ханта. Многое становилось ему понятным. – Надо полагать, ты и еще кое-чего не любишь, сынок? – спросил он. – Да, папа. Все виды спорта: верховую езду, стрельбу, фехтование, плавание, бокс. Прошу прощения, сэр, но они всегда казались мне детскими забавами, что ли, недостойными мужчины… – А околачиваться целыми днями у этого католического священника, отца Шварцкопфа, – подходящее занятие для мужчины, не правда ли, Хант? – спросил Гай с раздражением. – Да, папа, ведь это дает пищу душе и уму… – Понятно, – сказал Гай с горечью. – Что ж, Хант, ты можешь раз и навсегда повесить ружье на гвоздь и забросить все другие детские игрушки. Одного не могу понять: как может мальчик, добившийся таких успехов в спорте, куда больших, чем я когда-то… – Папа, – прервал его Хант дрожащим от боли голосом, – а тебе никогда не приходило в голову, чего мне это стоило? – Зачем же ты так старался? – проворчал Гай. Хант долго не отвечал, глядя на отца. – Ради тебя, папа, – сказал он наконец.После этого Гай оставил Ханта в покое. Но с этим было трудно смириться, и особенно с чувством, почти переросшим в убеждение, что помолвка Ханта с Трилби Мэллори – тоже часть этого странного, почти болезненного, сыновнего послушания. Хант и в любви не вел себя так, как подобает мужчине. И Гай, и Фитцхью желали этого брака, но Гай заранее смирился с тем, что помолвка может быть расторгнута в любой день. Утешением ему теперь все чаще служила дочь Джуди, родившаяся в один день с Трилби, что давало повод для их с Фитцхью неизменной шутке: мол, их дочери – результат последних вспышек энергии двух усталых стареющих мужчин, энергии, накопившейся за пять лет вынужденного воздержания на службе в армии конфедератов. Джуди была физическим и духовным воплощением Гая, поэтому они прекрасно ладили. Он строил грандиозные планы на ее счет. Во время войны, будучи капитаном капера флота конфедератов «Меридиан», Гай загружался углем в английских портах и благодаря этому возобновил знакомство с британской ветвью семьи Фолксов. Он очень сблизился с юным Лансом, младшим сыном сэра Хентона Фолкса II. Ланс был энергичен, как и подобает Фолксу, увлекался артистками мюзик-холла, знал подробности из жизни чуть ли не всех победителей скачек в Дерби со времени их основания. К тому же Гай в жизни не видел лучшего стрелка по птицам влет при охоте с собаками или загонщиками. Помимо всего этого Ланс обладал острым умом; впрочем, ценой немалых усилий он скрывал это. А самое главное, по мнению Гая, заключалось в том, что он был вторым сыном в аристократической семье и в соответствии с правом первородства имел не самые блестящие перспективы в Англии. Гай видел в нем идеального мужа для Джуди, если бы, конечно, он согласился перебраться в Штаты. И вот, обдумав все это, весной 1884 года Гай вновь отправился в Англию. Он собирался раз и навсегда решить этот вопрос, но не знал, да и не мог знать, что покидает семью и друзей как раз тогда, когда они больше всего в нем нуждались. 18 сентября 1884 года Джо Энн Фолкс на большой галерее Фэроукса беседовала с Грейс Мэллори. Разговор был серьезным и долгим, поскольку затрагивал тему, важную для них обеих. – Люди, – сказала Грейс сухо, – придают огромное значение возрасту и жизненному опыту, но вот тебе шестьдесят лет, а мне пятьдесят один, и ни одной из нас недостает ни здравого смысла, ни сообразительности, чтобы, потратив столько времени, прийти к какому-нибудь решению… – А что говорит Фитц? – спросила Джо Энн. – Фитц? Что ты, не знаешь его? От него нет никакого проку. Всегда видит в людях только хорошее. Поверь мне, Джо, что-то с ним неладно, с этим Уилкоксом Тернером, но в чем здесь дело, никак не могу понять. Должна сказать тебе, что большая доля вины в том, что все так сложилось, лежит на Ханте. Унаследуй он от отца хотя бы половину его предприимчивости и умения найти правильный подход… Не могла бы ты с ним поговорить? Он чудесный мальчик, и мы с Фитцем оба, откровенно говоря, очень бы хотели, чтобы он женился на Трилби. Фитц говорил, что и Гай не против. Все было так хорошо, казалось, что дети питают привязанность друг к другу, пока не появился этот таинственный мистер Тернер. Страшно богатый, обходительный, говорит, как университетский профессор, но, послушав его часа два, внезапно понимаешь, что он ничего толком и не сказал. Ты по-прежнему не знаешь, кто он, из какой семьи, как разбогател, чем занимается, есть ли вообще у него какая-нибудь профессия – ровным счетом ничего! Он умеет уходить от ответа на неприятные вопросы ловко, как никто другой… – А что же малютка Трилби? – Он совсем вскружил ей голову. Думает, что прекрасен, как плавучий театр, где играют на каллиопе. И он такой сладкоречивый, Джо, ох, как меня пугает все это! – «Мы счастья ждем, а на порог валит беда…»*["984], – задумчиво сказала Джо. – Гай с Фитцем разве что не подписали брачные контракты за наших детей еще до их рождения. И что же? Трилби и Хант послушно делают все, что велят им родители, но это только послушание, не более того, а тут как раз появляется этот нью-йоркский пройдоха – и все планы рушатся. А взять твоего Уилтона и мою Джуди: оставь их вместе на пять минут, и они сразу сцепятся как кошка с собакой… – В этом нет ничего дурного, – сказала Грейс. – В конце концов они найдут дорогу к любви, несмотря на эту драчливость… – Кстати, о драчливости, – сказала Грейс. – Если бы у Ханта было ее хоть немного больше… – Он не сможет, Грейс, – тихо сказала Джо Энн. – Это умение ему, увы, не дано. – Слоняется все время с этим придурковатым Натаном Джеймсом. Бедняга Уилл! Какой тяжкий крест он несет! – Нат хороший, – сказала Джо Энн, – просто он тихий и медлительный. Они ладят с Хантом, потому что оба молчаливы и не действуют друг другу на нервы. И Франсуаза такая же, а какая хорошая жена твоему Престону… – Я была против женитьбы Преса на Франсуазе Джеймс, – сказала Грейс, – но все вышло куда лучше, чем я ожидала. Нужно время, чтобы увидеть, что к чему. Может, и нам не стоит так уж сильно волноваться, что Трилби увлеклась мистером Тернером… – Если бы Гай был здесь… – сказала Джо Энн. – Он бы придумал, что делать… – Ей-богу, придумал бы! – воскликнула Грейс. – Самый решительный человек, которого я знаю… Господи Боже, как поздно! Тебе, наверно, надо еще сделать миллион дел, ведь завтра у Ханта день рождения! – Еще бы! – сказала Джо Энн. – Я как раз собиралась попросить у тебя прощения и закончить разговор… Первое, что увидела Джо, войдя на кухню, где хлопотала тетушка Руфь, была Джуди. В свои восемнадцать Джуди Фолкс была изумительно красива. Вылитый отец, говорили о ней. Так оно и было, только к этому надо добавить, что смуглая красота Гая была в ней смягчена женственностью и являлась предметом растущего беспокойства Джо Энн. – Джуди, – тяжело вздыхал Уолт Мэллори, – напоминает мне пороховую бочку с зажженным фитилем! Если бы только она обращала на меня хоть немного внимания… Джуди обернулась и поцеловала мать в поблекшую щеку. – Гости те же, что и всегда, мама? – протянула она. – Да, – ответила Джо Энн. – Престон с Франсуазой, Нат, Уолт, Трилби, девушки Клайвов – они нужны, чтобы было достаточно партнерш для наших мужчин, – придется и гостя семейства Мэллори пригласить, хотя, надо сказать, мне он не нравится… – Уилкокс Тернер? – спросила Джуди с томным видом. – Я определенно нахожу его обаятельным. Самый интересный мужчина, которого мне доводилось видеть. Такой обходительный… – Даже чересчур обходительный, – оборвала ее Джо Энн. – Неужели и тебе вскружил голову этот нью-йоркский пройдоха? Начнем с того, что он слишком стар для тебя. Во-вторых, никто не знает, что это за человек и каковы его виды на будущее… – Он говорит, что его мать – старая знакомая нашего папы, – сказала Джуди. – Из Нью-Орлеана. Если б он еще хоть немного был похож на папу, я бы подумала… – Джуди! – воскликнула Джо Энн. – Господи, мама, да не будь ты такой праведной! Я же знаю, что папа был в свое время парень не промах… – Ты употребляешь совершенно недопустимые выражения, Джуди. Сколько раз я тебе говорила… – По меньшей мере, миллион. Пустая трата слов, мама. Ты не в силах изменить мои привычки, как и привычки отца. Поскорей бы он вернулся. Вечно он уезжает в Англию навещать своих скучных британских кузенов… – Ведь ты их даже не помнишь, – сказала Джо. – Как же ты можешь судить, скучные они или нет? Я, например, нахожу, что они очень приятные люди. – О вкусах не спорят. – Ты совершенно невыносима, – сказала Джо Энн. – Хорошо бы, чтоб ты поскорей вышла замуж, с глаз долой… – Боюсь, тебе не скоро удастся от меня отделаться, мама. За кого мне выходить? За первого же, кто будет свататься, чтобы только не видеть этого вечно скалящегося идиота Уолта, которого я готова отхлестать кнутом? Конечно, – вкрадчиво добавила она, – есть еще мистер Тернер… – И думать забудь! – вскричала Джо Энн. – Никто о нем ничего не знает, и ему уже не меньше сорока! – Тридцать шесть, – невозмутимо поправила ее Джуди. – Денег на текущие расходы у него достаточно, пусть это тебя не волнует. А манеры его великолепны. Единственное, что меня не устраивает, – это то, что уж слишком он увлечен Трилби. Моему святоше-братцу надо быть начеку. Не удивлюсь, если у него уведут девушку… – Я… тоже заметила, что Трилби уделяет ему слишком много внимания, – сказала Джо Энн. – Может, Фитцхью стоит отослать ее куда-нибудь на время… – Ради Бога, мама! Надо вести честную игру. Трилби решит все сама. Да и Ханту нужно пробудиться от спячки. Как бы я хотела, чтоб папа быстрей вернулся! Я так без него скучаю! – Да, твой отец – человек редких достоинств, – сказала Джо Энн. – Смотри и ты не прогадай, когда придет твой черед выходить замуж. – В том-то и загвоздка, – рассудительно заметила Джуди. – Я сравниваю с папой всех знакомых мальчиков, и ни одни из них не выдерживает сравнения. Это трудное испытание, мама. Может быть, я не совсем справедлива – ведь я не знаю, каким он был в молодости. А каким он был, мама? – Почти таким же, как сейчас. Немного грубее, конечно. Когда я впервые его встретила, он разговаривал, как неотесанный мужлан. – Папа? Никогда этому не поверю! – Но именно так и было. Первое, о чем он попросил меня, – научить его говорить правильно. И он учился. Боже правый, как он учился! Он никогда в жизни не ходил в школу, правда, несколько лет занимался у нашей домашней учительницы вместе со мной. Но он образован лучше, чем кто-либо из выпускников университетов, которых мне довелось знать. – Наверно, ты была красивой, мама, – сказала Джуди. – Да ты и сейчас красива и выглядишь, как подобает пожилой леди. И ты такая милая. Прости, что я иногда бываю дерзка с тобой. Но я люблю тебя, мама, люблю всем сердцем… – Спасибо тебе, девочка, за это. Иди-ка, помоги тетушке Руфи стряпать к дню рождения… – Пропади он пропадом, этот день рождения! – притворно капризничая, воскликнула Джуди. – Правда, мистер Тернер будет – хоть какое-то утешение… Когда на кухню вошел Хант, приготовления к празднику были в полном разгаре. – Здравствуй, мама, – сказал он, целуя Джо Энн. – Привет, Детка! Господи, тетушка Руфь! Нам что, целую армию надо накормить? – Уж я-то знаю, как едят молодые люди, – хихикнула тетушка Руфь, – особенно эти мальчишки Мэллори. Да и масса Нат от них не отстает. А что вы так рано домой вернулись, масса Хант? «Только старые негры чего-то стоят, – с грустью подумала Джо Энн. – Молодые теперь говорят „мистер“ и „миссис“, да и то неохотно. Никогда не скажут „хозяин“. Они свободны, конечно, если вообще кто-то может быть свободен в этой жизни…» – Я собиралась задать тебе тот же вопрос, сынок, – сказала она, слегка волнуясь. – Ты ведь не поссорился с Трилби, правда? – Едва ли бы мне это удалось, – раздраженно сказал Хант. – Я ее даже не видел. Ускакали куда-то с этим таинственным мистером Тернером. – Ну и ну! – воскликнула Джуди. – Да он ревнует! Смотри, мама, у Ханта приступ ревности! Может быть, у него все же есть кровь в жилах! – Ты угадала, Детка, – спокойно сказал Хант. – Я ревную. Мне всегда казалось, что Трилби от меня никуда не денется, а теперь я начинаю понимать, как мне будет больно потерять ее… – Значит, сынок, – прошептала Джо Энн, – ты все-таки любишь ее? – А разве у вас были какие-то сомнения? Я не привык выставлять напоказ свои чувства, мама, но я полагал, что… – Хант, – спросила Джо Энн, и в голосе ее послышалось отчаяние, – ты хоть когда-нибудь говорил Трилби, что любишь ее? – Да, мама, – ответил Хант, – а что? – Больше одного раза? Держал ее руку, говоря это? Целовал ее? – Я уже сказал, что не выставляю своих чувств напоказ… – начал Хант. – Боже правый, мама! – воскликнула Джуди. – Да его легче застрелить!.. – Послушай, сынок, – тихо сказала Джо Энн. – Мне шестьдесят лет. Даже теперь, и весьма часто, твой отец говорит мне, что любит меня. Мне это нравится, как и любой женщине. Сколько это ни повторяй – все будет мало. Женщины – они так подвержены сомнениям… Имвсегда нужны доказательства, что их любят. Да стоит твоему отцу сорвать цветок в саду и подарить мне в знак своей любви, и я готова петь весь день. Понимаешь? Нам недостаточно знать, что наши мужчины любят нас. Нам нужно слышать слова любви снова и снова! И нам это никогда не надоест, сколько бы раз они их ни повторяли. Мне нравится Трилби. Думаю, из нее получилась бы хорошая невестка. И, если ты позволишь этому Уилкоксу Тернеру, который слишком стар для Трилби и ведет себя как-то странно, что мне не нравится, увести ее у тебя из-под носа, ты меня очень разочаруешь… – Знаю, мама, – сказал Хант, – но что я могу сделать? Такой уж я уродился. Я чертовски застенчив. Боюсь, я так бы и не решился ее поцеловать, если бы не… – Ага! – воскликнула Джуди. – Значит, ты все-таки поцеловал ее, Хант? Ну-ка расскажи! – Мама, мы что, так и будем обо всем говорить в присутствии Детки? – Нет. Пойдем-ка в кабинет отца. Нам давно уже пора побеседовать всерьез… – Но, мама, – запротестовала Джуди, – я хочу все знать о любовных делах Ханта. Может, ему понадобится совет сестры. В конце концов, сейчас другие времена, и твой взгляд на мир устарел! – Ты останешься здесь, Джуди, – сказала Джо Энн. – Тетушка Руфь, если она уйдет, проследи за ней. А увидишь, что она прилипла к замочной скважине, дай ей хорошенько сковородкой по мягкому месту. Ты меня слышишь? – Да, мэм. С удовольствием. Раз дитя нуждается в небольшой трепке… – Тетушка Руфь! – надула губы Джуди. – Ты не посмеешь! – А попробуй-ка, малышка, попробуй – увидишь! – сказала тетушка Руфь.
– И вот, мама, – рассказывал Хант, – у меня возникло безумное желание покинуть мир и стать монахом. Написать религиозный шедевр, такой же, как «Summa Theologica»*["985] Фомы Аквинского или «Исповедь» Святого Августина. Два человека остановили меня: преподобный Мартин Шварцкопф, сказавший, что я должен молиться и убедиться в верности своего выбора… – Хант, – сказала Джо. – Значит, ты принадлежишь к этой Церкви? – Да, мама. Я считаю, что это самая благородная, самая вдохновляющая, самая возвышенная… – Ладно. Тебе нет нужды в чем-то убеждать меня. Я ничего не имею против католицизма, пока ты не пытаешься обратить в эту веру меня и отца. Если протестанты неизбежно обречены гореть в адском пламени, что ж, мы сгорим в нем. Но давай вернемся к сути дела, сынок. Я полагаю, вторым человеком, помешавшим тебе сделать этот шаг, была Трилби, не так ли? – Совершенно верно. И она добилась этого старым как мир способом: она… поцеловала меня. И потом сказала: «И от этого ты тоже сможешь отказаться?» И я понял, что не смогу. Я испугался. Подумал, что рискую своей бессмертной душой ради женщины. Пошел поговорить с отцом Мартином, и он мне сказал, что христианская женитьба – это торжественный обет, данный Богу. Тогда я успокоился… – А что теперь? – Завтра, в день рождения, мы обговорим дату свадьбы, чтобы она состоялась как можно быстрее, после того как вернется папа. Я уверен, что уж это решение он одобрит. Незадолго до рассвета один из гигантских мастиффов, составлявших предмет гордости Фэроукса наряду с серыми в яблоках лошадьми, которых завел еще Эштон Фолкс, поднял большую, как у льва, голову и завыл. Звук был ужасный, глубокий и печальный. Он висел в ночном воздухе, как… «…Обещание несчастья», – подумала Джо Энн. Она лежала и слушала, как еще четыре буль-мастиффа подхватили этот вой, выплескивая свое застарелое собачье горе идущей на убыль луне. И вот одна за другой подали голос все собаки в округе, даже мастиффы Мэллори-хилла присоединились к своим родичам и потомкам в Фэроуксе. Пронзительно заржали серые лошади. А Джо Энн Фолкс, содрагаясь, внимала этому ужасному хору. «Гай назвал бы меня дурой, – подумала она, – но я боюсь, боюсь…»
Джо Энн сидела рядом с Уилкоксом Тернером и смотрела, как Хант танцует с Трилби, – оба такие красивые, молодые, во многом странным образом схожие: стройные, светловолосые, с розовыми, словно только что вымытыми, лицами. Трилби крошечная, как куколка из дрезденского фарфора. Хант возвышался над ней; он на дюйм превосходил ростом даже отца и имел фигуру атлета – стройные бедра и широкие плечи. У него было все, что нужно для чемпиона, кроме сердца, жаждущего борьбы. Трилби выглядела недовольной. Она то и дело бросала взгляд туда, где сидел Уилкокс. В другом конце комнаты Нат Джеймс бессвязно и односложно отвечал на оживленную болтовню Ив Клайв. Он глядел на Трилби глазами преданного пса. Престон Мэллори танцевал с женой Франсуазой. Весь его облик выражал сонное довольство. Джо Энн отметила про себя, что он начал толстеть. Какие слова произносит обычно Гай, когда речь заходит о крепости брачных уз? Ах да – la curva de felicidad – кривая счастья. Уилтон Мэллори танцевал с Джуди: они пытались изобразить негритянский танец кекуок. «Господи, – подумала Джо, – а вдруг они так разойдутся, что начнут лягаться, размахивать руками и скакать, как черномазые, – придется тогда их остановить…»
Уиллард и Норма Джеймс с довольным видом наблюдали за происходящим со своих мест. Их брак оказался удачным. Жили душа в душу. Дети не доставляли им много хлопот, хотя Нат и не оправдал их надежд. Рядом с ними сидели Фитц и Грейс и с нескрываемым беспокойством наблюдали за Трилби, танцевавшей с Хантом. Трилби же не сводила глаз с Уилкокса Тернера. Джо пришлось признать, что его вполне можно было назвать привлекательным. Это был видный мужчина высокого роста, красивый неброской красотой, в которой было что-то англосаксонское. Трилби явно хотела, чтобы он подошел и занял место Ханта. Испытывая чувство, близкое к отчаянию, Джо попыталась его разговорить. – Не хотела бы показаться вам любопытной старухой, мистер Тернер, – сказала она, – но мы были бы не прочь немного узнать о вас. На Севере, конечно, все по-другому, но здесь у нас каждый знает все о каждом. Так уж принято между соседями. Мы считаем, что порядочным людям нечего скрывать… – Так я показался вам скрытным, миссис Фолкс? – промурлыкал Тернер своим низким голосом грудного тембра. – Прошу прощения, я вовсе не хотел этого. Возможно, английская кровь – причина моей сдержанности… – А вы разве англичанин? – спросила Джо Энн. – Акцента у вас нет… – Откуда ему быть? Я родился в Нью-Орлеане и жил в Нью-Йорке с четырех лет. Я-то думал, что вы все обо мне знаете: ведь во многом благодаря вашему мужу я сумел встать на ноги… – Я могу сказать наверняка, что мой муж никогда не упоминал при мне ваше имя… Лицо Уилкокса Тернера выразило неподдельное замешательство. – Должен вам сказать, что это очень странно. Моя мать так часто говорила о нем… – Расскажите мне о ней, – попросила Джо Энн. – Она была красива. Смуглая, латинского типа, как и ваша дочь. Она всю жизнь восхищалась вашим мужем, миссис Фолкс, потому что он исправил вопиющую несправедливость, допущенную по отношению к ней. Мой отец был англичанином, жившим в Нью-Орлеане. Он был довольно богат, когда же умер, появились так называемые родственники и оспорили завещание. Мать была бедна и незнатного происхождения, поэтому им удалось выиграть. Но весной 1855 года появился мистер Фолкс, который, по-видимому, хорошо знал ее семью и проделал работу, достойную хорошего детектива. Он, кажется, сумел доказать, что эти родственники никак не были связаны с отцом. Нам возвратили его деньги, и мы зажили очень хорошо. Я обучался в лучших школах, закончил Гарвард… Ну вот, пожалуй, и все… – Нет, не все, – сказала Джо Энн. – А вы-то сами чем занимаетесь? – Я владею кожевенной фабрикой в Бруклине. Мы производим все виды изделий из кожи: женские сумочки, обувь, чемоданы, седла, сбрую… Я сомневался, стоит ли говорить об этом, потому что знаю, как сильны на Юге предубеждения против предпринимателей… – Не так уж они и сильны. Вы могли бы назваться владельцем фабрики и быть принятым всюду… – Я этого не знал. Моя фабрика, если я могу так сказать без риска показаться хвастливым, одна из крупнейших в Нью-Йорке. Но я всячески избегал упоминать об этом, потому что, как вы заметили, миссис Фолкс, у меня несколько искаженное представление о Юге… – Вам следовало все рассказать, – мягко сказала Джо Энн. – Когда здесь появляется незнакомец и ничего не говорит о себе, мы начинаем думать, что ему есть что скрывать. Скажите, мистер Тернер, а почему вы до сих пор не женились? Вы мужчина приятной наружности, у вас есть деньги, и вам, должно быть, уже под сорок… – Мне тридцать шесть лет. А не женился я потому, что моя мать тяжело болела с тех пор, как я окончил колледж. В прошлом году она умерла. Должен признаться, что она не отпускала меня от себя до последнего дня. – Понимаю, – сказала Джо Энн. – Еще один вопрос – и я перестану вас мучить: почему, зная, что ваша мать и мой муж были давними друзьями, вы остановились в Мэллори-хилле, а не в Фэроуксе? – Дело в том, – улыбнулся Тернер, – что у меня возникло ошибочное представление, будто ваш муж живет именно там, миссис Фолкс. Среди бумаг матери я обнаружил одно или два письма от мистера Фолкса, где он давал советы относительно вложения капитала, рекомендовал переговорить с его банкирами и тому подобное, – все письма были отправлены из Мэллори-хилла, за исключением одного, посланного не из Америки. Естественно, я приехал именно сюда в надежде повидать нашего давнего благодетеля и поблагодарить его. Когда я спросил о нем, мистер Мэллори сказал, что он в Англии, и любезно предложил остановиться у него, – мне даже в голову не пришло, что я допустил ошибку. В сущности, я только через два дня случайно узнал, что мистер Фолкс лишь короткое время жил в Мэллори-хилле, а теперь живет в Фэроуксе. Но к этому времени я познакомился с Трилби, поэтому, как вы понимаете, мне захотелось остаться… – А известно ли вам, – решительно сказала Джо Энн, – что она собиралась выйти замуж за моего сын? – Я знаю, что все так думают, – сказал Уилкокс Тернер не менее твердо, – но я знаю и то, что никто не поинтересовался мнением самой Трилби. Она не любит вашего сына, миссис Фолкс. Трилби сама мне об этом сказала. Никакой официальной помолвки не было. При этих обстоятельствах я не могу считать себя виновным в разрыве отношений, существующих только в головах заботливых родителей. Откровенно говоря, миссис Фолкс, чтобы завоевать Трилби, я мог бы взять на вооружение древний принцип, гласящий, что в любви и на войне все средства хороши, но в этом нет нужды. Я вступаю в честное и открытое состязание с вашим сыном, кстати, очень порядочным молодым человеком. Лучший из нас победит и станет женихом, а тому, кто проиграет, я полагаю, надлежит с достоинством признать это. А теперь прошу меня извинить… Пред ними стояла Трилби: – Ты собираешься со мной танцевать, Уилл? – Конечно, дорогая, – ответил Тернер, заключая ее в объятия. И они унеслись прочь. Уилкокс Тернер танцевал, как профессионал, даже лучше тех из них, кого доводилось видеть Джо Энн. Сердце ее разрывалось от горя. Господи Боже! Почему Гай так долго не возвращается домой?
Когда Джо Энн вернулась с кухни, отдав приказание тетушке Руфи и служанкам вносить закуски, она сразу увидела: что-то неладно. Лицо Грейс Мэллори побледнело от беспокойства. Фитцхью мрачно хмурился. Трилби Мэллори и Уилкокс Тернер исчезли. И Хант куда-то запропастился. Не сказав ни слова, Джо вышла на галерею и сразу же увидела сына, бегущего со стороны сада. Хант быстро поднялся по лестнице, перепрыгивая через ступени. Когда он оказался совсем близко, она заметила слезы на его лице. – Хант! – выдохнула она. – Они… они не… – Да, мама! Она приняла его предложение. Ради Бога, мама, уйди с дороги. Мне некогда! Увы, она не поняла, почему он так спешил. Она обнаружила это только на следующее утро, когда постучалась к Ханту, полная решимости убедить его, что не все еще потеряно. Его постель осталась нетронутой. Два саквояжа исчезли из стенного шкафа. Хантер Фолкс покинул родительский дом.
Глава 28
Лиз Мелтон, хозяйка таверны в том районе Натчеза, который здесь называют «под Холмом», перегнулась через стойку бара, чтобы получше разглядеть развалившегося на стуле юнца с лицом, опухшим от пьянства. – Клянусь Господом, – произнесла она хриплым пропитым голосом, – до чего же он похож на твоего отца, детка! Сразу видно плантаторского сынка… – Он говорит, что приехал с какой-то большой плантации выше по реке, – сказала Роза Мелтон, – Фэрвуд или что-то в этом роде… – Фэрвуд? Никогда не слышала. Фэр… Господи, Роза, может быть, Фэроукс? – Да, мама, – ответила Роза, – он именно так назвал это место. Боже правый! Ведь это то самое название, которое ты так часто вспоминаешь! – Самое большое и красивое имение на всей реке. И оно должно было достаться тебе, если б этот подонок, твой папочка, не убил бы себя! Как этот мальчишка назвал себя – Мэллори? – Нет, Фолкс. Хантер Фолкс. А что, мама? – Тем лучше! – хихикнула Лиз. – Если бы его звали Мэллори, он был бы твоим братом, хотя это вряд ли возможно – у твоего отца никогда не было другого ребенка… Роза задумчиво разглядывала Ханта. – Должно быть, он ужасно богат, – мечтательно сказала она. – Еще бы! А ты не выяснила, детка, женат он или нет? – Нет, мама, – широко улыбнулась Роза, – но, видит Бог, я хотела бы это узнать! Лиз взглянула на дочь. В свои тридцать лет Роза Мелтон выглядела намного моложе. Она не унаследовала от родителей тяги к спиртному и была чрезвычайно разборчива в отношениях с мужчинами, ибо природа одарила ее не только благоразумием, но и практичностью. «Айсберг по имени Роза» называли ее мужчины с плоскодонок. Она так и не вышла замуж по той простой причине, что постоянные напоминания матери о ее «благородном» происхождении исподволь развили в ней неукротимое стремление добиться лучшей доли в жизни. А если принять во внимание, что шансы девушки, живущей «под Холмом», выйти замуж за человека «из общества» равнялись примерно одному на миллион, упорное ее нежелание даже подумать над брачными предложениями, которые делались ей нередко, казалось нелепым упрямством. Надо сказать, что Роза, несомненно, обладала немалыми достоинствами и не могла остаться незамеченной. Унаследовав от отца определенное изящество, она, одетая соответствующим образом, внешне ничем не выделялась бы среди жен и дочерей крупных плантаторов. Она правильно говорила и даже иногда прочитывала какую-нибудь случайную книгу. Розе казалось, что эти качества понадобятся ей в будущем, она непоколебимо верила, что станет однажды настоящей леди, а о том, что знатные леди Юга говорили обычно не Бог весть как грамотно и вовсе ничего не читали, она и не догадывалась. Веря в свою принадлежность к избранным и чувствуя отвращение к неряшливости матери, она была крайне чистоплотна и опрятна в одежде. Роза не красилась и не пудрилась, чем отличалась от большинства женщин той части Натчеза, что находилась ниже Холма. Одежда ее если и не блистала вкусом, то только лишь потому, что Розе почти не приходилось видеть, как одеваются женщины из высших классов общества, живущие на Холме. Короче говоря, белокурая Роза Мелтон с ее кошачьей грацией и стремлением подражать манерам леди представляла собой незаурядное явление для тех кварталов Натчеза, где она обитала. – Не торопи события, – нервно наставляла Лиз. – К ним, этим благородным господам, нужно уметь подойти. Их легко вспугнуть, и они очень подозрительны. Так что слушай меня, детка, уж я-то их знаю… – Ты, мама, – спокойно отвечала Роза, – никогда не знаешь, с какого конца взяться за дело. Поэтому не учи меня, вспомни, как ты бездарно распорядилась тем шансом, который у тебя был. Я намного умнее, чем ты, и собираюсь доказать тебе это прямо сейчас… И Роза подошла к столику, за которым сидел Хант. Он посмотрел на нее затуманенными хмелем глазами и потянулся к бутылке, уже почти пустой. Рука Розы крепко сжала его запястье. – На вашем месте я не стала б больше пить, мистер Фолкс, – сказала она мягко. – Это почему же? – воинственно вопросил Хант. – Всю жизнь был святошей, как последний дурак, и что я получил за это? Что, я вас спрашиваю? – Очень интересно, Хант, – сказала Роза улыбаясь, – что же вы за это получили? – Моя девушка бросила меня, вот что. Надоел ей до смерти. Вот она и связалась со сладкоречивым хвастуном из Нью-Йорка, который… а вы хорошенькая! – Спасибо, – сказала Роза с журчащим горловым смешком. – Я покажусь вам еще красивее, если вы меня получше рассмотрите. Вставайте и пойдем! – К… куда? – спросил Хант заплетающимся языком. – С… со мной такие шутки не пройдут, вы слышите? – Никаких шуток, – мягко сказала Роза. – Я вас отведу к себе наверх и буду поить черным кофе, пока вы не протрезвеете. Если бы я хотела обмануть вас, я бы не стала беспокоиться, чтобы вы протрезвели, как вы думаете? – Пожалуй, что так, – устало сказал Хант. – Вы хорошенькая. Белокурая, как Трилби. Но другая. Мудрее, что ли… – О, вы убедитесь, что я очень разумная девушка, – сказала Роза Мелтон.Хантер Фолкс медленно просыпался. Он лежал, моргая, щурясь и пытаясь собраться с мыслями. «Что за чертовщина, где это я», – думал он. Комната была ему незнакома: опрятная, красивая, во всем ощущалось женское присутствие. На окнах занавески. Туалетный столик весь уставлен таинственными бутылочками и флаконами. Запах духов. Голова болела невыносимо. Хант ничего не мог понять. Он помнил, как приехал в Натчез, как бродил по нижней части города с намерением «дойти до края» с первой же попавшейся проституткой, но гарпии с нарумяненными и размалеванными лицами, окликавшие его из окрестных притонов, вызывали омерзение, и тогда он, вспомнив о виски, выпил в одном кабаке, выпил еще в нескольких местах, но как попал он в заведение Лиз, вспомнить уже не мог и не имел поэтому ни малейшего представления, где он находится. Он хотел было уже оставить всякие попытки разрешить эту загадку и повернуться лицом к стене, когда вошла Роза Мелтон с подносом. Хант почувствовал приятный запах яичницы с грудинкой и свежезаваренного кофе. К своему удивлению, он изрядно проголодался, но, когда перевел взгляд с подноса на девушку, которая несла его, тут же позабыл всякий голод. Она была в ситцевом платье, светлые волосы и хорошенькое личико чисто вымыты. – Пожалуйста, – ласково сказала она, – съешьте это, и вам станет лучше. – Кто вы? – пробормотал он. – Роза Мелтон. Разве вы меня не помните? – Нет, – медленно проговорил он, – не помню. А где я, мисс Мелтон? – В моей комнате, точнее, в моей кровати. Еще не вспомнили? – Господи! – прошептал Хант. – А я не… – Любовь моя, – рассмеялась Роза, – ты был сущим ягненком. Джентльменом до кончиков ногтей. Ты отчаянно сопротивлялся, когда я раздевала тебя и укладывала в постель. Пришлось звать на помощь маму. А потом я легла спать… в ее комнате. – Хвала Всевышнему! – с жаром воскликнул Хант. – Почему же? – насмешливо спросила Роза. – Разве я настолько стара и безобразна? – Нет, ты очень красивая. Я просто радуюсь, что не был… груб с тобой. Я не хотел бы обидеть тебя… – Ты ягненочек, – ласково сказала она, – и не смог бы быть груб, даже если б захотел… Давай-ка съешь свой завтрак, будь хорошим мальчиком. – Мне надоело быть хорошим мальчиком! – вскипел Хант. – Но это же глупо! Почему ты должен быть иным? Тебе это так идет – зачем же меняться только потому, что ты потерял свою девушку. На свете есть и другие девушки… – Такие, как ты? – спросил Хант, сам удивившись собственной смелости. – Такие, как я, – сказала Роза с нежностью. – Ты очень красивый, Хант Фолкс. Надеюсь, ты не сочтешь меня нескромной, если я признаюсь, что ты мне симпатичен. Должно быть, мужчина, который так мил даже пьяный, в трезвом виде и вовсе хорош. Увы, мне довелось знать немного истинных джентльменов… Она говорила искреннее, чем хотела. И хотя присущий ей снобизм и все то, чему учила ее мать, заставляли Розу продолжать игру, целью которой было завлечь такого завидного жениха, как Хант, она была далеко не первой женщиной, попавшейся в расставленные ею же самой сети… Хант лежал, потягивая обжигающе горячий кофе. Он уже уничтожил яичницу с грудинкой и теперь чувствовал себя гораздо лучше. Новые горизонты открывались перед ним… – А что, – поинтересовался он (как и многие другие наивные молодые люди в подобных ситуациях), – делает такая замечательная девушка, как ты, в таком месте? – Я порой и сама удивляюсь, – грустно сказала Роза. – По правде говоря, я здесь родилась. Отец умер еще до моего появления на свет, а на те небольшие деньги, что он нам оставил, мама завела таверну, чтобы как-то свести концы с концами… На самом деле Лиз открыла свой кабачок гораздо позднее рождения дочери на деньги беспечного нью-орлеанского кутилы, которого, когда он напился, обобрала, обчистив карманы его штанов, беззаботно оставленных на ее кровати. Случилось это в Нью-Орлеане, и еще до того, как вышеназванный джентльмен проснулся, Лиз была уже на пароходе, идущем вверх по реке, в Натчез. Воспользовавшись как с неба свалившимися деньгами, она открыла питейное заведение и оставила свою самую древнюю на свете профессию. Это было своего рода проявлением материнской заботы: «Девочка растет, не хочу, чтобы она избрала тот же путь…» С тех пор ее грехопадения были редки и не носили профессионального характера, а с течением времени возраст и полнота и вовсе гарантировали ей добродетельное поведение, уничтожив все следы былых аппетитных прелестей. – Удивительно, как ты сохранила свое очарование в таком окружении, – высокопарно заметил Хант. – Послушай, Хант, сделай мне одолжение, – сказала Роза. – Встань-ка, оденься и сходи прогуляться. Пройди по всему городу и расспроси всех, кого встретишь, что за девушка Роза Мелтон… Предложение это не было чревато для нее какой-либо опасностью. Если бы Хант знал, куда идти, он, возможно, отыскал бы нескольких молодых людей с отдаленных плантаций, знавших, что с Розой Мелтон можно весело провести вечерок, однако единственное, что могли сказать ему мужчины, живущие под Холмом: «Айсберг по имени Роза» – известная всем недотрога. – И не подумаю! – фыркнул Хант, являя собой картину оскорбленного мужского достоинства. – Зачем мне спрашивать у людей подобные вещи? Роза ласково коснулась его руки. – Потому что этого хочу я, Хант, – прошептала она. – Я… никогда раньше не встречала такого мужчину, как ты… Не знаю, как тебе и сказать, я так стесняюсь, но… – Но что же, Роза? – Боюсь, что я… что я влюбилась в тебя! И тогда он почувствовал, как в глубине его сердца зреет новое для него чувство – чувство мужской гордости. – Спасибо, Роза, – сказал он. – Ты даже себе не представляешь, как мне это приятно слышать.
Он оставался в Натчезе еще три недели, живя на половине Розы. Шуточки лодочников, замечания типа «Похоже, кому-то наконец удалось растопить айсберг!» убедили его в ее целомудрии. Но, несмотря ни на что, боль, причиненная ему Трилби, проходила очень медленно. Он был деликатен и робок, пока Роза наконец не решилась разыграть свою козырную карту. И однажды, во время прогулки под луной, посеребрившей реку, отдалась ему полностью, до конца. По крайней мере, так ему показалось. Хант не обладал достаточным опытом, чтобы понять, насколько умело все это было подстроено. Потом она лежала в его объятиях, тихо плача. Слезы были настоящими, к величайшему изумлению самой Розы. Недаром же Хантер Фолкс был сыном своего отца: она никогда раньше не встречала такого мужчину – чистого, красивого, безгранично нежного. Она не знала, в какой момент происходящее с ней перестало быть представлением, превратилось в соучастие, а затем вылилось в подлинное исступление. Однако случилось именно так. И про себя она сетовала: «Он для меня теперь потерян, он решит, что я падшая женщина, о, какая я дура! Но он так мил!» Однако, когда Роза заговорила, ее уста не исторгли ничего, кроме лжи. – Я никому не позволяла этого раньше! – рыдала она. – Я погибла навсегда, Хант! Ни один порядочный мужчина теперь не возьмет меня замуж! Впрочем, как она догадалась, Хант не смог уловить разницу между девственностью и ее отсутствием, и авантюра имела полный успех, даже больший, чем она рассчитывала. Хантер Фолкс получил хорошее образование, но в школе познания женщин он едва ли закончил первый класс. – Я возьму тебя замуж, Роза, – торжественно сказал он. – Я женюсь на тебе, когда ты этого захочешь… И тогда Роза сделала свою единственную ошибку. Она была вполне естественной, если принять во внимание ту гордость и безудержное честолюбие, что привила ей мать; вместо того, чтобы хватать беднягу Ханта (а его опыт общения с женщинами ограничивался парой дней, проведенных в лондонской квартире Ланса с двумя хористками из мюзик-холла, которых этот предприимчивый молодой человек раздобыл для них обоих) и бежать с ним к ближайшему мировому судье, она потупила глаза и молвила: – Спасибо тебе, Хант, дорогой. Я очень польщена. Давай поженимся через три недели, если ты не возражаешь. Мама всегда обещала мне настоящую свадьбу в церкви, ведь девушка только раз в жизни выходит замуж…
Ошибка оказалась фатальной: в ту же ночь Гай Фолкс вернулся в Фэроукс. Этому статному седовласому старику, которому его шестьдесят шесть лет мешали не больше, чем накинутый на плечи плащ, трех недель хватило бы, чтобы передвинуть горную гряду. Для того чтобы избавиться от таких сравнительно незначительных помех, как Уилкокс Тернер и Роза Мелтон, ему хватило бы и дня, но еще день и ночь отняла бы у него дорога из Фэроукса в Натчез. Домой он приехал в очень хорошем настроении. Было темно, и Джо Энн стояла спиной к свече, поэтому он не видел ее лица. Нежно поцеловав ее, он тут же приступил к рассказу: – Хорошие новости, Джо! Я наконец-то получил согласие Хентона привезти сюда Ланса на следующий год. Мальчишка болтается без дела. Он, конечно, не станет приходским священником, как многие вторые сыновья в Англии. Попробовал себя на военной службе, но у него нелады с дисциплиной. Юриста из него тоже не выйдет. Только в имении он чувствует себя в своей тарелке. А поскольку наследник – Банастр, его старший брат, я подумал… Боже правый, Джо, да ты плачешь! – Это… это из-за Ханта! Он убежал из дома! – Разрази меня гром! – взревел Гай. – Выкинуть такой фортель! Что за дьявол в него вселился? – Т… Трилби, – проговорила Джо сквозь слезы. – Она… – Успокойся, Джо. Говори начистоту. Что могла натворить эта крошка, чтобы заставить Ханта сбежать? – Она… помолвлена с чужаком! Человеком по имени Уилкокс Тернер… из Нью-Йорка. Он приехал сюда, чтобы разыскать тебя, и сказал… – Уилкокс Тернер. Из Нью-Йрка. Приехал, чтобы разыскать меня! До чего же нахальная обезьяна! И что же он сказал? – Что ты старый друг его матери. Она умерла в прошлом году, а он приехал поблагодарить тебя за все, что ты для них сделал… – Бедная малютка Фиби, – пробормотал Гай, а потом крикнул: – Генри, иди скажи Калибану седлать мою лошадь! – Но Гай! – протестующе воскликнула Джо. – Ты был в дороге весь день и… – Какого черта! Я хорошо отдохнул, когда плыл на пароходе. У меня есть дела, не терпящие отлагательства… – Куда же ты поедешь посреди ночи? – не унималась Джо. – В Мэллори-хилл. Этот ублюдок Тернер все еще там, я полагаю? – Да, – сказала Джо Энн. – Хорошо. И не забивай лишними мыслями свою хорошенькую, белую как снег голову. Этой свадьбе не бывать. Фитц, конечно, дал свое согласие? – Да. Мистер Тернер, несомненно, честный человек. Он владеет заводом в Бруклине. Обувь и тому подобное. Показывал Фитцу свой банковский счет: на нем более полумиллиона. А ты знаешь Фитца… – Тернера я знаю еще лучше. По крайней мере, его происхождение. Здесь, в Миссисипи, мы по-прежнему не говорим «мистер», если речь идет о неграх… – Гай! – Джо Энн даже рот открыла от изумления. – Уж не хочешь ли ты сказать… – Его мать была из дворовых детишек Мэллори. С очень светлой кожей, конечно. А ее сына нельзя отличить от чистокровного белого. Он пошел в своего папашу, жалкого дурака англичанина, который… – Он упоминал, что его отец – англичанин. Но ничего не говорил мне про… но я знала! Знала, что с этим человеком что-то нечисто! – С ним могло бы быть все в порядке, – спокойно сказал Гай. – Малый, который обладает такой смекалкой и твердостью характера, чтобы из той небольшой суммы, которую они имели, сделать полмиллиона, по-моему, заслуживает уважения. Пока он остается по свою сторону забора. Чего я не могу понять, так это той невероятной наглости, с которой он заявился сюда разыскивать меня… – Мистер Гай, – сказал Генри, – ваша лошадь готова, сэр. – Спасибо, Генри. Дождись меня, Джо. Надо еще обдумать, как отыскать нашего глупого отпрыска… Подъезжая к Мэллори-хиллу, Гай увидел, что они сидят вдвоем на ступеньках у поворота галереи. Когда он приблизился, они встали. – Дядя Гай! – сказала Трилби немного испуганно. – Позвольте представить вам мистера… – Имел удовольствие познакомиться с ним, – сказал Гай сухо. – Хотя твой приятель, возможно, и не помнит меня: ему было тогда всего четыре года. А теперь будь хорошей девочкой: сбегай и приведи своего отца. Нам нужно свести кое-какие счеты с твоим приятелем или, точнее сказать, спустить шкуру с цветного джентльмена, забравшегося в чужую поленницу… Ты слышала меня, Трилби, ступай за отцом. – Должен вам сказать, – вышел из себя Уилкокс, – что мне не нравится ваш тон, сэр! – Ты, малютка Вилли, – проговорил Гай, растягивая слова, – едва ли в том положении, чтобы высказывать свое недовольство. Единственное, что я хочу узнать от тебя, сколько времени тебе потребуется, чтобы упаковать свои вещи? – Вещи? – переспросил Тернер. – Но я не имею ни малейшего намерения… – Я не спрашиваю о твоих намерениях. Я спрашиваю, сколько времени тебе нужно, чтобы упаковать багаж? – Давайте говорить начистоту, мистер Фолкс, – сказал Тернер холодно. – Меня не так-то легко испугать. Я знаю, что вы хотели бы женить вашего сына на Трилби, но… – Никаких «но». Это к делу не относится. Мне нужно только одно, Тернер, – знать совершенно точно, что она не выйдет замуж за тебя! – И как же вы собираетесь этого добиться, мистер Фолкс? – Бесстрастно спросил Тернер. – Я не собираюсь этого добиваться. Ты сам все сделаешь как надо. Я был очень терпелив с тобой, Тернер. Тебе следует знать, что здесь, на Миссисипи, таким, как ты, накидывали веревку на шею куда за меньшие прегрешения. Поэтому я поступаю с тобой справедливо: даю тебе шанс убраться к себе на Север, сохранив в целости свою шкуру. Я не собираюсь даже ничего рассказывать Трилби. Ты можешь придумать любой предлог, какой сам захочешь. Или, может, ты предпочитаешь, чтобы я сказал ей правду? – А в чем состоит правда, мистер Фолкс? – спросил Уилкокс Тернер слегка дрогнувшим голосом. – В том, что твоя мать была квартеронкой. В твоих жилах течет негритянская кровь. Не очень много, но вполне достаточно. Для здешних мест достаточно и одной капли. Более чем достаточно, на наш взгляд. – Моя мать, – прошептал Уилкокс, – была цветной? О, Господи! Она действительно была немного смуглой, но… Господи Боже! Милосердный Боже! Гай посмотрел на него с искренней жалостью. – Так ты, значит, не знал этого? – проворчал он. – Извини, парень. Мне показалось нелепым то нахальство, с которым ты приехал сюда разыскивать меня. Не принимай это все так близко к сердцу, сынок. И среди цветных есть очень хорошие люди… – Вы меня не поняли! Я… я всегда ненавидел черных! Однажды компания мальчишек, в которой был и я, поймала тощего негритенка в закоулке и избила его до полусмерти… А теперь вы говорите мне, что я поднял руку на своего брата… – Все люди – братья, – тихо сказал Гай. – Пока они не пытаются втереться в твою семью, с ними вполне можно ладить… Дверь широко распахнулась, и на пороге появился Фитцхью в халате поверх ночной рубашки. Он щурился, глядя на Гая. Рядом с ним стояла Трилби. – Тернер покидает нас, – сказал Гай. – Помолвка расторгнута, Фитц. Он только что обнаружил, что не годится в женихи для Трил… – Это ложь! – заплакала Трилби. – Я всегда любила вас, дядя Гай, но теперь скажу: вы злой, мерзкий старик! Что вы такое сказали, чтобы заставить его… – Извини, Трил, – мягко сказал Гай, – но я не собираюсь отвечать на этот вопрос. – Скажите ей, – выдавил из себя Уилкокс Тернер, – так будет честнее, а я… я не могу. – И вправду, Гай, – решительно сказал Фитцхью, – мне кажется, ты должен нам все объяснить. – Хорошо, – сказал Гай устало, – но не забывайте, что я этого не хотел. Фитц, Килрейн когда-нибудь рассказывал тебе о Фиби? – Да, конечно. Она была из дворовых ребятишек Мэллори и твоя… – Давай пропустим эту часть рассказа. Зачем нам ненужная жестокость? Парню и так пришлось несладко. Оказывается, Тернер ничего не знал… – Чего не знал, Гай? – Фиби была его матерью, Фитц. Но его поведение вполне простительно: он не знал, что она была цветной. – О! – задохнулась Трилби. – О, дядя Гай! – Она стояла неподвижно, словно окаменела, и даже не плакала. – Прости, – сказал Гай с грустью, – ты сама на этом настаивала. – Я ни на чем не настаивала! – выкрикнула Трилби и, устремившись вперед, заколотила Гая в грудь обеими руками. – А вам не надо было этого говорить! Вы не должны были этого делать! Я бы и не узнала ничего! Всю жизнь могла бы прожить, не зная! И была бы счастлива, дядя Гай! Была бы счастлива! А потом повернулась и убежала в дом. Спустя два дня пароход «Prairie Belle»*["986] подошел к пристани Натчеза ниже Холма, и по сходням спустился Гай Фолкс, поддерживая Трилби Мэллори. Ему пришлось пустить в ход весь арсенал доводов, чтобы заставить ее поехать с ним. А для утешения он прибег к старому как мир обману: припугнул ее черным младенцем, который непременно родился бы… Уж ему-то, проведшему большую часть жизни на плантации, где приплод цветных ребятишек обычно превышал по весу урожай хлопка, было хорошо известно, что ребенок никогда не бывает смуглее более темнокожего из родителей. Но необходимо сказать в его оправдание: большинство людей верит в нечто противоположное тому, что они видят собственными глазами. Наиболее сильный аргумент, на который он рассчитывал, – ее действительно большая привязанность к Ханту, был использован Гаем в полной мере. Он нарисовал мрачную картину горя, постигшего его сына, красноречиво расписывал ожидающее их счастье. Не так уж трудно было это сделать: у восемнадцатилетней девушки отзывчивое сердце. Он не знал, что Хант в Натчезе, но догадывался. Его богатый жизненный опыт подсказывал ему: первое, что сделает юноша, сердце которого разбито, – отправится в злачные места и прибежища порока, а найти их можно было в Натчезе и Нью-Орлеане. Следуя этой логике, Гай решил ехать в Натчез, расположенный ближе. Им не потребовалось и десяти минут, чтобы разыскать Ханта. Та часть города, что расположена ниже Холма, очень мала. Там они и повстречали Ханта, который шел по грязной улице, обнимая за талию Розу Мелтон. – Так-так, парень, – спокойно сказал Гай. – Ты можешь отпустить эту лошадку. Мы приехали забрать тебя домой. – О, Хант! – воскликнула Трилби. – Неужели тебе не стыдно? – Не тебе об этом говорить! – сердито сказал Хант. – Ты же помолвлена с этим хвастуном из Нью-Йорка… – Я с ним больше не помолвлена, Хант, – сказала Трилби. – Поэтому я и приехала, чтобы разыскать тебя… – Ты разорвала помолвку? – прошептал Хант. – О, Трилби! Моя малышка! Ангел мой! – Хант Фолкс! – выпалила Роза Мелтон. – Тебе не кажется, что ты кое-что забыл? Или тебе надо напомнить, что ты официально помолвлен со мной и что мы собираемся жениться? – Ты… ты обручен с этой?.. – задохнулась Трилби. – Трил… – умоляюще начал Хант. Гай, сохраняя полное спокойствие, вытащил кошелек. – Ладно, ладно, сестричка, – решительно сказал он. – Сколько? И в этот миг Роза Мелтон достигла подлинного величия. – Ни цента, мистер Фолкс, – тихо сказала она. – Я никогда не торговала своими привязанностями. Деньги не смягчат боль моего сердца. И ничто другое тоже. Хант… – Да, Роза? – пробормотал Хант. – Собираешься ли ты сдержать свое слово, как подобает джентльмену, или хочешь уйти с этой глупой фарфоровой куколкой? – Роза, – Хант почти плакал, – прости меня, но я… – Ладно, – решительно сказала Роза, – но я вам скажу обоим: прежде чем вы поженитесь, перед вами откроется ад! И она повернулась и очень тихо ушла. «Не нравится мне это, – подумал Гай. – Эта девка из тех, кому палец в рот не клади. Такие на все способны…» И тут же отбросил эту мысль. – Пойдем-ка, – сказал он Ханту и Трилби. – Нам еще многое нужно уладить. Свадьба состоялась той же весной и была великолепна. Фэроукс утопал в цветах. Все ближние и дальние родственники от Нью-Орлеана до дельты Миссисипи были здесь. Гай не забыл посадить на цепь больших мастиффов как раз накануне прибытия первых гостей. И это оказалось столь же серьезной ошибкой, как и та, которую совершила Роза Мелтон. Но все же она была неизбежна: если бы кто-то из гостей был съеден собаками, то все событие едва ли получило бы надлежащее общественное звучание… Преподобный Шварцкопф стоял перед алтарем в полной готовности. Хантер настоял, чтобы венчание совершалось по католическому обряду, и Гай, чьи религиозные предрассудки были близки к нулю, дал на это свое согласие. Он с такой же легкостью согласился бы на свадьбу по синтоистскому обряду, уж очень хотел он видеть Ханта женатым. Трилби прошла к алтарю, опираясь на руку отца, очаровательная и трогательная в своем белом подвенечном платье. Все женщины плакали, да и у Фитца глаза подозрительно увлажнились. Среди мужчин стоял Нат Джеймс, словно приговоренный, ожидающий появления палача, он даже не чувствовал слез, струящихся по его круглому лицу. Плакала и Джуди – уж этого Гай никак не ожидал. «Такой слезливой свадьбы мне еще не доводилось видеть», – подумал он, когда они с Джо присоединились к Грейс и Фитцхью, встав позади жениха с невестой. Трилби и Хант опустились на колени перед алтарем недалеко от большого окна. Брачная месса началась. И вдруг Гай услышал звук, поразивший его, – это был звон разбиваемого стекла. Он обернулся, ясно понимая, что и головы всех находившихся в церкви повернулись на этот звук. – Хант! – раздался пронзительный крик. – Посмотри, понравится ли она тебе! И слова смолкли, все слова, все звуки, все надежды исчезли, потому что внезапно грянул ружейный выстрел. Трилби не успела даже вскрикнуть. Она просто подалась вперед, как будто кланялась своему Богу, белоснежная, прекрасная, невыразимо грациозная, и начала падать. Гай сорвался с места, едва до его потрясенного сознания дошло, что случилось. Но ему было все-таки шестьдесят шесть – Хант оказался намного проворнее. Он был уже у самого окна, когда Роза Мелтон выстрелила вновь. Весь заряд угодил в грудь Ханта, справа. Удар отбросил его назад. И тогда Гай Фолкс одним прыжком выскочил через разбитое окно наружу. Она не пыталась бежать. Она стояла как вкопанная, когда мужчины, готовые к расправе, схватили ее. Позади них, в доме, так пронзительно кричали женщины, что, казалось, небеса оглохнут. – Не бейте ее, ребята, – тихо сказал Гай. – Просто свяжите. Пусть с ней разбирается правосудие, а не мы… – Вздернуть ее! – выкрикнул кто-то. – Нет! – взревел Гай. – Это мой сын, и я говорю – «нет»! Проклятье, разве того, что уже случилось, не достаточно? Он вернулся в церковь тем же путем. Доктор Хартли, стоя на коленях, хлопотал подле Ханта. Пьер Терребон, старший сын доктора Люсьена, столь же самозабвенно трудился над Трилби. Она лежала рядом с алтарем, бледная как смерть, голова ее покоилась в больших руках Ната Джеймса. Нат истерически плакал, причитая: – Трилби! О, пожалуйста, милостивый Боже! А отец Мартин Шварцкопф, исполненный печали, готовился соборовать их обоих. Гай беспомощно стоял рядом, переводя взор с Трилби на сына. Он в жизни не видел ничего более яркого, чем эта кровь на свадебном платье. Женщины сгрудились вокруг пронзительно кричавшей Грейс Мэллори, крепко держа ее. Еще одна женщина брызгала водой в лицо Джо Энн Фолкс, пытаясь привести ее в чувство. Наконец Джим Хартли выпрямился и встретил немой вопрос в глазах Гая. – Не знаю, – сказал он тихо. – Его правое легкое полно ржавым железом, Гай. Левое тоже немного задето. Она зарядила это старое ружье гвоздями, кнопками, кусками металлического лома. У мальчика крепкий организм, может быть, он и справится. Но для этого потребуется очень много усилий и молитв. Я бы на твоем месте попросил падре прочесть молитву прямо сейчас. – Скажи честно, Джим: есть ли шанс выжить у моего мальчика? – Есть, но он мал. Очень мал. Если он дотянет до завтрашнего дня, я приду и извлеку часть этого мусора из его легких. Но, как я уже сказал, все в руках Божьих… Гай в каком-то отуплении подошел к доктору Терребону. – Как она, док? – выдавил он. – Почти в порядке. Большая часть заряда попала в алтарь. Не пройдет и месяца, как она выздоровеет. Но нельзя ее сейчас тревожить и пытаться отнести домой. Я бы посоветовал приготовить им постели прямо здесь… Доктора дали Грейс и Джо Энн успокоительное и велели идти спать. Джуди всю ночь напролет просидела у постели матери. Гай Фолкс заметно постарел за эти долгие ночные часы. Вдвоем с Фитцхью Мэллори они ходили взад и вперед, и губы их шевелились в беззвучной молитве. А в саду до самого утра ходил взад и вперед Натан Джеймс, не отрывая глаз от окна, за которым лежала Трилби. – Не убивайся так, Гай, – сказал Фитц. – С Трилби все будет хорошо, держу пари, что и с мальчиком тоже. Ведь они еще совсем невинные дети… – Хант виноват. Если бы он не спутался с этой кровожадной потаскухой… – Ты не прав. Следуя твоей логике, можно сказать: «Если бы Трилби не связалась с Тернером…» В конечном итоге так и до Господа Бога дойдешь… Нет, Гай, я не согласен с тем, что Хант виноват в случившемся. Он хороший мальчик, и вся его вина в том, что раз в жизни он проявил чисто человеческую слабость… Кто из нас не совершал подобных ошибок? – Спасибо, Фитц, – прошепталГай. – Я очень рад, что Трилби выздоровеет… На следующий день Джим Хартли, которому помогал молодой Терребон, оперировал Ханта на столе в гостиной. То, что при этом пережил Гай Фолкс, с трудом выдержал бы даже человек вдвое его моложе. Для самого Ханта, который крепко спал под действием эфира, операция была куда менее мучительна. Нат Джеймс и братья Мэллори дали свою кровь для переливания Ханту – врачи категорически отказались брать кровь у немолодых уже Гая и Фитцхью. Джо Энн находилась в состоянии глубокого шока и держалась с помощью успокоительных лекарств, предоставив Гаю пройти через это испытание одному, если, конечно, не считать Фитца, нервничавшего больше, чем сам Гай, и отца Шварцкопфа, который в течение всей операции, длившейся целых три часа, стоя на коленях, просил Бога направлять руки хирурга. Наконец Джим Хартли вышел из дома. – Он не… – только и сумел выговорить Гай. – Нет, – сказал доктор печально. – Если ему повезет, он выживет. Но у меня есть для тебя и плохие новости. В Фэроуксе больше не будет Фолксов, старина, после того как ты и твой сын предстанут перед Богом… – Но ведь ты сказал… – начал Гай. – …что он не умрет. Если не будет послеоперационого шока, если он затем избежит пневмонии, то доживет до старости. Но станет инвалидом. О женитьбе не может быть и речи. У тебя есть знакомые в Аризоне или Калифорнии, Гай? – Нет, – сказал Гай. – А что? – Его правое легкое изорвано в лохмотья. Я бы его удалил полностью, если бы у меня хватило на это духу. Левое тоже немного задето. В течение нескольких ближайших месяцев, даже лет, первая же сильная простуда может иметь для него роковой исход. Климат Миссисипи слишком сырой, а ему надо жить в сухом климате. Солнце и сухой воздух сделают его почти здоровым. Но здесь ему оставаться нельзя, старина… – У меня есть предложение, – произнес отец Мартин своим глубоким печальным голосом. – Мой друг, преподобный Энрике Баско, преподает в колледже Санта-Клара, в Калифорнии. Я познакомился с ним в Риме. Судя по тому, что он мне рассказывал, климат там идеальный. Хант – юноша выдающихся способностей и прекрасно образован. Они будут счастливы иметь такого преподавателя. Если хотите, мистер Фолкс, я безотлагательно напишу отцу Баско… Как скоро Хант сможет совершить путешествие, доктор? – Не знаю, – ответил Джим Хартли, – но я бы посоветовал не оставлять его здесь до осени, даже если бы его пришлось нести на носилках. Что ты на это скажешь, Гай? – Почему, черт возьми, ты думаешь, что мне нужно задавать подобные вопросы?
Гай сразу понял, что надо делать, когда в конце декабря они получили первое письмо от Ханта. Это было чудесное письмо: Хант сообщал, что его здоровье улучшилось, писал о радости, которую доставляет ему работа, о том, что ему очень нравится Калифорния и его новая жизнь. Письмо было полно покоя и умиротворения. В то же утро в Фэроукс пришла Трилби и со слезами на глазах просила разрешения на помолвку с Натаном Джеймсом. – О, дядя Гай! – рыдала она. – Мне так стыдно! Это вовсе не значит, что мне теперь безразличен Хант, вовсе нет. Но я… я… – Но ты молода и имеешь право на собственную жизнь, – сказал Гай, целуя ее. – Да и не мне разрешать или запрещать тебе что-либо. Нат – славный мальчик. Благословляю вас обоих! И как только она ушла, он кликнул слуг и приказал паковать вещи – свои, Джо Энн и Джуди. Потом велел одному из негров бежать в Мэллори-хилл с запиской: он просил Фитцхью и Уилла Джеймса приглядеть за Фэроуксом, пока они не вернутся. Когда Джо Энн и Джуди спустились вниз, недоумевая, что все-таки происходит, Гай решительно объявил: – Мы едем за границу. Думаю, нам надо на время сменить обстановку. У Ханта все в порядке. Вот письмо от него, прочтите. Надо написать ответ до нашего отъезда. Джо Энн пыталась было возражать, но, увидев выражение его лица, поняла, что все протесты сейчас бесполезны. – Хорошо, Гай, – сказала она. – Думаю, путешествие развлечет меня немного…
Прогуливаясь верхом с Лансом Фолксом в Хантеркресте в ясный апрельский день 1885 года, Джуди слышала, как поют в ее сердце голоса радости. – Расскажи о Фэроуксе, Джуди, – попросил Ланс. – Правда, что ты ездишь на лошадях голубовато-серой масти, а когда идешь гулять, тебя сопровождают мастиффы величиной с шотландских пони? – Да, – ответила Джуди. – А что, Ланс? – Это похоже на сказку. Я сгораю от нетерпения стать частью этой жизни. Отец согласен, ты ведь знаешь. Его нетрудно было упросить. Я ему ужасно надоел… У Джуди, восседавшей на гнедом жеребце, глаза светились любовью и озорством. – Меня интересует только одно, Ланс, – сказала она с притворной серьезностью. – Ты что же, женишься на мне из-за Фэроукса? – Конечно, из-за Фэроукса, – поддразнил он ее. – Такими девчонками, как ты, хоть пруд пруди. Не знаю, стоит ли даже Фэроукс этого… – Еще как стоит! – сказала она серьезно, словно не замечая насмешки. – Погоди немного, сам увидишь. И теперь в Фэроуксе будут жить Фолксы долгие-долгие годы… Она не знала, да и не могла знать, что Ланс окажется первым подлинным Фолксом, ступавшим когда-либо на землю Фэроукса, а вся история ее семьи – долгая и великолепная ложь. И так ли уж это важно? Если вера сильна, даже ложь становится правдой… Она подняла свою темноволосую голову и рассмеялась звонко, как колокольчик. – Послушай, Джуди, – удивился Ланс, – что с тобой творится? – Мы ведем себя безобразно, милый, – сказала она сквозь смех. – Все романы, прочитанные мной, полны историями юных влюбленных, которых разлучают и заставляют вступать в брак против их воли. У нас – наоборот. Папа проявляет чудеса изобретательности, пытаясь во что бы то ни стало свести нас, чтобы знать наверняка: Фолксы в Фэроуксе не переведутся… Так что нам делать? – У твоего отца, – сказал Ланс, – бывают очень неплохие идеи. Думаю, нам стоит поддержать его. Джуди натянула вожжи, так что ее жеребец вплотную приблизился к лошади Ланса. – Тогда, любовь моя, тебе неплохо бы для начала поддержать его дочь, – сказала она.
Феликс Крес КОРОЛЬ ПРОСТОРОВ
ПРОЛОГ
Тяжелые, грязно-серые тучи низко висели над Ахелией. Сильный холодный порывистый ветер, зародившийся где-то в самом сердце моря, предвещал скорый шторм, — собственно, он и был его началом. В таверне закрыли все окна, и в ней плавали густые клубы табачного дыма, смешиваясь с запахом пота и прокисшего пива. На кривых лавках и покосившихся табуретах сидели матросы, бродяги, несколько китобоев с южного побережья, какой-то солдат, несколько грязных крикливых женщин. Шум голосов то усиливался, то ненадолго утихал; иногда сквозь него пробивались громкие возгласы ссоры. В углу что-то тихо напевал горбатый старик, перебирая струны лежавшего у него на коленях диковинного инструмента. Получив от кого-то медную монету, он начал негромкий рассказ, сопровождая некоторые его фрагменты звоном струн. Здесь, на далеких Агарах, бродячий певец был гостем непривычным. Местный народ не пытался зарабатывать подобным образом — не зная мира, о чем можно говорить? Откуда брать новые песни, чтобы привлечь внимание слушателей? Их нужно было знать сотни, чтобы пением заработать себе на хлеб. Сидевший в таверне горбун был родом с континента. Он плыл в Дран на борту барка, но осенний юго-западный ветер, знаменитый «кашель», загнал судно к берегам Агар; теперь корабль стоял на якоре в Ахелии, опасаясь волн и бури. Так что рассказчика и эти края забросила обычная случайность. А слушателей он нашел здесь немало, ибо рассказывал о вещах любопытных и удивительных, даже для солдат и матросов, которым немало пришлось повидать в многочисленных портах. Но — дело было осенью. Уже давно замерло движение на торговых трактах, корабли ждали прихода зимы, укрывшись в портах и безопасных бухтах. Их команды — солдаты и матросы — болтались без дела по всем портовым городам империи. Солдат удерживала дисциплина и жалованье, добросовестно выплачиваемое каждую неделю; с матросами дело обстояло иначе. Никто им платить за безделье не собирался, сбережений у них не было, а то, что было, они давно уже прокутили. Теперь они бродили повсюду в поисках более или менее честной работы, дрались в тавернах, иногда пускали в дело ножи. Старый музыкант, ведший рассказ о невероятных событиях и удивительных странах, был для этих людей единственным развлечением; они охотно отдавали ему последние медяки, за которые все равно не могли ни поесть, ни выпить; и убивали время, слушая рассказчика, чтобы хоть на день, на два приблизить зиму, а с ней — новый набор народа на корабли. И вот теперь горбун вел свой очередной рассказ. Шум постепенно утихал, все отчетливее слышался неторопливый голос музыканта, рассказывавшего удивительную историю, без начала и без конца, о море, о штормах, о кораблях, о чудовищах из глубин и о пиратах… о Пирате, о Демоне Войны. Струны умолкли. — Парусники островитян уничтожили корабль короля морей, — проговорил старик, отчасти в пустоту, отчасти для слушателей, а отчасти про себя. Он немного помолчал, потом обвел взглядом окружавшие его лица, удивленные и задумчивые, ибо это был не обычный рассказ, не такой, как все прочие. Ваши парусники, агарцы. Зловеще и неожиданно фальшиво зазвенели струны. — Вы покрыли себя славой… Торжественный тон его слов вновь сменился мрачным скрежетом струн. — Послушайте же, что я вам расскажу. Проклятие висит над вашими островами; прокляты Агары и вы, агарцы. Ибо сыновья ваши сожгли корабль Демона, корабль, носящий имя Властелина Вод и пребывающий под его особым покровительством. И станет так, что посланник Просторов и дочь короля пиратов ниспошлют на вас ужас войны; здесь, на Агарах, суждено вспыхнуть пламени, которое охватит всю Вечную Империю. Так гласит Пророчество, записанное в Книге Всего, среди Законов.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. БЕССТРАШНЫЙ ДЕМОН
1
— Все наверх. Быстро. Спокойно и негромко произнесенные слова смешались с всеобщим шумом и поначалу не возымели никакого действия. Однако уже несколько мгновений спустя их смысл достиг какого-то матроса — и он замолчал, замолчали и те, кто сидел рядом, потом остальные, удивленные внезапно наступающей то тут, то там тишиной… Прошло совсем немного времени, и в носовом кубрике слышалось лишь поскрипывание корабельной обшивки. — Все наверх. Боцмана ко мне. Матросы сломя голову выскакивали из гамаков, сбрасывали влажные одеяла, отшвыривали прочь игральные кости. Капитан К.Д.Рапис, командовавший самым большим парусником на Просторах, шагнул в сторону, уступая дорогу толпе. Он редко бывал в кубрике, и вид его по-настоящему потряс матросов. Теперь они толкались на узком трапе, пытаясь как можно быстрее исполнить отданный лично капитаном! — приказ. Вскоре Рапис остался один. Он неторопливо окинул взглядом кубрик. Смрад стоял невыносимый. Какие-то истлевшие тряпки, пропотевшие одеяла, запах давно не мытых тел, вонючий табачный дым… Несколько тусклых фонарей покачивались на крюках, в такт ударам волн о борт парусника. В углу горели убогие свечи из жира. По трапу застучали босые пятки боцмана. — Да, господин! Капитан медленно повернулся: — Послушай, Дороль, что это такое? Что я здесь вижу? Думаешь, если мы несколько лет ходим вместе по морям, то ты работать не обязан? Тебе что, на все насрать? Заразы на корабле хочешь? Я не хочу. Если ты не в состоянии объяснить этому сброду, куда полагается ходить по нужде, то ты дрянной боцман, а мне такой ни к чему. Чтобы сегодня же были проветрены все одеяла и гамаки. Гниль за борт. Боцман усердно поддакивал. — Сегодня же явишься ко мне за фонарями, — добавил Рапис. — А то, понимаешь, свечек себе понаставили. Я лично прикажу изготовить несколько штук из твоего собственного жира, если еще раз увижу на корабле открытый огонь. А вот это, — он пнул валявшийся на полу нож, — оружие. Оно не должно быть ржавым, Дороль. Не должно! Забирай с палубы всю эту банду и наведи здесь порядок. Пошел вон. Боцман испарился. Рапис погасил свечи и вышел на палубу. Вдохнув всей грудью свежего воздуха, он немного послушал рык Дороля, потом направился на корму. Спасавшиеся от разъяренного боцмана матросы огибали его на безопасном расстоянии. Один зазевался и налетел прямо на капитана. Увидев, кого он протаранил, матрос хотел было улизнуть, но капитан схватил его за рубаху, другой рукой за штаны, раскачал и вышвырнул за борт. — Когда немного остынет, выловить, — приказал он. Отличная шутка капитана пришлась команде по душе. Раздался взрыв хохота. Рапис заметил лоцмана, неподвижно стоявшего у мачты, и подошел к нему. — Как дела, Раладан? — спросил он. — Все в порядке, капитан. Рапис потер подбородок: — Что думаешь насчет погоды? Лоцман слегка усмехнулся: — Похоже, то же самое, что и Вы, господин капитан… Погода изменится. Думаю, еще сегодня. Может быть, ночью. — Мне тоже так кажется. Проклятый штиль держал их на месте уже шесть дней. Ничто не предвещало его конца. Однако и Рапис, и лоцман чувствовали, что неприятности вот-вот закончатся. Никто из них не мог с точностью сказать, откуда у него такая уверенность. — Если что-то изменится, дай мне знать. — Так точно, капитан. Капитан постоял еще немного и двинулся дальше. Вскоре он был уже в каюте на корме. Увидев своего первого помощника, он удивленно поднял брови. Эхаден сидел на столе, постукивая пальцами по деревянной крышке. — Я тебя жду, — объяснил он. — Не мог послать кого-нибудь? — Мне сказали, что ты пошел на нос к матросам, — сказал Эхаден. — Не знаю уж зачем, но, видимо, у тебя там были какие-то дела. — У тебя, похоже, тоже ко мне дело, — заметил капитан. — Но не слишком срочное. Рапис кивнул и, облокотившись о стол, начал разглядывать карту Западного Простора, на которой сидел офицер. — Скажи мне, что за моряки здесь плавали, если островов вроде того, что у нас по левому борту, нет на картах? — помолчав, спросил он. — Тебя это удивляет? А многие ли заходят так далеко на юго-восток от Гарры? — Кто-то же все-таки там ходил, раз есть карты, пусть даже и неточные. Эхаден пожал плечами. Рапис задумчиво покачал головой: — Эта погода меня с ума сведет. Раладан говорит, что ветер скоро будет, и я тоже так думаю. Самое время, мы здесь уже неделю торчим. Ты слышал когда-нибудь о чем-то подобном на Просторах? — Просторы большие… — Никто не знает, какие они, — оборвал его Рапис. — Я спрашиваю: ты слышал когда-нибудь о такой погоде? Вчера была штормовая волна! — Я о многом не слышал. Например, о птицах, огромных как корабль. — Он вспомнил крылатых гигантов, которых они видели три дня назад. Рапис молча смотрел на своего помощника. — В последнее время нам с тобой никак не договориться, — наконец констатировал он. — Какое мне дело до больших птиц, Эхаден? Ну насрет такая в море, будет много брызг, и все. Я о погоде говорю. Я говорю, что сегодня она изменится. Я так считаю, а раз это подтверждает еще и Раладан, то можно быть почти уверенным. Ветер будет. Мы ложимся на курс. На какой курс? На обратный? — спросил он, не скрывая злости. — Теперь понятно? Тебе что, нужны такие вопросы, чтобы до тебя дошло, что я хочу из тебя вытянуть, говоря о погоде? — Хочешь возвращаться? — Хочу. — По-моему, еще рано. Имперские эскадры наверняка все еще болтаются по морю. — Или торчат на месте, как мы, — кивнул Рапис. — Может, благодаря этому мы и встретим парочку фрегатов. Великолепных фрегатов морской стражи, с желтыми, а может быть, и голубыми парусами… — С ума сошел? — Нет. Не сошел. Эхаден открыл было рот, но капитан предостерегающе поднял руку: — Ни слова, Эхаден. Хватит. Сколько нам еще скрываться? Что с нами случилось? Имперские корабли — подумай, ведь это просто смешно! Раньше, вместо того чтобы бежать от них, мы сожгли бы один-другой и проскользнули бы среди оставшихся для того только, чтобы наброситься на них с новыми силами… Бывало ведь так, бывало! Помнишь, как мы ходили на «Чайке»? Нас преследовал Дартанский Флот, и что с того? Мы сожгли два фрегата, а потом портовый район в Лла. Какая была слава, Эхаден, какая добыча! А теперь? Мы ведь уже не на старой «Чайке», отнюдь нет! Мы на «Морском Змее», плавучей крепости, крупнее любого корабля, когда-либо ходившего по морям Шерера! Но вот нам попались на глаза армектанские посудины, такие, что мы могли бы их протаранить, не опасаясь за целость форштевня! — Рапис постепенно приходил в ярость. — И что мы делаем? Разворачиваемся — и вместо того, чтобы идти на север, идем на юго-восток. Да еще как! Если бы не этот проклятый штиль, мы уже были бы невесть где! — Успокойся, Рап. — Успокойся? Послушай, я спокоен настолько, что мог бы нянчить имперских вояк! А ты говоришь — «успокойся»! — Успокойся. Может быть, мы и в самом деле стали чересчур осторожны. Но не в этот раз. Мы не бежали от армектанских кораблей, ты и сам хорошо это знаешь. Это не были курьерские корабли — те ходят в одиночку. Это была разведывательная, а может быть, и пущенная нам вдогонку эскадра. Ты хорошо знаешь, что мы не могли бы их протаранить, ибо они слишком быстрые, самое большее — мы могли бы ждать, пока они разделятся и вызовут тяжелые эскадры. За ними шли армектанские фрегаты, это облава. Большой Флот Армекта, возможно, и гаррийский Главный Флот. Рапис вздохнул: — Именно это я и пытаюсь тебе объяснить. Мы на корабле, который может и должен противостоять облаве. Мы должны топить стражников, вместо того чтобы убегать от них. У нас всего достаточно. Достаточно пороха, достаточно стрел, а самое главное — достаточно людей. У нас их столько, сколько обычно на двух фрегатах. Это свеженабранная команда, они мечтают о грудах золота и драгоценностей, о схватке, сражении, слышишь? Сражении под командованием капитана Раписа, легендарного Демона, который взял их на «Морского Змея». А капитан сбежал, едва завидев имперский корабль. — Он покачал головой. — Как только будет хоть какой-то ветер, возвращаемся. Курс на Гарру. На Гарру, слышишь? Пусть даже без конца придется менять галс. — На Гарру? С тем, что у нас в трюме? — А что у нас там, Эхаден? Утром оставалось в живых сорок. Если мы сейчас пойдем в Бану, сколько мы довезем? И в каком состоянии? Придется наловить нового товара. Эхаден задумался: — Ладно, в конце концов, кораблем ты командуешь. — Он слез со стола. Какие будут распоряжения? — Пока прикажи выдать по полкружки рома каждому. Вытащи из трюма женщин, некоторые еще шевелятся. Отдай их команде, все равно на выброс. Пусть народ позабавится до вечера, а потом за борт… У тебя ко мне какое-то дело? — вдруг вспомнил он. — Уже нет, — ответил офицер. — Я думал о том течении, которое в прошлом году затащило нас аж до Кирлана. Может быть, это где-то здесь, сегодня утром мне казалось, что неподалеку от этого острова вода другого цвета и форма волн другая — ну ты знаешь, как это выглядит. Но раз мы идем на Гарру… Рапис кивнул: — Проверим, то ли это течение. Поговори с Раладаном. Куда бы мы ни шли, стоит выяснить, есть ли тут что-нибудь такое. Эхаден кивнул и вышел, но почти сразу же вернулся в сопровождении вахтенного. — Ну что там? — спросил Рапис. — Ветер, господин! — ответил матрос. — С юго-запада!2
На Гаррийском море им встретился корабль-призрак. Матросы молча столпились вдоль бакборта. Уже остывший, дотла выгоревший остов медленно дрейфовал на северо-восток. На обожженной корме названия парусника было не прочитать — но все хорошо его знали… «Север». Перед их глазами были останки большого барка Алагеры. Сама она (узнать ее можно было по пурпурной одежде и развевавшимся на ветру золотистым волосам), повешенная за ноги, покачивалась на уцелевшем от огня бушприте. — Облава, — подытожил Эхаден. — Мы были правы, уходя от них, Рап. Ее поймала сильная эскадра, не один фрегат. Если с Китаром и Брорроком то же самое… — Китар — боец не из лучших, но у него его «Колыбель», а на ней лучшие моряки в мире, — остудил его Рапис. — Никто не догонит эту каравеллу, пока у них в порядке паруса. У того купца она всегда ходила под неполным вооружением, и только потому Китару удалось добыть свою игрушку. А старого Броррока не поймать всем имперцам, вместе взятым. Здесь — совсем другое дело. — Он показал на повешенную. — Это что, был корабль? Бордель, и не более того. — Не поверишь — мне она так и не дала, — проговорил Эхаден. — Хотя мы виделись целых четыре раза. — Ну, значит, ты единственный в мире моряк, который видел ее целых четыре раза и не влез в нее всеми лапами, — констатировал Рапис. — Так тому теперь и быть. Разве что — может быть, хочешь сейчас? Можем подойти ближе. Он пожал плечами. — Дай приказ канонирам, — сказал он, меняя тему. — Надо бы пустить ее ко дну. Вскоре воздух разорвали несколько мощных, почти одновременных залпов. Каменные ядра с грохотом ударили в обгоревший корпус. Развернувшись, они дали залп с другого борта. Канониры Раписа могли целиться спокойно, это было не сражение… «Морской Змей» медленно уходил на запад. Команда смотрела на тонущий корабль, пока тот не скрылся под волнами. — Море забрало, — сказал Рапис. — Идем, Эхаден, подумаем, что делать дальше. Предлагаю немного поменять планы. Не любил я эту шлюху, но имперцев это никак не касается… У меня есть идея, как наловить товара, а заодно и посчитаться за Алагеру. Они направились на корму. На следующий день, вечером, матрос-впередсмотрящий крикнул, что видит землю. Это была Гарра, вернее, один из прибрежных островков. Рапис хорошо знал этот кусочек суши. Здесь находился небольшой порт, где кроме рыбацких лодок стояли два или три небольших корабля морской стражи. Для пиратского парусника они не представляли никакой угрозы; что могли сделать три старых как мир посудины против самого крупного корабля на Просторах? Так что Рапис уже несколько раз заглядывал сюда, чтобы пополнить запасы провизии и пресной воды. Он мог позволить себе подобную наглость; когда он появлялся, стражники обычно сидели тихо, делая вид, что их вообще нет… Честно говоря, делать им особенно было нечего. Обычно «Морской Змей» стоял на рейде, ожидая возвращения посланных на берег людей. Однако на этот раз у капитана были иные планы. Глубина в порту была достаточной, чтобы его корабль мог подойти к берегу. Вокруг царила ночь, когда корабль подходил к пристани, буксируемый собственными шлюпками. В сторожевой башне неподалеку блеснул тусклый свет, с берега донесся окрик: — Кто здесь?! Тишина. Огромная туша корабля со скрипом навалилась на балки помоста. Матросы бросили швартовы. — Кто здесь?! Сбросили трап. Рядом с ним один из матросов поставил бочонок с горящей смолой. Трап загудел от ударов Матросских ног. Каждый нес факел, который окунал в бочонок. Вскоре две сотни движущихся огней осветили порт. Назойливый голос с берега умолк, в селении неподалеку в окнах вспыхнули мигающие огоньки. Мгновение спустя с палубы раздался громкий, отчетливый голос: — Селян живьем, но только селян! Вперед! Толпа полудиких моряков устремилась к сторожевой башне. Однако солдаты решили дорого продать свою жизнь. Они никогда не связывались с командой пиратского парусника, поскольку подобное было бы чистым безумием. Впрочем, до сих пор ни разу не происходило ничего такого, что потребовало бы от них каких-либо действий. Поступки морских разбойников были наглыми и дерзкими, но… по сути, вполне законными. Да, «Морской Змей» пополнял запасы, однако за них платили местному трактирщику (хотя, честно говоря, плата эта была смехотворной); капитану пиратов, естественно, вовсе не к чему было пускать корчмаря по миру. Однако теперь, перед лицом нападения дикой банды, имперские солдаты неожиданно продемонстрировали все, на что они были способны. Надежды Раписа застать маленький гарнизон врасплох не оправдались… Его люди неожиданно увидели в полумраке сомкнутые, ровные ряды обученной пехоты, дополнявшей команды стоявших в порту кораблей. Большинство были подняты прямо с постелей, некоторые в одних рубашках, — и тем не менее выглядели они достаточно грозно. Со стороны пристани донесся могучий грохот: это «Морской Змей» бросил швартовы и огнем своих орудий расстреливал беззащитные имперские корабли. В то же мгновение, словно по условленному сигналу, первая шеренга солдат присела, целясь из арбалетов, а солдаты во второй шеренге подняли натянутые луки. Свистнули стрелы, пираты внезапно остановились — впереди падали пронзенные тела. Сквозь стоны и крики агонии пробился голос Раписа: — Вперед! За Алагеру и «Север»! — За Алагеру! — яростно подхватили остальные. Солдаты продолжали стрелять из луков, но от арбалетов, оружия куда более смертоносного, уже не было никакой пользы. Дикая толпа с кличем мести набросилась на солдат, словно разъяренная волчья стая. Лязгнули скрещенные мечи, в мигающем блеске упавших факелов мелькало то древко копья, то широкое лезвие топора. Арбалетчики, схватившись за мечи, пытались прикрыть продолжавших стрелять лучников, но, ввиду численного преимущества противника, им удавалось это лишь недолго. В блеске последних гаснущих искр солдаты вели безнадежную борьбу. Они сражались отчаянно, молча — каждый сам за себя, но столь искусно, что трупы пиратов густо устлали землю. Однако вскоре их подавили, перемешали. Сражение превратилось в бойню. Тем временем вторая сотня разбойников опустошала селение. Здесь командовал Эхаден. Когда Рапис заканчивал резать солдат, уже неуверенно горели первые дома. То и дело группа разбойников врывалась в какую-нибудь хижину, откуда тотчас же доносились вой, плач и крики рыбаков. Разбушевавшиеся матросы метались среди домов как сумасшедшие, отчаянно лаяли на цепях собаки, из объятого пожаром курятника высыпали одурманенные дымом утки и куры, вызвав еще большую суматоху. Там, где селяне пытались в отчаянии сопротивляться, — их убивали без тени жалости. Кровь текла рекой, убийцы Эхадена рубили мечами и топорами выставленные вперед руки, пронзали незащищенные животы, разбивали головы. Стоны зверски насилуемых женщин заглушал пронзительный плач детей, которых, как непригодных для перевозки, силой отрывали от матерей. Крыши хижин пылали все ярче, треск горящих стропил смешивался с доносившимся со стороны порта победоносным грохотом орудий «Морского Змея». Эхаден не принимал участия в резне. Он стоял посреди селения, держа меч под мышкой, и с обычным спокойствием отдавал распоряжения то и дело подбегавшим к нему пиратам. Он следил, чтобы никто из жителей селения не сбежал в лес неподалеку, иногда молча указывал цель троим лучшим лучникам в команде, которых держал при себе. Так его и застал Рапис, шедший во главе запыхавшихся, окровавленных, но радостных разбойников. — Слишком много трупов! — резко сказал он. — У нас почти пустые трюмы. — Здесь много народу, — буркнул офицер, показывая на выходящую из-за хижин колонну из нескольких десятков связанных селян. Половину составляли женщины. Пленников подталкивали грубо, но в меру. Охранники заботились о товаре. Из ближайшей хижины выскочил рыбак с окровавленным лицом, держа в руке большую дубину. Рапис примерился, раскрутил над головой топор и угодил тому прямо в лоб. Раздались одобрительные возгласы лучников Эхадена и еще нескольких пиратов. Моряки радовались, что у них есть такой капитан, который может произвести на них впечатление! Кто-то подбежал к убитому, наступив на него ногой, вырвал топор и отнес капитану. — Пошли людей в корчму, — сказал Рапис, вытирая лезвие. — У имперцев почти ничего нет на складе. Слышишь, Эхаден? Офицер кивнул: — Раладан этим уже занялся. Загрузку провизии и пресной воды мы закончим до рассвета. Но пока я слышал лишь три залпа. — Он махнул рукой в сторону пристани. — Два бортовых и один из носового или кормового. Это слишком мало для трех посудин. Если они не поторопятся и не встанут у берега… — Он замолчал, услышав грохот очередного бортового залпа. — Ну все, закончили. Проходивший мимо тяжело дышавший матрос бросил факел на крышу ближайшего дома. Вспыхнуло пламя. Постепенно смолкали последние вопли убиваемых. Голоса матросов начали сливаться в старую, угрюмую морскую песню:3
И снова ему улыбалась счастливая звезда. Капитан хорошо знал маленькую дикую бухту в окрестностях Баны. Там он и спрятал «Морского Змея», сам же, вместе с несколькими надежными людьми, отвез на шлюпках на берег почти сотню пленников и пленниц. Им пришлось обернуться несколько раз, и, когда они закончили, было уже темно. «Морской Змей» тотчас же ушел в открытое море — вернуться он должен был лишь через два дня. Рапис знал, что осторожность никогда не мешает; место было уединенное, однако ему не хотелось подвергать свой драгоценный парусник большей опасности, чем то было необходимо. Еще перед рассветом они тщательно спрятали шлюпки, после чего матросы погнали пленников в глубь близлежащего леса. Рапис просидел до зари на пляже, в компании одного лишь лоцмана Раладана. Когда рассвело, они направились в находившуюся неподалеку деревню. Капитан держал там двух коней, у богатого крестьянина, который мог ими распоряжаться как ему заблагорассудится, взамен же должен был лишь заботиться о животных и… молчать. Тот охотно делал и то и другое; знаменитый пират вспоминал о конях раз, иногда два в год. И порой он оказывался весьма щедрым… Вскоре Раладан и Рапис уже ехали рысью по тракту в сторону Баны самого крупного города на юго-западе Армекта. Бана была городом молодым, а еще точнее — омоложенным и вновь расцветшим. После захвата Дартана, а затем Гарры и островов большой порт на западном побережье Армекта оказался крайне необходим. После объединения Шерера в границах Вечной Империи Армект частично взял на себя дартанские зерновые рынки, а самым большим рынком сбыта зерна была именно Гарра. Бана, маленький портовый городишко, начала быстро разрастаться еще в период армектанских морских войн. Три порта, расположенные на берегу Королевского Залива, были слишком отдалены от театра действий; требовался крупный военный порт, где могли бы сосредоточиваться силы, необходимые для завоевания заморских территорий. Прикрытый изогнутым, словно коготь, полуостровом залив Акара, на берегу которого находилась Бана, обеспечивал идеальные условия. Город богател, хорошел и рос. Дартанская архитектура, с момента присоединения Дартана триумфально шествовавшая по всей Вечной Империи, завладела Баной без остатка, превратив ее в «Роллайну Запада», и в самом деле, сходство между молодым портом и дартанской столицей просто поражало. Стройные белые здания не имели ничего общего со строгим армектанским стилем; глядя на них, любой мог легко подумать, что каким-то чудом он перенесся в самое сердце Золотой Провинции… Однако если даже Рапис и Раладан и заметили красоту представшего перед ними города, то ничем этого не показали. И позже, двигаясь по широким светлым улицам, они демонстрировали полное безразличие к красотам дартанской архитектуры. Наконец они остановились перед одним из домов-дворцов, но отнюдь не затем, чтобы восхититься прекрасными формами и пропорциями строения. Они стояли у цели своего путешествия. Как капитан пиратского парусника, так и его лоцман ничем не походили на морских разбойников. Одеты они были иначе, чем на борту «Морского Змея», в простые и удобные, но отнюдь не бедные армектанские дорожные костюмы. Конская упряжь также говорила о не бросавшейся в глаза состоятельности обоих всадников. В глазах постороннего наблюдателя они могли сойти как за купцов, так и за владельцев небольших, но приносящих доход поместий. Легкие, чуть более длинные, чем военные, мечи могли бы свидетельствовать о Чистой Крови, текущей в жилах всадников; с другой стороны, право ношения меча в Армекте легко мог получить почти каждый свободный, не запятнанный преступлением человек. В небольшом дворике перед домом путешественники спешились и, передав коней слугам, в сопровождении раба вошли внутрь и назвали имена, под которыми они были известны хозяину. Им не пришлось долго ждать. В отсутствие работорговца, находившегося в деловой поездке, их приняла Жемчужина Дома. Рапис был знаком с этой рабыней и знал, что вполне открыто может обсуждать с ней любые дела. Жена хозяина не вмешивалась в дела мужа; Жемчужина Дома, напротив, обладала всеми полномочиями и была полноправной заместительницей своего хозяина. На первый взгляд рабыня стоила от семисот до восьмисот золотых, однако капитан «Морского Змея» прекрасно осознавал, что это невозможно — работорговцы не отличались подобной расточительностью. Он ни разу не замечал, чтобы она когда-либо ходила беременной, значит, она не была племенным экземпляром. Это означало, что у нее, видимо, имелись какие-то скрытые недостатки, сильно сбивавшие цену; чаще всего именно по этой причине такие женщины оставались в доме работорговцев навсегда. Рабыня, одетая в прекрасно скроенное домашнее платье, встретила прибывших и вскоре уже вела непринужденный, шутливый разговор, из-за Раладана пользуясь языком Кону — упрощенной версией армектанского. Ловко сменив тему беседы, она почти незаметно перешла к делу. Рапис, явно чувствовавший себя в этом доме не хуже, чем на палубе корабля, коротко и без недомолвок изложил суть своего предложения, сообщив численность и примерную стоимость товара. — Как видишь, госпожа, — закончил он (рабыне в ранге Жемчужины Дома, представлявшей хозяина, полагался такой же титул, как и женщине Чистой Крови), — дело посерьезнее обычного. Учитывая стоимость сделки. Женщина слегка нахмурилась, о чем-то размышляя. — Да, — коротко ответила она. — Более серьезное, но и более хлопотное, — добавила она, помолчав. — Ведь ты прекрасно понимаешь, господин, что товар четвертого сорта найдет покупателя сразу же, на рудниках и в каменоломнях не хватает рабочей силы. Так что мне все равно, куплю я партию в сто или в двести голов; и в самом деле, чем больше, тем лучше. Особенно если они островитяне или гаррийцы, — усмехнулась она. — В этом смысле как раз ничего не изменилось. Рапис кивнул. Действительно, строгие законы империи, регулировавшие основы торговли живым товаром, в некоторых случаях оказывались удивительно бессильны… В Кирлане некоторых вещей попросту не замечали. Рыбацкие селения на Островах не давали большого дохода имперской казне, в то время как соляные копи — совсем наоборот. Даже находясь в частных руках, они приносили немалые доходы от налогов. Удерживавшаяся в разумных границах нелегальная торговля рабами была явлением в общем-то желательным. Естественно, пиратский корабль, захваченный с полным трюмом пленников, не мог рассчитывать на какое-либо снисхождение. С другой стороны, однако, частные рудники, каменоломни, а иногда даже хлопковые плантации контролировались имперскими чиновниками удивительно поверхностно… — Боюсь, однако, господин, — продолжала Жемчужина Дома, — что исключительно большое, как ты утверждаешь, количество молодых и красивых женщин вместо ожидаемой выгоды принесет одни лишь хлопоты. Я не куплю их, господин, — без обиняков заявила она. — Спрос, — коротко объяснила она в ответ на удивленный взгляд капитана. — Нет спроса. Публичные дома переполнены, рабыни-проститутки в этом году почти ничего не стоят. Неурожай, — снова коротко пояснила она. — Неужели ты ничего не знал, господин? Как это может быть? — Я слышал. Но не думал, что до такой степени. — Настоящие бедствие, — подытожила Жемчужина. — Неурожай. Многие семьи оказались на грани нищеты. Каждый день здесь появляется какая-нибудь девушка, а иногда несколько. Еще неделю назад я купила двух, но там действительно было что покупать. От остальных я отказалась, и, насколько мне известно, никто другой их тоже не покупает. Живой товар, господин, именно живой товар, и если за короткое время на него не найдется покупателя, то он начнет проедать ожидаемую прибыль. Можно в течение пятнадцати лет растить, учить и воспитывать девушку от тщательно подобранной пары производителей, чтобы потом продать в качестве Жемчужины за восемьсот или тысячу золотых. Ведь даже если она не получит сертификата Жемчужины, все равно она будет рабыней первого сорта и по крайней мере не принесет убытков. Но — сырье для дешевых проституток? Конъюнктура придет в норму самое раннее через год, а кто знает, может быть, и через два. Продать такую девушку я могу за двадцать, тридцать, ну, может быть, за сорок золотых, если она очень молода и красива. Так за сколько должна я ее купить, чтобы разница в цене покрыла стоимость годового содержания? Сегодня, господин, тебе пришлось бы мне доплатить, чтобы я согласилась взять этих островитянок. Мужчины — другое дело, их всегда не хватает и будет не хватать. Добровольно никто не продастся в рабство, даже если будет подыхать с голоду. Это пустой закон, которым почти никто не пользуется, господин, да ты и сам знаешь. Такой мужчина может быть уверен, что попадет в каменоломню и проживет, самое большее, два-три года. Рапис, тряхнув головой, поднял руку. — Достаточно, госпожа, — несколько раздраженно отрезал он. — Я знаю, как работает рынок. Забудем о женщинах. Значит, покупаешь одних мужчин? — Несколько женщин, может быть… Если они сильные и не слишком красивые. Действительно сильные и действительно некрасивые, — подчеркнула она. — Женщины при работе на рудниках не слишком окупаются и чересчур привлекают внимание. Приходится их переодевать в мужское платье. Я могу взять несколько, господин, но, честно говоря, скорее для поддержания хороших деловых отношений… Несколько мгновений она что-то подсчитывала в уме, потом назвала сумму. — Естественно, это примерная стоимость, — уточнила она. — Как обычно, тебе дадут кого-нибудь, кто оценит товар на месте. Надеюсь, ты согласишься на окончательную цену? Не в моих интересах сдирать с тебя три шкуры, господин, — она чуть наморщила нос и рассмеялась, — поскольку иначе в следующий раз ты пойдешь к конкурентам… Заверяю, что как всегда, так и сейчас окончательная цена будет отражать реальную стоимость товара. Ведь так? Рапис кивнул. Он никогда не жалел о связях с этим работорговцем; он был уверен, что не пожалеет и на этот раз. В конце концов, никто же не виноват, что конъюнктура сложилась не лучшим образом. Жемчужина, от имени своего хозяина, вела с ним честную игру. Названная ею ориентировочная сумма выглядела вполне разумной. Переночевав в неплохой гостинице, они двинулись в обратный путь на следующее утро, как только появились люди, о которых говорила Жемчужина Дома. Одного из них Рапис знал — тот уже дважды сопровождал его, чтобы осмотреть и оценить привезенный товар. До леса они добрались еще до захода солнца. Из-за деревьев тут же появились двое матросов. Один забрал коней Раписа и Раладана, чтобы отвести их в деревню; другой повел прибывших к тому месту, где держали пленников. В отсутствие капитана не произошло ничего заслуживавшего внимания. Выставленные посты лишьоднажды спугнули каких-то грибников. Мало кто забирался столь далеко. Прибыв на место, представитель работорговца быстро и со знанием дела осмотрел товар. Мужчины, хоть и несколько исхудавшие (Рапис их на «Змее» особенно не перекармливал), выглядели, в общем-то, неплохо — что было понятно, поскольку хилых и стариков не брали, больные же и раненые почти все отправились за борт во время морского путешествия. Кроме того, в соответствии с обещанием Жемчужины у капитана купили несколько сильных, здоровых женщин, правда за не слишком высокую цену. Однако Рапис был доволен, поскольку ему еще удалось продать трех симпатичных девочек лет двенадцати-тринадцати, получив за них вполне приличные деньги, особенно за младшую, которая была девственницей. Покончив со всеми формальностями, посланник работорговца без лишних слов попрощался и, не обращая внимания на сгущающиеся сумерки, забрал с собой всю купленную группу, под эскортом собственных, приведенных из Баны людей. Рапис знал, что где-то в условленном месте на тракте товар, вероятно, ожидал небольшой караван повозок… Но это уже его никак не касалось. Золото он получил. Не столько, сколько ожидал, выгружая товар на берег; с другой стороны, однако, не намного меньше, чем обычно. Он просто привез чересчур большую партию. У него осталось около сорока женщин, а также двое не отвечавших требованиям мужчин. Капитан приказал всем шагать к пляжу, где были спрятаны шлюпки. «Морской Змей», вероятно, уже стоял на якоре недалеко от берега… Неся приличных размеров мешок, в котором позвякивало золото и серебро, Рапис держался в конце отряда. Когда они подошли к краю леса, он подозвал Раладана. — Посоветуй, — коротко потребовал он. — Мы не можем оставить здесь сорок с лишним трупов — рано или поздно кто-нибудь их найдет. Я хочу, чтобы здесь все было чисто. Посоветуй, Раладан. Камень на шею? Если даже пара утопленников и всплывет — не страшно… Лоцман выругался в темноте: ветка хлестнула его по лицу. Ночной поход через лес отнюдь не был приятной прогулкой. — Много мы заработали? — спросил он. — Так себе, — неохотно ответил Рапис, и лоцман слегка улыбнулся; капитан бывал щедр, но порой, для разнообразия, скуп до невозможности. Тебе хватит, Раладан. — Я не о том, капитан. Если мы привезем товар обратно на корабль, команда поймет, что дела пошли не лучшим образом, и никто не удивится, если на долю каждого придется немного. Никто не знает, сколько на самом деле в этом мешке, капитан. — Нет, Раладан. Даже если бы мне самому хотелось тащить все это стадо обратно на «Змея», команда должна свое получить. Хочешь бунта? Я не хочу. — Есть выход. У нас сорок женщин, капитан. Товар нужно было беречь, но теперь это уже не товар. Это лишние хлопоты. Или подарок для команды, может быть даже еще более приятный, чем серебро. Они получат меньше обычного, зато будут женщины. Даром. Они добрались до пляжа. Разговор, шедший достаточно тихо, чтобы матросы не могли ничего услышать, закончился смехом Раписа. — Хорошая идея, Раладан, в самом деле хорошая. Так и сделаем. Недалеко от берега время от времени вспыхивал маленький тусклый огонек. Парусник уже их ждал. Шлюпки совершили рейс до «Морского Змея», потом вернулись. Даже перегруженные, они не могли забрать сразу гребцов и сорок женщин. Рапис не поплыл с первой партией, оставшись ждать на пляже. Стоявший на якоре в четверти мили от берега парусник много лет был его домом, однако даже домой не всегда хочется возвращаться. Капитан наверняка бы удивился, если бы ему сказали, что он остался потому, что его очаровала теплая звездная ночь. Он уже почти забыл, что значит быть очарованным; на борту пиратского корабля не было места подобным чувствам, даже подобным словам. Однако именно темно-синий искрящийся небосвод над головой, мягкий песок пляжа и накатывавшиеся на плоский берег волны удерживали его, оттягивая возвращение на корабль. Невдалеке маячили десятка полтора темных неподвижных фигур. Двое матросов стерегли женщин. Истощенные и перепуганные, те боялись даже громко дышать. Молчаливое присутствие «товара» внезапно показалось Рапису неприятным; он встал и, коротко бросив своим людям: «Ждите», медленно двинулся вдоль пляжа. Вскоре тени на песке растворились во мраке, и капитан внезапно осознал, что он один. Не так, как в каюте на «Змее». Один. Он мог идти куда угодно, так долго, как только бы пожелал. Волны тихо шуршали о песок. Шагая, он вспомнил такую же ночь и такой же пляж много лет назад и ощутил щемящую тоску по всему тому, что оставил тогда на пляже, позади, раз и навсегда; по молодому офицеру морской стражи Армекта, которым он тогда был, и прекрасной, благородного происхождения гаррийке, которая его обманула. Он повернул назад. Внезапно ему показалось, что если он пройдет еще немного, то окажется в том месте, где вновь найдет свою прежнюю жизнь, которой он изменил. Да, он был совершенно уверен, что она… она ждет его там. Он готов был ее убить. Он этого не хотел. Он возвращался все быстрее, словно опасаясь, что матросы и женщины таинственным образом исчезнут… Тихая армектанская ночь внезапно показалась ему враждебной. У него был свой корабль, свои матросы, своя морская легенда — и он не хотел всего этого терять. Даже на мгновение. Этот корабль и эти матросы… Он горько усмехнулся. Вряд ли кто-то из команды размышлял над смыслом жизни, да и вообще хоть как-то ценил свою собственную жизнь. В некотором смысле он всех их любил. Может быть, именно за это? Они же в свою очередь любили своего капитана. Никто из них не в состоянии был сказать почему. Но разве это имело хоть какое-то значение? Важно было совершенно другое, а именно то, что его — кровавого предводителя убийц, Бесстрашного Демона, как его называли, — могли любить четверть тысячи человек, которые ни разу его не предали. Они были людьми. Неважно какими. Достаточно того, что, вероятнее всего, мало кто из благородных морализаторов, столь охотно делящих мир на добро и зло, мог похвастаться любовью к собственной персоне хотя бы десяти человек, не говоря уже о сотнях. Рапис был уверен, что, когда он в конце концов уйдет, он оставит по себе добрую память в сердцах всех моряков, плававших под его флагом. Для него это было крайне важно. Именно потому он не любил вспоминать о далеком прошлом и старался не вызывать тех событий в памяти. Перед ним была еще немалая часть жизни, но ему уже было жаль впустую потраченных в молодости лет. Объявленный вне закона, проклятый сотнями, а может быть, и тысячами людей, он нашел свое благо. Свое место. Он вернулся как раз в тот момент, когда первая шлюпка заскрежетала дном о песок. Сразу же за ней появилась вторая. Матросы, не ожидая команды, начали загружать в лодки пленниц. Капитан стоял и смотрел не говоря ни слова. Женщины неуклюже карабкались через борт. Ноги у них были связаны так, чтобы можно было делать маленькие шаги, кроме того, все были связаны общей веревкой, которая захлестывалась петлей на шее у каждой. Теперь веревку разрезали, чтобы разместить груз в шлюпках. На истоптанном песке остались лишь какие-то тряпки, хорошо заметные в полумраке звездной ночи. Матросы, оглядываясь на капитана, уже начали сталкивать шлюпки на воду. Рапис наклонился и поднял с песка грязный лоскут. Он не хотел оставлять после себя ненужных следов. Может быть, осторожность была излишней, но… Он шагнул к другой тряпке и… наступил на живое, зарывшееся в песок тело. Капитан медленно отступил назад. Он обнаружил беглянку. Матросы, стоя по пояс в воде, с трудом удерживали тяжело раскачивавшиеся шлюпки. Рапис присел, уперся локтями в бедра и, сплетя пальцы, пригляделся вблизи к своей находке. Он посмотрел по сторонам, пытаясь понять, как подобное могло произойти — каким образом эта женщина сумела, не привлекая внимания охраны, стащить с себя драные лохмотья и частично зарыться в песок, впрочем весьма неуклюже; из-под серых песчинок во многих местах проглядывала обнаженная кожа. Однако в ночном мраке тело и песок были одного цвета… Как она освободилась от веревки? Он почувствовал невольное восхищение ловкостью и хладнокровием беглянки. Несколько мгновений он размышлял, знает ли уже это дрожащее от страда создание о том, что его обнаружили. Она должна была почувствовать, когда он наступил на нее ногой. Однако она не знала, нашли ее или, может быть, просто случайно наступили… Капитан обернулся к матросам у шлюпок. Они не могли знать, что он только что обнаружил. Он едва сдерживал смех, борясь с искушением похлопать ловкачку по голой ляжке — и так и оставить. Стиснув удивительно изящную пятку, он выпрямился и пошел вперед, волоча по песку безвольное тело женщины. Она издала нечто вроде короткого стона — и больше ничего, хотя шершавый песок, камни и обломки раковин должны были доставлять ей немалые страдания. Послышались удивленные возгласы матросов, выскочивших ему навстречу. Оставив находку там, куда докатывались первые волны, он вошел в воду и вскоре оказался в шлюпке. Только потом он обернулся. Матросы тащили женщину во вторую шлюпку. — На «Змее», — громко сказал он, — привести ее ко мне в каюту. И следите за ней! Может выкинуть какой-нибудь очередной фортель. — Есть, господин! В голосе матроса слышалось облегчение. Он был одним из тех, кто охранял товар на пляже. Наказание только что его миновало.4
Женщин загнали в трюм. Никто на «Морском Змее» еще не знал, какая судьба им уготована. Рапис не спешил делать подарок команде. Бухта у берегов Армекта была не слишком подходящим местом для развлечений. Следовало выйти в открытое море, получить свободу быстроты и маневра, а прежде всего — скрыться достаточно далеко за горизонтом, чтобы нежелательный взгляд с берега не мог заметить корабль. Отдав Эха дену распоряжения относительно курса, капитан пошел к себе. В каюте он отстегнул пояс с мечом, сбросил камзол и рубашку. Было очень душно. Он присел на большой рундук у стены и потянулся. Он уже успел забыть о выкопанной из песка пленнице и удивленно поднял брови, когда в дверь каюты начал изо всех сил колотить Тарес. Офицер сжимал рукой горло согнувшейся пополам обнаженной женщины. — Кажется… Рапис махнул рукой; глупость этого человека порой его изумляла. Тарес был его вторым помощником, офицером добросовестным, исполнительным и послушным… порой до безрассудства. — Ладно, давай ее сюда, — велел капитан, невольно показывая на середину каюты… и тяжело вздохнул, ибо Тарес еще сильнее стиснул горло стонущей от боли пленницы и толкнул ее со всей силы, так что та рухнула на пол, точно в указанном месте. — Ладно, иди, — сказал капитан. Тарес вышел, закрыв за собой дверь. Скорчившаяся на полу женщина не шевелилась. Рапис наклонился, сидя на рундуке, и взял ее за подбородок. Он увидел лицо, частично прикрытое растрепанными волосами, и инстинктивно отшатнулся — у девушки не было глаза. Вид уродливой, недавно зажившей глазницы мог потрясти любого. Он сразу же ее вспомнил. Она потеряла глаз во время нападения на деревню, но во всех прочих отношениях была молодой и здоровой, с великолепной фигурой, и отличалась незаурядной красотой. На ней была лишь набедренная повязка из какой-то тряпки, но вид ее не казался отталкивающим, скорее наоборот. Осматривая товар в трюме, он последовал совету Эхадена и решил оставить девушку. На нее мог найтись покупатель; тогда он еще не знал, что в Армекте спрос на женщин практически отсутствует. Честно говоря, если бы не эта роковая рана, она была бы самым дорогим экземпляром из всех, что у него были. Даже странно. Такие женщины в рыбацких селениях обычно не встречались. — Как тебя зовут? Она молчала, все еще скорчившись на полу — так, как швырнул ее Тарес. — Не понимаешь Кону? Кажется, она и в самом деле не понимала. Ничего удивительного. Гаррийцы не любили этого общего для всей империи языка, являвшегося упрощенным армектанским наречием, — так же как, впрочем, и все остальное, навязанное Кирланом. Собственно, Рапис, хотя сам был армектанцем, вовсе этому не удивлялся. Но сейчас ему предстояло раскусить крепкий орешек. Он прекрасно понимал гаррийский, но с разговором дела обстояли хуже. Произношение было для него настоящей магией. Он прекрасно понимал, сколь непонятно и грубо звучат в его устах гаррийские слова. — Как тебя зовут? — попытался сказать капитан. Девушка вздрогнула и приподняла голову, но не посмотрела на него. — Ридаретте, — хрипло проговорила она. — Ридарета, — поправил он, произнеся имя в армектанском звучании. Ридарета… — повторил он. Странное имя. Редкое. Капитан задумчиво постучал пальцами по крышке рундука, на котором сидел. Какой-то комок подкатил к горлу. Он сглотнул. — Встань, — приказал он. Она подчинилась. Взгляд ее был устремлен в пол, но она стояла выпрямившись, не горбясь, не свешивая рук. Еще немного, и упрет руки в бока… Со все большей задумчивостью он бросил взгляд на большие крепкие груди, оценил плоский живот и очертания ног. — Повернись. Сзади она выглядела не хуже: форма ягодиц и спины была просто великолепна. Капитан держал на корабле ящик, полный женской одежды. Сейчас он сидел как раз на нем. Дорогие платья и юбки, вышитые золотом, украшенные жемчугом. Добыча с торгового барка. Все это он хотел при подходящем случае продать, но пока такой случай не подворачивался. — В этом ящике, — сказал он, вставая, — лежат платья. Выбери себе любое. Девушка никак не отреагировала. — Слышала? Надень что-нибудь. — Он открыл крышку сундука, покопался внутри и вытащил кусок черного бархата. — Отрежь кусок и сделай себе повязку, дыра вместо глаза — не лучшие украшение. Подожди. Сначала умойся и причешись. — Он подтолкнул ее к небольшой двери в углу каюты. — Там найдешь таз и кувшин с водой, есть там и зеркало, и медный гребень. Знаю, что этого маловато для дамы, — капитан неожиданно улыбнулся, — но, к сожалению, это все, что я могу предложить вашему благородию. Он говорил медленно и тщательно, надеясь, что его можно понять. Рявкнуть по-гаррийски «За мной!» или «Пленных не брать!» было нетрудно. Совсем другое дело — вести беседу о зеркалах и платьях. Девушка скрылась за указанной дверью. Рапис открыл соседнюю дверь, ведшую в спальню. Эти апартаменты он унаследовал от армектанского командующего эскадрой. Лишь немногие корабли предоставляли своим капитанам подобную роскошь. Он окинул взглядом смятую постель, разбросанную одежду, оружие и всяческий хлам. Что ж, девушка могла ему пригодиться. Впрочем, не только для уборки… Он не терпел женщин в команде, зная, чем это заканчивается. Как у Алагеры. Ее смешанная банда больше отдавалась утехам под палубой, чем думала о том, как и когда ставить паруса. Алагера была капитаном только по названию, на самом деле никто ее не слушал. В таких условиях каждая смена курса, каждый поворот приобретали ранг серьезного маневра. Для женщин было время в тавернах, на берегу. Но сейчас… Раз уж он сам отступал от собственных принципов, давая подарок команде, можно было дать поблажку и себе. Впрочем… Речь шла об одном дне, может быть, о двух. Он сел на постели и провел ладонями по лицу. Что-то его беспокоило, и, кажется, он знал что. Лицо этой девушки было просто поразительным. Никогда прежде он не думал, что вид какой-либо раны вызовет у него подобный… страх. Именно страх. Ему хотелось ударить эту женщину, сделать что-нибудь, чтобы ее не стало. Пустая, отвратительная глазница… Но ведь ему приходилось видеть раны много хуже. Почему именно это лицо так его потрясло? От его вида он испытал почти… настоящую боль. Пытаясь отбросить прочь неприятные мысли, капитан начал строить планы. Он понятия не имел, куда направить «Морского Змея». Что за неудачный год… Обычно он располагал точными, проверенными сведениями о ценных грузах и прочих возможностях разжиться богатством. Если чего-то ему и не хватало, так это времени, чтобы ими всеми воспользоваться. Он уже не помнил, когда ему приходилось искать подходящее занятие для своего парусника. В самом деле, год хуже некуда… Приближалась осень, пора штормов. Она была уже слишком близка для того, чтобы предпринять более или менее серьезную экспедицию, — но и слишком далека для того, чтобы вообще ничего не делать до ее прихода. Болтаться по Замкнутому морю, надеясь на счастливое стечение обстоятельств? Он уже отвык от подобного рода охоты… Капитан потер подбородок. А может быть, в Безымянную Страну? За Брошенными Предметами? Там даже время шло иначе, место это было весьма необычным… Там можно было бы переждать пору штормов. Рискованно, но?.. Когда-то он уже бывал там. Места эти звались Дурным Краем, и не без причин. Там он потерял три четверти своей команды. Но те, кто выжил, могли себя поздравить. За Брошенные Предметы платили уже не серебром, а золотом. Моряки, полные суеверного страха, наперегонки избавлялись от драгоценной «магической» добычи. Сначала и он тоже намеревался как можно скорее продать свою долю. Однако, подумав, он оставил себе Рубин Дочери Молний, Гееркото, могущественный Темный Предмет. Капитан никогда не жалел о подобном решении. Он не мог полностью воспользоваться дремлющими в Рубине силами, но само обладание им делало его владельца невосприимчивым к усталости и боли, прибавляло здоровья, сил и ловкости… Капитан прогнал искушение прочь. Он не мог снова идти в Дурной Край. Люди. Люди были новыми, ненадежными. Будь у него на «Змее» старая, испытанная команда, во главе которой он получил свое боевое прозвище… Он усмехнулся собственным воспоминаниям. Прошло несколько лет с тех пор, как он вырезал до последнего человека маленький гарнизон морской стражи на одном из островков Гаррийского моря. Там ничего не было, кроме остатков старой рыбацкой пристани и нескольких покосившихся домов. В некоторых из них сидели солдаты, — собственно говоря, неизвестно зачем. Ходили слухи, что командование Морской стражи Гарры и Островов носится с идеей восстановить пристань и построить казармы для команд двух или трех небольших кораблей Резервного Флота. Короче говоря, на заброшенном островке должен был возникнуть маленький военный порт. Рапис слышал об этом уже давно. Шли годы, а планы стражников так и оставались лишь планами. «Морской Змей» как-то раз завернул к этой пристани, а когда отходил — над островом развевался пурпурно-зеленый военный флаг Раписа. Прошли месяцы, прежде чем к берегам островка прибыл корабль морской стражи, доставивший провизию; только тогда обнаружилось, что от солдат на острове не осталось и следа. Какое-то время спустя там обосновался новый гарнизон, и лишь благодаря чистой случайности «Морской Змей» снова посетил старую пристань. На этот раз солдаты остались в живых… пополнив собой команду Раписа. Ничего удивительного — к разряду честных людей их вряд ли можно было отнести… На службу в таком месте, как всеми забытый островок, солдат посылали в наказание: все они, включая командира, совершили те или иные проступки. Рапис во второй раз поднял над островом свой флаг и через несколько месяцев вернулся, чтобы проверить, на месте ли он. Флага уже не было. На этот раз команде «Змея» пришлось по-настоящему сразиться с усиленным гарнизоном, насчитывавшим несколько десятков хорошо вооруженных солдат. И в третий раз пурпурно-зеленый флаг взвился над островом. Капитан пиратского корабля объявил открытую войну Вечной Империи. В комендатуре морской стражи Гарры и Островов никто не мог понять, в чем, собственно, дело. Безлюдный островок не представлял никакой ценности, там мог возникнуть небольшой военный порт, но не более того. Вряд ли стоило подозревать, что команда таинственного пиратского парусника собиралась там всерьез обосноваться. В этом не было никакого смысла. Остров тщательно исследовали. Как и следовало ожидать, там не было ничего, совершенно ничего. Тем не менее брошенный морскими разбойниками вызов был принят. Бич пиратства давно уже докучал империи, и теперь подворачивался случай уничтожить нахальный парусник. Получив помощь сухопутных войск, морская стража высадила на несчастном острове почти половину — свыше трехсот человек — Гаррийского Легиона. По морю кружили две эскадры, составлявшие ядро Резервного Флота. Рапис, всюду имевший своих шпионов, знал обо всех этих начинаниях; размах предприятия делал невозможным сохранение полной тайны. Он выиграл войну. Легенды о собранных им сокровищах неожиданно нашли удивительное подтверждение: капитан «Морского Змея» купил себе подмогу, и, притом не какую попало… В атаке на остров (позднее названный Барирра — Странный) участвовали четыре больших корабля и два поменьше, а кроме того, десятка полтора быстрых суденышек морских шакалов, рыбаков и пиратов, грабивших заманенные на мель корабли. Два имперских фрегата пустили ко дну, два других обратили в бегство. Легионеров, оставшихся без помощи на острове, перерезали всех до единого — три сотни с лишним. Морская стража отчаянно пыталась замять дело, командование сухопутных войск требовало объяснений в связи с гибелью своих отрядов на острове. Имперский Трибунал начал расследование; ясно было, что предводитель пиратов имел среди командования стражи своих доносчиков. Быстро выяснилось, что империя не в состоянии проводить невероятно дорогие и вместе с тем всегда заканчивающиеся поражением операции по обороне никому не нужной торчащей из воды скалы. Было сделано все, чтобы превратить проигрыш в победу: всем и всюду трубили об огромных потерях пиратов, о потопленных парусниках, о виселицах… Престиж имперских войск удалось спасти — но ценой острова. Бесстрашный Демон, как тут же начали называть капитана пиратов, получил свою Барирру. От содержания там гарнизона отказались. Лишь время от времени к острову осторожно приближались патрульные суда морской стражи. Они всегда находили там победно развевающийся красно-зеленый флаг — и больше ничего. Видно было, что пиратский парусник время от времени сюда заглядывает: флаг меняли, снимали порванный ветрами и вешали новый. Однако, если не считать этого, остров казался заброшенным и забытым. Бесстрашному Демону он был не нужен… Сидя в каюте, посреди разбросанной постели, Рапис провел рукой по лицу. Он вдруг понял, как часто (слишком часто!) стали его посещать в последнее время воспоминания. Капитан начинал задумываться, не признак ли это подступающей старости. Все чаще его беспокоило прошлое и все реже будущее… Он встал и выглянул из спальни. Девушка — уже одетая поправляла складки сказочно богатого, хотя и несколько запыленного и помятого платья. Капитан молча разглядывал ее. Он уже знал, что ему предстоят серьезные хлопоты… Девушка в его каюте не могла быть деревенской жительницей. Дочь рыбака из островного селения не сумела бы даже зашнуровать лиф. Одноглазый, перечеркнутый черной повязкой взгляд таил в себе некую мрачную, угрюмую экзотику, но прежде всего — вызов. — Госпожа, — сказал Рапис, — я капитан пиратского корабля, но прежде всего я мужчина Чистой Крови. Я не беру в плен женщин, равных мне по происхождению, чтобы продать их в рабство. Возможно, я мог бы потребовать выкупа. Произошла печальная ошибка… Ридарета, так? А дальше? Он с усилием складывал горловые звуки в слова, а те в свою очередь в предложения. Девушка молчала. — Назови свое имя, госпожа, — потребовал он уже решительнее. Возможно, я плохо владею языком, но уверен, что меня можно понять. Прошу назвать полное имя или инициалы твоих родовых имен. Это не просьба, а приказ. Кирлан когда-то пытался совершить невозможное — перенести родовые инициалы на гаррийскую почву. Родовые имена появились много веков назад в Дартане, потом их перенял Армект. Однако они были абсолютно чужды гаррийским обычаям и традициям. Они прижились только на островах: жители их, не имевшие собственной аристократии, не протестовали, когда император, награждая за различные заслуги, даровал некоторым семьям статус Чистой Крови. Девушка прикусила губу. — Просто… Ридарета, — наконец ответила она. Молчание затягивалось. Капитан смотрел ей прямо в лицо; она отвечала ему удивительно упрямым и непокорным взглядом. Кем она была, гром и молния? — Ты можешь стать ценной заложницей, — сказал Рапис, — но можешь оставаться рабыней, как и прежде. Выбирай. Заложницу я могу обменять на золото. Рабынь я уже пробовал — ничего не вышло. Все женщины, какие есть на корабле, достанутся завтра матросам. Но здесь военный корабль, а не бордель, и потому матросские забавы продлятся самое большее день. Потом с рабынями будут забавляться рыбы. Он в первый раз заметил на ее лице тень страха. И ужаса. Капитан сел в просторное, удобное кресло и вытянул ноги на середину каюты. У имперских офицеров не было таких кресел. Он притащил его себе с того же барка, откуда взялись и женские платья в сундуке. — У меня нет ни терпения, ни времени, ваше благородие, чтобы играть с тобой в вопросы без ответов, — спокойно сказал он. — Я хочу услышать твое полное имя. Спрашиваю в последний раз. Девушка сжала губы. Он ждал. За дверью послышались шаги. В каюту вошел Эхаден, как обычно без стука. — Я слышал… — начал он и тут же ошеломленно замолчал. Рапис махнул рукой, показывая своему помощнику на девушку в прекрасном платье. — Рыбацкая дочка, — представил он ее. — Зовут Ридарета. И ничего больше. Пройдись, — приказал он девушке. — Туда и обратно — ну, давай! Девушка подчинилась. Она даже не пыталась притворяться… Эхаден пришел в себя. Отступив назад, он изумленно смотрел на ровную походку, прямую спину и высоко поднятую голову пленницы. Она ставила ноги на носок, а не на пятку, уверенно, не путаясь в платье. — Откуда ты взялась в той деревне, госпожа? Почему не сказала… начал офицер. Рапис усмехнулся. — Ну вот, — сказал он. — Позови еще Тареса, и окажется, что все офицеры, какие только есть на «Змее», спрашивают ее благородие об одном и том же. Хотя Тарес слишком глуп… Но Раладан наверняка бы спросил. Он немало помотался по свету. Капитан пожал плечами. — Возьми ее себе, — неожиданно добавил он. — Мне для этого терпения не хватит. Наша дама, — продолжал он на языке Кону, — сказала по-гаррийски слова два или три, зато с таким произношением, какого у меня никогда не будет, проживи я хоть сто лет. Она даже не пытается скрывать, что превосходно себя чувствует в этом платье, но полного имени тебе не назовет даже под страхом смерти. Моего терпения не хватит, — повторил он. — Возьми ее себе и выясни, кто она, поболтайте друг с другом по-гаррийски. Я уже сыт по горло этим твоим паршивым языком. Пленниц завтра отдай матросам, дела пошли неудачно, — он прищурился, — так что вместо серебра они получат женщин. А с этой поступай как хочешь. Только убери ее с глаз моих, иначе после того, что я сейчас с ней сделаю, от нее толку будет не больше, чем от Алагеры, когда мы ее в последний раз видели…5
Дул западный ветер. «Морской Змей» быстро шел курсом галфвинд прямо на юг. Миновав Круглые Острова, они обогнули их и пошли дальше, через Замкнутое море. Настроение команды было не самым худшим, хотя от пленниц, подаренных им Раписом, остались одни лишь воспоминания, и притом старательно скрываемые… Капитан пришел в неописуемую ярость, когда стало ясно, сколь разумны были принципы, которых он придерживался, и сколь глупо было пытаться от них отступать. Женщин набралось чуть меньше сорока; из-за самых молодых и красивых началась драка. Дошло до поножовщины, нескольких матросов ранили, а двое погибли. Боцману и гвардейцам — помощникам Раписа, еще из старой команды, — пришлось пустить в ход палки и бичи, чтобы снова навести порядок. Пленницам перерезали горло и вышвырнули за борт. Так закончились матросские забавы. Раздраженный Рапис с неохотой поддался на уговоры Эхадена, позволив оставить еще на какое-то время на корабле таинственную одноглазую пленницу. В конце концов он согласился, но пообещал, что если только увидит девушку «где-нибудь на корабле», то прикажет тут же выкинуть ее в море. «Помни! — приказал он. — Держи ее на поводке, у себя; я не желаю больше ничего слышать ни о каких животных на борту». На том и порешили. Была ночь. Эхаден проверил вахтенных на палубе и вернулся в каюту. Ридарета проснулась. В слабом свете покачивающегося фонаря она смотрела, как он расстегивает пояс, снимает камзол, а потом сбрасывает сапоги и стягивает штаны. Наконец он остался в одной рубашке. — Я не сплю, — сказала девушка. — Вижу. Он присел рядом с ней на постель, задумчиво глядя в пол. — Скоро осень, — сказал он. — Пора решать, что дальше. — Что будет осенью? А, штормы… — Штормы, — подтвердил Эхаден. — Пора бурь. Осенью никто не плавает по морям. У «Морского Змея» есть несколько укромных мест. Команда сойдет на берег, будет тратить заработанное серебро. На борту останутся несколько матросов и еще кто-нибудь. Может быть, я, может быть, он… Но ты точно не останешься. Придумай что-нибудь. Должен быть кто-нибудь, кто за тебя заплатит. Я не могу больше тебя защищать. — Может, сбежим? — предложила она. Он покачал головой. — Кажется, ты уже однажды пробовала? — с мрачной иронией спросил он. Я потерял целое состояние, заплатив тому матросу лишь за то, чтобы он не слишком тебя стерег. И что? В лесу случая не представилось, а на пляже… — Тогда на пляже мне почти удалось, — возразила девушка. — Почти. — Ты его боишься, — заметила она. — Я не знаю никого, кто бы его не боялся. Бесстрашный Демон. Это не обычное военное прозвище. Этот человек и в самом деле стал демоном. Я уже почти не в состоянии с ним разговаривать. С каждым месяцем, с каждой неделей все хуже и хуже. Может, дело в том камне, Гееркото. Не знаю. Он тебя не узнал. — Эхаден развел руками и беспомощно покачал головой. — Не узнал… — повторил он. — Я лишилась глаза, — тихо напомнила девушка. Он все еще качал головой. — Ридарета, он тебя не узнал. Не узнал лица единственной женщины, которую любил, за всю свою жизнь. Понимаешь? Смотри, — он показал на собственное лицо, — я на нее похож, даже теперь, после стольких лет. Да или нет? И ты на меня похожа, очень похожа. Он этого не заметил. — Мама рассказывала… Эхаден не слушал. — Он одел тебя в платье, заставил пройтись… А до этого видел тебя обнаженной. У тебя ее рост, ее фигура, такие же волосы… — говорил он словно сам с собой. — Ты выглядишь точно так же, как выглядела она лет пятнадцать назад. Ведь я видел ее с детства, мы всегда были вместе… когда ей было десять лет — и шестнадцать, как тебе сейчас… Не спорь со мной, — добавил он, хотя девушка молчала. — Если чье-то лицо и запомнилось мне на всю жизнь, то это лицо моей собственной сестры… Впрочем, что ты можешь об этом знать… — Он махнул рукой. Ридарета молчала. — А от него у тебя подбородок и рот, — добавил Эхаден. — Этого он тоже не заметил. — Скажи ему, — тихо, но решительно попросила она. — Нет! — резко возразил он. — Ты не знаешь, о чем говоришь, я уже пытался тебе это… Он тебя убьет, попросту убьет! Он не владеет собой, пойми! Он по-настоящему любит своих моряков, и что? Мне еще раз тебе рассказать, что он вчера приказал сделать с тем глуповатым матросиком? Девушка покачала головой. Матроса протащили под килем. За мелкий, очень мелкий проступок. Он умер. — Он тебя убьет, — повторил Эхаден. — Это армектанец. Он им был, есть и будет. Он не поверит! Уже шестнадцать лет он убежден, что Агенея ему изменила, сбежала, бросила… Это армектанец! — повторил он. — Он не поверит, что высокорожденную гаррийку, беременную от армектанского офицера морской стражи, лишь по этой причине могли держать взаперти в доме собственного отца в течение двенадцати лет! И тем более он не поверит, что после ее смерти тебя выгнали на улицу, как собаку! Это не по-армектански, понимаешь? Шернь, как же я все это ненавидел! — бросил он. — «Священная борьба за независимость Гарры»! Священная, столетняя ненависть к Армекту и армектанцам! Да, нас завоевали! Да, когда-то была война! Но на этом проклятом острове просто невозможно жить, и виноваты в том старые идиоты вроде моего отца! Твоего деда! — взорвался он. — Который проклял меня и лишил наследства лишь за то, что я нашел настоящего друга в лице армектанского солдата. Я тебе говорю, Ридарета, если бы завтра утром мне было суждено умереть, эта дружба стоила бы много больше, чем что-либо иное в моей жизни! Агенея это понимала. Как же я рад, — воскликнул он, — что этот старый дурак наконец умер! Шернь, а таких, как я и Рапис, называют преступниками! — Перестань, — тихо сказала девушка. — Ты кричишь. Эхаден сглотнул слюну. — Да, кричу. Он потер ладонями лицо. — Рапис тебя убьет, — еще раз повторил он. — И меня вместе с тобой. Он не поверит, даже не попытается понять. Он не узнал тебя, понимаешь? Он решил, что ему изменила женщина, и вбивал себе это в голову шестнадцать лет. Он не узнал тебя. Он сделал все возможное, чтобы забыть о той измене, и ему это удалось. Он и в самом деле все забыл. — Ведь он знает твою историю, значит, может быть… — Да, он знает мою историю, но в нее не верит, — прервал он ее. — А может быть, даже и верит, но… — Он беспомощно развел руками. — Тебе известно о существовании Полос Шерни, и все это знают. И что с того? Тебе понятно, в чем их суть? Ты знаешь, на чем зиждется Шернь? Так и тут. Рапис знает мою историю, но ничего в ней не понимает. Что, пойдешь теперь к нему и что скажешь? Что ты путешествовала с бедным торговцем, что оказалась на острове как раз тогда, когда?.. А перед этим о восстании и о том, что Агенея… — Он снова развел руками. — Сама слышишь, как все это звучит. И что с того, что правда именно такова? Они замолчали. — Спи, — наконец сказал он. Она лишь грустно улыбнулась в ответ. Эхаден лег рядом с девушкой и повернулся к ней спиной. Однако он не мог заснуть до самого утра. Он понимал, сколь большое влияние на судьбы отдельных людей могут оказать события далекого прошлого. Жизнь Ридареты, жизнь Раписа, его собственная жизнь, наконец… Все было решено еще тогда, когда никого из них даже не было на свете. Гарра была завоевана не без причин. Властитель королевства Армект мог еще терпеть обременительные нападения пиратов с Островов на южноармектанские селения, однако после захвата Дартана король Армекта стал владыкой Вечной Империи и не мог смотреть сквозь пальцы на опустошения в новообретенных, самых богатых провинциях. Архипелагами Замкнутого моря нелегко было завладеть, еще труднее было их контролировать и удерживать. Из отстоящего на сотни миль Кирлана Острова казались лежащими на краю света, хотя до них было не дальше, чем до северных границ Громбеларда или юго-восточных — Дартана. Однако в Громбеларде и Дартане находились имперские легионы, власть же осуществляли имперские Князья-Представители. Тем временем из сотен и тысяч островов Замкнутого моря ни один не годился в качестве центра, откуда можно было бы контролировать столь обширную морскую территорию. Единственным подходящим для этого местом была Гарра. Следует признать, что первым шагом империи была попытка заключить вооруженное перемирие с заморским королевством; в конце концов, обитавшие на островах разбойники одинаково докучали как армектанцам, так и гаррийцам. Но перемирие заключено не было… Ни одна еще война не была для Армекта столь кровавой. Первое предупреждение прозвучало, едва было завоевано Замкнутое море. Островки рыбаков-пиратов, у самых берегов континента, удалось усмирить без особого труда. Дальше, однако, простиралось Замкнутое море, зажатое в клещи многочисленных архипелагов, вытянувшихся двумя огромными грядами. Корабли пиратов с Островов топили один имперский парусник за другим. Победа была в конце концов одержана, но лишь потому, что морские разбойники не в состоянии были заключить друг с другом какой-либо союз: их просто раздавили по очереди. А потом пришла война с Гаррой. Морские сражения империя проиграла — все до единого. За несколько лет, ушедших на восстановление почти полностью уничтоженного флота, была потеряна половина с таким трудом добытых островов. Морские силы империи были перевооружены — основным кораблем стал фрегат, построенный по образцу гаррийского корабля; тяжелые, с глубокой осадкой, малоповоротливые барки совершенно не годились для военных действий в окружавших Гарру самых предательских водах мира. Под защитой могучей армады корабли с солдатами на борту вновь отправились завоевывать заморский край. В крупнейшем морском сражении всех времен парусники гаррийцев устроили новым имперским фрегатам настоящее побоище. Однако часть транспортных кораблей все же добралась до Гарры. Сухопутные силы острова были слабыми, их командование — неумелым. Имперские легионеры, действуя в невероятно трудных условиях, на чужой территории, лишенные помощи и снабжения, сумели, однако, занять крупные портовые города. Флот гаррийцев, в распоряжении которого остались лишь случайные пристани, не приспособленные для того, чтобы принимать военные корабли, можно было уже не рассматривать как решающую силу… Разъяренные масштабом своих потерь, армектанцы, обычно весьма мягко относившиеся к жителям покоренных земель, устроили на них настоящую охоту. Трудно было найти семью, где не оплакивали бы мужа, сына или брата. Остров превратился в гигантский эшафот, жестоко подавлялись любые проявления неприязни, а тем более враждебности к новым властям. Дорргел, столицу и крупнейший порт Гарры, город-побратим старой Дороны, буквально сровняли с землей, раз за разом поджигая не до конца уничтоженные огнем развалины. Результаты подобных действий не заставили себя долго ждать. Извечная неприязнь гаррийцев ко всему с континента превратилась в неприкрытую ненависть. Быть настоящим гаррийцем означало ненавидеть все армектанское. Морская Провинция стала постоянным источником беспокойства. Давно уже умерли все те, кто помнил независимое Королевство Гарры. И тем не менее для многих гаррийских родов гаррийка, связавшая свою жизнь с армектанцем, заслуживала лишь презрения. Рапис и его дочь были жертвами закончившейся столетие назад войны. Светало, когда с палубы донесся сдавленный крик вахтенного матроса. Вскоре послышался смешанный ропот матросских голосов. Эхаден, уставший и невыспавшийся, отбросил одеяло. В то же мгновение где-то рядом хлопнула дверь. — Вахтенный! Эхаден узнал голос Раписа. Послышались шаги. Какой-то матрос заговорил — быстро, испуганно: — Господин, я хотел… — Я приказал разбудить меня до рассвета! Приказал?! Ну и?! Раздался глухой удар, матрос взвыл, словно с него живьем сдирали шкуру. Затем дверь с грохотом распахнулась, и Рапис ворвался в каюту Эхадена. Офицер вскочил. — Ты со шлюхой?! — прорычал капитан. — Где я, что это за корабль?! Эхаден ощутил внезапный приступ гнева. — Не смей называть ее шлюхой! — крикнул он. — Знаешь, что творится?! Мы торчим в самой середине конвоя! В эту ночь командовать должен был ты! — Не смей называть ее шлюхой! — Конвой! Ради всех морей, что с тобой?! Капитан с яростью толкнул офицера в грудь. Эхаден отлетел к стене. Он выхватил меч. Молчавшая до сих пор девушка закричала. Не владея собой, Эхаден замахнулся на нее, неожиданно для самого себя. — Хватит! — рявкнул он. Девушка смолкла. В каюте внезапно наступила тишина. Несколько мгновений все трое не двигались с места. Первым опомнился капитан. — Эхаден, мы находимся посреди конвоя, — изо всех сил сдерживая себя, сказал он. — На палубу. Он повернулся и вышел. Эхаден без единого слова, как был, в одной рубашке и с мечом, двинулся следом. На палубе собралась вся команда. Прибежал боцман. — Два купца и военный по правому борту, капитан! Рапис растолкал матросов и встал у фальшборта. В сером рассветном сумраке, среди тумана, не далее чем в трех милях наискосок от носа маячили три мачты с голубыми парусами. Это был большой фрегат. Чуть дальше виднелись два неуклюжих купеческих барка. Рапис и Эхаден переглянулись. Офицер встал у грот-мачты. — Бортовые батареи! На палубе началось столпотворение. Канониры бросились к орудиям. — Абордажные команды! Матросы, под предводительством Тареса, помчались к оружейным арсеналам. Рапис спокойно разглядывал шедший с юго-востока фрегат. Он медленно двигался поперек ветра, с той же скоростью, что и тяжело нагруженные, глубоко сидевшие в воде барки. Туман рассеивался; на корабле стражи уже заметили пиратов, и теперь там шли лихорадочные приготовления к сражению и напряженная работа с парусами. Еще мгновение — и имперцы сменили курс. Фрегат шел теперь на всех парусах прямо наперерез «Морскому Змею». Все отчетливее были видны серебристые шлемы столпившихся на баке и юте лучников. Нос парусника окутался дымом, раздался грохот, и два пушечных ядра взметнули два фонтана воды. Фрегат стражи испытывал дальнобойность своих орудий, но расстояние было еще слишком велико. Раписа крайне удивил подобный бесполезный расход пороха. Имперцы считали пушки чем-то вроде грохочущих луков — и точно так же их использовали. Морская стража до сих пор не разработала сколько-нибудь разумных принципов применения этого — в некоторых случаях весьма действенного — оружия. — Пойду на абордаж! — крикнул он Эхадену. Офицер кивнул. Рапис подозвал боцмана, который тут же вручил ему топор с широким лезвием. Матросы начали собираться вокруг своего капитана. Стоявший у мачты Эхаден начал отдавать команды. — Раладан, право руля! — кричал он. — Бизань-шкот выбрать! Левый грот-шкот!.. Замешательство на «Змее», казалось, нарастало, громко хлопали паруса. Но подобный хаос был лишь кажущимся — корабль лег на борт, разворачиваясь… — Раладан, так держать! Так держать! Оба корабля шли теперь прямо навстречу друг другу. Когда между ними оставалось не более ста шагов, на палубу «Змея» упали первые стрелы, посланные с бака фрегата. Послышался грохот падающих тел, раздались крики боли и проклятия. Фрегат пытался повернуть, но на середине маневра кто-то там, судя по всему, передумал… Рапис пожал плечами, когда имперский корабль снова окутали клубы дыма, ядра обрушились в море. Капитан «Морского Змея» знал причины подобной неразберихи. Имперцы постоянно терпели поражения от пиратов, поскольку за десятки лет так и не сумелипонять разницу между наземным и морским сражением… Имперские войска, как легионы, так и морская стража, руководствовались нерушимым армектанским принципом, повелевавшим отделять солдат от всяческих тыловых служб. Солдатское ремесло было профессией, освященной традициями; обслуга военных лагерей на суше и моряки на море солдатами не считались. Однако на армектанских равнинах обозы не шли в первых рядах — на море же трудно было высадить моряков перед сражением… На приближавшемся фрегате кто-то один командовал войском, а кто-то другой — управлял кораблем… Капитан, формально командовавший парусником, фактически был лишь комендантом находившихся на борту солдат, понятия не имея, чем отличаются штаги от вант. Он был вынужден действовать через посредство своего первого помощника-моряка (который, естественно, не мог быть солдатом), что в горячке сражения приводило к плачевным результатам. Однако армектанцы с достойным лучшего применения упорством отдавали свои парусники под командование превосходных, заслуженных бойцов… совершенно не знавших морского дела. Рапис сам был армектанцем и знал и ценил традиции своей страны. Однако он вполне разумно полагал, что здесь, на Просторах, им не место. Расстояние между противниками сокращалось, на палубу «Морского Змея» сыпалось все больше стрел. Пиратская команда не оставалась в долгу, но стражники стреляли более метко… Высокий, плечистый Рапис отшатнулся и с нескрываемым изумлением уставился на торчащую под самой ключицей стрелу. Окружавшие его моряки в ужасе закричали. Капитан спокойно сжал рукой древко и выдернул стрелу, с нарастающим удивлением разглядывая наконечник. Он не чувствовал ни малейшей боли… Ему давно уже не приходилось бывать раненным, даже контуженным, и он понятия не имел, сколь благоприятен для него Гееркото, которым он обладал. Матросы, видя презрение, с которым их капитан отбросил прочь вырванную из груди стрелу, снова закричали, на этот раз торжествующе. Вокруг падали убитые и раненые, корабли встретились, сошлись почти борт к борту, — и лишь тогда, с минимального расстояния, заговорили пушки «Морского Змея». Корабль вздрогнул и покачнулся, окутавшись клубами вонючего дыма, но сквозь них на мгновение мелькнул выщербленный фальшборт фрегата, разрушенная надстройка на баке и опустошение, произведенное среди такелажа. Парусники разминулись и разошлись в разные стороны. Однако на «Морском Змее» уже звучал приказ разворачиваться, пока раненый фрегат переваливался с волны на волну, удерживая прежний курс и не в состоянии нормально маневрировать. Рапис и Эхаден беспрепятственно могли догнать противника и окончательно вывести его из строя с помощью орудий по правому борту. Учитывая время, необходимое, чтобы зарядить пушки, потопить большой военный корабль с помощью одной лишь артиллерии было нереально. Однако на «Морском Змее» никто и не собирался развлекаться подобным образом. Речь шла о том, чтобы причинить как можно больше повреждений, а затем — пойти на абордаж. Преследуемый фрегат пытался отстреливаться из кормовых орудий, но с тем же результатом, что и прежде. «Морской Змей» без труда поравнялся с беспомощным парусником. Там отчаянно пытались освободить корабль от обременительного балласта, в который превратилась поваленная мачта; солдаты и матросы путались в порванном такелаже. Шедший борт о борт с фрегатом пиратский корабль свел их деятельность на нет залпом из бортовых орудий. Не обращая внимания на стрелы, сыпавшиеся с фрегата, матросы Раписа ловко бросили абордажные крючья, соединив корабли канатами, зацепились баграми за борт. Дикий рев, вырвавшийся из двух сотен глоток, заглушил команды имперских офицеров. Толпа вооруженных людей хлынула на палубу фрегата. Матросы прыгали через фальшборт, цеплялись за ванты, падали прямо на головы солдат, во главе с полутора десятками наиболее опытных головорезов — остатков старой команды Раписа. Солдат подавили одним лишь численным превосходством; организованное сопротивление захлебнулось через несколько минут. Началась смертельная погоня; разбойники хватали убегавших солдат и матросов, после чего без церемоний швыряли их за борт. Сражение угасало. По знаку капитана пираты со знанием дела подожгли фрегат с носа и кормы. Лишь только доски охватило пламя, Рапис дал команду возвращаться. Добычу не брали — ведь оставались еще два больших, нагруженных товаром барка; пока грабили бы фрегат, они могли сбежать. Канаты, связывавшие парусники, перерезали, отцепили багры. Стоявшие у борта моряки Раписа с шумным весельем наблюдали за беспомощно метавшимися в пламени оставшимися в живых солдатами и матросами. Огонь быстро распространялся, вспыхнули паруса, такелаж и Мачты. «Морской Змей» отошел от пылающего как факел корабля самое большее на четыреста шагов, когда оттуда в панике начали прыгать в море человеческие фигурки. Мгновение спустя взлетели на воздух пороховые склады на корме. Корабль резко наклонился, до ушей пиратов донеслись крики и вопли. Потом взорвались запасы пороха на носу. Команда «Змея» радостно завопила. Рапис с улыбкой наслаждался зрелищем. Потом он повернулся и смерил взглядом расстояние, отделявшее «Морского Змея» от пытающихся скрыться купцов. Барки разделились; неплохое решение. Он мог завладеть лишь одним. Четыре мили, не больше. Капитан позвал лоцмана и коротко переговорил с ним, потом подошел к Эхадену. — Раладан говорит, что потребуется время. Мне тоже так кажется. Мы можем ссориться и дальше, — без тени улыбки сказал он. — Но не знаю, стоит ли. Офицер покачал головой: — Похоже, ты ранен? Перевяжи. Рапис машинально поднес руку к ключице. — Совсем забыл… — с искренним удивлением и недоверием сказал он. Ничего не чувствую. — Команде ты, во всяком случае, понравился, — чуть насмешливо согласился Эхаден. — Надо признать, ты и впрямь произвел на них немалое впечатление. Рапис внимательно посмотрел на него. — Ты не понял, — с нажимом произнес он. — Мне не было больно, Эхаден. Слышишь? Мне плевать на то, что думает обо мне команда, я не собирался перед ними красоваться, просто ничего не почувствовал. Это… нехорошо, туманно закончил он. Несколько мгновений они смотрели на матросов, все еще разглядывавших пылающий остов фрегата. Эхаден нахмурился. — Что, тот камень? — спросил он, избегая взгляда капитана. — Тот Рубин? Рапис, поколебавшись, кивнул: — Похоже, так, — потом тихо добавил, хотя среди возгласов команды его все равно не мог бы услышать никто посторонний: — Я боюсь, Эхаден… Слышишь? Я не знал, что даже так… — Он замолчал. «Боюсь». Эхаден все еще избегал взгляда капитана. Рапис, признававшийся в том, что чего-то боится, был чем-то… невероятным. — Давай поговорим. Сейчас оденусь, — он показал на рубашку, составлявшую всю его одежду, — и поговорим. У тебя? — наполовину предложил, наполовину спросил он. Капитан покачал головой: — Мне не хочется разговаривать, Эхаден, не сейчас. Мне хочется сражаться. Сожгу этого купца, потом приду к тебе поговорить. Хочу проверить… — Он не договорил. — Скажи, — неожиданно спросил он, — ты не заметил, что я как-то… изменился? Эхаден почувствовал, как что-то неожиданно сдавило ему горло. — Ради всех сил мира, — тихо сказал он, — я сто раз говорил, чтобы ты выбросил эту дрянь в море. Сделай это наконец. Никто из нас понятия не имеет, что это, собственно, такое и чему служит. Выброси. — Я изменился? — настойчиво повторил Рапис. Офицер направился в сторону кормы. Сделав два шага, он остановился и повернулся, приложив палец ко лбу. — Вот здесь, — сказал он. — Все у тебя там перемешалось, уже полгода с тобой невозможно договориться. Сначала ты бежишь от одного корабля, потом кричишь, что намерен напасть на весь флот империи. Убиваешь матросов, которые ничего не сделали. Говоришь о вещах, которых никогда не было. Не узнаешь… — Он замолчал и глубоко вздохнул. — Выброси этот камень. Лучше прямо сейчас, ну! Ты меня спрашиваешь, изменился ли ты? Я, друг мой, надеюсь лишь на то, что все это по вине того самого Гееркото. Выброси его! Он развернулся кругом и направился в свою каюту, оставив капитана в одиночестве стоять у грот-мачты.6
С невооруженным барком расправились точно так же, как до этого с фрегатом морской стражи. Будь то другой корабль, Рапис, возможно, и подумал бы о том, чтобы захватить его в плен, но теперь это не имело никакого смысла — старый медленный гроб тащился бы за «Змеем», словно привязанное к ноге ядро. Проще было перегрузить товар (если он того стоил), чем путешествовать в подобном обществе. Удар от столкновения бортов обоих парусников едва не сбил капитана с ног. Горстка солдат, сопровождавших груз, сгрудилась вокруг мачты. Их прирезали в мгновение ока, хотя они и бросили оружие, а затем матросы разбежались по всем закоулкам корабля в поисках добычи. Когда Рапис добрался до кормы, его разбойники уже были там, штурмуя двери, ведшие в помещение на юте. Капитан, опершись на топор, терпеливо ждал, пока не поддадутся петли. Наконец он дождался; орда матросов ворвалась внутрь. Он двинулся следом за ними. В углу довольно большого квадратного помещения приканчивали какого-то мужчину, рядом двое матросов держали за волосы еще не старую, отчаянно визжавшую женщину. Придя в ярость, они начали колотить ее головой о стену, пока она не перестала сопротивляться. Затрещало разрываемое платье. Рапис поднес к губам свисток: — Вон отсюда. Забрать труп. И эту тварь тоже. Матросов как ветром сдуло. Когда женщину вытащили из каюты, вопли на палубе стали громче. Рапис начал обыскивать помещение. В распоряжении матросов был весь корабль, но каюта хозяина барка принадлежала лишь ему. Найдя карты, капитан бегло проглядел их, некоторые отбросил в сторону, остальные свернул в рулон и сунул под рубашку на груди. Потом собрал все, что можно было обменять на золото, сложил в стоявший в углу каюты ящик и занялся перетряхиванием содержимого сундуков. В одном из них обнаружилась солидных размеров шкатулка. Он открыл ее. Золото. Одобрительно кивнув, он бросил шкатулку в ящик, забрал еще несколько мелочей, наконец сорвал с койки покрывало из великолепного бархата. Именно такое и было ему нужно. Он взвалил ящик на плечо и вышел. Матросы плясали вокруг большой открытой бочки, в которой утопили схваченную женщину; наружу торчали только голые ноги и пухлая задница, которую все поглаживали и похлопывали, ко всеобщему веселью. Кто-то пнул ее ногой, давая пример другим. Труп подергивался в бочке. Матросы ревели от счастья, наслаждаясь красным напитком. Рапис в одно мгновение понял — корабль шел с грузом вина. — Отставить! — крикнул он. — Прочь от бочки! Подбежав, он вырвал у одного из матросов наполненный вином шлем и попробовал сам. Вино было первосортное, а стало быть, дорогое. Когда-то именно таким образом он стал владельцем целого состояния. Отшвырнув шлем, он оттолкнул рослого детину, хлебавшего драгоценный напиток прямо из бочки, наполненной, казалось, в основном светлыми женскими волосами. — Отставить! — повторил капитан. Он подозвал Тареса. — Займись перегрузкой, — приказал он. — Нет ничего, что легче было бы продать. Только быстро! — Есть, господин капитан! Таща с собой ящик, он снова перебрался на «Морского Змея». За спиной послышалось веселое пение матросов:7
Светало. Море было спокойным, дул легкий северо-западный ветер. Палуба огромного корабля без флага на мачте была пуста, если не считать спавшего посреди канатов на корме матроса и неподвижно стоявшего у мачты лоцмана. Застывший взгляд полуприкрытых глаз лоцмана был направлен куда-то в сторону горизонта. Могло бы показаться, что это не человек, а каменная статуя. Кроме легкого поскрипывания такелажа и плеска воды за кормой, на палубе не было слышно никаких других звуков. Но вот где-то в глубине корабля раздался грохот, словно кто-то с размаху захлопнул дверь. Лоцман даже не дрогнул. Стук повторился, и из люка на палубе выглянула сначала голова, а затем и вся коренастая фигура старого боцмана. Встав посреди палубы, он огляделся по сторонам. — Раладан; — хрипло спросил он, — что там? Вопрос был не вполне ясен, но лоцман, видимо, понял, так как покачал головой и — не отрывая взгляда от горизонта — коротко ответил: — Без Раписа ничего с этими скотами не сделать. Боцман еще раз окинул взглядом грязную палубу, на которой валялись какие-то тряпки и кусок ржавого железа, посмотрел на неаккуратно поставленные паруса и сжал кулаки. — Сучье отродье, — пробормотал он. — Всего одни сутки… Даже вахтенные. Сучье отродье… Я их, сукиных детей, научу. Словно в ответ на слова боцмана, из-под палубы донесся шум: кто-то кричал, другой пытался его перекричать. На фоне воплей зазвучало пьяное пение. — Они еще пьяные, Дороль, — сказал лоцман. — Всю ночь пили. И ты вместе с ними. Только ты перестал, а они не перестанут, пока ром не кончится. Тогда они вышвырнут нас за борт. — Не вышвырнут. Не вышвырнут, Раладан. Дороль спустился под палубу. Еще мгновение — и пение смолкло. Потом раздался яростный рев нескольких голосов, в нем звучала угроза. Кто-то пронзительно завизжал, что-то грохнуло, потом еще раз; шум стал ближе, наконец на палубу выскочил тощий длинный парень в одних портках. Следом за ним появилась коренастая туша боцмана. Парень с диким воем подскочил к нему и ударил кулаком в широкое брюхо. Боцман лишь засопел и ударил в ответ. Пират рухнул на палубу. Следом за ними на палубу полезла остальная команда. Некоторые размахивали ножами, а у одного в руке был топор. В адрес боцмана посыпались многоэтажные проклятия. Тощий матрос поднялся и снова попытался напасть на боцмана. Дороль толкнул его в грудь, снова опрокинув на палубу. Потом повернулся к остальным и бесстрашно пошел им навстречу, один против сорока. Пьяные вопли стали громче, наконец трое бросились на него с ножами. Дороль схватил двоих за шеи и с размаху стукнул лбами, отшвырнув их, словно тряпичные куклы. Вытянув перед собой исполосованный ножом кулак, он ждал третьего. Тот испугался было, но мгновение спустя вой раздался с новой силой, и все вместе шагнули вперед. Тут кто-то споткнулся и упал, конвульсивно дергаясь. Наступила гробовая тишина. Тело на досках замерло. Пьяные расступились, с внезапным ужасом глядя на мертвеца. Стоявший у мачты Раладан все так же, не отрываясь, смотрел в море, но его правая рука ритмично двигалась. Три ножа мелькали в воздухе, описывая короткую дугу и уверенно возвращаясь в ладонь. Боцман был не один. В тишине, лишь изредка ругаясь и поглядывая исподлобья на труп, матросы снова полезли под палубу, толкаясь в тесном отверстии люка. Последними тащились избитые. Дороль поднял труп и вышвырнул его за борт. — Море забрало, — сказал он и сплюнул. Раладан слегка кивнул и, продолжая пристально разглядывать горизонт, поймал ножи и сунул их за пояс и голенище. Дороль присел на бухту каната у мачты, сорвал с шеи платок и обмотал им руку. — Две башки я все-таки разбил, — сказал он. — Где Тарес и остальные? Лоцман кивнул в сторону кормы: — Тарес с Одноглазой. А остальные тоже нажрались. Боцман стукнул кулаком о мачту и снова сплюнул, болезненно поморщившись. — Эхадена окрутила, теперь его, — со злостью проговорил он и снова суеверно сплюнул. — Гром и молния, хоть бы Эхаден был жив! Его они тоже боялись. Не так, как капитана, но все-таки. А Тарес слишком слаб. Люди его любят, но никто не боится. Хоть бы чуть-чуть боялись, но нет — никто не боится. — Он разбирается в картах и приборах. И читать умеет. — Ну и что с того, что он разбирается в картах? Ты тоже в них разбираешься, да и без карт справишься. Я сам видел, как ты вел корабль сквозь шторм, и он шел среди рифов, словно у него были собственные глаза. И будто бы ты букв не знаешь?! Раладан молчал. — Из старой команды мало кто остался, — продолжал Дороль, — а все эти новички не моряки, а одно название. Рапис еще мог держать их в узде, поскольку они его боялись и потому слушались. Но Тарес — далеко не Рапис. — Он тяжело поднялся. — Надо его разбудить. Широкими шагами боцман направился в сторону кормы. В коридоре он наткнулся на девушку. Увидев его, она быстро отступила к каюте, которую прежде занимал Эхаден. Ее испуг странным образом смягчил жесткое сердце моряка. Оказалось, что вместо того, чтобы забавляться с Таресом, она испуганно прячется по углам. — Не бойся, малышка. — Мягкий тон не подходил к его хриплому басу, и слова, вопреки его намерениям, прозвучали как издевка. — Я не акула… Однако она уже закрыла за собой дверь. Боцман пошел дальше и постучал в каюту капитана. Ему хотелось верить, что из-за двери послышится могучий голос Демона… Но нет. Он вошел внутрь. Тарес полулежал на столе, тихо похрапывая. Дороль потряс его за плечо. — Уже утро, господин. Офицер тут же проснулся и посмотрел на него почти осмысленным взором: — Что? — Утро, господин, — повторил боцман. — Утро… — Тарес тряхнул головой и потер лицо. Боцман продолжал стоять. — Что там, Дороль? — Плохо, господин. Все пьяны. Никого на вахте, никого на мачте. Сплошной бордель, а не корабль. Тарес наморщил лоб. — Хорошо, Дороль, мы за них возьмемся, — сказал он. — Возвращайся на палубу. — Так точно, господин. Боцман вышел, горько усмехаясь. «Мы за них возьмемся…» Никаких распоряжений не последовало. Тарес погладил рукоять лежавшего на столе меча. Он прекрасно понимал, в какой ситуации оказался. Понимал лучше, чем мог догадываться Дороль. Он был слишком слаб для того, чтобы удержать команду в подчинении, и знал об этом. Он мог выйти на палубу и отдать приказ ставить паруса. Он мог проложить курс и навести более или менее приемлемый порядок. Он был вторым помощником Раписа, и команда привыкла его слушаться. Но не более того. Капитан не только командир. Он еще и судья… Теперь награждать и карать должен был Тарес. Он знал, что к подобному никто не отнесется всерьез. Лишь наказание, наложенное Раписом, могло быть справедливым. Лишь награды, полученные из рук Раписа, могли быть заслуженными. А теперь наказывать должен был он. За беспорядок, за бардак на корабле, за самоволие, за пьянство… Если сейчас он пустит все на самотек, то с этих пор ему придется закрывать глаза на все и всегда — первый шаг в сторону полного упадка дисциплины. Потом они не станут слушать даже приказа ставить паруса. Будут грабить все, что удастся награбить, бессмысленно, дико… и найдут свой конец на реях какого-нибудь стражника. А до того дележ добычи будет происходить среди драк и убийств, он же ничего не сможет сказать, не то что сделать… Нет. Подобного допустить было нельзя. Но он не мог ничего предотвратить. Он был слишком слаб. Для них он был лишь вторым помощником капитана. И он знал, что останется им до конца дней своих, независимо от того, как будут его именовать. Останется человеком, ответственным за снабжение продовольствием, оружием и пресной водой. Не более того. Время шло… Тарес сидел не двигаясь с места, погруженный в размышления. Он вздрогнул лишь, когда тихо скрипнула дверь. В дверях стоял Раладан. Когда Дороль отправился будить Тареса, лоцман нашел девушку. Как он и предполагал, она была в каюте Эхадена. Сидя на большом ящике у стены, она посмотрела на вошедшего враждебно и вместе с тем испуганно. Раладан закрыл за собой дверь. — Я знаю, кто ты, госпожа, — без лишних слов сказал он. Девушка медленно встала. В глазах ее он увидел страх и удивление. — Каким… чудом? — чуть хрипло спросила она. Он показал на низкий табурет: — Можно мне сесть, госпожа? Она машинально кивнула. Лоцман сел и положил руки на колени, сплетя пальцы. — Я друг, — сказал он, глядя ей прямо в лицо, — и хочу, чтобы ты мне поверила… Да, я знаю, я пират и разбойник, — казалось, он читал ее мысли, — но прежде всего я человек, которому твой отец дважды спасал жизнь… Я не успел отплатить ему тем же. — Он помолчал, затем продолжил: — Однако твой отец, госпожа, оставил завещание. И я должен его исполнить. Я разговаривал с капитаном, прежде чем он… умер. Девушка снова села на ящик. — Меня это не волнует, — тихо ответила она. Он кивнул. — Может быть… Но это не освобождает меня от обязательства, данного капитану. Девушка молчала. — Я знаю, вернее, догадываюсь, что произошло тогда, — с нажимом сказал он, глядя ей в лицо. Девушка внезапно побледнела. — Я также знаю, что твой отец не вполне владел собой, оказавшись во власти некоего… неких сил. Думаю, тебе тоже следует об этом знать. Она опустила голову. — Меня это не волнует, — повторила она еще тише. — Хорошо, госпожа. Но, независимо от того, что тебя волнует, а что нет, ты должна знать, что твой отец перед смертью поручил мне опекать тебя. Такова была его последняя воля. Девушка подняла голову и долго смотрела ему в глаза. — Я не желаю ничьей опеки. Лоцман развел руками. — Меня это не волнует, — сказал он, подражая ее словам. Молчание затягивалось. — Возможно, это наш первый и последний разговор, поскольку я вижу, что ты пытаешься изо всех сил усложнить мне задачу. Но я не уйду отсюда до тех пор, пока не скажу всего. То, что сделал с тобой Рапис, ужасно. Я не требую, чтобы ты простила ему все, полюбила его самого и жизнь, которую он вел. Ты можешь испытывать ненависть, презрение, отвращение… все, что хочешь. Но есть люди, которым капитан дал столько, сколько ты не могла бы дать за всю свою жизнь. Я хочу, чтобы ты это поняла. Я требую этого, госпожа. Он заметил, как дрогнули ее губы, и понял, что зацепил нужную струну ее души. Раладан немного подождал. Она не просила, чтобы он говорил дальше, но и не требовала, чтобы он ушел. Поняв ее молчание как знак согласия, он начал тщательно подбирать слова. — Ты находишься на пиратском корабле, — сказал он. — Хочешь ты того или нет, но ты останешься на нем по крайней мере до тех пор, пока мы не пристанем к какому-нибудь берегу. А теперь уясни себе, кто ты, что тебе можно, а чего нельзя… Тарес никогда не будет капитаном этого корабля, помолчав, продолжал он. — А если его даже и назовут так, то от этого ничего не изменится. «Морской Змей» обречен, он пойдет ко дну раньше, чем полагает кто-либо из его команды. Девушка пожала плечами: — Меня это… Неожиданно она замолчала и слабо улыбнулась. — Да, на этот раз меня это и в самом деле не волнует, — закончила она. Раладан кивнул: — Меня тоже. Пусть идет ко дну. Но может быть, лучше… без нас? Девушка нахмурилась: — Разумно… Лоцман помолчал, взвешивая каждое слово. — Ты должна принять на себя командование, госпожа, — наконец без обиняков заявил он. Девушка изумленно посмотрела на него. — Это шутка? — спросила она. Он покачал головой: — Ты дочь Демона. Этого достаточно, чтобы тебя боялись. От страха до послушания — один шаг. Она смотрела ему в глаза не говоря ни слова, все так же изумленно. Наконец она чуть прикусила губу. — Понимаю. Ты либо сошел с ума, либо издеваешься надо мной. Я должна стать предводительницей бандитов? — В команде есть такие, кто никому не станет подчиняться, если только не будет бояться. И их большинство. — И что с того? Девушка неожиданно встала. — Чего ты от меня хочешь? — спросила она. Ее изумление не проходило, напротив, оно, казалось, все возрастало, по мере того как она осознавала, что на самом деле означает предложение лоцмана. — Чего ты от меня хочешь? — повторила она. — Чтобы я вела убийц на резню, чтобы я похищала людей из селений, так же Как похитили меня? Чтобы я убивала и приказывала убивать? Чтобы я держала в страхе толпу диких, озверевших матросов? Этого ты хочешь? Я должна перевязать себе голову тряпкой и продеть серьгу в нос? Она насмешливо фыркнула. Лоцман сохранял невозмутимое спокойствие. — Нет, госпожа. Я не требую ничего подобного… кроме, может быть, двух последних пунктов. — Двух… последних? — Именно. Здесь достаточно подходящих костюмов, чтобы переодеться королевой пиратов… Ну и еще нужно, чтобы ты и в самом деле вызывала у них страх, непреодолимый страх. И уважение. Девушка начала кое-что понимать. Она снова села. — Продолжай. — Подумай, госпожа: девушка, женщина на корабле. Единственная. Одна-единственная. Кем она может быть, если не будет капитаном? Он покачал головой. — Вот именно, — продолжил он. — Поэтому нужно, чтобы ты стала капитаном. Команда должна узнать о том, кто ты такая. А как только они начнут тебя слушаться, дальше все пойдет как по маслу. Никакой резни, сражений или грабежей не требуется. Только до ближайшего берега. Девушка слушала, прикусив губу. — То, что ты говоришь, кажется разумным… Но я не умею. Не смогу. Что мне делать, что говорить? Как выглядеть? — Тебя ждет трудная задача, госпожа, — согласился Раладан. — Но я думаю, ты справишься. Постараюсь тебе помочь. А ты постарайся мне не мешать. — Он встал. — Сперва я поговорю с Таресом.8
Оба оценивающе разглядывали девушку. — Нет, ради Шерни, только не это, — сказал офицер. Раладан хладнокровно сидел на корточках у стены, нетерпеливо копаясь в сундуке. — Чересчур она красива, — сказал он почти со злостью, когда Ридарета вышла, чтобы примерить очередное платье. — Одноглазая… и тем не менее красивая. А время идет. Они переглянулись. Был уже полдень. Взгляд лоцмана остановился на брошенном в угол каюты черном атласном платье. — Самое то, — пробормотал он. Он постучал в дверь, ведшую в капитанскую спальню, и вошел. — Госпожа… Девушка стояла прислонившись к стене, неподвижным взглядом уставившись в угол. Платье, которое она собиралась надеть, лежало на полу. — Нет, — бесстрастно произнесла она. — Вся это один лишь полнейший бред. Она оторвала спину от стены и попыталась было обойти Раладана, но он встал у нее на пути. — Время уходит, госпожа. — Он протянул ей черное платье. — Это последняя примерка, обещаю. Девушка смотрела ему прямо в лицо. — Пирата ты из меня все равно не сделаешь, одно лишь посмешище. Тебе это нужно? Раладан продолжал держать платье в вытянутой руке. — Последнее платье, госпожа. Она медленно взяла его. Оба молча ждали. Тарес кружил по каюте. Раладан стоял опершись о стену. Наконец скрипнула дверь. Черное платье сильно изменило девушку, прибавив ей роста, сделав ее более суровой и серьезной; казалось, она стала намного старше. Теперь она выглядела почти так, как им и хотелось. — Драгоценности, — сказал Раладан. Прошло несколько мгновений, прежде чем Тарес понял, что имеет в виду лоцман. Он нахмурился и хотел что-то сказать, но вместо этого лишь повернулся и вышел. Оказавшись у себя в каюте, он вытащил на ее середину довольно большой тяжелый сундук и открыл крышку. Сверкнуло золото и драгоценные камни. У него задрожали руки, когда он перебирал все эти богатства. Он выбрал самые красивые браслеты и перстни, а также богато украшенное ожерелье. Однако, подумав, он отложил его в сторону и заменил другим. Точно так же он заменил и часть браслетов. Он менял перстень за перстнем, украшение за украшением на менее сверкающие, менее дорогие; наконец перед ним оказалась груда дешевой, часто лишь позолоченной бижутерии, почти ничего не стоившей… Нет, не мог он отнести ей это… Тяжело вздохнув, он снова начал рыться в сундуке. Однако к самым красивым предметам он не притрагивался, не в силах расстаться с этими безделушками… В конце концов он выбрал лишь холодное серебро, но зато прекраснейшей работы, маленькие шедевры. К ним он добавил ожерелье с бриллиантом, завернул все в разноцветный лоскут, а остальное быстро спрятал обратно в сундук, который с облегчением задвинул под койку, и вернулся в капитанскую каюту. — Это тебе, госпожа, — сказал он, высыпая украшения на стол. Послышался чистый, мелодичный звон серебра. — Только на время, — предупредил он. Девушка невольно усмехнулась. Раладан принес зеркало и держал его перед собой, пока девушка примеряла драгоценности. Вместе с Таресом они внимательно разглядывали ее, с тем все возрастающим восхищением, которое свойственно мужчинам, наблюдающим за прихорашивающейся женщиной. Раладан, стараясь сохранить серьезный вид и морща лоб, пытался реагировать на каждый жест девушки, касавшийся положения зеркала. Выше… ниже… наклонить… Наконец она закончила и коротко фыркнула, увидев невероятно сосредоточенные физиономии обоих мужчин. Несмотря на недавние тяжкие испытания, беззаботная девичья натура порой брала верх. — Что дальше? Выглядела она просто великолепно. — Не знаю, — сказал Тарес. — Что было у Алагеры? — Бич, — ответил Раладан. — Но никто его не боялся. — Бич? — удивленно спросила девушка. — Бич. Она все время носила его с собой. Они помолчали. — Перевяжи чем-нибудь волосы. Платком. Ты выглядишь неприступно, и это хорошо, но они должны видеть в тебе и что-то для них привычное. Бича не будет, — решительно сказал лоцман. Он явно взял бразды правления в свои руки. — Найди Дороля, — обратился он к Таресу. — Пусть пришлет двоих с палками. Наших, из старой команды. Скажи ему, кто с сегодняшнего дня командует кораблем, но так, чтобы об этом узнали все. Капитан, повернулся он к Ридарете, — любил стоять на юте, откуда хорошо виден весь корабль. Мы пойдем туда. Ты облокотишься о релинг и будешь просто стоять и смотреть — ничего больше. Мы же пустим команду галопом. Они будут носиться по палубе и таращить на тебя глаза. Ты должна вести себя так, словно на «Змее» нет никого, кроме тебя. Поняла, госпожа? Девушка машинально кивнула; ее хорошее настроение быстро улетучивалось. — Иди, господин, — сказал Раладан офицеру. Тарес кивнул и вышел. — Они еще не знают, что корабль лишился командира, — продолжал Раладан, покачиваясь на каблуках. — Вчера они предали морю капитана и первого помощника, но потом всю ночь пили, и до них еще не дошло, что случилось. Если бы Демон воскрес и появился здесь, их бы это даже не удивило… Вместо него появишься ты, госпожа. Они привыкнут видеть тебя там, где всегда видели капитана. Разнесется весть о том, что ты его дочь. А потом начнутся приказы, обычные, понятные приказы, такие же, как всегда. Словно ничего не изменилось, словно Демон по каким-то своим делам сошел на берег и передал командование дочери. Все получится, — уверенно сказал он. Девушка испуганно покачала головой — нет. — Все получится, — повторил он. — Я знаю этих людей, знаю, о чем они думают и что чувствуют. Ты выглядишь превосходно, и, если не упадешь в обморок, невыскочишь за борт или не начнешь кричать, просто не может не получиться. Слышишь, госпожа? — Он мягко, но решительно взял ее под руку. — Ну, топай на палубу… капитан. Не запутайся в платье, когда будешь подниматься на ют. Алагера ходила в штанах. Вот только Алагеру никто не слушал… Ну, давай! Почти силой он выволок ее из каюты на палубу. — Наверх, — приказал он, показывая на узкий трап. — На ют. Сейчас вернусь! — обещал он, видя ее испуганный взгляд. — Я оставил на руле двоих надежных людей, но за ними все же нужен присмотр… Ну иди же! нетерпеливо прошипел он. Несколько матросов играли в кости прямо посреди главной палубы. Из люка за их спиной появилось двое крепких детин, а за ними еще двое моряков. Раладан подозвал первых двоих и показал им пальцем на Ридарету, стоявшую на юте. Наклонившись, он что-то долго им объяснял. Подтвердив пущенную Таресом и боцманом весть, он добавил: — Чтоб охраняли ее как следует. Если кто-то косо посмотрит на ее благородие, сразу дать ему по морде. Демон поручил вам заботиться о его дочери. Заботиться! — с нажимом повторил он. — Понятно? Старые гвардейцы капитана Раписа не раздумывая кивнули. Раладан пошел на руль. Необычная весть взволновала команду. На главную палубу вылезало все больше матросов. Собравшись группками, они бродили туда-сюда, то и дело бросая неуверенные взгляды на одинокую черную фигуру на юте. Опершись спиной о прочный деревянный барьер, она, казалось, не обращала на них ни малейшего внимания… Как только Раладан и Тарес снова оказались рядом с ней, она тут же вопросительно посмотрела на них. Девушка чуть побледнела, но владела собой. — Ну и?.. — спросила она. — Клюнули, — спокойно ответил Раладан. — Вижу, что клюнули. Дороль сейчас их соберет в кучу. Тарес утвердительно кивнул. Тотчас же, словно по условленному сигналу, раздался громовой рык боцмана. Несколько «стариков» под его руководством собирали матросов в большое стадо на кормовой палубе. Стадо… Обычное быдло, ничего больше Ридарета видела это совершенно отчетливо. Она еще больше побледнела. — И я теперь… должна… — заикаясь, начала она. — Ты должна стоять здесь, госпожа, — с кривой усмешкой сказал Раладан. — Просто стоять, и все. Пока ни слова. Толпа внизу постепенно успокаивалась, матросы тупо, бессмысленно переглядывались. Кто-то отхаркался и хотел было сплюнуть, но вовремя удержался. Другой обернулся к товарищам. Волны ритмично били о борт, ветер свистел в снастях. Она была дочерью капитана… Ведь они видели ее уже не впервые. Но теперь… теперь они видели ее иначе, ибо в лице ее были черты Демона — его четко очерченный рот, форма подбородка… Вне всяких сомнений, это была дочь Демона… Они молча стояли и смотрели на нее. Раладан наклонился к девушке. — Скажи что-нибудь, госпожа, — негромко проговорил он. — Мне, пару слов. — Но что? — так же негромко спросила она; он стоял так близко, что видел, как дрожат ее колени. — Тебе?.. — Что угодно, они все равно не услышат. А может быть, станешь настоящим капитаном? Нахмурившись, она посмотрела на него: — Отлично, мне как раз требовалось немного гнева… Дороль! Команда напряженно следила за их тихим обменом фразами. Раладан знал, что делает, — именно так Демон разговаривал со своими офицерами. Боцман вышел вперед. — Найдешь виновных в беспорядках, — приказал Раладан. — По тридцать бичей, Дороль. Он снова повернулся к Ридарете: — Понимаешь, госпожа? Она кивнула. — Весь ром за борт! — снова крикнул он, пытаясь перекричать шум моря. Немедленно! И он, и Тарес уже знали, что победили. Обрадованный Дороль, у которого, как и у каждого боцмана, было больше всего причин опасаться своеволия и упадка дисциплины в команде, замахнулся палкой. — Ну, пошли! — рыкнул он. — В чем дело? Падаль! Толпа матросов ожила. Раладан с едва скрываемым удовлетворением смотрел то на них, то на Ридарету. — Вот и вся тайна власти, — сказал он. — Главное — показать себя, госпожа. Как видишь, вовсе не обязательно, чтобы ты им приказывала. Достаточно, если они будут так думать. Он посмотрел на носившихся внизу матросов. — Что дальше? — с нескрываемым облегчением спросила девушка. — Что прикажешь, капитан. Она неуверенно посмотрела на Тареса. Вид у него был не менее довольный. — Думаю, пора ложиться на какой-то вразумительный курс, — сказал он. Мы не можем все время кружить на одном месте. Во всяком случае, не здесь. — И то правда, — согласился Раладан. — Капитанские каюты с этого момента принадлежат тебе, госпожа. Иди туда. Не к чему стоять здесь и смотреть так, словно ты не уверена в том, выполняются ли твои приказы. А ты, господин, — обратился он к Таресу, — займи каюту первого помощника. Я займу твою. Сейчас я разберусь со всеми делами, а потом приду к тебе с картами и приборами. Он посмотрел вслед спускавшейся с юта паре, потом подозвал Дороля и отдал несколько коротких распоряжений. Ридарета и Тарес скрылись в своих каютах. «Морской Змей» медленно шел поперек ветра на юго-восток, прямо к берегам Гарры. Уже вскоре они должны были увидеть окружавшие ее острова, но лишь издалека. Они не могли пристать ни к одному из них, поскольку острова со стороны континента были слишком густо заселены и обычно на них размещались гарнизоны Морской Стражи Гарры и Островов, а иногда и Гаррийского Легиона. Скорее следовало обойти Гарру вокруг и высадиться с южной стороны. Там было несколько небольших пристаней и рыбацких портов, где почти не было солдат, а порой вообще забытых. Нужно было спешить: приближалась осень, пора штормов. Осенью движение на Просторах замирало; море было столь капризным, что о мореплавании не стоило даже и думать. Яростные штормы могли разнести в щепки любой корабль. Даже такой большой, прочный и надежный, как «Морской Змей». Обычно с началом осени Рапис распускал команду, после чего с небольшой группой наиболее доверенных людей отводил корабль в какое-нибудь укрытие. Потом он отправлялся на берег, собирая сведения от хорошо оплачиваемых шпионов. Когда в начале зимы команда собиралась снова, он уже располагал информацией о кораблях, которые должны были везти особо ценные товары: золото, обученных рабов, дорогие ткани, высокопоставленную особу, за которую можно было получить выкуп… Тарес знал, что девушка и лоцман не собираются следовать примеру Демона. Раладан хотел довести корабль до места, где они могли бы сойти на берег, и все. Дальнейшая судьба «Морского Змея» и его команды его не интересовала. Сначала Тарес с ним соглашался, не веря, что на корабле удастся навести хоть какой-то порядок. Однако теперь ситуация была несколько иной. Произошло невероятное: дисциплина укрепилась, во всяком случае она была не хуже той, что поддерживал Рапис. Матросы хотели, чтобы ими командовали! Естественно, не кто попало. Однако память о Бесстрашном Демоне была слишком свежа; его легенда, сделавшая его великим уже при жизни, теперь давала силы его дочери — так это воспринималось. И послушание было полным. Наказание бичами было принято беспрекословно, никто не возразил и против выброшенных за борт бочек с ромом. Матросы остервенело драили палубу, словно пытаясь отработать все свои прежние проступки. Заправски управлялись с парусами, любой приказ исполнялся в мгновение ока. Вахтенные исполняли свои обязанности столь добросовестно, что их мог бы похвалить даже Рапис. А в тот день, когда Раладан разрешил, от имени Ридареты, вскрыть захваченный с торгового барка запас вин, матросы до поздней ночи пили за здоровье Одноглазой. Тарес подумал тогда, что, если бы удалось и дальше командовать кораблем от ее имени, «Морской Змей» снова мог бы стать самым грозным парусником на Просторах. Однако он знал, что убедить девушку не сможет. Возможно, мог бы помочь Раладан, единственный, кому Одноглазая полностью доверяла. Но Раладана не интересовал корабль. Казалось, его ничто не интересовало — кроме девушки. Раладан был на корабле важной персоной. Его боялись, не только из-за его ножа… Он был лучшим лоцманом из всех, кого Тарес знал и о ком слышал, или попросту — лучшим на Просторах. Его способности казались просто магическими. Он мог вести корабль по любым водам и при любой погоде; целые эскадры преследовавших «Морского Змея» парусников, как правило значительно меньших размером и с не столь глубокой осадкой, разбивались о рифы, среди которых невредимой проходила каравелла, которую вел Раладан. Среди окружавших Гарру островов столь большие корабли никогда не ходили, использовались лишь некоторые хорошо известные пути. «Морской Змей» был исключением. Касаясь обшивкой скал — с треском и скрипом, — он входил в укромные бухты, которые во время отлива почти превращались в маленькие озерца. Матросы говорили, что если в рифах есть проход, который шире корабля на локоть, то Раладан сквозь него пройдет, если только под килем найдется воды хоть на палец. Даже Рапис считался с Раладаном. Много раз приходилось слышать, как он просил у лоцмана совета. Может быть, еще только Эхаден пользовался подобным уважением. Тарес прекрасно понимал, что на фоне легенды, живым продолжением которой была девушка, и популярности, которой пользовался Раладан, его влияние на команду было ничтожным. Он не в состоянии был заставить этих двоих остаться на корабле, тем более не в силах был заставить девушку играть роль капитана — вопреки ее воле. Офицер не знал (впрочем, и не мог знать), что перед Раладаном и Ридаретой стоят проблемы куда более серьезные, чем вопрос командования кораблем…9
Окаменевшие волны были оловянно-серого цвета; даже клочья пены на их гребнях не сияли обычной белизной. На грязно-сером небе, таком же неподвижном, как и вода, не было ни облачка. Линия горизонта просто не существовала. Где-то там, далеко, каменное море сливалось со стальным куполом в одно целое, но не было ничего, что можно было бы назвать границей обеих стихий. Раладан стоял на высоком скалистом гребне и смотрел вдаль. Мертвое небо, лишенное туч, было ему безразлично. Однако вид застывшего неподвижно моря причинял ему боль. Просторы, символ вечной жизни и существования во веки веков наперекор всем могущественным силам, не могли окаменеть. Лоцман закрыл глаза, а когда снова их открыл — увидел Ридарету. В глухой тишине она бежала по волнам в сторону берега, а за ней, настигая ее, катилась тьма. Единственное движение в застывшей пустыне — мрачная черная масса, напоминавшая тучу, а может быть, густой клуб дыма. Раладан бросился к краю уступа, желая помочь девушке, но будучи отчего-то уверен, что не может коснуться ногами твердых волн, иначе он окаменеет так же, как и они. Хищная тьма клубилась все ближе, догоняя убегающую из последних сил девушку. Ридарета не видела ни стального неба, ни гранитного моря. Не видела она и преследовавшей ее угрюмой тучи. Она стояла посреди огромного зала-пещеры, не в силах определить, в каком именно месте бурые стены переходят в пол… Четкая граница отсутствовала. Девушка слышала монотонный скрежет над головой, который становился все громче, словно кто-то двигал тяжелый каменный блок по другому такому же камню. Задрав голову, она попыталась разглядеть потолок чудовищного зала, но взгляд ее увяз в холодном мраке. Скрежет нарастал, и девушка вдруг поняла, что это именно потолок медленно опускается к ней. Она точно это знала и ощутила страх, ибо остановить монументальную плиту не в состоянии был ни один человек. Она была отдана на милость механизма, который мог остановиться или нет. Скрежещущий потолок, все еще скрытый в темноте, все быстрее и быстрее опускался вниз… Охваченный ужасом Раладан знал, что преследующий девушку чудовищный сгусток — это смерть. Он не мог ей помочь, не знал как. Он был последней живой частью Просторов и был уверен, что стоит ему шагнуть на волны — и он окаменеет, подобно им. Девушка была обречена. Ей предстояло погибнуть среди вездесущей тишины, став жертвой зловещей тьмы. Каким образом он мог ей помочь? Как он мог бороться с тем, что ее преследовало? Где-то далеко, на самой границе, дальше которой не достигал взгляд, виднелась черная точка, столь маленькая, что форму ее невозможно было различить… Раладан вдруг понял, что это — малая часть той самой огромной клубящейся тучи, часть, оставленная вдали, чтобы та не мешала! Он понял, что это спасение… И в то же мгновение, едва он осознал, что это такое, тишина взорвалась! Странная точка на горизонте уже не была неподвижной, она вздрагивала, словно пытаясь вырваться из невидимых пут. Сквозь грохот море и небо содрогнулись от имени: «РАЛАДАН!» Ветер усилился. Девушка была недалеко от берега, но уже не бежала. Она лежала на гребне неподвижной волны, пытаясь заслониться от надвигающейся черноты. Тот самый голос, который так хорошо знал Раладан, сражался с бурей: «РАЛАДАН! РАЛАДАН, ПРИЗОВИ МЕНЯ! ПРОКЛЯТАЯ ВОЙНА И ПРОКЛЯТОЕ ПЕРЕМИРИЕ! ПРИЗОВИ МЕНЯ! МЕНЯ ДОЛЖНЫ ПРИЗВАТЬ ПРОСТОРЫ!» Лоцман протянул руки к черной точке в непроглядной дали. Он не в силах был издать ни звука, но одного этого жеста было достаточно в качестве призыва, которого требовал Демон… Невидимые путы поддались! Черная точка устремилась к мрачной массе, все увеличиваясь; теперь она была уже пятном, большой глыбой, разбивающей окаменевшие волны, мчавшейся на полной скорости… Внезапно Просторы ожили! Тьма, несшая смерть Ридарете, замедлила свое движение, но тень, несшая спасение, все так же летела ей навстречу… Раладан услышал крик тонущей в море девушки и бросился в волны. Когда его голова и плечи показались над водой, он увидел, как мчащийся призрак врезается в стену мрака. Всхлипывая от ужаса, Ридарета сидела на твердом полу, глядя на уже видимый неровный потолок, медленно, но неумолимо приближавшийся к ней. Оглушительный скрежет не прекращался, до гигантской плиты можно было достать рукой, встав во весь рост… Девушка закричала, но среди неописуемого шума ее голос обратился в ничто. Скорчившись на полу, оглушенная, она была уверена, что конец уже близок. Внезапно она вскочила, в порыве безнадежного отчаяния пытаясь сразиться с неизбежным; она готова была удержать падающий потолок… «НЕ ВСТАВАЙ!» Помощь пришла ниоткуда. Посреди странного кровавого сияния полумрак, заполнявший пространство между полом и потолком, внезапно сгустился, закружился в вихре, приобретая форму. Знакомый голос гремел сильнее, чем опускающаяся плита: «НЕ ВСТАВАЙ! ОНО ПРИШЛО ЗА ТОБОЙ!» Девушка упала на колени, обхватив голову руками. Она не хотела ничего видеть, но продолжала слышать громовой, полный гнева и безысходности голос: «НЕ ВСТАВАЙ, РИДАРЕТА! НЕЛЬЗЯ ВСТАВАТЬ!» Ее окутало нечто, напоминавшее алый светящийся шар. Могучие удары сотрясали падающий потолок. С грохотом и шумом вокруг рушились каменные глыбы, минуя алый шар, соскальзывая по его поверхности, устилая пол тысячами обломков. Девушка стонала, изо всех сил прижимая руки к вискам. На мгновение она открыла глаза — и увидела тень гиганта, согнувшегося под тяжестью потолка. Огромный кулак с силой сотни молотов ломал потрескавшуюся плиту… Она снова закрыла глаза. «НЕ ВСТАВАЙ, РИДАРЕТА! НЕ ВСТАВАЙ!» Все еще крича, Раладан отбросил одеяло, вскочил, зашатался, ударившись головой о стену. Боль привела его в чувство, но не избавила от страха; с отчаянно колотящимся сердцем он бросился к Ридарете, чуть не высадив с разгона дверь. Тяжело дыша, он остановился на пороге капитанской спальни. Висевший под потолком за его спиной фонарь отбрасывал в каюту тусклый колеблющийся свет; его было достаточно, чтобы различить в темноте лежащую в смятой постели девушку. Лицо ее было мокрым от пота, грудь, однако, двигалась спокойно и размеренно. На какое-то мгновение ему показалось, что спящую окружает нечто вроде красноватого ореола… Но нет… Даже если что-то такое и было, то исчезло. Раладан оперся дрожащей рукой о стену. Постояв так, он в конце концов выпрямился и собирался уже уйти, когда взгляд его упал на лежащий в углу темно-красный камень. В глазах лоцмана вспыхнуло изумление, но в ту же секунду в дверь постучали. Он вышел из спальни и открыл. В полумраке белели лица матросов из ночной вахты. — Господин… Он устало покачал головой: — Все в порядке. Стоять вахту. Матросы ушли. Он закрыл дверь и какое-то время стоял неподвижно. Рубин за его спиной на мгновение вспыхнул ярко-красным светом. Камень лежал на столе — большой, темно-красный, почти черный, мертвый. Они молча смотрели на него. — Это всего лишь сны… — сказала Ридарета, но тут же замолчала, ибо рубин сном не был. Сразу же после похорон Демона его бросили в море… Однако он вернулся. Раладан думал о том же самом. — Нет, во имя Шерни, — сказал он, показывая на камень. — Нет, госпожа. Никогда прежде мне не снились подобные кошмары, — помолчав, добавил он. Два кошмара за одну ночь… одного и того же содержания… Это было, госпожа. Он уже успел все ей рассказать, умолчав лишь о своей роли в схватке с черной массой, поскольку это звучало бы как хвастовство. — Если ты прав, это значит… что он, твой капитан, каким-то образом… жив, — медленно сказала девушка. — Нет, не могу поверить. Возможно, он спас мне жизнь, хотя это звучит подобно бреду… Но я не хочу, понимаешь? Не хочу быть ничем ему обязанной! Она внезапно встала, смахнув рубин со стола. — Выброси его! — рявкнула она. В моменты злости лицо ее становилось некрасивым, и повязка на глазу, к которой он уже привык, неожиданно четко выделялась на совершенно новом фоне. Наклонившись, он осторожно поднял камень. — Думаю, это неразумно, госпожа. Этот рубин — Гееркото, Темный Предмет… Лучше им не швыряться. — Он поднял взгляд. — Наверное, ты все же должна его носить. Девушка лишь покачала головой, сжав губы. — Что же с ним в таком случае делать? Думаю, тебе дал его Демон… твой отец. Она снова покачала головой: — Я не хочу, чтобы он мне что-либо давал… Ради Шерни, неужели этот человек даже после смерти должен сражаться, разрушать… — Он защищал тебя, госпожа. — И что с того? Я не просила о помощи, во всяком случае не его… Лоцман встал и, заложив руки за спину и сделав несколько шагов, остановился у стены, задумчиво покачиваясь на каблуках. Он один из немногих носил сапоги. Даже Дороль бегал босиком. Но Раладану не нужно было лазить по вантам. — Почему ты столь упорно его ненавидишь, госпожа? — спросил Раладан. Выслушай меня, прошу тебя… На свете нет ничего полностью белого, но нет ничего и совершенно черного. Я уже однажды пробовал тебе это объяснить. Рапис умер, но по каким-то причинам Шернь не приняла его. Он был необычным человеком и остался таким даже теперь, после смерти. Думаю, он желает каким-то образом… искупить свою вину, хотя бы в отношении тебя. Может быть, тебе грозит некая опасность, от которой он пытается тебя предостеречь… — Все это чересчур надуманно. Будешь теперь ходить и толковать сны? Даже если они и имеют какое-то значение, сомневаюсь, что мы сумели бы его понять. Он покачал головой: — Но капитан… стал каким-то другим. Скажи: если бы он был жив и захотел стать другим, ты тоже пробовала бы ему в этом помешать? Она сидела на краю стола, машинально водя по нему пальцами. — Это не он стал другим… Он хочет, чтобы я стала другой. Молчание. — Странный ты пират, странный человек… Как ты попал на этот корабль? Кто ты вообще такой? Раладан опять не ответил. Девушка подняла взгляд: — Будь он жив, я не хотела бы иметь с ним ничего общего. — Даже если бы из-за этого он должен был остаться пиратом? Она долго не отвечала, потом устало сказала: — Не знаю. Не мучь меня. Наступила долгая тишина. — Это Рубин Дочери Молний, ведь так его называют? — Да, госпожа. — Странное название… Я слышала, что он обладает силой почти столь же могучей, как и Серебряные Перья. Но он намного более таинственный, и в нем в сто раз больше зла. Говорят, он убивает, когда его обладатель совершает слишком много добрых поступков. Это правда? — Не знаю, госпожа. Никто не знает Рубин до конца. О нем ходят разные истории. Есть дартанская легенда о Трех Сестрах, которых Шернь послала сражаться со злом. Я слышал когда-то эту сказку в таверне. Далара, самая младшая из сестер, появилась на континенте Шерера, когда вокруг бушевала страшная гроза, и потому ее назвали Дочерью Молний. Она должна была сразиться со злым магом, которым овладел именно такой рубин. Говорят, когда-то Шернь отвергла две Темные Полосы. Рубин принадлежит именно этим Полосам. Девушка кивнула: — И ты хочешь, чтобы я поверила, что тот, кого призывает этот камень, является во имя добра? Раладан нахмурился: — Ведь это только легенда. Снаружи, с середины корабля, донесся какой-то шум. Они обменялись взглядами, после чего лоцман направился к двери. В то же мгновение кто-то начал в нее колотить. Раладан открыл. — В чем дело? — Парус на горизонте, — сказал матрос, неуклюже кланяясь при виде Ридареты. Раладан обернулся: — Пойдем, госпожа? Она кивнула. Вскоре они уже стояли рядом с опершимся о фальшборт Таресом. — Где? Офицер показал пальцем. Они прикрыли глаза руками. — Это дартанец, — сказал Тарес. — Похоже, один. С большим трудом ей удалось разглядеть корабль. — Как ты узнал? — спросила она. — Что это дартанец? — У него красный парус. Раладан сосредоточенно вглядывался в горизонт. — Красно-серый, — наконец сказал он. — Пополам. Тарес взглянул ему в глаза и не говоря ни слова побежал к мачте. Вскоре он уже карабкался наверх по вантам. — У дартанцев всего несколько эскадр, — проговорил Раладан то ли про себя, то ли обращаясь к девушке. — Паруса у кораблей такие же, как мундиры у солдат. Красные. Это обычные корабли, морская стража. Но у этого парус красно-серый. Это не стражник, а гвардеец. Морская Гвардия, госпожа. Если какой-либо дартанец достоин того, чтобы называться солдатом, то он наверняка идет под этим парусом. Она вопросительно посмотрела на него. — Дартанцы — плохие вояки, — пояснил он. — Как легионы, так и морская стража. Однако есть несколько отборных отрядов, которые, впрочем, по большей части состоят из армектанцев. Хотя бы приближенные Князя-Представителя. Ну и эти. — Он показал на горизонт. — Есть две большие каравеллы, в команде которых не стражники, но гвардейцы. Большие, как «Морской Змей». Дартан — богатая провинция, госпожа. Эти корабли сопровождают или везут очень ценные грузы. Он замолчал и снова прикрыл глаза рукой. — Один! — крикнул с мачты Тарес. — Эй, внизу! Оди-ин! Раладан криво усмехнулся: — Он идет один, госпожа, а не охраняет торговца. И в это время года, незадолго до осенних штормов, скорее всего он не везет ценный груз. Он идет один. Это облава. — Облава? Лоцман посмотрел на небо. — До ночи еще много времени, — сказал он как будто без особой связи. «Морской Змей» потопил немало кораблей, госпожа. А есть еще и другие парусники, такие как наш. Их много. Больше, чем ты думаешь. В последнее время мало кто из купцов мог быть уверен, что довезет груз до места. Тогда они начали устраивать облавы. Армект, Гарра, иногда даже Дартан. Они собирают летучие эскадры, перекрывают Замкнутое море и вылавливают пиратские корабли. В этом году такое уже второй раз. — Но ведь это один корабль, не эскадра. Раладан кивнул: — Таких парусников во всей империи, может быть, восемь… Один Демон мог бы противостоять такой крепости. Это огромная каравелла, похожая на нашу. А на ней двести солдат. И двадцать орудий. Она может плавать и одна. — Он на мгновение замолчал. — Твой отец… Когда молчание затянулось, девушка поторопила: — Ну, дальше? Раладан тряхнул головой: — Я забылся, госпожа. Я знаю, что ты не желаешь слушать рассказов о разбойничьих подвигах. Она кивнула, однако, к его удивлению, негромко попросила: — Расскажи. — Хорошо, госпожа. Мы ходили тогда еще на «Чайке», старом, пузатом торговом барке, едва вооруженном. Твой отец напал на одну из этих каравелл, «Гордость Империи». Самую большую и самую могучую из всех. — Он ее потопил? — Нет, госпожа. «Гордость Империи» теперь называется «Морской Змей». К ним сзади подошел Тарес. — Нас уже заметили, — сказал он. — Это облава. Вся команда давно уже была на палубе. Матросы стояли у борта, висели на вантах, глядя на горизонт, где виднелись, уже совершенно отчетливо, серо-красные паруса. — Придется сматываться. Тарес отошел к грот-мачте. — Поднять паруса! — крикнул он. — Давайте, парни! Посмотрим, кто быстрее! Посыпались команды. — Идем, госпожа, — сказал лоцман. — Мне нужно встать у руля. Я провожу тебя в каюту. Они ушли. Дартанец-шел им наперерез. Тарес, обладавший орлиным взглядом, отчетливо видел, как блестит окованный посеребренной жестью нос. Он стиснул зубы. Бежать от такого богатства! Один дартанский корабль стоил больше трех любых других. Дартанцы обожали роскошь — и были богаты. Командир этого корабля наверняка был достаточно богат для того, чтобы купить себе звание капитана гвардейской каравеллы. Выкуп за такого пленника… Он сердито отвернулся, глядя на суетившуюся команду. Канониры, услуги которых не требовались при парусах, заряжали пушки. Абордажные группы поднимались на палубу в полном вооружении, бросая топоры на доски. На носу и корме лучники втыкали в дерево стрелы, чтобы иметь их под рукой. Несколько матросов под руководством Дороля готовили канаты с крючьями. Кто-то принес багры. Корабль, ведомый уверенной рукой лоцмана прямо по ветру, все быстрее рассекал волны. Пока ничто не говорило о том, что ему удастся оторваться от преследователей. Однако Тарес знал, что ситуация вскоре изменится: «Морской Змей» имел огромную площадь парусов. Но он был слишком велик и тяжел, чтобы быстро набрать полную скорость. Он посмотрел на небо, как до этого Раладан. Приходилось ждать до ночи. Ночью они могли сменить курс и уйти от погони. Со стороны кормы донесся приглушенный грохот. Он даже не оглянулся, зная, что расстояние слишком велико; гвардеец лишь пытался их напугать. Однако грохот выстрела был достаточно сильным. Это означало, что у дартанца на носу тяжелые орудия. Новинка. Прогресс в вооружении кораблей быстро шел вперед. Тарес прекрасно помнил времена, когда на кораблях возили метательные машины, а потом две-три слабенькие бомбарды. «Морского Змея» следовало бы довооружить. Однако это было не так просто. Перенести добытые орудия с захваченного корабля в открытом море было делом нелегким. Кроме того, для этих орудий еще нужно было найти место; корабль не сухопутная крепость, стены которой выдержат что угодно… Первоочередное значение имели баланс и размещение груза. На палубе закончили приготовления к схватке, оставалось лишь ждать. Матросы вцепились в фальшборт и столпились на юте. Тарес подумал, что они будут так стоять и смотреть на преследующий их корабль, пока не наступит темнота, сожалея о недостижимых богатствах и проклиная всех и вся. Он направился к капитанской каюте, намереваясь поговорить с Ридаретой, но неожиданно увидел Раладана, который шел в том же направлений. Повинуясь странному импульсу, он скрылся от взгляда лоцмана… Когда Раладан вошел в капитанскую каюту, Ридарета беспокойно кружила вдоль стен. Она бросила на него короткий взгляд и, как только он закрыл за собой дверь, сказала: — Бежим отсюда. Прежде чем он успел опомниться, она продолжила: — У нас за кормой на буксире две шлюпки. Ночью переберемся в одну из них. Этот парусник нас выловит. Скажем, что мы пленники, которым удалось сбежать. Поверят? Раладан быстро собрался с мыслями. — Кто знает? — пробормотал он. — На пленников мы не очень-то похожи, но если добавить пару неопасных царапин… порванную одежду… Это очень рискованно, госпожа. Намного более рискованно, чем ты думаешь. Она хотела что-то сказать, но он поднял руку. — Подожди, госпожа. Я не говорю, что мы не станем этого делать. Но давай все обдумаем как следует и без спешки. До ночи еще далеко. Поразмыслив, она кивнула. — Скоро осень, — сказал лоцман. — Если нас не выловит этот гвардеец, то вряд ли нам встретится какой-либо другой корабль. В это время года мало кто плавает в этих водах. — Идет облава… — Ну и что? Он подошел к сундуку и достал карту Гарры и Островов, охватывавшую также часть Замкнутого моря. — Смотри, госпожа. Вот Замкнутое море, вот Гарра… Мы здесь. Но если бы ты командовала облавой, куда бы ты послала свои эскадры, чтобы захлопнуть ловушку? Сюда? Сюда? Подумав, она показала пальцем. — Именно. Вдоль островов, окружающих Замкнутое море. Вот этих, впрочем они называются Барьерными. Это естественный котел. Корабли, которые ходят по этой линии, — охотники. Каравелла позади нас — загонщики. Думаю, лишь немногие корабли прочесывают Замкнутое море. Большинство выстроились в цепь вдоль побережья. Девушка, наморщив лоб, смотрела на карту. — А мы не смогли бы, в худшем случае, сами доплыть до берега? — Если ветер не переменится… Однако, учитывая, что на этой дартанской каравелле нам скорее всего не поверят… думаю, разумнее было бы придерживаться первоначального плана. Она посмотрела ему прямо в глаза. — Раладан, — она в первый раз назвала его по имени, — а если нас догонят? Та каравелла или другие имперские корабли? Все будут болтаться на реях, и мы тоже. Нет, Раладан. Бежим сегодня ночью. Он подумал, что девушка, возможно, права. — А Тарес? — Тарес… Она отрицательно покачала головой. На губах стоявшего под дверью капитанской каюты офицера появилась слабая усмешка. Полагая, что вряд ли еще услышит что-либо достойное внимания, он осторожно и тихо, удалился. Присутствие девушки и лоцмана на корабле было теперь в большей степени неизбежно, чем когда-либо, размышлял Тарес, возвращаясь на свое место у мачты. Перед лицом облавы и скорых штормов исчезновение этих двоих обязательно отразилось бы на дисциплине и настроении команды. Он обязан был перечеркнуть их планы. Впрочем — он снова мрачно усмехнулся, они не оставили ему выбора… Вечером, когда было уже достаточно темно для того, чтобы никто не заметил отсутствия шлюпок, он пошел на корму и попросту перерезал канаты.10
— Шлюпки пропали, — сказал Раладан. Девушка остолбенела. Лоцман же был спокоен, как всегда, но в уголке его губ она заметила легкую гримасу. — Кто-то слышал наш разговор. — Кто-то из команды? — Сомневаюсь. Внезапная мысль поразила ее. — Это, случайно… не твоя работа? Он положил на стол приготовленный мешок с провизией. — За кого ты меня принимаешь? — спросил он таким тоном, что она тотчас же, почти инстинктивно, виновато махнула рукой: — В таком случае… честно говоря, мне в голову приходит лишь один человек. Он молчаливо согласился с ней. — Слишком легко все шло, — сказала она, помолчав. — Тарес не враг нам, госпожа. Стоило тебе отказаться от мысли бежать со «Змея», и он оставался бы верным и преданным офицером. — Значит, ты тоже хочешь сделать из меня настоящую королеву пиратов? Раладан не выдержал: — Ради Шерни, я хочу, чтобы тебе ничто не угрожало, только и всего. Я просто говорю о том, как это выглядит в глазах других. Я достаточно хороший лоцман, для того чтобы не умереть с голоду, могу с равным успехом ходить как под пиратским флагом, так и под имперским, за мной нет никакой вины. Но поставь себя на место Тареса. Для него мир начинается и заканчивается здесь, на этой палубе. Он обвиняется в подстрекательстве к бунту на имперском корабле, за его голову назначена награда. Что же ему остается?.. — Он награбил достаточно добра, чтобы уехать куда-нибудь далеко, хотя бы в Громбелард, и начать нормальную жизнь, — резко перебила девушка. Хватит с меня разговоров о несчастном Таресе. Он смешал нам все планы. — Мне что, его убить? — Нет! Этого я не говорила… — перепугалась она. — Значит, будем держаться первоначального плана. В конце концов мы пристанем к берегу. Тогда никто нас не станет держать. — Я в этом не настолько уверена. Он тряхнул головой: — Чего ты, в конце концов, хочешь, госпожа? Ждешь от меня чуда? Может быть, мне прыгнуть за борт и притащить эти шлюпки обратно? Молчание. — Думаю, тебе нужно лечь спать. Да и мне бы не помешало. Прошлая ночь была не из приятных. Девушка вздрогнула. — Я не смогу заснуть… Он вздохнул: — Хочешь, чтобы я остался с тобой? Они опять помолчали. — Странно, но… я уже говорила… ты не такой, как остальные. Если бы я не знала, никогда бы не подумала, что ты… Она оборвала фразу на полуслове. — Злодей, — закончил он за нее, садясь за стол. — И убийца. Морской разбойник. Снова наступила тишина. — Может, это даже и хорошо, — наконец сказал он, — что мы можем спокойно поговорить. Я давно уже хотел тебе кое-что объяснить, но ты всегда была такая… — он поколебался, — неприступная… Видишь ли, госпожа, — помолчав, продолжил он, — иногда я завидую тебе, как просто ты смотришь на все. Пираты плохие, а солдаты хорошие, хотя убивают и те и другие. Торговец, по уши погрязший в обмане, — порядочный человек, но воришка, который крадет у него кошелек, — подлый злодей. Команда этого корабля, Тарес, Дороль и остальные, — просто пираты. А ты когда-нибудь думала о том, откуда берутся пираты? — Он испытующе посмотрел на нее. Известно ли тебе, госпожа, что такое служба на имперском корабле? Или торговом барке? Все делают баснословные барыши на продовольствии: поставщик, который продает давно протухшее мясо; капитан, который закрывает на это глаза. А моряк все это жрет. Сначала вылавливает из котла червей, а потом хлебает теплые помои, которые кок специально варил так долго, чтобы все разварилось до конца; никто не узнает, что самое лучшее, хотя бы немного съедобное, он оставил себе. А знаешь ли ты, госпожа, какие наказания грозят на имперском паруснике? Очень мягкие: за легкий проступок обычно дают пять палок. Это и в самом деле немного. Поэтому придумали способ, который моряки называют «офицерской легендой». К примеру, матрос опоздал на вахту. Пять палок за опоздание. Но еще пять — за неуважение к офицеру, поскольку, опоздав, он встал на вахту, вместо того чтобы идти оправдываться. И еще пять за то, что подал дурной пример команде. И еще пять за то, что нагло скрыл все свои проступки, назвав лишь один — опоздание. Вот это и есть «офицерская легенда». Не смотри на меня так, госпожа, — продолжил он, немного помолчав. — Попытайся понять, что почти всем им нечего терять. Работа на пиратском корабле столь же тяжела, как и на любом другом. Жесткие канаты сдирают кожу точно так же, вечная сырость тоже точно такая же. Но еда не воняет, офицерской легенды нет и в помине, а в кошельках звенят не жалкие медяки, но золото. — То есть все они были обижены на весь белый свет и сбежали на пиратский корабль, поскольку на другом уже не могли выдержать, — устало сказала девушка. — Во многих случаях, госпожа, именно так. Ясное дело, что среди них есть и бандиты с детства. Но большинство — простые люди, для которых мышление категориями добра и зла лишено всякого смысла; они хотят просто жить, есть, иногда иметь возможность развлечься. Естественно, им приходится убивать, но ведь к этому их принуждали и на имперских кораблях. Знаешь, сколько команд гаррийских кораблей взбунтовалось во время последнего мятежа? Большинство тех моряков потом погибли в казематах Трибунала. Эти люди готовы были сопровождать купцов и сражаться с пиратами, но не хотели жечь собственные селения. — Те, кого не осудил Трибунал, теперь убивают таких же самых несчастных, какими были когда-то и они сами, но на торговых барках. Они не стали жечь селения в интересах империи — теперь они делают это, чтобы захватить рабов. Думаю, тебе не удастся меня убедить, хотя в том, что ты говоришь, наверняка есть доля правды. К чему ты, собственно, клонишь? — Я хочу показать тебе, что эта стая убийц состоит из обычных людей, госпожа. Из людей, судьба которых сложилась так, а не иначе. Объясни мне, как так получается, что стоит познакомиться с кем-то поближе, и он тут же оказывается совсем другим? Я имею в виду себя, но прежде всего Эхадена. Девушка побледнела. — Не говори мне об Эхадене, — сказала она. — Только не о нем. — Почему нет, госпожа? Он был пиратом, и еще каким! Ты бы удивилась, если бы я тебе рассказал. И тем не менее этот пират, убийца… — Эхаден был братом моей матери, — хрипло сказала она. — Не будем больше об этом. — Я знаю, кем он был. Но все же… Она резко встала. — Хватит, Раладан! — сдавленно проговорила она. — Хватит, я не хочу больше об этом говорить и не хочу слушать! Достаточно! Наконец… наконец-то я одна. Понимаешь? У меня нет никаких родных, никого, и о большем я и не мечтала всю свою жизнь! Даже матери я нужна была лишь затем, чтобы ей было кому рассказывать о своем чудесном Раписе. Я знаю, что могло быть иначе… я любила мать… — Она говорила все более лихорадочно и бессвязно. — Но я больше не хочу, слышишь? Я хочу просто сойти с этого проклятого корабля и начать нормально жить. В самом деле, Раладан, я… я готова убивать, чтобы этого добиться. Хорошо, что Рапис… что мой отец… - она впервые с видимым усилием произнесла это слово, что он умер. Иначе я убила бы его! Убила! — Ее всю трясло. — Я не такое уж невинное дитя… И я не такая глупая, как тебе кажется. Я знаю, что невозможно отделить добро от зла. — Она медленно вернулась к столу и тяжело села. — Но за всю свою жизнь я любила… любила лишь двоих. Мать и… его. Я любила его, совсем его не зная, потому что его любила она. Что ты можешь знать о чувствах, которые охватывают тебя, когда вместо разноцветной птицы, являвшейся к тебе в мечтах и снах, перед тобой предстает… грязная, вонючая тварь? Утром оказалось, что на горизонте пусто. Они сменили курс и снова пошли на юго-восток. До вечера курс не менялся. Море было все так же пусто, но Раладан и Тарес знали, что это еще не конец всех хлопот. Это прекрасно понимали даже матросы. По Замкнутому морю могло кружить больше парусников, чем полагал лоцман, кроме того, они наверняка еще не миновали линию патрулей вдоль побережья. Организаторы облавы отнюдь не были дураками. Позднее лето, скорее даже начало осени, — подобное время года почти гарантировало успех. Пиратский корабль, даже если бы ему и удалось уйти на Просторы, подвергался серьезной опасности со стороны осенних штормов; если он не успевал свернуть в какое-нибудь безопасное укрытие — обычно заканчивал свой путь на дне океана или же, подгоняемый ветром, исчезал навсегда в бескрайней водной пустыне. Сейчас они оказались именно в такой ситуации: имперские корабли или штормы. Раладан рассчитывал на то, что им удастся выйти на Просторы, а потом, если будет хороший ветер, успеть до начала штормов добраться до южных берегов Гарры. Там не должно было быть имперских кораблей — в этих местах не проходили важные торговые пути, и облава не имела особого смысла. Тем временем они продолжали идти поперек ветра на юго-восток. Матросы, прекрасно сознавая серьезность положения, почти не покидали палубу, внимательно наблюдая за горизонтом. Однако прошел день и нигде не было замечено даже кусочка паруса. Ветер был достаточно сильный; похоже было, что ночью им удастся прорвать блокаду и выйти на Восточные Просторы. Тарес проснулся еще до рассвета и пошел проверять вахты. Никто не спал. Он направился на ют, где, подставив лицо водяным брызгам, погрузился в размышления. Итак, они вырвались из западни. И что дальше? Нужно было пристать к берегу, а это означало, что уйдут лоцман и Ридарета. Он не мог этому помешать столь же просто, как бегству на шлюпке. У него не было никакого плана. Значит… оставалось лишь бросить корабль и бежать вместе с ними… Бросить корабль? Бросить «Морского Змея», лучший парусник всех морей? Второй помощник Демона всю свою жизнь связал с морем, однако лишь пиратская каравелла стала его вторым домом. Он сражался за этот дом и завладел им. Старая «Чайка», с борта которой они пошли на ночной абордаж, была жалкой скорлупкой по сравнению с этим гигантским парусником, который должен был символизировать могущество армектанской империи. Имперская Гвардия, стоявшая в столичном Кирлане, была сухопутным подразделением; однако по политическим соображениям потребовалось выделить из нее Имперскую Морскую Гвардию. Лучшие солдаты на свете, элита из элит, поднялись на борт трех крупнейших парусников Шерера, построенных, пожалуй, лишь затем, чтобы в портах всех провинций видели мощь Вечной Империи. Однако судьбе, явно не благоволившей Армекту, было угодно, чтобы первый же рейс «Гордости Империи», предпринятый для проверки ходовых качеств корабля в море, оказался последним рейсом каравеллы под имперским флагом… Просторы не желали, чтобы народ всадников, носящихся на своих скакунах по Великим Равнинам, хозяйничал на водах Шерера. Палуба флагманского корабля империи превратилась в арену неслыханной, по-настоящему чудовищной резни. Две команды убивали друг друга с отчаянной яростью, фанатично, до конца. Немногочисленные солдаты, приданные команде на время морских испытаний, с отчаянием безумцев дрались за свой любимый, красивейший парусник Шерера; по другую сторону дикие моряки, для которых бродяжничество по Просторам было всем, овладевали морским чудом, явившимся словно прямо из матросских снов и мечтаний. Не мужество и не военное искусство решили исход этой битвы, безжалостно пожравшей почти всех сражавшихся. Слепой случай, стечение обстоятельств… Корабль-призрак беспомощно дрейфовал по ветру, неся на своей палубе сотню убитых и вдвое больше раненых. Несколько человек, перевязанных окровавленными тряпками, отчаянно пытались справиться с парусами и рулем. Они истекали кровью, лишь бы спасти захваченный корабль, довести его до безопасного укрытия. Никто не выбрасывал трупы в море, никто не помогал раненным в бою товарищам. Пропахший смертью, оглашаемый стонами умирающих, корабль позволил выжить лишь немногим. А потом — стал их домом. За этот дом Тарес заплатил собственной кровью. Итеперь он не хотел и не мог его бросить. Начинался холодный и туманный день. Задумчивый, отсутствующий взгляд офицера скользил среди серо-белого тумана, и вдруг… вдруг оказалось, что таинственные силы Просторов не спят; никому не позволено призывать их безнаказанно словом или даже воспоминанием. Тарес тупо смотрел туда, где среди полос тумана маячили, не далее чем в четверти мили от штирборта, два больших темных силуэта. На палубе кто-то крикнул, отовсюду начали появляться матросы. Слышались проклятия и ругательства. Над кораблем висел какой-то злой рок… Все стояли как зачарованные, уставившись на выплывающие из тьмы парусники. Они быстро приближались. Все отчетливее были видны детали их конструкции, мачты с ярко-желтыми парусами… Островитяне! Эти корабли называли «малым флотом Островов». Они подчинялись командованию гаррийских флотов, но островитяне всегда подчеркивали свое отличие от прочих, хотя Гарра и Острова составляли одну провинцию. Паруса гаррийцев были темно-желтыми, паруса островитян — более яркими. На спасение уже не оставалось времени. Можно было сменить курс, но прежде, чем каравелла набрала бы полную скорость, шедшие на полном ходу островитяне настигли бы их. Тем более что ближайший корабль — средней величины бригантина с косыми парусами — превосходил «Морского Змея» маневренностью. Итак, от эскадры островитян было не уйти. Тарес хорошо знал эти корабли. Солдаты на них были не лучше и не хуже прочих, но матросы… Человек, родившийся на Островах, был моряком чуть ли не от рождения. Корабли лучших мореплавателей мира, казалось, сами вынуждали ветер дуть с нужной им стороны. Матросы Тареса по сравнению с ними были лишь сборищем сухопутных крыс. Небольшая бригантина и старый как мир барк — и им предстояло потопить самую большую каравеллу на Просторах! На «Морском Змее» все еще никто не двигался с места. На палубе появился Раладан, а за ним Ридарета. — Проклятие, — пробормотал лоцман. Он еще раз окинул взглядом остолбеневшую команду и повернулся к девушке. — Ради Шерни, — сказал он, — хоть один раз будь настоящим капитаном… Нужно расшевелить это быдло. Иначе все мы повиснем на реях. Она посмотрела ему в глаза, потом на невероятно близкие корабли, на застывшую в ужасе толпу и неожиданно низким, глухим голосом крикнула: — Эй, парни! Моряки вздрогнули. Никогда прежде она не обращалась прямо к ним. — К орудиям! Матросы, словно освободившись от чар, разбежались по всему кораблю. Абордажные команды хватались за оружие, канониры заняли свои места. Вражеские корабли дали залп из носовых орудий и сменили курс. Бригантина резко сманеврировала, намереваясь пройти перед носом каравеллы, чтобы затем приблизиться со стороны бакборта. На барке рифили паруса; сбросив скорость, он уже почти поравнялся с «Морским Змеем» и подходил все ближе. Теперь стреляли уже отовсюду, над палубами клубился серый пороховой дым. На «Змее» с грохотом рухнула фок-рея с парусом, с имперских кораблей донеслись радостные возгласы. Отряды желтых солдат в серебристых шлемах готовились к атаке, цветасто одетые босоногие матросы сжимали в руках багры. С грохотом и скрежетом борт барка столкнулся с бортом пиратского парусника.11
В трюме, куда ее швырнули, словно мешок, среди каких-то ящиков, было темно, сыро и воняло гнилью. Она тихо стонала, даже сама о том не зная; иссеченная бичом спина горела, выжженная на боку рана гноилась… Столь же чудовищной была боль в руках и ногах, связанных так крепко, что жесткая веревка врезалась в тело. Она лежала уткнувшись лицом в какие-то мокрые стружки, с ногами, задранными на угловатый ящик — так, как ее сюда бросили. Каждая попытка изменить позу причиняла новую боль; малейшее движение руками, казалось, стирало в кровь связанные запястья. Корабль довольно сильно раскачивался, и в ритме качки ноги ее медленно сползали вдоль края ящика; наконец они упали, и девушка глухо застонала. Она лежала ничком, тяжело дыша сквозь холодные, влажные стружки. В густой, заплесневелой темноте время словно замерло. Качающаяся, сотрясаемая волнами тьма смешалась с холодом и болью, превращаясь в творение иного мира, где мрак заменял время, а боль — мысли. Перед ней в темноте проплывали отрывочные картины, словно дурной сон: отчаянно дерущаяся толпа, сцепившиеся в смертельных объятиях два пылающих парусника, пригвожденный копьем к мачте Тарес, снова горящие, сотрясаемые взрывами пороха корабли, потом Раладан, с дикой яростью приканчивающий собственных товарищей, горящие люди, с воем прыгающие в море… Проваливаясь в полный мучений сон, она увидела тесную комнату, в которой среди стен кружил один лишь вопрос, смешанный со свистом бича: «Где сокровища, где сокровища, где сокровища…» С хриплым стоном она провалилась в несшее облегчение беспамятство. В мигающем свете фонаря, который держал капитан корабля, она казалась мертвой. Высокий, худой человек в ярко-желтом мундире со знаками отличия имперского сотника повесил фонарь на ржавый крюк и склонился над израненным телом. Достав из ножен меч, он осторожно перерезал путы на запястьях и перевернул девушку на спину. Искалеченное лицо с дырой мертвой глазницы, покрытое гнилыми стружками, выглядело ужасающе. Он вздрогнул, но присел и приложил ухо к груди лежащей, потом нашел пульсирующую жилку на шее. Встав, он забрал фонарь и вышел из трюма. Оказавшись на палубе, он повесил фонарь на мачте, после чего некоторое время стоял задумавшись, глубоко вдыхая влажный, холодный воздух. Ветер, не меняя направления, усилился, став более порывистым. Любой моряк прекрасно знал, что это означает. Когда юго-западный ветер начинал подобным образом хлестать в паруса (гаррийцы называли его «кашель»), следовало в течение ближайших дней ожидать кратковременного штиля, а затем — первого осеннего шторма. Они мучительно тащились поперек ветра прямо к Агарам. Внешне все шло хорошо; с легкостью можно было подсчитать, что даже на столь малой скорости они успевают до штормов. Но… Никто не помнил, чтобы «кашель» начался столь рано. Это беспокоило, поскольку на Просторах «кашель» до сих пор был единственным неизменным и неизбежным явлением. Теперь он подул раньше… А если (чего раньше никогда не бывало) он вдруг сменит направление? Если подует с юга, с востока?.. Барк не мог идти против ветра. Если до того, как они доберутся до Агар, ветер начнет дуть с носа — корабль скорее всего обречен на гибель. Раладан стоял на баке, обхватив рукой бушприт и, нахмурившись, разглядывал волнующееся море. Время от времени он поднимал голову, глядя на небо, осматривал горизонт и снова возвращался к задумчивому созерцанию морской пучины. Услышав шаги, он обернулся. — Что ты там высматриваешь в этой проклятой воде? Он пожал плечами: — Это уже Восточные Просторы, капитан. Но, не знай я этого, я бы сказал, что мы все еще в Замкнутом море. — Он показал рукой. — Вода здесь зеленая. Разве Просторы зеленые, капитан? Капитан имперского парусника посмотрел ему прямо в глаза. Схватившись за бушприт, он чуть наклонился вперед, потом снова окинул лоцмана взглядом. — Правда, — удивленно пробормотал он. — «Кашель» поспешил на неделю, — сказал Раладан. — Бывало, что он начинался на три дня раньше или позже. Но на неделю?! И еще эта зеленая вода. Не вполне понимаю, что все это значит… Прикажи, господин, чтобы вахтенные докладывали обо всем. Обо всем. Капитан задумался. — Может быть, важна форма облака, кратковременный дождь и кто знает что еще… Если мы не успеем до шторма, то не обижайся, капитан Вард, но эта лайба разлетится на куски, прежде чем мы успеем моргнуть. Капитан кивнул: — Знаю, что ты не бросаешь слов на ветер. Сама судьба мне тебя послала, Раладан. Они помолчали. — Что с девушкой? Вард тряхнул головой: — Именно. Я как раз тебя искал, чтобы еще раз спросить: ты уверен, что она знает о тех сокровищах? — Знает. — Выходит, она крепче, чем можно было бы предположить. — Значит, все-таки… — Послушай меня, Раладан: ты уже получил то, что она не пошла на корм акулам, как остальные. Чего ты еще хочешь? Ты знаешь закон: решив взять пленника, я отвечаю за его жизнь до того момента, пока он не будет передан Трибуналу. За жизнь. И ни за что больше. У меня тут есть один негодяй, дело которого — выбивать из людей признания. Я охотно бы вышвырнул этого сукиного сына за борт, говоря между нами. Но я лишь капитан имперского корабля, и если стану вмешиваться в дела имперских урядников, то быстро перестану им быть. Лоцман угрюмо молчал. — И еще одно. — Вард понизил голос, так что его едва можно было расслышать сквозь шум волн. — Я верю, по крайней мере хочу верить, во все, что ты мне рассказал. В то, что тебя заставили служить на том корабле и что девушка знает, где Демон спрятал сокровища. Но не забывай, что ты пленник, Раладан. Твоя жизнь в руках Трибунала, я поручусь за тебя по старой дружбе (о чем, впрочем, лучше, чтобы никто не знал) и потому, что мне нужен такой лоцман. Но берегись. Ибо, несмотря ни на что, если я узнаю, что ты лжешь, — тебе переломают кости на колесе, Раладан. Он взял лоцмана за плечо и крепко сжал, после чего повернулся и, быстро спустившись на палубу, направился на корму. Вскоре он уже стоял перед узкой низкой дверью одной из кают. Открыв дверь, он без предупреждения вошел внутрь. — Когда допрос, господин Альбар? — спросил он, направляясь к свободному стулу. Он сел и только тогда посмотрел на хозяина каюты. Невысокий, но пропорционально сложенный мужчина, может быть чуть слишком худой, лет пятидесяти с небольшим, слегка приподнял брови: — Может быть, завтра, капитан. Да, наверное, завтра, наверняка завтра, завтра… Чем обязан?.. Вард сидел чуть покачивая головой. Он задумчиво посмотрел на огневые часы, горевшие в подсвечнике на столе. Урядник весьма тщательно измерял течение времени… Медленно тлевшая свеча из спрессованной коры магнолии с добавкой смолы догорала; оставалось лишь два деления. Неизвестно отчего Варду вдруг показалось, что измерение времени — занятие… небезопасное. Во всяком случае невеселое. — Значит, ничего не сказала? — спросил он. Человек, названный Альбаром, откинулся на спинку стула и разгладил серую, шелковую, но скромного покроя мантию. — Нетерпеливый, ой нетерпеливый человек наш капитан Вард, — сказал он словно про себя, ища взглядом что-то на стыке потолка и стены. — Капитан, солдат ты хороший, но нетерпеливый, не-тер-пе-ли-вый… Вард махнул рукой, обрывая этот поток слов. — Господин Альбар, — сказал он спокойным, но несколько странным голосом, — эта девушка все же не бандит и не головорез. Советую поумерить свой пыл. — Нетерпеливый и впечатлительный, — снова завел свое урядник, переводя взгляд на потолок. — Впечатлительный, впечатлительный… — тихонько напевал он, покачиваясь на стуле. Вард неожиданно представил себе, с каким удовольствием он толкнул бы эту бархатную грудь и увидел бы опрокидывающийся стул. — Господин Альбар, — резко сказал он, — я только что ее видел. Серый человечек оторвал взгляд от потолка, но умение смотреть в лицо собеседнику явно было ему чуждо. Теперь глаза его смотрели под стол. — Впечатлительный и недоверчивый, недоверчивый и скрытный, недоверчивый и скрытный… — задумчиво гудел он. — Ладно. Допросов больше не будет, — спокойно сказал Вард. — Девушка этого не переживет, а я должен передать ее живой в руки Трибунала. Кажется, это ты должен мне это объяснять, а не я тебе. Гудение смолкло. Урядник сверлил взглядом дверь каюты. — Она замучена почти до смерти, — продолжал Вард, не спеша вставая. Если она умрет, я позабочусь о том, чтобы те, кому нужно, узнали, что она была дочерью величайшего пирата Просторов, позабочусь и о том, чтобы стало известно, по чьей вине она уже не сможет ответить ни на один из сотни вопросов, которые можно и следовало бы ей задать. — Он подошел к двери и, уже выходя, неожиданно начал напевать: — И терпеливый господин Альбар останется без работы, вот так, без работы, без работы…12
— Ну что там? — Вард протер глаза. Была кромешная ночь. — Ветер усиливается, господин капитан. Офицер сел на койке. — Хорошо. Матрос вышел. Вард быстро оделся и вскоре был уже на палубе. Он облокотился о подпорку на юте и долго стоял так, подставив лицо ветру, затем направился в носовой кубрик. Лоцману выделили место в помещении для солдат — после сражения там было отнюдь не тесно… Капитан нашел его гамак, и чуть погодя оба вышли на палубу. — Это не «кашель», — сказал лоцман. — Шернь, ничего не понимаю. Штиля не будет. Будет шторм. Но каким образом? Вард кивнул: — Именно. Мы думаем об одном и том же. Не теряя времени, он вызвал вахтенного. — Будить всю команду, — приказал капитан. — Пусть закрепят все, что движется. Штормовые паруса на мачту, и быстро. Будет буря. Матрос поспешно ушел. Лоцман молчал, высунувшись за борт, о который с шипением разбивались высокие волны. Происходило нечто, чего он не в силах был понять. Он почти всю жизнь провел на соленых Просторах и хорошо их знал — пожалуй, лучше, чем кто-либо другой… Он знал течения и ветры, знал время, когда можно было им довериться. «Кашель» никогда не менял направления. Теперь же изменил, хотя и совсем незначительно. Звезд не было, но лоцман каким-то шестым чувством ощущал, что это не корабль сбился с курса, но «кашель» сменил направление. И это был уже не «кашель». Стало ясно, что штиля на несколько дней не будет. Вместо штиля будет буря. И притом сильная. Сильная буря. У Раладана это просто не помещалось в голове. «Кашель», который в Армекте называли «ночным ветром», был постоянен, как… сам Шерер. Первый день штиля после «кашля» считался началом гаррийского года и года империи; календарь являлся одним из того немногочисленного, что Армект перенял у Гарры именно потому, что календарь этот был почти идеальным. Год делился на тринадцать одинаковых месяцев по двадцать восемь дней, а возможные отклонения составляли самое большее два-три дня. Теперь же мир внезапно встал с ног на голову. Лоцман не имел ни малейшего понятия о том, что делать с годом, у которого нет начала; впрочем, этого, вероятно, не знал никто во всем Шерере. Все эти мысли занимали Раладана лишь несколько коротких мгновений, после чего от них не осталось и следа — календарь не имел сейчас никакого значения. Приближалась буря, сильная буря. Что можно было предпринять? — Может быть, успеем, — сказал Вард, словно читая его мысли. — Мы должны увидеть Агары самое позднее вечером. Если ветер не переменится. — Переменится. Но в нашу пользу. Уже сейчас сильнее дует с запада. Вопрос лишь в том, когда этот ветер превратится в ураган. На всем корабле, в свете многочисленных раскачивающихся фонарей, уже царила лихорадочная суета. То и дело кто-то подходил к капитану за очередным распоряжением; временно назначенные офицеры не вполне справлялись со своей задачей. Матросы носились по палубе, закрепляя все, что только можно было закрепить. Время тянулось медленно. Небо на востоке чуть посветлело, ветер же, дувший теперь прямо с запада, еще усилился, став порывистым и резким. Неповоротливый барк с трудом, но все же набирал скорость, все быстрее идя в сторону Агар. — Действуй, — сказал Вард. — Я буду у себя. Если буду нужен, пошли кого-нибудь. Он сжал плечо лоцмана и пошел на корму. Вскоре он уже сидел в своей каюте, задумчиво чертя пальцем на столе какой-то замысловатый узор. Коптящий фонарь плясал у него над головой. Превратности судьбы поставили его в нелегкое положение. Прежде всего, он был один. Кровавая битва с пиратской командой унесла немало жизней. Погибли все офицеры, остался в живых только он. Что правда — то правда, он одержал славную победу: пылающий словно факел самый грозный корабль Просторов был достойной наградой за годы тяжкой службы. Он знал, что его назовут героем, тем более что ему не с кем было делить собственный успех… Однако в то мгновение, когда он узнал парусник, который им предстояло атаковать, его охватил непонятный страх, предчувствие многих неудач и несчастий. И похоже, действительность подтверждала его опасения. И в самом деле, с момента той необычной встречи над его кораблем висел некий злой рок. Им чудом удалось избежать судьбы «Белианы», второго корабля эскадры, стройной бригантины, охваченной вырывающимся с пиратского парусника пламенем. С того мгновения злые силы больше их не покидали. Им не удалось найти ни одной имперской эскадры, хотя пути их патрулей тщательно были нанесены на карту. Потом начала строить козни погода. Теперь же, почти у родного берега, их ожидало сражение с бурей. В столь нелегкой ситуации у него на корабле не было никого, кому он мог бы довериться. Его помощники, старшие товарищи — все погибли… Остался лишь скользкий Альбар, скорее палач, чем урядник, и уж тем более не моряк и не солдат, человек, которого не выносил никто. И Раладан. Вард чуть нахмурился. Он знал лоцмана еще по тем временам, когда тот водил имперские эскадры. С тех пор, как они виделись в последний раз, минуло немало лет. Кем, собственно, был этот человек теперь? История о плене на борту пиратского парусника выглядела довольно подозрительно. Но, с другой стороны, он собственными глазами видел резню, которую лоцман устроил своим якобы товарищам… Ни один из его солдат не прикончил в этом сражении больше врагов. Наконец, именно Раладан первым начал резать канаты, связывавшие корабли. Если бы не его молниеносные действия, пожар охватил бы и их барк. И наконец, эта странная девушка. Она командовала пиратами, все это видели. Вард был удивлен до крайности, поскольку, узнав корабль, полагал, что увидит его капитана — мрачную легенду Просторов. Потом он услышал от лоцмана, что Бесстрашный Демон погиб, а девушка — его дочь… Он поднялся и вышел на палубу. Уже наступил день — угрюмый, серый и грозный. По небу ползли большие темно-синие тучи. Брызги волн падали на палубу. Старый, заслуженный корабль тяжело боролся, переваливаясь с борта на борт. Вард увидел Раладана, который стоял широко расставив ноги и сунув руки за пояс. Матросы и солдаты вокруг него почти ползали по палубе, хватаясь за все, что давало хоть какую-то опору. Лоцман же стоял, словно его ступни были прибиты гвоздями к доскам. Капитан взял фонарь и спустился в трюм. Он не знал, что влечет его туда. Присутствие девушки на корабле вызывало у него какое-то странное беспокойство. Дочь величайшего пирата всех времен… Что еще нужно? Она лежала на боку, спиной к миске с остывшей едой. Ему показалось, что она чуть вздрогнула, увидев отсвет фонаря. Ноги ее были все еще связаны. Он не удивился. Столь крепко завязанных узлов не распутаешь одними пальцами. Впрочем, она, похоже, даже и не пыталась… Он подумал, что, если корабль потонет, что представлялось в данной ситуации вполне вероятным, девушка будет биться в путах в затопленном трюме. Правда, если бы они и в самом деле шли ко дну, гибель ожидала бы всех, но перспектива смерти со связанными ногами показалась ему чересчур жуткой. Он достал меч и взял девушку за плечо. — Сядь. Она попыталась исполнить требуемое, но столь неуклюже, что он тут же понял, что без его помощи об этом нечего и думать. Его снова потряс вид полубессознательного, горящего в лихорадке лица, а на нем — пустой красной глазницы, очерченной неровными следами шрамов. Он видел его уже не однажды, но на этот раз подумал, что столь изуродованная женщина не должна ходить по земле. С некоторым трудом удерживая равновесие, он острием меча приподнял край черной тряпки, которая когда-то была юбкой богатого платья, и перерезал веревки. Опухшие ступни казались мертвыми, он был уверен, что ей еще не скоро удастся ими пошевелить. Дыхание девушки стало более хриплым — видимо, возвращающаяся в сосуды кровь причиняла ей боль. Тело судорожно дернулось. Вард присел на ящик, молча глядя на девушку в мигающем свете пляшущего на крюке фонаря. Покрытое кровью тело продолжала бить дрожь, сквозь жалкие лохмотья одежды виднелись посиневшие от холода груди. В порыве внезапной жалости он снял короткий военный плащ и набросил его на лежащую. Он пытался убедить себя в том, что эта избитая, замерзшая женщина наверняка совершила в своей жизни немало такого, о чем лучше даже не думать… Но разум говорил одно, а глаза — совсем другое. Он видел перед собой лишь измученную, беззащитную девушку, в которой, казалось, едва теплилась жизнь. Сейчас, когда тень скрыла левую половину ее лица, в ее облике не было ничего демонического. Грязная, больная девочка. Сколько ей лет? Не больше шестнадцати… Вард встал, думая о том, что все те, кто был против того, чтобы доверить ему командование кораблем, знали, что говорят. Он был чересчур мягок. Под внешней жесткой личиной скрывалось мягкое сердце… Однако капитану парусника морской стражи не положено было страдать излишней щепетильностью. У входа в темный трюм вспыхнул свет второго фонаря. Вард чуть наклонил голову и нахмурился, узнав вошедшего. Урядник поднял фонарь повыше и с притворным удивлением воскликнул: — Капитан Вард! В самом деле, капитан и в самом деле думает обо всем, на него всегда можно положиться, вот именно, можно положиться, всегда! Вард молчал. Альбар подошел ближе, глядя на укрытую плащом девушку. — Укрыта, заботливо укрыта, — констатировал он. — Капитан, мы успеем до бури? Похоже, нет. Он сел на ящик, с которого только что встал Вард, и, блуждая взглядом где-то над его плечом, неожиданно по-деловому сказал: — Господин Вард, я не моряк, но, думаю, от бури нам не уйти. Я прав? Не дождавшись ответа, он продолжал: — Господин Вард, я знаю, что ты считаешь меня скотиной. Пусть так. Но сейчас не время для взаимной неприязни, не время, вот именно. Эта пиратка бури не переживет. Должен признаться, я с ней немного перестарался. Качка наверняка ее прикончит, даже если мы не потонем. Вард наконец раскрыл рот: — Хочешь ее допросить до того, как она умрет? — А что в этом плохого? Барк раскачивался все сильнее. Волны с грохотом били о борта. — Золото, которое спрятал отец этой девицы, мне не нужно, — сказал урядник. — Ты знаешь закон, Вард. Отобранная у разбойников добыча, если не найдутся ее первоначальные владельцы, предназначается в помощь семьям погибших солдат. Нравится это тебе или нет, но мой бич может сделать доброе дело. Капитан стиснул зубы. Каким бы человеком ни был Альбар, на этот раз справедливость была на его стороне. — Ты прав. Альбар толкнул ногой неподвижное тело, плащ сполз в сторону. Внезапно оба наклонились, глядя на дергающуюся в ритме качки голову. Вард присел и поспешно дотронулся до лица девушки, потом поднял взгляд: — Ты прав. Но она только что умерла, господин Альбар. Наверху, на палубе, раздался превосходящий грохот волн дикий вопль, от которого застыла кровь в жилах. Оба бросились к выходу. Неподвижно стоявший на раскачивающейся палубе Раладан окинул взглядом низко нависшее небо и море вокруг корабля. Его внимание привлекла черная точка на северо-западе. Он нахмурился и напряг зрение. Корабль содрогнулся от могучего порыва ветра. Шло время. Матросы, не обращая внимания на соленые брызги, начали собираться у бакборта. В конце концов все бросили свои дела и сосредоточенно следили за черным пятнышком, поскольку оно уже не было точкой, быстро приближаясь. Слишком быстро для корабля, слишком быстро для морского зверя, намного, намного быстрее… Растолкав матросов, Раладан вцепился в фальшборт. По спине у него пробежали мурашки. Ему знакома была эта картина. Во имя Шерни! Эта картина была ему знакома! Неизвестно, кто из команды понял первым, но кто-то закричал, а мгновение спустя его крик подхватили все. На палубе забурлило. В толкотне из-за все усиливавшейся качки кто-то вылетел за борт. Все бежали вниз, под палубу, словно нутро корабля могло защитить от мчащегося, как ураган, черного, выжженного остова. Он несся, не обращая внимания на ветер, быстро, как птица, словно сам был ветром; разбитый нос рассекал волны, расходившиеся двумя огромными гребнями вдоль корпуса. Почти лежа на борту, с обожженными обломками мачт, он летел прямо навстречу несчастному барку. Палуба опустела. Остался лишь вцепившийся в борт Раладан. Бледные губы его шевелились, шепча уносившиеся ветром слова: — Я сделал все, что мог, все, что мог, господин… Под грот-мачтой на обгоревшей палубе мелькнула какая-то огромная, мрачная, зловещая тень, затем барк с ужасающим грохотом тряхнуло, треск ломающихся досок и рвущейся обшивки смешался с пронзительным воем, донесшимся из глубин корабля до палубы. Остов каравеллы разбил корму, словно она была сделана из соломы, развернул обреченный парусник вдоль оси и положил на борт, после чего помчался дальше, оставляя за собой пенящийся белый след. Кровавая молния ударила в разбитый корабль и исчезла где-то в его нутре. Близился вечер, но из-за черных туч вокруг уже наступила темнота. Глубоко погрузившийся искалеченный корпус старого барка, лишенного руля, с разбитой кормой и сломанной мачтой, каким-то чудом держась на воде, несся в объятиях ветра на восток. На палубе не было ни единой живой души; если на корабле и оставался еще кто-то живой, то прятался глубоко в его трюме, ища иллюзорной безопасности в каком-нибудь темном углу, может быть в дрожащих объятиях товарища. Никто не управлял кораблем — это было просто невозможно, никто, впрочем, не осмелился бы выйти на палубу и взглянуть на море; все боялись смерти, но в сто раз сильнее был страх перед жутким черным призраком. Сама мысль о том, что остов сожженной каравеллы может вернуться, чтобы довершить начатое дело, повергала в ужас. Наступил вечер, за ним ночь. Завывал ветер, массы воды грохотали о доски корпуса. Черные волны вздымали корабль на своих гребнях, чтобы затем с шумом обрушить вниз, пытаясь раздавить его, ввергнуть в смертоносную пучину, но он раз за разом поднимался из бездны. Наконец протяжный треск возвестил о появлении нового, по-настоящему смертельного врага — рифов. Корпус трещал и бился о скалы, в потоках дождя, внезапно хлынувшего в свете молний, по палубе ползали какие-то люди. Вихрь вознес корабль на гребень новой волны, та подхватила его, словно детский плотик из палочек, перебросила через грозные скалы и швырнула на другие, огромные, зубастые. Истерзанный корпус разлетелся в щепки. Ревел ветер и ревели волны, посреди их рева крик человека был неразличим сквозь треск ломающихся досок, скрежет обломков, ударяющихся о шершавые камни скал. А потом уже не было слышно ничего, кроме раскатов грома, и белые молнии освещали зажатый среди скал, словно в клещах, нос корабля с остатками надстройки. Так продолжалось до утра. Утром буря утихла, ветер еще шумел и завывал, волны остервенело били о черные берега большого скалистого острова, но молний, дождя и грома уже не было. Сквозь тучи струился тускло-серый свет начинающегося дня. Каменистый берег был устлан обломками разбитого корабля. Всюду валялись доски, какие-то бочки и ящики, опутанные канатами, покрытые водорослями. Волны играли с ними, гоняя туда и обратно по скользким камням. У высокой грязной отмели, из-под которой выступал голый камень, виднелась узкая полоса камней и серого песка, куда вода уже не доставала. Туда море вынесло несколько темных фигур.13
Она ощутила холод. Тут же до нее дошло, что она лежит на чем-то твердом и неподвижном, и она со всей силы вонзила в песок ногти, раня пальцы о ракушки и камни. Внезапно ее стошнило морской водой, и она громко закашлялась. Потом она перевернулась на спину и лежала так неподвижно, тяжело дыша, без сил. Сине-серые густые тучи ползли по низкому небу, надвигаясь со стороны моря. Мокрый ветер постепенно приводил ее в чувство. Внезапно перед ее мысленным взором пронеслись события последних дней, и она резко приподнялась на локте, оглядываясь вокруг. Потом, нахмурившись, дотронулась до лица, затем перевела взгляд на запястья, на которых виднелись хорошо зажившие шрамы — следы веревки, еще так недавно впивавшейся в тело… Со все большим удивлением она посмотрела на лодыжки, ощупала бока и спину… Все раны зажили! Она вскочила, еще раз окинув взглядом дикие пустынные окрестности. Потом опять села, ничего не понимая. Сжав губы, она погрузила руки в шершавый песок… Внезапно она увидела его. Он лежал, наполовину зарывшись в песок, почти такой же серый, как и прочие камни. Она невольно попятилась, глядя на него с изумлением и страхом. Он был здесь… Каким чудом, каким чудом, о Шернь?! В первое мгновение она хотела было оставить его и уйти как можно дальше, но неожиданно она поняла, что он, подобно судьбе, будет следовать за ней повсюду, раз уж он нашел ее здесь. Она протянула руку, выкопала его из песка и поднесла к глазам. Рубин был серым и мертвым. Хрупким… Она чуть сжала пальцы — и вдруг камень растрескался, и вот уже ветер развеял с ее ладони кучку серого пепла. Чувствуя подступающий к горлу комок, она смотрела, как остатки когда-то могущественного камня просыпаются меж ее пальцев. Прикусив губу, она повернулась в сторону моря. Произошло нечто необычное. Может быть, опасное, зловещее. Корабль швырнуло на скалы. Но перед этим… Она помнила только холодный трюм. Встав, она пошла прямо вперед. Она медленно шла вдоль берега, тупо глядя по сторонам. Негостеприимный пляж и отмели, дальше — верхушки деревьев. Она поднялась на песчаный холм. Слева от того места, где она стояла, была небольшая бухта. У воды она заметила какое-то движение — на песке сидели несколько человек. Присев среди желтой травы, она не отрываясь, испуганно смотрела на них. Людей было трое. Один из них встал и направился к берегу. Он вошел в воду по колено и, не обращая внимания на волны, начал что-то кричать. Слов она не могла разобрать. Тут же она заметила, что не далее чем в трети мили от берега из воды торчит зажатый между скалами нос корабля. Всмотревшись, она заметила там человека. Она снова посмотрела на стоявшего в воде. На нем был желтый мундир. Солдат. Солдат вернулся на берег, разделся, снова вошел в воду и поплыл. Сначала все шло хорошо — в защищенной от ветра бухте волны были не слишком большими. Она невольно восхищалась смелостью пловца. Волны подбрасывали его словно палку, он часто исчезал под ними, и несколько раз она уже была уверена, что он утонул. Однако некоторое время спустя снова появлялась голова и работающие руки. Она смерила взглядом расстояние, отделявшее его от остатков корабля. Он уже почти преодолел полпути. Зажатый среди скал нос корабля вздрогнул и чуть осел. Внезапно она поняла — прилив. Маленькая фигурка на корабле лихорадочно заметалась. Движения его были неловкими… Она подумала, что, возможно, тот человек ранен. Она выставила голову из травы чуть выше. На корабле было несколько человек! Теперь она видела нервную, беспорядочную суету. Она снова спряталась в траве. Они не должны были ее видеть. При одной мысли о новом плене она стиснула зубы. Во имя Шерни, она уже не первый раз подумала о том, что эти люди мало чем отличаются от пиратов, которых она столь презирала… Прав был Раладан. И тем не менее плывший к товарищам на спасение солдат был героем. Он сражался с волнами, ветром и приливом. Прибывающая, хотя еще и незначительно, вода толкала смельчака обратно к берегу. Преодолев три четверти пути, солдат добрался до торчавшей из воды скалы и вскарабкался на нее, прижавшись к камню всем телом. Она поняла, что он очень устал. Однако нельзя было терять ни минуты, так как нос корабля снова содрогнулся. Скрежет досок о камни достиг даже ее ушей. Солдат снова бросился в воду. Она поняла, что он решил добраться до корабля любой ценой, отчаянно, яростно молотя руками по воде. Ясно было, что если ему не хватит сил, если он ослабеет, то неизбежно утонет между обломками корабля и берегом. Вернуться он уже не мог. Расстояние было слишком большим, и теперь она лишь изредка замечала пловца. Иногда лишь среди волн мелькали его руки, но она даже не была уверена, не привиделось ли ей. Приливная волна все дальше накатывалась на берег. Нос корабля содрогнулся в третий раз, замер, но лишь на мгновение. Стоявшие на берегу начали кричать и размахивать руками. Разбитый корабль опускался в воду. Внезапно он накренился и лег на волны. Она уже никого на нем не видела… Море играло обломками корабля, походившими теперь на груду случайным образом соединенных досок. Обломки несколько раз перевернулись на одном месте, после чего разбились о скалы, между которыми были до этого зажаты. Пытаясь отыскать взглядом плывущего солдата, она невольно встала. Однако море было пусто. Среди бушующих волн не появлялись ни голова, ни руки. Солдат утонул. Она отнеслась к этому со странным безразличием. Посидев немного на песке, она встала и двинулась в сторону от берега. Она не знала, куда идет и зачем. Ей хотелось оказаться как можно дальше от людей на берегу. Ничего больше. Солдат, однако, не утонул. Отчаянно сражаясь с морем, он добрался до скал, вокруг которых плавали обломки парусника. Услышав крик о помощи, он тут же бросился туда, откуда тот доносился. Среди поломанных досок барахтались люди, судорожно цепляясь за все, что могло помочь в борьбе с пучиной. Как ни удивительно, в живых после катастрофы остались многие. Корабль-призрак Демона разбил корму барка; все, кто остался жив, искали убежища в носовой части корпуса, а именно нос дольше всего продержался над водой… Теперь горстка людей, которых не унесли ночью волны, отчаянно дралась за жизнь. Их было пятеро: Альбар, двое матросов, лишившийся чувств Вард и лучник со сломанной ногой. Солдат, приплывший на помощь, считался лучшим пловцом в команде. Благодаря его самопожертвованию появилась возможность спасти раненых. Альбар, удивительно хорошо владевший собой в воде, с неожиданной энергией, таившейся в его худом теле, поплыл ему навстречу. Вместе они начали буксировать к берегу длинную и толстую балку, когда-то бывшую форштевнем. Среди выступающих из воды скал болтался опутанный канатами кусок бушприта. Из последних сил солдат подтянул его к себе и привязал к балке. Они помогли добраться до этого импровизированного плота раненому лучнику, сломанная нога которого причиняла ему страшную боль при каждом очередном ударе волны. Урядник, с мрачно-презрительной гримасой на бледном лице, привязал его и поспешил на помощь матросам, едва удерживавшим на поверхности все еще не пришедшего в себя капитана. Его тоже привязали к балке. Потом все отдыхали, тяжело дыша, раз за разом захлестываемые волнами, но уже чувствуя себя в относительной безопасности. Чуть позже они начали работать ногами; им помогал прилив, неся их в сторону берега. На полпути было уже ясно, что они спасены. Они долго отдыхали на берегу, потом прошли чуть дальше в глубь суши. Ветер не ослабевал; от него немного защищали песчаные холмы, но холод давал о себе знать. Мокрая одежда скорее стесняла движения, чем защищала. У них не было никакой еды, не могли они и развести огонь. Они знали, где находятся: западный ветер снес их с выбранного курса, дрейфующий парусник миновал с севера Большую Агару и разбился у берегов лежавшей от нее на северо-востоке Малой Агары. Впрочем, один из матросов был именно отсюда родом, ему была знакома каждая пядь земли, и он знал, как добраться до ближайшего рыбацкого селения. Вскоре, немного набравшись сил, он отправился за помощью. Кто-то еще пошел в другую сторону, намереваясь тщательно осмотреть пляж. Однако больше никто не спасся. Раненые лежали на земле. Сломанную ногу лучника зажали между двумя палками и обвязали куском веревки. Варду перевязали рану на голове. Когда он пришел в себя, его вкратце ознакомили с последними событиями; теперь он лежал, обдумывая создавшееся положение. В первую очередь необходимо было добраться до рыбацкого селения, нанять лодки и плыть на Большую Агару. Буря кончилась, но Вард знал, что времени у них немного. Вскоре начнется новая, которая, возможно, продлится несколько дней. Перспектива остаться на этом острове выглядела весьма мрачно. Столица Агар, Ахелия, находилась не на Малой, а на Большой Агаре. В Ахелии был родной порт их уже не существующей эскадры. В Ахелии были казармы морской стражи. В Ахелии — был дом Варда. Здесь, на Малой Агаре, они могли рассчитывать самое большее на гостеприимство агарских рыбаков, у которых хватало собственных хлопот и без непрошеных гостей. Эти мужественные, суровые люди в течение трех месяцев не могли пользоваться дарами моря, живя благодаря накопленным в течение года запасам сушеной рыбы, которые составляли почти единственную их пищу. Малая Агара была лишь покрытой песком и жесткими травами скалой; на подобном грунте мало что можно было выращивать. Трава с побережья была не лучшим кормом для скота. На всем острове держали всего несколько коров. Разводили только кур. Была уже темная ночь, когда посланный в рыбацкое селение матрос вернулся в сопровождении отца, дяди и еще нескольких рыбаков, нагруженных простыми, наскоро изготовленными носилками, провизией и бурдюком, полным местного подобия темного пива. Ридарета шла среди низкорослых сосен. Она до сих пор не задумывалась о том, где находится, что ей делать. Она не знала, велик или мал остров, на котором она оказалась. Судя по части берега, которую она видела, он был достаточно обширен. Впрочем, остров ли это? С тем же успехом она могла находиться на континенте Шерера. Одиночество наводило на неприятные мысли. Она пыталась отбросить их прочь, не желая ничего знать, ничего понимать… Но образ превратившегося в пыль Гееркото навязчиво преследовал ее утомленный разум. Несомненно, она была собой, оставалась собой. Но в какой степени? Что, собственно, произошло? Внезапное исчезновение всех ран скорее пугало, чем радовало. Ее преследовал образ умирающего Рубина. Она изо всех сил старалась не замечать чудовищной связи между агонией могущественного камня и ее внезапным исцелением. Потом она подумала о лоцмане. Раладан… До сих пор она не отдавала себе отчета в том, насколько он был ей нужен. Теперь, когда она осталась по-настоящему одна… Она знала, что стражники хотели ее повесить. Она знала, что лоцман каким-то образом этому помешал. В который уже раз она была обязана ему жизнью? Увидев у ног узкий ручеек, она присела. Странно, но до сих пор она не чувствовала ни голода, ни жажды. Однако она все же напилась. Если это был остров, в особенности небольшой, то где-то внизу по течению этого ручья должно находиться селение. Ридарете были знакомы острова у побережья Гарры, и она знала, что пресную воду здесь зря не тратили. Где бы этот остров ни находился, сомнительно, чтобы здесь страдали от избытка питьевой воды. Она продолжала сидеть погруженная в раздумья. Так или иначе, в конце концов необходимо было найти какое-нибудь человеческое поселение. Ведь не могла же она питаться воздухом, не могла и ночевать под открытым небом, одетая в одни лишь лохмотья, даже близко не напоминавшие платье. Однако она боялась, что в селении, находящемся неподалеку от места катастрофы, наткнется на потерпевших кораблекрушение. Чем бы это закончилось — она прекрасно знала. Однако столь же хорошо она знала, что вскоре силы оставят ее. Она подумала, что ей вовсе незачем просить ночлега, может быть, просто удастся украсть какую-нибудь еду и одежду… Она решительно не желала, чтобы кто-либо догадывался о ее существовании. По крайней мере пока. Она пошла вдоль ручья. Пейзаж был довольно необычен, она никогда прежде не видела ничего подобного. Песчаные отмели соседствовали с голыми серыми скалами, дальше пляж уходил под воду, берег становился все выше и круче, поросший травой и карликовыми деревьями. Дальше, в глубине суши, чернел редкий сосновый бор. Она с удовольствием забралась бы в него; уже несколько месяцев она не ходила по лесу, когда-то ей очень нравились долгие прогулки в одиночестве… Когда-то… Она шла еще довольно долго. Приближался вечер, когда она увидела дым над деревней. Она поспешно вскарабкалась на ближайший холм. Невдалеке, может быть в полумиле, лежало рыбацкое селение. Сердце ее забилось сильнее, ибо вид показался ей странно знакомым. Почти так же выглядели селения гаррийских рыбаков. Так же сушились сети на вбитых в землю кольях, так же лежали дном вверх вытащенные на берег лодки. Ей приходилось видеть много таких селений, путешествуя в компании бродячего торговца, который сжалился когда-то над бездомной девушкой и погиб с перерезанным пиратами горлом… Она отбросила причинившие боль воспоминания и сбежала с холма. Дома стояли довольно далеко от пляжа; она подумала, что — так же, как и в других местах — это связано со значительной высотой прилива. Она была уже возле первых строений, когда внезапно поняла, что ведет себя крайне неосторожно. Однако было уже слишком поздно — послышался лай собак, который быстро приближался… Прежде чем она успела сообразить, что делать, ее окружили несколько надрывающихся от лая дворняг. Через небольшой пожелтевший луг бежал мальчик лет двенадцати-тринадцати. Увидев ее, он на мгновение остановился, но тут же еще ускорил шаг. Он подозвал собак и свистнул. Дворняги оставили ее в покое. Мальчик остановился в нескольких шагах, подозрительно и с некоторым страхом разглядывая девушку. Она подумала о лохмотьях, составлявших всю ее одежду, вспомнила и о том, что на выбитом глазу нет повязки, а растрепанные грязные волосы в дополнение ко всему прочему делают ее похожей на ведьму. — Ты с нашего корабля? — спросил мальчик. Он пользовался каким-то диалектом, чуждо звучавшим в ее ушах, однако она его прекрасно понимала. Она кивнула, лихорадочно думая о том, что если в деревне уже знают о гибели парусника, это может означать лишь одно… — Где я? — спросила она. — Это… остров? Мальчик смотрел на нее, казалось, все подозрительнее. — Это Малая Агара, — ответил он. — А ты откуда? Она поняла, что он спрашивает не о том, откуда она взялась на острове, но откуда она родом. — С Прибрежных Островов, — ответила она. Она не стала упоминать освоем гаррийском происхождении; островитяне терпеть не могли гаррийцев, впрочем взаимно. Мальчик кивнул, хотя она сомневалась, что он знает, где это. — Идем в деревню. Мой отец с тобой потолкует. Он староста деревни, небрежно добавил он. Низкорожденные никогда не отличались особой деликатностью в словах, но ее удивила явная бесцеремонность в его голосе. Правда, она слышала, что Агары, расположенные довольно далеко от Гарры, а от континента еще дальше, были почти что маленьким государством; здешний народ жил вдалеке от остального мира, едва считая себя подданными императора и уж тем более не склоняя головы перед Чистой Кровью Дартана или Армекта. Здесь, в рыбацких деревнях и поселениях вольных горняков при рудниках на Большой Агаре, все были равны. Даже солдаты легиона и морской стражи, служившие на Агарах, обычно были из местных. Наконец она собралась с мыслями. Она уже знала, что ей грозит большая опасность. Так или иначе, худшее уже случилось: спасшиеся наверняка узнают, что она не погибла. Стоило ли, однако, лезть волку прямо в пасть? Она подумала было, не сбежать ли, но — рядом были собаки… — А другие тоже пришли к вам? — осторожно спросила она. — Пришел… — Мальчик назвал какое-то имя, которого она не расслышала. — Он из нашей деревни. И все пошли к бухте, с едой. — Значит, потерпевших кораблекрушение сейчас у вас нет? — Она все еще не верила. — Нет, — мальчик начинал терять терпение. — Но придут. Ну идем же. Она подумала, что это и в самом деле лучшее, что можно сейчас сделать. Ей дадут поесть, может быть — какую-нибудь одежду. Потом она найдет повод, чтобы ненадолго скрыться с глаз рыбаков. И сбежит, прежде чем придут те. — Давно они ушли? — допытывалась она, идя следом за мальчиком. — Недавно. Когда они добрались до первых деревенских домов, было уже совсем темно.14
«Слушай и запоминай, ибо более не дано будет нам поговорить. Рубин гаснет, Раладан. Здесь идет война. Ты — солдат Просторов, так же как и я стал солдатом отвергнутых Полос Шерни. Цели этой войны мне неведомы, я знаю лишь, что участие в ней позволяет мне влиять на судьбу Ридареты. Ничего более я не желаю. Но — достаточно, ибо время идет и осталось его немного… Быть может, ты меня еще увидишь, но разговаривать нам не доведется больше никогда. Гееркото передал свою силу…» Голос, вначале отчетливый и ясный, и в самом деле, казалось, удалялся, становясь все тише. «Корабль с Островов не потонет. Существует сила, которая выбросит его на Малую Агару. Ридарета беременна, Раладан. Проклятие, висевшее надо мной при жизни, преследует меня даже после смерти. Береги ее, Раладан. И помни, что правда всегда будет на стороне ее, первой моей дочери. Что бы она ни сказала, что бы ни совершила… Помогай ей. Я хочу… так случилось, что она… только она… самое лучшее…» Слова были уже едва слышны. «Есть… странный старик… он тебе скажет… больше… прощай… Раладан…» Раладан поднялся с земли, пошатнулся и тут же упал, ощупывая вокруг себя руками, словно слепой. Однако темная пелена, висевшая до сих пор у него перед глазами, начала проясняться, и вскоре он уже видел, как в тумане, широкий ровный пляж; слышался грохот волн и вой ветра. Среди пенящихся валов он успел еще заметить огромный черный остов корабля и мгновение спустя провалился в глубокую тьму. Когда Раладан снова очнулся, буря бесновалась вовсю; он понял, что все еще лежит на песчаном холме, а внизу, там, где был пляж, яростно хлещут бушующие волны. Дрожа от холода в промокшей одежде, он быстро поднялся и, несмотря на слабость во всем теле, неуверенно двинулся вдаль от берега. Пройдя около четверти мили, он наткнулся на некое подобие дороги. В сером свете пасмурного дня невдалеке мелькнул тусклый свет. Раладан немного отдохнул, набираясь сил, и, сражаясь с ветром, согнувшись почти пополам, направился в сторону огней. Миновав предместье и добравшись до городских стен, он уже знал, где находится. Ахелия — столица Агар. Он даже не пытался понять, что, собственно, произошло. У него в ушах все еще звучали слова капитана; если они не послышались ему в бреду, это означало, что правящие миром силы сделали его жизнь своей игрушкой. Но сейчас самым главным было найти кров и пищу. Потом можно было думать о призраках, таранящих корабли, искать смысл в словах Демона… Раладан шагал по пустым улицам Ахелии, которую неплохо знал, в сторону порта. Город был небольшим, хотя здесь, на Агарах, считался крупным. Вскоре он отыскал знакомую улицу, а на ней таверну. Он был у цели. В большом зале было шумно. На лавках, стоявших вдоль трех длинных столов, сидел самый разнообразный люд — матросы, горожане, несколько проституток, какие-то подозрительные типы, которых везде полно. Трое солдат не торопясь потягивали пиво. Рядом, обнявшись, танцевали матросы, их окружали зрители, хлопавшие в ритм с выкрикиваемой пьяными голосами песней. Раладан постоял немного, пытаясь освоиться в привычном мире, где не было черных кораблей-призраков и Рубинов-Гееркото, потом протолкался к стойке и кивнул корчмарю, который тут же поставил перед ним кувшин с пивом. — Мне нечем заплатить, — сказал лоцман. Корчмарь что-то сердито буркнул, забирая кувшин. Раладан схватил его за руку и показал на завязанный на шее платок. — Возьмешь? Пиво снова появилось перед ним. Хозяин таверны наклонился, взял мокрый платок двумя пальцами и внимательно пригляделся. Знаменитый дартанский шелк был вышит серебряной нитью. — Я хотел бы поесть. И комнату на ночь, — сказал Раладан, зная, что платок стоит втрое дороже. Он снял его с шеи и протянул корчмарю. — Без обслуживания, — буркнул хозяин, не глядя на гостя. Раладан кивнул, взял пиво и повернулся, опершись спиной о стойку. Не торопясь глотая горькую жидкость, он окинул взглядом пеструю, шумную толпу. В углу зала за небольшим столиком какие-то люди играли в кости. Он подумал, что, может быть, таким способом удалось бы раздобыть немного серебра. Ему требовалось намного больше, чем можно было выиграть в кости, но небольшая сумма для начала существенно облегчала задачу. Служанка принесла пиво на средний стол. Она расставляла кувшины, склонившись над столом, и под расстегнутой рубашкой ее большие груди покачивались в ритме ее движений. Сидевший ближе всего к ней подвыпивший детина сунул руку под рубашку и извлек их наружу, ко всеобщей радости. Служанка пискляво хихикала, расставляя последние кувшины; обвисшие, тяжелые сиськи почти лежали на столе. Кто-то похлопал девушку по округлому заду, но ее тут же оставили в покое, ибо донесшиеся с того места, где сидели солдаты, три глухих, тяжелых удара ногой о пол были хорошо известным сигналом, призывающим умерить свой пыл. Шлюх в таверне было в избытке, за полслитка серебра каждый мог получить что хотел. Служанке же полагалось разносить пиво. И ничего больше. Корчмарь толкнул лоцмана под локоть; тот повернулся, взял миску с горячей говядиной, в которой, правда, было больше костей, чем мяса, и заменил пустой кувшин на полный. — Последняя дверь, — бросил хозяин. Раладан направился к лестнице, ведущей на второй этаж. По правой стороне темного и грязного коридора виднелись низкие двери. Всего было три комнаты, не считая большой общей, где спали на сене. Он вошел в последнюю, судя по виду самую маленькую и грязную из всех, насколько он сумел понять в сером свете, падавшем через открытую дверь. Поставив миску на стол, он взял свечу, похоже обгрызенную мышами, и вышел, чтобы зажечь ее от стоявшей в стенной нише коптилки. Вскоре он уже сидел на короткой койке, ломая зубами кости, обгрызая их и высасывая мозг. Закончив, он толкнул раму и выбросил остатки за окно. В комнатку тут же ворвался ветер, свеча погасла. Проклиная в темноте все на свете, он снова закрыл окно, снова принес огня из коридора, после чего задвинул щеколду. Сняв мокрую одежду, он улегся на тощий матрас, натянув потрепанное, но сухое одеяло до самой шеи. Теперь можно было и подумать. Утром он проснулся уже с готовым планом действий. Одежда так и не высохла; поморщившись, он с трудом натянул ее на себя. Выглянув в окно, он увидел, что буря заканчивается. Здесь, в Ахелии, у него была полная свобода действий. Демон знал, что делает, перенеся его каким-то образом к берегам Большой Агары. Мрачный остов сожженного корабля внешне выглядел стихией, но действиями его руководила не слепая ярость, но разум. Впервые лоцман подумал о том, сколь страшная сила этот призрак, появляющийся в нужное время и в нужном месте не только затем, чтобы сокрушать, но и затем, чтобы проводить в жизнь определенный план… Раладан бегом спустился вниз. В большом зале уже не было столь тесно и шумно, как вечером, но народу все же было довольно много. За стойкой стояла толстая уродливая баба, наверняка жена хозяина таверны. Он подошел к ней и облокотился на стойку. — Кости есть? — спросил он. Не говоря ни слова, она дала ему грязный, замызганный комплект. Он отошел в угол и постучал по крышке стола. — Сыграть хочешь? Раладан кивнул, не поднимая взгляда, и расстегнул широкий с заклепками пояс. — Серебра у меня нет, — сказал он. — Только этот пояс и сапоги, — он выставил ногу на середину зала, — таких ты наверняка никогда не видел. Шкура дартанского лося. Сапоги были не слишком поношены, а пояс на рынке стоил бы пару слитков серебра. Поколебавшись, двое подсели к нему. Тот, что повыше, развязал грязную тряпку и высыпал около половины ее содержимого. Среди многочисленных медяков поблескивало несколько серебряных слитков. Второй достал несколько мелких монет и широкий острый матросский нож. — Один к одному, — сказал он, кладя нож рядом с поясом. Раладан кивнул. Он не был до конца уверен, правильно ли поступает. Кости есть кости; он легко мог потерять пояс и сапоги, ничего не получив взамен. Однако он решил все же попытать счастья. Они начали игру. Раладан быстро проиграл пояс владельцу ножа, но выиграл кое-что у его товарища. Тому явно не везло. Кучка денег быстро таяла. — Еще три захода, — сказал Раладан. Обладатель иссякающего кошелька нахмурился: — Не так быстро, братец. Он опорожнил свой платок, выложив деньги на стол. Игра продолжалась. Раладан остался при сапогах, нескольких слитках серебра и большом количестве медяков. Больше всего выиграл товарищ высокого. Лоцман подумал, что лишь благодаря ему игра не закончилась потасовкой, как это обычно бывало. Он встал из-за стола и отдал кости хозяйке, добавив несколько медяков. Немного подумав, он спрятал серебро, а на остальное купил пива и вернулся к столу. Разозленный дылда бросил на него неприязненный взгляд. И он, и его приятель явно были не из пугливых, хотя и не походили на разбойников. Китобои? Лоцман знал, что именно такие скоро ему понадобятся. Он поставил перед ними по кувшину и сел. Они удивленно смотрели на него. — Скоро у меня будет серебро. Много серебра, — сказал Раладан. — В частности, благодаря вот этому. — Он показал свой выигрыш. — Мне нужно было кое-что для начала. Они выжидающе молчали. — Я вернусь вечером. Буду искать надежных людей. Дам заработать, но предупреждаю, что это работа не для молокососов. — Чем пахнет? Трупом? Он покачал головой: — Нет, — и встал. — Мне нужны еще четверо. Вечером расскажу подробнее. Если решите, что дело того стоит, ждите меня. Выйдя из таверны, он направился по серой улице в сторону восточной заставы. Год с лишним тому назад, когда он развлекался на Агарах — еще вместе с Раписом, — сразу за городской стеной, у восточных ворот, жил человек, занимавшийся в числе прочего сдачей внаем повозок и верховых лошадей. На Агарах лошадь была настоящей редкостью, десятка полтора держали для морской стражи и легиона, но мало кто имел собственного коня. Содержание их обходилось недешево, а ездить, собственно говоря, было особенно некуда. На Большой Агаре было всего два города, Ахелия и Арба; второй, находившийся в глубине острова, был убогой дырой, состоявшей из полутора десятков домов, в которых жили вольные рудокопы, и жалких лачуг для узников и рабов, работавших на имперских медных рудниках. Делать там было особо нечего. Однако если кто-то отправлялся в Арбу, он мог воспользоваться повозками, на которых перевозили руду на склады в Ахелии. Повозки эти возвращались пустыми, и за небольшую плату возницы брали пассажиров. Не брали они лишь грузов, экономя силы имперских волов. Однако осенью, из-за отвратительной погоды, повозки ходили нерегулярно. Кроме того, Раладану нужно было спешить; хоть он и не был хорошим наездником, но предпочитал нанять коня, а не тащиться целый день в повозке. Хозяин четырех кляч, из которых две были гужевыми, а из двух оставшихся лишь одну можно было назвать верховой лошадью, при виде трех с половиной слитков серебра начал было причитать и жаловаться на судьбу, но в конце концов понял, что больше не получит, поскольку больше просто нет. Вскоре Раладан трясся на хребте невероятно костлявого жеребца, возраст которого недвусмысленно указывал на то, что конь этот наверняка предок всех лошадей Шерера. Кляча тащилась раза в два быстрее не самого проворного пешехода, и хоть Раладан и довольно слабо разбирался в лошадях, все же знал достаточно, чтобы понимать, что едет не рысью и не галопом, а неким странным сочетанием одного с другим. Когда он наконец добрался до Арбы, первым его желанием было прогнать лошадь на все четыре стороны. Однако он все же сдержался, хотя явно видел, что на обратном пути конь неминуемо падет замертво. Время торопило; лоцман быстро забыл о лошади. Среди грязных, топких улочек он отыскал ту, на которой стоял один из самых больших, если не самый большой дом в городе. Раладан поднялся по темной лестнице наверх и, старательно избегая встречи со слугами, вскоре оказался в просторной, довольно богато обставленной комнате. Оттуда он перешел в комнату поменьше, походившую на купеческую контору. Там было пусто. Он постоял немного, потом сел на массивный красный ящик у стены. В голову пришла мрачная мысль, что если любой может забраться сюда столь же легко, как и он, значит, он пришел зря. Ведь его ждала встреча с не раз уже ограбленным беднягой… Какое-то время спустя послышались голоса. Голоса приближались, наконец в контору вошел человек в черном, лет шестидесяти, сухой и костлявый, в сопровождении богато одетого юноши. Они оживленно беседовали. Раладан, прислонившись к стене, терпеливо ждал, когда они в конце концов его заметят. — Я проверю, господин, — сказал костлявый, обходя стол и открывая солидных размеров книгу, занимавшую чуть ли не полстола. — Так, товар для вас поступил… — Он поднял взгляд и застыл. Раладан спокойно смотрел на него. Молодой человек, видя изумление на лице торговца, быстро обернулся и тоже застыл неподвижно. — Ты кто такой? — наконец спросил он, делая шаг в сторону Раладана. Он хотел еще что-то добавить, но хозяин конторы прервал его: — Я его знаю, господин. Прошу прощения… но… я должен с ним поговорить… — Закончи свои дела, Балбон, — отозвался Раладан. — Еще немножко я могу подождать. Молодой человек удивленно посмотрел на него, потом повернулся к торговцу, но тот отчаянно замахал руками: — Так… так будет лучше, господин, да! Так вот… так вот, товар… Не давая молодому человеку вымолвить ни слова, он чуть дрожащим голосом все ему объяснил, после чего поспешно попрощался. Едва они остались одни, купец, явно испуганный, заговорил: — Ради Шерни, господин! Ты неосторожен, это опасно для меня, опасно для тебя… Раладан поднялся с ящика. — Помолчи, Балбон, — спокойно сказал он. Купец замолк. Лоцман протянул руку: — Деньги, Балбон. Человек в черном побледнел. Раладан шагнул к нему, схватил купца за отвороты на груди и одним движением швырнул на стол. Наклонившись, он спросил: — В чем дело? Ты думал, мы не вернемся? Слышал об облаве, да? Думал, нас поймают, а если даже и нет, то до зимы тебя не тронут? Слушай, ты, скряга! Мы тебе дали в долг пятьсот золотых. Ты сам назначил процент. Я пришел за деньгами, и я их получу. Получу сегодня. Немедленно. Он отпустил черную мантию, и Балбон, посиневший и дрожащий, сполз со стола. Купец без лишних слов побежал к двери и, нервно, успокаивающе махнув рукой, скрылся. Раладан подошел к окну и посмотрел на улицу, чуть покачиваясь на каблуках. — Вот… вот долг, господин, — послышался за его спиной сдавленный голос. Раладан подошел к столу и взвесил мешочек в ладонях. — Золото и серебро? — Четыреста тройных серебра и сто тройных — золота… — Без процентов? Купец побледнел еще больше. — У меня нет здесь, господин… Но я отдам, отдам! Отдам завтра… нет! Послезавтра. Раладан положил мешочек и протянул руку. — Дай мне этот перстень, Балбон. Тот, что у тебя на пальце. Быстрее. Теперь слушай. Ты должен Демону сто пятьдесят золотых. Я приду за ними послезавтра или еще когда-нибудь. Монеты должны быть серебряные, одиночные серебряные слитки, понял? Теперь слушай дальше. Может так случиться, что вместо меня появится кто-то другой. Пусть тебя не волнует, будет ли это ребенок или старик, женщина или мужчина. Он покажет тебе перстень, и ты отдашь ему серебро. Понял? Он взял мешочек и направился к двери. — Мы не кровожадны, Балбон, — на ходу бросил он. — Но на будущее постарайся не задерживать уплату долгов. И можешь радоваться, что пришел я, а не Демон… Сомневаюсь, чтобы ты отделался столь дешево. Он многозначительно показал перстень и вышел. Угловатые движения несчастной клячи на этот раз беспокоили его намного меньше, поскольку, задумавшись, он едва обращал внимание на происходящее вокруг. Первая проблема была решена — средствами он уже располагал. Собственно, они достались ему даже легче, чем он считал; в свое время он в душе возражал против этой авантюры с одалживанием денег, однако Рапис его мнения не спрашивал. К счастью. Рапис часто давал в долг под высокий процент, и притом суммы куда более серьезные. Обычно, однако, должниками были люди, которых он крепко держал в кулаке, как правило зная об их участии в каких-нибудь темных делишках. Против Балбона же у них не было ничего. Раладан подумал, что на месте купца он просто взял бы эти пятьсот золотых и жил себе спокойно где-нибудь в Рине, в самом центре Армекта. Однако Рапис лучше разбирался в людях. По каким-то причинам Балбон не сбежал. Может быть, он был просто слишком стар? Наверняка он больше думал о собственных детях, а тем пятьсот золотых не надолго бы хватило; куда лучше было оставить им процветающее дело… Так или иначе, он не сбежал и, более того, не обанкротился. Судя по разным мелочам, в том числе по немедленной выплате долга, он употребил деньги себе на пользу. Из разговора с молодым человеком Раладан понял, что костлявый купец держит в подчинении всю Арбу, будучи монопольным поставщиком всего, что могли потребовать имперские рудники. Доверие, которым лоцман пользовался у Демона, окупилось с лихвой. Капитан решал деликатные вопросы так, как они того заслуживали. Он не таскал с собой шумную толпу, не полагался на порывистого Эхадена, которому тем не менее доверял полностью. Всегда владеющий собой, хладнокровный, Раладан казался ему самым подходящим помощником; идеальная память, наблюдательность, наконец, железные мускулы и меткий нож — вот что ему требовалось. Сумма, которой теперь располагал лоцман, была вполне приличной. Барку островитян было предначертано разбиться у берегов Малой Агары. Раладан не пытался выяснить, откуда могучему призраку было известно, что девушка пережила катастрофу. Он считал это само собой разумеющимся. Был лишь один вопрос — остался ли в живых кто-то еще кроме нее. Так или иначе, необходимо было перебраться на Малую. Золото облегчало задачу. Раладан был человеком уверенным в себе и вовсе не склонным к предрассудкам (по крайней мере в сравнении с большинством моряков). Он не привык верить всему, что лишь внешне походило на правду. Еще некоторое время назад он и медяка бы не дал за рассказ о зловещих рубинах-Гееркото, кораблях-призраках и проклятых Шернью капитанах, которые не в силах покинуть мир живых. Однако теперь все было иначе. Раладан доверял собственному разуму, ибо не слышал ни о чем ином, чему стоило бы доверять больше, и не пытался строить каких-либо догадок. Дело было вовсе не в том, что он не любил думать… Он просто оказался во вполне конкретной ситуации, требовавшей конкретных действий. И он действовал, отложив на потом вопросы вроде «зачем» и «почему». В Ахелии он вернул измученную вконец лошадь хозяину и отправился в портовый район, следя за тем, чтобы мешочек под курткой не слишком звенел. Несмотря на довольно позднее время (уже приближались ранние осенние сумерки), он успел совершить некоторые покупки: новую одежду, соответствующую времени года, несколько сумок разной величины и формы, наконец, четыре хороших острых ножа — оружие, без которого он чувствовал себя чуть ли не голым. Оставалась еще одна проблема, и немалая, — нужно было где-то спрятать золото. Нельзя же было всюду таскать с собой тяжелый звенящий мешок. Он отложил решение этого вопроса на потом, а пока высыпал золото в сумку из парусины, плотно завернул в другую такую же и обе вместе запихал в кожаную сумку поменьше, которую повесил на плечо. Чуть ближе к порту в Ахелии была другая таверна, получше и подороже той, где он провел ночь. Он снял комнату, заплатив за несколько дней вперед. Ему не хотелось показывать деньги там, где еще накануне он платил за еду снятым с шеи платком и ставил сапоги против трех слитков серебра. В комнате — на этот раз довольно чистой — он поделил деньги. Часть сунул в карман, чтобы всегда иметь под рукой, а остальное снова спрятал в сумки. Уходя, он, естественно, забрал сумку с собой. Раладан вернулся в первую таверну. Он почувствовал себя так, словно вовсе не уходил. Вокруг столов он видел если не те же самые, то очень похожие рожи, шум был точно такой же, и столь же густым был заполнявший зал трубочный дым. Оглядевшись по сторонам, он заметил за столиком в углу два знакомых лица и направился к ним. Он сел, и какое-то время все трое молчали. Лоцман кивнул сисястой служанке. Вскоре они потягивали пиво, сдобренное хорошей порцией рома. — Серебро у меня, — сказал лоцман. — Как я и говорил. Они кивнули. — Что за работа? — Надо сплавать на Малую. Они молча переглянулись. — Ничего сложного. Если ветер не будет дуть прямо в нос, шестеро хороших гребцов дойдут за один день. Даже при осеннем волнении. Хватит одного ясного дня. Его собеседники недовольно поморщились. — Осенью на Малую никто не ходит. Надо ведь, братец, еще и вернуться. Ясный день — понятно, только другой такой может быть через неделю. А то и через две. — Заплачу за каждый день. — Ты такой богатый? Раладан отпил большой глоток. — Заплачу за каждый день, — повторил он. — Что там у тебя такое? Лоцман задумался. — Нужно кое-кого привезти оттуда сюда. Они еще больше помрачнели. — Что-то тут дурно пахнет. Почему бы ему самому не приплыть? У них, что, на Малой лодок нет? А, братец? Раладан посмотрел высокому в глаза: — Послушай, приятель. Есть работа. Так? Ну так либо берись, либо не берись. Желающих я и так найду, ничем не хуже вас, только, может быть, не столь любопытных. Он отставил пиво и встал. — Без обид, братец. Потолкуем. Лоцман продолжал нерешительно стоять. — Не люблю лишних вопросов. — Без обид. Можно и сплавать. Но сначала дай понять, стоит ли. Раладан снова сел. — Сколько хотите? Они переглянулись. — Пятнадцать, — рискнул высокий. — Двадцать, — тут же поправился он. И пять за каждый день. Лоцман поднял брови. — Мы ведь идем на Малую, — сказал он, — а не на Гарру. Неразговорчивый товарищ высокого пожал плечами: — Ты слышал. Двадцать каждому и пять в день. — Три за день, по возвращении. На это согласен. — Пять. — Нет, друг. Я бы с вами сидел на Малой до конца жизни. Три. Но если все пойдет быстро и хорошо, добавлю еще десять больших серебряных, на всех. — Тройных? — уточнил дылда. — Тройных. Десять тройных. Высокий встал и подошел к одному из длинных столов. К нему повернулось несколько голов. Начался сопровождавшийся оживленными жестами разговор. Наконец высокий вернулся. — Четыре и по рукам. — Три. Лицо дылды искривилось в усмешке. — Упрямый ты, братец. Ладно, будь по-твоему. Следующий день выдался для Раладана необычно хлопотливым. Сначала пришлось искать лодку. В Ахелии с этим было непросто, скорее следовало попытаться в какой-нибудь из рыбацких деревушек. Он подумал было о китобоях, привыкших рисковать, но селения китобоев располагались на южном побережье, так что ему пришлось бы, наняв лодку, обойти кругом остров и лишь затем направляться на Малую. Три дня. Слишком долго. Три дня хорошей погоды — осенью… На северном побережье, откуда он мог бы прямо идти на Малую Агару, было несколько рыбацких селений. Однако рыбаки, люди осторожные и мирные, — это не китобои. Лоцман подозревал, что никто из них не захочет дать внаем лодку — сейчас, осенью, слишком велик был риск ее потерять. Его опасения быстро подтвердились. Он побывал в двух деревнях (на этот раз уже верхом на коне получше) и понял, что если ему нужна лодка, ему придется ее просто купить. В обеих деревнях нашлись лишь три лодки, достаточно большие для его целей. Одной, похоже, было сто лет, другая составляла совместное и единственное имущество трех семей, которые и слышать не хотели, чтобы отдать ее за золото, хотя Раладан не скупился. Пришлось купить третью, за баснословную сумму, однако он вынужден был согласиться, поскольку понимал, что пешком до Малой Агары не добраться. Оставив покупку под присмотром бывшего владельца, он вернулся в Ахелию и занялся снаряжением экспедиции. Он купил бочонок для воды и еще один соленого мяса, мешок сухарей, несколько теплых одеял, два плотничьих топора, наконец, моток веревки и немного парусины. Китобои были совершенно правы — двухдневное путешествие туда и обратно легко могло превратиться в двухнедельное приключение. Лишь от капризной осенней погоды зависело, не застрянут ли они на соседнем острове надолго. Раладан шел к себе в таверну нагруженный тяжелым канатом и рулоном полотна. На улицы уже опустилась ранняя осенняя ночь. Перед самой таверной он разминулся с двумя пьяными матросами, которые как раз оттуда возвращались. Лицо одного показалось ему знакомым, он остановился и оглянулся, но их было уже не разглядеть в полосе света, падавшего из полуоткрытых окон. Вскоре он был уже у себя в комнате. Бросив веревку и полотно на груду прочего добра, он сел на койку, вытянув уставшие сначала от сидения в седле, а потом от долгой ходьбы ноги. Сидел он, впрочем, недолго. Внезапно он вскочил и выбежал из комнаты, даже не заперев за собой дверь. Выскочив на улицу, он бросился туда, где скрылись в темноте пьяные матросы. Он долго искал их, но тщетно. Лицо, которое он узнал, принадлежало матросу с корабля Варда.15
Дни становились все холоднее. В Дартане и Армекте осень бывала ясной и солнечной, но здесь, на Агарах, она скорее напоминала громбелардскую осень с ее бесконечными дождями. День за днем по небу плыли хороводы темных туч, вокруг затерянных на Просторах клочков суши бесновались яростные бури. Грозные вихри били крыльями, вздымая песок с отмелей, пригибая к земле угрюмые серые сосны. Во время штормов жизнь на Агарах, казалось, замирала, как, впрочем, и всюду, куда долетали злобные ветры, зародившиеся в глубинах Восточного или Западного Простора. Люди тщательно запирали окна и двери, ожидая, когда погода прояснится, чтобы собрать новый запас дров, залатать протекающую крышу, ликвидировать повреждения, причиненные дождем и ветром. Однако на Малой Агаре все же был человек, которого нимало не волновали ветер, пронизывающий холод и ранние сумерки. Каждый день поутру, к неослабевающему удивлению рыбаков, человек этот надевал плащ с капюшоном, брал с собой немного еды и отправлялся в глубь острова, чтобы вернуться лишь поздно вечером. Цель его путешествий была им известна, но, когда он уходил, они многозначительно крутили пальцем у лба: естественно, девушка, кем бы она ни была, давно уже умерла от холода и голода. На острове не было никаких пещер, а разве шалаш, даже самый крепкий, мог устоять против бури? Чахлые леса не изобиловали дичью, лишь птицы мелькали среди деревьев… Как долго можно прожить без пищи, без огня и без крыши над головой? В течение трех недель Альбар упорно продолжал поиски. Он исходил остров вдоль и поперек, бродил вокруг, таился в засаде… И все безрезультатно. Он сильно изменился. Бледное лицо, исхлестанное ветрами, стало теперь красным, когда-то ухоженные ногти утратили всяческие следы былой красоты. В рыбацких хижинах его донимали вши — он постоянно расчесывал грязные, растрепанные волосы. Щеки и подбородок покрылись щетиной. Порой он вспоминал разговор, который состоялся у него с Вардом еще до того, как тот отправился вместе с матросами на Большую Агару. «Подумай как следует, — убеждал Вард. — Этот остров — ловушка. Ведь и я не собираюсь дарить этой маленькой пиратке свободу. Но торчать здесь три месяца? Нет, господин Альбар. Завтра мы отплываем в Ахелию. Вернемся в конце осени, с солдатами, и найдем ее, даже если потребуется перевернуть каждый камень и обойти вокруг каждого дерева. Ведь от нас ей не сбежать. Рыбаки уже знают, кто она, сообщат и в другие деревни. Никто не даст ей лодку. Что ей останется делать? Украсть лодку самой, столкнуть ее на воду и грести на Большую? А может быть, сразу на Гарру?» Альбар тогда ответил: «Когда ты вернешься со всем своим войском, капитан Вард, она уже будет вас ждать. В превосходных колодках. Здешний народ их быстро соорудит. Превосходные колодки». Теперь он иногда задумывался о том, удастся ли ему исполнить данное обещание… Но ведь где-то она должна была быть! Живая или мертвая. Неужели ей все же удалось каким-то образом выбраться с острова? Мысль об этом приводила его в неподдельный ужас. Тем упорнее он вел дальнейшие поиски, уходя еще до рассвета и возвращаясь ночью. Однажды ему пришло в голову, что он ищет не там, где следовало бы. Ему была известна каждая пядь внутренней части острова, но он до сих пор не искал на побережье. Но побережье… отданное на милость всем ветрам, заливаемое штормовыми волнами, не относилось к числу мест, где человек мог бы выжить в течение трех недель. И тем не менее он все же решил обойти остров вокруг. С тех пор как ушел Вард, буря следовала за бурей; он рассчитывал лишь на то, что погода вскоре выправится, хотя бы ненадолго. Он подождал несколько дней (не прекращая, однако, поисков в глубине острова), и действительно, после очередного шторма несколько прояснилось… Он взял с собой побольше еды и отправился в путь. Все еще дул холодный ветер, хотя по сравнению с недавним ураганом он казался лишь приятным бризом. Каменистый пляж, устланный пучками водорослей, выглядел угрюмо и неопрятно. Он уже несколько раз подумывал о том, чтобы вернуться, поскольку мысль о том, что кто-то мог прятаться в таких местах, и в самом деле граничила с абсурдом. Однако он шел дальше, зная, что воспоминание об упущенном шансе будет преследовать его до конца дней. Господин Н.Альбар, неприметный урядник Имперского Трибунала, не был злодеем… Он редко задумывался о том, что делает, и, возможно, это было самым большим его недостатком. Впрочем, недостатком ли? Трибуналу были нужны именно такие люди — усердные, выносливые и преданные и не слишком склонные к лишним раздумьям. Такие, в сердце которым можно было бы вложить Свод Законов, а в голову — Кодекс Правонарушений. Альбар был машиной, созданной, подобно арбалету, с одной только целью: если задачей арбалета было стрелять, то задачей Альбара — преследовать. И точно так же как арбалет сам по себе не является ни злым, ни добрым, так и Альбар не был ни злым, ни добрым, самое большее — полезным. Сотни и тысячи таких же усердных, полезных людей кружили по всему миру, людей, характер которых, сформировавшись однажды, навсегда оставался тверже гранита. Ответственность за их действия падала на тех, кто во имя разнообразных целей готов был конструировать машины. Из соответствующей древесины, из соответствующих сортов стали или, в конце концов, из той часто встречающейся разновидности людских душ, которым легко придать желаемую форму, в каковой они застывали раз и навсегда. Знал ли господин Н.Альбар, урядник Трибунала, что он всего лишь машина? Темно-синие тучи ползли со стороны моря, неторопливо проплывая над головой. Горбатые, покрытые лишаями увядшей травы песчаные холмы напоминали картины из ночного кошмара — неприязненные, враждебные, мрачные. Он хотел вернуться — но не вернулся. И получил свою награду… Он увидел ее у подножия именно такого холма. Она лежала навзничь, полуобнаженная, откинув в сторону левую руку; ноги ее были занесены песком… Ветер швырял ей в лицо мокрые брызги, терзал мокрые волосы. Альбар стоял неподвижно, сдвинув брови, внешне спокойный, как всегда, но сердце его билось быстро и неровно. Вот она. Как долго она лежала под этим холмом, ожидая, пока он ее найдет? Перед глазами его промелькнули все испытания минувших дней, и он неожиданно пожалел, что все оказалось напрасно. Перед судом Трибунала ее уже не поставишь… Дешево, слишком дешево она избежала наказания… Чувствуя все нарастающую злость, он подошел ближе и взглянул в изуродованное лицо лежащей. Жуткая глазница, казалось, издевалась над его простым плащом, всклокоченными волосами и неухоженной бородой. Взгляд имперского урядника, обычно все время бегающий туда-сюда, на этот раз был неподвижным и острым, словно кинжал. До сих пор он не знал, что такое ненависть. Он был выше этого. Теперь же… впервые в жизни он желал не наказания, но мести. Мстить, однако, было уже поздно. Стоя так со стиснутыми зубами и глядя на девушку, он вдруг заметил несколько… странных деталей. Девушка не была истощена. Не было видно и следов разложения. Внезапно наклонившись, он дотронулся до ее руки — она была теплой! Он заметил движение груди — она дышала! И в то же мгновение ему в лицо ударил полный ужаса одноглазый взгляд! То, что он принял за смерть, было сном! Он отскочил назад, в то же мгновение вскочила и она. Они стояли не двигаясь с места; в голове Альбара вихрем проносились тысячи мыслей. Каким чудом, во имя Шерни?! Кем было это существо, крепко спавшее в объятиях холодного ветра, зарывшись в мокрый, тяжелый песок?! Каким чудом она выжила? Он прыгнул к ней, но она оказалась проворнее и уже карабкалась на холм. Он взбирался за ней следом; ему удалось схватить ее за ногу, облепленную клочьями мокрых лохмотьев. Они скатились на берег. Она сражалась словно дикий зверь, он же сопротивлялся, нанося удары онемевшими от холода руками, чувствуя то под собой, то опять на себе ее горячее, совершенно невосприимчивое к холоду и влаге тело. Они долго возились на песке, оба полные ненависти и ужаса, наконец он схватил ее за шею и душил, пока она не перестала шевелиться. Он поднялся с земли, обливаясь холодным потом, но тут же снова упал на колени. Тяжело дыша, он смотрел на побежденное существо, которое не было, не могло быть человеком! Он победил ее, но теперь боялся приблизиться, боялся дотронуться до бесчувственного тела, с ужасам думая о том, что снова ощутит ее издевательское тепло. Наконец, преодолев страх, он достал из-за пазухи веревку, которую всегда носил с собой. Дрожащими руками он связал ей запястья и спутал ноги так, чтобы оставалась возможность идти небольшими шагами. Наконец он накинул петлю ей на шею, а другой конец веревки обвязал вокруг руки. Потом присел на корточки и стал ждать, внимательно наблюдая за своей добычей. Он сдержал свое слово. Колодки были сделаны. Закованная в них, она была, кроме того, привязана цепью к одному из столбов, на которых развешивали сети. Сначала он хотел держать ее в той же хижине, где жил сам, но через два дня подобное желание прошло: пленница стонала и скулила по ночам, словно зверь, кроме того, за ней нужно было убирать, и хотя он сам этим не занимался, ему надоели жалобы и ссоры рыбаков. Эти люди, обремененные пятеркой вонючих, как и все вокруг, детей, были сыты по горло уже им самим… Он начал всерьез опасаться, что однажды они тайком освободят его «добычу», лишь бы избавиться от хлопот. Так что теперь он держал пленницу снаружи. Она уже продемонстрировала, что отлично переносит влагу и холод, так что могла продолжать в том же духе и дальше. До сих пор он даже не пытался ее допросить. Время у него было. Время было, вот именно, время было, было, было… Теперь, когда цель его пребывания на острове была достигнута, Альбар крайне остро ощутил, в сколь примитивных условиях приходится ему существовать. А ведь впереди были еще целых два месяца… Волей-неволей он снова начал вспоминать трезвые и рассудительные слова Варда. Каждый раз, глядя на пойманную пиратку, он испытывал прилив гордости от осознания того, что поступил так, как следовало поступить. Но все же… Конечно, каюта на имперском корабле мало походила на дворец. Но там был порядок. Были офицеры. Он мог их не любить, к Варду, например, он испытывал неприязнь, граничившую с враждебностью. Но они были с ним на равных. Даже простые солдаты, принадлежавшие, в конце концов, к его миру, были в сто раз лучше, чем рыбацкая голытьба. Уже через несколько дней после поимки девушки ему настолько осточертело торчать в завшивленной норе, что он начал обдумывать возможные способы вырваться с острова. Относительно неплохая погода держалась уже второй день подряд. Кто знает? Однако подобная идея выглядела нереальной. Да, Вард действительно получил от селян лодку. Но во-первых, один из матросов был сыном здешнего рыбака, а во-вторых, Вард, как офицер морской стражи, реквизировал лодку и выдал расписку, с лихвой покрывающую понесенные селянином потери. Касса гарнизона в Ахелии обязана была принимать к оплате подобные расписки рыбаки об этом знали. Тем временем он, урядник Имперского Трибунала, обладал весьма широкими полномочиями, но исполнять их мог лишь через посредство капитана корабля, на борту которого находился. Об этом рыбаки знали тоже. Наконец, Варду нужна была только лодка, а ему еще и команда. Вольные рыбаки, которыми были агарцы, подчинялись только императору или, на практике, командиру местного гарнизона. Они были неприкасаемы точно так же, как легионы, как слуги императора или как его лошади. Они доставляли соленую рыбу имперским сборщикам податей, так же как крестьяне — зерно, китобои — китовый ус и жир, а охотники — дичь. Трибунал, а следовательно, и его представитель, не имел над вонючим агарским рыболовом никакой власти, по крайней мере до тех пор, пока не нарушался закон. Он мог попросить, но не приказать. Альбар все же попытался. Едва обменявшись несколькими словами со старостой деревни, он понял, что ничего не выйдет. Местные жители, правда, были им уже сыты по горло, поскольку он уменьшал их и без того скромные запасы. Однако пускаться в морские авантюры желания не было ни у кого. Оставалось только ждать. До зимы…16
Часть команды Варда уцелела после шторма. Раладан уже знал, что кроме капитана в живых осталось шестеро. И урядник на Малой Агаре. Из этих шестерых еще живы были четверо. Первых двоих он нашел в одной из таверн… Охота — поскольку иначе это трудно было назвать — отнимала у него множество времени. Ахелия была не слишком велика, однако достаточно обширна для того, чтобы отыскать отдельного человека, имя которого ничего ему не говорило, можно было лишь благодаря счастливой случайности. Он был уверен, что рано или поздно найдет и убьет их всех. Но время — время было дорого. Эти люди ходили где хотели и рассказывали обо всем, что считали нужным. О сражениях с пиратами, о чудовищном корабле, о дочери Бесстрашного Демона… Сначала Раладан надеялся, что не спасся никто, кроме Ридареты. Потом он полагал, что, если эти расчеты не оправдаются, он успеет избавиться от потерпевших кораблекрушение еще на Малой Агаре. Случилось, однако, самое худшее: люди, которые знали ее и знали его, были живы и находились здесь, в Ахелии. Как, ради всех морей, он мог обеспечить девушке безопасность на острове, где о ней лаяла каждая собака? Как ему следовало поступать, если рядом были люди, знавшие его как лоцмана с пиратского корабля? Он прекрасно понимал, что если весть о дочери Демона однажды достигла Большой Агары, каждый ее здесь немедленно узнает. Сколько, во имя Шерни, на Агарах молодых одноглазых женщин? Однако до сих пор, пока сам он считался погибшим, положение было не столь безнадежным. Тем не менее следовало избавиться от тех, кто мог бы его узнать. Действовать следовало быстро, ведь и на Малой Агаре тоже шла охота. Ему нужны были наемники. Но не такие, как нанятые им китобои неотесанные, жесткие, но, по существу, честные. Нужны были негодяи, готовые за золото сделать все что угодно. Убийцы. И притом умелые убийцы. Не было ничего проще. Он знал, где искать… В ответ на его вопрос корчмарь понимающе кивнул. — Просто посиди здесь немного, приятель, — посоветовал он. Раладан без особого труда притворялся низкорожденным, не желая, чтобы его именовали господином в местах, где человек благородного происхождения сразу же привлекал внимание. — Посиди и подожди. Обычно их тут полно. — Мне нужна женщина, не какое-то провонявшее помоями животное. — Для этого надо иметь деньги. — У меня есть немного. Корчмарь щелкнул пальцами. Раладан бросил ему полслитка серебра. — Будь вечером у себя в комнате, друг. Я пришлю к тебе кое-кого, кто все устроит. — Я плачу, но и требую. — Будешь доволен. Вечером к нему явился человек, походивший на мирного, почтенного мещанина. Он окинул Раладана внимательным взглядом и спросил: — Ищешь достойного развлечения? Лоцман кивнул. — Какая нужна женщина? — Мещанин умел выражаться конкретно. — Самая дорогая. — Значит, из благородных. Ты, похоже, бывший солдат?.. — Какое это имеет отношение к делу? — Цена. Цена разная. Низкорожденный должен платить больше. Но ты похож на солдата: оттебя не воняет да и хорошие манеры видны. Раладан снова кивнул; посетитель был весьма наблюдателен. — Я был десятником морской стражи, — сказал он. — На всю ночь? — Нет. — Значит, два золотых. Лоцман кивнул. — Тогда пошли. Дом, в котором они вскоре оказались, был одним из самых богатых в Ахелии. Раладан остался один в прилично обставленной, хотя и с налетом некоторой провинциальности, комнате. Долго ждать не пришлось. Человек, который привел его сюда, вскоре появился снова. — Туда. Раладан положил золото на протянутую ладонь и двинулся в указанном направлении. Комната, куда он попал, была довольно небольшой. Тяжелые темно-красные занавеси и ложе с балдахином такого же цвета, казалось, были перенесены сюда из другого, значительно большего помещения. В развесистом канделябре, стоявшем в углу, горели только три свечи. На ложе, опершись головой о груду подушек, лежала светловолосая красивая женщина лет тридцати с небольшим. Раладан закрыл дверь и выжидающе остановился. Женщина молча разглядывала его, наконец чуть улыбнулась: — Мне сказали правду; вижу, что ты и в самом деле не из простаков. Входи же. Раладан чуть наклонил голову и подошел ближе к ложу. — Меня зовут Район, госпожа, — сказал он. — Могу я спросить, сколько золота и драгоценностей будет мне стоить этот вечер? Она вопросительно нахмурилась и приподнялась на локте. Легкая туника приоткрыла маленькую остроконечную грудь. — Как это? Разве при входе от тебя не потребовали?.. — Те два золотых — это плата для твоего привратника, госпожа. Если мои глаза мне не лгут, то один разговор с тобой должен стоить вдесятеро дороже. Она открыла было рот, но тут же закрыла его снова, села на ложе и воскликнула: — Ради Шерни, господин, если ты — обыкновенный солдат, то я — пастушка! Единственные комплименты, которые я здесь слышу, — это те, что я говорю собственному отражению в зеркале. На этом острове, может быть, есть всего человек пять, которые умели бы так выбирать слова и столь чисто их выговаривать. Но они, увы, у меня не бывают. — Я солдат, госпожа. — А я — шлюха, господин, но у меня есть мозги, хоть, может быть, это и кажется странным. Рамон, так? А полная фамилия? — Разве я спрашиваю твою, госпожа? — Все ее здесь знают. Я — Эрра Алида. Ну ладно. Я никогда не пристаю к своим гостям, однако ты человек просто исключительный… Прости мне, господин, мое женское любопытство. Больше ни о чем не стану спрашивать. Она встала и подошла к нему. Она была невысокого роста, но с изящной фигурой. Раладан пришел сюда не развлекаться, но сейчас внезапно ощутил неудержимое желание; он даже уже не помнил, когда в последний раз был с женщиной… Он очень редко терял контроль над собой, взял себя в руки и на этот раз, мягко отстранив ладони, которые она положила ему на грудь. — Я пришел… по делу, госпожа. Она провела по губам кончиком языка. — Не по этому. По другому. Она посмотрела ему в глаза и внезапно, плотно сжав губы, вернулась на ложе, презрительно усмехаясь. — Ну конечно. Порой мне приходится обслуживать таких, от одного вида которых меня тошнит. Но если… Я не занимаюсь никакими «другими» делами, господин. Раладан сунул большие пальцы за пояс. — Даже за сто пятьдесят золотых, госпожа? Выражение ее лица изменилось. — Ты сказал «сто пятьдесят»? — За то, чтобы убрать четырех человек. Думаю, я нашел бы желающих и за сумму впятеро меньшую. Она сидела на ложе опираясь спиной о подушки. — Тогда почему ты предлагаешь сто пятьдесят? Раладан слегка покачивался на каблуках. — Мне нужны люди, знающие свое дело, надежные и умеющие быстро действовать. Пьяный бандит из таверны этим требованиям не удовлетворяет. — С чего ты взял, что я знаю таких людей? Лоцман спокойно смотрел на нее. — Такая женщина, как ты, должна знать всех. Даже если сама ты не даешь подобных поручений, ты покажешь мне человека, который этим занимается. — Думаю, в Ахелии достаточно много таких, к кому ты мог бы обратиться. — Ради Шерни, госпожа… Я что, должен ходить по Ахелии и расспрашивать о наемных убийцах? Она кивнула: — Ну хорошо. Что же это за люди, от которых нужно избавиться? — Мы договорились? — Не знаю. Так что это за люди, от которых нужно избавиться? повторила она. Раладан объяснил. Вардом он решил заняться сам. Сначала, однако, он выплатил своим китобоям аванс. Он хотел быть уверен, что они не откажутся. Ему хорошо было известно, какой силой обладают деньги. Они пропьют серебро за несколько дней, а потом еще более остро ощутят, как плохо, когда его нет… Погода была отвратительная, и не стоило надеяться, что она станет лучше. Ему пришлось швырять деньги горстями направо и налево, чтобы ускорить ход событий… и, похоже, впустую. Времени, впрочем, было вполне достаточно. Возможно, следовало сэкономить те сто пятьдесят золотых. Однако, с другой стороны, ему хотелось поскорее покончить с этим делом. Алида была именно тем человеком, который ему нужен, и он был почти уверен, что работа будет выполнена быстро и хорошо. Кроме того, он, похоже, успешно заметал за собой следы. В ее глазах он был неким таинственным мужчиной Чистой Крови; в таверне он выдавал себя за матроса с корабля богатого купца; китобои принимали его за бродягу, ищущего сильных впечатлений… Благодаря этому можно было надеяться, что, даже если что-то не получится, никто не сумеет связать все нити в один клубок. И все же где-то в глубине души торчала заноза. Не совершил ли он какую-то серьезную ошибку? Если даже и так, он не в силах был ее обнаружить. Лишь неясное предчувствие… Он легко нашел дом Варда. Капитан жил с матерью, а вся обслуга состояла из одной девушки. Дом был в довольно запущенном состоянии; Раладан с легкостью догадался, что жалованье командира агарского корабля было не слишком высоким. Конечно, Вард наверняка не жил в нищете. Но поддержание в порядке довольно обширного жилища требовало доходов больших, нежели те, которыми располагал офицер Морской Стражи Гарры и Островов на Агарах. Вард ночевал в казармах Морской Стражи. Дома он бывал редко, и всегда днем — обстоятельство, для лоцмана крайне неудачное. На территории гарнизона капитан был недосягаем; на улице средь бела дня — тоже. Раладан решил ждать.17
Вард, естественно, не мог знать желаний Раладана и тем не менее частично их разделял. Войском он уже был сыт по горло и хотел вернуться домой. По крайней мере, отпуск ему так или иначе полагался. Однако в комендатуре Морской Стражи до этого никому не было дела. В одной-единственной экспедиции Агары потеряли весь свой военный флот, являвшийся гордостью обоих островов. Эти клочки земли среди соленых Просторов, захваченные армектанскими властителями, отдающие далекой империи свою медь, отдающие за бесценок китовый жир и ус, теперь даже не имели своего представительства в имперских военно-морских силах. Военное командование на Агарах, в основном состоявшее из армектанцев, могло не разделять тех сентиментальных чувств, которые местные питали к «своей» эскадре. Однако им приходилось считаться с настроениями местного населения, к которому принадлежало большинство солдат. Вард был единственным офицером, вернувшимся из экспедиции. Ему пришлось во всех подробностях описать все события, имевшие место во время рейса. Молодые тщеславные офицеры, которых он опередил, поднимаясь по служебной лестнице, пытались возложить на него вину за потерю корабля. Матросы и солдаты из команды свидетельствовали в его пользу. Однако всех допросить не удалось. Одного из солдат, того самого отважного пловца, которому все остальные были обязаны жизнью, нашли мертвым. Кроме того, пропал без вести матрос. Кто-то за спиной Варда подбросил идею, что от этих людей избавились потому, что они кое-что знали об обстоятельствах гибели эскадры. Это предположение было отвергнуто как безосновательное. Но один раз пущенный слух продолжал кружить… Вард писал все более подробные рапорты, не в силах сдержать праведного гнева. Ведь он вернулся из победоносной экспедиции. Победоносной! Он сам был агарцем и, как и все, тяжело переживал гибель эскадры. Но эта эскадра уничтожила корабль, за которым много лет охотился весь флот империи, самый большой и самый грозный парусник на Просторах. И вот вместо заслуженной награды его встречают грязными подозрениями. Его охватывали горечь и злость. Потом начали разбираться с делом Альбара и пиратки. Здесь, однако, капитан твердо стоял на своем. Его обязанностью и правом было по завершении облавы (то есть с началом осени) привести корабль в родной порт или хотя бы доставить домой его команду. Он это сделал. Урядник остался на Малой Агаре, поскольку имел на это право, Вард же не мог заставить его отказаться от своих намерений. Капитана поддержал сам комендант морской стражи в Ахелии, признав предпринятые им действия разумными, компетентными и правильными. При этом он отрицательно отозвался о решении Альбара, назвав его необдуманным проявлением излишнего служебного рвения. Трибунал вступился за своего человека, дошло чуть ли не до открытой ссоры, но Варда оставили в покое. Однако вопрос о гибели корабля все еще оставался открытым. Рассказ о сеющем смерть обгоревшем остове походил скорее на некую морскую легенду, чем на сухой рапорт о потере имперского парусника. Однако, к неудовольствию расследовавших дело, показания как матросов, так и солдат, а также самого Варда полностью совпадали. В комендатуре не знали, как поступить. На всякий случай Варда в очередной раз обвинили в халатности… Сегодня снова должен был состояться допрос уцелевших членов команды корабля. Около полудня Вард отправился в здание комендатуры. С собой у него были карты, тщательно укрытые от дождя, на которых он в десятый уже раз начертил курс корабля, обозначил место сражения, место встречи с черным призраком, которое было ему известно лишь приблизительно, место гибели барка у берегов Малой Агары и множество других деталей. Он доложил о своем прибытии коменданту. Ик Берр был человеком ничем особо не выдающимся, обычным служакой Он пользовался, однако, репутацией хорошего солдата и, что больше всего ценил Вард, честного человека. Он был родом не с Агар, а с Гарры, что было весьма необычно для имперских войск. Но те его черты, которые нравились Варду, не слишком ценились в Дороне, столице провинции… и Берр очутился в Ахелии, на одном из наименее популярных постов в этой части империи. С точки зрения Дорона, далекие Агары являлись местом ссылки. И собственно, так оно и было на самом деле. Тем более что гарриец благородного происхождения не мог рассчитывать на популярность ни на одном из островов, а тем более на Агарах. И все-таки… будь Берр чуть более тщеславным и сообразительным, он мог бы лишь радоваться подобной ссылке. Трудно было найти другой такой округ, где комендант обладал бы большей самостоятельностью и властью — почти без каких-либо ограничений. Формально обязанности заместителя Берра исполнял комендант сухопутных войск. Однако легионеров на Агарах было всего человек двадцать, морских стражников же — триста… Кроме того, Морская Стража располагалась — так же как и во всей империи — во всех портовых городах, то есть в данном случае в Ахелии и селении китобоев на юге, где имелось нечто вроде большой пристани. Однако именно Ахелия была столицей округа. Легионеры же сидели в Арбе, надзирая за заключенными и рабами на имперских рудниках. Будь он чуть несообразительнее… Берр, однако, сообразительностью не отличался. Фактически он владел Агарами почти безраздельно, но лишь в той степени, насколько это соответствовало его нынешнему положению. Он не стремился расширить свое влияние. Он даже не пытался обогатиться, хотя мог. Стоя посреди комнаты с заложенными за спину руками, Берр думал почти о том же самом, что и Вард. У него были причины опасаться — не за власть, но за возможность исполнять и дальше обязанности коменданта морской стражи. Последняя экспедиция стоила ему почти половины солдат и многих офицеров. Проблемами, которые неминуемо должны были появиться, когда он доложит об этом вышестоящему начальству в Дороне, он пока не забивал себе голову. Однако ко всему прочему он еще и ввязался в войну с Трибуналом (считая, что Трибунал имеет слишком большое влияние на войско; он всегда решительно возражал против этого и охотно пользовался любым случаем, чтобы утереть нос серым урядникам). Ну и, наконец, конфликт между Вардом, которого недолюбливали из-за его местного происхождения, и частью его, коменданта, подчиненных. Он мог похоронить дело, имея на это полное право, к тому же он был глубоко убежден, что капитан сделал все, что от него зависело, и наверняка лучше, чем любой другой из тех, что служили под его командованием. Однако рассказ о черном призраке, таранящем корабли, действительно не вписывался в общую картину. Он согласился вызвать свидетелей лишь потому, что считал: другого выхода нет. Именно тогда стало известно об убийстве одного из членов команды Варда и исчезновении другого. Тем не менее он вызвал сегодня Варда, чтобы сообщить ему о снятии всех обвинений. И вот — новые хлопоты… Он выслушал положенный по уставу доклад, после чего, не двигаясь с места, сказал откровенно и коротко: — Сотник Вард, твои люди исчезли. Все до единого. Их разыскивают с утра, однако уже почти ясно, что в городе их нет. Вард стоял как вкопанный, не зная, что сказать. — Оставь карты, господин, — сказал комендант, — возвращайся к себе и сиди там. Это вовсе не арест, — поспешно предупредил он. — Я абсолютно убежден, что ты не имеешь к этому никакого отношения. Речь идет о твоей безопасности. Вард повернулся и молча вышел, полностью раздавленный. Поиски в течение всего дня не увенчались успехом. Сидя в своей гарнизонной квартире, капитан размышлял о том, что же могло случиться. Матросов отпускали со службы в начале осени, обычно оставалось лишь четверо или пятеро — следить за порядком на стоящем в порту корабле. Остальные могли делать что хотели. Однако на этот раз, в связи с продолжающимся следствием, моряков оставили на службе, им было запрещено покидать Ахелию, кроме того, они обязаны были каждое утро являться на поверку в гарнизон. Солдаты находились на службе постоянно, за исключением отпуска. Кроме убитого пловца, лишь один солдат вернулся в Ахелию, однако он не мог никуда уйти, даже на шаг, — ему отняли ногу, сломанную еще во время шторма. Он понемногу выздоравливал у себя дома, через две улицы от порта, под надзором жены и брата, известного сапожника… Как раз утром ему должны были выплатить полугодовое жалование. Вард выругался. Что происходит, что происходит, во имя Шерни?! Кому нужна была смерть — он был почти уверен, что его людей нет в живых солдата-калеки и двух матросов? Кому? Он впервые посмотрел на происшедшее с другой стороны. До сих пор он рассматривал эти убийства (или исчезновения) лишь на фоне нелепого следствия… Но ведь этих людей связывало кое-что еще — участие в потоплении пиратского корабля. А если?.. Он оперся о стену. Нет, это вздор, с того парусника никто не мог уцелеть. Но та девушка?.. Ерунда, она не могла добраться до Ахелии в такую погоду. Впрочем, ей нужно было бы иметь здесь своих людей… Он прикусил губу. А если и в самом деле так? Какая-то… месть? Ведь известие о гибели корабля Демона разнеслось повсюду. Поговаривали, что у этого пирата из пиратов везде были свои головорезы. Но в таком случае ему, Варду, тоже грозила опасность. И продолжает грозить. Неужели комендант Берр и в самом деле прав? Вард почувствовал, как его пробирает дрожь. Он не был трусом, вовсе нет. Но мысль о мести из могилы представилась ему неслыханно жуткой. Внезапно территория гарнизона показалась ему местом если не приятным, то по крайней мере безопасным. В то же мгновение он подумал о матери. Шернь! Если его предположения верны, то опасность угрожает и ей! Взяв оружие, он вышел на двор и позвал дежурного. — Двоих в полном вооружении. — Слушаюсь, господин. Вард решил забрать мать сюда, пока все не выяснится. Он направился к зданию комендатуры. Берр внимательно его выслушал. — Боюсь, что ты можешь оказаться прав. Конечно, забирай мать. Но может быть, достаточно будет послать за ней солдат? — Нет, господин. Я не в силах жить здесь словно в клетке, неизвестно как долго. Если двое вооруженных солдат и собственный меч не защитят меня, то я уж не знаю, что вообще может меня защитить. Впрочем, это ведь лишь мои догадки — насчет мести. — Догадки весьма правдоподобные. Но поступай как знаешь, Вард. Я тебе доверяю. И хочу, чтобы ты об этом знал. — Спасибо, комендант. В сопровождении двоих вооруженных, словно на войну, солдат — при мечах, с копьями и щитами, — продираясь сквозь дождь и ветер, капитан добрался до своего дома. Оставив солдат у дверей, он взбежал по лестнице наверх. В сопровождении служанки со свечой он подошел к двери комнаты матери и легко постучал. Потом сильнее. Вард повернулся к девушке: — Госпожа спит? Служанка смотрела на лестницу, в глазах ее застыл ужас. Внезапно он понял, что девушка была странно молчалива и словно не в себе, хотя на вопрос, все ли в порядке, ответила утвердительно… В мгновение ока осознав это, он схватился за оружие, одновременно следя за взглядом служанки, — и застыл с рукой на мече. На лестнице стояли двое, целясь из арбалетов. Один из них, не спуская глаз с Варда, протянул руку и осторожно забрал свечу из рук перепуганной девушки. — Без глупостей, капитан, — спокойно сказал он. — Твоя мать жива, а случится ли с ней что-нибудь — зависит только от тебя.18
В самый разгар бурь и ливней новое путешествие в Арбу казалось сущим кошмаром. Раладану, однако, нужно было получить от Балбона остаток причитавшегося ему серебра; известия распространяются быстро, особенно на таком клочке суши. Купец наверняка уже слышал о гибели «Морского Змея». Лоцман опасался, что без хлопот не обойдется. Однако Балбон выплатил все сполна и без лишних слов. Наблюдательный Раладан заметил, что весть о разгроме пиратов и в самом деле достигла Арбы. Тем не менее дела у хитрого купца шли слишком хорошо для того, чтобы искушать судьбу; ему вовсе не хотелось проверять, сколько в этих слухах правды и — если ее действительно немало — насколько успешно сумеет лоцман пиратского парусника заменить капитана, вспарывая его, Балбона, брюхо. Расчет не занял много времени. Раладан — промокший и продрогший, но довольный тем, что все прошло гладко — вернулся в Ахелию и спрятал серебро. Мешок был довольно солидный: серебро привлекало меньше внимания, чем золото, но ему пришлось изрядно натаскаться с ним. Недавно он нашел прекрасный тайник — на старом кладбище, за восточной городской стеной. Место это пользовалось дурной славой, поговаривали что-то насчет упырей. Рассыпь он монеты на заходе солнца у самых ворот, они лежали бы нетронутыми до утра; ночью он мог копаться в обвалившемся склепе без свидетелей. У себя в таверне он переоделся в сухое. Была уже глухая ночь, когда он оказался перед знакомым домом, где у него была назначена встреча. Ему не пришлось долго ждать. Достаточно было лишь раз стукнуть в дверь, и его впустили. Вскоре он уже стоял, перебросив через руку тяжелый от влаги плащ, в пурпурной спальне. Его снова удивили размеры тяжелых портьер, не подходивших к уютному, небольшому помещению и выглядевших очень провинциально — так же как и балдахин, так же как и вся обстановка этого дома. Ему приходилось видеть изнутри дворцы магнатов, купеческие конторы и публичные дома по всей империи; каждую осень, когда «Морской Змей» стоял в безопасном укрытии, они вместе с Раписом рыскали по подобным местам в поисках страха, который можно было бы перековать в золото, или же — подчас более ценных, чем страх или золото — сведений. Но таких портьер — больших, покрывавших две стены комнаты — и столь же тяжелого балдахина ему никогда прежде не приходилось видеть. Скорее всего это было какое-то агарское изобретение. Да, пурпур был когда-то моден в Армекте. Десять лет назад. Раладан повесил плащ на канделябр в углу комнаты и продолжал молча стоять заткнув большие пальцы за пояс. Ему не пришлось долго ждать. — Приветствую тебя, таинственный заказчик, — сказала Алида, входя в комнату. — У меня для тебя хорошие новости. Она закрыла за собой дверь. Одетая в голубое платье, она выглядела удивительно несмело, по-девичьи. На спину падала перевязанная лентой коса. Он посмотрел на ее лицо, подумав, что возраст этой женщины, собственно, нелегко определить. Ей могло быть тридцать с небольшим, как он вначале считал, но могло быть и двадцать восемь. Теперь она выглядела еще моложе, но в это он уже не верил. — Что ты так смотришь, господин? Он легко махнул рукой: — Прости, госпожа. Я веду себя как неотесанный грубиян. Но не позволишь ли мне побыть таковым еще чуть-чуть? Она слегка наклонила голову. Однако во взгляде собеседника не было ничего, кроме искреннего подтверждения комплимента. — Мужчина, который в состоянии так смотреть на женщину, не может быть неотесанным грубияном, — тихо сказала она, чуть покраснев. — Я в этом уверена. После полосы неудач, среди громоздящихся хлопот и неприятностей, наконец сразу два дела пошли так, как ему и хотелось. Купец отдал деньги. Порученное задание было выполнено. Раладан расслабился, у него было хорошее, очень хорошее настроение. Он находил странное удовольствие в разговоре с этой женщиной, — может быть, потому, что язык, на котором они общались, столь отличался от того, с которым ему приходилось ежедневно иметь дело в течение многих лет? Она была в самом деле умна… Он знал, что многие из тех, кто вращается в высших кругах, не могут сделать простейшего комплимента без того, чтобы тут же не показаться чересчур инфантильными. Одного лишь воспитания было мало. Нужен был еще ум. А им она обладала. В этом провинциальном доме, в комнате с балдахином, огромным, как Просторы, сама она провинциалкой отнюдь не казалась… Распутница из островного городка. Внезапно он ощутил укол беспокойства. Он чуть поклонился, выражая ей свою благодарность и признательность, но хорошее, почти беззаботное настроение улетучилось без следа. Он снова посмотрел на нее и, встретившись с ее взглядом, внезапно понял, что оба они думают об одном и том же… Они молча смотрели друг на друга. — Все это лишь игра, — наконец сказала она. Он кивнул, засунув ладони за пояс. — Иногда я даже не знаю, чего я хочу: тебя, таинственного человека из благородного рода или просто… денег. Раладан достал звенящий мешочек. Вместе с тем, что он дал ей раньше, сто пятьдесят золотых. Она бросила мешочек на ложе. Он посмотрел на ее золотистую косу и мысленно выругался. Ради всех морей мира, кто из известных ему провинциалок отважился бы носить косу, словно какая-то крестьянка? Сотни причесок, модных и нет, удачных и нет, подходящих и нет… но коса никогда! — Кто ты, Алида? — невольно вырвалось у него. Она подошла к канделябру, дотронулась до тяжелого мокрого плаща. — Если я скажу… ты сделаешь то же самое? Он покачал головой. Она повторила его жест. — В таком случае я просто шлюха, Раладан. Он отступил на полшага, услышав собственное имя. — Что ж, не столь уж ты и умен, как тебе кажется… пират. Но все же давай поговорим. Кто на самом деле та девушка? И что с тем сокровищем? Он медленно двинулся к ней. — Не подходи, — предупредила она. — Погибнешь, прежде чем успеешь что-либо сообразить… В этой комнате есть свои сюрпризы, Раладан. Он оглянулся, поняв все в одно мгновение. — Именно. Портьеры, — спокойно подтвердила она. — Сколько за ними народу? Четверо? Этого может оказаться мало, язвительно заметил он. — Хватило бы и одного с арбалетом. Будь благоразумен. — Откуда ты знаешь? О сокровище и о девушке? — Не догадываешься? Нет, я и в самом деле думала, ты умнее… Убить за сто пятьдесят золотых, конечно, хорошо, но еще лучше — выяснить, за что столько платят. Эти люди живы, Раладан. Но… все они у меня в руках. Слышишь? Все. Он вздрогнул, потрясенный внезапной мыслью. Она кивнула: — Капитан тоже. Он молча смотрел на нее. — Подумай, что произойдет, если эти люди получат свободу, зная о тебе. Это Агары, здесь негде спрятаться. И бежать отсюда тоже не удастся. Думаешь, Морская Стража позволит тебе зимой сесть на корабль и уплыть? Он чуть покачал головой: — Вот женщина, которой стоит обладать… И почему я тогда не лег с тобой в постель? Ведь я честно заплатил. И, ради всех морей, мне самому хотелось! — Стоило. В самом деле стоило. Они снова посмотрели друг на друга. — Думаю, мы договоримся. За окном завывал ветер. — Люблю золото, — сказала она. — Это сокровище… на самом деле существует? — Нет. Откуда? Алида, ведь Демон был сапожником, обычным бедным сапожником… Ну спрятал пару медяков, но целое сокровище? Она со смехом ударила его в грудь. — Издеваешься? Умеешь шутить, морской жеребец! — Я много чего умею. — Гм… кое с чем я уже познакомилась… Она медленно водила пальцем вдоль его руки. — Как камень, — задумчиво прошептала она. — Я повидала немало голых мужчин… Бывали и покрупнее… Но ты невысокий, а твои руки… живот… как камень. Каким чудом ты меня не раздавил? — Это чудо — за портьерой… Кстати, он все еще там стоит? Она рассмеялась: — Он не рассуждает. Это пес, дорогой. Убийца. Он бы тебя в клочья разорвал. — Большой? Она приподнялась на локте. — Убийца, — повторила она. — Не слышал? Не может быть, чтобы ты не слышал! Он слышал. Что-то подобное он и подозревал. — Басог? Пес-медведь? Она покачала головой: — Нет, басоги — с Черного Побережья, только Посланники их держат. Это убийца, ахал, рожденный в Дурном Краю, как и басог. В самом деле не слышал? Пес без души, созданный, чтобы повиноваться. Если прикажешь ему лежать, он будет лежать. До самой смерти. Позволит даже сжечь себя живьем. — Он уже кого-нибудь загрыз? — Почему ты спрашиваешь? — Она недоверчиво посмотрела на него. Почему? Он покачал головой. — Когда-нибудь, — сказал он, — какая-нибудь пьяная тварь придушит тебя подушкой всего за два или три золотых. Здесь, в этой постели. Прямо под носом у твоего ахала. Естественно, он ей не верил. Что, собственно, крылось за этим необычным договором? Ведь она прекрасно знала, что может держать его в руках до конца осени, не дольше. Потом будет уже все равно, пусть даже по всем Агарам разойдется весть о том, что лоцман Раладан жив или же мертв; когда они уйдут в море, она ничего не сможет поделать. «Значит… ей придется меня убить, — думал Раладан. — Но, во имя Шерни, ведь она знает, что и я это знаю… Что за этим кроется?» Дождь и ветер снова усилились, лоцман плотнее закутался в плащ. Он посмотрел на небо. Что ж, похоже, у него будет время разгадать эту загадку… Проклятая погода! Его мучило ощущение собственного бессилия. Там, на острове, берега которого он легко бы увидел в ясный день с северного побережья, погибала от холода и голода девушка, за судьбу которой он отвечал. От холода и голода, а может быть, от пыток. Он не мог ничего поделать. Он умел сражаться с людьми, но — хотя капризы воздуха и воды были ему известны наверняка лучше, чем кому-либо другому — на стихию он повлиять никак не мог. Шторм был штормом. Даже в ясный осенний день путешествие между островами Агарского архипелага было делом рискованным. Переправа же во время бури была вообще невозможна. Бушующее море не давало ему ни единого шанса. Ни малейшего. Оставалось лишь ждать. Внезапно ему пришла в голову мысль, что, если бы не громоздящиеся вокруг хлопоты, не дававшие сидеть со сложенными руками, он наверняка сошел бы с ума. Бездействие, враг всех ожидающих, могло бы толкнуть его на поступки, не имеющие ничего общего со здравым смыслом. Он свернул в боковую улочку, осторожно оглядываясь назад. Среди немногочисленных пробиравшихся вдоль стен закутанных в плащи фигур одна привлекла его внимание. Он прошел чуть дальше, снова свернул, остановился у стены углового дома и стал ждать. Вскоре из-за угла высунулась накрытая капюшоном голова. Лоцман взял незнакомца за капюшон, подтянул к себе и схватил за одежду на груди. — Послушай, ты, — проговорил он, — скажи своей госпоже, что псов я не убиваю, но могу и изменить свои привычки. Тот пытался оттолкнуть державшую его руку, но не сумел. Нахмурившись, он открыл рот, пытаясь что-то сказать. В то же мгновение Раладан поднял другую руку, воткнул ему в рот черенок ножа, протолкнув его до самого горла, и держал так, пока человек не начал задыхаться. — В следующий раз я воспользуюсь другим концом. Но тогда ты будешь блевать кровью. Он вытер нож о плащ скорчившейся фигуры, пнул ее ногой и пошел дальше. Мысли его снова вернулись к Алиде и странному уговору. Они вместе должны были вытянуть из дочери Демона сведения о сокровище. Потом они должны были вместе его поискать. Во имя Шерни, неужели она ожидала, что он ей поверит? Он криво усмехнулся. Сокровище, сокровище Бесстрашного Демона, о котором знала его дочь… Он придумал эту ложь лишь затем, чтобы ее не убили стражники. Ложь оказалась долгоживущей. Может быть, потому, что она была самой лучшей разновидностью лжи — ложью правдивой. О сокровищах короля Просторов рассказывали уже много лет в каждом порту, наверное в каждой таверне империи. Пират должен был владеть сокровищами, а уж тот, кого звали Королем Морей… Раладан еще раз улыбнулся собственным мыслям. Конечно, сокровища у Раписа были. Но где их искать — знала вовсе не Ридарета… В завещании Демона было два пункта. Никакого ахала, конечно, не было. О, если бы она могла позволить себе пса, который стоил столько же, сколько три или четыре рабыни, она не сидела бы в этой дыре и ей не нужно было бы заниматься этой паршивой работой… За портьерой была ниша, ведшая на лестницу. Та в свою очередь вела к дверям в задней части дома. Некоторые из ее гостей не желали входить или выходить через парадный вход. Она лежала под огромным балдахином погруженная в раздумья. Конечно, он ей не поверил. И хорошо. Именно это и было нужно. Правда лучшая ложь; ей это было известно уже давно. Другое дело, что не всегда нужно открывать ее всю… Она не собиралась его убивать, нет, — зачем? Он был моряком и, похоже, в самом деле хорошо знал море. Ей был нужен такой человек. Ведь не купит же она корабль и не будет сама плавать по Просторам в поисках какого-то островка. Конечно, она не могла отпустить Раладана с Агар, не заручившись определенными гарантиями. Но у нее будут самые лучшие гарантии: у нее будет она! Она знала мужчин, о, во имя всех сил, она знала их досконально… Из того, что сказали похищенные матросы, из того, что сказал сам Раладан, следовало одно: сокровище было, конечно, важно, но — важнее всего была она. Алида подняла брови. Одноглазая девушка? Она недоверчиво пожала плечами. Впрочем, все равно. Сначала ей нужно было заполучить обоих. Она была уверена, что Раладан отнесся к угрозе всерьез. Агары действительно были невелики. Как долго им удалось бы скрываться разыскиваемому мужчине и одноглазой женщине? Бежать? Как? Морская стража обыщет каждый парусник, отходящий из Ахелии, назначит награду за их поимку… Ни один капитан не возьмет на борт подобную пару. Ей было немного смешно оттого, что солдаты стали орудием в ее руках. Несмотря на то что ей удалось похитить одного из них, и притом офицера! Она не любила военных, они были такие неуклюжие… И еще эта война, которую вел этот придурок Берр с Трибуналом! Из-за кого? Из-за тупого Альбара… Она вновь вернулась к своим размышлениям. Итак, пират и девушка сами должны прийти к ней. Она знала, что Раладан будет пытаться ее убить. Но ведь это не так просто… Кроме того, он все еще блуждает на ощупь, не верит в их уговор и ищет неизвестно чего. Шпиону ее, впрочем, пришлось несладко! Она тихо рассмеялась, но тут же плотно сжала губы. А ведь был момент, когда она и в самом деле хотела все ему рассказать… Ей нужен был кто-то, кто помог бы ей вырваться с этого проклятого острова. Здесь не было будущего. Ни для проститутки, ни для… кого бы то ни было. О, она еще успеет добиться своего! Он сам будет просить ту малышку, чтобы она рассказала о сокровище. А потом поплывет. За золотом для Алиды. Что за компания — шлюха и пират! Забавно… Вот только эта маленькая одноглазая пиратка… Где-то под сердцем пробился росток неприятного, тяжелого чувства… и Алида его узнала. Она всегда умела говорить правду самой себе. Ревность. Она попросту ревновала. В этом не было никакого смысла. Она встречалась с этим человеком всего дважды в жизни… — Ну и что с того? — вслух спросила она. Она немало повидала в жизни. Ей встречались мужчины, которые за один вечер могли влюбиться — в шлюху. Для нее было ясно (хоть и неприятно), что может происходить и обратное. Она кисло рассмеялась. — Это пройдет, Алида, — пообещала она сама себе. — Маленькая, смешная дурость, ничего больше. С каждым порой случается. Она лежала, глядя на тяжелый темно-красный балдахин.19
— Не знаю, братец. — Могучий Бедан пожал плечами. — Не знаю. Раладан задумчиво разглядывал рослую фигуру китобоя. — Ну что там опять? Что, уже не плывем на Малую, братец? — Плывем. Бедан замолчал. Неожиданно он поднял руку: — Слушай, братец, а на Проклятом? — Каком еще «проклятом»? — Ну, на Проклятом… Сразу за стеной, ну, кладбище такое… Не знаешь? Может, там? Раладана осенило. Повинуясь внезапному порыву, он потянулся к мешочку на поясе. — Там, — сказал он, отсыпая горсть серебра и кладя монеты на стол. Там, друг. Пей, ешь. Если и в самом деле там, получишь еще столько же. Лицо Бедана прояснилось: — Отличный ты парень, братец! Раладан махнул рукой и почти выбежал из таверны. Лишь на улице он несколько пришел в себя. Нужно было действовать спокойно. Место, конечно, было превосходное. Кладбище. Раз он мог там спрятать драгоценности — можно было держать там и пленников. Он видел там не один внушительных размеров склеп. Даже зов о помощи мало чем мог помочь: жители Ахелии избегали этого места, пользовавшегося дурной славой, а если еще из склепов начали бы раздаваться вопли… Прекрасное место. Естественно, не единственное — его ожидания могли и не оправдаться. Однако он сильно сомневался, чтобы пять человек, в том числе капитана Морской Стражи, держали в каком-нибудь доме. Что бы произошло, сумей они вырваться на свободу? Дом тотчас же заняли бы солдаты, а урядники Трибунала допросили бы всех. Потянув за ниточки, распутали бы и весь клубок… Маловероятно, чтобы Алида не считалась и с такой возможностью. Сначала Раладан пошел «к себе», уже привыкнув считать снятую комнату своим домом. Он заказал сытный ужин, поел, потом как следует выспался. Было уже за полночь, когда он покинул таверну. Через плечо у него был переброшен моток веревки, прикрытый плащом. В это время городские ворота были уже закрыты, так что веревка могла пригодиться, — впрочем, возможно, не только для того, чтобы перебраться через стену… Прошло некоторое время, прежде чем он добрался до старого кладбища «Проклятого»… Вокруг в изобилии росли сорняки. Ему была знакома лишь часть кладбища, та самая, где их было меньше всего. Здесь, в самой середине, приходилось продираться сквозь заросли, достававшие до самых подмышек. Он наступал на кочки, которые когда-то были могилами, иногда спотыкался о вросшие в землю каменные плиты. Тут и там маячили темные очертания полуразвалившихся склепов. Дождь перестал, но продолжал жутко завывать ветер, и Раладан подумал, что темное кладбище в самом деле внушает страх. Он не боялся людей, но знал капризы Шерни — раз уж даже бесстрашный китобой назвал это место проклятым (а по голосу его чувствовалось, что дело не только в названии)… Вполне возможно, когда-то здесь происходило нечто странное и чудовищное… Он искал свет — хотя бы маленький, тусклый огонек. Конечно, он знал, что люди Алиды не станут жечь костер. Но, во имя всех штормов, он не мог представить себе человека, сколь бы отважным тот ни был, который сидел бы в одной из этих гробниц в темноте, под завывание ветра и множество других звуков, приводивших на мысль то тяжелые шаги, то скрежет надгробных камней… А теперь… теперь он и в самом деле слышал голоса… Он остановился. Голоса не походили на человеческие, казалось, они доносятся отовсюду, пробиваясь сквозь шум ветра… «Ветер. Ветер в щелях между камнями», — подумал он прислушиваясь. Скорее всего это и в самом деле был ветер. Воображение — здесь, в этом месте — становилось весьма грозным врагом. Раладан был уже сыт поисками по горло, однако все же двинулся дальше. Ноги погружались в мягкую землю, иногда он проваливался вместе с ней вниз, почти ощущая, как где-то там, под ним, трескается прогнившая крышка гроба, а вес земли и его самого расплющивает то, что когда-то было человеком. Он хватался рукой за мокрый, холодный и замшелый надгробный камень, пытаясь сохранить равновесие, путаясь в чем-то, что наверняка было лишь зарослями сорняков… но могло быть, вообще говоря, чем угодно. Наконец он увидел свет — столь тусклый, столь неяркий, что лишь случайность помогла ему его заметить. Он сделал шаг — и свет исчез. В двадцати, может быть, в тридцати шагах среди высоких деревьев возвышался старый склеп. Он не мог определить ни его формы, ни размеров, даже его зоркие глаза мало чем могли помочь в безлунную ночь. Свет просачивался сквозь какие-то щели в камнях, узкие и неровные. Пристально всматриваясь в темноту, Раладан, спотыкаясь, пошел вперед. Он снова потерял из виду тусклый отблеск, но уже знал, что движется в верном направлении. Склеп был просто огромен. Теперь, когда перед ним был живой и наверняка грозный противник, завывающий ветер стал его союзником. Раладан, особо не прячась, обошел склеп вокруг, пытаясь найти вход. Наконец он нашел дверь, выглядевшую достаточно солидно, хотя и поросшую мхом и потемневшую от влаги. Отыскав на ощупь большое железное кольцо, он потянул за него. Дверь даже не дрогнула. Может быть, нужен какой-то условный знак? У него не оставалось выхода. Он изо всех сил заколотил в дверь кулаком. — Эй! Может, глоточек водки?! — заорал он во все горло. Он напряженно ждал. Кажется, он уже убедил их, что он не призрак… но убедил ли он их в том, что его можно впустить? Дверь скрипнула. Изнутри послышалось какое-то имя и смех. Раладан наклонил покрытую капюшоном голову и вошел. — Я уж думал… Раладан ударил. Человек со стоном отшатнулся, толстый плед сполз с его плеч. Он прижал руку к животу, в котором зияла ножевая рана, и опрокинулся на спину. В мигающем свете тщательно укрытой коптилки лоцман увидел еще одного человека, отбрасывавшего в сторону тяжелый плащ. Изрыгая проклятия, тот выхватил короткий военный меч, но не бросился сразу в атаку, пристально следя взглядом за Раладаном. Раладан понял, что этот человек умеет убивать. Сбросив плащ, он неожиданно нанес удар ножом, быстрым движением снизу. Противник ловко увернулся, продолжая бормотать проклятия, но при этом он еще и улыбался… Пират достал из-за голенищ два ножа и стал ждать. Противник напал неожиданно быстро, метя в него острием меча, но именно этого Раладан и ожидал. Он отскочил в сторону, пытаясь ударить ножом, но промахнулся. Однако ему удалось схватить противника и вонзить нож ему в спину, но в то же мгновение мощный удар рукоятью меча отшвырнул его назад. Он ненадолго потерял сознание, а когда в глазах у него снова прояснилось, он обнаружил, что сидит у стены. Скулу сводило от пронизывающей боли. Он машинально протянул руку и почувствовал под пальцами кровь. Его противник лежал неподвижно, но мгновение спустя дернулся и вытянул руку. Раладан поднялся и присел возле него. — Будешь жить, — невнятно пробормотал он, чувствуя, что щека его совершенно онемела. Кровь капала на спину лежащего. — По крайней мере… еще день-два… Он выдернул нож, торчавший скорее в боку, чем в спине. Лежащий застонал и лишился чувств. Раладан как умел перевязал рану, потом связал ему руки и ноги. Вытерев кровь с лица, он ощупал кость — та была цела. Раладан запер дверь на крепкий, похоже недавно приделанный, засов, потом огляделся вокруг. Тусклый свет вырывал из темноты лишь общие очертания большой гробницы с тяжелым саркофагом посредине, крышка которого в последнее время использовалась в качестве стола — на ней лежала колбаса и половина целого хлеба, рядом набор игральных костей. С правой и с левой стороны неширокие дугообразные проходы вели в боковые помещения, судя по всему поменьше. Раладан взял светильник и, прикрывая его рукой, вошел в левый проход. На него с ужасом и изумлением уставились три пары глаз. Они узнали его, так же как и он их. Четвертый лежал неподвижно, связанный, так же как и остальные. Лоцман наклонился и заметил, что у него нет одной ноги. Так или иначе, он был мертв. Раладан посветил вокруг, но не нашел ничего достойного внимания, кроме скомканных тряпок, которые днем наверняка использовались в качестве кляпов. — Я не собираюсь вас убивать, — сказал он. На их лицах отразилось явное облегчение. Он прошел в правую гробницу. Там было пусто. Он обошел ее вокруг. Посредине стоял саркофаг, крупнее того, что он видел раньше. И ничего больше. Где же Вард? Он уже собрался было спросить у пленников. Внезапно он остановился и медленно обернулся… Каменная, треснувшая поперек плита лежала неровно. Поставив светильник на саркофаг, он толкнул меньшую часть гранитной надгробной плиты, которая со скрежетом сдвинулась и с грохотом упала вниз. У лоцмана перехватило горло. Он отшатнулся было, но в следующее мгновение выдернул из-за голенища нож и на ощупь, не в силах оторвать взгляд от безумных глаз того, кто лежал внутри саркофага, перерезал путы и вытащил кляп. Под сводами гробницы разнесся нечеловеческий крик. Раладан, скрежеща от ужаса зубами, тащил к выходу Варда —обезумевшего, плачущего человека, которого он когда-то знал как отважного солдата. Ему знакома была эта болезнь. Болезнь замкнутого пространства. Они сидели снаружи склепа, прислонившись к холодной каменной стене. В лица им хлестал мокрый ветер. Раладан продрог до костей, но для сидевшего рядом жуткое кладбище, мрачная ночь и ледяной ветер были жизнью. Свободой. — Время идет, — сказал наконец лоцман, болезненно морщась от боли в скуле. — Пора поговорить. Он не видел лица офицера, но голос его, хотя и слабый, уже не был голосом безумца. — Я обязан тебе жизнью, Раладан. Хочу, чтобы… — Знаю, что ты чувствовал. Я сам бы свихнулся, если бы меня так заперли. Не будем больше об этом. Ветер уносил его слова. — Время идет, — повторил лоцман. — Что бы ни произошло… слушай меня внимательно, господин. Многое зависит от того, договоримся мы сейчас или нет. Он помолчал. — Хватит с меня убийств, — продолжил он. — Не потому, что я вдруг стал честным человеком. Причина другая, очень простая: все это ни к чему не ведет. Я просто хочу найти способ вырваться из ловушки. Вот вся правда, господин: я никогда не был пленником на «Змее». Я пират, а трупов, что я оставил после себя, даже не сосчитать. Но есть кое-что еще, что касается нас обоих. Ридарета — дочь Демона. Несмотря на это, она никому никогда не причинила зла. Она ни в чем не виновна. Ее отец перед смертью поручил мне заботиться о ней. Пока что ничего из этой заботы не вышло. Тем не менее, господин, если когда-то в своей жизни я служил какому-то делу, которое ты счел бы благородным и справедливым, в твоем понимании… то именно сейчас. Вард молчал. — Я убил двух твоих людей, поручил убить тех четверых. Я хотел убить и тебя. И все ради того, чтобы вытащить ее с этого проклятого острова, на котором она осталась вместе с тем гончим псом, привезти ее сюда и, когда наступит зима, увезти из Ахелии. Вот и все. Дождь постепенно усиливался. — На что ты рассчитываешь? Почему я должен тебе верить? — Разве это может быть ложью? — Он наклонился. — Вард, мы были когда-то друзьями. Многое изменилось. Ты веришь в какую-то честность, справедливость… Так вот, и я призываю к тому же. Я хочу спасти невинную девушку, почти ребенка. Взамен я отдаю в твои руки настоящего убийцу, который живет здесь, в Ахелии, — ту, с чьей помощью ты и твои люди оказались здесь. Я дам тебе доказательства. Свидетелей. Один лежит связанный, раненный, но, похоже, выживет. И я дам тебе кое-что еще, Вард. Я дам тебе жизнь — тебе и твоим людям. Если нам не удастся договориться вы погибнете. Своими посиневшими от веревок руками ты не сумеешь мне помешать. Четыре жизни за одну. Кроме того, справедливость, если так называется тюремная камера для той женщины. На что я рассчитываю? Ни на что. Мне не нужна помощь. Обещай только, что не станешь мне мешать. С неба хлынули настоящие потоки воды. — Еще сомневаешься, капитан? Тогда слушай внимательно, я все тебе подробно расскажу. Хотя, должен признаться, я никогда прежде не говорил столь много, как сегодня. Но, Вард, когда я закончу, ты должен сказать мне «да» или «нет». — И… если «да» — поверишь? Просто поверишь мне на слово? — Ради Шерни, Вард… поверю. Да, на слово. Раз в жизни попробую сделать это.20
Они лежали на песчаном холме, внимательно наблюдая за деревней. День был довольно погожий и ясный, и, несмотря на расстояние, хорошо были видны суетившиеся в селении рыбаки. — Странно, чего они все бегают? — пробормотал Раладан. Лежавший рядом Бедан пожал плечами: — Ничего странного… Сразу видать, братец, что ты не местный. Обычное дело, осень. Тут, братец, как шторм пройдет, работы у всех выше крыши. Он снова замолчал. Сначала они подошли ближе, почти к самому селению, но вскоре им пришлось отойти подальше, поскольку всюду носилась детвора, пользуясь погодой. Однако они успели заметить девушку… и колодки. Раладан стиснул зубы при одном лишь воспоминании. — Вечер скоро… Но надо еще подождать. Лоцман кивнул. Он видел, что китобой, как и он сам, лишь усилием воли сохраняет спокойствие. Тогда, при виде громадных брусьев, сжимавших босые ступни и запястья девушки, при виде тяжелых цепей, Бедан придержал лоцмана за плечо. Они не в силах были оторвать взгляд от скорчившейся, покрытой лохмотьями фигуры, опущенной головы, всклокоченных, слипшихся волос. — Сколько ей лет? — спросил китобой. — Ребенок совсем… Сколько, братец? — Шестнадцать, — хрипло ответил Раладан. Бедан крепче стиснул его плечо. — Как моей старшей… Столько же. Какое-то время спустя они увидели Альбара. Раладан с большим трудом узнал урядника. Грязный плащ… неопрятная борода… Проверив колодки, Альбар несколько раз о чем-то спросил девушку, наконец слегка толкнул ее ногой и ушел, скрывшись в ближайшей хижине. — Это кто? Ну, говори, братец! — требовательно допытывался Бедан. — Гончий пес, — коротко ответил Раладан. Больше они не разговаривали. Потом они лежали поодаль, на песчаном холме. Наступил вечер, за ним ночь. Они продолжали ждать, продрогшие насквозь. — Иди за своими. — Надо еще… — Иди! Бедан поднялся и, пригнувшись, отошел назад. Ветер усилился. Раладан присел и, стараясь согреться, сделал несколько сильных взмахов руками. Вскоре Бедан вернулся, ведя с собой еще двоих. Когда они появились возле столба, девушка подняла голову, и твердая, холодная ладонь необычно мягко закрыла ей рот. Она увидела в черноте ночи очертания склонившегося над ней невысокого человека, а рядом еще несколько теней, отвязывавших цепь и резавших ножами веревки, которыми были обвязаны брусья. Неожиданно девушка расплакалась. Раладан почувствовал, как дрожат под его рукой ее подбородок и губы, а когда ему на палец упала первая горячая капля, у него перехватило горло. Он провел ладонью по мокрой щеке девушки, а когда китобои управились с веревками, раздвинул брусья, взял ее на руки и прижал к себе. Трое молча смотрели на них. — Возьмите ее… Стоявший ближе протянул руки. Раладан подал ему девушку. — В лодку. — А?.. — У меня здесь есть еще… одно дело. — Утром все рыбаки… Ветер сильный, если не сумеем отплыть, то рыбаки утром… — Отнеси ее в лодку, друг. Китобои ушли. Бедан остался. — Иди с ними, Бедан. — Нет, братец. Раладан взял китобоя за руку, но тот вырвал ее. Они немного постояли, потом Раладан кивнул и сказал: — Спрячься. Бедан отошел на несколько шагов в сторону и лег на землю. Раладан сел в точности так, как до этого Ридарета, опершись ногами о колодки, а спиной о столб. Он встряхнул цепью, она звенела все громче, наконец он ударил звеном цепи о землю, потом еще раз. Несмотря на вой ветра, характерный звук, видимо, все же проник внутрь хижины, поскольку дверь внезапно открылась и темная, сгорбленная фигура, ругаясь, подбежала к деревянному столбу. Раладан с каменным спокойствием принял пинок в бок. Затем он медленно встал — и остолбеневший урядник понял свою ошибку… Не говоря ни слова, пират схватил его за плащ. Альбар вырвался и отскочил назад, приглушенно вскрикнув. Он хотел было бежать — но наткнулся на Бедана. Громадный китобой схватил его поперек туловища и слегка придушил так, что вместо крика во мраке ночи слышался лишь сдавленный хрип. Раладан со знанием дела связал между собой куски веревки, которыми до этого были обмотаны колодки, и, сделав на конце петлю, перебросил веревку через торчавший в столбе крюк, на котором обычно вешали сети. Подошел Бедан, неся полузадушенного, извивающегося урядника. Раладан накинул петлю, затянул. Они подтащили дергающееся тело ближе, лоцман обмотал веревку вокруг нижнего крюка. — Ноги. Придержи ему ноги, — бросил он. Урядник хрипел и бился спиной о столб, сжимая руками веревку, охватывавшую шею. Бедан схватил его сзади за лодыжки, придерживая ноги по обе стороны столба. Альбар бился и метался, обезумев от ужаса. Раладан подошел спереди и изо всех сил пнул висящего в пах. — Знаешь, за что? Знаешь? За то… что не знаешь… когда остановиться… — цедил он сквозь зубы, раз за разом пиная выгнувшееся, судорожно напрягшееся тело. Резко запахло испражнениями. Наконец они отошли в сторону и долго смотрели на труп. — Страшный ты, братец, — сказал китобой. — Но… ладно… — Надо возвращаться в лодку. Ладно. Давай тут все приберем. Колодки, цепь и эту… падаль. Лучше, чтобы рыбаки не знали, что здесь… Они работали не говоря ни слова. Уже светало, когда они присоединились к остальным, на юго-восточном берегу острова. Они молча смотрели на лежавшую в лодке, укрытую одеялами девушку. Она спала, подложив ладонь под щеку и приоткрыв рот. Высокий китобой кивнул, увидев зажившую рану на месте глаза. — Дочь пирата, — сказал он. — Так я и думал. Болтали об этом в кабаке. Остальные смотрели то на него, то на Раладана. — Кто это ей?.. — Бедан коснулся пальцем глаза. — Пираты. Раладан повернулся к китобоям: — Она… Бедан поднял руку: — Я же вижу. Если она — пират, то я кит… Он положил руку на плечо лоцмана. — В этом году, — помолчав, сказал он, — киты не приплыли… Странный год, братец. Чувствуешь? Ветер с севера. Странный год, братец. Идет зима. Раладан поднял голову. Действительно, ветер уже не дул с северо-запада. Дуло с севера. Осень кончалась… — Кто-то украл два месяца осени, братец. Идет зима. Как думаешь, весной киты приплывут? А год и в самом деле странный. Лоцман подумал о штормовой волне при безветренной погоде, удивившей их с Раписом, потом о «кашле», зеленых водах Просторов и о китах Бедана, наконец — о закончившейся двумя месяцами раньше осени. Странный год. Что бы это ни означало. — Странный, Бедан. Очень странный год. А весной киты приплывут. Почему-то… почему-то я это знаю. Он покопался за пазухой и достал помятую черную повязку. Наклонившись, он осторожно положил ее возле щеки девушки… Она не проснулась.ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СЕСТРЫ
21
Был душный летний вечер. Вдоль берега моря, по узкой полоске пляжа, не обращая внимания на лизавшие ноги волны, шли двое, ведя, вернее, таща с собой третьего высокого коренастого парня, на разбитом лице которого едва успела засохнуть кровь. Руки парня были связаны за спиной; двое держали его под локти, не щадя ударов и даже пинков, когда он спотыкался или замедлял шаг. Неподалеку располагалась Дорона, самый старый город Гарры, ее столица. Вероятно, трое шли именно оттуда. Куда они, однако, направлялись и зачем трудно было догадаться… Пляж стал шире. Трое остановились. — Уже недалеко, приятель, — сказал один из двоих связанному. Тот сплюнул. Ответом ему был удар кулаком. Они двинулись дальше. Уже почти совсем стемнело, когда перед ними появились остатки строений рыбацкой деревушки. Кругом царила тишина. Место это было давно покинуто и мертво. Когда-то его жители, охваченные странным помешательством, повесились все до единого, в одну ночь… Селение это называли Берегом Висельников. Посреди селения стояла большая хижина, существенно отличавшаяся от других тем, что почти не была разрушена. Один остался с пленником, другой направился прямо к дому. Из-за угла кто-то вышел ему навстречу. Вскоре, уже втроем, они подтащили связанного парня ко входу. Двери открылись, и в них появилась темная фигура, которая посторонилась, впуская гостей, после чего дверь тщательно заперли. Пленник, получив сильный толчок в спину, упал на пол. Несколько мгновений он лежал неподвижно, затем тяжело, неуклюже поднялся. Большая комната была довольно хорошо освещена. На квадратном столе стоял простой канделябр с многочисленными свечами. Маленькие окна были тщательно завешены толстой черной материей, чтобы свет не проник наружу. За столом сидела молодая женщина. Отблеск свечей падал на ее лицо и руки. Она была необычно красива, но в продолговатых черных глазах крылось нечто… недоброе, отпугивающее. Женщина выпрямилась, отбросила со лба прядь темно-каштановых волос и спросила низким, приятным голосом: — Ну как, стоило оно того? Избитый парень шагнул вперед и без тени страха произнес: — Как ты была сукой, так ею и осталась. С такими, как ты, чем реже встречаешься, тем лучше. Женщина чуть приподняла брови. — О! — усмехнулась она. Один из стоявших позади пленника мужчин толкнул его в спину, и тот упал на колени. Он хотел было встать, но его удерживала сильная рука. — Мне нравится твоя смелость, — сказала женщина. — Но у меня слишком мало времени, чтобы ею восхищаться. А жаль. Она встала и прошлась по комнате. — Послушай, мальчик, сегодня ты все равно умрешь, и мы оба об этом знаем. Но ты можешь принять смерть как мужественный человек, с мечом в руке, сражаясь с моими людьми… или как червяк, которого медленно расплющивают в лепешку. В обоих случаях я получу то, чего хочу. Так что я могла бы сказать, что мне все равно, что ты выберешь. Но это неправда. Отпустите его! — неожиданно прошипела она. Державшие парня люди поспешно отступили назад. Он встал. — Но это неправда, — повторила она. — Среди всех человеческих черт я больше всего ценю отвагу, презираю же — глупость. Итак, отвага или глупость? — Все это пустые слова, ничего больше, — был ответ. Она молча смотрела на него. Потом подошла к столу и взяла кусок мела. — Нарисуй мне ту карту. Парень презрительно сплюнул. — Ты давно могла ее иметь, алчная шлюха. Отец верно служил тебе… и я тоже. — Это правда, твой отец был лучшим из моих людей. Жаль, что сын оказался изменником и вором. Пленник вышел из себя. — А чего ты ожидала? — заорал он. — Что я буду и дальше служить убийце своего отца?! В комнате наступила тишина. — Да ты, похоже, с ума сошел, — удивленно проговорила женщина. Парень не ответил. Она села за стол, не спуская с него глаз. — Значит, по-твоему, это я его убила? Твоего отца? И поэтому ты никому не рассказал о сокровищах, поэтому сбежал? Но зачем же мне было это делать? Убивать того, кто мне служит, и служит хорошо? Пленник подошел к столу. — Я считал тебя бешеной сукой, — произнес он сквозь зубы, — но теперь вижу, что ты достойна презрения в сто крат большего… Он сделал еще шаг, но его схватили. Женщина тряхнула головой раз, другой, встала и неожиданно, словно повинуясь какому-то порыву, вытянула вперед палец. — Ты видел меня! Видел меня на корабле, который… — Она схватилась за голову. — Нет, не может быть… Вон! Все вон отсюда! Мужчины переглянулись. — Вон! — снова завопила она. Толкаясь в дверях, они поспешно покинули комнату. Дверь закрылась. — Я его не убивала, — обратилась она к пленнику. — Я его не убивала, а твоя измена… лишь следствие неведения. Что не меняет того факта, что сегодня я должна узнать все о сокровищах. Твое упрямство льет воду на мельницу настоящей убийцы. — Она снова тряхнула головой. — Жаль, негромко добавила она. — К чему вся эта игра? — гневно, с издевкой спросил пленник. Женщина отвернулась, опустив голову. — У меня есть сестра, — сказала она. — Очень, очень похожая на меня.22
Неполных четыре дня спустя в нескольких милях от портового Драна, города не столь старого, как Дорона, но зато пользовавшегося сомнительной славой самого большого сборища подонков и отбросов общества во всей Вечной Империи, невысокий, крепко сложенный человек стучал в дверь одиноко стоявшего на окраине леса дома. Вскоре дверь открылась, и на пороге появилась пышноволосая, одетая в довольно простое серо-зеленое платье женщина. Одного глаза у нее не было. — Раладан, наконец-то! Они вошли в дом. Лоцман стоял, со странной грустью глядя на темные волосы, в которых то тут, то там пробивались серебряные пряди. Она не заботилась о себе: волосы и руки были грязные, платье в пятнах. Ей было неполных двадцать пять лет, но она выглядела намного старше. Угадав его мысли, она отвела взгляд. — Когда-то я была красивая, — горько сказала она. — Ты и сейчас красивая, госпожа, — серьезно ответил он. — Ты просто слишком много размышляешь о делах, которые следовало бы оставить другим. И похоже… — он поколебался, еще раз окинув взглядом грязное платье, растрепанные волосы и тени на лице, — похоже, тебе недостает мужчины. Она посмотрела ему в глаза и, покраснев, прикусила губу. — Это не твое дело. Раладан подошел к массивной скамье и сел. — У меня плохие новости, — сообщил он. Она подошла к нему: — То есть? — Сокровища нашли, госпожа. Она сделала еще шаг, но он поднял руку: — Те люди служили ей. Это совершенно точно. Ридарета поднесла руку ко лбу и села рядом с Раладаном. — Значит… случилось самое худшее? — Не знаю. Может быть, еще нет. Я убил человека, который стоял во главе экспедиции. Однако мне неизвестно, только ли он один знал тайну. Наверняка он не выдал ее своей команде, поскольку только безумец мог бы довериться сотне людей. Но у него был сын. Сын сбежал, и я не знаю, где он. Ридарета покачала головой. Лоцман развел руками: — Боюсь, госпожа, у нас слишком мало времени, чтобы я мог тебе все подробно рассказать. — Не в этом дело. Снова кто-то погиб, Раладан. Того человека, твоего капитана, нет в живых уже восемь лет, но до сих пор все то, к чему он притрагивался при жизни, приносит смерть другим. „Кто-то? — подумал Раладан. — Почти сотня… Разве что юный Берер спасся — если он хороший пловец…“ — Послушай, госпожа, на этот раз в этом виноват не Демон, но ты сама, сухо проговорил он. — Я ведь говорил, что сокровища надо забрать. Хотя бы затем, чтобы выбросить потом в море. До тех пор, пока существует это золото, будут гибнуть люди. Но ты не желаешь иметь ничего общего с Демоном и его наследством… — Хватит, Раладан, — прервала она его. — Мы уже говорили об этом сто раз. — Говорили. Но никогда твое бездействие не приносило столько вреда, как сейчас. Подумай, что случится, если сокровища попадут именно в ее руки. — Он встал. — Мне нужно возвращаться на корабль, госпожа. — Что еще за корабль? — Пиратский, под командованием Красотки Лерены. Так ее зовут. Рука, отбрасывавшая волосы со лба, неподвижно застыла. — Я все тебе объясню, госпожа, но не сейчас. Если во всей этой истории и кроется какая-то опасность, то проистекает она лишь из того, что я здесь. Поэтому мне нужно уходить. Слушай внимательно: в Дране есть таверна, которая называется „У Шкипера“… — Да. — Завтра вечером сними там комнату, а на дверях сделай мелом маленькую отметку. Я появлюсь там к ночи. Тогда поговорим спокойно. Они коротко попрощались. Она долго стояла на пороге, глядя ему вслед. Он не оглянулся… Она медленно вернулась в дом. Было уже темно, когда Раладан добрался до большого пузатого барка, пришвартованного у портовой набережной. Игравшие в кости у трапа бандитского вида детины подняли головы, услышав шаги, но, узнав в свете смоляного факела лоцмана, снова занялись игрой. Раладан прошел мимо них, поднялся на палубу и направился на корму, где находились помещения для офицеров. На палубе спали вповалку матросы, из какого-то угла доносились стоны одной из корабельных шлюх. Однако на корабле царило относительное спокойствие, что бывало довольно редко, но объяснялось тем, что большая часть команды развлекалась этой ночью на берегу. Идя почти на ощупь, Раладан увяз в груде каких-то тряпок, веревок и прочего мусора. Обычно он скрывал свои чувства, но на этот раз никто его не видел, и лицо его исказилось от гнева. Если бы подобное мог увидеть Рапис! Такой корабль! Человек десять повисло бы на рее, а остальные ногтями отскребали бы грязь с палубы. Со дня смерти Демона минуло уже восемь лет, но он до сих пор о нем вспоминал. Наконец он освободил ногу из ловушки и двинулся дальше, спотыкаясь и обходя спящих. Его потрясало — впрочем, уже не в первый раз, — сколь грязны и неухожены корабли, которыми командуют женщины. Он знал барк Пурпурной Алагеры с тех времен, когда ходил еще на „Змее“, видел купеческий корабль, которым командовала — по слухам — дочь владельца. Наконец, он слышал о небольшом фрегате, во главе команды которого стояла, впрочем весьма недолго, протеже какой-то высокопоставленной особы (в Армекте служили в войске многие женщины, в отличие от других краев империи, где женщина-солдат была редким явлением). И теперь, уже год с лишним, Раладан снова видел корабль, капитаном которого была женщина. Матросская братия обожала Лерену, зеленоглазую шатенку с платком на шее, прямо как из сказки о пиратах, но вместе с тем Лерена была для команды скорее собачкой или птичкой, приносящей удачу, скорее корабельной игрушкой, нежели капитаном. Перед ней вытягивались в струнку, с суровыми лицами, подобно добрым дядюшкам, которые слушают мальчишку, изображающего сотника морской гвардии. Но, стоило ей уйти, над ней посмеивались — тихо, добродушно, даже не думая об отданных ею приказах. „Это еще чудо, — подумал лоцман, — что этот корабль вообще не пошел ко дну во время какого-нибудь шторма, не разбился о скалы или не попался морской страже. Просто чудо“. Впрочем, чудо это часто носило вполне определенное имя — Раладан… Из-под двери каюты Лерены пробивался тусклый свет. Слышались какие-то неясные голоса. Он постучал. Голоса смолкли. — Пошел прочь! — крикнула она из-за двери. Сразу же за этим последовал взрыв смеха. — Это Раладан, госпожа, — сказал лоцман, снова постучав. Наступила тишина, затем снова послышались неясные голоса и какая-то возня. В другой раз он, возможно, был бы более терпелив, но сегодня он виделся с Ридаретой, отчего ему в голову сразу же пришла мысль о Демоне, воспоминания о котором столь контрастировали с повседневной жизнью корабля Лерены, что Раладан стоял словно на раскаленных углях. Наконец дверь приоткрылась, и сквозь щель выскользнули двое рослых матросов. Один из них застегивал штаны, и при виде этой картины в Раладане все закипело. Неожиданно он совершил нечто совершенно чуждое своей рассудительной и хладнокровной натуре — развернувшись, пнул матроса под зад с такой силой, что тот, запутавшись в штанах, налетел на товарища, и оба с грохотом рухнули на палубу. Раладан сплюнул и вошел в каюту. Лерена сидела на столе, поправляя волосы. Грязная, драная рубашка едва прикрывала большие, крепкие груди. — Что за шум? — спросила она. — Твой жеребец получил пинка под зад, — со злостью ответил Раладан. Ради всех сил, когда ты, наконец, перестанешь быть шлюхой и начнешь быть капитаном? Лерена вытаращила глаза, оставив в покое свои растрепанные, спутанные волосы. Он глубоко вздохнул. Ее взгляд неожиданно изменился: ему приходилось видеть подобный блеск в глазах Демона, ее отца. Да, она была куклой и игрушкой для команды, но в такие мгновения никто не отваживался ей перечить. Раладан почувствовал, что перегнул палку. Она соскочила со стола и схватила ремень, лежавший на грязной, скомканной груде тряпок, служившей ей постелью. Лоцман уклонился от первого удара, но второй пришелся ему прямо в лицо. Будь у нее под рукой меч, ему тоже пришлось бы достать оружие или позволить себя убить. Он прикрыл голову локтем. Неожиданно она махнула рукой и чуть улыбнулась. — Когда-нибудь я тебя убью, — пробормотала она. Он коснулся красной полосы на лице. Лерена снова уселась на стол и, глядя ему прямо в глаза, завязала волосы платком. — Пока что, однако, ты мне нужен. Но не называй меня шлюхой. Никогда! крикнула она. Он уклонился; подсвечник с горящей свечой ударился в стену совсем рядом. Горячий воск брызнул ему на щеку. Она была совершенно непредсказуема; он знал ее с детства, но не в силах был понять, каким будет ее настроение в следующий момент. — Ну что? — спросила она. Раладан поднял подсвечник, повертел в руках и поставил на стол. Остатки свечи упали на пол. — Я был у нее, — ответил он. — Знаю. Ну и что? Он сунул пальцы за пояс и встал чуть покачиваясь. — Думаю, все в порядке, госпожа. Она все еще уверена, что я ей служу. Они помолчали. Лерена слегка нахмурилась. — Знаешь, Раладан, — задумчиво проговорила она, — порой мне кажется, что это действительно так. — Что ты хочешь этим сказать, госпожа? Она покачала головой: — Ничего. Но я все еще помню, что ты убил Берера. Вопреки приказам, вопреки здравому смыслу. — Я защищался. Кроме того, карта у нас… — Да. Карта какого-то острова. — Она внимательно смотрела на него. Ну хорошо. Дальше. — Завтра вечером я встречаюсь с ней „У Шкипера“. Встреча должна быть тайной. Я делаю вид, будто действую за твоей спиной. Найти ее я должен в комнате, на двери которой будет сделанная мелом отметка. — Завтра вечером, — задумчиво повторила Лерена. — Значит, мы выйдем в море только послезавтра утром. Как я вижу, ты не слишком торопишься. Неужели ты не понимаешь, что комендант здешнего порта не видит пиратского корабля лишь потому, что взгляд ему застилает блеск моего серебра? Каждый день стоянки обходится мне в целый мешок! — со злостью бросила она. — Имей это в виду! Он молча кивнул. — Ты в самом деле уверен, что она не знает, где сокровища? — спросила Лерена. — Не знает. Она до сих пор считает, что они на том острове, о котором я тебе говорил. И она до сих пор думает, что кроме нее только я знаю, где это. Я сказал ей про Берера, но это, конечно, не был ее человек. Лерена пожала плечами: — Я лишь хотела удостовериться. — Она медленно ходила вокруг стола. Зачем ты все так запутал? Какова твоя цель? Раладан поморщился: — Мы об этом уже говорили… Подумай, госпожа. Пока она верит, что никто не знает, где спрятаны сокровища, она не будет пытаться их достать. А именно этого мы и боялись. — Это ты боялся, — поправила она. — И честно говоря, до сих пор не понимаю почему. Ну оказалось бы, что сокровищ нет. И что? Ты говоришь, она начала бы искать сама. Я об этом тоже думала. Ведь у нее нет никаких возможностей заниматься подобными поисками. — Есть, госпожа, и немалые. Ты прекрасно это знаешь. Она пожала плечами. Груди ее пружинисто подпрыгнули. Ее формы, ее пустая, бездумная, вызывающая красота усыпляли бдительность; он старался об этом не забывать. — Бесстрашный Демон, — сказал лоцман. — Он до сих пор существует, госпожа. И это не ты находишься под его опекой, могущественной опекой, а она. Он удовлетворенно смотрел, как лицо ее искривилось в злобной гримасе.23
За ним следили, именно так, как он и предполагал. За ним следили, когда он шел на первую встречу с Ридаретой, следили и теперь, по пути к таверне. Раладан подумал, что шпионы у Лерены исключительно тупые и никуда не годные. Сама она, однако, тупой отнюдь не была. Может быть, чересчур самоуверенная, но наверняка не тупая. Он знал, он был глубоко убежден в том, что она сама придет, чтобы подслушивать его разговор с Ридаретой из соседней комнаты. Она сошла на берег еще до него якобы затем, чтобы собрать сведения о грузах, которые забирали из Драна торговые суда, во что он, естественно, не верил. Она ему не доверяла, это было очевидно. Но он не удивлялся. Будь он на ее месте, у него тоже возникли бы сомнения, и немалые. И он не стал бы никому доверять, во всяком случае тем, кто выдавал себя за его друзей… Вскоре он был уже в таверне, перед дверью, на которой виднелся условный знак. Он постучал. — Это Раладан, госпожа, — негромко произнес он. Когда она открыла, он вошел и сразу же задвинул примитивную щеколду. — Не знаю, подходящее ли это место для разговора, — сказала Ридарета. — Единственное, госпожа, — ответил он. — Отсюда недалеко до порта, а я не могу долго отсутствовать на корабле. — Ты снова куда-то спешишь… — Увы. Так что перейдем к делу. Я расскажу тебе в нескольких словах, госпожа, как я оказался под командованием твоей дочери и что я намереваюсь делать. Они сели на шаткие табуреты возле стола, сколоченного из грязных досок. Тусклая коптилка едва освещала их лица. Раладану довелось за свою жизнь побывать во многих подобных комнатах. Но эта неуклонно вызывала в памяти образ той, которую он снимал восемь лет назад — в Ахелии. — Помнишь, госпожа, как я делился с тобой своими опасениями, когда после всего лишь трех месяцев беременности появились на свет твои дочери? Ты меня не слушала, видимо, и позже не внимала предупреждениям и советам, не желала видеть, что твои дети не такие, как все, что каким-то образом… Имя твоей дочери… — Ты что, пришел, чтобы меня этим попрекать? — угрожающе спросила Ридарета. — Кажется, у тебя мало времени?.. Он тряхнул головой. — До сих пор не понимаю, — сказал он, словно про себя, и добавил, уже громче: — Нет, я тебя ни в чем не упрекаю. Я просто напоминаю, госпожа. Чтобы тебе легче было кое-что понять. — Что я должна понять? — прервала она его с неподдельной злостью. — Что я — мать чудовищ? Я это уже понимаю. Хватит, Раладан! Он внезапно встал и прошелся по темной комнате, засунув ладони за пояс. Его не слишком волновал ее гнев. — Помнишь тот день, когда они ушли? Тогда… это я все устроил… Лерена действительно слушала их разговор. Раладан был прав, полагая, что вывозимые из Драна товары мало ее интересуют. Она сидела в соседней комнате, вернее, лежала опираясь на локоть. Голова ее находилась возле довольно широкой щели, которая была сделана в стене таким образом, чтобы из помещения рядом ее не было видно. Ее заслоняла койка. Лерена позаботилась о том, чтобы, когда Ридарета появится в таверне, свободна была лишь одна комната… Раладан не был глуп, напротив, ума ему было не занимать. Однако он недооценил ее хитрость и сообразительность. Она ему не доверяла. Даже тогда, когда в соответствии с заключенным ранее договором он явился на борт „Звезды Запада“, чтобы служить под ее началом. Однако она считала, что лучше будет взять его к себе на корабль и делать вид, что она верит в его лояльность, чем создавать себе явного врага, действия которого будут ей неподконтрольны. Конечно, она могла просто его убить. Но ей нужен был такой лоцман. А кроме того… даже прежде всего… она была в нем заинтересована. Было время, когда она почти ему поверила. Именно тогда, когда он принес весть об экспедиции Берера, капитана Берера. Весть была правдивой, и Берер почти привел их к сокровищам. Вот именно: почти… Они опоздали, Берер уже возвращался. Ночью они подстерегли его корабль — но капитан погиб в бою. Правда, им в руки попала карта, карта острова, где были спрятаны сокровища, но таких островов было на Просторах множество — сотни, а может быть, тысячи… Хотя пространство, где следовало искать, было само по себе не столь обширно, — так или иначе, это означало поиски наугад. Тогда она поняла, что именно к тому и шло. Она стала орудием в руках Раладана. Они опоздали вовсе не случайно. Раладан — даже если он и в самом деле не знал, где спрятаны сокровища — просто не собирался допустить, чтобы тайну раскрыл кто-то другой. Первым ее желанием было заставить лоцмана рассказать правду: кому он служит? Знает ли он, где сокровища? Однако, поразмыслив, она передумала. Она знала Раладана достаточно давно и достаточно хорошо, чтобы быть уверенной, что он скорее умрет под пытками, чем в чем-либо сознается. Они отправились в Дран, так как Лерена хотела проверить, не строит ли Ридарета каких-либо опасных планов. Она боялась этой женщины. Боялась тем сильнее, чем больше пыталась убедить себя в обратном. Когда Раладан пошел к Ридарете, Лерена приказала за ним следить. Он это заметил. С этого момента оба вели все более рискованную игру, стараясь перехитрить друг друга. Наконец она поняла, что лоцман хочет, чтобы она подслушала его разговор с Ридаретой! Судя по тому, что он сказал ей на корабле, это должно было быть лишь представление, разыгрываемое для Ридареты… Она поняла, что это вовсе не представление! Зная, что его будут подслушивать, Раладан хотел, чтобы все, что он будет говорить, воспринималось как ложь, — это был единственный способ передать Ридарете необходимые сведения. Она оценила искусное построение его плана. Раладан был человеком весьма опасным. Теперь же она лежала, приложив ухо к щели в стене, и внимательно слушала. Ридарета нахмурилась. — Не понимаю, — сказала она почти шепотом. — Я заключил договор с твоими дочерьми, госпожа, — объяснил Раладан. В ту ночь я в самом деле спас тебе жизнь… прости, что я об этом вспоминаю… но ей угрожал не огонь. Твои дочери хотели тебя убить. Я убедил их, что тень Раписа отомстит за твою смерть, что она будет означать утрату каких-либо надежд на то, что удастся завладеть сокровищами, ибо этого не допустит Черный Призрак в море. Впрочем, думаю, я был недалек от истины. Она ошеломленно молчала. — Я предложил им свои услуги на будущее. Я помог ей обрести… определенное положение в Дороне. А год назад я поступил под начало Лерены. Ридарета продолжала молчать. — Странно… все это, — наконец прошептала она. — И невероятно. Но… почему ты говоришь мне об этом только сейчас? Раладан помрачнел. — Я думал, что так будет лучше. Или и ты, госпожа, мне не доверяешь? Во имя Шерни, как все это мерзко… — горько проговорил он. — Я верю тебе, Раладан, — прервала она его. — Да, верю! Но… зачем же в таком случае был нужен тот пожар, если вы решили, что я должна жить? Не понимаю! — Они хотели, чтобы я оказал тебе услугу. Услугу, которая обязала бы тебя всю жизнь благодарить меня и верить мне. — Чтобы ты оказал мне… услугу? После всего, что ты для меня сделал? — Ты говорила им когда-нибудь об этом „всем, что я для тебя сделал“? Она кивнула: — Правда, мы… хранили это в тайне. — Вот именно. Думаешь, у меня все эти делишки на лбу написаны, госпожа? — Не называй это „делишками“. — Они и есть темные делишки… Ты знаешь мое прошлое, пирата и бандита… — Он с мрачной усмешкой смотрел на нее. — Я убил немало народу. В бою. Но лишь раз в жизни мне пришлось быть тайным убийцей. В соседней комнате хмурилась Лерена. Она не понимала… До сих пор она полагала, что в прошлом этих двоих нет никаких тайн. Впервые ей пришло в голову, что все может быть не столь просто… что между смертью отца и появлением Ридареты и лоцмана в Дране могло быть нечто большее, нежели лишь путешествие на шлюпке… Но ведь Раладан знает, что она все слышит! Зачем же он теперь сообщает ей об этом?! Она перестала вообще что-либо понимать. — Сокровища необходимо забрать, и как можно скорее, — сказал Раладан. Место, где они находятся сейчас, перестало быть безопасным. Нужен будет корабль, госпожа. Корабль, который потом пойдет ко дну вместе со всем золотом, которое успел накопить Демон. — Ты прекрасно знаешь, что у меня нет корабля. — Значит, нужно его купить. Разреши мне взять часть сокровищ и использовать золото для покупки корабля. — Почему ты спрашиваешь моего разрешения? — Потому что это твоя собственность, госпожа. Наследство твоего отца. Глаза лежащей в соседней комнате девушки широко открылись. Она оперлась лбом о стену. Она поняла.24
Пришвартованный у набережной барк чуть покачивался. Слышалось лишь негромкое поскрипывание канатов. — Поговорим откровенно, Раладан, — сказала Лерена, поднимая кружку. Она выпила половину ее содержимого и тряхнула головой. Лоцман тоже сделал глоток. Ром потек в желудок. — Утомила меня эта странная игра, — продолжила она. — Честно говоря, я ожидала, что ваша беседа „У Шкипера“ пойдет иначе. Ведь тебе, конечно, известно, что я ее слышала? Чуть подумав, он кивнул. — Раладан, — тихо спросила Лерена, — это правда? — Она смотрела ему прямо в глаза. — Это правда, что мой о… Демон… и ее отец тоже? выдавила она сквозь зубы. — Это правда? — Да, госпожа. Лерена ударила рукой о стол. — Шернь! — бросила она. Неожиданно она встала и долго стояла неподвижно, наконец медленно села снова. — Я жду объяснений, Раладан, — спокойно проговорила она, но голос ее звучал зловеще и холодно. — Если они меня не удовлетворят… Она достала меч и положила себе на колени. Раладан знал, что мало кто умеет владеть им так, как она. Возможно, это был талант, унаследованный от… Эхадена? — У меня достаточно терпения, — все с тем же угрожающим спокойствием добавила она. — Итак, все по порядку, Раладан. Он искал взглядом что-то на дне кружки с ромом. — Ты слышала, что я ей предложил. Забрать часть сокровищ, купить корабль и потопить его вместе с остальными. — Значит, ты знаешь, где на самом деле находятся сокровища? Он покачал головой: — Так мне казалось… когда-то. Я ошибался. — И я должна этому верить? — Послушай, госпожа, если бы я и в самом деле знал, где сокровища, я давно бы уже их имел. Я человек, не камень, а, пожалуй, лишь каменное изваяние могло бы устоять против желания обладать таким богатством. Там шесть сундуков, полных любых монет, начиная от медяка и кончая тройным золотым, драгоценностей, золотых и серебряных украшений и подсвечников; в двух из этих сундуков — один лишь ллапманский фарфор… Есть там и четыре Брошенных Предмета, по-видимому Черные Камни с Побережья. А еще — весь груз громбелардских кольчуг, шлемов и мечей, который шел морем в армектанскую Рапу… Лерена побледнела. — И как давно ты обо всем этом знаешь? — Еще там есть дартанские вазы, каждая из которых стоит целое состояние. Целые кипы шелка. Дартанские турнирные доспехи и старинные шлемы с родовыми драгоценностями; я сам их когда-то выносил из дворцов, после того как мы сожгли порт в Лла. Каждый из этих шлемов стоит несколько сотен золотых. Чего ты еще хочешь, госпожа? Они пристально смотрели друг на друга. — Перед смертью Демон поручил мне опекать ее… свою дочь. И это правда. Лерена молчала. — Он также и твой отец, если ты хочешь это знать. Это тоже правда, добавил он, пожав плечами. Она медленно кивнула, прикрыв глаза. — Отвратительно… — прошептала она. — После смерти Демона много чего случилось. Это ложь, что мы сбежали на шлюпке с „Морского Змея“ и добрались до Драна. Она хотела, чтобы так думали вы. На самом деле мы были на „Змее“ до того самого мгновения, когда его сожгли островитяне. Им командовала Ридарета. — Она командовала „Морским Змеем“? — Да. Ее вынудили к этому обстоятельства — но командовала. Потом мы оказались на Агарах. Мне пришлось убить не одного человека, чтобы спасти твою мать. — И сестру… — мрачно добавила Лерена. — Ради Шерни, я тебе не верю. Все это… — Она замолчала, сглатывая слюну. — Ты слышала, что я говорил „У Шкипера“. Говорил именно затем, чтобы убедить тебя. Она молчала. — Я был в долгу перед Демоном и честно с ним рассчитался. Но сокровища? Она их не хочет. Я думал, что знаю, где их искать, но ошибся. Я знаю об этом уже пять лет. Я надеялся, что, плавая на твоем корабле, я смогу самостоятельно продолжать поиски. Но мне не хватило времени. Берер нашел сокровища. Я убил его, поскольку, начни он говорить, ты получила бы сокровища, а я не получил бы ничего. — Почему ты не рассказал обо всем раньше? — Ты бы мне не поверила. Но мы пришли сюда… а здесь — она. Разве тот разговор „У Шкипера“ не доказательство? Твои люди или ты сама слышали каждое слово, которым я с ней обменялся с тех пор, как мы пришли в Дран. Ты прекрасно знаешь, что все это не могло быть спланировано заранее. Я хотел, чтобы ты собственными ушами слышала, как Ридарета подтверждает мои слова. Так и произошло. Я открыл тебе ее самые сокровенные тайны. А теперь я хочу, чтобы ты поверила, что сокровищ больше нет. По крайней мере, с этой стороны опасность перестанет нам угрожать. А она велика. Ридарета не желает помощи со стороны Демона, но если она когда-нибудь ее потребует… Я видел остов „Морского Змея“, госпожа. И больше не хочу его видеть. Лерена встала. Расхаживая по каюте, она машинально забавлялась мечом, перебрасывая его из руки в руку. Наконец она остановилась. Оружие медленно повернулось в воздухе и возвратилось в ее ладонь. — Объединим усилия, госпожа. Тебе нужен лоцман, а лучшего, чем я, не найдешь… И мне кажется, я знаю о сокровищах больше, чем кто-либо другой. Легким движением она отбросила меч. Клинок воткнулся в стену. — Я тоже так думаю. — Она взяла кружку и опорожнила ее до конца. Почему бы нам ее не убить, Раладан? — Я уже говорил. Черный Корабль все еще плавает по Просторам. Если хочешь — убей ее сама. Но моей ноги больше не будет на палубе ни единого корабля. Ты еще не видела остова „Морского Змея“? Если хочешь увидеть убей ее. Она яростно швырнула кружку на пол, но тут же опомнилась. — Расскажи мне все, — потребовала она. — Еще раз. По порядку. Большой, приземистый барк глубоко сидел в воде. Высунувшись за борт, Раладан смотрел на бившие о борт волны. Не слишком хороший корабль. Пиратский парусник должен быть быстрым и изворотливым; хорошо, когда он большой, но не ценой маневренности. „Морской Змей“… Он снова вспомнил Демона и его каравеллу. Вот это был корабль! Огромный, быстрый. А какие паруса! Настоящий военный корабль, не какая-то там „Звезда Запада“… Один раз им повезло — ночью, с кораблем Берера. А так… Все их пиратство до сих пор сводилось к охоте на рабов. „Звезда Запада“ не нападала на другие парусники по той простой причине, что не могла ни один из них догнать. А спасали ее не скорость и маневренность, не ночные смены курса, как это обычно делал Рапис, но лишь сила, тупая и бессмысленная, заключавшаяся в численности команды. Уже три раза им приходилось сталкиваться с имперскими кораблями. Первый раз — фрегат, команду которого подавили одним лишь численным перевесом. Потом — небольшая каравелла, которая даже не вступила в бой, увидев размеры парусника. Каравелла шла за ними следом, им не удавалось оторваться, несмотря на многочисленные попытки. Лишь короткий, но внезапный шторм разделил корабли. Потом — снова фрегат… Раладан потопил его, заведя „Звезду“ в лабиринт подводных скал и мелей. Барк Лерены преодолел его целым и невредимым. Корабль стражи погиб. Так что пока им везло. „Пока, — мрачно подумал Раладан. — Пока мы не наткнемся на эскадру, против которой полутора сотен человек уже не хватит. Или до ближайшей облавы“. Он бросил взгляд на неумело поставленный парус и мысленно выругался. Потом посмотрел в сторону кормовой надстройки. Человек двадцать с веселыми песнями пили там ром. Кто-то остановился у него за спиной. Обернувшись, он увидел Лерену. — Ну что, лоцман? Он пожал плечами: — Посмотри сама, госпожа. Пока что они поют, но потом перепьются, начнется драка, и опять кто-нибудь погибнет. Я говорил об этом уже сто раз. Но до сих пор ты так и не сказала, почему ты им это позволяешь. Может быть, сегодня ответишь? — Ты все больше наглеешь, Раладан. — Наглею? Наглею, госпожа? В таком случае, может быть, я был бы не столь наглым, если бы хлестал ром, может быть, устроил бы драку и кого-нибудь прирезал? Посмотри на них: разве не наглость то, чем они занимаются на глазах у капитана корабля? Она кивнула и оперлась о фальшборт рядом с ним. — Хорошо, сегодня я расскажу. Этих людей нещадно били на всех кораблях, где им довелось служить. Ради поддержания дисциплины. Им приходилось жрать всякую дрянь, а за пьянство их лупили до потери сознания. И они пришли ко мне, потому что здесь все иначе. — Ну да, конечно иначе! — Он издевательским жестом показал на висевшую на мачте тряпку. — Это что, парус? Мы теряем скорость, не говоря уже о том, что корабль едва слушается руля. Эти пьяницы даже забыли, как вязать узлы. На других кораблях, госпожа, они служили за гроши. Здесь они служат за золото. Этого достаточно, чтобы всегда хватало желающих к тебе в команду. — Может быть. Но я не хочу, чтобы они служили мне только ради золота. Смотри, Раладан. Эти парни пьют за мое здоровье. С кормы ее действительно заметили, и кто-то рявкнул: „Да здравствует!“ Несколько пьяниц подхватили его возглас, как, впрочем, они подхватили бы и любой другой. Остальные затянули песню о портовой шлюхе, кто-то требовал слова, кто-то — рома. Но она слышала лишь то, что желала услышать, и Раладан понял, что от его замечаний не будет никакого толку. Он попытался еще раз. — Твой отец, госпожа… — сказал он, зная, как хочется ей сравняться с ним славой. — Мой отец, — перебила его Лерена, — был королем всех морей, Раладан. Но я — его дочь, Раладан, кровь от крови. И мне незачем ему подражать. Я сама знаю, как мне поступать, чтобы стать достойной продолжательницей его дела. И не мешай мне, если не можешь помочь. Он кивнул: — Однако у тебя есть сестра, госпожа. Тоже кровь от крови Демона. Насколько я знаю, она во многом ему подражает. Она нахмурилась, но тут же пожала плечами. — Риолата? — усмехнулась она. Лоцман невольно вздрогнул. Это имя навлекало несчастье на каждого, кто его произносил. Безнаказанно это могла делать только Лерена. И Ридарета. — Риолата… — задумчиво повторила она. — Я люблю ее, Раладан, я чувствую ее радость и горе. Но лишь одна из нас может быть наследницей отца. Если Риолата совершает ошибки… что ж, тем короче будет наше соперничество. Лоцман не ответил. — Куда мы идем, госпожа? — помолчав, спросил он. — Куда глаза глядят? Я спросил бы у первого или второго помощника, но ты их до сих пор не назначила, — позволил он себе еще одну колкость. — Хорошо, что хотя бы кок у нас есть. Лерена громко рассмеялась: — И лоцман, не так ли? Сегодня в самом деле хороший день! И лишь потому я пропускаю мимо ушей все твои намеки. Но пусть этот будет последним. Мы идем в Дорону, Раладан. Мне нужно знать, был ли Берер единственным псом Риолаты.25
— Пока слишком рано раскрывать все мои планы, — рассмеялась Риолата, но тут же посерьезнела, задумчиво глядя на собеседника. — Хотя остался всего лишь год… Она помолчала. — Ладно, Аскар! — наконец сказала она. — Может, стоит все-таки хоть кому-то полностью доверять? — Я тебя не подведу! — с жаром заверил тот. — Конечно не подведешь… — Однако она тут же посмотрела на него с тем холодным презрением, которого он не выносил. — Хотя, даже если ты меня и подведешь… помешать все равно не сумеешь. Даже если ты начнешь трубить на весь свет о том, что сегодня услышишь, кто тебе поверит? Впрочем, долго бы это все равно не продлилось… — Не подведу, — мрачно повторил он. — Можешь меня не пугать. — Хорошо, тогда слушай или, вернее, смотри. — Она подошла к стоявшему у стены большому сундуку и, подняв крышку, достала продолговатый тяжелый сверток, положила его на стол и развернула промасленные тряпки. — Знаешь, что это? Аскар удивленно посмотрел на таинственный предмет: — Оружие? — Оружие, — довольно повторила Риолата. — Огнестрельное оружие, такое же, как пушка. Но, как видишь, небольшое. Он кивнул: — Знаю. Я слышал, что где-то уже пробовали пользоваться чем-то таким. Кажется, в Армекте… Или в самом Кирлане?.. — Да, пробовали. И пришли к выводу, что оно никуда не годится. Аскар провел рукой по железу. Он любил оружие. Его легионеры всегда заботились о своем оружии, благодаря чему, а также дисциплине и превосходной выучке его гарнизон недавно был признан лучшим во всей провинции. — Так оно и было, — подтвердил он. — Боюсь, что… — Не бойся, Аскар. Посмотри, — она показала пальцем, — это упор. У того оружия его не было. Банда придурков, ненавидящих все новое, отказалась от этой идеи, вместо того чтобы ее развить… Он слушал ее, все более заинтригованный. — А ведь пуля, выпущенная из этого оружия, пробивает любой панцирь и щит. Ты видел когда-нибудь щиты имперской тяжелой пехоты? — пошутила она. Аскар усмехнулся. Такие щиты носила половина его солдат. — Арбалетная стрела их тоже пробивает, — продолжала она. — Но она застревает и дальше уже не летит. Пуля же из этой пищали… — Как, когда и против кого ты собираешься ее использовать? Она снова улыбнулась, увидев блеск в его глазах. — По порядку. — Она снова подошла к сундуку. — Сначала — как. Она достала нечто напоминавшее доску с вырезом наверху и поставила на пол, подперев двумя прочными палками. — Это козлы, на которые ставится упор. — Она показала на ружье. — Таким образом уменьшается тяжесть оружия, выстрел более меток, и стрелок может после него устоять на ногах. В поле необходимы два человека: один несет две пищали, второй — козлы. На ровной местности оружие можно перевозить на повозках. В крепости козлы не нужны, достаточно проемов на стенах. А теперь подумай, что можно сделать, имея двести пищалей для стрельбы в поле и еще двести для защиты крепости? Аскар покачал головой: — Надо бы попробовать… Но если все действительно так, как ты говоришь, то дай мне десять таких штук, и я обучу тебе две сотни человек за три месяца. — Именно на это я и рассчитываю. — Но откуда ты собираешься взять столько оружия? — спросил он. — Десяти штук хватит лишь для обучения, но не более того. — Есть один человек, который сделает пятьсот, — естественно, за соответствующую плату. Честно говоря, сто у меня уже есть. До конца года я получу еще столько же. А что касается остальных двухсот, более крупных и тяжелых, для обороны стен — это уже не столь срочно. Аскар взял пищаль и, повертев ее в руках, примерил к козлам. — Козлы должны быть сильнее наклонены, — пробормотал он. — И шире, немного шире, тогда они лучше будут защищать от вражеских стрел… Конечно, они будут тяжелые, но можно прибить здесь и здесь широкий кожаный пояс, чтобы носить их на спине. Или два покороче, для ношения на плечах. Риолата внимательно наблюдала за ним. — Ты получишь двадцать пищалей и триста человек. Выбери из них двести, а из этих двухсот еще сто самых лучших и сделай из них стрелков. Для второй сотни будет достаточно, если они будут хотя бы немного знакомы с оружием, главное же — чтобы они могли бегать с этими козлами. Впрочем, делай что хочешь. Я знаю, что во всей провинции никто не обучит этих людей лучше, чем ты. Он медленно положил оружие. — Хорошо. Мне нужно найти подходящее место. Обучение такого количества людей неизбежно привлечет внимание. — Тебе дадут отпуск? Три месяца — ведь столько тебе нужно, так? — Да. Осенью. Вернутся все корабли, легион будет усилен морской стражей. Вряд ли я буду нужен в гарнизоне. — Прекрасно. Значит, в твоем распоряжении вся осень. А место уже есть. — Какой-нибудь остров? — Именно. Она убрала пищаль и козлы. — Ты меня удивила, — признался Аскар, беря из ее рук кубок с вином. Надо полагать, это не все твои сюрпризы, верно? Я должен был еще услышать… — Когда и против кого. Сейчас скажу. Через год. Против имперских солдат. Будет восстание. Аскар чуть не выронил кубок. Он глубоко вздохнул: — Не может быть… Откуда ты знаешь, ради Шерни?! Откуда ты можешь знать? Она не ответила. Восстание! Но это было, было возможно… Даже весьма вероятно! Из всех краев, подвластных Армекту, труднее всего было удержать в повиновении именно Гарру и Острова. По очень простой причине: покоренные ранее Дартан и Громбелард граничили с Армектом. Здесь же было море. И притом море неспокойное, каждую осень превращавшееся в непреодолимое препятствие. Каждый год на три месяца Морская Провинция, как ее иногда называли, была отрезана от континента. В отличие от дартанцев, которые от присоединения к Армекту больше приобрели, чем потеряли, и полудиких громбелардских народов, гаррийцы, когда-то имевшие собственное достаточно развитое государство, крайне болезненно воспринимали неволю. Намного меньше хлопот доставляло население Островов. Островитяне вообще никого не любили, традиционно занимаясь рыболовством или пиратством, — от второго их занятия когда-то изрядно досталось как гаррийцам, так и армектанцам… Было время, когда на южных берегах Армекта селились одни лишь морские птицы… Однако после присоединения Островов к империи пиратство, хоть и докучавшее властям, перестало быть политической проблемой. Кто-то тем не менее позаботился о том, чтобы проблема возникла снова: два народа, не выносившие друг друга, посадили в один мешок, создав Морскую Провинцию, общий край островитян и гаррийцев. Дело было не столь пустячным, как могло бы показаться. Для гаррийца, который бледнел, когда его называли островитянином; для гаррийца, который свято верил, что Гарра — часть континента, когда-то оторванная Шернью, чтобы освободить ее избранных сынов от всех мерзостей этого мира; для гаррийца, который считал жителей Островов зверями, а армектанцев — полулюдьми, дело было вовсе не пустячным. Тем более что вскоре оказалось, что островитяне очень хорошо себя чувствуют под „опекой“ империи, которой требовались именно такие моряки и солдаты, знавшие язык и местные обычаи. В крышку гроба был вбит последний гвоздь: „дикари“-островитяне в желтых мундирах и под желтыми парусами встали на страже интересов Кирлана, надзирая за гаррийцами… Так что в итоге в огонь лишь подлили масла. До сих пор лишь два гаррийских восстания были по-настоящему опасными, остальные же представляли собой одиночные вспышки, быстро гасшие в столкновении с карательными силами империи. Но в далеком Кирлане постепенно начали понимать, что идут не тем путем. Гарра была слишком велика, чтобы без конца стеречь ее с мечом в руке. Аскару все это было прекрасно известно. Он нахмурился и уже спокойнее спросил: — Где и когда? Это надежные сведения? Риолата внимательно смотрела на него. — Через год, — ответила она, — естественно, в конце лета. На этот раз вся Гарра, не только Дран или Дорона. Конечно, сведения надежные, я уже два года готовлюсь к этой войне, и притом не одна. Ибо это будет война, Аскар, настоящая война, тщательно подготовленная и ведущаяся по всем правилам. Не какой-то там бунт трех магнатских семейств, пяти деревушек и трех гарнизонов. Он смотрел на нее, остолбенев, с неподдельным ужасом. — Во имя Шерни… Во имя Шерни… ты высоко метишь! Во имя Шерни… повторил он в третий раз, — ты знаешь, что я сделаю для тебя все, что угодно… но это безумие! Война или восстание… Ты не представляешь себе могущества империи! Это невозможно, император никогда не допустит, чтобы под боком империи вдруг выросло большое морское государство! Осень будет ваша, но зимой сюда приплывет с континента все, на чем поместится хотя бы один солдат. Вы проиграете! — Проиграете? Почему — проиграете? Внезапно он понял, что, сам того не сознавая, поставил себя в положение имперского офицера. Ну и прежде всего… — Я армектанец, — сказал он тихо, но со старательно скрываемой гордостью. Она подошла ближе: — Тебе придется выбрать между мной и Армектом. Он уже давно сделал свой выбор, и она это прекрасно знала. — Мы проиграем, — просто сказал он. — Я знаю. Он снова изумленно посмотрел на нее: — Тогда… зачем? — Потому что… все не так, — почти весело сказала она. — Не „проиграете“ и не „проиграем“. Они проиграют, Аскар. Ее явно забавляло выражение его лица. — Меня интересует не свобода Гарры. Меня интересуют Острова. Причем не все… Два острова. Риолата наклонила голову набок. — Не понимаешь? — спросила она. — Мне нужны Агары. Она принесла большую карту. На ней были изображены Гарра, Острова, южный Армект и Дартан. — Я хочу иметь собственное княжество. Самостоятельное и независимое. И сильное. Аскар посмотрел на карту: — Я не моряк… Она показала пальцем: — Но об Агарах ты наверняка слышал. Если не о рудниках, то хотя бы о китах. — Это там? — Там. Он помолчал. — Если бы мне сказал это кто-то другой, я счел бы его безумцем, наконец пробормотал он. — Но раз это говоришь ты… значит, ты знаешь, что говоришь. Хотя должен признаться… — Агары вовсе не такие маленькие. Большая Агара — изрядный кусок суши. Там есть два города и неплохой порт, много селений. На Большой Агаре есть медные рудники, а у ее южных берегов охотятся на китов. Эти острова должны просто купаться в богатстве, но все забирает империя. — И ты считаешь, что император… — Император будет занят гаррийским восстанием, — прервала его Риолата. — Прежде чем он его подавит, наступит весна, даже конец весны. А теперь посмотри, где находятся Агары. Это одинокие острова на самом краю света. Вести оттуда долго идут до Кирлана. Аскар кивнул. — Корабли морской стражи, — продолжала она, — будут драться с парусниками гаррийцев и сопровождать войска, доставляемые на Гарру. Сомневаюсь, чтобы в агарскую Ахелию послали хоть один корабль: медь может и подождать, а корабли будут нужны здесь. — Но ведь там ходят какие-то торговцы. — Довольно редко, а уж во время войны… Но ты, конечно, прав. Помни, однако, что торговцы — люди деловые. Дай им заработать и закажи очередную поставку товара, и они сохранят любую тайну. Впрочем, торговый корабль можно просто задержать. — Ну хорошо, но ведь это не может продолжаться вечно. Восстание в конце концов падет, и кто-то придет за медью. — Конечно. Эти корабли мы тоже задержим. Они могли разбиться, затонуть, их могли сжечь пираты… В Кирлане не скоро поймут, что происходит. Да и тогда… Ну, ты же солдат. Скажи, что бы ты сам сделал. — Послал бы военную эскадру. — Которая пропадет без вести. Ее судьба тоже выяснится не скоро, ведь на подобную экспедицию требуется время. Потом снова наступит осень и осенние штормы… Подсчитай, сколько времени мы выигрываем. — Но в конце концов осень кончится и придут новые корабли. — Сколько? — Кто же может это знать? — Но сколько? Сто? Аскар не выдержал: — Четыре. Пять. — Они тоже не вернутся. Что дальше? Он снова взорвался: — Я понимаю, что у тебя будут там свои люди и корабль… может быть, два корабля. Может быть, ты захватишь несколько торговых барков. Но ты отдаешь себе отчет в том, сколько войска на фрегате морской стражи? Ты говоришь об имперских парусниках, словно о лодках из коры, которые можно разломать одним пинком. Риолата улыбнулась, чуть прищурив продолговатые глаза: — У меня будет не один или два корабля. У меня будет десять кораблей, Аскар. Десять больших парусников. С сотнями убийц на борту. — Откуда ты их возьмешь, ради Шерни? Откуда ты… — Внезапно он понял: — Пираты? — Именно. Это лишь вопрос золота. Золота и общих целей. Золото у меня уже почти есть. А что касается второго… Какой же пират не хотел бы иметь постоянной, безопасной пристани, куда он всегда может прийти и чувствовать себя как дома? Кто знает, подумал Аскар… Однако планы девушки поражали его своим размахом. — В конце концов туда придет столько кораблей… — Сколько, Аскар? Скольких парусников стоят Агары? Он тряхнул головой. — Нет, — сказал он, набрав в грудь воздуха. — Нет. Ты все упрощаешь. Хочешь на самом деле узнать мнение солдата? Я не знаю, скольких парусников стоят Агары. Зато я знаю, что если их будут защищать десять пиратских кораблей, то вскоре туда явятся все флотилии империи, включая громбелардскую. А политические последствия? Если какие-то там Агары могут завоевать себе независимость, то что с другими краями Шерера? Империя не может допустить, чтобы все покоренные ею провинции увидели ее слабость. Туда придет столько кораблей, сколько понадобится. К его удивлению, она снова улыбнулась: — Не верю. Она оперлась локтями о карту, а подбородком на руки. — Независимо от политического оттенка, Агары не стоят подобной авантюры, — сказала она. — Так же как когда-то не стоила ее Барирра. Островок, захваченный Бесстрашным Демоном. Высокопоставленный военный должен об этом кое-что знать? Аскар нахмурился. Кое-что он слышал… — Думаю, Кирлан скорее замнет дело, — продолжала Риолата, — или поищет решения дипломатическим путем. Я подсчитала, сколько примерно могла бы стоить подобная война. Морская война, ведущаяся в сотнях миль от Кирлана. Если бы она продолжалась один лишь год, что, учитывая расстояние, вовсе не так долго… — Она начала писать пальцем на карте. — Столько. По крайней мере столько. Он удивленно поднял взгляд. — И кому я это объясняю? — с сарказмом спросила она. — Но, видимо, правду говорят, что о стоимости военных кампаний высшее командование не желает ничего знать… Аскар, невозможно так просто собрать корабли со всех морей Шерера. Ведь они нужны там, поскольку лишних никто не стал бы держать. Усмирение целой мятежной провинции стоит любой цены, но — Агар? Никто, даже сам император, не рискнет выложить такую сумму! После войны с Гаррой имперская казна и так будет зиять пустотой, будет не хватать кораблей и солдат — всего, что угодно. — Не знаю, насколько достоверны твои подсчеты, — пытался возразить Аскар. Риолата подняла брови. — Я занимаюсь торговлей, — напомнила она, — и неплохо разбираюсь в цифрах. Я помогаю организовать повстанческую армию, планирую также собрать собственное, личное войско. Я знаю, сколько это стоит. — Значит, ты считаешь, что до войны за эти острова дело вообще не дойдет? Никто даже не станет пытаться их вернуть? — Может быть, небольшими силами… — Насколько небольшими? Три корабля? Достаточно любой мелочи, чтобы подвели все твои расчеты, и тогда морские стражники сожгут твои Агары. — Мои Агары? — язвительно переспросила она. — Это имперские Агары. Значит, имперские корабли сожгут имперские Агары? А впрочем, пусть жгут. Там нечего жечь. Может, выжгут медь в земле? Или отпугнут китов? Важен лишь только порт. — Они его займут. Если не сожгут, то займут. Твой флот потеряет тылы. — Это единственное, что меня беспокоит, — признала Риолата. — Поэтому там должна встать крепость, Аскар. Он не верил собственным ушам. — На этом острове? Ты хочешь за год построить крепость? — Старая каменоломня находится рядом с Ахелией. — Это просто смешно, — коротко сказал Аскар. Риолата нахмурилась: — Что здесь смешного? — Ты не построишь крепость за год. И за два. Меня восхищает твое знание военного дела, но здесь видны… некоторые пробелы. Никто не в состоянии возвести серьезную крепость за столь короткое время. И даже если… Ты столь успешно подсчитала расходы императора, подсчитай и свои! Откуда ты намереваешься взять деньги? Сокровища Демона? Не заставляй меня повторять — это просто смешно. Может быть, его хватит, чтобы купить твои пищали и заплатить пиратам, наверняка даже что-то останется. Но крепость? Цитадель? Ты знаешь, сколько стоит цитадель? — Ты выслушал до конца? — спокойно спросила Риолата. — Так выслушай, иначе я сама за себя не отвечаю! — неожиданно заорала она. Она положила ладонь на его щеку. — И тогда я сделаю что-нибудь такое, о чем сама потом буду жалеть.26
— Конечно, госпожа, — развел руками Раладан. — Конечно, каждый сперва отправился бы в Замкнутое море. — Каждый, только не ты, — с нескрываемым восхищением сказала Лерена. Но как?.. Они снова склонились над картой. — Здесь не пройти. А тут опять мели… Этот пролив? Раладан, там пошло ко дну несколько кораблей! Там нет прохода! — Есть. „Звезда“ прошла бы там даже с полными трюмами. А сейчас они пусты. Нет, конечно, все не так просто, и на скалы можно напороться в любой момент. Нужно все время держаться правой стороны. Пройти можно не всегда, так как, когда дует с запада, высокий, покрытый лесом берег отражает ветер. Но сейчас мы должны пройти. Все время по правой стороне, а когда по носу снова видно будет море — на середину. Мы много раз там ходили. На „Змее“. — Он был более маневренным и мог идти против ветра, — мрачно сказала Лерена. — Там все равно негде менять курс. А ветер хороший и не переменится ни сегодня, ни завтра. Она покачала головой: — Откуда ты все это знаешь, Раладан? Каждый пролив, каждый проход, каждый риф и каждую мель… — Только вокруг Гарры, в других местах — хуже… А на Западном Просторе я был только один раз. С твоим отцом, госпожа. Она снова посмотрела на карту. — Это сократит нам время в пути на день, — подытожила она. — И позволит избежать пути, которым ходят все, — добавил он. — Да, это так. — И еще одно… Он поколебался. Она жестом поторопила его. — Мы пройдем там, но паруса должны стоять как следует, а вся твоя банда должна быть трезвой. В том проливе нам потребуется надежный корабль и надежная команда. Лерена внимательно посмотрела на него: — Ладно… Она поправила платок и вышла. Он остановился в дверях, подставив лицо солнцу. Погода была превосходная, дул легкий, приятный ветерок, и не мучил палящий зной. Впрочем, был уже конец лета. — Эй, парни! — крикнула Лерена. Раладан посмотрел на палубу. Команда не спеша собиралась вместе, с шумом и веселыми возгласами. — Больше не пить, парни! — Она подбоченилась, слыша протестующие голоса. — Больше не пить! До утра ни кружки! — Мамочка! — взвыл коренастый прыщавый детина. — Да мы для тебя… мы все, что угодно!.. Он пошатнулся. Кто-то его дружески поддержал. — Все, что угодно! — отозвались другие голоса. — Все! Лоцмана затошнило. Он повернулся и захлопнул дверь. Он знал, что вечером весь этот сброд будет пить только за здоровье „мамочки“. Вскоре вернулась Лерена. — Приказы отданы, — сказала она. Он кивнул. Когда он смотрел на нее, склонившуюся над картой, ему показалось, что перед ним Ридарета. Подобное случалось уже не впервые. Они были удивительно похожи, Лерена и ее сестра, как две капли воды, а обе они столь же похожи на Ридарету. Тот же рост, те же фигуры, те же волосы, подбородки и глаза… Если бы Лерена сняла платок и надела черную повязку — в полумраке их легко можно было бы перепутать. Все они были одного возраста… Этот феномен был выше его понимания. Все попытки хоть как-то это объяснить оказались безрезультатными. Ридарета была беременна, когда он нашел ее на Малой Агаре. Он знал, кто виновник этой беременности, Ридарета, впрочем, этого и не скрывала. Во всяком случае от него. Беременность, однако, продолжалась лишь три месяца. Дальнейшее тоже оказалось весьма необычным. Дочери Ридареты росли и взрослели — в три раза быстрее, чем положено по законам природы. Что было тому причиной — неизвестно. Ридарета этого тоже не знала. Хотя, с другой стороны… он чувствовал, что у девушки есть какая-то тайна. Теперь, в возрасте восьми лет, дочери Ридареты и Раписа выглядели как внешне, так и по своему поведению и умственному развитию двадцатичетырехлетними женщинами. Их матери было неполных двадцать пять. Лерена все еще разглядывала карту. — Раладан, — сказала она, показывая рукой на восток и запад от Шерера, — что там? — Просторы, госпожа. — Просторы… Она подняла голову, и он уже знал, о чем она спросит. — А дальше? — Думаю, что никто этого не знает. — Мы не знаем никаких других земель, кроме Шерера, — проговорила она словно про себя, — но значит ли это, что их нет? — Может быть, и есть. Некоторые говорят, что таких земель, как Шерер, много. И якобы каждую опекает своя могущественная сила, такая же, как наша Шернь. — Почему же никто их не ищет? Эти земли? — Многие искали, госпожа. Но ни один из кораблей, отправившихся далеко на Восточные или Западные Просторы, так и не вернулся. Однако была одна экспедиция на Северный Простор… — Лоцман задумался. — И что? — Это столь старая история, что половина ее стала уже почти легендой. Был один моряк, имени которого никто уже не помнит, его называют просто Северным Мореплавателем… Он отправился далеко на север. Никто не знает, сколько дней или месяцев длилось его путешествие. Когда-то я слышал в одной таверне песню о нем. Там были слова о том, что „плавал он год, за ним второй и третий“… Все это, конечно, ерунда, но я думаю, что он действительно мог плавать много месяцев. Якобы становилось все холоднее, пока наконец море не покрылось льдом, хотя было лето. А потом идти дальше стало просто невозможно, так как все Просторы сковал толстый лед. И солнце не заходило, был вечный день… — Наверное, ты сам в это не веришь, Раладан? — Наверное, нет, — признался он. — Но, с другой стороны, должно же что-то быть там, на Просторах. Из-за чего-то ведь корабли не возвращаются? Не знаю почему, но мне кажется, что есть некая земля… большая земля на востоке. Нет, я ничего не могу объяснить, госпожа, предупредил он ее вопрос. — Я не знаю, откуда у меня такая уверенность. А что касается Северного Мореплавателя, то, я думаю, будь вся эта история лишь вымыслом, в ней было бы намного больше чудес, нежели один лишь толстый лед. — Чудовища… — подсказала Лерена. Он кивнул: — Возможно. — Есть ли они на самом деле? Он снова кивнул: — Птицы, огромные птицы… Их видел и твой отец. Они пролетели над нами… и все. — А еще? Расскажи! Она смотрела на него почти с детским любопытством. Другие… Да, он их видел. Но не хотел об этом говорить. — Не сейчас, госпожа. Не на море. — Просто расскажи, что ты видел, — настаивала она. — Не на море, — повторил он. — Расскажу, когда сойдем на берег. — Хотя бы как часто ты их видел? — Только один раз. — Только один раз? — Она была явно разочарована. — Только один раз. И, во имя Шерни, надеюсь, что больше не увижу… Он нахмурился, ибо события тех дней вновь предстали у него перед глазами. Каждый раз, когда он вспоминал о них, сердце сжимала странная тупая боль. Он помнил тот день лучше, чем любой другой из тех, что прожил. И не только из-за того, что он тогда увидел… Это был первый день, который он помнил. С тех пор прошло тридцать лет без малого. Он не знал, откуда он, кто он, кем были его родители. Его вытащили из моря, и первыми лицами, которые он помнил, были лица команды торгового корабля. Потом ему рассказали, что его заметили среди волн, судорожно вцепившегося в какой-то обломок доски. Сколько он пробыл в воде? На каком корабле он плыл и куда? Он ничего не помнил. Судя по одежде, которая была на нем, он мог быть сыном торговца. Но манера речи сразу же выдавала в нем человека благородного происхождения. Он не в силах был сообщить о себе каких-либо сведений. Лишь когда его спросили, как его зовут, он, подумав, ответил: Раладан. Но все это было уже позже. Его вытащили на палубу. В полубессознательном состоянии он видел склонившиеся над ним лица, которые то приближались, то как будто снова отдалялись. Наконец зрение вернулось к нему, и тут же он услышал крик жуткий, многоголосый… Его оставили на палубе, он видел, как вокруг бегают люди, потом на палубу обрушился каскад воды, корабль почти лег на борт, тяжело перевалился на другой, и тогда он, Раладан, увидел, как под волнами что-то мечется и переваливается, наконец поверхность воды взрывается и среди брызг пены и водяной пены появляется ЭТО… Потом в конце концов решили, что корабль, на котором он плыл, разбился в щепки. И никто уже не удивлялся, что единственный спасшийся с этого корабля двенадцатилетний мальчишка потерял память. Раладан показывал пальцем на уже появившийся впереди вход в пролив. Лерена пристально вглядывалась вдаль. — Лучше будет, если я сам займусь рулем, — сказал он. — Поставь надежного человека на носу, госпожа. А лучше всего встань сама. Шум внизу заглушил его последние слова. Кто-то завопил, столь пронзительно, словно с него сдирали шкуру. Они переглянулись, потом посмотрели вниз, на палубу. Один из матросов корчился у фальшборта, зажимая рукой ухо, вернее, то место, где оно до этого находилось. Из-под его пальцев текла кровь. Другой, пряча нож, держал ухо в руке, показывая его хохочущим до упаду приятелям. Привлеченные взрывами смеха, начали собираться остальные, толпа росла. — Госпожа… — начал Раладан. Он посмотрел на нее и замолчал. Рот ее был приоткрыт. На нижней губе повисла капелька слюны. Он не успел ничего сообразить, как она уже оказалась внизу. Левой рукой она схватила державшего ухо детину за горло, а правой, сжатой в кулак, ударила его в зубы. Смех утих. Она подсекла матросу ноги и повалила его с силой, которой никто от нее не ожидал. Перепуганному матросу удалось перевернуться на живот, но она, продолжая держать его за горло предплечьем, другой рукой резко дернула его голову вбок; детина судорожно дернулся и испустил дух, со сломанной шеей. Она колотила головой трупа о палубу до тех пор, пока лицо не превратилось в кровавую кашу, затем выхватила меч и проткнула тело насквозь. Встав, она оторвала край рубашки и вытерла руки, после чего швырнула окровавленную тряпку за борт. Толпа матросов шаг за шагом пятилась назад. Раладан стоял на баке, глядя на спину девушки. Из-под разорванной в драке рубашки виднелась огромная разноцветная татуировка, изображавшая дракона. Когда пиратка подняла руку, показывая на море, чудовище зашевелилось. — Ром за борт, — произнесла она свистящим шепотом. В тишине, нарушавшейся лишь плеском волн и скрипом корабля, ее слова прозвучали очень отчетливо. Все еще показывая пальцем на воду, она вытянула другую руку: — Ты будешь боцманом. — (Рослый матрос открыл рот и снова его закрыл, сглатывая слюну.) — Если случится еще какая-нибудь драка, лучше сам прыгай в море… Тогда я назначу другого боцмана. Раладан! Раладан спустился на палубу. — В проливе командуешь ты. Займись. — Так точно, госпожа. Перед ней поспешно расступались, когда она шла на корму. Раладан остался один перед притихшей, покорной толпой. — Так точно, госпожа, — повторил он в пустоту, тщательно скрывая удовлетворение. Он пытался скрыть и веселье… Некоторое время спустя, когда он наконец снова смог явиться к капитану, он вспомнил повод для недавнего веселья. Он постучал в дверь каюты. — Это Раладан, — улыбаясь, сказал он. По своему обычаю, она сидела на столе, болтая скрещенными в лодыжках ногами. Увидев лоцмана, она откинулась назад, опершись о стол руками. Ей даже не пришло в голову сменить рубашку; выпяченные груди, видневшиеся из-под жалких лохмотьев, целили ему сосками прямо в нос. Она любила покрасоваться, это точно. — Ну, что там? — спросила она. — Мы прошли, госпожа, — ответил он. Она тряхнула волосами. — Что еще? Он продолжал нерешительно стоять, хотя видел, что ее злость уже прошла. Жаль, поскольку, в отличие от команды, он высоко ценил подобные взрывы. За исключением разве лишь тех, что касались его лично… — Ну, говори же! — Она начала терять терпение. — Знаешь, госпожа, кого ты назначила боцманом? Она нахмурилась. — Кого? — Немого, госпожа. Она молча смотрела на него. Потом выпрямилась и неожиданно приложила ладонь ко лбу. — И как мне теперь это… отменить?.. — спросила она, давясь от едва сдерживаемого смеха. — Не знаю, госпожа, — ответил он, прикусив губу. Они хохотали, пока у них не заболели животы.27
Берег Висельников… Несмотря на уже сгустившиеся сумерки, Лерена отыскала нужный дом без особого труда, хотя внешне он казался столь же темным и мертвым, как и остальные. Однако даже ночью можно было заметить, что кто-то заботится о том, чтобы дом не превратился в развалины. Она подумала, что это весьма неосторожно… Толкнув дверь, она шагнула в темноту. Заметив полосу серого света, она на ощупь нашла следующую дверь и открыла ее. Снаружи она видела, что ставни закрыты. Теперь оказалось, что окна занавешены еще и изнутри… Риолата встала и вышла ей навстречу. Протянув друг другу руки, они обнялись и поцеловались. — Слишком долго мы не виделись, — одновременно произнесли обе сестры и рассмеялись. Риолата чуть отодвинулась. — Скажи, скажи скорее… — Рио-ла-та. — О Шернь, как же здорово снова услышать свое имя, настоящее имя… Они снова обнялись. Сев лицом к лицу за стол, они жадно разглядывали друг друга. — Ты похорошела, — сказала Лерена. — И ты похорошела, — эхом повторила ее сестра. Они взялись за руки. — Ты чуть не спутала мне планы, — сказала Риолата. — Ты убила Берера. — Чуть не спутала? Что значит — чуть? — Я нашла сокровища отца. Они у меня. Сын Берера нарисовал мне карту. Лерена стиснула кулаки. — Не верю, — помолчав, проговорила она. Риолата положила на стол кожаный мешок. — Это тебе. Лерена сунула руку в мешок и извлекла горсть драгоценных камней. Лицо ее побледнело. — Это… подачка? — спросила она сквозь зубы. Риолата помрачнела. — Почему ты так решила? Я использовала сокровища в своих целях, это все, что от них осталось. Я до сих пор даже платья себе не купила. Может быть, сейчас у меня была бы такая возможность, но я хочу, чтобы ты это взяла. Лерена швырнула драгоценности на пол. — Издеваешься, шлюха?! — прошипела она. Риолата рассмеялась. — Конечно издеваюсь! — ответила она. — Ради Шерни, сестренка, я тебе это говорю лишь затем, чтобы насладиться зрелищем твоей раздосадованной физиономии… Хотя, может быть, лучше было бы не говорить и ты так и искала бы дальше! — Она откинула голову назад в новом приступе смеха. Лерена неожиданно успокоилась. — Я хочу знать, где были сокровища, — холодно потребовала она. — И что там было. Я должна это знать. — Неполный день пути от того места, где ты пустила ко дну корабль Берера. — Об этом я и сама догадываюсь. — Барирра. Остров Бесстрашного Демона. Собственность отца. Лерена застыла. — Правда, как просто? — смеялась Риолата. — Шутишь… Подобная мысль пришла в голову уже не одному человеку, и там побывали сотни. — Видимо, плохо искали. — Дальше! Риолата кивнула: — Должна тебя обрадовать: меньше, чем мы полагали. Три сундука, полных золота и драгоценностей. Правда, довольно больших. Глаза Лерены погасли. — Шлюха, — повторила она. — Глупая шлюха. Почему именно тебе все всегда удается? Не поверю, что ты уже истратила все сокровища. Береги то, что осталось, ибо я превзойду саму себя, чтобы вырвать его из твоих коготков. Риолата неожиданно наклонилась к ней. — Не перестарайся, — тихо сказала она. — Даже привязанность к сестре имеет свои границы, Лерена. Пиратка медленно сплюнула на стол. Обе молчали. Риолата, усмехнувшись, откинулась назад. — А как там твой хахаль? — весело спросила она. Лицо Лерены исказилось от гнева. — Не трогай! Его не трогай… Он мой! — Ну конечно, твой, мне он не нужен! Он твой… естественно, настолько, насколько может быть твоим человек Ридареты. — Ради всех морей на свете, — сказала Лерена, озираясь по сторонам, что я делаю в обществе шлюхи? Внезапно она вскочила, сделала два шага и подняла с пола нитку жемчуга. Фальшиво рассмеявшись — смех ее, впрочем, тут же сменился скрежетом зубов, — она поднесла жемчуг к глазам, после чего неожиданно швырнула его сестре в лицо и перепрыгнула через стол. Никто из них даже не крикнул, слышались лишь стоны и тяжелое свистящее дыхание. Они катались по полу. Лерена придавила сестру и била ее кулаком. Риолата тянула ее за волосы, пытаясь ударить головой о пол. Внезапно они вскочили, став лицом к лицу, и начали избивать друг дружку кулаками, не уклоняясь и не отражая ударов. Они стояли окровавленные, с разбитыми губами, растрепанными волосами и дрожащими, ободранными руками, сжатыми в кулаки для новых ударов. Обе тяжело дышали. — Хватит, — сказали они, опуская руки и криво улыбаясь. Они обнялись, и, пошатываясь, вышли на улицу. — Этот дом… выглядит совсем как новый, — отрывисто проговорила Лерена. — Сделай что-нибудь… Она оперлась лбом о лоб сестры. Некоторое время они стояли не двигаясь. — Иди, — наконец сказала Лерена. — Ты нашла сокровища, но у меня тоже есть для тебя сюрприз… Риолата, у нас есть старшая сестра. Они вернулись в дом. Раладан как вкопанный остановился на пороге каюты. — Нет, — только и сказал он. Лерена сидела на постели, прижав к плечу мокрую тряпку. Когда она убрала руку, он увидел ободранную до самого локтя кожу. Она подняла голову, показав огромный синяк под левым глазом и второй вокруг правого. Третий украшал подбородок. Она криво улыбнулась распухшими губами. — Нет, — повторил он. Он вышел и вскоре вернулся с кружкой рома. Она послушно подняла руку. Рука распухла, а в коже торчали какие-то занозы. Он вытащил самые крупные и плеснул ромом. Лерена взвыла. — Это солдатский способ, — пояснил Раладан, — запомни его. Ром прижигает рану. Теперь она не загноится. Кто-то напал на тебя, госпожа? Она тряхнула головой. — Ничего со мной не будет, — раздраженно бросила она. — Сядь. Подожди. Помоги мне надеть рубашку, у меня все болит… С тобой невозможно разговаривать, когда, вместо того чтобы думать, ты таращишься на мои голые сиськи. Он искоса посмотрел на нее… но она говорила серьезно. Порой у него опускались руки. Она повторила ему разговор с Риолатой. — Теперь я не знаю, кому верить — тебе или ей? Три сундука или шесть, и еще какое-то барахло? Она кивнула, предупреждая его ответ: — Нет, Раладан, я прекрасно знаю… Сокровища там же, где и были, а у нее их не только нет, но она даже не знает, где их искать. Она лишь хотела выиграть время. Раладан сидел погруженный в раздумья. — Завтра уходит в море ее парусник, — сказал он. — Она мне говорила. В Армект, за зерном. Моя сестра — торговец до мозга костей, Раладан. И вообще, она взяла себе имя — Семена. Совсем как тот город в Дартане. — Ты в это веришь, госпожа? — Что она — торговка? Конечно, дела ведет кто-то другой… — Ты веришь в то, что ее корабль идет в Армект? Это прекрасная, быстроходная, маневренная бригантина. На таких кораблях зерно не возят. — Возят на том, что есть… Что ты имеешь в виду? — Ты считаешь, что твоя сестра — Дура, госпожа? Она вопросительно смотрела на него. — Боюсь, что она все-таки знает, где сокровища, — пояснил Раладан. Думаешь, она дала бы себя поймать на такой глупости, как количество сундуков с золотом? Она прекрасно знала, что ты ей не поверишь, именно это и было ей нужно. — О чем ты, Раладан? — О том, что эта бригантина идет за сокровищами, госпожа. Твоя сестра наверняка знала, что ее корабль вызовет подозрения, и сделала все, что было в ее силах, чтобы доказать тебе, что она не знает, где сокровища искать. Лерена молчала. Она встала и, осторожно ощупывая пальцами раненую руку, сделала два медленных шага. Дракон на ее спине смотрел на лоцмана треугольными глазами сквозь дыры в рваной рубашке. Татуировка была выполнена настоящим мастером, это не были примитивные матросские наколки, покрашенные в синий цвет и больше напоминавшие шрамы, чем рисунок. Такие татуировки — многоцветные, высокохудожественные — делали в Дартане. Пять, может быть, десять человек еще занимались подобным необычным искусством, медленно, но неуклонно умиравшим. Один рисунок стоил целое состояние. — Ты прав. Ты прав, а я… дала себя обмануть. Конечно. Будь сокровища на самом деле у нее, она бы мне об этом не сказала. Она знала, что этим меня удивит, знала, что я не поверю… Она повернулась лицом к нему. — Ты прав, — снова повторила она. — Снимаемся с якоря, Раладан. Скоро рассвет. Мы должны войти в порт в Дороне, несмотря на риск. — Риск? Я не узнаю тебя, госпожа. Одумайся. Дорона — это не Дран. Мы не можем туда зайти, поскольку никогда оттуда не выйдем. Впрочем, там нам нечего делать. — Нужно ей помешать. — Как? И зачем? Может, пусть лучше она сама приведет нас к сокровищам? — Ты не хуже меня знаешь, что „Звезде Запада“ ее корабля не догнать. — Послушай, госпожа: я знаю, что можно и что нужно сделать. Но если ты будешь перебивать меня на каждом слове, то и в самом деле твоя сестра вернется с сокровищами, а мы все еще будем торчать здесь. Неожиданно ее лицо озарила широкая улыбка. — Хорошо, капитан Раладан. Я внимательно слушаю. Он коротко изложил свой план.28
Дран, так же как Дорона и все прочие города Гарры, когда-то был оборонительным укреплением. Городские стены, теперь уже основательно заброшенные, охватывали порт и строения, названные позднее Старым Районом. Дран не был большим городом, его стремительный рост начался лишь послеприсоединения Гарры к Вечной Империи. Как расположенный дальше всего на севере и потому ближе всего к побережью Армекта, он быстро стал важным торговым центром, тем более что широко разлившийся, лениво несущий свои воды Бахар, самая большая река острова, обеспечивал легкую и быструю доставку товаров в глубь Гарры. Город вырос, но после недолгого периода процветания вновь пришел в упадок. Может быть, причиной тому было именно то, что по иронии судьбы он лежал на скрещении важнейших морских путей империи… Достаточно того, что он стал излюбленным местом всяческого сброда: вышвырнутых с кораблей матросов, ищущих возможности наняться куда-либо еще; уволенных со службы за разные делишки солдат, предлагающих торговцам свои мечи вместе с обещаниями бдительного надзора за товаром; разных бродяг и мелких бандитов, рассчитывающих на легкую добычу в портовой толпе; нищих, бывших здесь сущей напастью; всякого рода мошенников, наконец — что естественно для любого портового города, — целых отрядов шлюх любого возраста, от десяти до восьмидесяти лет. В Дране можно было услышать все языки Шерера: звучный, звенящий, словно серебро, армектанский смешивался с горловым звучанием гаррийского, в котором было столько же диалектов, сколько и островов. На их фоне мелодично переливались дартанские гласные… Иногда то тут то там даже слышался твердый акцент громбелардца, пришельца из самого отдаленного края империи. Над всеми же царил Кону, являвшийся, по сути, упрощенным языком Армекта. Военный гарнизон Драна был самым большим во всей провинции. Но что с того? На службу в столь отвратительном месте порой „ссылали“, словно в наказание… В результате тут собрались худшие солдаты из всех, каких только можно было себе вообразить. Офицеры готовы были на все, лишь бы вырваться из этой помойки, комендантом же обычно становился какой-нибудь вполне честный человек, которому не хватало сил и хитрости, чтобы купить или добыть себе приятное теплое местечко с надеждой на быстрое продвижение по службе. Несчастный делал все, что было в его силах, но отребье, которым он командовал, скорее провоцировало драки, чем их предотвращало. Дезертирство росло с каждым днем. Рано или поздно каждый комендант Драна либо отказывался от военной карьеры, либо поступал в соответствии со старой пословицей „С волками жить…“ Однако в Дране был Старый Район. Город в городе. В Старом Районе находилось огромное мрачное здание Имперского Трибунала. Было там и несколько дворцов — довольно убогих, чисто по-гаррийски, — принадлежавших старым местным фамилиям. А еще была крепость-тюрьма — самая большая и самая неприступная на острове. В Старом Районе размещалось армейское подразделение в сто человек, солдат морской гвардии, подчинявшихся не коменданту легиона в Дране, но непосредственно Князю-Представителю Императора в Дороне (а фактически его наместнику). То были лучшие солдаты в этой части империи. В Старом Районе действовали особые законы. Бродяжничество и попрошайничество преследовалось и наказывалось там со всей строгостью. Днем по улицам кружили вооруженные патрули, численность которых удваивалась ночью. Мечтой каждого купца было иметь свою контору в Старом Районе, мечтой каждого ремесленника было иметь там свою мастерскую. Однако даже если какой-то дом шел на продажу, его цена превышала цену дворца в любом другом месте… В тот самый день, когда „Звезда Запада“ покинула Дран, направляясь в сторону Дороны, перед зданием Трибунала появился какой-то человек, укрытый широким плащом с капюшоном. Он обменялся несколькими негромкими словами с гвардейцами у входа, и его пропустили. Фигура в плаще еще несколько раз проходила через посты у дверей. Последний стоял у довольно широкой лестницы, ведшей дугой вниз. У подножия лестницы начинался коридор, освещенный тусклым светом факелов. Из коридора многочисленные двери вели в комнаты по обеим его сторонам. Человек в плаще, в сопровождении гвардейца, скрылся за одной из дверей. Вскоре солдат вышел и вернулся на свой пост. Комната была обставлена с роскошью, просто потрясающей по сравнению с убожеством коридора. Пышный дартанский ковер покрывал часть серого каменного пола (к которому он, впрочем, совсем не подходил); вдоль стен стояло десятка полтора статуй, изображавших величайших владык Армекта и Вечной Империи. Стены и потолок были обиты бархатом. Посреди комнаты находился огромный стол из черного бука. Вокруг стола стояли высокие кресла, украшенные богатой резьбой. В серебряных канделябрах горела, наверное, целая сотня свечей. Три кресла были заняты, на них сидели двое мужчин, один пятидесяти лет с небольшим, другой — значительно моложе, и женщина лет сорока. Мужчины были одеты достаточно скромно, зато платье женщины могло стоить целое состояние. Человек в плаще подошел к столу и откинул капюшон, открыв женское лицо и светлые волосы. Сидевшие молча смотрели на нее. — Прелестное личико, — наконец сказал младший из мужчин. — Неоценимые способности, — подчеркнул второй, бросив на того уничтожающий взгляд. — Я просил тебя прийти, госпожа, поскольку на этот раз у меня есть кое-что для тебя. Женщина удивленно взглянула на него. — Нет ничего странного в том, что я забочусь о способных людях, пояснил мужчина. — Может быть, госпожу заинтересует тот факт, что человек по имени Д.М.Вард, бывший капитан морской стражи, прибыл позавчера в Дран на борту корабля, идущего прямо с Агар. — Думаю, Алида, он ищет тебя, — добавила женщина за столом. — Конечно, это может быть лишь случайность… — Она говорила со слабым, почти неуловимым дартанским акцентом. — Я в это не верю, — сказала Алида. — Я не верю в такие случайности. — Что ты собираешься делать, госпожа? — спросил молодой человек. Лучше всего было бы его схватить. Она странно посмотрела на него, качая головой: — Нет, господин. Пусть делает что хочет. Интересно, откуда он узнал, где меня искать? Пока он на свободе… — Полагаешь, госпожа, что за этим может скрываться что-то еще? прервал ее молодой человек. Она немного помолчала. — Не перебивай меня, господин, когда я говорю. Молодой человек изумленно обернулся к своим товарищам. Мужчина сидел с каменным лицом, женщина едва скрывала улыбку. — Мне нужны трое, которые найдут его и не будут спускать с него глаз, сказала Алида. — Согласен, — кивнул старший. — Выбери их сама, госпожа. И… советую быть осторожнее. Я не хочу тебя потерять. — Этот человек не слишком опасен. — Ну… не знаю. Четыре месяца он работал на руднике на Агарах. По собственной воле. После семи лет каторжных работ там же. Такой человек способен на многое. — Я буду осторожна. Когда она вышла, молодой человек всплеснул руками: — Кто она, во имя Шерни? — Это женщина благородного происхождения, Нальвер. — Гаррийка? — Наполовину армектанка. Ты вел себя как деревенщина. — Ее тон… — Очень мне понравился. И насколько я ее знаю, она разговаривала бы так с каждым. Ты не разбираешься в людях, а это очень плохо. — Ты говорил, господин, что она проститутка? — Да. Но она еще и самый опасный человек из всех, кого я знаю. Это королева интриг и хитрости, и еще тебе следует знать, что она никогда и ничего не забывает. Подумать только, мой предшественник отправил ее на эти Агары, где ее талант пропадал столько лет! — добавил он. Некоторое время все молчали. — Как она сюда попала? И кто этот… капитан? — Именно ему мы обязаны тем, что ее обнаружили, — улыбнулась женщина. Она была дорогой шлюхой на Агарах, — вульгарное слово прозвучало в ее устах совершенно естественно, — лишь несколько человек знали, кто она на самом деле. Она претворяла в жизнь некий план, когда этот дурак капитан схватил ее и бросил в темницу. Судя по всему, его подкупили пираты. Во всяком случае, войско действовало исключительно умело, что бывает редко. Она снова улыбнулась. — Потребовалось некоторое время, прежде чем все выяснилось. Была целая война между тамошним комендантом и Трибуналом, комендант лишился своего поста, этого Варда же… Алида отправила на рудники. Несколько жестоко, но от дураков все же следует избавляться. Вард уже не был дураком. Семь лет на рудниках научили его иному взгляду на жизнь. И во взгляде этом было немало горечи и гнева. Вокруг умирали люди. Вольным рудокопам, труд которых был не менее тяжел, платили вполне прилично. Иначе было с рабами — они получали лишь еду и одежду. Однако о них заботились: после каждых шести рабочих дней седьмой был днем отдыха. Рабы были собственностью императора. Их берегли, так же как волов и лошадей. Осужденные же работали день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем. Они умирали, добавляя товарищам лишнюю работу своими похоронами. Варду всегда было известно о работающих на рудниках осужденных. Однако он никогда не задумывался о том, что, собственно, за люди туда попадают. Он никогда об этом не спрашивал. Он был солдатом, преследовал преступников, схваченных же отдавал в руки Имперского Трибунала. Больше его ничто не интересовало. Потом он сам стал преступником. Убийцы на рудники не попадали. Убийц вешали. Так же поступали со всеми грабителями, разбойниками, пиратами, пусть даже их руки и не были запятнаны кровью. Вместе с Вардом трудились люди, на совести которых была кража курицы, незаконная охота на императорскую дичь, незаконная ловля императорской рыбы, попытка обмануть имперского сборщика налогов. В течение полугода ближайшим другом Варда был конюх гаррийского магната; подсаживая в седло жену хозяина, он попал рукой ей под платье. Конюх клялся, что это была лишь случайность. Он остался в живых, отбыл свой срок и покинул рудники. Другим везло меньше. Молодые ребята, а также люди слабые или пожилые обычно умирали через несколько месяцев. Здоровые, сильные мужчины медленно угасали. Если не погибали от болезней — они тяжко трудились, день за днем… лишь бы дотянуть до осени. Осенью темп работы ослабевал. Корабли не приходили, склады же в Ахелии были невелики. Осень приносила некоторое облегчение. Среди тех, с кем Вард познакомился, впервые приступив к работе, через семь лет остались в живых только трое. Еще нескольких освободили после отбытия наказания. Вард был мужчиной Чистой Крови. Лишь благодаря этому его осудили на семь лет, а не на пятнадцать. Относились к нему тоже лучше, значительно лучше, чем к другим. Комендант легиона хорошо его знал как коллегу-офицера, солдаты и надсмотрщики тоже видели в Варде бывшего капитана. Его ставили на легкую работу, посылали с повозками в Ахелию, где он принимал участие в разгрузке. Осужденные ворчали, досаждая ему на разный манер, и требовали равного и справедливого отношения ко всем. Равного и справедливого… Вард не понимал, как эти люди еще могут употреблять подобные слова. Освобождая Варда от самых тяжелых работ, главный надсмотрщик рисковал потерей своего поста. Осужденный капитан все-таки не был обычным преступником… Когда Ик Берр лишился поста коменданта Морской Стражи, на Агарах тут же снова пошли в ход обвинения в халатности. Пришедший на место Берра протеже Трибунала счел их обоснованными. Варда уволили со службы. Тем самым он перестал быть неприкасаемым для Трибунала. Обвиненный последовательно в оказании помощи члену команды пиратского корабля, в содействии бегству пиратки с Малой Агары и позднее — с Агар вообще, в соучастии в убийстве имперского урядника, наконец, в незаконном лишении свободы уважаемой жительницы Ахелии, госпожи Эрры Алиды, он был немедленно осужден и тут же сослан на рудники. Днем раньше Алида сама посетила его в камере. Тогда он уже знал, кто эта женщина. — Ты глупо поступил, господин, ввязавшись в дела, которые тебе не по зубам, — сказала она. — Я была единственным действующим орудием Трибунала на Агарах, поскольку те старикашки, которых все знают, могут лишь осуждать, но не преследовать. Теперь моя миссия закончена. Никто уже не придет к самой дорогой шлюхе в Ахелии с поручением кого-то убрать… — И сколько таких поручений ты выполнила? — спросил он. — Немного, — пренебрежительно ответила она. — Но все это были незначительные люди. Их смерть ничем не угрожала империи. Однако у меня бывали те, кто требовал… о, весьма необычных вещей. Ты наверняка догадываешься, что с ними стало. Агары невелики. Но у людей, которые здесь живут, порой бывают большие планы. — На ее губах появилась ироничная улыбка. — Ты умрешь на рудниках, — коротко сказала она. Он стоял на немеющих ногах, с висящими на прикованных к стене цепях руками — но выпрямившись. — Приговор уже вынесен, — пояснила она. — Завтра ты его услышишь. Может быть, однако… я могла бы его смягчить. Она ждала, но он не отозвался. — Куда они поплыли? — спросила она. Он не знал. Но даже если бы и знал, она не услышала бы от него ни слова. Он молчал. — Пока тебя еще не допрашивали… по-настоящему. Здесь есть места, где ломают самых крепких. Он скривил губы: — Не пугай. Я человек Чистой Крови. Даже вы не можете пытать меня безнаказанно. Сведения о том, куда сбежали какой-то мелкий пират и девушка, не стоят того, чтобы проливать Чистую Кровь в камере пыток. — Неужели? — Может быть, в Дороне. Может быть, там есть люди, достаточно высокопоставленные для того, чтобы допустить подобное беззаконие. Но здесь я никого такого не вижу. Здесь Агары, а Чистая Кровь на Агарах в цене. Ты это хорошо знаешь, поскольку тебе платили за твое имя. Ведь не за красоту же? Она быстро подошла и плюнула ему в лицо. С тех пор он ее больше не видел. Когда его освободили с рудников, комендант легиона, не покидавший Арбы, вызвал его к себе. Это был тот же самый уже основательно постаревший человек, который делил власть на острове еще с Берром. — Капитан, — сказал он, — в морскую стражу ты уже вернуться не можешь, в легион тебя тоже не возьмут. Но я могу порекомендовать тебя капитанам кораблей, которые заходят в Ахелию. Я уже стар, и меня не интересует мнение Трибунала по этому поводу. Правда, офицерская должность на корабле, который возит медь, — не особо достойная работа, но все-таки… Вард молчал. — Так я и думал, — вздохнул комендант. — Я здесь вроде тюремного надсмотрщика. Не обижайся, что мне пришлось выполнить свою обязанность. Вард покачал головой. Комендант снова вздохнул: — Что я могу для тебя сделать, сынок? Денег ведь ты не возьмешь… Поверь, однако, что я желаю тебе добра. Трибунал… — Он помолчал, потом продолжил: — Ты счел бы мои слова провокацией. Лучше я не буду ничего говорить. Что я могу сделать для тебя, господин? — Две вещи, комендант. Старик тут же наклонился к нему. Вард видел, что этот человек и в самом деле не желает ему зла. — Сейчас я должен поехать в Ахелию, на могилу матери. Но потом я вернусь. Мое имущество пропало. Я хочу работать на рудниках, господин. Могу я получить рекомендацию вашего благородия? Офицер уставился на него неподвижным взглядом: — Ради Шерни, господин… Ты понимаешь, что говоришь? Вард выжидающе молчал. — Мужчина Чистой Крови… на медных рудниках… — Я могу получить работу как вольный рудокоп? — О чем ты говоришь… Конечно, и немедленно. Но я в самом деле не понимаю… Вард поблагодарил его кивком. — А второе желание? Бывший осужденный отвел взгляд: — Просьба, комендант. Не мог бы ты, господин, узнать, где сейчас та женщина? Наступила тишина. — Солдат этого не слышал, — сказал комендант. Он снял мундир, тщательно его сложил и спрятал. Лишь после этого он снова посмотрел на Варда: Хорошо, капитан.29
„Сейла“ — легкая, быстроходная и маневренная бригантина, названная так по имени одной из легендарных дочерей Шерни, созданных для борьбы со злом, шла поперек ветра на юг. Дартанские легенды гласят, что самой красивой дочерью Шерни была Роллайна, старшая сестра Сейлы. Возможно. Трудно, однако, было возражать против того, что „Сейла“ была одним из самых изящных кораблей, которые когда-либо плавали в этих водах. На трех мачтах корабль нес три косых паруса ллапманского типа, все белые, с ярко-зеленым знаком „I“ посредине. Косые паруса, может быть и не столь подходящие для дальних рейсов, требовали меньше работы, чем прямые, и потому вся команда бригантины состояла из тридцати человек — больше просто не требовалось. Тем более что на корабле не было орудий; лучшей его защитой была скорость. „Сейла“, сильно накренившись на правый борт, ровно рассекала волны спокойного моря, оставляя за кормой пенящуюся белую полосу. В нескольких милях перед ней, с наветренной стороны, из утреннего тумана выступали приземистые очертания какой-то суши. Корабль слегка изменил курс и пошел прямо в их сторону. По левому борту лежал одинокий каменистый островок. Его старательно отмечали на всех картах, поскольку его окружали опасные подводные скалы. Не один корабль пошел здесь ко дну. В тени этого угрюмого острова, почти неразличимый на темном фоне обрывистого берега, стоял на якоре большой барк с оголенной мачтой. Выше, на краю обрыва, два человека внимательно наблюдали за стремительной бригантиной. — Не могу на тебя надивиться, — сказала Лерена. — Еще раз спрашиваю: откуда ты знал? Лоцман пожал плечами: — Я не знал… Только догадывался. А ты нет, госпожа? Берер должен был идти этим путем, разве что он возвращался с Западного Простора. Но я в это не слишком верил. Если же он шел от Южных Островов, то должен был идти именно здесь, поскольку это кратчайший путь в Дорону. — Не кратчайший… — заметила она. — Кратчайший известный путь, — согласился он. — Никто не ходит вдоль западных берегов Гарры. Если бы все погибшие корабли, что лежат там, вдруг всплыли на поверхность, по их палубам можно было бы дойти сюда, не замочив ног. Они восхищенно следили за ровным ходом корабля с белыми парусами. — Но это значит, что ты давно уже догадываешься, где могут быть сокровища. — Не притворяйся, госпожа, что сама не догадываешься! Она кивнула: — Однако Южный архипелаг — это несколько сотен островов и островков… — Именно. — Может быть, в самом деле Барирра? — Сомневаюсь, госпожа. Нет, госпожа. Это было бы чересчур просто. А кроме того… — Мой отец был не дурак, Раладан. Он знал, что каждый скажет — это чересчур просто. — Ты забываешь, что я знал твоего отца, госпожа. Наверняка не Барирра. Она долго смотрела ему прямо в глаза, с растущим недоверием. — Почему ты столь усиленно пытаешься выбить из моей головы эту мысль? Он снова пожал плечами: — Если хочешь, можем проверить. Но я знаю Барирру. На нашей карте другой остров, впрочем поменьше… И повторяю, я знал твоего отца. Он завоевал Барирру, сражаясь со всеми войсками Гарры. Потом мы заходили туда пару раз, чтобы вывесить новый флаг, но капитан даже не сходил с корабля… Его забавляла мысль о том, что всю эту войну он развязал и выиграл просто так, ради прихоти. Он не спрятал бы на этом острове даже пары старых сапог, поскольку был бы вынужден сказать сам себе, что сражался за что-то. А это отобрало бы у победы весь ее вкус. Она кивнула, продолжая смотреть ему в глаза. — И что теперь, Раладан? Они снова взглянули на рассекающую морскую гладь бригантину. — Красивый корабль. Они помолчали. — Так, как мы решили: когда он скроется из виду, двинемся следом и мы. — Если ветер не переменится, могут быть хлопоты. — Увидим. Южные Острова составляют три группы… Думаю, речь идет о Восточной Отмели. — Верно, — согласилась Лерена. — На Восточной Отмели — Сара, в Саре стражники и мощная эскадра. А Западная Отмель… — …Там одни лишь скалы, столько скал, что лишь безумец отважится идти туда на чем-либо крупнее челнока. — Кто знает?.. — задумалась она. — Нет, госпожа. Даже Демон не отправился бы туда без хорошего лоцмана. Впрочем, посмотри: эта бригантина наверняка идет не на Западную Отмель. — Может быть, у него был лоцман? — В ее голосе вновь зазвучало подозрение. — А Риолата… может быть, она специально запутывает следы. Она хитрая, Раладан. — Ты меня слушаешь, госпожа? — Он продолжал спокойно объяснять: — В конце лета мы всегда отводили корабль в какое-нибудь укрытие. На борту оставался Тарес, иногда Эхаден, иногда я. И еще несколько матросов. Несколько раз оставался твой отец. Остальные еще до этого сходили на берег. У Южных Островов мы бросали осенью якорь ровно пять раз: два раза у Западной Отмели и три раза у Восточной. В каждом из этих мест капитан хотя бы раз был сам, вместе с четырьмя или пятью матросами. Не помню, чтобы я когда-либо еще видел кого-то из них… Она вопросительно посмотрела на него. — Обычно, хотя и не всегда, оставались те, кто больше не хотел выходить в море. Команда была уверена, что в конце осени они сошли на берег и отправились восвояси. — А на самом деле? — На самом деле они отправились на корм рыбам. Некоторые убежища использовались неоднократно, никто не должен был знать, где они находятся. В начале зимы команда снова собиралась в условленном месте. „Морской Змей“ приходил туда, ночью ненужные матросы шли за борт, а утром шлюпка плыла за теми, кто ждал на берегу. Так это примерно выглядело. — Ты никогда прежде мне об этом не рассказывал. — Ты никогда не спрашивала, госпожа. Они посмотрели друг на друга. Разбитое лицо девушки выглядело просто ужасно, синяки потемнели. — Однажды осенью, — продолжал лоцман, — твой отец рискнул, воспользовался хорошей погодой и спрятал сокровища на острове, у берегов которого стоял „Морской Змей“, или на одном из островков поблизости. Ему помогали те самые матросы, что оставались с ним. — Это весьма ограничивает пространство для поисков. — И да, и нет. У Восточной Отмели я бросал якорь лишь один раз, возле острова… в точности такого же, как тот, где мы находимся сейчас… Во время осеннего волнения просто невозможно пристать на шлюпке к этому утесу, верно? Тем более что наверняка было совершено несколько рейсов. Ведь Демон хотел спрятать сокровища, а не утопить… Это явно был другой остров. — А на Западной Отмели? — На Западную Отмель всегда вел корабль я. Один раз сам, в другой раз с капитаном и со всей командой. Мы просто бежали от имперской эскадры, это было в конце лета. Один фрегат разбился о скалы, второй мы захватили. Демон остался с троими или четверыми в укрытии, а Эхаден, Тарес, я и все остальные отправились дальше на том корабле. Его купил Броррок… Больше мы никогда не укрывали „Змея“ в тех скалах. Зимой, когда капитан пришел за нами на Гарру, я решил, что это настоящее чудо. — Почему? — Я оставил ему карты и сам же еще их дополнил. Но что там карты… Обшивка была так повреждена, что вся команда латала ее две недели. В трюме было столько воды, что… Будь это другой корабль, не столь прочной конструкции… Думаешь, госпожа, твой отец спрятал бы сокровища там, куда не в состоянии добраться сам? Лерена в душе с ним согласилась. — Пожалуй, пора, Раладан, — сказала она. Они осторожно начали спускаться туда, где их ждала шлюпка, затем переправились на корабль. План их был прост: они должны были удостовериться, что Риолата действительно идет к Южным Островам, после чего подстеречь ее на обратном пути. Первая часть плана была уже выполнена, относительно второй же у Лерены имелись серьезные сомнения. Раладан, однако, убеждал ее, что все получится. Впрочем, выбора у них не было. Если речь действительно шла о восточной группе островов и если Риолата собиралась возвращаться тем же путем (что было вовсе не обязательно), они должны были преградить ей путь в указанном лоцманом месте. Бригантина, конечно, легко могла уклониться от борьбы, поэтому ее должны были окружить быстрые, изворотливые лодки морских шакалов, как называли местных прибрежных пиратов. Раладан советовал нанять шесть или семь таких лодок, с чем не должно было быть хлопот, и пересадить на них часть команды „Звезды“. В этих неглубоких, полных рифов и мелей, самых предательских водах Шерера даже изящная бригантина Риолаты не могла сравниться с плоскодонными челнами с десятью гребцами на каждом. Но этих „если“ было столь много, что Лерена боялась даже предполагать, каковы, собственно, шансы на успех их, вернее, Раладана плана. Однако ничего лучшего она придумать не могла. Раладан… Доверяла ли она ему? Что ж, пожалуй, больше чем когда-либо, но все же не до конца. Она никому не доверяла — до конца. Но ему она очень хотела бы доверять. Удивительный человек… Дитя моря. Перед встречей с Риолатой на Берегу Висельников он рассказал Лерене свою историю. Чудовища из глубин внезапно утратили для нее всякий интерес, таинственное происхождение Раладана занимало ее куда больше. Кем был этот лучший лоцман всех морей? Сыном торговца, а может быть, капитана корабля? Высокорожденным? Ведь он мог выступать в любой из этих ролей. Кем, кем он был? Она отдала бы полжизни, лишь бы это узнать. Полжизни… Немного… Ее постоянно мучила тщательно скрываемая боль, граничившая почти с отчаянием. В детстве она была очень рада, что так быстро растет. Риолата тоже. Радовались они, однако, лишь до тех пор, пока не начали понимать, что это на самом деле означает… Они были попросту обмануты. Порой она с ужасом думала о том, что уже через несколько лет будет намного старше собственной матери. Она не знала причин этой трагедии, никто не в силах был помочь ей найти ответ на самый важный вопрос. В последнее время у нее начали возникать мысли о далеком Громбеларде и таинственном, опасном Дурном Крае. Может быть, мудрецы с Черного Побережья? Об их знаниях и могуществе слагались легенды. Может быть, там? Опершись о фальшборт на носу корабля, Риолата думала почти в точности о том же самом, что и Лерена. Они давно уже заметили, что мысли их часто необычно схожи, кроме того, если размышления одной из них сопровождались сильными эмоциями — другая почти всегда их воспринимала. Так было и на этот раз. Риолата испытывала грусть, смешанную с горькой злостью, но чувства эти исходили откуда-то извне — она безошибочно это определяла. Само их присутствие, на фоне ее собственных чувств, вызывало подобные же мысли… Риолата думала о старости. О недалекой уже старости. Потом она подумала о том, что очень хочет иметь сына. Сильного, настоящего мужчину, который продолжит ее дело и сын которого будет королем Просторов, могущественным владыкой, который способен огнем согнать армектанские и дартанские города в глубь материка, а может быть, даже поднять меч на самое сердце империи — Кирлан. В своем воображении она видела пылающие города, могучее зарево от горизонта до горизонта, а на его фоне — фигуру владыки-воина, командующего тысячами солдат пехоты, стирающей с карты Шерера все, что враждебно или нежелательно новому властителю. Она с презрением думала о нынешней империи, представлявшей собой странную и неряшливую мешанину разных стран и народов. В свое время пожалели усилий на то, чтобы создать из них один великий народ, одну страну. А ведь люди, которыми правит один человек, не могут быть разными, не могут пользоваться десятком языков… Все нужно перемешать и переплавить, вывезти гаррийских девушек на континент, а тех, что с континента, — на Гарру… Светловолосые громбелардки должны стать женами черноглазых армектанцев, дартанки — получить в мужья островитян… Нелегкое, но единственно верное решение. Кроме того — оставалась проблема других разумных существ. Она никогда не видела живого кота или стервятника, лишь изображавшие их гравюры. Здесь, посреди морей, они не встречались вовсе, мало было тех, кто мог бы похвастаться тем, что видел хотя бы одно из этих созданий. Чаще всего это были моряки. Среди матросов с торговых кораблей часто ходили разговоры о том, что достаточно зайти в громбелардский Лонд, чтобы встретить не один десяток котов; можно было их увидеть также в армектанских Каназе и Рапе. Она этого не понимала. Она не могла понять, как тварь, ходящая на четырех лапах, словно собака, может сравниться с человеком. Не говоря уже о стервятниках. Она слышала о Кошачьей Войне, победоносном восстании, когда звери, пусть даже и разумные, отвоевали себе человеческие права. История этого мятежа столь ее занимала, что она собрала как можно больше сведений на эту тему. Она не могла поверить — империя позволила повстанцам победить! И как только, ради Шерни, не вспыхивали новые восстания? Коты, живой символ неподчинения, ходили и занимались своими делами среди людей! — Госпожа… Она медленно обернулась. Капитан „Сейлы“, уже пожилой человек, однако опытный моряк, чуть наклонил голову. Он был одним из тех немногих, кому было известно, кто на самом деле управляет двумя солидными торговыми предприятиями в Дороне; знал он и о том, что торговля с Армектом и Дартаном лишь прикрытие для совершенно иной деятельности. Кстати говоря, дела Риолата вела весьма уверенно и в течение неполных двух лет добилась немалых денег и влияния. Путь, правда, ей проторил Раладан, воспользовавшись какими-то связями еще с тех времен, когда ее отец крепко держал в узде многих доронских богачей… — Что, капитан? — Я больше не капитан с тех пор, как нога госпожи ступила на эту палубу. Она чуть улыбнулась: — Оставь эти любезности, Вантад, мы не во дворце. Что случилось? — Я просил, чтобы ты не показывалась команде, госпожа, как можно дольше. Люди беспокоятся. Что мне им сказать? — Да, в самом деле… — сказала она, машинально поднося ладонь к лицу, синяки на котором приобрели желто-фиолетово-зеленый цвет. — Я совсем забыла! Вантад, друг мой, скажи им что-нибудь, что я упала с трапа… ну не знаю… Старый капитан чуть приподнял брови, поглядывая на копошащихся на палубе матросов. — Гм, с трапа… Не знаю, госпожа. Ладно, что-нибудь придумаю… Он с обеспокоенным видом ушел. Риолата еще раз дотронулась до лица и снова оперлась руками о фальшборт, улыбаясь про себя. Старый Вантад был незаменим. Немногие пользовались таким ее доверием. Может быть, еще Аскар. И пожалуй, больше никто. Впрочем, все люди на этом корабле заслуживали доверия (естественно, в разумных пределах). Вантад и Риолата тщательно их подбирали. Двадцать моряков, в совершенстве знавших свое дело, полностью обеспечивали „Сейлу“; Риолата заботилась о том, чтобы у них было хорошее питание, достойное жалованье и чтобы они не были перегружены работой сверх меры, хотя на безделье они отнюдь не могли пожаловаться. Кроме моряков в состав команды входило десять солдат — мысленно она называла их своей гвардией. Они были ей беззаветно преданы и великолепно обучены. Она платила им за тренировки и щедро награждала тех, кто лучше всех стрелял или искуснее всех владел мечом. Поэтому между солдатами шло непрестанное соперничество. Командиром этого небольшого отряда был мрачный десятник со сломанным носом, которого порекомендовал ей Аскар, сказав: „Это вор. Он по-настоящему болен, если не в силах что-либо украсть. Я не могу держать его в гарнизоне, поскольку никто из моих офицеров не хочет за него отвечать. Как-то раз он украл подсвечник из дворца Представителя… Но во всем остальном это человек, который не видит для себя жизни вне армии. Позволь ему время от времени что-нибудь украсть, и он сделает из вверенных ему людей машины для убийства“. Так оно и было. Носач (таково было прозвище десятника) нашел ей наемников — людей, любивших золото, женщин и оружие. Она оценила их и, похвалив его выбор, дала им столько, сколько они потребовали. Когда они не были на службе, они могли делать что хотели. Взамен они должны были слушаться и молчать. Двоих пьяниц, которые молчать не умели, убили на глазах у остальных. Третий, не желавший слушаться, сдох у позорного столба. С тех пор хлопот у нее больше не было. Она сама установила порядок тренировок. Носач был просто потрясен тем, как она разбирается в военном деле. Официальный владелец „Сейлы“ (ее марионетка) заявил, что отряд предназначен для сопровождения грузов. Комендант гарнизона в Дороне (то есть Аскар) выдал разрешение на ношение мечей — привилегия высокорожденных и солдат. Кроме мечей у них были еще и арбалеты, доспехи же их состояли из закрытых шлемов с забралом, опускавшихся сзади на шею, кольчуги и кирасы, покрытых белыми накидками с зеленым, таким же, как и на парусах „Сейлы“, знаком. Образцы Риолата черпала частично из Громбеларда — родины арбалета, частично же из Армекта, поскольку кираса была защитным доспехом тяжеловооруженной армектанской пехоты. В Армекте, однако, вместе с кирасой носили топор и щит — она же отказалась и от того, и от другого. Она любила оружие, так же как и Аскар. Может быть, именно благодаря этому они столь легко находили общий язык. Больше всего она доверяла оружию, которое могло поражать на расстоянии. Знакомясь со сведениями о вооружении и облачении легионов и Морской Стражи, которые предоставил ей Аскар, она думала о том, сколь трудным противником являются армектанские войска на суше. Армект был краем лука, превратившегося там почти в предмет культа, — самого действенного оружия в сражении с любым противником. Удивительно, сколь тщательно было продумано взаимодействие лучников с топорниками. В обороне лучники дезорганизовали атаку противника, под прикрытием тяжеловооруженной пехоты. В наступлении роли менялись местами: топорники составляли ядро атаки, задачей же лучников было смешать стрелами строй противника, в случае контратаки защищать тяжеловооруженных от окружения с флангов, на решающей же стадии поддержать их с мечом в руке или же в случае поражения — прикрыть отступление. Могло показаться, что лук лишь вспомогательное оружие. Но это было не так. В обороне он имел первоочередное значение, а в наступлении такое же, как и топор. Армектанцы хорошо об этом знали и сами боялись лука настолько, что сделали все возможное, чтобы обезопасить от него собственные войска; именно этой цели прежде всего служили кирасы и щиты топорников, достаточно хорошо защищавшие от стрел. Другое дело, что в краях, захваченных Армектом, никто, собственно, луком не пользовался. Дартан пал почти без борьбы, зато любимым оружием громбелардцев был арбалет, для которого кираса уже не являлась препятствием, даже с расстояния в сто пятьдесят шагов. Если бы громбелардские горы обороняли регулярные войска, а не банды наемников, служивших разбойникам рыцарям, громбелардский арбалет мог бы преподнести Армекту неприятный сюрприз… С луком, использовавшимся не только как охотничье оружие, захватчики столкнулись лишь за морем — но зато с каким луком! Гаррийский лук, опертый о землю, достигал человеческого роста, стрелы же могли сравниться по силе с арбалетными. У гаррийских командиров не было, однако, единой концепции использования этого оружия… впрочем, не только его. В результате прекрасно организованным отрядам Армекта приходилось иметь дело с воинственным, но плохо организованным войском, поделенным на неравные отряды, вооруженным самым разнообразным оружием от алебард и секир до луков и пращей, не говоря уже о топорах и мечах… Риолата думала о том, чтобы вооружить своих людей длинными гаррийскими луками, но по нескольким причинам отказалась от этой мысли. Во-первых, длинный лук уже много лет был запрещен Кирланом, а она хотела, чтобы ее отряд был полностью законным. Во-вторых, на палубах кораблей, где во время сражения обычно было крайне тесно, среди такелажа и парусов, лук такой величины, честно говоря, принес бы одни лишь хлопоты, ее же „гвардии“ приходилось действовать везде и в любых условиях. Она выбрала арбалет, оружие более дорогое, тяжелое и не столь скорострельное, зато легкое в транспортировке, дальнобойное и с невероятной убойной силой. Она чуть улыбнулась. О, она готовила армектанской пехоте парочку сюрпризов… Внезапно очнувшись, Риолата несколько удивилась, осознав, сколь далеко зашли ее размышления. Она еще раз посмотрела на море, повернулась и направилась к длинной невысокой кормовой надстройке, наклонив голову, чтобы вахтенные на палубе не видели ее синяков. Помещения на „Сейле“, хотя и несколько темные, были в меру просторными и удобными. У нее была своя каюта, рядом с капитанской. Она редко выходила в море, но каюту всегда на всякий случай держали наготове. Однако она не пошла к себе, а постучала в дверь каюты капитана. Вантад сидел за столом в обществе своего первого помощника. При виде ее они встали. Офицер тут же поклонился и вышел. — Когда будем на месте? — Завтра вечером, госпожа. Если повезет. Ты не знаешь здешних мест, уже скоро нам придется быть очень внимательными… — Я не только здешних мест не знаю, но и вообще никаких, — засмеялась Риолата. — Плохой из меня матрос, капитан. — Мне приходилось видеть и худших. — Думаю, не приходилось… Ну ладно, Вант, у меня есть определенные опасения. — Какие? Она тщательно взвешивала каждое слово: — Я уверена в этой команде так, как только можно быть уверенным. Но мы идем за самым большим сокровищем из всех, что когда-либо видели Просторы. Ты можешь поручиться?.. Он кивнул: — Ручаюсь, госпожа. Эти люди имеют здесь такие условия, о которых моряк обычно даже мечтать не смеет. Они знают, что лучше не будет нигде. С другой стороны… Сам не знаю почему, но они боятся тебя больше всех и всего на свете. Нет, госпожа. Даже если бы кому-то из них золото затмило разум, остальные вышвырнут его за борт при одном лишь упоминании о мятеже. Им есть что терять, и притом немало. — Надеюсь. Помолчав, капитан заметил: — Тебя что-то еще беспокоит, госпожа. Я не настаиваю… но, может быть, старый Вантад сумеет чем-нибудь помочь? Она положила руку ему на плечо. — Все идет чересчур хорошо, чересчур гладко. Парень Берера говорил так быстро, как только мог. Потом мне удалось обвести вокруг пальца Лерену. Так мне, по крайней мере, до сих пор казалось… — Она помрачнела. — Ты ведь знаешь, Вант, что у меня есть сестра? Но ты не знаешь, что мы одинаковые. Он поднял брови: — Не понимаю?.. — Она моя сестра-близнец. Вантад удивился: — Я не знал… да и откуда я мог… — Вот именно — откуда ты мог знать? Мы храним это в тайне, Вантад, сохрани ее и ты. Никогда не известно, каким целям может послужить наше подобие… — Она покачала головой. — Об этом не знает даже Аскар. А тебе я это говорю потому, что чувствую, что она где-то рядом. Она опасна, — после короткой паузы продолжила Риолата. — Она опаснее, чем думает кто бы то ни было, чем думает она сама. Но пока она не знает, чего хочет… Знаешь, Вантад, иногда мне кажется, что я старше ее. У меня свои цели, я к чему-то стремлюсь. Она — нет. Она думает, что станет королевой пиратов, но… вот именно, ты сам улыбаешься. Однако в один прекрасный день Лерена объявится, и это будет подобно удару грома, Вант. Ничто ее не остановит, ничто не сможет ей помешать. Я боюсь этого дня. — Она прикусила губу. — Я боюсь этого дня… — тихо повторила она. Она подняла взгляд и засмеялась, увидев нахмуренные брови старого капитана. — Ладно, не принимай близко к сердцу, — с внешней беззаботностью сказала она, беря его руку в свои. — Когда рядом такой мужчина, я не боюсь никого и ничего. Ее слова явно доставили ему удовольствие. — Я иду спать, — заявила она. — Хорошо, госпожа. Я разбужу тебя, когда мы будем у цели. — Да. Вскоре она уже была в своей каюте. Несмотря на тусклое освещение, маленькое зеркало безжалостно отражало все синяки на ее лице. Недовольно морщась, она разглядывала себя, поклявшись, что не выйдет на палубу до захода солнца. Потом легла. Сон ее ничто не нарушало, пока ее не разбудил Вантад. — Мы на месте, госпожа. Риолата мгновенно пришла в себя. — Сейчас иду! — поспешно бросила она. Быстро одевшись, она выбежала на палубу. Сгущались сумерки. Она отыскала взглядом капитана и подошла к нему. Некоторое время они стояли молча. — Успеем? — спросила она, не спуская глаз с массивных очертаний острова. — Пристанем сегодня? — Честно говоря, госпожа… Я предпочел бы бросить якорь здесь до утра. — Вантад с сомнением посмотрел вдаль. — В этих водах на самом деле полно ловушек. — Есть какие-нибудь шансы… — Что ж… конечно. — Тогда я не стану ждать всю ночь всего в миле от цели. — Мы рискуем потерять „Сейлу“. — Что поделаешь. Столь возбужденной он никогда прежде ее не видел. Близость цели волновала и его, но он старался сохранить здравый рассудок. Впрочем, в его возрасте риск и приключения уже не были тем, чем они были для него когда-то. — С твоего позволения, госпожа, — осторожно начал он, — думаю, у меня есть идея получше. Она нетерпеливо посмотрела на него: — Да? — Я предпочел бы все же не подвергать „Сейлу“ риску. Я дам тебе, госпожа, шлюпку и шесть умелых гребцов. Вы высадитесь на острове, а утром я к вам присоединюсь. Она чуть не заключила его в объятия. — Отлично, отец! Так и сделаем. Поторопись! Чуть позже матросы уже оживленно суетились возле стоявшей на средней палубе лодки. Вантад назначил шестерых на весла и рулевого, но двоих Риолата отвергла, взяв вместо них Носача и одного из солдат. Вскоре они отчалили от борта парусника. Риолата сидела на носу, то и дело оглядываясь на остров, контуры которого медленно погружались в сумерки.30
— Ты знаешь, как называется этот остров? — спросила Лерена. — Ну тот, на котором ты собираешься нанять лодки? Раладан покачал головой: — Нет, госпожа. Не помню. Когда-то я наверняка об этом слышал, но островков таких вокруг Гарры сотни. Не требуй от меня, чтобы я знал название каждого из них. Особенно если учесть, что названий иногда несколько. — Я и не требую. Но я думала, раз на них живут морские шакалы… — Шакалы сидят на многих из этих островов, госпожа. Это рыбаки, просто рыбаки. Они и в самом деле ловят рыбу. Другое дело, что одинокий корабль не может здесь чувствовать себя в безопасности, а уж если он сядет на мель или разобьется о скалы… Я не слышал, чтобы кто-то уцелел после подобного приключения. Эти ребята режут всех спасшихся до единого, а корабль очищают, словно муравьи кость. — Значит, если бы мы наткнулись на скалы… — У нас не было бы ни единого шанса. Но пока мы в море, ничто нам не угрожает. Именно поэтому я хотел,чтобы мы поставили черный парус, не только потому, что его труднее разглядеть. — Понятно, — догадливо улыбнулась она. — Здесь лучше выдавать себя за пирата, чем за торговца. — Именно. Наша посудина, — он показал на палубу, — для них лакомый кусок. Лучше будет, если наши рыбаки сочтут, что на нем полно головорезов, готовых отправить ко дну любого, кто окажется поблизости. Но меня несколько беспокоит твоя сестра, госпожа. „Сейла“ — быстрый корабль, но здесь это не имеет особого значения. Боюсь, как бы кто-нибудь не украл у нас идею… — За Риолату не беспокойся, — сказала Лерена, и ему показалось, что воздух содрогнулся, как бывало всегда, когда она произносила это имя. Лучше побеспокойся о нас. Он посмотрел на нее, и в то же мгновение послышались крики матросов. Проследив за ее взглядом, Раладан обернулся. С наветренной стороны, из-за скалистого мыса, медленно выплывал средней величины фрегат с красными парусами. — Дартанский стражник? Здесь? — Почему нет? — В это время года? И прежде всего, госпожа, — фрегат? Дартанская стража ходит на бригантинах, не на фрегатах, и уж наверняка… — Он перешел к другому борту. Она двинулась следом. Раладан растолкал матросов и еще раз внимательно посмотрел вдаль: — И уж наверняка не на этом фрегате, госпожа. Он улыбнулся, что бывало редко. Фрегат сменил курс и теперь шел прямо к ним. — Перед тобой живая история Просторов, госпожа. Это корабль Броррока. Старый Броррок был стар еще до того, как твой отец впервые увидел море… — Ты его знаешь? — Еще бы! Мы год плавали вместе, от него я перешел к Демону. Что вовсе не означает, госпожа, что твои люди должны стоять разинув рты, пока пушечные ядра не выбьют им зубы. Лерена огляделась по сторонам. — Эй! — завопила она. Матросы зашевелились. Она дала пинка одной из корабельных шлюх, о чем-то быстро распорядилась и вернулась к нему. — Что будем делать? — Посмотрим. Сомневаюсь, чтобы он принял нас за торговца. Спустить паруса. Она повторила команду. Они смотрели, как фрегат ловко маневрирует, также сбрасывая скорость. Вскоре они дрейфовали почти борт о борт, на расстоянии не более ста шагов друг от друга. — Эй! — послышалось с палубы фрегата. Голос был столь громок, что если его обладатель был его достоин, то наверняка принадлежал к племени гигантов. — Эй! Что за корабль?! Раладан пожал плечами, но Лерена сказала: — Ответь им, наверняка они обо мне слышали. Он подумал, что на ее месте не был бы столь уверен. Слава Лерены простиралась главным образом в ее собственном воображении… Хотя, с другой стороны, „Звезда Запада“ не была кораблем совершенно неизвестным. В свое время довольно громкой была история о бунте команды на барке, перевозившем племенных рабов в дартанскую Ллапму. Лерена рабов продала, а корабль и мятежная команда служили ей верой и правдой уже два года. С фрегата их окликнули еще раз, резко и требовательно. Раладан хотел было ответить тем же самым тоном, но Лерена подняла руку. — Ответь им, — подчеркнуто спокойно сказала она. — Я прислушиваюсь к твоим советам, Раладан, но капитан здесь все-таки я. Он кивнул. — Э-эй! — крикнул он. — „Звезда Запада“ капитана Красотки Лерены! Кто спрашивает?! Мгновение спустя послышался ответ: — Привет Красотке! Это „Кашалот“ капитана Броррока! Корабли, лениво покачивавшиеся на волнах, сблизились еще больше. Лерена отодвинула Раладана в сторону и крикнула своим низким, глухим голосом: — Красотка приглашает капитана Броррока! На фрегате начался какой-то спор. Потом раздался короткий ответный крик: — Идем к вам! Броррок бросил якорь. То же сделали и на „Звезде“. Собравшись на палубе, команда Лерены смотрела, как там подтягивают привязанную к корме шлюпку и бросают веревочный трап. Вскоре шлюпка с несколькими людьми на борту начала быстро перемещаться в сторону барка. Сначала на палубу поднялся довольно высокий, рыжий, как лис, парень с крупными веснушками на лице. Он протянул руку и помог маленькому, сухому, словно палка, старичку. За ними появилось еще несколько человек. Старик сделал несколько шагов, чуть подволакивая левую ногу. Он посмотрел вокруг, затем неожиданно наклонился и, щуря поблекшие глаза, уставился куда-то на палубу. Вытянув руку, он сдавленным голосом спросил: — Сто тысяч молний, Рыжий… Что это? Веснушчатый парень посмотрел под ноги. — Говно, капитан, — коротко ответил он. Старик выпрямился. — Говно, — проговорил он, снова оглядываясь по сторонам. — А где же капитан? Раладан, наблюдавший эту сцену из-за спин моряков, покачал головой. Говорили, что Броррок, прежде чем попасть на море, был садовником у гаррийского магната. Может быть, именно это, а может быть, что-то другое стало причиной его редкостной любви к красоте и порядку. Все корабли, которыми ему приходилось командовать, сверкали чистотой, какой не требовал даже суровый, любивший дисциплину Рапис. Пятно на парусе, грязная палуба, даже выступающий гвоздь приводили ворчливого старика в ярость. Его пираты были толпой щеголей, которых силой заставляли стирать одежду и мыться. Лоцман был уверен, что грязный, воняющий мочой, дерьмом, блевотиной и ромом корабль Лерены, к тому же с черным, пропитанным дегтем парусом на мачте, Брорроку не понравится. Старый пират посмотрел на стоявшую несколько в стороне Лерену, на ее покрытое синяками лицо и изодранную в лохмотья когда-то белую рубашку. — Где капитан? — повторил он. — Это ты, что ли, дочка? Может, ты и красотка, но я что-то этого не замечаю. — Я думала, что меня посетит капитан Броррок, а не какой-то старый пердун, — спокойно ответила она, заложив руки за спину. — Но что поделаешь. Чего тебе надобно, папаша? Помощи? Наступила тишина. — О, сто тысяч молний… — проговорил капитан. Он повернулся к своим: — Хей, капитан! Лоцман раздвинул матросов и шагнул вперед. Старик посмотрел на него и удивленно наморщил лоб: — О, сто тысяч… Слепой Раладан, пусть меня повесят… Что ты делаешь в этой помойке, отвечай! Уборщиком работаешь? Раладан встал рядом с Лереной. — Нет, капитан. Я служу под началом дочери, так же как служил под началом отца. И я знаю, что делаю. Странно, что ты не слышал, кто капитан этого корабля. — Кое-что слышал… Но сегодня я верю в это еще меньше, чем когда-либо. — И зря. Старик обернулся к своим людям, словно прося совета. Раладан, однако, знал, что подобное просто невозможно: старый ворчун был известен тем, что никогда ни у кого совета не просил. — Капитан Броррок, — сказала Лерена, — может, поговорим? Вскоре они уже сидели вчетвером у нее в каюте. Броррок, недовольно морщась, разглядывал Лерену. Рыжий не сводил глаз с Раладана. Они не были лично знакомы, но виделись несколько раз мельком. В свое время, бывало, их капитанов связывали общие дела. — Что вы делаете в этих паршивых водах? — спросил старик. — Скоро здесь будет чересчур жарко. — Почему? — спросила Лерена. Броррок почесал нос. — Видишь ли, дочка, я гнался за стражником. И упустил его, сто тысяч молний… — Он ругался еще долго. Раладан и Лерена переглянулись. — Наверняка он сбежал на Сару. — Броррок снова почесал нос и чихнул. У меня испортилось мясо в бочках. Тридцать с лишним парней концы отдали… — Он мрачно посмотрел в угол. — Я нашел новых, но, ясное дело, без ничего. Вот я и думал, может, тот стражник даст мне немножко хорошего оружия и кольчуг. Но он сбежал, сто тысяч молний. Насколько я знаю имперских, эскадра из Сары уже выходит. Но старого Броррока им не поймать. — Это поиски наугад, — покачал головой лоцман. — Неизвестно даже, выйдут ли они на самом деле. — Выйдут, выйдут… Старый Броррок стоит того, чтобы попытать счастья. — Те знали, кто их преследует? — Да, Слепой, так уж получилось — знали. — Почему „Слепой“? — спросила Лерена, поглядывая на Раладана. — Старое прозвище… Так меня называли, когда мы плавали вместе. — Ха, ему завязывали глаза, а он швырял ножи! — захохотал Броррок. — И всегда попадал в мачту, чтоб ему!.. — восхищенно добавил он. — Вот его и прозвали „Слепой“. — Молодой был, — пробормотал Раладан. — Но покрасоваться-то ты любил… Э, что там, когда я был молодым… Он посмотрел на Лерену: — Ну, дочка, а ты? — Думала наловить тут немного рабов, — она развела руками. — Хорошее место, спокойное… Но, вижу, оно перестало быть таковым. — Перестало. Рабы все еще окупаются? — По-разному. Сейчас лучше. У меня в трюме хватит места для доброй сотни. Вошло бы и полторы, но тогда больше сдохнет, и прокормить трудно. Броррок присвистнул: — Ну, если сотня, то дело того стоит. В Бане продаете? — Сейчас нет. Год назад буря погубила посевы в Армекте, и дартанцы сделали целое состояние на своем зерне. До сих пор лучше всего продавать в Лла. Еще лучше было бы в Лида Ай, но Замкнутое море — дурное место. Броррок согласно кивнул. — Я не вожу рабов, — сказал он. — Как-то раз возил, и потом весь корабль у меня провонял. Больше не вожу. — Мне же лучше, — заметила Лерена. — Так что, в трюмах у вас пусто? — Пусто, — усмехнулась она. — А даже если бы что-нибудь там и было, то я не советовала бы заглядывать… Броррок захохотал. Рыжий тоже улыбнулся. — А ты неглупая, — похвалил старик. — Нет, сто тысяч молний, я не тронул бы корабля его дочери. Отличный был мужик, шалопай, каких мало, но человек достойный. Жаль, рано умер. (Не так уж рано… Но для Броррока каждый, кому не исполнилось хотя бы шестьдесят, был молокососом и щенком.) Старик задумчиво разглядывал девушку. — Ты не могла бы постирать рубашку, а, дочка? — Он махнул рукой. — Так, только… Не слушай старика. А может быть… — Вытянув трубочкой сухие губы, он посмотрел на Рыжего, на нее, на лоцмана и снова на Лерену. Может быть, вместе надерем задницу имперским? А? Лерена подняла брови. — Оружие у меня есть. Больше мне не нужно. А другая добыча… — Она пожала плечами. — И правда, добычи никакой, — согласился Броррок. — Но слава, какая слава, дочка! — искушал он. Лерена покачала головой, хотя и с сожалением; Раладан был уверен, что в другой раз она охотно бы присоединилась. — Жаль времени, — сказала она. — Лето кончается, а мне нужно продать еще партию. Сюда я пришла зря, придется идти куда-то еще. — Жаль. — Старый пират, по обыкновению, выругался. — А еще какая-нибудь помощь нужна, капитан? — любезно спросила она. Броррок бросил взгляд на Рыжего, движением головы показывая на Лерену: — Смотри, как уважает старика… Карты, дочка. Может, у вас найдутся лишние? — Этих мест? — Ну да. Раладан кивнул. — Немного старые, — сказал он. — Но я их для тебя поправлю, капитан. — Недорого возьму, — добавила Лерена. Броррок выпятил челюсть. — Подкована на все четыре ноги, — констатировал он. — Пусть меня утопят, я в тебе сперва не разобрался… Только, дочка, тут чуток воняет (не слушай старика)… Твой уважаемый папаша, будь он жив, дал бы тебе шлепка, ой дал… Не слушай. Меня это не касается. — Именно, — кивнула Лерена. — Раладан, принеси карты. Может быть, капельку рома, капитан? — О, дочка, что нет, то нет. В моем возрасте спиртное вредно. Я пью молоко. — Откуда в море молоко? — весело спросила она. — У меня всегда есть молочная скотинка. Есть и молоко. Она не поняла — не шутит ли он. Лишь потом Раладан сказал ей, что нет… Вскоре Броррок уже плыл обратно на свой фрегат. Они провожали шлюпку взглядами. — Странный он, — сказала Лерена. — Немного смешной. — Это только кажется, — возразил Раладан. — Это самый хитрый, безжалостный и жестокий человек, какого мне только приходилось видеть, госпожа. Притом моряк по призванию. Твой отец его превзошел, поскольку у него был корабль, с которым ничто на Просторах не могло сравниться. И еще у него был я, — добавил он без хвастовства, но и без лишней скромности. Лерена искоса посмотрела на него, но ничего не сказала. Когда шлюпка пристала к борту фрегата, она повернулась к команде: — С якоря сниматься! Паруса поднять! Броррок и его люди взобрались на палубу. С фрегата послышались прощальные крики. Команда „Звезды“ ответила тем же. Корабли медленно разошлись в противоположные стороны.31
Уже светало, когда измученная, ошеломленная, но счастливая Риолата вернулась к своим людям, ожидавшим возле шлюпки. Она нашла сокровища. Трудно было их не найти. „Остров“ оказался всего лишь безлюдной скалой, облюбованной огромными стаями птиц. На ней росло несколько карликовых деревьев и десятка два кустов; вся растительность была сосредоточена в середине этого клочка суши шириной примерно в четверть мили и вдвое больше в длину. К северу от этого „леса“ лежал „холм“ — груда камней, испещренная белыми птичьими силуэтами. При свете факелов, держа в руке нарисованную сыном Берера карту, она отыскала среди камней вход в пещеру. Стоя внутри легендарной сокровищницы, она подумала, когда прошел первый восторг, что воистину трудно было бы спрятать эти богатства лучше. Более крупные острова были, как правило, населены, и рано или поздно кто-нибудь случайно раскрыл бы тайну. Закопать же подобное количество драгоценностей в землю было просто невозможно. А этот островок — негостеприимный, избегаемый людьми (кто знает, когда его касалась нога человека, может быть, за сто лет до появления здесь Демона, а может быть, вообще никогда…) — был укрытием, о котором можно было только мечтать. Кто мог бы заглянуть сюда? Разве что какой-нибудь потерпевший кораблекрушение. Но вероятность подобного случая была столь мизерной, что ее можно было не принимать во внимание. Впрочем, ее отец застраховался от непрошеных гостей… Сразу же за входом в грот находилась волчья яма, дно которой было усеяно острыми кольями. Человек, сопровождавший Берера, нашел в ней быструю смерть. Прикрывавший яму кусок парусины, столь же темный, как и скалы вокруг, в конце концов сгнил бы. Но ему и не предназначалось лежать там вечно… Возвращение Риолаты разбудило солдат и матросов. Они поднимались, потягиваясь и зевая. Наступающее утро было довольно холодным и пасмурным, зато без тумана. Она видела, как на стоявшей в миле от берега „Сейле“ поднимают якорь. Она окинула взглядом море вокруг, и легкая улыбка, игравшая на ее губах, внезапно погасла. С юго-востока быстро приближались три парусника. Она тут же узнала фрегаты „малого флота Островов“ — прекрасно были видны их ярко-желтые паруса. Люди Риолаты обменивались приглушенными голосами, словно опасаясь, что их могут там услышать. Она посмотрела на свой корабль. На „Сейле“ тоже заметили эскадру. Она думала о том, какое решение примет Вантад. „Сейла“ была кораблем вполне законным, а присутствие в этих водах как-нибудь удалось бы объяснить; они могли идти на юг Гарры, в Багбу, хотя бы за водкой, которая была лучше, крепче и дешевле доронской. Правда, торговый корабль, идущий в Багбу, скорее избрал бы путь между восточной и средней группами Южных Островов, но ведь они могли по ошибке сбиться с курса… Хотя в этих краях подобных ошибок, как правило, старались избегать. Впрочем, у Вантада, собственно, не было особого выбора. Стражники наверняка уже заметили бригантину, цвет парусов и знак на них. Каждый владелец судна обязан был снабдить его четкими обозначениями в соответствии с требованиями местного коменданта стражи. Велись специальные реестры. Бегство „Сейлы“ могло бы доставить весьма серьезные хлопоты. Риолата напряженно смотрела, как эскадра островитян разделяется надвое: два корабля остались на прежнем курсе, последний же сменил галс и направился прямо к „Сейле“, быстро приближаясь к ней. — Спрячьтесь, — бросила она; белые мундиры ее солдат легко было заметить на фоне темных скал. Вскоре корабли сблизились. Она не могла слышать разговора их капитанов, лишь смотрела, напрягая взгляд почти до боли. С удивлением и почти с ужасом она увидела, что Вантад разворачивается и отходит от острова, в кильватере фрегата. Риолата схватилась за голову. У Вантада тем временем просто не оставалось выбора. Не менее напряженно, чем Риолата, он смотрел, как на фрегате рифят паруса, уменьшая скорость. Вскоре со стражника донесся голос, требовавший назвать себя. Он незамедлительно ответил. — Что вы здесь делаете? — продолжался допрос. — Иду в Багбу! — крикнул в ответ капитан. — Вчера сбился с курса! Фрегат поравнялся с бригантиной, после чего начал медленно ее обходить, на расстоянии шагов в пятьдесят. — Здесь пираты! — сообщили Вантаду. Офицеры на носу фрегата посовещались, после чего послышалось: — Корабль переходит под мое командование! Следуйте за нами! — У меня дела в Багбе! — Ты что, не знаешь законов? — последовал суровый вопрос. — От имени императора приказываю тебе следовать за мной! Твой корабль придается в распоряжение эскадры Главного Флота Гарры и Островов! Вантад, сам тому не рад, отдал соответствующие приказы. Действительно, таков был закон империи. Капитан имперского парусника мог подчинить себе любой встреченный им корабль. Для этого должны были иметься причины, но определение наличия таковых входило в компетенцию его подчиненных. Торговец имел право подать жалобу, которая обычно рассматривалась весьма тщательно, или же в случае понесенных убытков мог требовать их возмещения. Однако он не мог отказать в предоставлении помощи. Шло преследование пиратов. Вантад вынужден был признать, что капитан фрегата не злоупотребил своей властью. Группа из двух парусников имела значительно больше возможностей, чем отдельный корабль. Тем более что каждый моряк тут же оценил бы достоинства „Сейлы“, прежде всего ее скорость и маневренность. При наличии такого корабля шансы на поимку пиратов, если бы удалось их выследить, неизмеримо возрастали. Старый капитан вспомнил о предчувствиях девушки. Не о корабле ли ее сестры шла речь? Он обернулся, глядя на оставшийся за кормой остров.32
Погода несколько ухудшилась, что было хорошим знаком. Если бы светило солнце, их наверняка бы заметили. Однако покрытое тучами небо и то, что они находились между приближающейся эскадрой и островом, на темном фоне которого их черный парус был почти не виден, предопределило исход дела. Раладан незамедлительно приказал менять курс, и они пошли в сторону берега, что было сопряжено с немалым риском; лоцман знал множество проходов и перешейков, но даже он не в силах был определить положение каждой подводной скалы в каждом море Шерера… Но им повезло. Они подошли к берегу столь близко, что в любой другой ситуации смело могли бы считаться безумцами. Спустив паруса, они стали на якорь. Все столпились на палубе, разглядывая идущие на расстоянии нескольких миль корабли. — Узнаешь, госпожа? — спросил Раладан. — Похоже, твоя сестра принимает участие в облаве на Броррока. Прикрыв глаза ладонью, Лерена вглядывалась вдаль. — Кажется, ты прав, этот корабль действительно похож на бригантину. Думаешь, они его реквизировали? — Скорее включили в состав эскадры вместе с командой. Она повернулась к нему: — Но с такого расстояния невозможно в точности сказать, „Сейла“ ли это. Я знаю, что у тебя превосходное зрение, но… — Нет, конечно, я не уверен. Но подождем. Терпение, госпожа. Они идут почти прямо на север и потому должны к нам немного приблизиться. Может быть, тогда мы получим подтверждение. — Ты намерен здесь так долго торчать? — А что еще мы можем поделать? Когда они будут… где-то здесь, — он показал пальцем, — мы поднимем якорь и скроемся за островом. Но для этого потребуется время. Она снова посмотрела на парусники: — А если это и в самом деле она? Может быть, она уже нашла сокровища? — Сомневаюсь. — Но если? — настаивала Лерена. — Если нашла, то все пропало, но если нет… — Она задумалась. — Идем, Раладан, — неожиданно сказала она. Он пошел за ней. Когда они оказались в капитанской каюте, Лерена достала несколько карт и бросила на стол. — Садись, — велела она. Они склонились над очертаниями островов и морей. — Сейчас они здесь, так? — показала она острием кинжала. — А мы здесь, так? Раладан кивнул. — Мы знаем, когда они вышли в море. Вчера около полудня, во всяком случае до вечера. Если они сейчас здесь, то — при таком ветре — куда они могли идти? Он задумался, потом пожал плечами: — Трудно сказать… Наверняка они шли ночью… — Ночь была темная, Раладан. Уже вечером сгущались тучи. — Но… — Ночь была темная, Раладан! — резко повторила она. — Было темно, совсем темно. Мы тоже стояли на якоре, хотя у нас на борту лучший лоцман Просторов. Да или нет? — Да… — Сколько фрегатов у них на Саре? — Три. Кажется, три. — Два наверняка пошли туда. — Она показала путь между восточной и центральной группами островов. — И они могли идти ночью. А этот отправился проверить Восточную Отмель. — Сомневаюсь. Она молча посмотрела на него: — Кажется, я опять перестаю тебе верить… Что ты темнишь, Раладан? Внезапно Раладан не выдержал: — Я не темню, а думаю! Зачем им посылать один фрегат? Ведь им известно, кого они хотят поймать. Один фрегат может только спасаться бегством от Броррока, а вовсе не преследовать его. Думаешь, госпожа, что тот убегал ради забавы, едва добрался до Сары, и второй, точно такой же, вышел в море, чтобы его, наоборот, преследовать? Лерена стиснула зубы. — Думаю, что они пришли сюда, на Восточную Отмель, всей эскадрой, объяснил он уже спокойнее. — И, лишь встретив корабль твоей сестры, разделились на две группы. — Ну хорошо. Тогда скажи, куда они шли. Наморщив лоб, он посмотрел на карту: — Не знаю… Может, туда? Нет, скорее туда. Раз они пошли сюда, а не на доронский путь, значит, думали, что Броррок скорее где-нибудь спрячется, чем сбежит. Но в таком случае… я направился бы туда. Лицо ее исказила гримаса. — Мне просто смешно, что я могла поверить тебе хоть на минуту. Ты делаешь все возможное, чтобы я не нашла этого острова — не так ли, Раладан? — Послушай, госпожа… — Это ты меня послушай, и послушай внимательно: я все больше и больше уверена, что ты пытаешься меня надуть. Хорошо, что я затеяла этот разговор. Давай разговаривать дальше. Еще одно или два высказывания, и я буду знать достаточно, чтобы с чистой совестью вырвать твой лживый язык. Он молча покачал головой. — Да ты с ума сошла, моя милая, — с каменным спокойствием проговорил он. — Нет, мой дорогой. Это ты забыл, с кем разговариваешь. Я не девка из трактира. Я капитан корабля. И кое-что я о морях знаю, хотя наверняка меньше, чем лоцман Раладан… Говоришь, ты пошел бы туда? По суше? Он удивленно посмотрел на нее: — Как… „по суше“? — Видишь ли, Раладан, я уже когда-то бывала в этих краях. Последний раз даже вместе с тобой, когда мы гонялись за Берером, помнишь? Этот пролив существует только на картах, да и то не на всех. Здесь не два больших острова, Раладан, а только один, словно два шара, соединенных цепью. Здесь нет прохода, во время каждого отлива обнажается полоса суши. — Я не знал… Ради Шерни, госпожа, я тоже могу ошибаться. — К твоему несчастью, в этих вопросах ты не ошибался никогда. — Я в самом деле не знал. Раз-другой я видел эти острова… этот остров издалека… — Но почему-то ты был уверен, что между ними есть проход, которым могут воспользоваться корабли размером с имперский фрегат, — язвительно заметила Лерена. Раладан развел руками. — Никто не знает всех островов, проливов и мелей Шерера, — сказал он. Мой дар состоит в том, что, когда я смотрю на воду… или хотя бы на карту… я каким-то образом… почти ощущаю форму дна. Но ведь иногда я ошибаюсь! Как-то раз я завел „Змея“ на такую мель, что пришлось бросать якорь. Все запасы пошли тогда за борт, все орудия, а две сотни парней плавали вокруг корабля, лишь бы его облегчить! Еще немного, и пришлось бы рубить мачту! Лерена задумалась. — Ну хорошо, — сказала она, уже мягче. — Так куда они шли, Раладан? Если не по суше, то куда? Он немного подумал: — В таком случае — туда. Не с северо-запада, потому что тогда лучше было бы идти по торговому пути и сейчас эти два корабля были бы к северу от нас… Они подошли к Восточной Отмели с юго-запада. — А дальше? Здесь Барирра… — Именно. Скорее всего они оставили ее по правому борту. Потом бросили якорь на ночь. А раз… — Он поднял взгляд: — Раз сейчас они здесь… значит, они шли… вот так. Твою сестру они встретили по дороге вчера вечером, скорее даже сегодня утром… Она кивнула. — В расчет стоит брать три или четыре острова, госпожа. По пути их больше, но на нескольких есть селения. — Он посмотрел на Лерену: — Если даже мы не найдем нужный… — То что? Он опять немного подумал: — Если твоя сестра забрала сокровища, то в самом деле все пропало. Но если нет — она все равно за ними вернется. Мы уже догадываемся, где примерно могли ее встретить имперцы. Достаточно притаиться где-нибудь у нее на пути и посмотреть, куда она направится. — Так и сделаем, Раладан.33
Несмотря на тяжкий труд на рудниках, хотя и не столь изнурительный, как у прочих заключенных, Вард все же не превратился в развалину. Он несколько похудел и выглядел старше своих лет, но душа его осталась прежней — душой настоящего солдата, перед которым поставлена конкретная задача. Кто знает, не сохранил ли он свою душу благодаря Алиде? А тело его почти не пострадало. С тех пор как он начал работать на рудниках в качестве вольнонаемного, ему платили вполне прилично. Семьи у него не было, о себе он вполне мог позаботиться сам, так что он много и хорошо ел, долго спал, одевался небогато, но не убого. Перед тем как покинуть Агары, он получил в подарок от старого коменданта легиона простой, самый обычный, но надежный гаррийский меч. Подарок он принял. Пожалуй, нигде и никогда еще не случалось, чтобы мужчина отказался принять оружие как искренний дар другого мужчины. По громбелардскому обычаю он носил меч за спиной. Солдатам не разрешалось носить оружие таким образом, но он не был солдатом и ощущал некую потребность особо это подчеркнуть. Больше он, однако, ничего себе не позволил, хотя возможностей имел немало. Кто-нибудь другой на его месте наверняка пошел бы прямо в Трибунал, послушал, как урядники обращаются к нему „ваше благородие“, после чего предложил бы поцеловать себя в задницу. Проработав четыре месяца, он на первом же корабле отправился на Гарру, прямо в Дран. Прошла уже неделя, как он был в Дране. Вард не был чересчур хитер и никогда себя таковым не считал. Но он не был и глуп. Из сведений (достаточно свежих), которыми он располагал, следовало, что Алида сейчас в Дране. Он был уверен, что агарский Трибунал тем или иным образом известит ее о том, что человек, у которого она отобрала восемь лет жизни, жив и — по странному стечению обстоятельств, едва получив свободу, отправляется туда, где можно ее, Алиду, найти. Поэтому он никого не расспрашивал, не искал, не подкарауливал. Он просто ждал, когда их утомит его бездействие. Он бродил по порту, по рынку, по всем районам города, разглядывал выставленные на продажу товары, беседовал с моряками в тавернах и с гвардейцами в Старом Районе. С каждым он легко находил общий язык — не зря на рудниках он общался со столь разными людьми… Его беспокоило лишь уменьшающееся количество денег в кармане. У него оставалось еще десять слитков серебра. И немного медяков. В последнее время он заметил, что вокруг него крутятся какие-то подозрительные личности. Его бездействие явно кого-то раздражало, шпионы стали чересчур назойливы. Когда он останавливался, чтобы поговорить с перекупщиком, сразу же появлялся, словно из-под земли, неприметный, серый человечек с незапоминающимся лицом. Человечек этот из кожи вон лез, лишь бы услышать хоть слово из их беседы. Интересно, думал Вард, идет ли потом содержание подслушанных разговоров дальше наверх? — Значит, нельзя ставить лотки? — спрашивал он перекупщика. — Ой, господин, ой-ой, — жаловался тот. — Нельзя. Ой нельзя. Везде, только не здесь. А ведь здесь, ваше благородие, торговля лучше всего идет! — И что? Все на себе таскать приходится? — Ну да, господин, на собственном хребте. Все таскаю и таскаю, иногда добрый человек что-нибудь купит. Господин, грибки-то глядите какие! — Он полез в большую корзину за спиной, доставая из нее коричневые связки. Вот такие это были разговоры. Интересно, размышлял Вард с приобретенным на агарских рудниках цинизмом, сколько может выдержать человек, день ото дня слушая доклады о подобных беседах? Как оказалось, не слишком долго… В один прекрасный день, когда он, как обычно, кружил по улицам Драна, его остановил негромкий окрик: — Капитан Вард! Вард обернулся. — Я не капитан, — сказал он. — Но меня и в самом деле зовут Вард. Незнакомец слегка поклонился и назвал свое имя. Он был армектанцем Чистой Крови, хотя и не слишком высокого происхождения: однобуквенный инициал перед именем носили очень многие. — Я должен передать вам приглашение, — сказал он. Вард кивнул. Армектанец явно был удивлен отсутствием каких-либо вопросов с его стороны и не знал, нужно ли объяснять что-либо еще. — Ну что, идем, господин? — спросил Вард. — Да… да, капитан. — Я не капитан, как я уже говорил. Не называй меня так, господин. Куда? Армектанец показал дорогу. Несколько сбитый с толку, он шагал молча, лишь изредка бросая косые взгляды на странного человека, который даже не интересовался, куда его ведут… Так они дошли до Старого Района. Дом, перед которым они остановились, ничем не выделялся среди других ни величиной, ни богатством. — Здесь, господин. Провожатый хотел сказать что-то еще, но передумал. Он провел Варда внутрь здания и попрощался. Вард остался один в просторной, но довольно скромно обставленной комнате на первом этаже. Ему не пришлось слишком долго ждать. Вскоре открылась дверь, ведшая в другие помещения, и вошел мужчина лет пятидесяти с небольшим, с необычно серьезным, даже суровым лицом. — Капитан Вард, — вежливо сказал он, — прошу извинить за столь необычное приглашение. Прошу также извинить за то, что не называю своего имени — будет лучше, если делать этого я не стану. — Я не капитан, — в третий раз за этот день повторил Вард. — Я не командую никаким кораблем. Не может быть, чтобы ты об этом не знал, господин. Мужчина немного помолчал, потом протянул руку, указывая на место за столом: — Сядем. Некоторое время оба молча смотрели друг на друга. — Итак, господин, — сказал хозяин, — ты не капитан. Очень жаль. Ты никогда не думал о том, чтобы снова им стать? Например, на фрегате Главного Флота? — Это невозможно, — ответил Вард, — а даже если бы и было возможно, то противоречило бы закону. Нет, господин, я об этом не думаю. Хочешь подумать за меня? Брошенный словно невзначай вопрос несколько смутил хозяина. Он взял стоявший на столе большой кувшин и разлил вино в два серебряных простой работы бокала. Вард действительно не был ни чересчур проницателен, ни хитер. Однако, будучи человеком предусмотрительным, он уже давно продумал, как поступать в подобной ситуации (и не только). Не вдаваясь в словесные игры, он внимательно слушал и наблюдал. — Зачем ты со мной играешь, господин? — прямо спросил он. — Кто-то убедил тебя, что так будет лучше? Не верь ему. Давай просто поговорим. Он заметил, что попал в цель, но даже представить себе не мог, насколько точно. „Шернь, этот человек видит меня насквозь, — промелькнуло в голове у его собеседника. — Нальвер, ты дурак, а я — еще больший дурак, что послушал тебя сегодня…“ — Я вижу, капитан… прошу прощения, господин Вард, что верно оценил тебя. Что ж, я только рад. Итак, давай просто поговорим. Я занимаю высокий пост в Имперском Трибунале, господин. Еще раз прошу меня извинить, но имени своего я в самом деле предпочитаю не называть… без явной необходимости. Есть ли она сейчас? Вард кивнул: — Ты прав. Нет. — Крайне сожалею, — продолжал тот, — что судьбе было угодно так распорядиться твоей жизнью, господин, и жизнью… одной женщины. Хочу спросить: это из-за нее ты здесь, в Дране? — Почему ты так считаешь, благородный господин? — Вард, уже примерно поняв, кто его собеседник, воспользовался титулом, полагавшимся высокопоставленному уряднику Империи. — Что ж, например, тебе могло показаться, господин, что у тебя есть повод для того, чтобы мстить, — последовал откровенный ответ. — Думаю, что я хотел бы с ней поговорить, — чуть подумав, сказал Вард. — Когда мы виделись в последний раз, я висел на цепях и не мог стереть ее плевка со своего лица. Теперь руки у меня свободны, и я всегда могу это сделать. Урядник слегка нахмурился и плотно сжал губы. — Боюсь, что подобная встреча невозможна, — помолчав, сказал он. Вард показал на двери, через которые тот входил. — Почему? — спросил он. — Через двери мало что услышишь, даже если они приоткрыты. Думаю, она могла бы услышать больше и лучше, сидя вместе с нами за столом. И эта реплика, хотя и рискованная, поскольку была брошена почти наугад, попала в цель. Вард с неподдельным удовлетворением смотрел, как его собеседник явно теряет почву под ногами. Его тактика оказывалась неожиданно успешной. — Я не ищу мести, благородный господин, — сказал он. — Я ищу справедливости. Может быть, для урядника Трибунала это звучит смешно, но когда-то я в нее верил. Много лет назад меня осудили за поступки, которых я не совершал. Я хочу знать, почему так произошло. Избавились ли от меня во имя интересов империи, что я, возможно, и мог бы понять, или же… кто-то просто злоупотребил своей властью. Ты уверен, господин, что не имело место именно второе? Урядник молча смотрел на него. — Я не привык к подобным разговорам, — наконец сказал он. — Давно уже я не встречал человека, который говорил бы без обиняков и столь откровенно. По крайней мере, я хочу в это верить. Спасибо тебе. — Он встал. — Думаю, нам пора прощаться. Однако у меня к тебе вопрос: примешь ли ты мое следующее приглашение? Я хотел бы поговорить с тобой в таком месте, где не будет никаких дверей, ни закрытых, ни открытых… и где мы сможем пообщаться на равных. Скажем, на берегу моря? Вечером того же дня в здании Трибунала, за большим столом в богато обставленном зале, сидели трое — те же, что и несколько дней назад. Сменилось лишь платье женщины — что не означало, что она была менее богата. — Ты дурак, Нальвер, — сказал пожилой мужчина. — До сих пор я считал тебя чересчур вспыльчивым молодым человеком. Но теперь я вижу, что это не молодость. Это глупость. Нальвер покраснел: — Во имя Шерни, господин… Пост, который ты занимаешь, не дает тебе права… — Верховным Судьей Трибунала я стал по воле самого императора, Нальвер. С тобой, однако, дело обстоит иначе. Меня не интересует, кто рекомендовал тебя на твой пост, хотя, как ты, наверное, догадываешься, это нетрудно выяснить. Уверяю тебя, однако, что этой поддержки тебе не хватит, если я решу, что тебе следует уйти. Если кто-то вредит интересам Трибунала, я имею право обращаться вплоть до самого Кирлана. Нальвер посмотрел в сторону, но обладательница богатого платья показала жестом, что полностью согласна с только что сказанным. Какое-то время все молчали. — Итак, — продолжил пожилой, — встреча принесет результаты. Это не какой-то дурень, ввязавшийся не в свое дело. Мне потребуется твоя помощь, госпожа, — обратился он к женщине. — В архивах Главного Флота наверняка есть какие-то документы из Ахелии, восьмилетней давности. Только ты можешь сделать так, чтобы мне не пришлось ждать их месяцами. Я хочу сопоставить эти документы с тем, что мы получили от ахелийского Трибунала. Женщина с легкой улыбкой кивнула. — Может быть, стоит также отправиться на эти Агары. Нальвер, — сказал он, осененный внезапной мыслью, — туда поедешь ты. Это вовсе не ссылка, предупредил он. — Скорее проверка, способен ли ты хоть на что-нибудь. Послезавтра я снова смогу встретиться с тем человеком. Если мои подозрения подтвердятся, я дам тебе все полномочия. Ты должен расследовать дело до самых корней, Нальвер. — Не слишком ли широкомасштабные действия на основании столь хрупких предпосылок? — спросила женщина. — Сам об этом думаю. Но этот капитан — человек каких мало. Честный до мозга костей. И далеко не дурак. Не верю, что он в самом деле помогал пиратам. Однако… — Он надолго задумался. — Заседание закрыто, неожиданно сказал он, подняв голову. Нальвер удивленно посмотрел на него, но встал и слегка поклонился. Остальные двое продолжали сидеть. Внезапно он понял, в чем дело, и во второй раз за этот вечер кровь ударила ему в лицо. Он сжал кулаки и быстрым шагом вышел из комнаты. — Ты ему не доверяешь, — сказала женщина. — Скорее… не принимаю всерьез, — ответил мужчина. — Это первая из причин, по которым я закрыл заседание. — А вторая? — То, что я хочу сказать, носит неофициальный характер. — Я так и думала. Ты всегда остаешься самим собой, дорогой мой кузен… Хорошо, поговорим без свидетелей. — Лучше госпожи Эрры Алиды у нас никого нет, — подумав, сказал он. Двух мнений быть не может — я предпочел бы иметь рядом с собой ее, чем такого вот Нальвера. Как ты знаешь, в годовом отчете для Кирлана я предлагаю ввести тайную должность Третьего Представителя. На этом посту я вижу именно госпожу Алиду и упомянул ее имя в докладе. Но… Елена, ты знаешь ее лучше… Скажи, почему эта женщина работает на Трибунал? — Из-за денег, — ответила она. — Это главная причина. Жалованье из имперской кассы вовсе не такое маленькое. А во-вторых, она получает по-настоящему крупные доходы от своей профессии, которая якобы служит лишь прикрытием. Ты когда-нибудь думал о том, что она в той же степени оказывает услуги нам, что и мы ей? Он нахмурился. — Это от Трибунала она получила дом в Старом Районе, — пояснила женщина. — Трибунал обеспечивает ее безопасность. Трибунал платит за ее приемы, на которых она, правда, тянет гостей за язык… Скажи, кузен, какая еще шлюха в Дране столь хорошо живет? — Значит, золото и прочие блага… — И власть. У нее ее не так уж мало. К тому же сама она стоит над законом… — Не совсем. — И все же. Он кивнул: — Значит, ты подтверждаешь мое мнение. Госпожа Алида ради денег и власти сделает… если даже не все, то во всяком случае многое. Она крайне ценна для Трибунала, но если окажется, что восемь лет назад она злоупотребила своими полномочиями, ведя какую-то собственную игру, то нет никакой гарантии, что она не сделает этого снова. Она может быть опасна. Для нас, для Трибунала, а может быть, и для империи. — О чем ты думаешь? — О восстании. Оно наверняка разразится в следующем году. Мы не можем позволить, чтобы наши люди вели какую-то свою игру. Особенно тогда. — Он замолчал. — К чему все эти сомнения? — наконец спросил он. — Ведь ты сама хотела, чтобы те, кто следит за капитаном Вардом, докладывали нам? — Да. Тем не менее… — Женщина покачала головой: — Пожалуй, ты слишком далеко зашел в своих подозрениях. Возможно, в Ахелии Алида и нарушила закон… Он махнул рукой: — Не считай меня наивным, Елена. Я знаю, в чем заключается работа шлюхи, которой к тому же можно заказать убийство. Если к ней должны приходить большие шишки, требуется определенная репутация… Меня не интересует, сколько мелких интриганов поубивали друг друга с ее помощью. Как говорится, лес рубят — щепки летят. Работа урядников Трибунала — это полоса мелких преступлений, совершаемых, чтобы предотвратить крупные. — О чем в таком случае речь? — О том, кузина, чтобы этих мелких преступлений не совершалось больше, чем это необходимо. И никогда — в собственных интересах.34
Вид ее был столь мрачен, что матросы и солдаты старались не попадаться ей на глаза, боясь даже громко разговаривать. Впрочем, вид отходящей „Сейлы“ тоже не прибавил им хорошего настроения. Собственно, пока им ничто не угрожало; в их распоряжении была хорошая шлюпка, немного еды и пресной воды. Однако решение нужно было принимать как можно быстрее: грести ли сразу в сторону Гарры (около двадцати миль) и затем перебираться по суше или по морю в Багбу или же, рассчитывая на скорое возвращение „Сейлы“, ждать. Она могла лишь догадываться о том, что произошло. Однако предположить, когда вернется Вантад, было невозможно. Он мог вернуться завтра, а мог и через три недели. Могло случиться и так, что он не вернулся бы вовсе. Одной Шерни было известно, куда шел тот фрегат — может быть, и в Громбелард… Она взяла себя в руки. Конечно, это невозможно. Однако ее собственная злость подбрасывала ей именно такие мысли. Риолата решила ждать. Она верила, что, если рейс затянется, Вантад что-нибудь придумает. Однако бессмысленное ожидание казалось просто невыносимым. Уже первый день, тянувшийся почти бесконечно, дал ей понять, на что она, собственно, пошла. Еда и вода почти закончились; правда, немного дождевой воды собралось в углублениях скалистого грунта, но вкус ее был отвратителен. Настроения среди ее людей тоже были не из лучших. Моряки отоспались на все времена, потом бродили вдоль берега, распугивая камнями птиц, но с наступлением вечера начали недовольно ворчать. Впрочем, и она сама порой впадала в беспричинную злость. Может, все-таки надо было идти на Гарру? Ночь была холодной; те, кто выспался днем, теперь не могли заснуть. Мучилась и она. В конце концов несколько матросов потащились в „лес“. Они разожгли костер, но он горел недолго: ближе к утру прошел кратковременный дождь, слишком слабый для того, чтобы успеть набрать свежей воды, однако достаточно сильный, чтобы промочить одежду и погасить костер. Тогда она поняла, что значит невезение и каким образом внешне незначительные события могут вконец испортить жизнь. Она утешала себя мыслью о том, что разжигать огонь все равно было неразумно: удивительно много кораблей крутилось в этих обычноизбегаемых водах. Кроме того, она не была уверена, действительно ли два соседних острова, очертания которых можно было различить днем в хорошую погоду, необитаемы. Сомнительно, правда, чтобы кто-либо заметил оттуда небольшой огонек, но… ставка была достаточно высока для того, чтобы оправдать любую предосторожность. Последнее, чего ей хотелось, — встретиться на этих скалах с морскими шакалами. И вообще с кем бы то ни было. Утром она взяла у Носача плащ и отправилась к сокровищнице. Ни моряки, ни солдаты до сих пор ничего не знали о сокровищах. Однако она подозревала, что они о чем-то догадываются. Рейс не был обычным рейсом, остров же, на котором они находились, не изобиловал чем-либо достойным внимания. Поскольку, однако, он являлся целью их путешествия… Она была уверена, что, когда ее нет поблизости, они начинают строить бесчисленные догадки. Часть из них наверняка не была лишена смысла. Какой же матрос не слышал о пиратских сокровищах?.. Об этих сокровищах. О ставших уже легендарными сокровищах Бесстрашного Демона. Она добралась до места, но спускаться в пещеру не стала. Вместо этого она поднялась на вершину холма, высматривая „Сейлу“. И увидела ее! Риолата удовлетворенно улыбнулась. С северо-запада приближался черный силуэт. Вантад возвращался! Радость ее быстро улетучилась. Паруса корабля не были белыми. Она не могла определить их цвет, но они были темными… наверняка не белыми. Она напряженно всматривалась вдаль. Корабль медленно приближался; она знала, что пройдет немало времени, прежде чем он окажется у берегов острова. Риолата тряхнула головой. Ради Шерни, почему они должны направляться именно сюда? В душе обругав себя за безосновательные опасения, она еще раз посмотрела вниз и хотела спуститься с холма, но что-то приковало ее к месту. Внезапно появилось знакомое ощущение; она всмотрелась в далекий корабль и неожиданно тихо, с неподдельной ненавистью проговорила: — Лерена… Раладан стоял на юте, глядя на горизонт. Неожиданно он почувствовал на плече руку Лерены. — Раладан… Он посмотрел на нее. Они были почти одного роста; она склонила голову к его плечу, глядя вдаль. — Раладан… — повторила она. — Да, госпожа? Он проследил за ее взглядом. — Что там? — спросила она, хмуря брови. — Остров, островок, — ответил он. — Островок, — машинально повторила она. — Да, госпожа. Собственно, лишь торчащая из воды скала — такая маленькая, что на многих картах она даже не обозначена. — А на наших? — Нет. — Ты ее не отметил? — Нет, госпожа. — Почему? Он не ответил. — Почему, Раладан? — повторила Лерена. Она подошла к бушприту. — Идем туда, — сказала она. Взгляд Раладана вновь вернулся к черной точке, за которой он до этого следил. — Ты слышал? — Да, госпожа. Она повернулась, глядя ему в лицо: — Может быть, там? Он пожал плечами, засунув большие пальцы за пояс. — Какой ты ужасно молчаливый! — неожиданно разозлилась Лерена. — Обычно у тебя всегда находится что сказать, и немало! Лоцман глубоко вздохнул: — Не знаю, госпожа. Думаю, нет. А молчу я потому, что в последнее время любое мое высказывание, не совпадающее с твоими мыслями, становится поводом для того, чтобы обвинить меня в нелояльности или вообще в измене. Она долго смотрела на него, не говоря ни слова. — Почему ты считаешь, что сокровищ там нет? Ты знаешь этот остров? Он снова пожал плечами: — В том-то и дело, что нет. И мне не вполне понятно, откуда мог бы о нем знать твой отец. Трудно предположить, что он пристал к незнакомому берегу, чтобы спрятать там сокровища, не зная даже, удастся ли там выкопать яму. Лерена надула губы: — Ну да: хорошо известный остров — не подходит, поскольку на нем живут люди. Незнакомый — тоже, поскольку неизвестно, можно ли на нем закопать сокровища… Какой же тогда это может быть остров, Раладан? Чтобы о нем знали только мой отец и ты, и больше никто? Много таких? — Ну что ж… Ты наверняка права, госпожа, — согласился он. — Возможно, столь долго занимаясь бесплодными поисками, я начинаю теперь искать неизвестно что… — Пожалуй, так, Раладан. Но не расстраивайся — ты уже нашел. Она снова повернулась к морю и показала пальцем на далекую скалу: — Это там. Он кивнул: — Пусть будет так, госпожа. Но позволь теперь спросить мне: откуда такая уверенность? — Не знаю… Просто: это там. Он кивнул, скептически улыбаясь. Она подошла и открытой ладонью ударила его в лоб, отчего его голову отбросило назад. — Не позволяй себе подобных усмешек, — заявила она, почти оскалившись. — Иначе прикажу выдать тебе пару палок. Кровь в гневе ударила ему в лицо. Она не торопясь отступила на полшага, словно освобождая ему место. — Ну? — выжидательно бросила она и, высунув язык, медленно провела его кончиком вдоль верхней губы. Остров выглядел именно так, как описал его Раладан, — выступающая из воды группа скал, покрытых тут и там тонким слоем почвы. Держа в руках помятую, неряшливо вычерченную карту, Лерена смотрела то на нее, то на остров. — Здесь! — лихорадочно говорила она. — Смотри, там какая-то возвышенность, она обозначена на карте… А тут мыс, словно вытянутая рука… Мы нашли! — Она ударила ладонями о планшир. — Эй! Меч для меня, восемь человек в шлюпку! Раладан! Лоцман стоял рядом, молча глядя на нее. — Хочешь им показать сокровища? — спросил он, кивая в сторону матросов. — В таком случае наша жизнь немного стоит… — Об этом не беспокойся, — сказала она. — Они сделают то, что я им прикажу. „Ради Шерни, — подумал он, — да ты с ума сошла, девочка…“ Ее вера в собственную власть над командой была столь наивной, что внушала тревогу. — Ну так что?! — неожиданно заорала она, словно прочитав его мысли. — Я должна сказать себе „да, это здесь“ и убраться восвояси? Шлюпка уже покачивалась у борта. — Идешь? — спросила Лерена сквозь зубы, пристегивая к поясу меч. Он мрачно кивнул. Вскоре они были на берегу. Лерена выскочила на песок и сразу же направилась в глубь острова. Раладан прикусил губу. — Ждать здесь, — бросил он гребцам. Никто не возразил. Он двинулся следом за девушкой.35
Алида уже хорошо понимала, что совершила ошибку. Очень серьезную ошибку. Варда следовало убить… Конечно, просто так этого сделать было нельзя. Баватар был порядочным человеком. Верховный Судья Имперского Трибунала Гарры и Островов — был порядочным человеком… Слово „порядочный“ было одним из тех слов, которые означают столь много, что не значат практически ничего. Порядочность была понятием относительным, точно так же как добро, зло, справедливость… Понятиями этими можно было пользоваться, но серьезные дела следовало вершить в отрыве от всяческих догм. Охваченная внезапным раздражением, Алида отбросила прочь философские раздумья. „Стареешь, дорогая“, — язвительно подумала она. Баватар не философствовал. Он был порядочным, и притом в весьма широком смысле этого слова. Для Верховного Судьи Трибунала подобная связывавшая руки черта являлась недостатком. Но с этим она ничего не могла поделать. Во всяком случае не сейчас. В то же время она могла еще несколько дней назад без труда избавиться от Варда. Естественно, без официального согласия Баватара. Ее словам о том, что он хотел ее убить, с легкостью бы поверили, и ее людям пришлось бы принять меры. Однако она позволила ему остаться в живых. Где-то в глубине ее души таилась слабая надежда, что этот человек все же знает кое-что… о Раладане. А теперь было уже поздно. Мало того что она дала ему выиграть время, но еще и воспользовалась людьми Трибунала. Правда, подобного от нее ждали: поступи она иначе, это выглядело бы по крайней мере странно… Но и что с того? Дела приняли еще худший оборот, поскольку выбранные ею шпионы докладывали о всех действиях объекта слежки не только ей, но также и Елене. Неужели та что-то подозревала? Кто знает… Достаточно того, что необычно спокойное, загадочное поведение человека, которому приписывалось желание отомстить, привлекло внимание Первой Представительницы Судьи. Соответственно, делом заинтересовался Баватар. Состоялась та удивительная встреча, и Алида, которая действительно слышала весь разговор, не могла поверить собственным ушам: человек, которого она считала простодушным дурачком, повел себя подобно королю интриганов, откровенные слова которого ударили в самую точку! Заинтригованный Баватар желал беседы с глазу на глаз! Алида закинула руки за голову. Она не могла допустить, чтобы подобная встреча произошла. Правда, если убить Варда теперь, подозрение неминуемо падет на нее, что наверняка повлечет за собой дальнейшее, намного более дотошное разбирательство. Но, может быть, лучше уж подозрения, чем уверенность, которой после встречи с Вардом непременно будет обладать Баватар. Она не могла позволить, чтобы ее в чем-либо обвинили. Не сейчас. Капитан должен был не только умереть, но и исчезнуть… Что ж, нет ничего проще, с улыбкой подумала она; знакомства, которые она приобрела благодаря своей профессии, уже не в первый раз оказывались весьма полезными. Но что дальше? Она со знанием дела строила планы. Вард исчезнет. Как поступит Баватар? Баватар решит, что она в этом безусловно замешана. Что он станет делать? Начнет копаться в документах Главного Флота. Но там скорее всего мало что найдется, события на далеких Агарах вряд ли удостоились большего, нежели несколько скупых упоминаний в рапортах; впрочем, что там говорить об этих военных отчетах… Значит, он пошлет кого-нибудь на Агары. Это уже может оказаться более опасно, там до сих пор живут люди, которые… Да, нужно было добраться до человека, который отправится туда. Ее разозлило то, что именно теперь, когда на нее свалилось столько дел (и каких дел!), все карты спутал этот вояка! Во имя Шерни, похоже, люди созданы лишь для того, чтобы совать нос туда, куда вовсе не следует. Итак, коротко подытожила она, убрать Варда и выяснить, кто от имени Трибунала поплывет на Агары. После чего — отправиться с ним в постель. Для начала. Вард прилично поужинал. Серебро он уже не экономил; будучи слегка суеверным, он полагал, что если считать каждый грош, непременно накличешь беду. Так что он наелся и напился досыта. Выйдя из таверны, он направился в сторону порта. Он все еще любил корабли. После стольких лет он продолжал в душе оставаться моряком и солдатом. В конце концов он вынужден был в этом признаться… В порту он чувствовал себя как дома, разглядывая стоявший у набережной фрегат Морской Стражи. На палубу корабля поднимались солдаты, другие сходили на берег. Правда, их мундиры были темно-желтыми, отчего казались несколько чужими, но покрой их был тот же, теми же были и обозначения должностей и званий… Главный Флот Гарры и Островов. Нет, он не вернулся бы на службу, даже если бы у него вдруг действительно появилась такая возможность. Эта страница его жизни была перевернута. Раз и навсегда. Но воспоминания остались. И часть из них были по-настоящему добрыми воспоминаниями. Особенно за последние два года службы, когда он ходил на собственном корабле, вместе с испытанными друзьями-офицерами. Лишь потом была та проклятая облава и проклятый пиратский парусник, который лишил его всего — друзей, корабля, а в конце концов и свободы. Однако — даже теперь — он не осуждал Раладана. Да, этот человек своими действиями причинил немало зла. Он убил нескольких членов его команды. Именно из-за него появилась та женщина. Но все это он делал ради девушки, которая ни в чем не была виновата и которую ему поручили опекать. Вард в это верил. Он даже сам не вполне понимал почему — но верил. Может быть, ему просто нужно было хоть во что-то верить. Может быть, для того, чтобы хотя бы в собственных глазах не выглядеть законченным дурнем. — Господин! Вард остановился. К нему подошли трое. — Мы от известного тебе человека, — сказал высокий незнакомец, похоже главный из троих. — Позволишь проводить тебя, господин? — Хватило бы и одного провожатого, — заметил Вард. Незнакомец оглянулся на своих товарищей. — Это не стража, господин, — пояснил он, — а эскорт. Кое-кто жаждет твоей смерти. Мне сказали, что ты сам догадаешься, о ком речь. Вард нахмурился и после короткого раздумья кивнул: — Хорошо. Куда? Ему показали дорогу. Темными улицами они добрались до старой городской стены. Ворота были уже закрыты, но заброшенные стены не являлись препятствием ни для кого, кто хотел бы войти в город или из него выйти. Миновав предместья, они зашагали по тракту, удаляясь все дальше от Драна. — Куда мы идем? — спросил Вард. По левой стороне дороги рос лес; лунный свет отбрасывал на дорогу его мрачную тень. — Верховный Судья хотел бы побеседовать с тобой в том месте, где не будет лишних ушей, — послышался ответ. — Разве он не говорил об этом, господин? „Верховный Судья“, — подумал Вард. Человек, представившийся урядником Трибунала, не сообщивший своего имени, занимал пост Верховного Судьи. Вард метнулся в лес. Прежде чем он понял, зачем, собственно, это делает, он был уже далеко от дороги. За спиной слышались звуки погони. Эти люди слишком много знали. За время службы в Морской Страже Вард неплохо познакомился с методами работы Трибунала. Там каждый знал лишь столько, сколько должен был знать. Людям, назначенным в качестве его провожатых и эскорта, наверняка не могло быть известно содержание того разговора. Он остановился, прислушиваясь. „Провожатые“ продирались следом за ним. Треск ветвей слышался сзади и слева. Вард двинулся дальше, стараясь как можно меньше шуметь. Он шел направо, если его не подвело чувство направления — вдоль дороги. Луна светила по левую сторону от него. Неподалеку послышался крик, после чего стало совсем тихо. Преследователи отнюдь не были дураками. Теперь они прислушивались. Он ступал медленно, осторожно… Рядом вспорхнула какая-то птица. Вард схватился за оружие. Меч с лязгом выскочил из ножен. Он тут же обругал себя за отсутствие самообладания. Его услышали. Теперь они быстро продирались в его сторону. Вард снова побежал. На бегу он зацепился ногой о корень и упал. На ощупь отыскав меч, он поднялся и, хромая, побежал дальше. Неожиданно он оказался на краю леса. Перед ним открылась широкая, поросшая травой поляна. Заметив темный силуэт дома, он сразу же поспешил к нему. Задыхаясь, он начал колотить в дверь. Он слышал преследователей. Они были уже близко. Несколько лет назад он мог бы противостоять троим вооруженным, судя по всему, лишь ножами, — и у него было бы немало шансов. Но эти несколько лет не прошли даром. Он знал, что уже не владеет оружием столь уверенно, как когда-то. Последняя схватка, в которой ему довелось участвовать, имела место на палубе пиратского корабля. На палубе „Морского Змея“. Дверь открылась. Он ворвался внутрь, и в то же мгновение луна осветила выбежавшие из леса темные фигуры. Вард задвинул засов и обернулся. Перед ним стояла женщина с масляной плошкой в руке. Он посмотрел на ее лицо — И очутился в собственном прошлом. Узнала его и она. Плошка упала на пол, разбрызгивая горячее масло. Тишину нарушил громкий стук в дверь. Вард оперся о нее спиной. — Открывай! — донеслось снаружи. — Открывай! — Это судьба. — Голос Варда прозвучал словно странный звук из иного мира. Капитан говорил спокойно, столь спокойно, как может говорить человек, который в одно мгновение узнал собственное предназначение, цель и конечный пункт собственной жизни. Но так оно, в сущности, и было. Он прибыл в Дран в поисках справедливости… а нашел собственную судьбу. Ему предстояло погибнуть, стоя между женщиной, которая для многих была символом преступления, и людьми, которые отождествлялись со справедливостью… — Открывай! Открывай, иначе подожжем дом! Дверь сотряслась от тяжелых ударов. — Вот она, справедливость, — проговорил Вард. — Не открывай! — сказала женщина, словно видя в темноте его спину, вот-вот готовую оторваться от вздрагивающей под ударами двери. — Не открывай! Он покачал во мраке головой, после чего внезапно сказал: — Ради Шерни, скажи мне правду… теперь уже можно: Раладан лгал? — Я не была пираткой. — Значит, все-таки стоило… — непонятно прошептал он. — Стоило… Он отскочил от двери и одним движением отдернул засов. Прежде чем она успела понять, что происходит, у порога дома вспыхнула драка. Кто-то с воплем рухнул на землю, мертвенный лунный свет блеснул на лезвии меча, но рука, державшая меч, попав в могучий захват противника, сломалась в локте с треском, сопровождавшимся болезненным стоном. Тяжелые удары в живот свалили его наземь — и тогда из ночи внезапно выстрелило красно-желтое пламя, охватив убийц. Осторожно, чтобы не разбудить спящего рядом мужчину, Алида выбралась из постели и на цыпочках подошла к двери. Еще раз бросив взгляд на спящего, она вышла из комнаты. Помещение рядом было освещено столь же скупо, как и спальня; две свечи в изящном канделябре отбрасывали на противоположную стену ее увеличенную тень. Она повернулась боком, разглядывая очертания небольших, все еще идеально круглых грудей, после чего, одобрительно кивнув, уселась в украшенное богатой резьбой кресло, подобрав под себя ноги, взяла с блюда тонкой работы грушу и откусила. Липкий сок потек по подбородку, капая на зеленый треугольный плоский камешек, висевший на шее. Листок Счастья с Черного Побережья, оберегавший от болезней. И подходивший к цвету ее глаз. Лохматый песик (подарок от „подруги“) лежал в углу, поскуливая во сне. Алида чуть наморщила нос. Она не слишком любила животных. Зато она просто обожала сладкое. Она снова откусила от груши. Однако сладкий сок плода не мог заглушить горечи нараставшего в ней раздражения. Что произошло, ради Шерни? Им не удалось? Впрочем, даже если и так что ж, бывает! Такие, как они, по-настоящему знающие свое дело, не побоялись бы стать перед ней и честно сказать: у нас не получилось потому-то и потому-то… Тем временем прошла ночь, прошел день, теперь опять была ночь, а она не имела понятия о том, что происходит. Ведь не убил же он их всех! Нет, она не знала такого человека, который мог бы убить троих профессиональных убийц, возможно лучших в мире, не каких-то там мелких бандитов, но людей, для которых убивать означало то же, что для сапожника — шить сапоги. Значит? Огрызок распался в ее руке надвое, большой кусок упал между ее бедер. Она взяла его двумя пальцами и начала чертить на коже какие-то знаки. Лобок ее был гладко выбрит, по дартанской моде. Она разглядывала влажные линии, оставленные грушевым соком на теле, пока те не высохли и не исчезли. Бросив остатки плода на пол, она поднялась и заглянула в спальню. Нальвер крепко спал. Что ж, хорошо, что хотя бы с этим все прошло гладко. Она сразу подумала об этом придурке, поскольку получить какие-либо сведения от парочки кузенов было просто невозможно. Нальвер же, которого те считали дурачком (каковым он, собственно, и был), показался ей весьма многообещающим экземпляром. Что ж, она попала в самую точку. Кто мог бы подумать, что Баватар планирует набег идиотов на Ахелию… Для нее же лучше. Хотя бы одно уже можно было выбросить из головы. Но это, это! Алида хотела крикнуть, но передумала, подумав, что может разбудить Нальвера. Она вышла из комнаты и сбежала по лестнице вниз. Ей нравилось ощущать босыми ногами холод ступеней. Особенно тогда, когда было так жарко и душно, как этой ночью. — Эй, бравый сторож! — негромко позвала она, перегнувшись через перила. — Крепко спишь? Рослый привратник появился почти сразу же, со свечой в руке. — Всегда на страже, — заверил он, потирая лицо. — Да, госпожа? — Никто не приходил? — спросила она, хорошо зная, что никто. — Никто, госпожа. Она смотрела куда-то поверх его головы, задумчиво морща брови. — Что тебя беспокоит, госпожа? — спросил он, тоже помрачнев. Ее отношения со слугами были весьма странными. В присутствии посторонних она требовала полного подчинения, зато, когда никто не видел, вела себя с ними полностью на равных. Все слуги были рабами. Бывшими рабами, поскольку всем им она дала свободу. Ушли лишь двое. Те, кто не ушел, души в ней не чаяли. Она была прекрасной госпожой, лучшей из всех, кого только мог представить себе слуга. Может быть, она стала такой под влиянием матери-армектанки? Отец не позволял дома никаких „чудачеств“, как он называл прекрасные древние армектанские обычаи и традиции, но мать о них рассказывала. Суровые гаррийцы никогда не сумели бы их понять, особенно учитывая их армектанское происхождение… Впрочем, она сама соглашалась далеко не со всеми из них. Однако правило, что раб хорош для работы в поле, но никогда — в доме, где слуги должны чувствовать, что им полностью доверяют, нашло у нее полное понимание, и она успешно применяла его на практике. Она давала почувствовать слугам свою исключительность, давала им понять, что лишь они могут быть с ней столь близки. Им это невероятно льстило, они ощущали собственную незаменимость. Алида сама не знала, где проходят границы подобных доверительных отношений… Но на самом деле подобной проблемы просто не существовало. Слуги чувствовали эти границы намного лучше, чем она сама. Она находилась под их опекой. Пожалуй, никто из знакомых ей высокорожденных не поверил бы, что возможно поддерживать необходимую дистанцию и отношения хозяина с подчиненным, соседствующие с самой настоящей дружбой. И тем не менее… Конечно, большое значение имел подбор людей. Но в людях она разбиралась превосходно и подбирала их весьма тщательно. Она стояла на третьей ступени снизу, но, несмотря на это, ее лицо находилось на одном уровне с лицом гиганта. Держа свечу так, чтобы не поджечь ее светлые волосы, он протянул руку и осторожно большим пальцем снял кусочек груши с уголка ее рта. Она улыбнулась. — Чем-нибудь могу помочь, госпожа? Она покачала головой: — Нет. Но если кто-нибудь придет, зови меня, где бы я ни была. Не ходи, не ищи. Просто позови. Я жду крайне важного известия. — Хорошо, госпожа. Махнув ему рукой, она быстро побежала наверх, поскольку ее босые ноги все же несколько замерзли на каменных ступенях. Остаток ночи она не спала. Но лишь поздним утром один из ее людей принес известие, что возле сгоревшего дома на краю леса (об этом пожаре она слышала) обнаружили обугленные трупы нескольких человек. Сгоревший дом? На краю леса… Она знала и это место, и этот дом. Когда-то там собирались построить лесопильню. Построили, однако, только дом, после чего от дальнейших работ отказались — ее никогда не интересовало почему. Какое ей дело до какой-то лесопильни? Дом долго стоял пустым, поскольку находился далеко от дороги и был недостроен. Около года назад она случайно услышала, что кого-то там видели. Ей было даже интересно, кому понравилось жить вдали от людей, в заброшенной развалине; раз-другой ей хотелось проверить, но всегда находились дела поважнее… Те сгоревшие трупы — могли ли это быть они? Конечно, да. Она сама настаивала, чтобы они вывели Варда куда-нибудь за город, выдавая себя за людей Баватара. Повод был прекрасный — Баватар сам предлагал встретиться где-нибудь в безлюдном месте… „Этот человек — солдат, — сказала она им. — Он может защищаться. Возможно также, что за ним следят. Уведите его куда-нибудь подальше, где никто не заметит борьбы. Легче будет и проверить, один ли он. Ну и спрятать труп, никто не должен его найти, ясно?“ Она мысленно обругала себя за излишнюю осторожность. Сколько, собственно, трупов нашли на пожарище? Возможно ли, чтобы в этом доме у Варда были какие-то друзья? Нет. Но человек, который там жил, мог ему помочь. Может быть, их было несколько? Кто там жил, ради Шерни? У кого это можно было узнать? У лесников? Может быть, у каких-нибудь лесорубов? Чем быстрее она это выяснит, тем быстрее получит ответ на вопрос, жив ли капитан. Если жив — дело плохо… У нее не было времени ждать… Теперь — не было.36
— Факел, — хрипло сказала Лерена. Раладан стоял, глядя в небольшое темное отверстие. — Слышишь? В шлюпке есть факелы. А если нет, то плыви за ними на „Звезду“! — бросила она. — Я отсюда не уйду, — грозно предупредила Лерена, едва он открыл рот. Он направился обратно к шлюпке. — Быстрее! — яростно крикнула она. Когда он вернулся с горящим факелом в одной руке и с трутом и кресалом в другой, она продолжала стоять на том же месте. Вырвав у него факел, она полезла в темную дыру. Он последовал за ней. — Осторожно, — предупредила она. — Здесь провал. Он обогнул ловушку. Сразу же за тесным входом коридор расширялся, земля уходила вниз, и вскоре уже можно было выпрямиться во весь рост. Им пришлось пройти значительно дальше, чем он ожидал, прежде чем Лерена остановилась. — О Шернь… — проговорила она. Они находились в просторной пещере. Мерцающий свет факела вырывал из темноты ее часть, погружая остальное в еще более глубокую тень. Посреди возвышалась какая-то бесформенная груда, прикрытая парусиной. Раладан представил себе матросов, в поте лица таскающих тяжелые сундуки, а рядом огромного, мрачного человека, угрюмо глядящего на них из-под насупленных бровей… Лерена отдала лоцману факел и начала стаскивать парусину, под которой обнаружилась пирамида ящиков разной величины и формы. Опустившись на колени, она подняла крышку огромного сундука, стоявшего отдельно у подножия груды. Внутри были кольчуги. Она бросилась к другому, небольшому, стоявшему наверху. Заглянув внутрь, она погрузила в него руки и тут же вытащила их снова, держа спутанные ожерелья из жемчуга, переплетенные какими-то цепочками. Вскочив, она закружилась на месте, торжествующе подняв руки над головой. — Раладан! — почти запела она. — Раладан! Из темного угла пещеры появилась Риолата. — Я первая, — сказала она. Стоявший позади нее человек сбросил темный плащ, открыв белый солдатский мундир. Под плащом был спрятан арбалет. Второй человек появился за спиной Раладана, вырвав у него факел и преградив путь к выходу. Лерена все еще стояла с поднятыми руками, с застывшей на лице улыбкой. — Держи руки подальше от меча, сестра, стой там, где стоишь, — и спасешь две жизни, — сказала Риолата, бросая лоцману веревку. — Сядь и свяжи себе ноги, Раладан. Как следует и крепко, я проверю. Нет, морячок, усмехнулась она, — этот узел ты развяжешь одним движением… О, теперь хорошо. Лерена уже опустила руки, но продолжала стоять на месте, постепенно, однако, приходя в себя. — Что дальше, сестренка? — спросила она. — У меня тут рядом полторы сотни человек. Солдаты Риолаты все еще держали оружие наготове, изумленно переводя взгляд с одной женщины на другую. Их можно было различить лишь по одежде. — Полторы сотни? Откуда ты знаешь, сколько их у меня на этом острове? — А здесь поместится больше двоих? — О! — усмехнулась Риолата. — А у тебя есть чувство юмора, Лерена! Она задумчиво покачала головой. — Раздевайся, — велела она. Лерена подняла брови. — Меня что, собираются изнасиловать? — язвительно спросила она. — Сбрасывай свои тряпки или их с тебя сдерут! Пиратка бросила на нее презрительный взгляд, затем расстегнула пояс с мечом, сняла рубашку, сапоги и широкие штаны. — Свяжи ее, — приказала Риолата, забирая арбалет из рук Носача. — А ты свяжи ему руки. — Она протянула руку за факелом. Солдат, держа веревку, склонился над лоцманом. Тот протянул руки, посмотрел в сторону, после чего проговорил — в первый раз с тех пор, как они вошли в сокровищницу: — Давай, Красотка… Прежде чем успели прозвучать эти слова, он схватил солдата. Лерена оттолкнула Носача, бросаясь к сестре. Та упала, выронив арбалет — но не факел… В следующее мгновение Лерена взвыла. Носач вскочил, пытаясь ее удержать. Риолата кинулась к душившему солдата лоцману, сунула огонь ему под мышку. Солдат взревел, так как и ему обожгло лицо, но Раладан его отпустил, и тогда она со всей силы ударила лоцмана головней. — Свяжи его! — рявкнула она обожженному солдату. Раладан ошеломленно тряс головой. В волосах у него гасли искры. Лерена боролась с Носачом, который едва мог ее удержать. — Ударь ее! — крикнула Риолата. — Хватит возиться! Солдат оттолкнул Лерену; та ударила его в челюсть, но его удар оказался сильнее: она открыла рот, хватая воздух, согнулась пополам и медленно опустилась на колени, вытаращив глаза, потом согнулась еще больше, почти касаясь лбом земли. — Очень хорошо. Риолата воткнула факел в щель в каменной стене, после чего неожиданно повернулась и, яростно оскалившись, ударила лежащую в бок с такой силой, что затрещали ребра. Послышался слабый стон, скорее походивший на писк. — Свяжи ее! — рявкнула Риолата. — Но так, чтобы чувствовала! Она села у стены, с силой потирая руки и постепенно успокаиваясь. — А теперь уходите. Мне не нужны посторонние. Она взяла меч сестры, показав солдатам на арбалет. Те забрали его и ушли. В пещере наступила тишина, прерываемая лишь стонами Лерены, звучавшими отчасти как рыдания, отчасти как прерывистое дыхание. Сломанные ребра и жесткая веревка, врезавшаяся в обширный ожог на ноге, причиняли невыносимую боль. — Раладан, команда что-нибудь заметит, если я вернусь на корабль вместо нее? Лоцман вздрогнул и, поморщившись, поднял гудящую голову. — Одежда у меня уже есть. — Она показала рукой. — Хотя, честно говоря, не знаю, как это надевается… — Она приподняла острием меча штаны. — Она что, снимает их, если ей надо помочиться? Лерена, несмотря на боль, издала некое подобие смешка. — Ты мне нужен, Раладан, — сказала Риолата. — Я предпочла бы иметь на корабле кого-то из тех, кого знаю. Пиратка издевательски фыркнула. — Нам нужно спешить, Раладан, — невозмутимо продолжала Риолата. — Я потеряла корабль, а мне пора возвращаться в Дорону. Она у меня в руках. Ты знаешь кто. Ридарета. Она умрет, если я в ближайшее время не появлюсь. Лоцман потерял самообладание. — Лжешь, — сказал он. — Пожалуй, нет. После последнего разговора с ней, — она показала на сестру, — я подумала, что хватит с меня сюрпризов. Впрочем, я многое могу простить, Раладан, но женщина, которую я называла матерью, обманывала меня всегда, не заботясь о том, что я думаю и чувствую, присвоив себе право выбирать, что мне следует знать, а что нет. Перед тем как выйти в море, я отправила к ней людей. Надежных людей, Раладан. — Лжешь, — повторил он. — Хочешь проверить? Лерена со стоном перевернулась на бок, уставившись на лоцмана. — Раладан?.. — простонала она. — Он уже сдался, — заявила Лерена. — Ты не знала? Ради Шерни, сестренка, твой лоцман безнадежно влюблен в нашу сестру-мать… Нужно быть слепым, чтобы этого не видеть. Он сделает все, что в человеческих силах, чтобы спасти в первую очередь ее жизнь, и лишь потом — эти сокровища, которые он считает ее собственностью. Ты рассказывала мне о том разговоре в таверне… Действительно, сокровища нашего отца должны были пойти ко дну вместе с кораблем, ибо так хотела она. Но это должен был быть твой корабль, Лерена. Если бы ты забрала все это, он отправил бы твою посудину ко дну на первых же скалах! Лерена кусала губы, не отрывая взгляда от лоцмана. — Раладан? Это… правда? Лоцман угрюмо кивнул: — Да. — Он посмотрел на Риолату. — Я согласен, госпожа. — Нет, — с беспомощной яростью проговорила Лерена. — Раладан… ты любишь Ридарету? Он взглянул ей прямо в глаза: — Не так, как это себе представляет твоя сестра. Однако ради нее я сделаю все что угодно. Девушка словно внезапно перестала чувствовать боль. Приподнявшись настолько, насколько позволяли путы, она сказала: — Слишком многим госпожам ты хочешь служить, Раладан… И это тебя погубит. Клянусь. Риолата привстала, уперлась ногами в грудь сестры и сильно толкнула. Лерена упала назад, ударившись головой о камень. Она даже не застонала. Острие меча коснулось пут Раладана… но тут же отдернулось, не разрезав их. Риолата наклонила голову и, задумчиво нахмурив брови, потерла ладонью щеку. — Команда надежная? — спросила Риолата. — Сейчас я тебя освобожу, пообещала она. Он странно посмотрел на нее: — Команда? Хуже некуда. — Значит, сокровища… — Это безумие. Она кивнула: — Значит, пусть пока остаются там, где были. Поднявшись, она взяла факел и вышла из пещеры. Солдаты ждали. Она посмотрела в сторону леса, где скрывались остальные ее люди. — Они все еще там? — спросила она Носача. — Да, госпожа. — Нужно от них избавиться, они слишком много знают. Сумеете сами довезти меня на шлюпке до Гарры? Они переглянулись: — Наверное, да, госпожа. — Наверное? — Наверняка, госпожа. — Значит, убейте их. Справитесь? — Да, госпожа. У них только ножи. — Приступайте. Вернувшись в пещеру, она взяла меч и освободила лоцмана. — Нужно избавиться от тех двоих, — сказала она. — Солдат? Она кивнула. — У тебя здесь больше никого нет, госпожа? Она поколебалась: — Что ж, возьми себя в руки… Были. Только что. Он все понял. Она наклонилась, подняла кусок веревки в три локтя и протянула его лоцману. — Сейчас приведу одного, — сказала она. — Задуши его. Потом займешься вторым. Он кивнул, наматывая концы веревки на руки. Риолата вышла из пещеры и подождала, пока солдаты не вернутся. — Все? — спросила она. — Да, госпожа. — Последи за окрестностями. Мне показалось, что я кого-то там видела. Она показала рукой на скалы неподалеку. — А ты со мной, — кивнула она Носачу. Раладан прикончил десятника столь ловко, что она посмотрела на него с уважением. — Не радуйся, госпожа, — холодно сказал он. — Если сегодня ты солгала, тебя ждет то же самое. Они смерили друг друга взглядом. — А если не солгала — тоже? — презрительно заметила она. — Ты слишком мелок, Раладан… С кем ты хочешь помериться силой? Кем ты себя считаешь? Я скажу тебе, кто ты: просто дурачок, стремящийся в никуда. Ты мог бы столько иметь… Но нет, ты предпочитаешь одноглазую сумасшедшую, существования которой никто не замечает, так же как никто не заметит и ее исчезновения… Он схватил ее обеими руками за горло. Она даже не пошевелилась. — Ну… — прохрипела она, — давай… Он освободил захват и медленно опустил руки. Потирая шею, она медленно, демонстративно собирала слюну. Он уклонился от ее плевка. — Я не могу тебя убить… — сказал он. Она криво усмехнулась. Повалив ее на землю лицом вниз, он молниеносно связал ей руки остатками веревки, после чего подобрал рубашку Лерены и запихал ее скомканный край глубоко в рот лежащей. — Кто тебе сказал, что ты неприкасаемая? — спросил он. Расстегнув пояс, он хлестнул им по спине извивающейся девушки. — Кто тебе это сказал? Встав, он пнул ее ногой так, что она перевернулась на спину. — Я буду ждать возле шлюпки, — сказал он. — Освобождайся быстрее, иначе я могу передумать. После того, что я сегодня услышал и увидел, мне начинает казаться, что такую суку, как ты, лучше отсюда не выпускать. Лучше уж искать Ридарету вслепую. Если она вообще у тебя… — добавил он уже из коридора. Лежащая возле груды ящиков Лерена почти задыхалась от неудержимых приступов смеха. Риолата подползла к брошенному мечу, освободила руки и вырвала кляп, после чего, почти рыча от ярости, набросилась на Лерену и захлестнула на ее шее кусок веревки. Раздался пронзительный хриплый визг. Риолата затянула узел и встала. Лерена извивалась на земле, ударяясь головой о камни. Глаза ее вылезли из орбит, лицо все больше синело. Она выгнулась дугой, мышцы связанных рук и ног сотрясали судороги. Риолата, не спуская с нее глаз, собрала брошенную одежду, взяла медленно догорающий факел, повернулась и двинулась по каменному коридору к выходу.37
Алида схватилась за голову: — Нет, нет, нет! Лохматый щенок с воинственным лаем выскочил из-под стола. Она дала ему такого пинка, что он с визгом отлетел далеко к стене. — Нет! — еще раз вскрикнула она. — Этого не может быть! Мужчина испуганно попятился: — Так мне сказали… госпожа. Алида села, сжав кулаки. Нет, этого просто не могло быть. Во имя Шерни, молодая женщина без одного глаза… Ведь не единственная же она на свете… Нет, не может быть, чтобы она столь долго жила прямо у нее под боком, почти на расстоянии вытянутой руки… Прикусив губу, Алида посмотрела на своего шпиона. — Что еще? — бросила она. — Что тебе еще известно? — Ничего… Это все, госпожа. Несколько раз ее видели в лесу охотники, и только… Легким движением головы она показала ему, что он свободен. — Стой, — тут же сказала она. — Забери это. Песик лежал судорожно вздрагивая, с морды текла кровь. Мужчина осторожно взял его на руки и вышел. Алида вскочила, обошла кругом стол и снова села. „Возьми себя в руки, дорогая“, — подумала она. Если это была она, пиратка Раладана, — тогда все понятно. Вард не бежал куда глаза глядят. Кто-то у него был здесь, рядом… Невероятно… Но чем могла помочь одна девушка? Правда, пиратка. А может быть, там был еще и он? Раладан… — Нет и нет! — рявкнула Алида. Однако все сходилось. У всех этих людей были с ней счеты. Присутствие здесь девушки, а наверняка и Раладана объясняло, откуда Вард мог узнать, где ее искать. О Шернь, все сходилось — и даже чересчур хорошо! Жив ли Вард? Алида внезапно почувствовала себя окруженной со всех сторон. С одной стороны, ей угрожал этот островитянин (о, как же она недооценила эту опасность!) и его друзья. С другой же — Трибунал. Хуже всего было то, что именно сейчас, занимаясь столь важными и столь деликатными делами, она должна была быть свободна от всяческих подозрений. Ставка была чересчур высока! А тут еще и новые хлопоты: всплыла история с покупкой должностей… „Успокойся, дорогая, — по своему обычаю обругала она себя. — Все не так уж плохо… Ведь ты ждешь известия, которое многое объяснит“. Словно по ее зову, появился слуга со свитком пергамента. — От кого? — по привычке спросила она. — Не знаю, госпожа. — Ты задержал посыльного? — Нет, госпожа. Он сразу же ушел. Она уже знала от кого. Письмо не было запечатано. Оно содержало лишь несколько слов: „Будь спокойна. Н.“ Алида медленно подняла взгляд, позволив себе улыбнуться. — Так что же? — спросила госпожа Елена. Баватар сидел с мрачным и грозным видом. Таким его видели редко, и никто тогда не осмеливался заговорить без разрешения. Она была исключением. Ей были знакомо упорство и необычайная сила воли этого человека. Были у него и иные черты, дававшие все основания полагать, что воистину трудно было бы найти более подходящего человека для тех функций, которые он исполнял. Однако порой ей казалось, что это упорство и железная последовательность в любых поступках его ограничивают. Он не в силах был сосредоточиться на нескольких вещах сразу. Дело, за которое он брался, он всегда доводил до конца, но — ценой других. Что ж, именно для этого у него были помощники — она и Нальвер, не считая множества чиновников рангом пониже. На этот раз, однако, Баватар вцепился в дело… на самом деле не слишком важное. Все еще ждало своего завершения дело о невероятных злоупотреблениях, допущенных высшими офицерами двух стоящих в Дране эскадр Главного Флота. Процветала торговля должностями и постами — еще один вопрос, который срочно нужно было выяснить. И наконец, воистину фантастическое бегство троих заключенных из самой надежной тюрьмы на острове, о котором только что сообщили. Похоже, не было сомнения в том, что в этом замешаны стражники, а может быть, даже кто-то из комендатуры цитадели. Беглецы были известными смутьянами — к сожалению, слишком известными и слишком благородного происхождения, для того чтобы их можно было просто повесить. Теперь, меньше чем за год до предполагаемого восстания, это событие представало в необычайно грозном свете. Несмотря на все эти события, Верховный Судья Имперского Трибунала Гарры и Островов занимался вопросом о нелояльности какой-то шлюхи… К тому же восьмилетней давности. Однако — и Елена это хорошо знала — именно лояльность подчиненных была навязчивой идеей Баватара. Он непоколебимо верил, что закрывать глаза на какие бы то ни было злоупотребления со стороны урядников Трибунала недопустимо и грозит ослаблением его ведомства. Что ж, в этом было немало правды. Другое дело, что ему вовсе незачем было заниматься этим лично. — Так что же? — спросила Елена еще раз, тем же тоном, что и прежде. Не знаю, — помолчав, добавила она, — стоит ли это дело более серьезных мер с нашей стороны. Думаю, господин, что можно ее просто арестовать и заставить говорить. И мы узнаем правду. — И это говоришь ты, госпожа? — хмуро удивился Баватар. — Яма и камера пыток хороши в Громбеларде… впрочем, от них везде мало толку. Ты не хуже меня знаешь, что там любой скажет все, что от него потребуют. Я знаю людей, которые, ломая другим кости на колесе, приобретают непоколебимую убежденность в собственной непогрешимости. И это, пожалуй, единственное, что действительно можно там приобрести. Она молча выслушала его тираду. — Нальвер, — неожиданно спросил Баватар, — что ты об этом думаешь? Молодой человек вздрогнул, явно застигнутый врасплох. Во взгляде женщины также читалось некоторое удивление. — Полагаю, господин, — неуверенно проговорил Нальвер, — что мы мало что можем сделать… Ни один корабль не идет на Агары, я проверил. А маленькие баркасы морской стражи все в море. Чтобы добраться до Ахелии и вернуться до осенних штормов, мне пришлось бы воспользоваться большим парусником Главного Флота… — Дело того не стоит, — неохотно согласился Баватар, испытующе глядя на Нальвера. Тот говорил весьмадельно — крайне редкое событие для того, чтобы его недооценить. — Продолжай, Нальвер, мы внимательно тебя слушаем. Женщина утвердительно кивнула. — Мне пришли в голову некоторые мысли… После исчезновения капитана Варда, — продолжал Нальвер уже смелее, — мы сразу же решили, что в этом замешана госпожа Эрра Алида. Но ведь эта женщина, если она и в самом деле столь хитра и умна, как я слышал, должна была отдавать себе отчет в том, что попытка убрать его именно сейчас неминуемо навлечет на нее подозрения. — К чему ты клонишь? — спросила Елена. — К тому, что, если этот капитан располагал какими-то компрометирующими ее сведениями, его не было бы в живых в тот же день, когда она узнала о его появлении в Дране; ты, господин, с ним бы не беседовал, и не было бы никаких подозрений. Баватар и Елена переглянулись. — И наконец, разве не странно, что капитан Вард, уже однажды ощутив силу этой женщины, не только ничего, собственно, не сказал во время встречи с тобой, господин, но даже не попросил об охране… Из этого следует, что либо он дурак — а ваше благородие утверждает, что это не так, — либо чересчур уверен в себе и готов идти на любой риск, но ваше благородие утверждает, что и это не так… Либо же ему просто было на руку бросить на нее тень подозрения, а потом исчезнуть, в чем выделенный ему для охраны человек только мешал бы. Наступила тишина. — И правда… трудно отказать подобному выводу в логике, — наконец сказала женщина, странно посмотрев на собеседников. Верховный Судья сидел погруженный в размышления. — Должен признаться, ты меня удивил, господин Нальвер… Похоже, это самое разумное из всего, что до сих пор говорилось на эту тему. Однако мне почему-то кажется, что этот человек не способен на подобные интриги. Елена чуть приподняла брови. — Ты права, госпожа, — угадал он ее мысли. — Моих ощущений слишком мало для того, чтобы с чистой совестью поддержать обвинение против женщины, работа которой для Трибунала до сих пор была достойна всех похвал. Однако, — он встал, давая понять, что совещание близится к концу, — я бы очень хотел, чтобы капитана Варда нашли. Путешествие в Ахелию отменяется, кивнул он в сторону Нальвера, — вернемся к этом вопросу в конце осени. Он на мгновение наморщил лоб — и Елена подумала, что хотя он временно и признал тему закрытой, но вовсе не исчерпанной… И так оно и было в действительности. В тот же день, но позже состоялся еще один разговор. Так же как и предыдущий, он происходил в здании Трибунала, но не в Зале Совещаний, а в апартаментах госпожи Б.Л.Т.Елены, Первой Представительницы Верховного Судьи. Елена была столь же уверена в том, что ей нанесет визит Баватар, как и в том, что после дня наступит ночь. Она слишком хорошо его знала. Этот твердый, непоколебимый человек все же нуждался в опоре, и Елена ему эту опору давала. Сидя напротив нее, внешне он выглядел так же, как и в Зале Совещаний, серьезный, сосредоточенный, суровый. Однако она знала, что он чувствовал себя несравнимо лучше. Благодаря своему глубоко укоренившемуся чувству ответственности и необычной добросовестности во время официальных бесед он тщательно взвешивал каждое слово, владел любой дискуссией, не позволяя себе лишних эмоций. После того как на пустовавшее несколько месяцев место Второго Представителя прислали Нальвера, ситуация несколько изменилась. Этот человек явно выводил его из равновесия. С точки зрения Баватара, на ответственных постах не место было ослам. В механизме принципов Верховного Судьи Нальвер был деталью, которую никакими силами не удавалось пригнать на место. Здесь, однако, Нальвера не было. Более того, разговор носил приватный характер. Елена знала, что приватные разговоры занимают в жизни Баватара ровно столько же места, сколько она сама. — Удивил он меня, — сказал Баватар, глядя ей в глаза. — Этот человек сегодня меня удивил, Елена. Подошел к делу без лишних эмоций, искушенно и хладнокровно. Но ведь это на него не похоже. — В самом деле, он далеко не мудрец, — согласилась она. — Сегодня, однако, оказалось, что и глупцом он тоже может не быть… Это плохо? Баватар сделал неопределенный жест. — Вся эта история, — медленно проговорил он, — изобилует неожиданностями. Должен тебе признаться, кузина, что мне трудно сказать о ней что-либо определенное… с соответствующей дистанции. У меня такое чувство, — он отвел взгляд, словно от стыда, — как будто я что-то пропустил. Почему из потока доставляемых ежедневно сведений меня привлекло именно это, касающееся появления капитана в Дране? Связь между его заключением в тюрьму и госпожой Алидой? Конечно, но ведь… — Ты совершенно зря приказываешь доставлять тебе все эти рапорты, доклады и доносы, — заметила она. — Ты не считаешь, что твое время слишком ценно для того, чтобы его на это тратить? Когда-то давно, во время Кошачьего Восстания, какой-то офицер гвардии якобы сказал, что главнокомандующий должен руководить армией, для того же, чтобы посылать патрули, есть сотники. Это одна из тех очевидных истин, которые каждый раз приходится осознавать заново. Он молчал, размышляя над ее словами. — Значит, ты считаешь, что я зря надзираю за слишком малозначительными делами, и притом такими, в которых не разбираюсь? — Именно. Ты обладаешь великим даром управлять людьми (да-да), но тебе недостает того, чем должен обладать мелкий урядник в серой мантии, тщательно исследующий сто нитей, прежде чем доберется по одной из них до клубка. Впрочем, что с того? Разве этого от тебя ждут? Правда, Баватар, почему бы тебе не начать выслеживать бандитов где-нибудь в темных переулках? Он нахмурился. — Дорогой мой кузен, — она чуть наклонила голову, словно уступая упрямому ребенку, — если эта история не дает тебе покоя, передай ее кому-нибудь ниже! Делом займутся те, кому положено, тем более что они получают за это деньги из имперской казны. Он взглянул на нее: — Наверное, так и следует поступить. Однако кое-что… — Он медленно покачал головой. — Кое-что мне не нравится в сегодняшних словах Нальвера. — Что именно? Он беспомощно махнул рукой. — Я тебе скажу, кузен: в словах Нальвера тебе не нравится… сам Нальвер. Этот человек тебя раздражает. Баватар задумчиво кивнул, потом встал, медленно сделал несколько шагов и, встав за спиной женщины, положил руки ей на плечи. — В самом деле, Елена, — тихо сказал он, — почему тогда мы не были смелее? Наше родство? Но ведь оно неблизкое, а впрочем… И не такие препятствия обходили. Ты так нужна мне, Елена. Она прижалась щекой к его ладони. — Останься… — негромко проговорила она. — Останься до утра, прошу тебя. Никто не знает, что ты пришел ко мне. Ты нужен мне точно так же, как и я тебе. — Итак, с этой стороны, по крайней мере пока, опасность нам не грозит, — закончила Алида. — Однако я не верю, что от подозрений отказались вообще. Это очень опасная игра, ваше высочество. Считаю, что необходимо нанести упреждающий удар. До сих пор мои руки были связаны приготовлениями к вашему бегству… Ходивший по комнате туда и обратно мужчина остановился, заложив руки за спину. Лицо его было невыразительным и необычно бледным, как бывает у людей, проведших долгое время в камере… — Я до сих пор не знаю, жив тот капитан или нет, — пояснила она. — Если жив — следует считаться с его возможными действиями. — Разве отсутствие таковых не свидетельствует о том, что он все же мертв? Слова эти были произнесены с превосходным акцентом и столь безупречной дикцией, что происхождение и положение в обществе этого человека не могли вызывать ни малейших сомнений. Это был представитель одного из древних гаррийских родов, воспитанный в строгих принципах гаррийского дворца. — Возможно, — ответила Алида. — Но, несмотря на это, Трибунал не прекратит следствие, самое большее — оно перейдет на более низкие уровни тамошней иерархии. Это означает, что оно будет вестись медленнее, но тем вероятнее, что оно завершится вообще. Нижние этажи этого заведения меньше поддаются внушению, чем вершина. — Она чуть улыбнулась. — Обычный урядник, может быть, не слишком тщеславен, но именно поэтому он подобен гончему псу. Он не бросит следа, ибо так его выдрессировали. — Что ты в таком случае предлагаешь, госпожа? Ведь ты не можешь просто исчезнуть, слишком многим ты нужна. — Знаю, — сказала она. — Мы их уберем. — Кого? — не понял он. — Баватара и Елену. Мужчина молчал. — Честно говоря, госпожа, — наконец сухо проговорил он, — я готов предположить, что ты шутишь. — Честно говоря, господин, — ответила она тем же тоном, — я могла бы предположить, что вы не понимаете. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, после чего она улыбнулась той ничего не говорящей улыбкой, которая должна была понравиться любому мужчине. — Ваше высочество… позвольте спросить: если мы не в состоянии убрать двоих, к чему вообще вся эта игра в какое-то восстание? Он покачал головой: — Я не говорю, что это невозможно. Я говорю, что это нелегко. И мало того, что я не знаю, нужно ли это, к тому же у меня еще есть сомнения, не вредно ли это. Этих людей уже месяц кормят фальшивыми сведениями о восстании и его предполагаемом ходе. Если теперь на их место придет кто-то другой, трудно сказать, не разрушит ли нам всю игру его свежий острый взгляд. — Нет, господин, поскольку это будет наш человек. Он замолчал. — Кого ты имеешь в виду? — Себя. Он даже не пытался скрыть изумление: — Нет, госпожа, боюсь, ты и в самом деле слишком высоко замахиваешься! Этот пост — один из самых важных во всей провинции, если вообще не во всей империи. Протеже высших сановников напрасно его добиваются, и притом это люди весьма высокого происхождения… Прости, госпожа, но твоя фамилия… — Фамилию очень легко поменять. Если я захочу, завтра я буду женой господина Кахеля Догонора. К тому же все так замечательно складывается, ведь Догонор всем своим сердцем и имуществом поддерживает политику Кирлана! — предупредила она его протест. Мужчина сел. — Но… — ошеломленно проговорил он, — ведь ему шестьдесят с лишним! Алида лукаво улыбнулась: — Вот именно. Она пожала плечами. — Послушайте, ваше высочество, — предупредила она очередные возражения, — ситуация нам крайне благоприятствует. Только что всплыла скандальная история с покупкой ответственных должностей и постов: как вы знаете, в этом, к сожалению, замешаны главным образом наши люди. Мы оба знаем, что им мало чем можно помочь, их ждет тюрьма — разве что им удастся бежать. Но в этом случае от них не будет никакой пользы. И все же есть редкая возможность обратить поражение в успех. Я хочу знать, готовы ли эти люди пожертвовать собой ради дела. Впрочем, жертва не слишком велика, ведь сразу же после восстания все заключенные получат свободу. — Жертвовать всем, даже жизнью — священный долг каждого из нас, сурово, с некоторым пафосом, ответил он. — Отлично. — Она старательно скрыла иронию. — Нужно сфабриковать доказательства и втянуть в этот скандал тех двоих. Вопрос лишь в том, будут ли готовы при дворе Князя-Представителя в это поверить? — Насчет этого я как раз бы не беспокоился. — Похоже, влияние вашего высочества, естественно тайное влияние, там просто огромно, — скорее утвердительно, нежели вопросительно сказала Алида. Он уклонился от ответа. — В любом случае, — добавила она, — Второй Представитель Верховного Судьи — протеже князя. — Знаю. — Значит? Если Баватар и Елена вынуждены будут уйти… — Нет, госпожа. Его благородие Ф.Б.Ц.Нальвер — человек чересчур… мелкий для того, чтобы отдать в его руки пост Верховного Судьи. В конце концов, ты ведь видишь на этом посту себя? Она чуть наклонила голову. — Верховного Судью назначают не каждый день, — заметила она. — Должно прийти согласие Кирлана, а его не будет до зимы… Таким образом, Нальвер будет оставаться на своем посту несколько месяцев, пользуясь молчаливым благоволением и поддержкой своего покровителя. За это время он добьется таких успехов, что сам император сочтет его весьма полезным. Ее собеседник озадаченно смотрел на нее. — Нальвер — моя марионетка, — пояснила она. — По его ходатайству я с легкостью получу временную должность Второй Представительницы. Чего еще нужно? — О, Шернь! — только и сказал он. — И что, теперь я должна объяснять вашему высочеству, какую пользу принесет восстанию тот факт, что я буду править Трибуналом? Он молчал, пытаясь найти слабые места в ее рассуждениях. — Прости, госпожа, что я об этом упоминаю, но… твое прошлое… Она громко расхохоталась: — Вы думаете, никто не доверит подобный пост проститутке? О, ваше высочество… Я ведь не портовая шлюха, что болтается на панели! Он поморщился, услышав вульгарное слово. — У меня бывают мужчины из самых благородных родов, порой занимающие очень высокие должности… Естественно, я с ними сплю. Но найдите мне среди них хотя бы одного, кто вслух назовет меня шлюхой! Каждый знает, что это правда, но никто в этом не признается. Ее благородие Эрра Алида достойное украшение любого общества Старого Района, женщина кристальной чистоты и сама добродетель. Мало того, в моих руках немало фактов, которые в состоянии скомпрометировать пол-Драна, стоит только им всплыть на белый свет! Кто, ваше высочество, осмелится выступить против меня? Он молчаливо признал ее правоту. — Кроме того, — добавила она, — Кирлан, даже Дорона (я имею в виду двор Представителя) не питают каких-либо предубеждений к… гм, какой бы то ни было профессии. — Мне кажется, — госпожа, — с некоторой неохотой заметил он, — что и ты тоже не питаешь никаких предубеждений. Алида знала, что не может играть с гаррийским чувством приличия. Армектанская свобода поведения в глазах высокорожденного гаррийца была чем-то невероятно низменным. Она отдавала себе отчет в том, что среди будущего руководства восстанием ее личность являлась предметом не одного спора. Несмотря на неоценимые заслуги по подготовке к восстанию, к ней продолжали относиться как к черной овце. — Вы ведь знаете, ваше высочество, — поспешно заверила она, — что я делаю то, что делаю, только и исключительно ради независимости Гарры. После победы восстания я тотчас же брошу эту… это унизительное занятие. — Не сомневаюсь, — сурово произнес ее собеседник. — Я в это верю и потому постоянно тебя защищаю, госпожа. Порой ее так и подмывало сказать, что она обо всем этом думает. „Спокойно, дорогая, терпение“, — мысленно сдержала она себя. Какое-то время оба молчали. — Однако я никак не могу поверить, — снова „заговорил он, — что этот дурачок Нальвер полностью в твоих руках. Правда, он дурак… — ответил он сам себе. — И как давно? — Два дня. Он беспомощно окинул взглядом комнату: — Шутишь, госпожа? Она снова рассмеялась. — Ваше высочество… прошу меня простить, — сказала она, посерьезнев, но уединение, в котором вы столь долго пребывали, искажает ту точку зрения, с которой надлежит оценивать мир и людей. Конечно, Нальвер, будь он хоть еще вдвое глупее, не допустит государственной измены ради одних лишь моих прекрасных глаз. Но он тщеславен. Всегда и всюду он был лишь фоном для других, им пренебрегали, никто не обращал на него внимания… И вдруг, в одно мгновение, кто-то оценил его очень высоко, подсказал ему кое-какие мысли, которые он, считая их своими собственными, повторил — и заслужил признание. Признание тех, кто до сих пор смотрел на него сверху вниз. Знаете ли вы, ваше высочество, какова сила столь долго подавляемых амбиций, стоит им пробудиться один лишь раз?38
У выхода из пещеры Риолата наткнулась на труп солдата. Он сидел прислонившись к скале — видимо, сползал вдоль нее на слабеющих ногах, пока не умер. Красные от крови руки сжимали перерезанное горло. Оружие исчезло. Риолата затоптала дымящийся факел, затем переоделась в одежду сестры, морщась и фыркая от отвращения. Обойдя холм, она увидела корабль Лерены невдалеке от берега. На песке лежала шлюпка, рядом с ней стояли люди. Она направилась к ним. Раладан стоял, опираясь о борт частично вытащенной на берег шлюпки, с арбалетом в руках. Окинув его полным безбрежной пустоты взглядом, она коротко сказала: — На корабль. Матросы, утомленные долгим сидением на берегу, начали поспешно сталкивать шлюпку на воду. Раладан отошел в сторону, все еще держа поднятый арбалет. Он не избегал ее взгляда, и она неожиданно поняла, что этот человек вовсе ее не пугает! Он и в самом деле размышлял, не послать ли в нее стрелу. Мгновение спустя она могла быть точно так же мертва, как и эти скалы! Она ощутила некое подобие страха. Верно ли она оценила собственные шансы? Во имя Шерни, как же глупо могла закончиться ее жизнь, вместе со всеми планами и намерениями… Спусковой механизм арбалета ждал лишь нажатия пальца Раладана. Она отвернулась, чтобы он не мог прочитать в ее взгляде страха, ненависти и — приговора себе самой. „Ты мне за это заплатишь, — подумала она. — Клянусь, ты заплатишь за все. Уже скоро“. Кошмар, однако, пришел с другой стороны. И не Раладан был тому причиной. О конце всех надежд возвестила мрачная тень, мчавшаяся среди золотисто-красных гребней волн, со стороны клонившегося к морю солнца. Матросы, бредшие по пояс в воде вдоль бортов шлюпки, ее не видели. Не видел ее и Раладан, все еще погруженный в угрюмые размышления. — Нет, — прошептала Риолата. Снова, в который уже раз за этот день, в ней вспыхнула ярость, на этот раз — горькая, бессильная. — Убирайся прочь! — хрипло крикнула она, хватаясь за волосы у висков. Раладан и матросы посмотрели сначала на нее, потом — туда… Риолата бросилась в море, упала среди волн, но тут же поднялась, мокрая с ног до головы. — За что?! Скажи, за что, ты, дрянь! Я — твоя дочь, слышишь?! Я точно так же твоя дочь, как и она! Солнце над горизонтом, казалось, потускнело, кроваво-красный свет сменился почти бронзовым. Риолата не слышала и не видела ничего, кроме чудовищного остова, который надвигался неумолимо, зловеще, неудержимо, со скоростью гонимой ветром тучи… С палубы корабля Лерены люди прыгали в волны, плывя в сторону острова. — Остановись! — крикнула она, колотя кулаками по воде. — Остановись! Потом опустила руки и в отчаянии произнесла: — Отец… Черный остов внезапно куда-то исчез, после чего снова появился словно ниоткуда — уже ближе, с туманными, нечеткими очертаниями. С глухим грохотом, словно брошенный рукой великана камень, он ударил в борт стоящего на якоре барка, швырнув большой корабль к небу, словно пушинку. Время словно замедлило свой бег, она видела каждую деталь — ломающуюся пополам мачту, разлетающиеся во все стороны, словно от взрыва, доски бортов, разорванную палубу, черную яму трюма и подброшенные высоко в воздух фигурки людей. Звук неожиданно исчез, водяные столбы и стены бесшумно падали под тяжестью собственного веса, разбитый парусник рухнул в воду, килем вверх; чуть дальше страшный призрак переваливался с борта на борт среди пенящихся волн, снова набирая скорость и уходя прочь. Звук вернулся. — Ради всех Полос Шерни! — взвыла Риолата. — Я тебя уничтожу, кем бы и чем бы ты ни был! Клянусь собственным именем, я тебя уничтожу! Во имя всех Темных Полос, да поглотит тебя море! Небо раскололось, открыв широкую, кошмарную, черную полосу. Рев ветра усилился, но тут же стих, придавленный тенью следующей Полосы, появившейся рядом с первой. Раздался грохот. Нечто подобное черному стилету ударило с неба в уже далекий корабль-призрак. В небо взлетел столб воды; какое-то мгновение еще можно было увидеть разбитый, обожженный остов корабля, тяжко сражавшийся с волнами, прежде чем, поддавшись их мощи, он скрылся в морской пучине… Она стояла, пока небо не поглотило черные полосы, а потом опустила поднятые над головой руки и упала лицом вниз в воду. Раладан еще раз огляделся вокруг, но в сгущающейся темноте никого не увидел. Схватив девушку за шиворот, он поволок ее дальше, ко входу в пещеру. Она шаталась, словно пьяная, хватаясь руками за воздух; если бы он ее не держал, она не прошла бы и двух шагов. Однако у самой пещеры она вдруг начала сопротивляться. — Нет, — простонала она, — нет… Раладан уже видел и пережил за этот день столько, что вконец потерял терпение. Швырнув ее на землю, он схватил ее за волосы и, опустившись на колени, наклонился прямо к ее лицу. — Послушай, ты, — хрипло проговорил он. — Меня не волнует, кто ты человек, тварь из иного мира или демон… Делай, что я тебе говорю, иначе, ради всех сил, я тебя убью. — Он выхватил нож и поднес к ее глазам. — Там… она… — выдавила Риолата. — Я ее убила… Понимаешь? Раладан опустил оружие, тотчас же вскочил и схватился за голову. — Ради Шерни, — с неподдельным ужасом сказал он, — да есть ли для тебя хоть что-нибудь святое? — Снова упав на колени, он схватил ее за горло. Тем более, сука… иди туда! Оторвав ее от земли, он толкнул ее изо всех сил, не особо заботясь о том, переломает она себе кости или нет. Девушка упала среди скал. Раладан поднял под мышки уже окоченевшее тело солдата и, покрываясь потом, втащил его в пещеру. Заметив брошенный Риолатой затоптанный факел, он взял и его. Он помнил о дыре сразу же за входом. Двигаясь на ощупь, он запихал в нее труп и какое-то время отдыхал. — Где ты? — бросил он. — Здесь… — ответила она едва слышно. Он недвусмысленно подтолкнул ее, и они поползли на четвереньках дальше в глубь коридора, больно ударяясь о камни. Раладан достал из-за пазухи трут и кресало. Они были сухими — настоящее чудо, поскольку, вытаскивая Риолату из воды, он промок почти насквозь. От усталости и избытка впечатлений руки у него дрожали так, что он никак не мог высечь огонь. При мысли о том, что ему придется просидеть в темноте целую ночь с этой женщиной, он решился вновь добраться до выхода, где нашел убитого и оторвал кусок его мундира. Стиснув зубы, он наконец высек огонек, поджег тряпку и обмотал ею обожженный факел. Девушка сидела бессильно прислонившись к стене, но по взгляду, который она на него бросила, он понял, что она приходит в себя. Он вытянул руку с факелом так, что огонь едва не коснулся лица сидящей. Риолата отшатнулась, ударившись головой о камень. Жестом он приказал ей идти в глубь пещеры. Она послушно подчинилась, то и дело оглядываясь на него; лицо ее исказилось от ужаса. Входя в сокровищницу, Раладан не знал, что там увидит… Услышав о смерти Лерены, он вдруг понял, что нечто связывало его с этой девушкой. Может быть, дело было просто во времени, которое они провели вместе; может быть, старая, закоренелая привычка быть в меру лояльным по отношению к капитану, независимо от того, кем этот капитан был… Он никогда по-настоящему не желал смерти Лерены, хотя порой она вызывала у него ярость, граничившую с ненавистью. И теперь наконец не Лерена, но ее сестра оказалась столь отвратительным созданием, что та внезапно показалась ему чуть ли не другом и уж наверняка не врагом. Он не знал, как она умерла. Неожиданно это показалось ему крайне важным. Лерена, однако, была жива. Лерена была жива, и Раладан, которому, возможно, казалось, что все невероятные и кошмарные события этого дня уже завершились, отшатнулся, чуть не выронив факел. Тут же Риолата издала какой-то нечеловеческий звук, бросаясь к выходу; он инстинктивно преградил ей путь и удержал, не в силах, однако, оторвать взгляд от синего, опухшего, чудовищного лица, с которого глядели большие, вытаращенные глаза… Но самым страшным были не лицо и не глаза… Лерена смеялась. С вывернутой вбок головой, со все еще связанными руками и ногами, наконец, с неподвижной, лишенной воздуха грудью — она смеялась жутким, беззвучным смехом… Раладан оттолкнул Риолату и на негнущихся ногах подошел к девушке. Веревка врезалась в шею; лоцман воткнул факел в щель между ящиками и рассек узел, который был единственным доступным для острия ножа местом. Страшный, полузвериный хрип вырвался из гортани, столь давно лишенной дыхания; Раладан разрезал путы и, медленно повернувшись к Риолате, взял факел и, не пряча ножа, сделал два шага. И тут он увидел, что та спокойно улыбается. — Ну давай, — сказала Риолата, одним движением поднимаясь с земли. Она жива, дурак ты этакий. А это означает, что нас невозможно убить. Мы с ней одинаковые, Раладан. Ну? Давай! Раладану внезапно показалось, что все это ему снится. Это наверняка был лишь сон… Долгий, кошмарный сон.ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. РУБИН ДОЧЕРИ МОЛНИЙ
39
Был конец зимы. Предательская погода — лучшего определения Раладан не в силах был подобрать. После многих недель крепких морозов (замерзли даже порты в Багбе и Дороне, что бывало крайне редко) и беспрестанного снегопада наступила внезапная оттепель. Снег продолжал идти, но к нему прибавился дождь, отчего все вместе превращалось в отвратительную липкую смесь, и смесью этой ветер хлестал по улицам Багбы, словно мокрой тряпкой. Громадные сугробы, сквозь которые нелегко было пробраться во время морозов, теперь стали вовсе непреодолимыми препятствиями — целые завалы густой серо-белой грязи таяли, превращая улицы в холодную трясину из медленно плывущего месива. Липкий, мокрый снег обладал также и некоторыми преимуществами, хотя и весьма немногочисленными; лоцман наклонился, слепил в ладонях массивный снежок и швырнул в особенно назойливого пса, пытавшегося сожрать его подбитый мехом плащ. Целые десятки подобных тварей бегали по городу в поисках чего-либо съедобного; дошло до того, что солдаты отстреливали их из арбалетов. Псы были настоящим бедствием. Тем более за городом, где, как слышал Раладан, они объединялись в одичавшие стаи, охотившиеся на крестьянский скот, а нередко и на людей. Ранний зимний вечер загнал с улицы в дома даже тех, кому по каким-либо причинам пришлось сражаться с сугробами. Улица была пуста, и Раладану, за спиной которого недвусмысленно рычали шесть или семь псов, стало не по себе. Он сунул руку под плащ, поправив пояс с мечом. Подобного оружия он почти никогда не носил, против людей ему достаточно было ножа. Меч он взял именно с мыслью о псах. Если уж ему суждено было угодить к кому-то на обед, он предпочел бы, чтобы это оказалось какое-нибудь морское чудовище. Прежде чем он добрался до корчмы, о которой ему сказали два дня назад, сапоги его окончательно промокли. За голенища набился снег. В помещении было тепло, почти жарко, и вода потекла вниз, по лодыжкам. Что ж, в жизни ему приходилось сталкиваться с куда более серьезными неприятностями… Горячее пиво с кореньями и медом было просто отменным; гаррийский хмель не знал себе равных, да и воду для него брали отборную. Раладан выпил кувшин, за ним другой, наконец решил, что с него достаточно. Ему сказали правду. Старик был действительно странным. Он сидел в углу корчмы, серый, согнувшийся, с горбом на левой лопатке. На коленях он держал инструмент — Раладан никогда такого не видел. Он напоминал скрипку, но намного больших размеров, струны же казались необычно длинными. Струн было шесть, может быть семь. Старик — так же как и почти все в этом зале — потягивал пиво. К удивлению Раладана, лежавшую на кувшине руку украшал большой перстень, стоивший на первый взгляд целого состояния. У нищих, сказителей, бродячих музыкантов порой бывали деньги, и притом не столь малые, как обычно считалось. Но они никогда не выставляли свое богатство напоказ. Раладан наклонился к соседу, размахивавшему руками перед носом приятеля, словно и без жестов рассказ об акуле-людоеде не был достаточно красочен. — Почему он не поет? — спросил лоцман, показывая на музыканта. Сбитый с ритма повествования, тот на мгновение застыл. — Что? А, этот… Сам его спроси, сто тысяч молний! Но у него тут, — он показал на лоб, — явно не хватает, так что имей в виду… — Всякие бредни поет, что ли? — Бредни, говоришь? — Сосед внезапно опустил руки и помрачнел. — Нет, не бредни… Чудеса всякие… Раладан кивнул. Чудеса… Что человек, рассказывающий о громадной, как остров, акуле, мог счесть „чудесами“? Раладан услышал о необычном музыканте два дня назад, совершенно случайно. Кто-то сказал — „странный старик“, и Раладан внезапно вспомнил обращенные к нему последние слова Демона: „Есть один странный старик, Раладан. Он скажет тебе больше“. С тех пор прошло немало лет, но Раладан так и не встретил „странного старика“. Теперь, глядя на горбуна в лохмотьях, с большим камнем на пальце и необычным инструментом в руках, он подумал, что если этот старик не странный — это значит, что странных стариков вообще не бывает. Он встал. Сразу же встал и старик, выжидающе глядя на него. „Ради Шерни, — подумал лоцман, — пусть это будет именно тот, о ком я думаю“. В голове у него тут же пронеслась сотня вопросов, которые стоило задать человеку, рекомендованному ему самим Демоном. Он направился к музыканту, который крепче сжал свой инструмент, явно ожидая его. Раладан встал перед ним и сказал: — Старик, кое-кто много лет назад посоветовал мне обратиться к тебе… как к источнику необыкновенных знаний. Скажи, не ошибаюсь ли я? — Кто-то посоветовал обратиться ко мне? — голос музыканта был тихим и чуть дрожал. — Кто, господин? Раладан немного помолчал, затем ответил: — Великий пират… Король Просторов. Бесстрашный Демон, старик. Горбун медленно опустил веки, словно размышляя. — У меня здесь комната, — негромко проговорил он. — Идем, господин. Раладан внезапно ощутил комок в горле. Он был у цели. В далеком громбелардском Лонде существует древний обычай, в соответствии с которым на каждом постоялом дворе есть комната, даже скорее каморка в каком-нибудь углу, часто на чердаке, которую бесплатно предоставляют на ночь нищим и разным бродягам. Обычай этот распространился почти по всем краям империи, — может быть, потому, что недорогой ценой позволял проявить щедрость и благородство по отношению к неимущим… Вскоре они оказались именно в такой комнатке на чердаке. — Итак? — спросил старик, заботливо ставя инструмент у стены. Раладан молча стоял на пороге. — Итак? — повторил горбун, садясь на колченогий табурет, единственный предмет мебели, стоявший возле кучи влажного сена. — У меня есть время, господин, много времени, значительно больше, чем ты думаешь. Но разве тебе так же повезло? — Нет, во имя Шерни, — ответил лоцман. Он поставил принесенную снизу свечу на прогнивший пол и сел у стены, вытянув ноги в черных от влаги сапогах. — Однако я не могу поверить… Он замолчал, приложив ладонь ко лбу. — Скажи, господин, — нарушил тишину старик, — неужели ты в самом деле видел за свою жизнь столь мало странного, что не веришь в нашу встречу? Лоцман кивнул: — Ты прав, старик. Мне многое довелось повидать. Но из всего, что я видел, я понимаю столь мало… что именно потому боюсь поверить, что сегодня наконец получу объяснение. — Попробуй, господин. — Много лет назад я служил на пиратском корабле. Им командовал человек, о котором до сих пор слагают песни… Музыкант кивнул. — Их все больше, — сказал он. — И будут появляться новые, пока тень этого человека будет скользить по морям. А может быть, и после Бесстрашный Демон останется вечной, бессмертной легендой. — Тени Демона уже нет. Ее поглотило море. Старик чуть улыбнулся: — В самом деле? Раладан пристально посмотрел в глубоко посаженные глаза: — Я видел, старик. — Что ты видел, моряк? — Остов „Морского Змея“, который шел ко дну. — Его пробили скалы и внутрь набралась вода? Послушай, господин, почему ты веришь своим глазам, вместо того чтобы верить собственному разуму? Раладан насторожился. — Черный Корабль, — продолжал старик, — принадлежит проклятым Полосам Шерни. Именно они позволили ему вернуться в наш мир. И они же стали причиной того, что он исчез, поскольку, судя по всему, воспротивился их воле. Ах, ты думаешь, это из-за девушки? Нет, господин. Нет такой силы, которая сорвала бы Полосы с небесного купола. Это тень Демона призвала их своими деяниями, которые, похоже, противоречили замыслам Полос. Темные Полосы явились затем, чтобы покарать Тень за предательство. Тень Демона еще появится на Просторах, а если этого и не случится, то не по причине могущества твоей подруги. Странным, могучим человеком, должно быть, был Демон… — Старик задумался. — Раз даже после смерти он преследует какие-то свои цели, способный противостоять силе, благодаря которой сам же и существует… У Раладана перехватило горло. — Ты все знаешь… — Нет, моряк. Я знаю ровно столько же, сколько и ты. Я — понимаю… Наступило молчание — время, чтобы понять. Старик поднял руку: — Не спрашивай. Думай. Вспоминай. Я буду объяснять. Итак, имя? Как? Риолата? Лоцман хотел его остановить, но не успел. — Это имя проклято… Ты навлек несчастье на свою голову. Моя вина… Значит, Риолата? — спокойно повторил старик. Раладан внезапно понял, что воздух все так же неподвижен, тени — лишь обычные тени, а огонь свечи даже не дрогнул. — Ради всех морей, господин… Когда я впервые произнес это имя, оно обожгло мне горло, словно жидкий огонь… Попробовав потом еще раз, я провалялся неделю в лихорадке, как после тяжелых ран. — Это имя не проклято. Оно могущественно, и только. Действительно, его нельзя употреблять безнаказанно, не зная, что оно означает… Смотри. — Он вытянул руку с кольцом. — Что ты видишь? — Перстень… рубин? — Это Гееркото. Рубин Дочери Молний. — Старик поднял руку. Рубин засветился. — Нет, моряк, он вовсе не маленький. Напротив, это большой Рубин. Что же делать, если капитан К.Д.Рапис нашел, пожалуй, самый большой из всех? А имя этого Рубина — Риолата. — Это не имя Рубина. Это… Неожиданно его потрясла мысль, от которой он застыл как вкопанный. — Нет, не верю, — прошептал он побледневшими губами. — Да, сын мой. Эта девушка — Рубин. И не она одна… Все три. Раладан обхватил руками голову. „Сила камня, который воплощает в себе две Темные Полосы Шерни, больше не будет мне служить“, — вспомнил он слова Раписа. Значит, тогда… — Нет. — Да. Сын мой, та девушка умерла… нет, я не скажу тебе когда… — На пиратском корабле, — с дрожью в голосе сказал Раладан. — Вскоре после этого Демон разговаривал со мной… Ее замучили… или, может быть, она утонула, позже… — Да, вижу… Может быть. Лоцман вскочил, сделал несколько шагов, потом снова сел. — Ради всех сил… Говори, говори, господин! — Успокойся… Как я могу рассказывать тебе о ста вещах сразу? Раладан сжал кулаки. — Эта девушка… стала мне почти дочерью! — хрипло бросил он. — Теперь ты говоришь мне, господин, что она мертва… что она — какой-то камень! Но ведь она жива!.. Она дышит, чувствует! — Только чувствует, сын мой, но никто на свете не скажет тебе, что и как она чувствует. — Ест, спит… — голос его внезапно сорвался, — дышит… Но он уже видел однажды, что дышать ей не обязательно. Как и ее дочери. — Ей не нужно также и есть, пить, спать… Ее измучит бессонница. Она будет страдать от голода и жажды. Но она не умрет. Даже если не будет есть сто лет. Раладан, казалось, не слушал. — Никогда в жизни, — проговорил он, не в силах разжать сведенные судорогой челюсти, — я не любил никого и ничего… кроме моря. Но знай, господин… что сегодня все Просторы… могут превратиться для меня в пустыню! Старые доски глухо застонали от удара. Старик молчал. Раладан снова вскочил и начал кружить по комнате, не в силах произнести ни слова. — Дальше… дальше, господин, — наконец попросил он. — Я хочу, чтобы ты рассказал мне все. Но сначала скажи… можно ли что-нибудь сделать?.. Старик чуть наклонился вперед. — Не знаю, сын мой, — медленно проговорил он. — Я точно так же рад был бы все знать… Короткая жизнь? Ты, видимо, не слушал. Рубин вечен, как Шернь. Он не умирает, его сила не есть жизнь… По порядку, сын мой! Раладан сел, глядя в угол; старик, однако, знал, что он напряженно слушает. — Ты меня сначала не слушал, так что я повторю: Рубин бессмертен (что не значит, заметь, „неуничтожим“). Сила Рубина — для дочерей Демона то же самое, что жизнь для тебя. Но сила эта может меняться, и в зависимости от этого время для этих женщин будет идти быстрее или медленнее. Так что тот факт, что младшие дочери Демона сейчас в возрасте их собственной матери, не означает ничего, кроме как то, что сила Рубина ускоряет их взросление. Завтра та же самая сила может задержать старение всех трех на десять, сто или тысячу лет. Старик немного помолчал. — Что такое Рубин? — продолжил он. — Ты же знаешь. Это Гееркото, Темный Брошенный Предмет, ничего больше. Он могуществен, но есть и более могущественные… Да, именно Перо. Однако сила Серебряных Перьев основана на том, что с их помощью легко можно добраться до Полос Шерни. Рубин же ведет всего к двум Полосам, да и то с трудом. Рубин вовсе не Предмет, который служит своему владельцу, напротив — он сам влияет на того, кто им владеет, и притом влияние его намного сильнее, чем какого-либо иного Гееркото. Да, моряк, я вижу, что ты понимаешь, — это именно прилипала, прицепившаяся к днищу корабля, но прилипала гигантская, способная заставить корабль везти ее туда, куда она сама захочет… Горбун замолчал и долго о чем-то размышлял. — Первая дочь Демона сопротивлялась его силе, ибо ее создала жизнь, а не мощь камня. Две другие же никогда собственной жизни не имели, от начала до конца они — творение Рубина. Они вынуждены творить зло, поскольку ни на что иное не способны. Ты все еще удивляешься, что та, кого ты зовешь Риолатой, могла желать смерти сестры? О, она может желать многого, куда худшего, и, будь уверен, то же можно сказать и о двух других. Нет, сын мой, пусть тебя не удивляет, что Риолата, метя в сестру, наносила удар самой себе. Рубин не думает, он — слепая сила, ничего больше. Он… как река: она течет к морю и должна течь, путь же ей обозначают возвышенности и долины. Рубин стремится ко злу, но вслепую. Однако кратчайшим путем, как река. Поэтому дочери Демона так быстро стали взрослыми. У ребенка ведь намного меньше возможностей. Нет, сын мой, не думай так больше. Ведь Рубин на самом деле не река. Реке все равно, в какое море она впадает, большое или маленькое; Рубин же выбирает зло самое большое, какое только вырисовывается в будущем. Ни ты, ни я можем его не замечать, но поскольку Рубин позволяет своим рабыням поступать именно так, а не иначе, это может лишь означать, что в их поступках кроется зерно преступления столь неизмеримого, что невозможно даже догадаться о его сущности. Рубин, ощущая подобное зло в будущем, сделает все, чтобы к нему приблизиться, даже совершит добро. Да, сын мой. Но только если в конечном счете результатом станет зло достаточно большое для того, чтобы перетянуть чашу весов. — Почему Ридарета… изменилась? — тихо спросил лоцман. — Я уже говорил. Она сдалась. — Так неожиданно? Ведь столько лет она сопротивлялась! — Именно поэтому, сын мой. Внезапность подобной перемены меня не удивляет, скорее удивителен тот факт, что она произошла столь поздно. Раладан тряхнул головой. — Не понимаешь? Хорошо, возьмем, к примеру, лук… Раладан смотрел на старика — угрюмо, без надежды. — Возьми лук, сын мой, — повторил старик, — и натягивай тетиву. Сильно, но постепенно, все сильнее и сильнее… Теперь рука твоя дрожит, но ты все еще натягиваешь лук. Рука немеет, ослабевает… Но ты все тянешь и тянешь. И наверняка выдержишь еще долго, прежде чем наконец отпустишь тетиву. Полетит стрела. А чем сильнее будет натянута тетива — тем более грозной будет стрела, тем дальше и быстрее она помчится. Теперь поищем причину. Но ты должен мне помочь. Прежде всего, когда ты заметил эту перемену? — Я вернулся на Гарру… — Не трать зря слова, моряк. Посмотри сюда. Перед лицом Раладана появился мерцающий, подвешенный на цепочке кулон. Старец чуть раскачал его. — Смотри сюда. Смотри сюда… Ты очень, очень устал… Они плыли на Гарру. У Раладана, стоявшего у руля, было достаточно времени, чтобы должным образом оценить все свои действия и поступки. Он оказался полным дураком теперь это было очевидно. Он пытался строить интриги — а интриган из него был никакой. Он умел добиваться своего хитростью и силой; однако одно дело — хитрость, и совсем другое — целая паутина лжи, обмана, недоговорок, отвлекающих маневров… Он зашел так далеко, как только мог; боясь, чтобы общая картина не выглядела фальшивой, и не веря, что Ридарета сможет включиться в игру, он обманывал даже ее саму, более того — выдавал ее тайны, которые ему не принадлежали. Быть может, увенчайся его усилия успехом — и средства были бы оправданны… Однако он все испортил. Да и чего он, собственно, хотел? Спасти сокровища, упорно веря, что Ридарета ими когда-либо воспользуется; сохранить их от Риолаты и Лерены; исполнить волю Демона, считая его слова: „Помни, что первая моя дочь всегда будет права“ — заповедью, которую невозможно нарушить… Слишком многого он хотел добиться. Следовало же выбрать что-то одно, а сделанный выбор подсказал бы самое простое и лучшее решение. Но нет — он пытался совместить несовместимое… Все было так, как говорила Риолата: он хотел помешать им завладеть драгоценностями, впоследствии же — отправить сокровища на дно вместе с кораблем, на котором они находились. Теперь, когда он уже ясно видел, что проиграл, он мог взглянуть на собственные поступки хладнокровно, со стороны. Он чуть было не рассмеялся… Если бы он решился уже в Дране сказать Лерене, что знает, где сокровища! Так и надо было сделать, ведь он уже знал о Берере, о чудесном, непостижимом стечении обстоятельств, которое позволило этому человеку (правда, после двух лет скитаний от острова к острову) отыскать сокровищницу Демона… Если бы он тогда сказал об этом Лерене! Они опередили бы Риолату, и теперь сокровища лежали бы на дне моря, вместе со „Звездой Запада“; что может быть проще, чем направить корабль на скалы! Но нет. Он не сумел отказаться, нет… подобное противоречило его ослинойнатуре! Он продолжал надеяться даже тогда, когда увидел идущую следом за фрегатом островитян „Сейлу“. На что он, собственно, рассчитывал? Что островитяне, а вместе с ними и „Сейла“ будут преследовать Броррока до начала осени, а потом штормы помешают добраться до сокровищ, давая ему время? В самом деле… Сколь невероятное везение потребовалось бы, чтобы воплотились подобные головоломные планы! Ради всех морей, права была Риолата! Он был дураком. Законченным дураком. А теперь… Теперь исход битвы за сокровища был решен. А может быть, и нет? Может быть, именно теперь он слишком рано сдался? Но, ради Шерни, что он еще мог сделать? Как мог он сражаться с существом, дергающим за Полосы Шерни так, словно это были шелковые ленточки? С существом, отправившим ко дну корабль-призрак, перед которым дрожали все моря Шерера? С существом, которое было воистину бессмертным… Он в это верил. Да и как он мог не верить? Сейчас он хотел лишь одного — спасти Ридарету. После гибели „Звезды Запада“, потрясенный и раздавленный масштабами случившегося, он вытащил из моря это нечто и отволок в пещеру. На острове были матросы со „Звезды“ — те, кто был в шлюпке, и другие, добравшиеся вплавь до берега. Пещера была единственным убежищем, единственным местом, где он мог собраться с мыслями, составить какой-то план… Но в пещере он узнал, что не имеет над чудовищными сестрами никакой власти. Чем он мог им угрожать? Смертью? Оставалась, однако, Ридарета. Независимо от того, действительно ли она была в руках Риолаты или нет, он знал, что ей грозит гибель. Раньше или позже. Он должен был ее спасти. Он не мог убить сестер. Но Риолата в очередной раз просчиталась. Смертные или нет, обе они были в его власти. Ибо он внезапно понял, что они сами мало что знают о дремлющих в них силах… Он оставил их в сокровищнице — связанных, с кляпами во рту, беспомощных и источающих ненависть ко всему, в особенности же к нему и друг к другу. Теперь он ругал себя за то, что так поступил. „Сейла“ рано или поздно вернется. А это означало, что он отдал Лерену — беззащитную — в руки сестры. Судьба пиратки казалась незавидной. Мог ли он, однако, поступить иначе? Впрочем, ему пришлось действовать в страшной спешке; если он хотел спасти Ридарету, время имело первоочередное значение. На острове были матросы со „Звезды Запада“. Была шлюпка. После недолгих поисков оказалось, что есть и вторая. Это давало возможность добраться до Гарры, давало шанс отыскать Ридарету. Он взял из сокровищницы столько золота, сколько мог унести с собой, после чего начал действовать. Ему удалось уговорить перепуганных матросов покинуть остров, который всем казался проклятым. Впрочем, ничего другого не оставалось. Черный Корабль погиб — все это ясно видели. И хотя море вдруг перестало быть им домом, они еще раз ему доверились. Не все. Несколько человек осталось. Они предпочитали умереть с голоду на этих скалах, нежели снова ощутить под собой волны. С этим он ничего не мог поделать. Шлюпки поплыли в сторону Гарры. Раладан, считавший каждое мгновение, словно золотые слитки, однако, не торопил матросов, ибо они гребли столь поспешно и неистово, что быстрее просто уже не могли. Шлюпки мчались, словно конные упряжки. Они высадились на сушу в окрестностях Бел она, небольшого городка, расположенного милях в десяти от берега. Измученные греблей матросы возились у лодок. Он оставил их — они больше не были нужны, не имели значения. Значение имело лишь время. К вечеру он добрался до Белона, купил коня и так быстро, как только мог, поскакал в столицу. Раладан искал всюду. Он начал с Дороны; Дран был слишком далеко, чтобы ехать туда и проверять, живет ли еще Ридарета на краю леса. Прежде всего он рассматривал самый худший вариант, а именно тот, что Риолата не лгала… В Дороне он нашел людей, о которых ему было известно, что они как-то связаны с Риолатой. Не особо церемонясь, он расспрашивал, обещал, а чаще всего угрожал — что-что, а угрожать он умел. Если это не помогало, он прибегал к грубой силе. В течение всего нескольких дней город охватил страх. Ходили слухи о безумце, хладнокровно и умело убивающем и калечащем людей. Нескольких известных купцов нашли замученными насмерть в собственных домах; известного и всеми уважаемого торговца зерном, добродушного и веселого Литаса, трудно было после смерти узнать, жене же его перерезали горло так, что голова едва держалась на шее. Четверо слуг тоже были убиты. В соседних домах никто ничего не слышал… Сгорел дом господина Э.Зикона, мелкого дворянина, торговавшего армектанским сукном. Зикон никогда не пользовался хорошей репутацией, товар его был низкого качества, кредиторы же стояли у дверей каждый день. Однако вместе с другими убийствами смерть его семьи и пожар дома казались частью некой цепи событий, о сути которой нелегко было догадаться… Незадолго же до этого погиб еще один мелкий торговец, а за городом нашли повешенного старика, в котором с трудом опознали скупого и ворчливого Бадарра, снабжавшего спиртным почти все постоялые дворы, корчмы и таверны в Дороне. Известно было, что Литас и Э.Зикон в последнее время вели общие дела, что многих удивляло, поскольку солидному купцу, каковым был Литас, не пристало связываться с мошенником. Однако оставалось загадкой, какое отношение к этим двоим имели остальные. Впрочем, все эти убийства, хотя и самые громкие, не были единственными… В портовых переулках Дороны не раз и не два находили трупы, являвшиеся результатом каких-нибудь матросских разборок или обычных пьяных драк. На этот раз, однако, могло бы показаться, будто сам дух смерти пронесся по улицам: в течение пяти дней было найдено втрое больше трупов, чем обычно за неделю. Сразу же после этого вспыхнула война между бандами местных уголовников все поняли, что речь идет о сведении каких-то счетов, в суть которых лучше не вдаваться. Комендант гарнизона взял ситуацию под контроль, усилив патрули, днем и ночью кружившие по улицам. В тавернах и на постоялых дворах появились люди, осторожно расспрашивавшие всех и обо всем. Неизвестно, подействовали ли эти средства, достаточно того, что случаи таинственных смертей постепенно сошли на нет. Продолжалась лишь война в портовых улочках, скрытая в ночном мраке… Раладан покинул Дорону. Он был уже почти уверен, что Риолата лгала. В противном случае кто-нибудь должен был хоть что-то знать. Конечно, он мог не найти тех, кому она дала соответствующие поручения. Однако он сделал все, что мог. Дальнейшие поиски были лишь тратой времени. Теперь он ехал в Дран, в душе надеясь, что найдет Ридарету там, где ее оставил. Картина пожарища потрясла его до глубины души. Усталый, голодный и обессиленный, он стоял держа под уздцы почти загнанного, всего в мыле, коня. Прошло немало времени, прежде чем он подошел ближе и, бродя среди углей, начал искать ответ. Он его не нашел. Еще до захода солнца он добрался до Драна. Удар, потрясший его при виде обгоревших остатков дома на краю леса, лишил его последних сил. Организм, хотя и железный, требовал отдыха — Раладан уже почти ничего не соображал. В Дороне он жил подобно пламени, безумствуя без сна и отдыха, пока не закончилось топливо. Когда было нужно, он чуть угасал, чтобы тут же вспыхнуть с новой силой. Потом он мчался во весь опор по дороге, желая в конце концов развеять опасения, убедиться, что девушка жива и здорова… Больше же всего (хотя он сам до конца этого не осознавал) ему хотелось наконец увидеть лицо родного человека… Единственного родного ему человека во всем мире. Ему было это жизненно необходимо. Теперь же он ничего не чувствовал — ни беспокойства, ни жалости, даже разочарования. Он знал лишь, что нуждается в отдыхе. Если бы перед ним внезапно появился некто с мечом в руке, он наверняка лишь пожал бы плечами: „Убивай, дурак…“ Он снял комнату на постоялом дворе возле доронского тракта, в предместье. Даже не поев, он рухнул на постель и уснул. Он спал как убитый. Когда наконец проснулся — а проспал он почти сутки, — он пошел есть. Ел же он столь обильно, что хозяин гостиницы, поднося на стол все новые блюда, с неприкрытым изумлением смотрел на человека отнюдь не гиганта, — который был в состоянии поглотить такие количества каши, мяса, сыра, хлеба, фасоли, колбасы и пива, не делая даже короткого перерыва, а лишь распуская ремень. Поев, Раладан потребовал грога. Щедро расплатившись, он откинулся на спинку скамьи, потягивая напиток. Гостиница была неплохая, портовое отребье редко сюда заглядывало. Клиентами были обычно купцы и разнообразные путешественники, едущие в Дран: те, кто не успел до закрытия городских ворот или же, приехав слишком рано, вынужден был ждать их открытия, обычно пополняя кошелек оборотистого корчмаря. Комнаты и еда были дороги, но, должен был признать Раладан, весьма недурны. Допив грог, он кивнул хозяину. Тот поспешно подошел; гость, обладающий подобным аппетитом, был настоящим сокровищем, тем более что денег, похоже, не считал. Раладан подвинул к нему серебряный слиток. — Честно наливаешь, — похвалил он, показывая на опорожненный кувшин. Я вчера видел сгоревший дом на краю леса… Кто там жил? Вскоре он знал о пожаре то же, что и корчмарь. И снова он был в Дороне, однако с совершенно иным настроением, чем несколько дней назад. Ярость и ожесточение уже не требовались; убивая нанятый Риолатой сброд, он мог самое большее натравить какую-нибудь банду на другую — и хорошо, если бы закончилось только этим. Тогда он действовал быстро, но отнюдь не вслепую, к тому же ему еще и везло… Он был не из пугливых, но прекрасно понимал, сколь незавидной была бы его судьба, если бы местное отребье, вместо того чтобы вцепиться друг другу в глотки, обнаружило бы работу постороннего… Впрочем, теперь было не совсем понятно, кого еще тянуть за язык. Те, кого он прирезал в темных переулках, были ему хорошо знакомы — он сам когда-то рекомендовал их Риолате. Они ничего не знали. Значит, она воспользовалась услугами других. Кого? И вообще, местных ли? Если он хотел это выяснить, следовало действовать медленно и осторожно. Спешить было не к чему. Если все, что говорила Риолата, было правдой, — Ридареты не было в живых. А если ее только похитили и не было приказа убивать — у него имелось время на поиски. По крайней мере, так он полагал. Ему не давала покоя история пожара на краю леса. Хозяин гостиницы уверял, что там нашли обгоревшие трупы. Неужели людей Риолаты? Но, во имя Шерни, что там, собственно, случилось? Он хорошо знал Ридарету — девушка многое умела и была далеко не глупа. Но она не могла победить в схватке с убийцами, ведь Риолата послала туда далеко не мальчишек. Кто в таком случае убил несколько человек (корчмарь не знал, трех или четырех)? Кто мог ей помочь? И наконец, чем в конце концов все завершилось? Она убежала? Ее похитили? Или, может быть?.. Этого он боялся больше всего. Того, что одно из обгоревших тел… Он в это не верил. Не хотел и не мог поверить. Ответы на все вопросы следовало искать только в Дороне. Первым делом он отправился в порт. И правильно сделал. Этот корабль он узнал бы всюду, белые паруса были не нужны… Он не был ни удивлен, ни ошеломлен. Напротив, он ожидал возвращения „Сейлы“ даже раньше. Ведь ему было известно, какова цель операции стражников. Старый Броррок, естественно, благополучно скрылся. Трудно было предположить, что имперские фрегаты будут до бесконечности плавать туда и обратно лишь потому, что так в глубине души желал лоцман Раладан. Они вернулись на Сару, „Сейла“ же направилась прямо к тайнику Демона. Сокровища были здесь, в Дороне. В руках этой женщины… или, вернее, этого существа. Сокровища, однако, его уже не волновали. Они были безвозвратно утрачены — и только. Тот же факт, что Риолата снова наслаждалась свободой, имел огромное значение. Она должна была уже знать, что купцов, столь успешно до сих пор прикрывавших всю ее деятельность, постигла незавидная судьба… Он сильно сомневался, что она сочла бы это случайностью. Следовало ожидать, что она готова на все; что ж, теперь ему уже почти нечего было терять. Жизнь? Жизнь… Он ставил ее на кон чаще, чем серебряные слитки при игре в кости. Раладан надеялся, что дочь Ридареты занята сейчас множеством дел, взять хотя бы „Сейлу“. Ведь официально корабль был собственностью добряка Литаса. Наверняка уже появились многочисленные наследники… Самая простая мысль, которая пришла ему в голову, — сразу заняться Риолатой, самым надежным источником любых сведений. Он ругал себя за то, что не сделал этого раньше, еще там, на острове. Что ж, тогда он был по-настоящему потрясен тем могуществом, которое продемонстрировала перед ним девушка. Кроме того (он уже в десятый раз обдумывал собственные поступки), он спешил. У него не было никакой гарантии, что он услышит правду, а каждый ложный след, по которому он бы пошел, мог стоить Ридарете жизни. Так он тогда думал. Но, ради Шерни, можно было попробовать договориться с Лереной… Он гнал прочь подобные мысли. Что случилось, то случилось. Он либо ошибся, либо нет. Всяческие рассуждения на тему „Что было бы, если…“ вели в никуда. Теперь, однако, страх и то ощущение кошмара, столь пронзительное на острове Демона, прошли. Воистину ему нечего было терять. Естественно, следовало нанести удар в самое сердце, то есть в нее. Да, конечно, она владела силой, о которой он не имел понятия. Но и что с того? Может быть, лучше было бежать куда глаза глядят и спрятаться где-нибудь в глухой чаще, в страхе перед тем, что девушка снова начнет призывать Темные Полосы и тогда Шернь поразит Гарру ударом молнии? Он не до конца понимал, что станет делать, когда Риолата окажется в его власти. Разум, однако, подсказывал ему, что, если кожу на спине надрезать ножом, после чего захватить клещами и медленно сдирать вниз, правда выйдет на свет столь же быстро, как и громко. Берег Висельников был хорошо ему знаком — он сам в свое время указал это место Риолате. Он знал, что делает, помогая дочерям Ридареты в их первых самостоятельных шагах. Правда, таким образом он облегчал им реализацию их дальнейших планов (которых сам не знал), с другой стороны, однако, заручался определенным доверием с их стороны и, более того, знал, на что он в случае чего способен, вернее даже, на что способны они… Именно сейчас знакомство со связями Риолаты, с людьми, которые ей служили, и с местами, которыми она пользовалась, очень ему пригодилось. Естественно, он уже побывал в мрачном селении неделю назад — слишком уж удобное это было место для того, чтобы держать там пленников. В селении, однако, было пусто. Сейчас он надеялся на иное. Берег Висельников был идеальным местом для решения всевозможных вопросов, требовавших уединения. Там не было ничего, что могло бы помочь чересчур любопытной личности выяснить, что за женщина пользовалась заброшенной хижиной, ничего, что могло бы оказаться полезным в борьбе против нее. Защититься от непрошеных гостей здесь было достаточно просто, чего нельзя было сказать ни об одном доме или переулке в Дороне. Кроме того, дурная слава этого места производила соответствующее впечатление на каждого, кого сюда приглашали, приводили или притаскивали. Раладан не рассчитывал, что сразу же застанет здесь ту, кого искал. Однако он верил, что, вернувшись из такого путешествия, дочь Ридареты будет вынуждена заняться и теми делами, для которых Берег Висельников подходил как нельзя лучше. Он многим рисковал, забираясь прямо в волчью пасть, но иного выхода не видел. Дорона была велика, как он мог там найти Риолату? Женщины с таким именем для города просто не существовало (какое имя она себе взяла? Семена?). Для Дороны Риолаты не существовало вообще, под каким бы то ни было именем или внешностью. Наверняка были люди, знавшие, где ее искать; однако лоцман Раладан к ним не принадлежал и даже не знал таких людей. Купцы, которых она использовала в качестве наемников, такими людьми не были, — по крайней мере, это было ему известно. Не были ими и бандиты, которым кто-то пару раз поручил работу от ее имени. Так что он отправился на Берег Висельников. С собой он взял запас провианта и плащ на тот случай, если придется ждать несколько дней (с подобной возможностью следовало считаться). Кроме того, он вооружился словно на войну — при нем были меч и мощный арбалет, стрела из которого могла бы, пожалуй, пробить навылет медведя. Глаз его был меток, рука уверенна, он знал, что с расстояния в пятьдесят шагов попадет стоящему человеку прямо в грудь. Хуже было с движущейся целью; опытный арбалетчик мог учесть необходимую поправку, но Раладан не был арбалетчиком, тем более опытным. Однако он рассчитывал, что скорее всего придется стрелять с расстояния в несколько шагов. Не знал он лишь того, сколь многочисленный эскорт сопровождает обычно Риолату; ибо в том, что подобный эскорт вообще существует, трудно было сомневаться. Он полагал, что, имея арбалет, как-нибудь сумеет справиться с тремя захваченными врасплох людьми. А может быть, удастся убрать их по очереди. Прошел день, за ним ночь… Потом снова день. Днем он прятался в лесу неподалеку, в кроне росшего на его краю дерева, внимательно наблюдая за окрестностями. Ночью он караулил в первой хижине, считая от Дороны. Терпения ему было не занимать, но тащившееся словно улитка время было невероятно опасным врагом. Короткий сон, который он волей-неволей вынужден был себе позволять, не снимал усталости и не слишком сокращал ожидание, нетерпение и гнев же лишь росли. Мгновения ползли лениво, и каждое из них наводило на мысль о том, что его можно было бы использовать куда лучше, чем торчать просто так в ожидании, возможно тщетном… Нужно было действовать, действовать! Однако ему хватало благоразумия сказать себе, что все кажется простым и понятным только сейчас; с того же мгновения, когда он покинет свое укрытие, станет ясно, что, собственно, вообще неизвестно, что делать, и время помчится, наоборот, слишком быстро. И Раладан ждал. Ночь была необычно теплой, погожей и ясной. Последняя ночь лета… Он полагал, что завтра, самое позднее послезавтра, должен начаться „кашель“. Потом — бури, ливни и штормы. Еще позже — зима. Он подумал, что зимой они с Ридаретой поднимутся на борт первого же корабля, идущего на континент. Он отвезет ее в Армект, а может быть, в Дартан. Куда-нибудь, куда не смогут добраться никакие злые силы. Он надеялся, что каждой осенью найдет в ее доме — свой дом… Раладан встряхнулся. Он чуть не забыл, что та, о которой он думает… может быть… Он нахмурился, вглядываясь во мрак сквозь дыру в обрушившейся стене. Кто-то приближался. Он все еще ничего не замечал… Или что-то послышалось? Инстинкт явно подсказывал ему, что в мертвом селении есть кто-то еще кроме него. Внезапно оказалось, что от арбалета нет никакого толку; если бы он сейчас попытался натянуть тетиву, то наделал бы слишком много шума. Подкравшись к двери, он выглянул во тьму. Потом вышел, прижимаясь к темной стене, с мечом наготове. Он двинулся в глубь селения, бесшумно, осторожно, избегая освещенных луной мест. Внезапно он замер, заметив среди хижин темную фигуру. Он быстро огляделся по сторонам, но никого больше не было видно. Он знал, что где-то в темноте должен быть кто-то еще. Темная фигура сделала несколько нерешительных шагов, после чего, словно поколебавшись, остановилась и неожиданно направилась прямо к нему. Лунный свет упал на волну темных волос. Ему стало страшно — ведь она не могла его видеть и тем не менее… Он крепче сжал рукоять меча, но в то же мгновение послышался приглушенный голос: — Это… я. Оружие выпало из его руки. Он даже на секунду не подумал о том, что это может быть какая-то хитрость, ловушка… Он знал. Он нашел ее. Они бросились навстречу друг другу. Он схватил девушку в объятия и прижал к себе, чувствуя, как колотится ее сердце. — Как ты узнала?.. — выдавил он. Неожиданно она оттолкнула его, и в лунном свете он увидел ее лицо, столь хорошо ему знакомое и вместе с тем — совершенно чужое. — Не спрашивай, — проговорила она столь враждебным тоном, что он оцепенел. — Никогда меня ни о чем не спрашивай! Старик задумчиво молчал. — Я не спрашивал… — горько сказал Раладан. — Это была не она, не та, кого я знал… Я до сих пор не знаю, что произошло там, на краю леса, хотя очень хотел бы знать, ибо это может быть важно для ее безопасности. Я не знаю, отчего сгорел дом; не знаю, как она меня нашла; не знаю, как она узнала меня в темноте. Хотя то, что я сегодня услышал от тебя, господин… многое, пожалуй, объясняет. Однако я до сих пор по-настоящему понимаю лишь одно: то, что девушки, которую я знал, не стало. Вместо нее теперь другая, враждебно настроенная ко всему, и ко мне тоже… и к самой себе. Ты уверяешь меня, господин, что в этом нет ничего необычного. Может быть, для тебя это так, господин. Я же до сих пор не понимаю. И до сих пор задаюсь вопросом: как это случилось? Столь внезапно? Горбун кивнул: — Помни, сын мой, что я говорил о тетиве лука. Я могу лишь догадываться, но наверняка не ошибусь, если скажу, что нападение на ее дом было подобно удару ножом в руку, эту тетиву держащую. Что-то позволило вырваться на свободу ненависти этой девушки, и наверняка она сама не понимает каким образом. Раладан снова горько улыбнулся, после чего заговорил, сначала медленно, потом все быстрее и громче: — Я вынужден верить тебе, господин… Но скажи, что мне теперь делать? Это не может продолжаться вечно. Я не могу оставить ее одну; когда я возвращаюсь, она близка к помешательству… С каждым днем все хуже и хуже. Я вижу, что мое присутствие… Старик молчал. Раладан тяжело дышал от возбуждения. — Пойми, сын мой, — послышался наконец ответ, — это не человек. Все чувства, которые ты испытываешь, — это чувства к Гееркото, Рубину Дочери Молний… — Нет, господин, — прервал его Раладан. — Это неправда. Твои знания неизмеримы, но это неправда. Ридарета в определенной степени — человек, не только Рубин. Если бы она всегда была только Рубином! Тогда она поступала бы так же, как и ее дочь-сестра, стремилась к какой-то цели, может быть и низменной, но поверь мне, господин, что я не делю мир на черное и белое, я хочу ей добра, неважно, какого оно будет цвета! Но то, что осталось в ней от той, шестнадцатилетней девушки, похищенной из маленькой деревушки, все еще живо. Оно и борется, и проигрывает… Она страдает, господин… и впадает в безумие. А я не в силах ей помочь. Он неожиданно отвернулся. — Если нечто пробудило в ней силы Рубина, то нечто может их и усыпить, — приглушенно произнес он. — Скажи, господин, что это, и больше мне ничего не нужно. Горбун задумался. — Шар Ферена, — коротко ответил он. Лоцман повернулся к нему; в глазах его блеснула надежда. — Шар Ферена, — повторил старик. — Самый могущественный из Светлых Брошенных Предметов. Но действие его… может быть разным. — Что это значит? — Это значит, что он может принести ей смерть. Наступило короткое молчание. — Все Шары одинаковые, — продолжил старик, — и мощь каждого из них значительно превышает мощь Рубина. Рубины, однако, разные, и этот — не обычный Рубин, но Рубин гигантский: это Риолата, королева Рубинов… Шар Ферена не может проиграть, однако трудно оценить, сможет ли он выиграть. Еще одно: мощь Рубина одна, но находится в трех телах. Похоже, младшие дочери Демона стремятся к некой цели… или же только одна из них, ведь судьба другой тебе неизвестна?.. Раладан наклонил голову. — Тем более, моряк. Если действует только одна из сестер, то тем более важно знать ее цель… Я не знаю, что это за цель. Законы Всего говорят об Агарах, но Законы Всего не слишком ясны… — Не понимаю, господин. Что такое Законы Всего? — Набор правил. Описание связей между Шернью и ее миром. Иногда они касаются возможных событий, но лишь возможных. Если что-то возможно, то не значит, что оно неизбежно. Понимаешь? — Нет, господин… не вполне. — Законы Всего крайне редко принимают форму Пророчеств. Я музыкант и проповедую Законы Всего в своих песнях, но Законы эти редко правдивы до конца… Оставим это, сын мой. Тебе вовсе не нужно это понимать. Достаточно знать, что Агары наверняка будут залиты кровью, так говорят Законы, а Рубин стремится их исполнить. Что произойдет потом — можно лишь догадываться. Однако Агары лишь начало некоего большего зла, и нужно, чтобы ты помог Рубину. Раладан смотрел на него, мало что понимая. Старик невозмутимо пояснил: — Нужно, чтобы всеуничтожающая сила Рубина нашла выход. Чем большую часть его мощи используют те две сестры (или одна, поскольку судьбы другой мы не знаем), тем меньше ее останется в Ридарете. Тогда принеси ей Шар. Сначала, однако, сделай все, чтобы исполнились планы младшей дочери. — Значит, я должен… — Да. Ты должен ей помочь. Всем, чем только сможешь. — Это невозможно, господин. Ты требуешь неисполнимого. Ни одна из них не примет этой помощи… а уж тем более она… — Послушай меня, сын мой. Возможно, что Риолата избавилась от сестры. Убила ее, скажем так, чтобы было понятнее. Конечно же, это вполне возможно. Тело — это только тело, мощь Рубина будет его оживлять, но лишь до тех пор, пока тело это будет существовать. А ведь его можно уничтожить без остатка. Хотя бы огнем. Раладан почувствовал, как его пробирает дрожь. — Если Риолата и в самом деле так поступила… Ты спрашиваешь, что из этого следует? Очень многое! Сила Рубина, разделенная до этого на три части, теперь заключена лишь в двух телах. Таким образом, в каждом из них ее больше, чем было прежде. Ее труднее победить. И вместе с тем все действия Риолаты может поддержать лишь сила Ридареты. Нужно сделать так, чтобы силы этой осталось в теле Ридареты как можно меньше, тогда сила Шара Ферена сможет победить оставшуюся часть и занять ее место, а не сгореть в неравной борьбе. Как же можно этого достичь? Создав младшей сестре достаточно широкий простор для действий, чтобы силы, содержащейся в ней самой, уже не хватило… Понимаешь, сын мой? Если на каждом из нас лишь часть доспехов, а я, бросаясь в битву, одолжу у тебя твою часть, то ты останешься беззащитным. Понимаешь? — снова спросил он. — Если даже и понимаю… Повторяю, господин: ни одна из дочерей Ридареты не примет моей помощи! — А я тебе говорю, сын мой, что ты ошибаешься. Ты снова доверяешь внешнему впечатлению, не пытаясь добраться до сути. Мощь Рубина, как я уже говорил, слепа, но неудержимо стремится ко всему, что ей благоприятствует. А кроме того, — подчеркнул старик, — из твоих воспоминаний ясно следует, что ты обладаешь немалой властью над этими женщинами. Одна из них была в тебя влюблена, моряк. Не знаю, может быть, даже обе. Раладан, онемев, смотрел на него. — Вот слепец, — вполголоса проговорил старик. — Не видит вещей огромных, как Просторы. Лоцман продолжал молчать, не в силах связать двух слов. — Кто тебе сказал, — продолжал старик, видя царящий в его мыслях хаос, — что любовь должна быть доброй? Ради Шерни, моряк, во имя этого чувства в мире совершено было больше преступлений, чем во имя чего-либо иного, не считая, может быть, власти! Это самое коварное, жестокое и убийственное чувство, какое только может овладеть человеком, ибо оно пробуждает в нем другие, а именно зависть, ревность и гнев. Все доброе, что есть в этом чувстве, касается лишь единственной живой души. Так что подумай, сын мой, прежде чем называть добрым это нечто, которое, по сути, есть не что иное, как убогая, извращенная дружба — само по себе чувство возвышенное и прекрасное. Говорю тебе, без любви мир был бы намного счастливее, при условии, что в нем осталась бы дружба. — Нет, ради Шерни… — проговорил Раладан, думая совсем о другом. — Не могу поверить, что они… Старик встал. — Тем не менее. Раладан понял, что разговор окончен. — Кто ты, господин? Тот, который все знает… Почему ты скрываешься под личиной бродячего музыканта? — Скрываюсь? Но я и есть музыкант! — ответил горбун, беря инструмент. Похоже, однако, ты кое-что мне принес, моряк? Раладан встал, лихорадочно вытаскивая кошелек с золотом. Старик принял его с явным удовольствием. — Даром тут не кормят, — спокойно сказал он. — Даже музыкантов. Теперь — скажи еще раз, как тебя зовут. Лоцман поднял с пола плащ, рассеянно перебрасывая его с руки на руку. — Раладан. Горбун наклонил голову. Лоцман продолжал стоять, словно хотел еще о чем-то спросить, но почувствовал, что на этот раз ответа не будет. — Прощай… господин. Старик остался один. Он долго стоял опустив голову. Когда он ее наконец поднял, на устах его блуждала полуулыбка. — Раладан… Он чуть прикрыл глаза. — Прощай, князь, — произнес он в пустоту. — Прости, что я тебя обманул… но ты должен поступать в соответствии с Законами Всего. Твое предназначение — поддерживать Темные Полосы, ибо для этого Просторы отдали тебя миру. Он крепче сжал инструмент и вышел из каморки. Черная, отвратительная ночь полна была звуков: то приближавшегося, то отдалявшегося воя и лая собак, плеска стекающей с крыш воды, шума и свиста ветра, несшего мокрый, смешанный с дождем снег. Раладан кружил по улицам, не находя себе места, но наверняка не нашел бы его нигде на свете. Порой ему казалось, что стоило бы бросить меч, упасть в вязкий сугроб и ждать псов… Несколько раз он направлялся в сторону порта, ощупывая одежду в поисках золота, которым можно было бы заплатить за поездку — куда бы то ни было… Наконец он прислонился к холодной стене дома в переулке, с закрытыми глазами мысленно взывая к тому, кто превратил его жизнь в клетку, из которой не было выхода. „Капитан, — говорил он, — ты несколько раз спасал мне жизнь… Неужели затем, чтобы присвоить ее себе? Ты получил свое; зачем же ты его отдал?! Ради Шерни, твоя последняя воля стала проклятием! Права была Ридарета: все, что с тобой связано, несет гибель! Повторяю вслед за твоей дочерью: пусть поглотит тебя море! И освободи меня, ибо я больше не хочу тебе служить!“ Черная мокрая стена без единого звука принимала удары его кулаков. Он стоял сжавшись в комок, словно нищий, словно бездомный бродяга. Какой-то голос, похожий на голос горбатого старика, казалось, отвечал: „Глупец! Ты не ему служишь, но ей! Ты сделал все, чего пожелал Демон, но теперь даже его приказ не разделил бы тебя и эту девушку! Ибо то, что ты чувствуешь, когда ее видишь, — единственное светлое пятно в твоей жизни! У тебя нет цели и никогда не было — кроме нее! Она тебе больше чем дочь, и ты желаешь ей счастья, хотя вас и не связывают кровные узы! Неужели ты этого не понимаешь, глупец из глупцов?“ Он снова двинулся по улице, все быстрее и быстрее, подставив лицо липким хлопьям снега. „Что за жизнь ты вел прежде? Все зло, которое ты творил, также и добро — растаяли, растворились, не служили никому и ничему, даже тебе. Теперь ты хотя бы знаешь, ради чего живешь. Действуй же, борись! Если сдашься, если откажешься от борьбы — что тебе останется? Ничего!“ — Ничего! — сказал он, поднимая лицо к небу. Потом наклонился, набрал полные горсти снега и погрузил в него лицо. — Ничего…40
Сила, сломившая ее волю, желала быть видимой всем. По мере того как девушка переставала быть собой, росла ее неистовая враждебность ко всему окружающему, к себе же самой — уменьшалась. Однако зло в качестве символа своей растущей мощи выбрало лицо и тело Ридареты. Она становилась все красивее, чувственнее, все более вызывающей; Раладан никогда не испытывал к ней физического влечения, поскольку действительно видел в ней дочь и ни в коем случае не любовницу, но, будучи мужчиной, не мог не заметить изящных очертаний груди, невообразимо пышных волос, гладкой, без единого изъяна, кожи, белизны зубов, формы рта, движений бедер при каждом шаге и рук при каждом жесте… Уже десяток раз он видел в ней законченное совершенство — и каждый раз ошибался! Достаточно было оставить ее на день-два, а когда он возвращался — она была еще прекраснее. Его это пугало, поскольку она привлекала внимание; он все больше опасался взглядов, которые она неизбежно к себе притягивала, — одноглазая красавица с обещанием во взгляде, с затаенным в очертаниях губ желанием и осознанием собственной красоты, проявлявшимся в каждом движении, осознанием, сбивавшим с толку самых смелых… И это было самое худшее. Ибо красота ее, растущая день ото дня, не была одним лишь торжествующим криком злой силы. Это было также ее оружием, позволявшим демонстрировать собственное превосходство, презрение к любой другой красоте, тщеславие и самолюбование. Она часами смотрелась в зеркало, потом требовала украшений, платьев, снова украшений… Ради всех морей Шерера! Где он мог взять эти украшения? Она требовала их, одновременно приходя в ярость, когда он хотел оставить ее одну. Серебро между тем не валялось на улицах. Нужно было его добыть, и вовсе не для украшений, но на еду! Приходилось воровать и грабить. Нет, ему не нужны были слова старика, чтобы понять — девушка находится во власти сил, которым нелегко противостоять. Только теперь он знал их природу. Знал — хотя до сих пор не понимал до конца. Четыре дня спустя после встречи со стариком Раладан возвращался из путешествия. Путешествия в Дорону… Уже неделю с лишним они жили в вонючей каморке, которую он снял за гроши в одном из домов в предместьях Багбы. Однако он знал, что и здесь они надолго не задержатся. Уже сейчас вся улица гудела от слухов о переодетой магнатке, сбежавшей с любовником от преследований мужа. Нужно было убираться, и быстро. К счастью, именно теперь это перестало иметь какое-либо значение. План, повергавший в ужас его самого, но, похоже, единственный возможный, был готов. Он с дрожью перешагивал порог, зная, что его ждет очередной скандал, в котором, быть может, одних слов для нее будет недостаточно. Придется сопротивляться, чтобы она не схватила его за горло, как в то утро, когда он вернулся от старика. Бывало такое и раньше. Хотя порой, когда он возвращался, она встречала его сердечными объятиями, лишь плача и не в силах вымолвить ни слова… Это было еще хуже. Однако на этот раз его ждало нечто такое, чего он не мог предвидеть. Убогая коптилка, наполненная самым отвратительным маслом, догорала на столе, отбрасывая круг тусклого света. Он огляделся по сторонам, сделал два шага и… припал к неподвижно лежащему телу. — Ради Шерни, госпожа! Сердце подскочило к его горлу, и в то же мгновение он ощутил терпкий запах вина и смрад рвоты. — Ради Шерни… — повторил он. Она была пьяна в стельку. Ему никогда прежде не приходилось видеть ее такой, и он не допускал и мысли о том, что когда-либо увидит. — Ради Шерни! — повторил он в третий раз. — Подожди, девочка моя… Схватив ведро, он выбежал на улицу. Вскоре он вернулся с ведром, полным ледяного месива. Рванув заблеванное платье, он вывалил содержимое ведра на спину и голову лежащей без сознания девушки, потом перевернул ее навзничь и начал возить туда-сюда, вытирая пол волосами, словно тряпкой. Она дернулась, что-то хрипло бормоча; он втер две горсти ей в щеки и еще две в голые груди, затем отволок ее на постель и прислонил к стене. Она смотрела на него затуманенным взглядом, однако его узнала. — Ра… ладан… Он снова вышел, принес новую порцию серо-белого снега и встал перед своей подопечной. — Что это значит, госпожа? — мягко спросил он. Она криво улыбнулась. Взяв ведро за дно и за край, он вывалил ей в лицо все, что в нем было. Тяжесть смешанного с водой снега отбросила ее голову к стене так, словно ее ударили пустым кувшином. Он услышал звук удара и ее крик. Она схватилась за голову, затем вскочила, собираясь выцарапать ему глаза. Сегодня, однако, чаша его терпения переполнилась, слишком многое необходимо было сделать, чтобы терпеть любое препятствие на своем пути. Впрочем, он уже имел вполне определенную цель… Чтобы ее достичь, он в любом случае вынужден был прибегнуть к грубой силе. Он ударил ее по лицу с такой силой, что сел бы даже мужчина. Она во второй раз отлетела к стене, схватилась за щеку и — почти уже трезвая уставилась на него. До сих пор она не произнесла ни слова. — Что это значит, госпожа? — повторил он, на этот раз с издевкой. Значит, иначе ты не понимаешь? В чем дело? Ты не думала, что я на подобное решусь? Сюрприз за сюрпризом! — Я тебя убью, — глухо проговорила она. — На кого ты поднимаешь руку? За кого ты меня принимаешь, господин? Кто я, по-твоему? Он выдернул из-под стола опрокинутый табурет и сел. — Рубин, — сказал он. — Рубин Дочери Молний. Теперь уже — только он, и ничего больше, не так ли? Наступила долгая, очень долгая тишина. Девушка смотрела ему в глаза с ужасом, отчаянием и — чем-то еще, для чего он не мог найти названия. — Значит, ты знаешь? Внезапно закрыв лицо руками, он начал ожесточенно его тереть. — Ради Шерни, девочка, — сказал он, опуская руки и делая глубокий вдох. — Знаю, но почему так поздно? Она отвернулась, прикусив губу. Из ее груди вырвался вздох, похожий на сдавленный всхлип. — Теперь послушай, — сказал он. — Слушай, так как еще немного — и ты опять перестанешь быть собой. Я не упрекаю тебя за то, что ты хранила все в тайне, несколько дней назад я понял, что это не твоя вина. Та дрянь хотела, чтобы никто о ней не знал. Но теперь я хочу вышвырнуть ее из тебя, и я это сделаю, клянусь всеми морями Шерера. Я сделаю это даже вопреки твоему желанию, ибо никто на свете не в силах определить, где заканчиваешься ты и начинается Рубин. — Это невозможно, — прошептала она. — Он заменил… — Знаю. Я знаю даже больше, чем ты. Есть способ. — Невозможно, — повторила она, но это уже возвращалось. В голосе ее звучала угроза. Он молча смотрел на нее. — Невозможно, — прохрипела она, сжимая кулаки. Он ударил ее во второй раз.41
Если речь шла о тайных встречах, то лучшего места для них, чем Берег Висельников, было просто не найти. Однако зимой добраться до него было нелегко. Что ж, Раладан уже проделал долгий путь — из Багбы до Дороны, и последний отрезок этого пути показался ему не самым худшим. Едва он спешился, его тут же окружили несколько вооруженных детин. Он отдал им оружие еще до того, как они этого потребовали. — Пусть кто-нибудь последит за лошадьми, — велел он. — Не развьючивать! Ваша госпожа прибыла? — Ее благородие Семена ждет, — коротко ответил коренастый мужчина, судя по всему главный. — Не развьючивать лошадей! — приказал он своим людям, исполняя требование лоцмана. Раладана повели в сторону дома. Последний раз он видел ее там, в сокровищнице Демона, и не думал, что ему когда-либо еще доведется ее увидеть. Судьбе, однако, было угодно распорядиться иначе. Она сидела за столом. Когда он вошел, она бросила на него короткий взгляд, тряхнув в беспорядке падающими на глаза волосами. Он едва не отшатнулся: ее красота была столь же пламенной, как и красота Ридареты! Никогда еще они не были столь похожи друг на друга. Двое из его провожатых обошли вокруг стола, встав за спиной женщины. Двое других заняли места у дверей. — Раладан, — лениво проговорила она с легкой улыбкой, — что ты опять затеваешь? Ради всех сил, когда мне доложили, что ты желаешь встретиться со мной, я просто не могла поверить! Она подняла голову, снова тряхнув волосами. Он посмотрел ей в глаза и увидел в них радость — неподдельную и искреннюю. — Ради Шерни, — сказала она, — сколько же бессонных ночей я провела, думая о том, как заполучить твою голову! Ты не мог раньше известить меня о том, что она явится ко мне сама? Да еще таща вместе с собой все остальное? Она послала ему улыбку — кокетливую и вызывающую. Он знал, что предстоит не обычный разговор… но так забавляться, так притворяться не умел никто из знакомых ему людей. Он вспомнил далекие как в пространстве, так и во времени Агары и светловолосую женщину, которую считал выдающейся интриганкой. Где там! В ее взгляде» и в самом деле не было ничего, кроме радости, доброты и… сентиментальности. Он опустил глаза. — Я пришел, ибо хочу служить тебе, госпожа. — О, великолепно! Что ж, послужи мне советом: не знаю, зажарить ли тебя живьем или содрать шкуру? Или, может быть, четвертовать? Хотя бы скажи, с чего мне начать? Он поднял взгляд. От ее доброты не осталось и следа. Она задавала вопросы. И это были не шутки. Внезапно ему показалось, что его расчет может не оправдаться. Все, что он хотел ей предложить, было основано на убеждении, что в большей или меньшей степени он может быть ей полезен. Однако похоже было, что она готова скорее отречься от всех своих зловещих намерений, чем выпустить его отсюда живым. Возможно, это была лишь игра, чтобы его запугать. Если так играла она отменно. Он попросту видел, что она жаждет крови. Его крови. Отступать, однако, было уже поздно. — У меня есть доказательства и гарантии, что я буду служить тебе верой и правдой. Казалось, она его не слушала; кивнув одному из своих людей, она начала что-то шептать ему на ухо. — Прикажи принести мой багаж, госпожа! — сказал он уже громче. И слова его прозвучали убедительнее, чем он сам ожидал. Продолжая что-то шептать на ухо детине, она кивнула стоявшим у дверей. Потом, подперев подбородок рукой, безо всякого выражения уставилась на него. Раладан стоял ничем не выдавая собственных чувств. Двое вернулись, неся большой сверток. Они развернули его, и Раладан понял, что такого они не ожидали! Ридарета, крепко связанная, с кляпом во рту, неподвижно лежала на боку. Глаза ее были закрыты. Она тяжело дышала. — Ради Шерни, — нарушила тягостное молчание Семена, вставая из-за стола, — должна признаться, такой игры я не понимаю… — Понять ее очень легко, — негромко сказал Раладан. — Эта девушка повредилась умом. Она до сих пор для меня как дочь, но я не в состоянии убивать людей так быстро, как это необходимо для того, чтобы сохранить ее существование в тайне от тебя. У меня нет золота, чтобы надежно ее спрятать, и взять его мне негде. Должен признаться, я хотел бежать в Дартан, но она добровольно не поедет, а связанную я могу ее везти ночами на конском хребте, три дня… не больше. В каком порту меня возьмут на корабль с брыкающимся свертком на спине? — Внезапно он заскрежетал зубами. — Так что забирай ее! Если желание мстить затмевает твой разум — убей ее. Однако тебе придется убить и меня.Может быть, однако, ты все же сочтешь, что Раладан может тебе пригодиться. Вот она — гарантия моей верной службы. Если все же хочешь четвертовать меня, госпожа, — пожалуйста! Больше мне предложить нечего. Семена наконец пришла в себя. — Интересно, — пробормотала она. — Еще что-нибудь скажешь? Он кивнул: — Конечно. Я не бандит и не какой-то жалкий разбойник, хотя в последнее время мне приходилось быть и тем и другим. Я пират. Сокровища ты уже получила, я не сумел спасти их для нее. Больше нам сражаться не за что. Может быть, все же удастся объединить наши интересы? Я хочу, чтобы она была жива. Но я хочу снова служить какому-то делу. Тебя это не устраивает, госпожа? — Убрать, — мрачно велела она, показывая на лежащую без сознания женщину. Снова кивнув стоящему рядом детине, она что-то шепнула ему. Тот кивнул в ответ. Двое у дверей шагнули к лежащей. Лоцман схватил одного, поднял над головой, раскрутил и швырнул на пол. У второго он вырвал из руки меч и прикончил его одним ударом. Все произошло столь быстро, что, когда оставшиеся двое выбежали из-за стола, он стоял уже готовый к новой схватке, показывая на лежащую. — Стоять! — рявкнула Семена. — Я убью ее, — предупредил Раладан, — потом себя. Но сначала еще, может быть, этих двух придурков… Я не позволю ее забрать, не зная, договорились мы или нет. Итак, да или нет? — Я ведь могу тебя обмануть, — сказала она. — Нет, не можешь, — ответил он. — Ты шлюха, но для тебя это было бы чересчур низко. Я ведь тебя немного знаю, не правда ли? С детства. С того мгновения, когда ты появилась на свет. Она подошла ближе. Он преградил ей путь мечом, но она отвела клинок в сторону. — Не называй меня шлюхой. Никогда больше так не говори, Раладан. Она протянула руку. Поняв, он отдал ей меч. — Убрать, — повторила она, показывая на Ридарету. — А ты — на улицу, повернулась она к лоцману. — Выходи наружу и раздевайся до пояса. Получишь тридцать палок. Согласен? После двадцати с чем-то ударов он перестал что-либо ощущать. Потом, когда его отпустили, он упал в мокрый снег. Те, что его только что били, помогли ему подняться. — Все честно? — спросила она. Он кивнул, чувствуя, как от незначительного движения лопается иссеченная кожа на спине. Боль вернулась. — Должно было быть тридцать, — хрипло сказал он. — Столько и было. — Плохо били. Пяти последних я не почувствовал… Пусть исправят. Что ж, оно того стоило! Она отступила на шаг, не в силах скрыть изумление. Державшие его люди что-то пробормотали — удивленно и с уважением. — За эти слова стоило бы отнять десяток… Ты опасный человек, Раладан. Похоже, я сама лезу в петлю, договариваясь с тобой. Она повернулась и ушла. Его усадили в седло. Он почти лежал на лошадиной шее; ехавший рядом широкоплечий предводитель эскорта взял его коня под уздцы. Мгновение спустя Раладан ощутил прикосновение железа. Ему протягивали рукоять меча. — Ты его заслужил, — коротко сказал мужчина. — Жаль, что ценой жизни нашего товарища. Но нам платят за то, чтобы мы умирали. Раладан вздрогнул, когда ему набросили плащ на обнаженную спину. Они двинулись шагом в сторону Дороны.42
Новая, только что начатая игра беспокоила ее, но вместе с тем и захватывала… Какую партию на сей раз разыгрывал этот человек? Какова была его цель? Если бы он хотел ее убить, он воспользовался бы иными способами. Она легко могла поверить, что Раладан и в самом деле желает ей служить. Но почему? Рассказанная им история не внушала доверия. Он не мог вывезти ее в Дартан?! Смешно… Имея золото, можно было сделать и не такое, — неужели он действительно не мог добыть нужного его количества? Чушь. Она слишком хорошо знала лоцмана. Он лгал. Впрочем, прекрасно зная, что она ему не поверит. Значит, он скрывал от нее что-то еще. Что-то, о чем он не хотел или же не мог говорить в присутствии посторонних. Очередная ложь? Наверняка. Она была убеждена, что лоцман в самом деле хочет поступить к ней на службу, однако он наверняка преследовал какие-то собственные цели, частично совпадающие с ее целями… Однако что он мог о последних знать? Но было, должно было быть что-то, ради чего стоило идти на любой риск! Что-то, о чем она не имела понятия. Однако, раз лоцман придавал этому такое значение, имело смысл попытаться узнать больше. Этот человек не привык подставлять собственную шею ради слитка серебра. Речь должна была идти о чем-то крайне важном! Кроме того, часть сказанного все же была правдой: Ридарета и в самом деле повредилась разумом! Вряд ли она могла столь умело притворяться. Да и как долго можно притворяться? И зачем? Наконец, то, что он сказал в конце: что он не разбойник, а пират. Устраивало ли это ее? Конечно устраивало. Больше, чем все прочее! Да, это могло быть причиной. Для этого человека — это могло быть причиной. Однако не единственной, но одной из многих. «Ну, Раладан? — подумала она. — Что у тебя еще есть для меня? Какую еще ложь ты мне готовишь, не сомневаясь в том, что я ее приму? Мой дорогой?» Где-то в глубине души таилась догадка… Но столь наивная и смешная, что она сама ее стыдилась. — Дура ты! — рассерженно бросила она вслух. — Самая распоследняя дура! Она долго сидела прикрыв глаза и стараясь думать о чем угодно, только не о союзнике, которого только что приобрела. Она пыталась успокоиться, хотела идти к нему… Но сначала нужно было избавиться от остатков злости. Наконец она встала… и долго поправляла волосы, глядя в зеркало. Тут же сообразив, зачем и для кого она это делает, она снова с трудом сдержала гнев. Раладан лежал на животе в комнате для слуг, положив подбородок на руки. Обнаженная спина была иссечена длинными, еще свежими ранами. Когда она вошла, он повернул к ней голову. Она тряхнула волосами. — Как прошла ночь? — спросила она. — Все в той же позиции, — мрачно ответил он. Она свернула в комок кусок ткани, который принесла с собой, и смочила его в круглом оловянном сосуде. — Что это? — спросил Раладан. Она развернула ткань, прикрыв ему спину. Он глухо застонал. — Ром, — сладко шепнула она. — Когда-то Лерена мне говорила, что это хороший способ. Солдатский. — Может быть… — прошипел он сквозь зубы. — Но сразу… после ранения. Хотя… Она сняла тряпку с его спины и снова свернула ее, приложив еще несколько раз в разных местах. — Что ты сделала с Лереной? — поколебавшись, спросил он. Она отодвинулась от него. — Тебя не касается. Какое тебе дело до Лерены? — Никакого. Совершенно никакого. Год с лишним я служил на ее корабле. А когда-то… сажал ее себе на спину. Так же, как и тебя, госпожа. Она молчала. — Не твое дело! — наконец повторила она с неожиданной яростью. — Я хочу знать, жива ли она. — Не твое дело! — рявкнула она в третий раз, швыряя тряпку на пол. Раладан повернул к ней голову. — Что ты с ней сделала? — спросил он. — Бросила ее, закованную в цепи, в море? Сожгла? Закопала живьем в землю? — Раладан, — неожиданно спокойно сказала она, хотя и несколько сдавленным голосом, — не спрашивай меня о Лерене. Может быть… когда-нибудь я тебе расскажу. Но сейчас спрашивать буду я. Они долго смотрели друг на друга. — Хорошо, госпожа, — коротко ответил он и тут же добавил, тряхнув головой: — Не спрашивай. Там, на Берегу Висельников, я лгал. — Конечно, — кивнула она. — Я знаю. — Тогда, прежде чем все тебе рассказать, я хотел бы лишь спросить: почему? Почему ты взяла меня к себе на службу? Она немного подумала. — Не скажу, — просто ответила она. — А теперь я тебя слушаю. Раладан глубоко вздохнул. — Ты бессмертна, — сказал он. — Нет, это вовсе не означает, что тебя нельзя убить. Можно. — Он сел на постели, болезненно поморщившись. — Ты бессмертна, поскольку не умрешь так, как любой другой. Ты больше не будешь стареть. Смысл сказанного дошел до нее не сразу. Потом она внезапно схватила его за плечи. Она ходила по комнате, держась за голову. — Нет, Раладан. Это неправда, — говорила она. — Правда, госпожа. — Нет, Раладан. Неправда. — Ну хорошо. Будем считать, что я пришел потому, что не мог увезти ее в Дартан. Она не слушала. — Нет, Раладан. Это неправда. — Правда, госпожа. Неожиданно она накинулась на него: — Ты приходишь и заявляешь, что я какой-то там Рубин! Что я неживая! И я должна в это верить?! Думаешь, я умом тронулась? Он держал ее за запястья, пока она не перестала вырываться. — Нет, — убедительно проговорил он. — Ты обыкновенная восьмилетняя девочка, такая же, как и все прочие… Ты не срывала с неба Полос Шерни. Ты не уничтожала призрак «Морского Змея». А твоя сестра-близнец дышала через пупок, когда ты хотела ее задушить. Нет, госпожа. Ты не Рубин. Он с силой оттолкнул ее. Она стояла то поднимая ладони к вискам, то снова их опуская. — Но… как же так? — в отчаянии бросила она. Наконец превосходство было на его стороне. Но тут же ему совершенно неожиданно стало ее жаль. Еще совсем недавно он ненавидел эту девушку больше кого бы то ни было на свете… — Успокойся, госпожа, — сказал он. — Надо полагать, ты догадываешься, что я пришел не затем, чтобы сказать тебе все это и смотреть, как ты будешь себя вести. Дело касается нас обоих; меня потому, что я должен заботиться о Ридарете. Да сядь же, наконец! Если ты не в состоянии взять себя в руки, значит, я пришел зря. Она снова прижала руки к лицу, а когда их убрала, он увидел, что его тирада возымела действие. — Собственно, о чем-то подобном я догадывалась, — сказала она все еще несколько сдавленным голосом, но уже совершенно спокойно. — Я не знала, как назвать то, что дает мне эту силу, но и так понятно, что сила эта не берется из ниоткуда. Говори. Он кивнул: — Сила Рубина полностью тобой овладела, и ты не в силах ей противиться. Пока эта сила спит, но посмотри, однако, на Ридарету и подумай, что случится, когда эта сила проснется. И все же ей можно противостоять. Она выжидающе смотрела на него. — Нас ждет путешествие в Дурной Край, госпожа, — коротко сказал он. — В Безымянную Землю, где родился Рубин. Мне сказали, что лишь там я найду ответы на все вопросы. Она не сводила взгляда с его лица. — Наверняка ты спросишь, почему бы мне не отправиться туда одному? Но как, госпожа? Вплавь? Нужен корабль, нужны люди… У тебя все это есть. Есть у тебя и личная заинтересованность в том, чтобы организовать подобную экспедицию. Вот истинная причина, по которой я к тебе пришел. — Откуда мне знать, что ты не лжешь? Где доказательства, Раладан? — Доказательства чего, госпожа? Что тобой и Ридаретой овладела одна и та же сила? Возьми нож и перережь ей горло. Посмотрим, получишь ли ты что-либо, кроме быстро заживающего шрама. — Я хочу видеть человека, который все это тебе рассказал. — А я что, хочу чего-то другого? Я же тебе говорю: плывем в Дурной Край! — Он там? — Туда он собирался. Насколько мне известно, родина Посланников Дурной Край, а не Гарра. — Что он искал здесь? Слишком уж невероятна эта ваша встреча, подозрительно заметила она. Раладан развел руками. — Чего искал? Не знаю! — со злостью проговорил он. — Но я знаю, чего ищешь ты — очередных придирок! Неужели ты, госпожа, в самом деле не в состоянии хоть немного подумать? Разве что-то нас до сих пор разделяло? Какая-то враждебность, идущая от самого сердца? Наоборот! Если бы не сокровища твоего отца, которые были тебе нужны и которые я хотел сохранить для Ридареты, все пошло бы совершенно иначе! Я никогда не позволил бы тебе причинить вред Ридарете (впрочем, зачем?), однако во всем остальном был бы твоим верным помощником, и притом совершенно искренне! Еще охотнее я служил бы Лерене, и это не должно тебя удивлять. Твоих планов я не знаю, но она… Ради всех морей, мы захватили бы корабль получше и снова, как и при Демоне, стали бы ужасом Просторов. Скажи, чего еще мог бы хотеть старый пират капитана Раписа? Он глубоко вздохнул. — Однако случилось иначе, — сказал он уже тише, глядя ей в глаза. — Но значит ли это, что мы должны быть врагами до самого конца? Зачем, для чего? Если я считаю Ридарету почти своей дочерью — значит ли это, что я должен стать ее преданным слугой? Я желаю ей счастья, я хочу, чтобы у нее были золото и платья, чтобы она нашла себе достойного мужчину. Но я хочу также распоряжаться своей собственной жизнью… — Это правда? — перебила она его. — Что «правда», госпожа? — Это правда, что она… тебе как дочь? — А кто? Жена, любовница? Она не сводила взгляда с его лица. — Поверь мне, госпожа, — почти беспомощно сказал он. — Я хочу победить ее безумие. Это для меня самое важное. Однако не меньше я хочу моря и золота, моря и схватки, моря и победы… Неужели так трудно это понять? Зачем мне лгать? Зачем мне пытаться предать тебя? Я с радостью буду служить женщине, которая сумела меня победить, ибо это попросту означает, что она не кто попало. По-моему, вполне естественно служить кому-то, кто лучше тебя или хотя бы тебе равен, но никогда — тем, кто хуже. Единственное, что мучит меня, — судьба Лерены. Я не могу и не хочу поверить, что ты ее убила! — Лерена жива, — прошептала она. — Она так много для тебя значила? Он не знал, что ответить. Утвердительный ответ она могла счесть знаком того, что ему не стоит доверять, так как он может искать мести за причиненные той страдания. С другой же стороны, отрицательный ответ она неизбежно восприняла бы как попытку ей угодить, как ложь. Однако она сказала, что Лерена жива. Если так, значит, сестра была ей не совсем безразлична. — Больше, чем ты думаешь, — сказал он, идя на риск. Слова его прозвучали искренне. И он знал почему. Он просто сказал правду. Она все еще смотрела ему в лицо. Он не скрывал своего беспокойства сейчас он имел на это право, и она могла это заметить. — Ты знаешь, что я верю тебе? — тихо сказала она. Он увидел почти боль в ее взгляде, когда она попросила: — Я верю тебе, Раладан. Не предавай меня, пожалуйста… Не предашь? Я так одинока, так, как ты даже не можешь себе представить…43
Потом ей было стыдно за ту минутную слабость, она давала ему понять, что это было лишь недоразумение. Он боялся этому верить. Скорее он предпочел бы видеть какую-то хитрость, игру… Она сама не осознавала того, сколь потрясла его та наивная просьба сохранить ей верность. Неожиданно он увидел в ней человека — одинокую, лишенную близких девушку, которой жизнь уже была не мила. Ей все приходилось покупать — защиту, привязанность, верность. Никто не пришел и не сказал ей попросту: «Я с тобой». Никто, кроме него. Во второй раз за всю жизнь он обнаружил, что ему не хватает сил… Просьба была оружием, против которого он не мог устоять. Никто никогда ни о чем его не просил; кто мог бы просить пирата, да и о чем? Однако, когда его все же о чем-то просили, он не мог отказаться. Много лет назад Демон, прося его позаботиться о дочери, связал его сильнее, чем могли бы это сделать прямой приказ или золото. И вот теперь — опять. В самом деле, он предпочел бы сто раз услышать, что это лишь игра с ее стороны, игра, рассчитанная именно на такое воздействие. Однако ничто, похоже, того не подтверждало. Судя по всему, он действительно обладал некоей властью над девушкой. Неужели горбун был прав? Раладан пытался отбросить прочь эмоции, рассуждать хладнокровно. Он не верил. Не верил, что эта молодая женщина испытывает к нему что-либо, кроме давних, почти забытых чувств. В конце концов, когда-то он был ее опекуном, по сути заменял ей отца. Однако мысль о том, что она или Лерена… что кто-то из них мог бы… Вздор! Он начал вспоминать то время, когда служил под началом Лерены. Сколько раз она унижала его, пыталась… Нахмурившись, он потер лоб. Он чувствовал себя словно мальчишка. Собственно, он довольно слабо знал женщин. Слабо… Он вообще их не знал. Где он мог их узнать и когда? Во время службы в Морской Страже? У Броррока? У Раписа? О женщинах он знал лишь, что они существуют. Иногда, осенью, находясь на берегу, он овладевал ими — без особого труда. Иногда покупал. Однако ему ни разу не пришло в голову, что и женщины тоже могут хотеть кем-то овладеть… Он весьма туманно представлял себе, как подобное могло бы выглядеть. Как должна была бы поступить женщина, желающая заинтересовать его собой? Бросить вызов, естественно… Дать понять, что овладеть ею невозможно. Открывшаяся перед ним истина повергла его в изумление. Удивительно, что никому до него не пришло это в голову. Он, Раладан, открыл новую землю. Неужели старый музыкант был прав? Нет, он даже не представлял себе подобной возможности. Впрочем, даже если Лерена… Но эта — никогда! «Почему? — спросил он сам себя. — Почему нет?» «А потому, — тут же ответил он, — что ты слишком стар, приятель». Простой ответ вполне его удовлетворил. Потом он начал постепенно осознавать, что на этот раз он какую-то землю… закрыл. Он поморщился — и перестал думать о женщинах. Ему нравилось, если у них были светлые волосы. И все. Он все еще занимал ту же комнату в Дороне, в каменном доме, который ему показали после возвращения с Берега Висельников. Он уже знал, что Риолата в этом доме не живет; да, иногда она там ночевала, но редко. Дом фактически использовался в качестве казармы — в нем размещались солдаты Семены. Из того, как к нему относились, он легко сделал вывод, что вовсе не является пленником. Но было что-то еще. Его не воспринимали и как равного. Даже Давароден, коренастый уроженец Прибрежных Островов, тот самый, который подал ему меч, когда они возвращались с Берега в Дорону, именовал его не иначе как «господином». Возможно, таким образом Риолата пыталась притупить его бдительность? А может быть, она ему доверяла и он должен был быть готов занять какой-нибудь высокий пост рядом с ней? О большем ему не приходилось и мечтать. Пока что, однако, он был глух и слеп; ему ничего не было известно о ее планах, кроме того, что следовало из слов горбатого музыканта; он не знал ничего о предназначенной ему роли, даже о том, предназначила ли она ему вообще какую-либо роль. Однако в неведении он оставался недолго. Меньше чем через неделю после состоявшегося между ними необычного разговора она появилась у него, около полудня. В первое мгновение он ее не узнал. Лишь когда она сняла полузакрытый шлем, он понял, кто на самом деле этот таинственный пришелец в кольчуге и бело-зеленом солдатском мундире. — Я никогда не прихожу сюда днем, — сказала она, кладя шлем на стол, а рядом с ним — рулон карт, принесенный под мышкой. — Потому и пришлось переодеться. Все знают, что в этом доме живут солдаты, сопровождающие товары уважаемого Мелара. Это сын Литаса, — пояснила она. — Ты оказал мне большую услугу, освободив меня от старика… Когда-нибудь я тебе все объясню. — К чему все эти предосторожности? — спросил он. — В этом городе даже не знают о твоем существовании. Ты прекрасно могла бы открыто вести свои дела, госпожа. Насколько мне известно, они вполне законны. — До поры до времени. — Она насмешливо наклонила голову. — Это лишь видимость. В любой момент могут начаться хлопоты. Все эти купцы, которыми я прикрываюсь, нечто вроде щита. Они примут на себя первый удар. Ну ладно. — Она повернулась к столу, развернула одну из карт и прижала ее край шлемом. — Иди сюда, Раладан. Пора кое-что тебе рассказать. Здесь Гарра, она рассмеялась, увидев на его лице такое выражение, словно он в первый раз слышал о подобных землях, — а здесь Агары. Здесь будет восстание… а здесь — моя война. — Вот и все, — закончила она, сворачивая карты. Планы ее были впечатляющи — это следовало признать. Однако его беспокоило нечто иное. Он решил, что может сказать об этом прямо. — Я вижу две возможности, — задумчиво проговорил он. — Или все это правда… или же частичная ложь, неполная правда, или ложь от начала до конца. — Что ты хочешь этим сказать? — удивленно спросила она. — Только то, что я, естественно, считаю, что услышал правду. Но такую правду, госпожа, открыть может лишь безумец. Разве что он считает собеседника человеком заслуживающим полного доверия или же уверен, что человек этот его не выдаст, даже если очень того захочет. Она выжидающе смотрела на него. — Это все? Ничего нового ты не сказал, — язвительно бросила она. Сколько раз ты еще хочешь услышать, что я тебе доверяю? Кажется, я уже дала тебе это понять, и причем достаточно ясно? Он кивнул: — Хватит об этом. Из того, что ты сказала, госпожа, следует, что путешествие в Дурной Край ты планировала уже давно? — Конечно, Раладан, — ответила она. — По многим причинам… Я действительно надеялась, что мудрецы Посланники из Громбеларда объяснят мне, кто я на самом деле. Это сделал ты. Однако мне нужно подтверждение. Но прежде всего, как ты справедливо заметил, не в человеческих силах превратить Ахелию в крепость в течение года. Поэтому мне нужна сверхчеловеческая сила… Мне нужны Брошенные Предметы, благодаря которым Полосы Шерни окажут мне помощь. Мне нужен также кто-то, кто сумеет этой помощью надлежащим образом воспользоваться. Не знаю, что может подкупить мудреца из Края. Если золото — предложи ему. Если власть обещай ему. Если же ничто — заставь его. — Не понимаю, госпожа. Значит ли это?.. — Именно так. Корабль ждет, капитан Раладан. Теперь слушай внимательно, может быть, то, что я скажу, частично ответит на твой вопрос, почему я тебе доверилась. Я буду с тобой полностью откровенна — ты на меня как с неба свалился. Мне служат многие, однако никто не в состоянии возглавить подобную экспедицию. Еще неделю назад я считала, что мне придется отправиться туда самой. Однако здесь, в Дороне, сходятся сотни нитей; я держу их в руках и не могу просто так бросить. Я откладывала путешествие день за днем, месяц за месяцем… Я потратила впустую всю зиму и полвесны. Больше ждать нельзя. Громбелард далеко, а в Дурном Краю, сам знаешь, время течет иначе. Ты отправишься завтра же, Раладан. Она улыбнулась, показав белые зубы. — Все, что ты сказал и сделал, чтобы доказать искренность своих намерений, — добавила она, — естественно, очень важно. Однако ты должен знать, Раладан, что еще полгода назад ты не нашел бы достаточных доводов для того, чтобы меня убедить. С тех пор, однако, многое изменилось, я лучше узнала и поняла саму себя… Уже месяц с лишним мне известно: важно то, что я думаю, но еще важнее то, что я чувствую. Разум порой меня подводил, но чувства — никогда, с тех пор как я им доверилась. Я чувствую, что ты со мной откровенен. Правда, похоже, не до конца. Мне кажется, что ты хочешь найти в Дурном Краю что-то такое, о чем не сказал… Вместе с тем я вижу, что ты хочешь, чтобы мои планы исполнились. Этого достаточно. Если при этом у тебя есть какие-то свои интересы — мешать не стану. Но, может быть, я могла бы помочь? Подумай над этим. Если твоя цель в Дурном Краю могла бы стать нашей общей целью, может быть, ты от этого только бы приобрел? Он покачал головой. — Я не настаиваю, — она пожала плечами. — Ты поступил ко мне на службу, но ты можешь заниматься собственными делами постольку, поскольку они не мешают моим. То, которое ты имеешь в виду, похоже, не мешает… Однако мне все же любопытно: может быть, я и Рубин, но во сто крат больше — женщина. — Она снова улыбнулась. Никогда прежде он не видел ее в столь превосходном настроении и теперь размышлял о том, что является подобного настроения причиной. — Послушай, Раладан, я в десятый раз повторяю, что я тебе верю. Однако я хочу, чтобы ты знал — в Край отправляются две экспедиции. Ведь мне приходится считаться с тем, что по каким-то причинам ты потерпишь неудачу. Правда, я не особо верю в то, что команде другого корабля удастся достичь того, что не удастся тебе. Тем более что они должны обследовать лишь границы Края, я приказала им избегать чрезмерного риска. Я посылаю их главным образом затем, что не хочу, чтобы начало восстания застало какой-либо из моих кораблей в Дороне. Мне пришлось бы отдать его мятежникам. — Она выжидающе смотрела на него. — Теперь говори, что тебе нужно. Корабль готов отправиться в путь. Это «Сейла», думаю, ты сможешь оценить ее по достоинству. Команда в полном составе. Он нахмурился. — Мне нужно подумать, — сказал он. — Пока я знаю лишь, что хотел бы иметь на борту Давародена и его солдат. — Это мои лучшие люди, — заметила она. — А ты думала, госпожа, что я попрошу худших? Она показала ему язык. Ее беззаботное, почти шаловливое настроение чуть не передалось и ему. Он чувствовал себя превосходно — ради Шерни, ему поставили задачу! Трудную, необычную, но понятную. Он мог ее просто выполнить, безо всяких интриг, хитростей и обмана. Как же он нуждался в чем-то подобном! Внезапно он с горечью подумал, что охотно посвятил бы себя планам этой девушки, целиком и без остатка. Планы эти были ему по душе. В них был размах, какого не знал даже Демон. Хорошему настроению мешала лишь одна деталь. Самая важная. Та, которой он до сих пор боялся коснуться, чтобы не вызвать подозрений. — Я хочу еще раз увидеть Ридарету, — сказал он. — Это невозможно, — коротко ответила она. Хорошее настроение развеялось без следа. — Почему? — почти угрожающе спросил он. — Потому что я не знаю, где она. Он остолбенело уставился на нее. — Трое моих людей увезли ее по моему приказу, — медленно говорила она, глядя ему в глаза. — Пять дней назад. Они получили все необходимое, чтобы ее спрятать… Он стиснул кулаки. — …в месте, о котором не буду знать даже я. Особенно я. Ты мог бы суметь каким-то образом вытащить из меня эти сведения; откуда мне знать, какие чудеса ты привезешь из Дурного Края и чему ты там научишься! Может быть, они спрячут ее в Армекте, может быть, на каком-нибудь острове. Можешь быть уверен, они будут охранять ее, как величайшее сокровище. Если мои планы увенчаются успехом, зимой они привезут ее на Агары. До тех пор мы не будем знать, где она находится. — Я с тобой за это еще посчитаюсь, — сказал он. — Раладан, — мягко ответила она, — подумай, что ты говоришь… Ведь ты сам отдал мне ее как заложницу. На моем месте ты поступил бы точно так же. Кроме того, не забудь, что через несколько месяцев Гарра уже ни для кого не будет безопасным краем. Подумай только: восстание… Я что, должна держать эту женщину в каком-нибудь подвале, целыми месяцами? Этого ты хотел? Можешь думать что хочешь, но, приказывая ее надежно спрятать, я отнеслась к тебе по-дружески. Знай, что ее забрали люди, по-настоящему заслуживающие доверия, не какие-то разбойники. И я не приказывала ее убить, если мой план не удастся. Она будет жить. Вот только, если я погибну, ты больше никогда ее не увидишь. Поверь мне, Раладан. Так, как я поверила тебе. — Поверила… — Он уже знал, откуда у нее это хорошее настроение. — К чему было столько разговоров о доверии, чувствах и подобной ерунде? Ты не могла сразу сказать, госпожа, что попросту держишь меня за горло? Она посмотрела на него с неожиданной грустью: — Тебе кажется… Конечно, я была дурой и ею осталась. Но больше не буду. В самом деле, сама не знаю, с чего мне пришло в голову, что, может быть, стоит хоть раз в жизни просто кому-то поверить. Внезапно она отвернулась. — Ты что, ждал, — бросила она, — что я упаду в твои объятия и скажу: дорогой мой, вот все мои планы, я не требую никаких гарантий, никаких заложниц, делай что хочешь?! Раладан, разве это я должна доказывать тебе свою преданность? Чего ты, собственно, хочешь? Тебя удивляет и беспокоит, что я смело раскрываю свои планы, и вместе с тем ты требуешь, чтобы я не обеспечивала себе никаких гарантий? Скажи, что тогда у тебя не было бы никаких подозрений. Ну скажи, а я над тобой посмеюсь! Скорее именно тогда ты не спал бы ночами, размышляя о том, какую я, собственно, веду игру. Разве не так? Она снова посмотрела ему в лицо. — И еще одно, — сказала она. — Ты все еще принимаешь меня за ту самую девушку, которую оставил в пещере, связанную и униженную… Я уже другая, Раладан. Неделю назад ты назвал по имени источник моей силы, но ничего больше. Я уже давно умею ей пользоваться. Мне незачем тебе лгать. Если бы я тебе не верила, я сказала бы: не верю. Сегодня я уже не дала бы себя связать. Она холодно улыбнулась, забрала шлем и вышла.44
Никогда прежде ему не приходилось командовать кораблем. Наблюдая за суетой матросов, смельчаков каких мало, он почувствовал, как сердце его переполняется радостью. До сих пор он даже не отдавал себе отчета в том, насколько ему хотелось иметь собственный корабль! Собственный корабль. — Раладан, — сказала она ему утром на прощание, — забудем о вчерашнем разговоре… Она замолчала в неподдельном замешательстве. — Можешь думать как хочешь, — наконец продолжила она. — Считай это подарком, или знаком верности, или… чем хочешь. «Сейла» — твоя. Я отдаю ее тебе вместе с командой; вот документ, из которого следует, что ты приобрел ее у купца Мелара. Команде заплачено за год вперед. Новые паруса уже должны быть на корабле, я сама выбрала для тебя знак. — Зачем ты это делаешь? — спросил он, не в силах скрыть изумления. Она посмотрела на него столь странным взглядом, что о его значении он предпочел бы не догадываться. — Думай что хочешь, — с усилием повторила она. Теперь он находился на борту собственного корабля. Собственного! Ради всех Полос! За всю свою жизнь он ни разу не стоял на палубе корабля более прекрасного, чем этот! Он заглянул в каждый угол, побывал в носовом кубрике, в офицерских каютах, в трюме… Он пересыпал из руки в руку песок, служивший балластом, проверил состояние такелажа, взобрался на каждую из мачт, чтобы тут же снова оказаться под палубой. Там он обстучал и ощупал почти каждую балку или доску, все стойки, шпангоуты и кницы. Состояние палубы, бортов и причальных брусьев он проверил еще раньше. Доски палубы были выскоблены почти до белизны, на якорной цепи он не обнаружил даже следов ржавчины… От первого помощника, до сих пор временно исполнявшего функции капитана корабля, он узнал, что «Сейла», которая вообще была новым кораблем, осенью прошла ремонт, вернее, детальный осмотр с учетом всех мелочей. Около недели назад доставили запасы еды, тщательно проверили состояние солонины, муки, фасоли и сухарей. Раладан проверил все еще раз. Никаких замечаний! О Шернь! Он никогда еще не видел лучше подготовленного к выходу в море корабля! В капитанской каюте он нашел комплект карт; просматривая их, он обнаружил на нескольких из них нанесенные поправки, которые что-то говорили лишь одному человеку на свете — именно ему! Откуда она знала? От Лерены? Он не верил собственным глазам. Она купила его! Купила себе лоцмана Раладана. Капитана Раладана. Капитана! Он усиленно убеждал себя, что это не что иное, как попросту ловушка. Тщательный расчет, имевший целью привязать его к ней. Что, она вдруг стала воплощением добродетели? Она хотела его подкупить, только и всего. Но даже если так? Однако он знал, что ей незачем было это делать. Все было так, как он сказал: она держала его за горло. Он вынужден был быть к ней лояльным. То, что она делала ему подарки, не имело никакого значения. О, ради всех сил! Ведь то, что он ей сказал, было чистой правдой! Он хотел служить ей, оно того стоило. Среди ее планов он чувствовал себя словно рыба в воде. А если?.. А если и она тоже? Почему, собственно, ей искренне не принять его помощь? Разве все и всегда должно быть обязательно неправдой или ложью? Воистину сама среда, в которой им обоим приходилось вращаться, полностью исключала столь преходящую и ненадежную вещь, как доверие… Но разве хотя бы раз невозможно было отступить от этого правила? Он понял, что о подобном и думать нельзя. Нет. Отступить от подобного правила было невозможно. Он получил «Сейлу» с определенной целью — это ясно. Он пытался мысленно перевернуть ситуацию: мог ли он сделать подарок ей? Без всяких иных мыслей, кроме того, чтобы доставить ей удовольствие? Конечно нет. Он подумал о Ридарете, и снова его охватил гнев. Вот что могло быть причиной. Семена, видимо, считала, что в приступе ярости он, Раладан, может совершить нечто ею не предусмотренное, и хотела эту его ярость как-то сгладить. Мысленно он вернулся к решению, о котором размышлял уже сотни раз, самому тяжелому решению в его жизни. Правильно ли он поступил, отдав Ридарету в руки Риолаты-Семены? Это была единственная возможность переломить ее недоверие — так он считал тогда и мнения своего не изменил. Но одной Шерни было известно, с какой болью он принял это решение. А теперь… Она отобрала ее. Что по сравнению с этим значила какая-то «Сейла»? Но опять-таки в глубине души он понимал, что Семена, собственно, поступила честно. Так или иначе ему пришлось бы расстаться с Ридаретой, ведь он предполагал, что отправится в Дурной Край, сам того хотел… Она могла позволить ему увидеться с Ридаретой и лишь после его отплытия куда-нибудь ее отправить, ничего ему об этом не говоря. В самом ли деле она не знала, где сейчас Ридарета? Он в это верил. Верил, ибо в подобном поступке было больше смысла, чем могло бы показаться. Она и в самом деле застраховалась от любых непредвиденных действий с его стороны, ибо не было того, ради чего стоило бы действовать. Он вышел из каюты на палубу. И вновь ощутил, что у него есть свой корабль… Его раздирали противоречия, до такой степени, что он думал лишь об одном: как совместить благополучие Ридареты с искренней службой у ее дочери. Пока это было возможно. Но потом? Ему пришлось бы пытаться совместить несовместимое. «Сейла» была готова к отплытию. Однако новый капитан не спешил отдавать приказ. Он пошел на нос, потом на корму. Потом на середину корабля. Матросы видели, как он погладил рукой грот-мачту и тут же огляделся по сторонам, словно проверяя, не заметил ли этого кто-нибудь… Благополучие Ридареты — или благополучие Раладана? Ибо именно этим и являлась служба у новой госпожи. Благополучием Раладана. У него было лишь одно сердце. Он посмотрел на еще свернутые белые паруса с черными крестами, не в силах дождаться того мгновения, когда их наполнит ветер… Он приказал принести старые, с зеленым знаком «I». Потом пошел в каюту и, вернувшись несколько минут спустя на палубу, позвал одного из солдат. — Отнеси это госпоже, — сказал он, протягивая руку. — И скажи, что свою миссию я исполню. Можешь не возвращаться. Вскоре «Сейла» вышла в море.45
Когда-то в глубоких подвалах размещался винный склад. Теперь огромные бочки были пусты. Часть из них была убрана, чтобы освободить место для тяжелых ящиков, целые пирамиды которых громоздились вдоль стен. В самых больших лежали кольчуги, тщательно переложенные промасленной ветошью; значительная часть доспехов недавно была доставлена из Громбеларда, добрая сотня же вела свое происхождение из сокровищницы Демона. Дальше, в ящиках более коротких, но зато более глубоких, были спрятаны кирасы для тяжелой пехоты, далее щиты, потом шлемы — каски для арбалетчиков и стрельцов, полузакрытые шлемы для топорников и открытые — для конных разведчиков. За ящиками, у стены, стояли копья, связанные по десять штук, с лоснящимися от смазки наконечниками. Потом — ящики с мечами, а за ними — с арбалетами. И наконец, сто козел под пищали, сами же пищали — в сундуках под ними. В этом необычном винном погребе-арсенале, казалось, слышался еще далекий, но уже отчетливый грохот восстания… — Должна признаться, зрелище и в самом деле впечатляющее, — сказала женщина, скрывавшаяся в тени подпиравшего потолок столба; два факела на стенах давали очень мало света. До двух следующих было тридцать шагов с лишним. — Это полное вооружение для нескольких сотен человек, — пояснил Аскар. — Полагаю, ваше высочество, — обратился он к стоявшему рядом одетому в черное мужчине с бледным суровым лицом, — что ни одно восстание до сих пор не было столь хорошо подготовлено с военной точки зрения. — Это вскоре выяснится, — сказала досточтимая Кахела Алида, вдова недавно умершего достопочтенного Кахела Догонора, выходя из тени. Количество железа ни о чем еще не говорит. — Уверяю тебя, госпожа, — послышался голос сзади, — что одними лишь интригами Гарру не освободить. Я не разделяю твоего презрения к оружию. Все трое повернулись к вошедшей. — Прошу извинить за опоздание, — добавила она, подходя ближе. — Позволь представить тебе, господин, — обратился Аскар к мужчине в черном, — ту, что является душой всех наших приготовлений здесь, в Дороне, — госпожу Семену. Его визави, казалось, не придал никакого значения тому факту, что титул предшествует одному лишь имени, без инициалов Чистой Крови. Одетая в военный мундир женщина вошла в круг света. Под мышкой она держала шлем. Алида бросила на нее короткий взгляд и отвернулась. Они почти ненавидели друг друга. — Я Мефер Ганедорр. — Мужчина слегка поклонился, не в силах, однако, отвести взгляда от ее лица. Блеск факела обрамлял кровавым сиянием связанные в несколько узлов темные волосы. — Ради Шерни, госпожа, не сочти это за дерзость, моя молодость давно уже в прошлом… Но одно лишь воспоминание о ней велит мне отдать должное столь совершенной красоте. Ты вернула мне чувства, которые я считал давно умершими. Она слегка улыбнулась: — Моя красота меркнет по сравнению с красотой госпожи Алиды. Я уверена, что лет через двадцать я никому уже не буду нравиться. Это было самое обычное, даже ничем не прикрытое нахальство. Мужчины почувствовали себя сбитыми с толку, как это обычно бывает в присутствии женщин, затевающих свою очередную битву без оружия. Они приложили все старания, чтобы не обменяться возмущенными, растерянными взглядами. Алида зато выглядела так, словно ей было весело; она отнюдь не намеревалась нарушать тишину, которая становилась все более неловкой, казалось свидетельствуя о том, в сколь глупое положение поставила себя доронская красотка. Семена внезапно покраснела, чего не сумел скрыть даже полумрак подвала, и лишь тогда блондинка послала ей полный наслаждения взгляд, но так, чтобы этого не заметили мужчины. «Браво…» — казалось, говорила она. — Я сказал… — откашлялся Аскар. — Я говорил… — Конечно, господин, — тут же подхватил второй. — Со всей уверенностью можно сказать, что подготовка идет полным ходом. Он подал руку Алиде. — Дальше тоже оружие? — спросил он. — Да, господин, — ответил Аскар. — Думаю, не стоит утруждать себя разглядыванием арсенала. Время наших гостей слишком дорого, чтобы тратить его зря. — Он посмотрел на Семену. — Так же, как и время хозяев, — заметила Алида. — Оружие еще скажет свое слово; пока же я полагаю, что… прошу прощения, госпожа, улыбнулась она Семене, — нас ждут дела, для которых мечи не требуются. Та наконец пришла в себя. — Это правда, — коротко сказала она. — Тогда идем. — Ганедорр потер руки. — Здесь холодно… а кроме того, эти стены вызывают у меня воспоминания. Дурные воспоминания. Вскоре они оказались в просторном зале несколькими этажами выше. Большой стол прогибался от яств. — Еще раз прошу простить за то, что заставила себя ждать, — сказала Семена. — Тем более что я снова собираюсь исчезнуть. Ненадолго, обещаю. Она показала на мундир, в который была одета, и тяжелый шлем, который все еще держала под мышкой. — Господин Аскар прекрасно сумеет меня заменить, я это знаю наверняка. Лишь тремя комнатами дальше она позволила себе грохнуть шлемом о стену. Когда она вернулась, одетая в сапфировое платье, двери были закрыты, а слуг и след простыл. Она догадалась, что Аскар отпустил всех до конца дня. Она открыла двери и тут же закрыла их за собой. Ганедорр и Алида сидели во главе стола, Аскар с ловкостью проворного слуги сам разливал мед по кубкам. Она села напротив Алиды. Ганедорр пригубил мед и обвел взглядом лица собравшихся. — Итак, — начал он, — первое, хотя и не самое важное: благородная госпожа Кахела Алида получила подтверждение о своем назначении на пост Второй Представительницы Верховного Судьи Трибунала. О назначении объявил лично, от имени императора, Князь-Представитель в Дороне. Собственно, это и есть официальная причина присутствия здесь госпожи Алиды, — добавил он. Семена и Аскар кивнули. Трудно было сомневаться, что все именно так и произойдет. Под руководством господина Ф.Б.Ц.Нальвера Имперский Трибунал в Дороне стал истинным оплотом справедливости. Была доказана вина десятков имперских урядников и офицеров, предотвращены сотни преступлений. Места продажных сборщиков налогов заняли честные, места плохих командиров хорошие… — Однако появилась проблема, — продолжал Ганедорр. — Вместе с назначением госпожи Алиды из Кирлана прибыл человек на место Первого Представителя. Удивительно разумная личность. Он занимает свой пост меньше недели, но уже начинает понимать, что Нальвер — глупец, который не сумел бы добиться и сотой части тех успехов, которых добился… Еще неделя, и господину Б.Н.А.Киливену станет совершенно ясно, что Трибуналом руководит госпожа Алида, а вовсе не Нальвер. — Это еще не повод для беспокойства, — заметила Семена. — Ведь довольно часто бывает так, что подчиненные превосходят начальников? — Ты наверняка права, госпожа. Но госпожа Алида подозревает, что Киливен не случайный человек. Возможно, успех Нальвера оказался большим, чем требовалось. Князь-Представитель стареет, но император, насколько мне известно, человек необычайно наблюдательный и умный. Непрерывная полоса успехов в провинции, которую всегда труднее всего было держать в руках, могла вызвать в столице… определенное недоверие. А ведь Верховного Судью и Первую Представительницу практически вынудила уйти Дорона; сомнительно, чтобы Кирлан счел собранные против них доказательства достаточными. — Именно этого я и опасаюсь, — подтвердила Алида. — Я не прошу совета, поскольку, думаю, у вас и своих хлопот хватает. Справлюсь сама. Однако я призываю к осторожности. Думаю, мы не скоро снова увидимся, выезжать из Драна становится для меня чересчур рискованно. Мне придется также ограничить помощь, оказываемую вам, так же, впрочем, как и всем нашим. Нужно считаться… даже с самым худшим. Если мояроль станет ясна, большинство тех, кого я посадила на различные должности, сложат голову вместе со мной. У вас немало таких людей в Дороне. Нужно ограничить встречи с ними, лучше всего, чтобы таких встреч не было вообще. И наконец, если меня все же раскроют, нужно быть готовыми к тому, чтобы тотчас же вырвать звенья из цепи. Те, кто знает меня и вас или хотя бы догадывается о наших связях, должны будут исчезнуть. Немедленно. Они обменялись взглядами. — Второе, — сказал Ганедорр. — Вам нужно взять на себя приготовления в Багбе. Те, кто действует там сейчас, не слишком энергичны. Семена презрительно кивнула. — Что с тобой происходит? — спросил Аскар. Был поздний вечер; лишь сейчас у них появилась возможность поговорить наедине. — Я знаю, что ты терпеть не можешь эту кичливую даму, мне она тоже не нравится. Но разве это повод для того, чтобы выставлять себя на посмешище в глазах самого высокорожденного человека на всем этом острове? И притом при первой же встрече? Она чуть не набросилась на него. — Снова пытаешься мне объяснять, что я делаю так, а что не так?! На этот раз он не стал ей уступать. — С меня хватит, — спокойно заявил он. — По какому праву ты относишься ко мне словно к рабу? Я не раб. Ты сама допустила меня к участию в твоих планах, и я делаю все для того, чтобы они увенчались успехом. Я делаю это для тебя. Не для себя. Мои амбиции удовлетворены, я комендант одного из крупнейших гарнизонов империи, с немалыми шансами на пост главнокомандующего Главным Флотом Гарры и Островов. Твое восстание скорее мешает моей карьере, чем помогает. — Хватит! — яростно бросила она. — Убирайся! Слышишь? Убирайся отсюда! Он горько покачал головой. — Это нужно было говорить полгода назад, — сказал он. — Теперь уже поздно. Естественно, я давно уже перестал верить, что ты испытываешь ко мне хоть какие-то чувства, впрочем, я, пожалуй, никогда в это не верил… Я был тебе нужен, только и всего. Однако когда-то ты уверяла меня в ином. Но с тех пор как ты привезла эти сокровища… Ты изменилась. Всю осень я тренировал твоих людей на этом проклятом островке, ты прекрасно знаешь, что нам приходилось есть последние две недели. Вернувшись, я ничего от тебя не ждал, кроме, может быть, теплого слова. Ибо о наших совместных ночах я успел уже забыть… — Ну и прекрасно! — рявкнула она. — Ради Шерни, освободишь ты меня наконец от зрелища твоей физиономии?! — Слуги услышат, — сказал он, забыв, что всех отпустил. — Пусть слышат, ради всех сил! С меня хватит, убирайся, говорю! Он внимательно посмотрел на нее, осененный внезапной мыслью. — Что за драную бумагу принес тебе тот солдат? — спросил он. — Дурные вести? Твой корабль, «Сейла», уже вышел в море? — О-о-о! — взвыла она, сжимая кулаки. — В третий и последний раз: убирайся! Он схватил лежавший на столе пояс с мечом и застегнул его на бедрах. — Но если я уйду, — проскрежетал он, резким движением срывая плащ со спинки высокого стула, — то не рассчитывай, что я оставлю тебя в покое вместе с твоими грязными делишками! Твое восстание закончится, прежде чем успеет начаться! — Угрожаешь? — сдавленным шепотом спросила девушка. — Ладно… медленно процедила она, — идем со мной… Она быстро направилась к двери и, толкнув ее, почти побежала через комнаты. Ворвавшись в спальню, она пинком откинула крышку сундука, достала из него пояс с мечом и тяжелый ключ и застегнула пояс поверх платья. Они быстро спустились в подвал. Единственный факел горел возле лестницы, остальные были погашены, так как в помещении, несмотря на его размеры, скапливался дым. Она повела его мимо ящиков с оружием, в самый конец подземелья. Потянув за железное кольцо, подняла люк в полу. Крутая лестница вела вниз. — Дело моей жизни, — сказала она, тяжело дыша и отдавая ему факел. — Ты сам этого хотел, дурак… Ты! — бросила она ему в лицо. — Ты был самой большой моей проблемой! Что, я изменилась? — Она расхохоталась жутким смехом. — Да, изменилась! Ступеней было немного. Небольшой коридорчик вел к широкой массивной двери. Она отодвинула тяжелые засовы и открыла дверь. За ней была другая, которую она открыла ключом. Изнутри помещения ударила страшная вонь. Девушка перешагнула порог и, забрав у Аскара факел, воткнула его в углубление в стене. — Ну иди, — сказала она, дрожа от едва сдерживаемого смеха. — Иди, иди… Никогда в жизни он не видел ничего ужаснее. На прикрепленной к потолку цепи висело какое-то… существо. Ноги не доставали до земли, поскольку были отрублены по колено. Свет факела осветил некоторые детали, свидетельствовавшие о том, что на цепи висит женщина. Чудовищная нагота открывала жуткие шрамы на месте отрезанных грудей. Голову покрывали остатки волос, из тех же мест, где волос не было, их, похоже, выдирали вместе с кожей. У женщины были выколоты глаза, и сквозь дыры в щеках виднелись зубы. Остатки носа срослись в нечто бесформенное. Аскар, обливаясь потом, отшатнулся, опершись о стену. — Что? — услышал он рядом свистящий голос. — Боишься своей возлюбленной? Да, да, это не я — это ома! Он не понимал, не соображал, не был в силах мыслить. — Она мне очень помогла! — голос девушки снова задрожал от смеха. Поверь, дорогой мой, если действовать соответствующим образом, можно добраться до любых тайн, узнать любые подробности, сведения о лицах и именах тех, о ком нужно знать… Конечно, я совершила множество ошибок, некоторые удалось легко исправить, другие же… Ты спрашивал про Вантада, старого капитана Вантада? Он и в самом деле оказался чересчур наблюдателен! — Нет, — ничего больше он был не в силах вымолвить. Цепь, связывавшая руки пленницы, покачнулась, изуродованная голова дрогнула. Звук, сорвавшийся с губ, невозможно было разобрать. — Да! — Она рванула тело, повернув его на цепи, и показала на маленькое родимое пятно на лопатке: — Узнаешь, любовник моей сестры? Одним рывком она разорвала на себе платье и показала ему спину. — Разве у меня есть что-то подобное? — со смехом крикнула она, отбрасывая в сторону волосы. Огромный дракон смотрел на него красными треугольными глазами. Аскар на мгновение ослеп, после чего услышал собственный хриплый крик. Рука сама выдернула меч. Окутывавший голову туман рассеялся, он увидел блеск вражеского клинка и скрестил с ним свой… Ярость, боль и ненависть остались, но безумие прошло. Оружие, столкнувшись с другим, передало его руке холод сражения, рука же — принадлежала солдату. Рукоять дрогнула у него в руке — он понял, что эта полунагая, скалящая зубы волчица умеет обращаться с мечом. Она оттолкнула его — вызывающе, бросив смешок сквозь сжатые зубы, — выпустила из руки оружие, позволив мечу повиснуть вертикально в воздухе, после чего перехватила рукоять — и атаковала с близкого расстояния отрывистым, коротким ударом. Так сражались пираты с Островов, в абордажной сумятице, когда схватка шла в основном врукопашную, на ножах и кулаках. Он легко парировал удар. Ненависть душила его. Однако никогда прежде мысли его не были столь ясны. Он знал, что убьет ее. Она умела драться, но для него оружие не имело никаких тайн. Он любил оружие. Так же, как любил девушку, от которой остался лишь кусок человеческого мяса, висящий на цепи. Он нанес татуированной женщине несколько быстрых ударов, которые та с трудом могла отбить. Он ранил ее в руку, потом в живот, потом пронзил острием горло. Вражеский меч с лязгом упал на пол. Она обхватила руками шею и тяжело опустилась на колени, вытаращив глаза. Струей ударила кровь. Она упала на бок и затихла. Тяжело дыша, Аскар выронил оружие. Он не мог заставить себя взглянуть в сторону покачивающейся над полом искалеченной женщины. Наконец он все же посмотрел на нее. И заплакал. — Ради Шерни, — рыдал он. — Ради Шерни… Он упал на колени, закрыв лицо руками. Слезы текли между его пальцев, голова склонялась все ниже и ниже. Сзади послышался лязг запираемых засовов — и что-либо предпринимать было уже поздно. И тогда он услышал смех. Висевшая на цепи женщина еще была в состоянии смеяться.46
В Дурном Крае время шло иначе… Раладан стоял на носу, нахмурившись и заложив руки за пояс. Судьба оказалась к нему неблагосклонна. А ветер, казалось, исполнял волю судьбы. В начале их путешествия дуло с востока. В ветре с востока, весной, не было ничего необычного. Тем не менее «Сейла» две недели с трудом шла под острым углом к ветру, который дул то с востока, то с северо-востока, то есть прямо в нос. Идя то правым, то левым галсом, они почти не приблизились к цели. «Сейла» отлично справлялась, но что с того? Встречный ветер — это встречный ветер. Потом, однако, ветер прекратился вообще. Проклятый штиль поймал их у восточных берегов Дартана. Когда он наконец кончился, они пошли чуть быстрее, поперек ветра, но что с того, если в Дартанском море ветер снова начал дуть прямо в нос? До Пустого моря, находившегося в границах Безымянной Земли, они добрались поздно, очень поздно. Раладан знал, что времени у них мало. Тем более что в Дурном Крае время шло иначе. Медленнее. — Все еще не вижу никакой разницы, — сказал Давароден, подходя к Раладану. — Это и в самом деле тот легендарный Дурной Край, капитан? Раладан задумчиво посмотрел на него. Командир арбалетчиков оказался хорошим товарищем. До того как поступить на службу к Семене, он вел весьма разнообразную жизнь: был солдатом Морской Стражи, боцманом на торговом барке, наемником на службе у гаррийского магната, потом охотником на медведей в Дартане и опять солдатом — в Громбеларде. Он соглашался с тем, что нигде у него дела не шли лучше, чем под командованием ее благородия Семены, однако слегка ворчал по поводу того, что солдат, по его мнению, чересчур баловали. «Ее благородие, — сказал он как-то раз Раладану за кружкой рома, похоже, хочет, чтобы солдаты ее любили. Я вижу, господин, какой ты капитан, поэтому скажу смело: солдат должен уважать командира, и не более того. Любить можно только вино. Да и то лучше соблюдать меру». Это замечание напомнило капитану «Сейлы» о Лерене. Разве Давароден не подтвердил того же, что он сам говорил когда-то? Однако он никогда не считал, что сестру Лерены волнует отношение к ней подчиненных. Выяснялось, что разница в поведении сестер была меньшей, чем он полагал. Да… Похожими были не только их лица. Почему же, однако, он всегда предпочитал Лерену? С Давароденом они соглашались во многих вопросах; Раладан обнаружил в нем братскую душу. Отличались они в основном тем, что сам он навсегда связал свою жизнь с морем, используя свой дар понимания происходящего в соленых глубинах. Давароден подобным даром не обладал и потому искал для себя места на самых разных поприщах. Однако их связывала общая ненависть к бездействию. — Не вижу я здесь целей для своих стрел. — Коренастый островитянин облокотился о фальшборт. — Пожалуй, пора пристать где-нибудь к берегу? Раладан кивнул, в очередной раз отметив, что арбалетчик многое приобрел на магнатской службе: речь его звучала намного чище, чем у большинства уроженцев Островов, он редко вставлял жаргонные словечки, а фразы строил по гаррийскому образцу. Кроме того, Давароден немного знал дартанский и вполне неплохо владел громбелардским. — Может быть, пристанем, если будет нужно, — сказал Раладан. — Но к островам, возле Черного Побережья. Прямо перед нами. Я предпочитаю добраться туда по воде, а не по суше. Даже если эта вода — Пустое море. Арбалетчик внимательно посмотрел на него: — Ты говорил, капитан, что когда-то уже был здесь. Значит, ты знаешь, что делать. Но я думаю, что раз мы пришли сюда за Брошенными Предметами, то в воде мы их не найдем. — Нет? — Ну, не знаю… Наверное, нет. — А я тебе говорю — найдем. Конечно, не в самой воде. Но именно на тех самых островках, о которых я говорил. Только те, кто никогда не был в Крае, считают, что Предметы есть лишь на Черном Побережье. Тем временем некоторые из этих островков напоминают сокровищницы. Естественно, охраняемые. Островитянин поднял брови. — Охраняемые стражницами, — уточнил Раладан. — Это… женщины? — Нет, друг мой. Сирены. Давароден недоверчиво посмотрел на него: — Это не сказки? Я думал… — Ты думал, как все, кто здесь не был. Странное дело с этим временем, говорят все — путешествуешь по Краю три дня, а когда его покинешь, оказывается, что прошел месяц. Но какие-то там сирены или слепые летучие мыши? А тем временем, друг мой, это место не без причины назвали Дурным Краем. — Ты уже говорил, капитан, что был здесь, — пробормотал арбалетчик. Несколько раз. Я тоже не люблю без повода трепать языком. Но может быть, все-таки стоит услышать несколько слов? Я хочу знать, чего ожидать моим солдатам. Думаю, это не повредит. Здесь, говорят, умирают. Раладан молча кивнул. Бросив взгляд на палубную вахту, он убедился, что все в порядке, после чего облокотился о фальшборт, так же как и арбалетчик. — Мой недосмотр, — признался он. — Я и в самом деле не люблю рассказывать о своих похождениях. Но мы в Дурном Крае, это правда… Слушай, Давароден, и передай остальным. Несколько мгновений он собирался с мыслями. — Несколько лет тому назад, — начал он, — двести смельчаков на лучшем корабле всех морей отправились сюда. Мы вернулись богачами. Но нас вернулось лишь сорок с небольшим. Остальных сжег ветер, убили каменные волны, утопил свет или раздавили тени. Ну вот, теперь ты знаешь о Дурном Крае почти столько же, сколько и я. Островитянин неуверенно смотрел на него. — Чего ты ожидал? — спросил Раладан, оглядывая горизонт. — Драконов? Живых скелетов? Это как раз сказки. Половина наших, из тех, кто вернется, будут рассказывать, что видели здесь подобные чудеса. Ибо что им еще сказать? Что когда двое прилегли в тени, от них осталась лишь вонючая лужа? Каждый второй будет потом клясться, что видел гиганта, совершенно невидимого, который их растоптал. Поверь мне, друг, из всего, что нас тогда убивало, калечило, похищало и доводило до безумия, я могу назвать и хоть как-то понять лишь пару-другую. На Черном Побережье нас окружили гигантские летучие мыши, которые почти не причинили нам вреда, хотя всюду было их полно. Выглядят они страшно, но, если ударить мечом или выстрелить из арбалета, их легко убить. Наш боцман даже задушил одну голыми руками. Хуже было с рогатым волком, пожалуй покрупнее зубра. А хуже всего именно с сиренами. Чтоб ты знал — у них есть хвосты и плавники. Есть у них и все остальное, что должно быть у рыбы. Очень, правда, красивой рыбы — желтой, красной и зелено-черной. Большой, как акула. А поет она самым чудесным женским голосом, какой только можно в жизни услышать. Трудно сказать, почему это именно голос, к тому же еще и женский… Но если послушаешь ее достаточно долго — ты труп. Люди блевали кровью у меня на глазах, прыгали в море или пронзали себя мечами, ибо того, что творит их пение, невозможно сотворить с человеком даже в казематах Трибунала. Ты умираешь от боли, чувствуя, как внутри все лопается — сердце, легкие, кишки… Если заткнуть уши — не помогает. Именно потому я и говорю, что непонятно, почему у них такой голос. Поскольку, чтобы его слышать, уши не нужны. Раладан, нахмурившись, замолчал. Давароден покачал головой. — И как же защищаться? — мрачно спросил он. Капитан показал на море. Арбалетчик посмотрел в указанном направлении; внимание его привлекло нечто в миле с лишним от корабля. — Что это? Черные силуэты то появлялись, то снова исчезали среди волн. — Это?.. — Косатки, — сказал Раладан. — Как защищаться? Они тебя защитят. Если успеют… Тогда они тоже плыли за нами. Не знаю почему. Нужно только выдержать, — помолчав, добавил он, жестом приветствуя, скорее машинально, черные спины. — А выдержать вовсе не так легко. Я видел крепких, отважных парней, которые не выдержали. Впрочем, просто стиснуть зубы недостаточно. На одних это действует быстрее, на других медленнее. Были такие, что начинали блевать кровью почти сразу, другие дождались… Стая косаток, такая же большая, как и эта, прикончила сирен, и нас осталось полторы сотни. Но многие умерли позже. Не бойся, — добавил он с легкой усмешкой, еще не время. Похоже, сирены есть только возле островов. — Может, лучше пройти мимо островов? — Давароден не скрывал своей неприязни к сиренам. Раладан молчал. — На одном из этих островов, — наконец сказал он, — мы тогда видели сторожевую башню. Думаю, это дом мудреца Посланника. Чей же еще? Косатки все время плывут за нами. Если они нас не бросят, мы пристанем к этому острову. Это самое безопасное, что можно сделать. — Не понимаю, капитан… Раладан махнул рукой. — Пение сирен убийственно, но, — он показал на стаю, — от них есть защита. Если, однако, нам придется искать Предметы и Посланников на Черном Побережье — не знаю, что нас там ждет. И косатки нам не помогут. Он выпрямился. — Тогда, на Черном Побережье, — сказал он, — в полумиле от берега порыв ветра сжег десять человек, плывших на шлюпке вверх по реке. Может быть, знаешь, как от этого защититься? Так что, — закончил он, не получив ответа, — я выбираю опасность большую, зато известную. Восстание должно было начаться за две-три недели до осенних штормов. Сейчас был конец весны. Однако легко было подсчитать, что для того, чтобы успеть до осени, хотя бы прямо на Агары, «Сейла» не может оставаться в Дурном Краю дольше десяти дней. Два дня уже прошли. Раладан не боялся вернуться с пустыми руками. Брошенные Предметы каким-то образом «любили» быть обнаруженными, лежали в наиболее очевидных местах… Хуже обстояло дело с мудрецом-Посланником. Капитан не слишком верил, что легендарный лах'агар — человек, усыновленный Шернью — позарится на золото Риолаты. Эти люди не нуждались в богатстве; если бы они захотели, могли бы возводить целые дома из серебра… Дурной Край не был для них опасным местом, каждый Посланник мог набрать себе сколько угодно Предметов, словно грибов, и вывезти их в Дартан, где за Листок Счастья платили столько же, сколько за красивую молодую рабыню. В Морской Провинции о Дурном Крае, мудрецах магах и Брошенных Предметах было известно немногое, а то, что было известно, редко соответствовало действительности. Раладан прекрасно понимал, что его знания о подстерегающих там опасностях весьма поверхностны; как он и сказал командиру арбалетчиков, он мало что понимал, хотя, может быть, и многое видел… Он жалел, что у него так мало времени. Можно было бы отправиться сначала в Громбелард, где о Дурном Крае знали столько же, сколько на Островах — о Замкнутом море. Служа под началом Раписа, он в свое время познакомился с человеком, который в горах Громбеларда был тем же, кем Бесстрашный Демон был на морях. Басергор-Крагдоб, король Тяжелых Гор и горных разбойников. Раладан вспомнил этого громадного, даже более крупного, чем Рапис, мужчину со светлой, ровно подстриженной бородой. Они встретились с Демоном в Лонде, громбелардском порту у ворот Средних Вод. Раладан вспомнил, что его капитан понимал светловолосого предводителя разбойников почти с полуслова и наоборот. Они были почти как братья, люди одной и той же породы… Они виделись лишь в течение четырех дней. Крагдоб, как раз в Лонде, свалился им как снег на голову, предложив совместными усилиями расправиться с морским конвоем, перевозившим кольчуги, мечи и шлемы в армектанскую Рапу. Разбойник и его подчиненные поднялись на борт «Змея», а потом приняли участие в схватке с солдатами. Эти люди первый раз сражались на море… и даже сейчас, после стольких лет, Раладан вынужден был признать, что никогда не видел более метких арбалетчиков и такого рубаки, как король гор! Плечом к плечу с Раписом, они, казалось, просто развлекались — один с двумя мечами, другой с топором. Много раз потом собирался Демон вновь отправиться в Громбелард хотя бы затем лишь, чтобы снова увидеть человека, который четыре дня был ему братом. Суровый пират, презиравший всяческие сантименты, никогда не скрывал своих чувств к великану горцу. Впрочем — что весьма необычно, именно тогда завязалась не одна дружба. «Морскому Змею» часто приходилось заключать союзы с другими пиратскими парусниками — несколько раз с «Кашалотом» Броррока, раз-другой с «Севером» Алагеры… Выполнив задачу, корабли расходились, каждый в свою сторону, ибо их почти ничто не связывало, кроме этой самой задачи. Тем временем удивительная дружба моряков с горцами продлилась годы; более разговорчивый, чем Рапис, Эхаден не раз вспоминал Делоне, молодого виртуоза меча из Громбеларда. И пожалуй, самой странной была симпатия, которую питал лоцман Раладан к заместителю Крагдоба, симпатия, впрочем, вполне взаимная. Может быть, в основе ее лежало то, что оба были проводниками: один по морям, другой по горам… Кот-магнат, Л.С.И.Рбит. Раладан знал о котах и раньше, видел их в армектанских портах. Однако лишь в Лонде он встретил гадбов, громбелардских котов-гигантов. Рбит был велик даже для гадба. Именно тогда Раладан поверил в услышанную когда-то историю об отряде Громбелардской Гвардии, состоявшем исключительно из котов. «Убийцы из Рахгара» могли внушать ужас разбойничьим бандам, не столь многочисленным и организованным, как компания Басергора-Крагдоба. Раладан никогда не задумывался о том, как, собственно, выглядело сосуществование двух разумных рас. Непосредственно его это никогда не касалось. Однако, увидев в Лонде десятки, если не сотни котов, он заметил, что здесь они отнюдь не были чем-то необычным. Они отличались друг от друга точно так же, как отличаются люди. Естественно, кроме цвета шкуры прочие мелкие детали не бросались ему в глаза, однако, как он вскоре узнал, с противоположной стороны это выглядело примерно так же… Редко находившийся среди данных конкретных людей кот легко замечал разницу в росте, цвет волос… Однако черты лица ему приходилось просто заучивать наизусть. Различия между котами касались, естественно, не только внешности. Коты бродили по порту, вместе с разными мелкими бандами, но были и такие, кто сотрудничал с людьми. Похоже, некоторые занятия в Лонде были сферой деятельности почти исключительно котов. Купцы охотно платили им за охрану товара. Всякого рода курьерами, посыльными и гонцами были обычно коты. Громбелардский Легион платил коту-разведчику жалованье десятника, кошачий же патруль на улицах города, особенно ночью, был просто незаменим, появляясь всюду, где необходимо, словно призрак из темноты… Охотнее же всего четверолапые разумные брались за разовые работы. Непривередливые в еде, не привыкшие к роскоши, не зная ни одежды, ни постоянного жилища, коты могли позволить зарабатывать себе на жизнь мелкими платными поручениями — передать письмо, проверить, пришел ли корабль в порт, найти того или иного человека… Вид упитанного горожанина, стоящего на пороге дома и орущего на всю улицу: «Есть поручение!» — никого в Лонде не удивлял. Впрочем, сразу же появлялась мохнатая фигура — и совершалась сделка; заработанные деньги исчезали в плоском кошачьем кошельке, подвешенном под брюхом. Никто, однако, не встречал котов ни в Морской Страже, ни на торговом паруснике. Впрочем, даже Рбит не поднялся на борт «Морского Змея», дав понять, что считает это место самым неподходящим из всех, где он мог бы оказаться. Больше же всего удивил Раладана тот авторитет, которым пользовался Рбит у людей Крагдоба. Он был его неоспоримым заместителем, его короткое слово прекращало любой спор, решало любые сомнения. Впрочем, сам предводитель разбойников считался с мнением кота больше, чем с чьим-либо иным на свете. Их явно связывала столь тесная дружба, какая редко бывает между людьми. Все эти воспоминания вызвал у Раладана разговор с Давароденом, когда он упомянул мимоходом, что неплохо бы было иметь здесь, в Дурном Крае, таких людей, как горцы, с которыми он познакомился в Лонде. Он назвал имя Басергор-Крагдоб и несколько удивился, увидев выражение лица арбалетчика. — Ты ведь знаешь, господин, — сказал тогда Давароден, — что я служил в Громбелардском Легионе? Это имя известно там каждому солдату лучше, чем имя командира его гарнизона. Уже довольно давно этого человека никто не видел, неизвестно, что с ним. Но до сих пор говорят, что от него трясло весь Громбелард, что он имел доступ к таким тайнам, которые мало кому даже снились… Говорят, предыдущий Князь-Представитель в Громбе постоянно ощущал на горле его пальцы, отсюда и множество непонятных указов, которые сегодня выглядят, словно список привилегий для разбойников. Во имя Шерни, если бы я хоть раз встретил этого человека-легенду, я сразу сбросил бы мундир и пошел бы за ним куда угодно — естественно, если бы он меня взял… Знаешь, господин, что означает «Басергор-Крагдоб»? Всего лишь «владыка Тяжелых Гор». — Что же тогда означает «Басергор-Кобаль»? — взволнованно спросил Раладан. — Может быть, ты и это знаешь? — Л.С.И.Рбит! — Арбалетчик удивленно покачал головой. — Значит, ты и с ним знаком? Капитан, ты вырос в моих глазах! Этот кот — князь гор, именно это означает его прозвище. Самое странное и, пожалуй, самое таинственное существо Шерера, именно род Л.С.И. руководил знаменитым Кошачьим Восстанием. Это самый высокорожденный кот из всех известных империи, сам император после победы восстания присвоил его предкам статус Чистой Крови. Этот кот носит имя, которым немногие люди могли бы похвалиться. В Дартане, столь впечатлительном на титулы и звания, это имя дало бы ему должность рядом с Представителем! Оба замолчали, от удивления не в силах разговаривать дальше. Потом им помешали, а еще позже не нашлось подходящего случая, чтобы продолжить тему. Однако после того, что сказал Давароден, Раладан еще больше пожалел о том, что судьбе было угодно, чтобы «Морской Змей» никогда больше не зашел в Лонд. Так или иначе, если даже не учитывать исчезновение Крагдоба, о котором говорил арбалетчик, у них не было теперь времени, чтобы искать кого бы то ни было где-то в Громбеларде. «Сейле» и ее команде приходилось рассчитывать лишь на собственные силы. И главной проблемой Раладана была вовсе не судьба горных разбойников, но поиски Шара Ферена. И не было никакой уверенности в том, что им удастся найти именно этот Предмет за столь короткое время, которым они располагали. «Я найду его, — обещал он, думая о той, кого был вынужден отдать в руки врага и кто значил для него больше, чем кто-либо на свете. — Я найду его, госпожа, будь уверена. Верь мне. Я добуду для тебя все, что только в состоянии добыть человек».47
Та, которой были адресованы его обещания, находилась значительно ближе, чем он думал. В Роллайне, столице Дартана, всего в двухстах милях от моря, именовавшегося Пустым. Самый большой, самый красивый и самый богатый город Шерера был одновременно местом нескончаемо порочным. Нигде человек не значил меньше, чем в Роллайне. Здесь имели вес лишь имена, титулы, дворцы и золото. Вокруг двора Князя-Представителя вращались все остальные дворы, вокруг них же в свою очередь — высокопоставленные семейства… Город утопал в роскоши и богатстве, жители его торговали всем, что имело в Роллайне какую-то ценность: мужчины продавали свои имена, покупая за них красоту женщин; женщины продавали свою красоту за дворцы; дворцы обменивались на титулы, те же — на золото. Весь Дартан трудился ради процветания этого города; хозяева деревень, разбросанных по всей провинции, лучшие свои резиденции имели в самом Роллайне. Сюда прибывали люди со всех краев Шерера, и весьма разнообразные: виртуозы владения мечом — на турниры; купцы — с товаром, цена которого достигала здесь неслыханной величины; разные нувориши, желающие приблизиться к великим этого мира; наемники, ищущие случая вступить в Дартанскую Гвардию, где служба была самой вольготной и вместе с тем самой высокооплачиваемой в империи; наконец, проститутки и воры. В таком городе и оказалась Ридарета. Ее необычная красота даже здесь привлекала внимание, но куда меньше, чем в каком-либо другом уголке Вечной Империи. Красивых женщин в Роллайне было в избытке, дартанки не без причин славились своей красотой (но также, увы, и дурным характером). Безумие девушки тоже никого особо не волновало; из него сложно было извлечь деньги или использовать для карьеры. Предместье дартанской столицы не имело ничего общего с предместьем, скажем, гаррийской Дороны или Багбы, не говоря уже о Дране… Кого тут могло интересовать — не сбежавшая ли с любовником магнатка эта одноглазая красавица? Таких магнаток в предместьях видели десятками каждую ночь… Где-то ведь им приходилось добывать должности для мужей. Не в собственных же комнатах? Торговец, хозяин дома, в котором Ридарета и ее опекуны заняли целый этаж, вовсе не имел никакого желания о чем-либо расспрашивать. Он сразу же понял, что его гости не жители Дартана. Так, очередные искатели счастья в Роллайне. Он взял с них деньги за полгода вперед, и немало. Деньги ему были очень нужны, дела зимой пошли хуже. Ридарета редко покидала свою комнату. Не потому, что ей это запрещалось. Семена сказала Раладану правду (хотя, естественно, не всю): те трое, которые увезли Ридарету из Дороны, были скорее ее опекунами, чем стражами. Ее всегда сопровождал кто-то из них, но это было единственным, что ей приходилось терпеть. Чего Раладан не знал, так это того, что Семене на самом деле было прекрасно известно, где в случае необходимости искать заложницу… Ридарета не выходила из комнаты, поскольку предпочитала смотреться в зеркало. Она стала еще прекраснее. Но вместе с тем окончательно лишилась рассудка. За месяц она не произнесла ни слова. Лишь иногда только что-то шептала своему отражению в хрустальной поверхности. Когда не смотрелась в зеркало — лежала в мягкой дартанской постели, уставившись в стену или в потолок. Однако спокойствие это было обманчивым. Ибо внутри ее души продолжалась война. Проигранная война. Приближающаяся к концу… Трое ее опекунов, ведя истинно праздную жизнь, не могли о том знать. Они давно уже перестали обращать внимание на свою подопечную, лишь заботясь о том, чтобы она ни в чем не нуждалась. Именно так было им приказано перед тем, как они покинули Дорону. Семена подняла голову, чуть повернув ее вбок. Зеркало отразило то же, что и всегда, уже три с лишним месяца: шрам, хотя и хорошо заживший, был все еще виден. Она дотронулась до шеи, прикусив губу. Тогда, задвигая громадные засовы, она не думала о подобных глупостях. Из разодранного горла, несмотря на боль, вырывался хриплый, булькающий кровью смех. Она знала только одно: этот человек умрет. От голода, но скорее от недостатка воздуха. Прижав ладонь к ране, она, шатаясь, поднялась по лестнице и с грохотом опустила тяжелую крышку люка. От голода… Снова послышался хриплый смех. От голода — пожалуй, нет. Она оставила ему в подвале достаточно мяса. Теряя силы, она оперлась о стену и сползла по ней на пол. Подобная рана была не опасна, но очень болезненна и исчезала не сразу. Она закрыла глаза; вскоре она открыла их снова и, оторвав от края платья длинный неширокий лоскут, обмотала им шею. Почему бы не помочь собственному телу? Она снова закрыла глаза, продолжая сидеть неподвижно. Такая рана была не опасна. Это она уже проверяла. Отрезанные члены умирали, но все другие повреждения или ранения быстро заживали. В худшем случае на это требовалось дня два. Тогда, когда удар пришелся в сердце. Она даже какое-то время думала, что убила ее… Но нет. Сознание вернулось, хотя и не сразу. Только боль, похоже, была необычно сильной. Она пробовала трижды, с тем же самым результатом: сначала потеря сознания, потом два-три дня болезненные спазмы и выздоровление. Медленное, но полное. Она не отваживалась лишь повредить мозг. Слишком большой риск… Риолата все еще была нужна ей, она не могла умереть. Казалось, этому не будет конца. Постоянно, словно ниоткуда, появлялись люди, которых она должна была знать, но не знала. Из положения она выходила по-разному — иногда удачно, иногда нет. Никто, однако, не обнаружил правды. В том была огромная заслуга Раладана… В поисках Ридареты он убил в Дороне почти всех, кто знал ее по-настоящему хорошо. Кроме капитана Вантада и этого… Аскара. Вантад должен был знать, что у Риолаты есть сестра-близнец. К счастью, он не сумел скрыть своих подозрений. Ей удалось избавиться от него еще на борту «Сейлы», прежде чем они достигли Дороны. Он пытался добраться до искалеченной, связанной женщины в трюме… Исчезновение капитана корабля стало для команды немалой загадкой. Но все списали на несчастный случай… Аскара она вышвырнуть в море не могла. На борту «Сейлы» она просто почти не выходила из каюты. Здесь, в Дороне, ждали десятки дел. Суть их она в общих чертах знала, у нее было достаточно времени в пещере-сокровищнице, чтобы вытянуть из Риолаты не одну подробность. Но об Аскаре ей ничего не было известно. На что рассчитывала Риолата? Что этот человек ее разоблачит? Она просчиталась. Но еще немного, и все могло повернуться иначе. Не раз ей хотелось бросить все, забрать сокровища и все, что можно было взять, забыть о Дороне, восстании, Агарах… Однако ставка была слишком высока. В борьбе же с противоречиями ее сестра оказалась весьма действенным оружием — она почти не переносила боль… Вскоре, однако, выяснилось, что боль не лишила ее способности думать. Цепей оказалось недостаточно. Ведь они обе обладали подобной исключительной силой. Она училась эту силу использовать, почти вслепую, пробуя, пробуя, пробуя… Но пробовала и та. Слово в состоянии было привлечь частицу силы Темных Полос. С этим проблем не было, она просто отрезала Риолате кончик языка и вырвала дыры в щеках. Едва понятное, свистящее бормотание мало чем могло помочь. Но потом оказалось, что сильнее жестов и слов — взгляд. За это знание она едва не заплатила жизнью. Если бы Риолата еще немного подождала, она смогла бы развить свои способности… Однако она поспешила. Но даже тогда взгляд красных зрачков едва не оторвал ей голову. Как-то ей удалось тогда выкарабкаться. Все еще сидя у стены, она дотронулась до обмотанной вокруг шеи тряпки. Она была липкой и мокрой. Ярость прошла. Она уже понимала, что совершила серьезную ошибку. Аскар был нужен. Не только ей. Организаторы восстания связывали большие надежды с командиром доронского гарнизона, прирожденным солдатом и лучшим командиром из всех, что у них когда-либо были… Трудно будет объяснить его исчезновение, следовало считаться с дотошностью Ганедорра, Алиды и всех остальных из Драна. Конечно, никто не станет ее подозревать, но сам интерес к этому делу создаст немало хлопот. Однако она не жалела. Она не могла больше выносить этого человека, претендующего по отношению к ней на какие-то… права. Подобные права мог иметь лишь один мужчина. Но именно этот мужчина послал ей разорванное пополам свидетельство о собственности на «Сейлу». Дар от самого сердца. До сих пор никогда и никому… она ничего подобным образом не дарила. Стряхнув воспоминания, Лерена снова прикусила губу и вернулась взглядом к отражению в зеркале. Она была прекрасна. Только этот шрам… Но он был не слишком заметен. — Почему ты меня не хочешь? — с упреком спросила она. — Найдешь ты где-нибудь кого-то красивее? И вернее? Она коснулась пальцем гладкой поверхности. Зеркало треснуло. Треснуло и зеркало Ридареты. Она разбила его ударом кулака. Дверь открылась, и из соседней комнаты вошли двое. Она окинула их взглядом. Закрывавшая выбитый глаз повязка была темно-зеленой, так же как и платье, а по краям обшита серебром. Она обожала серебро. Серебряные браслеты, серьги, перстни и ожерелья. Когда-то, когда она командовала «Морским Змеем», на ней было серебро, много серебра… Она показала руку. — Я поранилась, — спокойно объяснила она. — Ничего страшного. Мужчины быстро переглянулись. Это были первые слова, произнесенные ею за многие недели. — Все прошло… — сказала она, чуть наклонив голову. — И не вернется. Неожиданно она встала. Те инстинктивно отступили. — Госпожа… — сказал один. Она прервала его на полуслове. — Мне нужно немного боли, — чуть улыбнулась она. — Я должна проверить, не забыла ли я, как разжигают огонь… Она повернула голову вбок, чуть наклонилась и посмотрела искоса, все с той же улыбкой. Красно-желтое пламя с гулом охватило одежду обоих. Нахмурив брови, она смотрела, как воющие живые факелы мечутся по комнате. — Пока я умею только поджигать, — с сожалением проговорила она. — Может быть, когда-нибудь я научусь и гасить. Она вышла из комнаты. На лестнице ей встретился испуганный хозяин дома. — Хочешь похудеть, толстячок? — спросила она. — Ну, иди сюда, я вытоплю из тебя немного сала. Огненный шар с воем скатился по лестнице.48
Смеркалось. Таменат-Посланник, однорукий старик, громадный, словно гора, с все еще высоко поднятой лысой головой, подошел к окну, бросив взгляд на внутренний двор замка, по которому беспокойно бегали псы. Он привык называть свой дом замком; однако это был всего лишь приземистый восьмиугольник, окруженный стеной. На Черном Побережье такого дома было бы недостаточно. Но здесь, на этом острове, давно уже не было стражей Брошенных Предметов. Другое дело в море. Гехеги иногда выходили на сушу, но для защиты от них вполне хватало псов-басогов, которых он держал. А уж стена гарантировала полную безопасность. Он наклонил голову прислушиваясь: ему показалось, что издалека донеслось пение сирен. Действительно, они пели… Он любил их песни, очень грустные. Однако он понимал, что именно в это мгновение на каком-то паруснике гибнут искатели приключений. Сирены никогда не пели просто так. Честно говоря, он уже давно не слышал их пения. Наверное, уже несколько лет. Может быть, он и помог бы погибающим, несмотря на то что путешествия за бессмысленным богатством, каковым были для авантюристов Брошенные Предметы, он глубоко презирал. Однако он не мог ничем помочь, не видя того, против чего хотел использовать Формулу. Он мог защитить от пения сирен самого себя, но лишь от такого, доносящегося издалека. Если бы пение звучало более отчетливо, он мучился бы как любой другой или немногим меньше. Другое дело, что он наверняка остался бы в живых. Пение внезапно смолкло, и Таменат подумал, что теперь очередной корабль с мертвой командой будет дрейфовать по морю, пока не прибьется к каким-нибудь берегам. Кто знает, может быть, даже к берегам его острова? Сирены пели совсем недолго. Видимо, они были рядом с кораблем, раз столь короткого пения оказалось достаточно. Самый старый мудрец Шерера отвернулся от окна и направился к середине комнаты. Большой стол был устлан мелко исписанными страницами. Таменат творил свой вклад в Книгу Всего. Пора. Он знал, что скоро умрет. Наклонившись, он подсунул руку под крышку стола, после чего, выпрямившись, слегка приподнял его и передвинул. Перемещение стола вокруг кресла вносило в его монотонную жизнь хоть какое-то разнообразие. Он уселся на широкое сиденье — твердое, из дубового пня, которое когда-то вырубил сам. Потом встал и принес Книгу… Память. Память его подводила — все чаще. Мрак постепенно заполнял комнату… Таменат читал. Много лет назад, когда Шернь превратила два осенних месяца в зимние, он испытал такое же чувство, как и сейчас. Он искал след Законов, которые подтверждали бы, что именно теперь, в этом году, Шернь вернет равновесие, отобрав у зимы лишние месяцы. Он нашел. Еще неделю назад он не смог бы признать эти строки Законом. Однако так оно и было. Вне всяких сомнений. Заметки жившего много веков назад Посланника, имя которого виднелось в начале страницы, так же как когда-нибудь будет там виднеться имя его, Тамената. Он еще раз перечитал страницу. Обычные слова, рассуждения о природе мира и войны, которые внезапно стали невероятно многозначными, доказывая, что его предположения совпадают с тем, что содержится в Полосах. У него заболели глаза. Он быстро уставал… С грустью он подумал, что придется обеспечить себе освещение. До сих пор оно ему не требовалось. Однако в последнее время он с все большим трудом видел в темноте. «Петля Шерни, — подумал он. — То, что началось девять лет назад, в этом году закончится. Петля…» Петли Шерни были феноменом, с которым не в силах была справиться математика. Они были подобны иронической улыбке правящей миром силы, хотя и мертвой. Доказанные, несомненно истинные, формулы и теоремы внезапно оказывались неверными. Объективно существующие, поддающиеся эмпирической проверке явления не поддавались теоретическому описанию. Как феномен времени в Крае. При сохранении непрерывности пространства — разрывность четвертого измерения. Таменат вздохнул. Он не мог этого понять. Он был малозначащим Посланником, смешным мудрецом… Одним из тех, кто вместо философских постулатов вписывает в Книгу Всего преобразованные формулы. Работа поденщика, мальчика на посылках, приносящего хозяевам нужные инструменты. Кто-нибудь вроде Великого Дорлана благодаря найденным в Книге готовым преобразованиям когда-нибудь сэкономит время и силы. В деле познания Шерни математик был не более чем слугой историка-философа. «Старческие сантименты», — укоризненно сказал он сам себе. Он перевернул страницу и пробежал взглядом по десяткам букв. Внезапно рука дрогнула. — Пророчество, — вслух произнес он. Воистину. Теперь это было Пророчеством. В год замыкания петли. Он не думал, что ему дано будет увидеть Пророчество… Он пошевелил губами, читая о двух Темных Полосах, проклятых Шернью. Внезапно он понял, как сильно ошибался. Это не петля Шерни. Это петля Отвергнутых Полос, единственным союзником которых были Просторы. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, утомленные борьбой с мраком. Еще до того как возник разум, Шернь вела войну с враждебной силой, подобно ей стоявшей над миром, — Алером. Алер был побежден, но Шернь лишилась в той войне нескольких Темных и Светлых Полос. Светлых — больше. Чтобы сохранить равновесие собственной сущности, Шернь была вынуждена отвергнуть две Темные Полосы, отгородив их от остальных Ференом — стеной, вознесенной из Светлых Черт, отделенных от Полос. Проклятые Полосы, отброшенные за небесныйкупол, все же проникали в мир; такие вторжения называли Трещинами Шерни, хотя, по существу, они таковыми не были. Легче всего Проклятые Полосы проникали в мир над Просторами, соединенные с ними каким-то таинственным союзом, что было весьма необычно. Первобытная стихия Просторов, существовавших задолго до того, как такие силы, как Шернь, начали создавать сушу, была явно враждебной и попросту гибельной для Полос. Просторы никогда не подчинялись Шерни. В нескольких сотнях миль от Шерера Шерни уже не было. Никто не знал, каким образом Проклятые Полосы могут — до определенной степени — сосуществовать с Просторами. Каким образом… и зачем? Сила, подобная Шерни, должна была быть внутренне уравновешенной. Закон Равновесия — первый и важнейший из Законов Всего, касающийся как Шерни, так и Шерера. Таменат считал, что это первостепенное правило для всех сил и миров, которые где-либо существовали, существуют или будут существовать. Постоянное нарушение равновесия неминуемо влечет за собой гибель. Силы, мира… Чего бы то ни было. Иногда ему казалось, что Просторы стремятся именно к этому. К нарушению равновесия Шерни — чуждой для них (и потому враждебной) созидательной силы. Две Проклятые Полосы, результат крупнейшего в истории нарушения равновесия Шерни, естественным образом стремились вновь слиться с остальной ее частью. Ферен — стена, отделяющая их от остальных Полос — была создана не без причины. Быть может, существовала возможность уничтожить Ферен. Если бы это удалось, Шернь вновь оказалась бы выведена из равновесия. Никто был не в состоянии сказать, возможно ли восстановить однажды разрушенную преграду. Но могло быть и иначе. Таменат (и не он один) не раз задумывался о том, почему Шернь, после победоносной войны с Алером, не уничтожила свои лишние Полосы. Достаточно было бросить их против побежденной, но все еще способной уничтожать мощи Алера… Быть может, по каким-то причинам это было невозможно. Таменат, однако, считал, что скорее… ненужно и нежелательно. Шернь была слепой, неразумной, но достаточно целесообразно действовавшей силой. Может быть, лишние (и вредные!) Темные Полосы могли сыграть полезную роль, брошенные не против Алера, а против Просторов? Их союз с вольной стихией мог быть союзом чисто внешне, в действительности же, быть может, Проклятые Полосы и Просторы угрожали друг другу, создавая тем самым новое, своеобразное равновесие? Значит, перемирие — или скорее холодная война? Таменат снова вздохнул. Он не знал. Никто не знал. Он не считал, что на этот раз случилось нечто, что наконец позволит ему понять. Однако, хотя он не мог знать, что, собственно, происходит, он мог хотя бы выяснить как. Он снова склонился над Книгой.49
Корабль раскачивался, словно пьяный, паруса громко хлопали. Не было никого, кто мог бы стоять у руля или хотя бы закрепить его в нужном положении. Раладан ползал по палубе, все еще ощущая тупую боль, раздирающую внутренности. Он увидел лежащего в крови матроса, но тут же заметил еще двоих, которые ползли к корме подобно ему самому. В очередной раз он подумал о том; сколь превосходная команда ему досталась. Его ребята даже сейчас думали о «Сейле». Сколько их осталось? Боль медленно утихала; Раладан сумел сначала встать на колени, потом с трудом поднялся. Тут же выпрямился и парусник, снова ложась на курс. У руля кто-то уже был, хотя чувствовалось, что корабль ведут очень неуверенные руки. — Спустить паруса! — хрипло крикнул Раладан. — Бросить якорь! Приказ был выполнен, хотя это и стоило немалых усилий. Якорь наконец крепко впился в грунт, и «Сейла» замерла неподвижно. Раладан окинул взглядом море, ища черные спины и высокие плавники, разрезавшие воду словно мечи. Они были тут! Но очень далеко, там, откуда доносилось пение. Неужели битва еще продолжалась? Бохед, его первый помощник, стоял рядом, все еще согнувшись пополам и прижимая руку к животу. — Трое мертвы, — с усилием проговорил он. — Но еще с троими… очень плохо, капитан. У них все еще идет кровь. Раладан стиснул зубы, ибо знал, что это означает. Он потерял шесть человек. С другой стороны притащился Давароден. — Мои целы, — сказал он. — Капитан, некоторые надели шлемы… и это помогло. Немного, но больше, чем затыкание ушей. Раладан внимательно посмотрел на него: — Скажи об этом всем. В оружейной есть несколько шлемов. Думаю, никакого пения больше не будет… но все-таки скажи всем. Он посмотрел на палубу. Матросы, все еще шатаясь от слабости, сносили в одно место тела товарищей. Кто-то со слезами проклинал все и вся. Раладан увидел парнишку, который был единственным другом всеми нелюбимого — по традиции — кока, действительно, впрочем, скряги каких мало… Раладан взглянул на угрюмый черный островок милях в десяти от корабля. Тот ли это? Они блуждали уже довольно долго, напрасно ища остров, отмеченный пятном приземистой башни на холме. Он мог бы поклясться, что это именно здесь. Может быть, ближе? Может быть, дальше на север? Давароден рванул его за плечо. Раладан обернулся, и на мгновение его ослепило красное заходящее солнце, отражавшееся в волнах. Тут же раздался крик одного из матросов. Все бросились к борту. Косатки мчались подобно шторму. Черные спинные плавники рассекали воду, огромные спины выныривали, чтобы тут же исчезнуть. Несколько гибких обтекаемых тел пронеслись у самого борта «Сейлы». Одно из последних животных отделилось от остальных, возвращаясь. Матросы громко закричали, когда черно-белый силуэт взмыл над волнами, перекувыркнулся в воздухе и с грохотом обрушился в воду, подняв фонтаны брызг. — Шернь… — простонал Давароден. Косатка вынырнула еще раз, вертикально встав в воде; в глубине бил могучий хвост. В открытой пасти виднелись многочисленные зубы. — Там! — внезапно крикнул один из солдат. Среди морских волн кипела новая битва. Несколько раз над поверхностью воды взмыло черно-белое тело, можно было увидеть и другие, незнакомые создания, разбрызгивавшие воду. — Поднять якорь! — прогремел Раладан. — Ну, друг мой, — обратился он к рослому арбалетчику, — это наверняка не сирены. Прикажи своим приготовить самые тяжелые стрелы. Может быть, арбалеты нам пригодятся… Матросы уже были у кабестана. Однако еще до того, как якорь пошел вверх, перед самым носом, разбрызгивая волны, мелькнул необычно высокий и широкий истрепанный плавник. Почти в то же мгновение они увидели другой, могучий и черный… Чудовищный удар выбросил на поверхность большую зеленоватую рыбу, бока которой, казалось, разлагались заживо, полные каких-то дыр и клочьев мяса или кожи… У нее был длинный рог, похожий на зуб нарвала. Рыба снова упала в бурлящую пену. Она описала тесный круг, ища врага, и снова тяжелый удар, на этот раз нанесенный, похоже, прямо снизу, выбросил ее из воды столь близко от «Сейлы», что они явственно ощутили смрад гниющего мяса. Брызги воды залили возбужденно кричащих людей. Изгибаясь в воздухе, чудовищная тварь снова рухнула в волны и исчезла где-то в глубине, еще раз ударив о борт хвостом. Парусник содрогнулся. Поднявшиеся волны сильно раскачивали корабль, однако на поверхности ничего не появлялось. Матросы переглядывались, с отчаянно бьющимися сердцами, догадываясь, что где-то внизу, может быть в нескольких десятках локтей под килем, разыгрывается неизмеримо жуткая битва гигантов… Шагах в шестидесяти от борта волны вдруг расступились, и они увидели поднятую над водой, пронзенную длинным рогом навылет извивающуюся косатку. На «Сейле» послышался возглас неподдельного и искреннего отчаяния. В то же мгновение рог чудовища сломался у самого основания! Однако тут же они почувствовали новый удар, сбивавший с ног. Зелено-желтая рыба нападала раз за разом, ударяя тупым обломком рога. «Сейла» сильно раскачивалась, сотрясаемая ударами. Но удары эти были все слабее. Однако они не прекращались, зловещая тварь, словно некая машина для уничтожения, все возвращалась и возвращалась, нападая, нападая, нападая… После одного из очередных толчков Раладан и матросы увидели арбалетчиков Давародена, которые, присев у фальшборта, посылали стрелу за стрелой так быстро, как только это было возможно. Удары не прекращались. Однако они были уже не опасны. Последнее нападение они видели очень хорошо. Среди вечерних сумерек отвратительная рыба, тяжело переваливаясь с боку на бок, с нашпигованной стрелами спиной, неслась к борту. До него она доплыла по инерции — уже мертвая… Легкий толчок… Вонючее тело перевернулось брюхом вверх, и они увидели, что было тому причиной: из чудовищных ран текла какая-то синяя, размывавшаяся волнами жидкость. Хвост едва держался… Чувствуя комок в горле, они посмотрели туда, где погибла пробитая рогом косатка, а потом дальше, на поле морского сражения. Стая возвращалась — но уже менее многочисленная. Черные спины проплыли вдоль бортов, потом описали большую дугу, все еще невдалеке от «Сейлы». За косатками тянулся темный, кровавый след… Раладан и его команда молча махали руками, со странной уверенностью, что косатки видят этот их жест и понимают его значение. Башня стояла на холме, примерно в миле от берега. Арбалетчики разделились: двое шли впереди, двое по бокам, остальные же держались рядом с Раладаном и Давароденом. Капитан полагал, что подобные средства предосторожности в случае настоящей опасности мало чем помогут, однако в командование Давародена не вмешивался. Тем более что осторожность никак не могла повредить. Они беспрепятственно добрались до самого подножия возвышенности. Псы появились внезапно и бесшумно, огромные, с теленка ростом. Раладан никогда прежде не видел басогов, но это могли быть только они. Они мчались вниз по склону невероятно длинными прыжками. Арбалетчики Давародена выстроились без единой команды, с быстротой, удивившей капитана, пожалуй, больше, чем вид громадных псов. Четверо присели, четверо остальных прицелились над их головами. Давароден стоял рядом, словно на параде, держа арбалет обеими руками, вертикально перед лицом. Псы были от них в пятидесяти шагах. Высоко на склоне появился какой-то человек. Он крикнул, и псы остановились словно вкопанные. Однако было уже поздно, так как в это же мгновение Давароден спокойно бросил: — Рель! Стрелы помчались вперед, послушные громбелардской команде. Один из псов рухнул на землю, скуля, остальные три упали без единого звука. Солдаты тут же начали вновь натягивать тугие тетивы. Незнакомец — громадный, словно дуб, мужчина в просторном сером плаще медленно спускался по склону. Они поспешили ему навстречу, готовые к любым неожиданностям. Возле псов они задержались, но несколько поодаль, поскольку последний зверь, хотя и с двумя стрелами в спине, скалил зубы, пытаясь подняться… Давароден наклонил арбалет, желая прекратить его мучения, но Раладан, повинуясь некоему порыву, жестом остановил его. Давароден повернулся к своим людям, не спуская взгляда с приближающегося гиганта. — Плохо, — коротко, с укоризной сказал он. — Шлемы, господин, — объяснил один из солдат. — И доспехи. Командир кивнул, принимая оправдание. Раладан тоже понял, что имелось в виду. По мнению Давародена, закрытые шлемы для арбалетчиков были чем-то вроде недоразумения. Узкая щель затрудняла оценку расстояния. Шлемы подобного типа были вполне уместны в рукопашной схватке, так же, впрочем, как и кирасы — крайне неудобные для арбалетчиков. Ее благородие Семена не могла решить, хочет ли она иметь топорников или стрелков. Тем не менее Раладан не мог не оценить мастерства этих солдат: они ведь не сговаривались, лишь выучка заставила их выбрать цель. Каждый пес получил две стрелы. Человек в сером плаще — лысый как колено, похоже столетний, но необычно могучий старик — сначала склонился над псами. Жестом он успокоил раненого зверя, провел рукой над его головой, и пес застыл неподвижно. Однако заметно было, что он все еще дышит. Старик выдернул стрелы и коснулся ран. Лишь потом он тяжело выпрямился. — Зря, — грустно проговорил он на языке Кону. Он окинул взглядом скрытые шлемами головы солдат и остановился на лице Раладана. — Я вас не виню, вы не могли знать, что я их задержу. Я старею и уже не могу бегать так быстро, как когда-то. Раладан открыл рот, но старик поднял руку. Плащ откинулся, и все увидели, что второй руки у него нет. — Поговорим у меня. Давароден кивнул солдатам. Те тут же вырвали стрелы из неподвижных тел, очистили их, несколько раз воткнув в землю, протерли наконечники краями накидок и вложили в мешочки на поясе. Старик, несмотря на все еще заметное сожаление о гибели псов, с уважением посмотрел на них. Он коснулся плеча, где должна была быть рука. — Я потерял ее, когда служил в Громбелардской Гвардии, — сказал он. Командовал клином арбалетчиков, — добавил он, кивнув в сторону Давародена. — Правда, это было много лет назад. Рослый островитянин посмотрел сквозь щель в шлеме сначала на него, а потом на Раладана. Гвардейская колонна, в состав которой входил упомянутый отряд, была, что называется, элитарным подразделением… Великан калека был командиром лучших арбалетчиков в мире. Старик снова склонился над псом, после чего спросил, снимая плащ: — Поможете мне? Четверо солдат, с разрешения Давародена, отдали арбалеты товарищам и с некоторой опаской приблизились к басогу. Тот крепко спал. С усилием они уложили тяжелое тело на плащ и подняли его за четыре угла. — Осторожнее, — попросил Посланник. Он двинулся вперед, ведя их в сторону обнесенной стеной восьмиугольной башни. Весь путь они молчали. Массивные ворота были открыты. Давароден молча показал на двоих. Те остались снаружи. Точно так же он поставил двоих за стеной, у входа в башню. Увидев взгляд хозяина, он многозначительно направил арбалет в землю, словно говоря, что ничем не хочет его обидеть, а лишь делает свое дело. Тот кивнул в знак согласия. Раладан начал подозревать, что эти двое договорятся легче, чем он сам с командой «Сейлы». Пса оставили в маленькой комнатке внизу. Посланник, похоже, забыл о своих гостях. Он поискал что-то в стоявших у стен кувшинах, достал из ящика рулон странного, снежно-белого полотна. Старательно перевязав зверя, он намазал ему морду какой-то резко пахнущей пенистой смесью. — Это мой солдат, — коротко пояснил он, закончив. — Последний. Все кивнули. По крутой, утопающей в темноте лестнице они поднялись на второй этаж башни. Старик открыл тяжелую дверь. Обстановка каменного помещения потрясла вошедших. У стены стоял большой стол, устланный исписанными страницами. На нем также лежала невообразимых размеров книга; Раладан усомнился в том, что смог бы сдвинуть ее с места… Рядом с ней была другая, поменьше, открытая на страницах, заполненных одними лишь цифрами и непонятными знаками; но капитан «Сейлы» немного имел дело с этой странной, прекрасной наукой, и вид математических таблиц его вовсе не ошеломил. Он перевел взгляд дальше. Рядом со столом находилось кресло, точнее, глубокое сиденье, вырубленное в дубовом пне. Вдоль всех стен стояли полки, на полках же — книги… Раладан не предполагал, что на свете может существовать столько книг. За всю свою жизнь он видел их не больше нескольких десятков. Он умел читать (хотя понятия не имел, где этому научился), но, честно говоря, в основном названия островов и морей. С письмом дела обстояли хуже. Собственно, на самом деле он никогда по-настоящему не пробовал. Иногда он вносил поправки в карты, названия мог как-то нацарапать, а больше ему и не требовалось. Однако он знал, что в Армекте искусству письма обучается каждый ребенок… Сколько же, однако, нужно было изобразить букв, чтобы заполнить ими хотя бы одну книгу? Солдаты смотрели с еще большим изумлением, чем он. Давароден, так же как и Раладан, немного умел писать (без этого невозможно было стать офицером, а рослый арбалетчик когда-то всерьез подумывал о звании подсотника легиона). Они переглянулись. В комнате стояли еще три стола поменьше, на которых лежали обломки каких-то камней, разной величины и формы, засушенные листья и цветы, большие и маленькие кости и множество других предметов… Под каждым из них находился листок исписанного мелким почерком пергамента. Иногда таких листков было несколько, а иногда даже десятка полтора. Старик уселся в свое кресло. — Прошу простить, что занял единственное сидячее место, — сказал он, чуть шевельнув рукой. — Мой возраст дает мне подобную привилегию. Перед вами, — неожиданно улыбнулся он, — вне всякого сомнения, самый старый человек Шерера… Здесь, — он описал полукруг рукой, что могло в равной степени означать комнату, остров или весь Дурной Край, — меня называют Таменат-Посланник. Раладан хотел было что-то ответить, но старик опередил его, спросив: — Может быть, кого-то из вас зовут Гет-Хагдоб? Нет? А может быть, вам хотя бы знакомо женское имя, Риолатте? Раладан вздрогнул. — Да, господин, мне знакомо очень похожее имя… — сказал он; он хотел добавить что-то еще, но удержался. — Знакомо, — повторил он. Старик внимательно разглядывал его. — Ты ведь решил ничему не удивляться, не так ли, господин? Это очень мудрое решение, и оно лишь доказывает, что в жизни ты многое повидал. Неожиданно он вздохнул. — Значит, действительно Пророчество, — сказал он как бы про себя. — Я все объясню, — тут же предупредил он. — Однако не знаю, следует ли нам разговаривать в присутствии стольких людей? Раладан посмотрел на солдат. Давароден отрицательно покачал головой. — Господин, — заметил старик, — я восхищаюсь выучкой твоих людей, и притом как знаток. Но все вы находитесь в доме того, кого иногда называют магом, не знаю, впрочем, почему. Однако, если это поможет вам понять… Пойми, брат мой, арбалет здесь мало чем поможет. Давароден хотел что-то ответить, но Посланник, видимо, решил не давать слова никому. — Я не собираюсь с вами сражаться. Я хочу поговорить. Но только с одним, а не со всеми. — Забери своих, — сказал Раладан. — Подождите во дворе. — Зачем я тогда поднимался по этой лестнице?! — в гневе бросил арбалетчик. — Давароден, — настойчиво проговорил Раладан, — здесь командую я. Зачем ты заставляешь меня делать тебе выговор в присутствии твоих солдат? — Хотел бы упомянуть, — сказал Таменат, — что оба вы ошибаетесь. Здесь командую я. И я говорю: вояки, пошли прочь. Давароден снял шлем, словно лишь для того, чтобы все могли увидеть его гневный взгляд. Он с претензией взглянул в лицо капитану и кивнул солдатам. Обернувшись, он вытащил меч из ножен и протянул его Раладану. — Возьми, господин, — сказал он не терпящим возражений тоном. — А то эти твои ножи смешат меня до слез! Раладан ради спокойствия взял оружие, но, едва солдаты покинули комнату, тут же положил его на стол. — Это прекрасный солдат и друг, — сказал он, глядя на старика. — Вижу, — последовал краткий ответ. Раладан заложил руки за пояс. — Подавляющее большинство тех, кого я встречал за свою жизнь, — сказал Таменат, — смотрят на Посланников, словно на двухголовых быков… Однако я вижу, господин, что ты к таковым не относишься. Прежде чем мы начнем разговор, я хотел бы спросить: не встречал ли ты когда-нибудь такого же человека, как я? Если да, то что он говорил? Может быть, что-нибудь о Законах Всего? Мы бы сэкономили массу времени, если бы оказалось, что ты кое-что знаешь о Шерни и Полосах. — Я слышал о Законах Всего, хотя не стану делать вид, что многое из этого понимаю. Я действительно встречал… странного старика. Он не называл себя Посланником, но думаю, что он был им, так же как и ты. — Может быть, он назвал свое имя? — Нет… — Нахмурившись, он добавил: — Это бродячий музыкант-калека. Мы встретились в одной из гаррийских таверн. При нем был странный инструмент, я никогда такого не видел. Таменат слегка откинулся назад. — Это не был Посланник, — сказал он. Он как-то странно посмотрел на Раладана: — Не знаю, интересует ли это тебя, господин, но существо, о котором ты говоришь, старо, как сам Шерер… На протяжении веков оно появлялось много раз, и всегда там, где исполнялись пророчества Законов Всего. — Кто же тогда этот человек? — Существо, — подчеркнул Таменат. — Никто этого не знает… но он наверняка не человек. Они помолчали, каждый погруженный в собственные мысли. — Ну хорошо, господин. Теперь сперва скажи мне, что тебя привело в Ромого-Коор. Безымянная Земля, — пояснил он, видя удивление капитана. — Вы называете ее Дурной Край. — Ты, господин, — последовал ответ. — Мне поручено найти Посланника и попросить его о помощи. — Помощи в чем? Раладан объяснил. По мере того как он говорил, старик все шире раскрывал поблекшие глаза. Неожиданно он разразился хохотом, могучим, как и вся его фигура. — Нет, ради всех Полос, — тут же сказал он, словно стыдясь самого себя. — Прости меня… Ведь я знаю, что за этим должно крыться что-то еще. Но, господин, должен признаться, что мысль о том, чтобы просить человека, такого как я, о помощи при строительстве крепости, что называется, гм… весьма необычна! Точно так же, — добавил он, — как и использование в этих целях Брошенных Предметов. Да, Предметы, в вашем понимании, могут послужить хоть для постройки целого замка. Я против того, чтобы их выносили за пределы Края, но это делалось, делается и будет делаться, тут я ничем помешать не могу. Однако если уж им приходится служить иным целям, нежели те, для которых они были созданы, то, может быть, и в самом деле лучше, если с их помощью возведут крепость, чем станут ради потехи кувыркаться в воздухе, как когда-то шут дартанского короля, пользуясь (ты не поверишь, господин!) могущественным Пером… Должен, однако, тебе сказать, что строительство замков не является предназначением Предметов, даже если этот замок должен изменить судьбу империи. Моя задача — понять сущность Полос Шерни и дополнить Законы Всего. — Он положил руку на огромную книгу. — Я понимаю, господин, — сказал Раладан. — Но я также знаю наверняка, что этот замок и Законы очень сильно между собой связаны. — И я так считаю, — согласился Таменат. — Лишь поэтому мы с тобой все еще беседуем… Вернемся, однако, к имени Риолатте. Не ошибусь ли я, утверждая, что именно с него все берет начало? — Да, это правда, — ответил Раладан.50
Алида ждала… Подозрения Киливена, Первого Представителя Судьи Трибунала, постепенно превращались в уверенность. Она знала, что следует ожидать удара. Она ждала. Бездействие было мучительным, но иного выхода не оставалось. Вскоре должно было вспыхнуть восстание. Если бы удалось оттянуть развязку до его начала, всем проблемам был бы положен конец. Она надеялась, что это ей удастся. Ей не хотелось преждевременно предпринимать какие-либо действия с труднопредсказуемыми последствиями. Кем был этот человек? Ей никак не удавалось собрать о нем необходимые сведения. Странно. Армект был неблизок, но столь знатная фамилия должна была быть известна — в той или иной степени — даже здесь. Трудно предполагать, чтобы на столь высокий пост призвали откуда-то с армектанской Северной Границы какого-то магната-одиночку… Представительские дворы в провинциях все же вращались вокруг двора в столице. Если бы Киливен происходил из окружения императора — здесь бы о нем знали. Однако все было иначе. Она послала доверенных людей в Армект. Однако на подобное путешествие требовалось время. И вряд ли стоило предполагать, что, добравшись до места, они сразу же отправятся прямо на обед к императору, чтобы расспросить о господине Б.Н.А.Киливене… Сведения следовало собирать осторожно. Однако, несмотря ни на что, это продолжалось чересчур долго. Она уже начала терять терпение. Этим вечером она хотела лечь спать пораньше. Удобные апартаменты Трибунала вводили в искушение. После безнадежно нудного дня она чувствовала себя крайне уставшей. «Стареешь, дорогая», — привычно подумала она. Впрочем, на самом деле она ощущала себя моложе, чем когда-либо. В ее руках была власть, и притом власть столь огромная, каковой не имел, пожалуй, никто во всей провинции. Она любила власть и охотно признавалась в этом себе. Кто еще мог бы здесь составить ей конкуренцию? Князь-Представитель? Этот старик уже не в состоянии был управлять даже собственной прислугой. Он был у нее в руках, ибо у нее был Ганедорр… Вот умный человек, хороший организатор и кандидат в вожди восстания, а после его победы — даже во властители Гарры. Но не более того. Чтобы управлять по-настоящему, ему не хватало воображения. Нет, конечно, оно у него было… Но небогатое. Она расчесала волосы, тщательно уложила их, даже не глядя в зеркало. Она уже не могла позволить себе носить косу. Приходилось выглядеть… гм… благородно. Она рассмеялась. Власть шла ей на пользу. Она не только чувствовала себя молодой, но и выглядела моложе. Она любила нравиться (а кто не любил?). Другое дело, что в последнее время нравиться было особо некому. Неожиданно мысли унесли ее в прошлое, в Ахелию. Почему воспоминания о тех временах оказались столь прочными? Она охотно бы стерла их из памяти. Раз и навсегда. Воспоминания о величайшем проигрыше в ее жизни. Она заметила, что на ней голубое платье — такое же, как и тогда, много лет назад… Она ему нравилась. «Глупость, — констатировала она. — Ну да, глупость, и ничего больше… Скажи, Алида, что ты такого могла найти в том человеке? Ну скажи? Сколько тебе, собственно, лет, дорогая? Четырнадцать? Смешной самообман?» Вот только, естественно, это вовсе не было смешным самообманом. Она не могла обманывать себя почти девять лет. Она знала о мужчинах все, что можно было о них знать. Ничего сложного, этого было не так уж и много… Обменявшись с кем-нибудь парой слов, даже просто взглянув на него, она наверняка могла сказать о нем больше, чем его родная мать. Почему же именно этот и никто другой? Что у него было такого, чего не было у других? Живот, твердый, как из железа? Ведь не в живот же она влюбилась! О да, этот живот она помнила… Что в нем было такого? Ну что, что непонятного?! Какой-то пират! Из задумчивости ее вывела служанка, сообщившая о прибытии гостя. Алида мгновенно пришла в себя. Ей трудно было бы жить без рискованных игр, и все же она почувствовала, как сердце забилось сильнее. Б.Н.А.Киливен, Первый Представитель Верховного Судьи Трибунала. Он никогда прежде к ней не приходил. Значит, развязка! Алида прошла в комнату рядом, где всегда принимала гостей. Она приветствовала его сидя, в довольно непринужденной позе. — Чем обязана?.. — спросила она, не пытаясь скрыть неприязни, даже скорее ее подчеркивая. Она знала, что подобное поведение раздражает. Гость слегка поклонился: — Прошу прощения, госпожа, если помешал. Однако дело, с которым я пришел… — Не терпит отлагательства, — почти зевнула она. — Именно так, — помолчав, подтвердил он. Он продолжал стоять, выжидающе глядя на нее. Сесть она ему не предложила. — Только что, — сказал он, видя, что долгие вступления ни к чему, — по моему приказу арестован господин судья Ф.Б.Ц.Нальвер. В ее голове пронеслось сразу несколько мыслей. Он застал ее врасплох, но скрывать это ей было незачем. Она встала. — Что это значит? — с ужасом спросила она. — Это значит, госпожа, что я пришел за твоей откровенностью. Он сел, не ожидая приглашения, и откинулся на спинку кресла. — Не понимаю? — бледнея, сказала Алида. — Не притворяйся, госпожа. Ваша хитрость достойна похвалы, но игра окончена. Сначала, думаю, стоит кое-что объяснить, поскольку мне кажется, что твои люди в Кирлане не оправдали возложенных на них надежд. Я специальный посланник его величества императора. Мои полномочия неограниченны… Он дал ей переварить услышанное. — Что означает, — добавил он, — что я могу с одинаковым успехом как отрубить тебе, госпожа, голову, прямо здесь и сейчас, так и приказать потопить все корабли Главного Флота или же снять с должности Князя-Представителя. Я могу столько же, сколько и император. Не меньше. Слова его потрясли ее не настолько, как она делала вид. Однако она вынуждена была признать, что они обладают определенным весом. Внезапно она заметила, что стоит, в то время как он сидел… Хорошо. Пусть так и будет. «Я пришел за твоей откровенностью», сказал он. Ерунда. Он пришел за собственным успехом… Она это знала. Каждый, достигнув цели, желает получить минуту радости. Удовлетворения. «Говори, говори… — подумала она. — Позабавимся немного». — Я знаю, что судьба Верховного Судьи мало интересует тебя, госпожа, сказал он, вытягивая ноги. — Это лишь завеса, под которой ты ведешь собственную игру. Уверяю, мне все известно. Но я до сих пор не понимаю, на что ты, собственно, рассчитывала после восстания? Она решила, что стоит ему об этом сказать. — Может быть, мне хотелось занять место Нальвера? После победы восстания многое изменится, но такие организации, как эта, всегда будут нужны. — Ты и в самом деле верила, госпожа, что восстание может закончиться победой? — Верила? Нет, господин, я просто умею считать. Старого Князя-Представителя заботит лишь гарнизон в Дороне, и никакой другой. Уже, наверное, полвека Гаррийский Легион не был столь немногочислен. Не говоря уже о морской страже. Я умею считать, господин. И я знаю, что если с одной стороны поставить четверых, а с другой двоих, то эти двое наверняка проиграют. — Не всегда, — заметил он. — Но, честно говоря, я разделяю твое мнение. Особенно если говорить о состоянии войск и флота в этой провинции. Однако я боюсь, госпожа, что твои расчеты… основаны на ложных предпосылках. Это у меня четверо, а не у тебя. — Значит, кто-то из нас считает неверно, — согласилась она. — Думаю, этот спор нам не решить. Во всяком случае не сейчас. — Это правда. Боюсь, однако, что, когда настанет час развязки, ты уже не сможешь признать мою правоту, госпожа. Разве что… — Он замолчал. — «Разве что» — что, господин? — Разве что ты исправишь причиненное зло, госпожа. — Каким образом? — О, самым простым. Мне известно очень многое, я знаю даже настоящий срок начала восстания. Но ведь я не знаю всего. И открыто в этом признаюсь. — И ты считаешь, господин, что то, чего не знаешь ты, знаю я? — Именно так. Она задумалась. — Благородный господин, — сказала она, не скрывая любопытства, — скажи мне, кто ты еще? С глазу на глаз… Ибо то, что ты посланник Кирлана, я уже знаю. — Скажем так… человек, когда-то особо рекомендованный Князю-Представителю Императора в Роллайне. — Рекомендованный кем? — Госпожой Б.Л.Т.Еленой. Это о чем-либо говорит? — Внебрачный сын Баватара и Елены. — Она с улыбкой посмотрела на него. — Мне следовало догадаться! Он нахмурился: — Я тебя недооценил, госпожа. — О нет, — почти весело сказала она. — Зато я, господин, слишком тебя переоценила… — Было бы ошибкой предполагать, — резко бросил он, — что в Кирлане кто-либо поверит в то, что господа Елена и Баватар торговали должностями! Громадной ошибкой! — Согласна, — ответила она. — Но, но… Ведь ты, господин, попросту ублюдок? Она продолжала стоять, но вдруг оказалось, что так ей легче смотреть на него свысока. Он вспыхнул гневом: — А ты кто? Может быть, хочешь, чтобы я тебе рассказал? — Шлюха, — с наслаждением проговорила она. — Гулящая девка, проститутка, публичная баба. За деньги дам даже псу. — Она приоткрыла рот и провела кончиком языка по зубам. Когда он вскочил с кресла, она лишь насмешливо фыркнула. — Ну, господин… Хочу лишь об одном еще спросить: как могло так случиться, что из Кирлана присылают человека, может быть, и неглупого, но не имеющего никакого понятия, как следует разыгрывать подобные партии? Неужели в столице утратили всякое чувство реальности? Здесь должно вспыхнуть восстание, слышишь, парень? Восстание, не пьяная драка! Ты знаешь, сколько интриг и специальных мер требует подготовка почвы для мятежа целой провинции? Этим занимаются и должны заниматься люди, для которых ложь — профессия! Профессия и страсть! — Я не лжец ни по профессии, ни по пристрастию, — заявил он. — Это самое главное различие между нами. Однако моя миссия выполнена. Идем, госпожа. Солдаты ждут у дверей. — Солдаты? Гаррийская Гвардия будет конвоировать женщину? — Не женщину, а изменницу и проститутку. Она вздохнула: — Не женщину? Ну ладно. Сколько тебе лет, мальчик? Эй, бравый страж, проговорила она, не меняя тона. — Крепко спишь? — Я не сплю, госпожа, — ответил великан, выходя из-за портьеры и поднимая арбалет. — Не посмеешь, — язвительно проговорил Киливен. — Уверяю тебя, хлопот не оберешься. За дверью… — Вот именно, за дверью. А не за портьерой. Умоляю, ничего больше не говори, господин, твоя наивность начинает утомлять… Хлопоты? Разве может их быть у меня больше, чем уже есть? — Мои полномочия… — Только что закончились. — Она подошла к слуге, коснувшись его руки. Это не слуга, — сказала она, — это друг. — И что ты с ним делаешь, когда ему не следует слышать чужих разговоров? — спросил Киливен, видимо желая выиграть время; в голосе его уже не чувствовалось легкости. — Он может слышать и видеть все. — Она покачала головой. — Если бы ты, мальчик мой, увидел хотя бы половину того, что видел он, ты от одного этого стал бы мужчиной… Ну ладно, хватит этих разговоров с мертвецом. — Убить, госпожа? — Конечно. Арбалет выплюнул стрелу… и Киливен даже не вскрикнул. Она спокойно удостоверилась, что он мертв. — Теперь слушай, — сказала она. — Это войско перед дверью должно исчезнуть. И поскорее. Движением головы слуга показал на окно. — Угу, — согласилась она. — Через дверь тебя не выпустят. Этого я пока спрячу за портьерой… Я справлюсь, иди. Поторопись! Он наклонился, вырвал стрелу из трупа, голыми руками натянул тетиву и коснулся ее плеча, подавая оружие. Она взяла арбалет. Великан подошел к окну, выглянул наружу и вышел в мрак летней ночи. Алида осталась одна. Она основательно намучилась, но тело оказалось чересчур тяжелым. Она позвала служанку, и они вместе оттащили труп за портьеру. Потом она приказала перепуганной девушке смыть кровь с пола. — Хорошо, — сказала она, когда пятно исчезло. Потом показала в сторону своей спальни: — Теперь иди туда. И не выходи. Служанка повиновалась. Алида подумала, что нужно будет ее убрать. Она была новенькой. Алида села и принялась нетерпеливо ждать. Время, время! Те солдаты за дверью могли войти в любой момент. Приходилось считаться и с такой возможностью. Впрочем, проблемы на этих нескольких гвардейцах не заканчивались. О, они только начинались! Она не знала, какие меры успел предпринять Киливен. Наверняка были те, кто ему обо всем докладывал, вряд ли он действовал в одиночку. О нескольких его доносчиках она знала. Но, похоже, лишь о наименее важных… Очевидным казалось лишь одно: восстание должно начаться как можно скорее. Ждать больше нельзя. Следовало передвинуть сроки. Прежде чем начнутся настоящие проблемы. Она сидела вцепившись пальцами в волосы. Снова бездействие. Но уже не надолго… «Почему ублюдок служит делу своей матери? — мысленно спросила она сама себя. — И отца?» Она пожала плечами. Офицер, командовавший гвардейцами в здании Трибунала, был человеком повстанцев. Он должен был уже появиться и забрать своих людей. Пусть удивляются — не имеет значения, самое большее посидят в карцере сколько понадобится, хотя бы и месяц… Но пусть хоть немного поторопится! Время подгоняло, ей нужно было немедленно увидеться с Ганедорром. В дверях стоял великан слуга. Наконец-то! — Путь свободен, госпожа. Она встала. — В спальне та малышка, — сказала она. — Займись ею. Если хочешь, можешь развлечься. — Ничего не получится. — Он показал на беспомощно свисающую руку. — Я вывихнул плечо, не умею лазить по карнизам. Иди, госпожа. Похоже, у тебя мало времени? Внезапно она притянула его за шею к себе и поцеловала, как брата. Потом почти бегом бросилась к выходу, но остановилась. — Почему ублюдок служит делу своей матери? — спросила она, повернувшись к слуге. — И отца? Людей, которые от него отреклись, боясь за собственную репутацию? Скупым жестом слуга показал на портьеру. — Потому что он честный человек, — не задумываясь ответил он. — Поэтому его сюда и прислали. Сколько всего честных людей в Кирлане? Она кивнула в знак согласия.51
Старик утомленно потер глаза. — Что же мне сказать тебе, господин? — угрюмо проговорил он. — То, что поведал тот музыкант, как ты его называешь, — правда. Но, к сожалению, не вся. — Не думаю, чтобы этот человек мог ошибаться. — Он и не ошибался, он просто лгал. — Лгал? — Лгал, уверяю тебя. Во-первых, каждая из женщин, о которых ты говоришь, действительно лишь часть Рубина, но часть совершенно независимая, и никакого перетока силы между этими частями нет и быть не может. Во-вторых, Шар Ферена не изменит твоей дочери, ибо не сможет, подобно Рубину, завладеть другим телом по той простой причине, что он является не более чем свернутым Светлым Пятном Шерни, и, перестав быть Пятном, он перестает существовать вообще. Раладан стоял, не в силах пошевелиться. — Впрочем, ни один Предмет не может существовать в отрыве от первоначальной своей сущности, за исключением лишь Рубина или, вернее, Рубинов, ибо это единственные Предметы, различающиеся величиной, формой и свойствами. Как видишь, господин, мы говорим о двух Брошенных Предметах, которые, собственно, таковыми вовсе не являются. Ты знаешь, что такое Брошенные Предметы? Это орудия, послужившие для создания разума. Они отражение Полос Шерни, каждый Предмет символизирует какую-либо из Полос или несколько Полос. Описывая его с помощью чисел, мы получаем математическую модель Полосы или нескольких Полос Шерни. Иногда эта модель точная, иногда приближенная… Я не в силах объяснить всего в двух словах, но, может быть, достаточно будет сказать, что Шар никакой не символ, а, по сути, сама Полоса, вернее, малая часть Светлой Полосы; это Пятно, вещество, из которого был создан Ферен. Стена. Преграда, имеющая целью лишь одно: не дать Проклятым Полосам вернуться в существо Шерни. А отражением Проклятых Полос как раз и является Рубин. Твой старик калека дал тебе прекрасный совет, как уничтожить Рубин и тем самым убить ту девушку. Ты явился сюда, чтобы найти одну-единственную вещь на свете, которая служит исключительно для уничтожения Проклятых Полос Шерни. И ни для чего больше. Раладан молчал. — Почему? — наконец очень тихо спросил он. — Почему меня обманули? — Не знаю, господин. Могу лишь догадываться. Думаю, нечто хотело помешать Законам, а это могущественное таинственное существо, похоже, стоит на их страже… Просторы ведут войну с Проклятыми Полосами… а может быть, напротив, заключили с ними союз. Никто не в силах этого понять. Тем не менее Просторы играют тут важную роль. Важную для Шерни. Шернь, через посредство Стража Законов, пыталась повлиять на Просторы. — Просторы? А какое это имеет отношение ко мне? Старик снова потер глаза. — В рассуждениях одного из древних мудрецов есть замечание о Просторах и Проклятых Полосах, — сказал он. — Вчера я обнаружил в этом замечании Пророчество. Это неизмеримая редкость. И я не знаю, было ли Пророчество когда-либо столь однозначным. Скажу тебе, господин, что мне оно показалось даже чересчур однозначным. В нем называются имена… Мудрецы-Посланники люди и, подобно любым людям, имеют право ошибаться. В этой книге есть заметки, — он показал на гигантский том, — которые порой можно счесть просто глупыми или вообще лишенными всякого смысла. Фрагмент, о котором я говорю, еще неделю назад я принял бы за обычный бред… — Он махнул рукой. — Что-то я разболтался. Это все от старости. И одиночества. Много лет я разговариваю лишь с этими книгами и своими псами… Имена, господин. Помнишь, я называл имя Гет-Хагдоб? На древнем языке Громбеларда это означает: Властитель (Властительница) Рубинов. Дословно Единственная Госпожа. Как ты знаешь, Риолатте — имя этого Предмета в старогромбелардском звучании. Я не спрашивал о третьем имени, ибо сама мысль о том, что кто-либо мог его носить, показалась мне попросту фантастичной… Именно из-за этого имени я сомневался в Пророчестве. Если оно настоящее — это означает, что в распоряжении Просторов сила, о существовании которой до сих пор никто даже не подозревал… — Что же это за имя? — Гхаладан. Раладан поднес руку ко лбу: — Ради Шерни… это мое имя. Старик кивнул: — Я уже не могу сомневаться в Пророчестве… и тем не менее все же колеблюсь. Скажи, господин, и обнадежь меня: возможно ли, чтобы ты был сыном властелина Просторов? Раладан потер лицо, словно пытаясь отогнать дурной сон. — Что означает это имя? — глухо спросил он. — Что? — Морской Змей, господин. Раладан наклонился, как от удара, все еще прижимая руки к лицу. Внезапно он увидел день собственного рождения, когда его расспрашивали, кто он, как оказался среди волн… Он понял, откуда пришло знание о тысячах подводных скал и мелей, которые он когда-то должен был видеть собственными глазами там, в глубинах… Он понял, откуда ему известно о штормах и течениях и почему судьба странным образом, казалось, всегда хранила его на море. Наконец, он понял как нечто само собой разумеющееся, почему здесь, в Пустом море, куда не простирается власть Просторов, его оберегают самые грозные создания соленых вод — зубастые черно-белые гиганты… Он медленно выпрямился. — Я ничего не знаю, — с усилием проговорил он, — кроме того, что меня породили Просторы, и я понимаю их лучше, чем кто-либо из живущих. Я видел… видел морского змея. Сразу же после того, как меня вытащили из воды. Старик положил на стол свою единственную руку. — Значит, ответ у нас уже есть. Раладан подошел к узкому окну и посмотрел на море. Молчание, казалось, длилось целую вечность. — И что же из этого для меня следует? — наконец спросил Раладан, уже овладев собой. — К чему мне эта правда, господин? Я ее отвергаю… Ячеловек и ничем иным быть не желаю. — Однако Законы Всего утверждают иначе, — покачал головой Посланник. — Какое мне до них дело? Почему я должен им подчиняться? — А почему нет? Зачем тебе с ними бороться? Тем более что они неясны как никогда и трудно понять, о чем они, собственно, говорят… Капитан кивнул: — Есть причина. Серьезная причина, господин. Человек, или существо, если тебе так больше нравится, которому я поверил, обманул меня, когда я просил о помощи в самой важной в моей жизни борьбе… Скажи, господин, это Законы велели мне полюбить ту девочку? Если так, то почему же теперь они ее у меня отобрали? Если нет, то пусть оставят ее в покое. Я не хочу таких Законов, я отвергаю их, господин, и все, что они с собой несут. — Законы не могут быть хорошими или плохими, — сказал старик. — Они описывают сосуществование сил и миров, не более того. — Пусть себе описывают. Шернь, Проклятые Полосы, в конце концов, сам Шерер… Все это мне совершенно безразлично, господин. Ты лишил меня надежды… — Скоро ты увидишь свою дочь, — неожиданно сказал старик. — Больше я тебе ничего не скажу, поскольку ничего больше не знаю. Но этот год — год замыкания петли. Все, что началось девять лет назад, должно теперь закончиться. На Агарах. По крайней мере, должно быть так. Не дело Посланника вторгаться в Законы, хотя ты, конечно, можешь с ними бороться. Но сделай это как можно позже, ибо пока что все идет в соответствии с твоими мыслями. Ведь ты хочешь найти ее, не так ли? Отчаянные поступки вслепую могут этому помешать. Так что плыви по течению до тех пор, пока не сочтешь, что дальше плыть не желаешь. Вот мой совет… впрочем, может быть, и глупый. Плохой из меня мудрец-Посланник. Я должен был стать солдатом, но оказался чересчур любопытным… И вот наказание — впустую потраченная жизнь. Повинуясь неосознанному порыву, Раладан подошел к дубовому креслу. Старик тяжело поднялся и положил ему большую ладонь на плечо. — Поплывем вместе, господин, — от всего сердца предложил капитан. — Не знаю, сын мой. Скоро я умру… Чтобы моя жизнь не была прожита совсем напрасно, я должен заполнить хотя бы несколько страниц в этой книге. Они разошлись на несколько шагов. Невысокому Раладану пришлось задрать голову, чтобы взглянуть в глаза рослому старику. — Ради Шерни, господин, — сказал он, желая хотя бы ненадолго отогнать черные мысли, — за всю свою жизнь я видел лишь одного человека, равного тебе ростом… Может быть, он не был мудрецом, как ты, но я им искренне восхищался. А еще больше, пожалуй, его приятелем, который стал мне другом, хотя и был котом… Лицо Посланника окаменело. — О ком ты говоришь? — резко, почти враждебно спросил он. — О громбелардском горце, — ответил Раладан, неприятно пораженный тоном старика. — И коте, который был к тому же и магнатом… Однорукий гигант опустился на свой пень. — Где ты встречал этого горца? Это мой сын, — тихо проговорил он. Раладан отступил на шаг назад. — Может быть, Давароден знает больше, — закончил свой рассказ Раладан. — Он несколько лет прослужил в Тяжелых Горах… — Давай его сюда, — потребовал по-настоящему обрадованный старик. Вскоре несколько сбитый с толку арбалетчик давал отчет о своей службе в Громбелардском Легионе, точнее говоря, обо всем, что касалось Басергора-Крагдоба. — Вот прохвост, — с нескрываемым удовольствием сказал Таменат. — И всегда с двумя мечами, говоришь? — Так я слышал, — подтвердил арбалетчик. — Один обычный, а другой очень длинный и узкий… Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь носил такой меч, мне кажется, столь длинный клинок должен быть довольно слабым? Раладан покачал головой: ему приходилось видеть подобные мечи в бою. Старик встал и вышел из комнаты. Слышались его тяжелые шаги, когда он поднимался на следующий этаж башни. Вскоре он вернулся, неся под мышкой множество разнообразного оружия. — Это тарсан, — сказал он, продолжая сиять от радости. Он вытянул руку, в которой блестел узкий серебристый клинок. — Знаешь, что означает «тарсан», солдат? — спросил он. Арбалетчик кивнул: — То же, что и ахал… Убийца. — Старое оружие, которым почти не пользуются уже несколько веков. Это меч только для уколов, но посмотри на его основание — оно совершенно тупое, зато толще и прочнее, чем остальной клинок. Он примет на себя удар любого другого меча. Когда-то в Тяжелых Горах жило могущественное племя шергардов. Искусство боя двумя мечами погибло вместе с ними. Однако не сразу. И не полностью… Я знал одного из последних мастеров владения этим оружием. Лучше не спрашивайте, когда это было. Скажу лишь, что последние двадцать с лишним лет я провел, правда с перерывами, именно здесь. Раладан и арбалетчик переглянулись. — Два века, — тупо проговорил островитянин. — Столетие с небольшим. Я же говорю — «с перерывами», и это потому, что… в общем, нелегко выдержать… Многие Посланники решили, что взвалили на себя непосильную ношу; неустанное углубление сущности Полос и природы Законов и в самом деле неблагодарное занятие. Было время, когда я хотел вернуться в мир. И я вернулся, отказался от своего знания, возвратил Шерни полученные от Полос дары и стал громбелардским арбалетчиком. Как раз двадцать с небольшим лет назад. Моих лет. Я был другим человеком. — Он нахмурился. — Общение с Шернью позволяет долго сохранять силы и здоровье, в возрасте семидесяти лет я выглядел на сорок. Однако в конце концов всегда наступает время, когда нужно вернуть Полосам их дар. Для меня это время наступило несколько лет назад. За год я стал старше на двадцать лет… — Он махнул рукой, отгоняя мрачные мысли. — Но раньше, тогда, я жил на широкую ногу, упрекая себя лишь за то, что раньше не сбросил мантию мудреца-Посланника. Однако женщина, с которой я хотел прожить жизнь, умерла, перед этим подарив мне сына… — Тень старой грусти пробежала по лицу гиганта. — Я никогда и никому об этом не говорил, — продолжил он, обводя взглядом своих гостей. — Если говорю теперь, то лишь потому, что у моего сына и у тебя, господин, — он посмотрел на Раладана, — похожее прошлое. Глорм, ибо таково его настоящее имя, тоже ничего не знает о своем отце, происхождении, детстве… Давароден посмотрел на своего командира. — Человек, долго общавшийся с Шернью, не может безнаказанно плодить потомство. Я хотел обмануть Полосы. Ничего не вышло. Наверняка вы много раз слышали о детях «магов». Это правда, они всегда не такие, как все. Иногда с физическими недостатками, иногда просто злые… а чаще всего именно другие… Шернь иногда отмечает их темным пятном на лбу. Есть оно и у моего сына. Под волосами. Я сделал пятно малозаметным и думаю, что он до сих пор о нем не знает. Он покачал головой. — Мой сын тоже был другим, — продолжил он после недолгой паузы, видимо желая побыстрее закончить свой рассказ. — Он не мог жить за пределами Безымянной Земли… Дурной Край был для него краем добрым. В любом другом месте он медленно умирал. Я воспитывал его здесь, пытаясь найти способ вернуть его в мир. И я нашел его. Но мальчику пришлось потерять память. А я именно тогда начал стареть, день ото дня. Я отвел двенадцатилетнего, но рожденного столетие назад мальчика в Громбелард, сам же вынужден был вернуться сюда, иначе моя задержавшаяся старость вогнала бы меня в могилу за несколько дней, в то время как здесь, в Крае, можно было переждать этот самый тяжелый период. Я получил от Шерни причитавшиеся мне годы, а потом… потом были именно те перерывы, о которых я говорил… Я покидал Край. Именно тогда в Громбеларде молодой, крепкий как скала парень встречал порой громадного, как он сам, старика, который рассказывал ему, что такое тарсан, что такое Шернь… но никогда не говорил ему, кто его отец… Посланник опустил голову и отвернулся. — Я поплыву с вами, — сказал он. — Я уже сыт по горло копанием в этой книге. Честно говоря, я давно уже жду какого-нибудь повода… Если я не воспользуюсь этим случаем, то через несколько месяцев сдохну на этом пне, безнадежно и бессмысленно — так же, как и жил… Я сам себе обязан за свою откровенность. Хорошо, что вы пришли. Все молчали. Посланник внезапно протянул руку к столу, на который положил принесенное оружие, взял тяжелый арбалет и подал его Давародену. — Держи, солдат, — хрипло проговорил он. — Такого нигде не найдешь. И не косись на меня за то, что я выставил тебя сегодня за дверь. А ты скоро найдешь свою малышку, — обещал он Раладану. — Я же… возможно, будучи в гуще событий, сумею лучше понять сущность Законов Всего. И может быть, именно тогда мне придет в голову что-нибудь такое, что стоит здесь записать. А если нет, то… — Он с грохотом захлопнул книгу. Словно гроб.52
Впервые они встретились с глазу на глаз. Семена ходила по комнате. Алида сидела, спокойно выбирая дартанские изюминки с большого блюда, полного разнообразных фруктов. — Это невозможно, — сказала Семена. — Это неизбежно, — столь же лаконично ответила Алида. — Послушай, госпожа, восстание должно было начаться… — Я знаю, когда оно должно было начаться. Но оно начнется раньше. А именно через неделю. Если мы будем придерживаться прежних сроков, нам придется иметь дело с Большим Флотом Армекта. Единственное, что мы можем сделать, — ускорить ход событий. Есть надежда, что нам удастся победить войска провинции, прежде чем придет подкрепление. Тогда дадим отпор и им. Если они сами не отступят. Судя по сведениям, которыми я располагаю, это должны быть достаточно большие силы. Достаточно большие, однако, лишь для усиления местных гарнизонов, но слишком малые для того, чтобы самостоятельно вести войну со всей Морской Провинцией. Если они отступят у нас будет целая осень для передышки. В соответствии с планом. — А если Кирлану удастся усилить Большой Флот еще до наступления осени? Например, дартанскими эскадрами? — Ну хорошо, госпожа. Жду твоих предложений. Ситуация ясна: Большой Флот Армекта сосредотачивается в Бане, — может быть, уже сосредоточился, может быть, уже идет сюда… Что будем делать? Представь мне свой план, и подумаем. Семена стиснула зубы. Действительно… Что она могла ответить? Чтобы восстание имело хоть какие-то шансы на успех, нужно было атаковать немедленно. Но это должно было повлиять на ее планы. Итак, ей предстояло нанести удар по Агарам почти на месяц раньше, чем она намеревалась. Почему? Очень просто… Ее план опирался именно на восстание. Отряды мятежников должны были занять большинство городов и все порты Гарры. На ее долю выпала одна из самых трудных задач: овладеть Дороной, то есть сразиться с лучшим войском на острове, если не принимать во внимание сотни гвардейцев в Дране… До недавнего времени предполагалось, что часть войска в Дороне пойдет за Аскаром. Ну что ж… Она верила, что справится и без Аскара. Потом она намеревалась с помощью своих наемников завладеть имперскими кораблями, захваченными во время восстания. Они были ей нужны. Недавно она купила три старых фрегата (за золото своего отца), но на одном из них все еще заменяли такелаж; он стоял в Тарвеларе, на Закрытом море, в лучшем случае — как раз выходил оттуда. Возвращения же другого, из Дартана, она ожидала самое раннее через месяц. Однако независимо от того, были ли бы у нее под рукой все ее корабли или нет — три фрегата, а также старый барк и «Сейла» (последние могли не вернуться из Дурного Края), — подобного флота, возможно, было достаточно, чтобы захватить Агары, но не для того, чтобы их удержать! Переговоры с пиратскими командами шли трудно в связи с предпринимаемыми обеими сторонами мерами предосторожности. Кроме того, участие пиратов в войне за Агары она предполагала лишь весной будущего года. Прежде всего потому, что… у нее не было золота! Расходы были просто гигантскими, лишь недавно она осознала, каких на самом деле затрат требует содержание трехсот пятидесяти человек, не считая даже стоимости необходимого имущества. Риолата оставила ей в наследство несколько успешно действовавших торговых предприятий, основательно, правда, разоренных Раладаном. К доходам от торговли добавлялись сокровища Демона ну и еще то, что ей удалось сэкономить для себя из повстанческой казны. И все мало! Две сотни огнестрельной пехоты и сотню арбалетчиков обучил для нее еще Аскар (и теперь невероятно трудно было сохранить в тайне сам факт существования такого количества обученных для боя людей). Но пятидесяти топорников, которые были ей необходимы, — не было… Она хотела собрать их в последний момент, чтобы сэкономить хотя бы на жалованье. Оружие у нее было. Конечно, банда оборванцев в доспехах не могла представлять особой ценности. Но золото, золото! Где его взять?! Три старых фрегата и затянувшийся ремонт одного из них поглотили последние сбережения. Поэтому она не могла нанять пиратов. Впрочем, даже если бы и могла… Собственный флот все равно был необходим. Если его у нее не будет, то кто защитит ее саму от таких союзников, как Броррок? Ей нужны были корабли. Тем более что сейчас в ее распоряжении не было ни одного! Совершенно нереальным было привести какой-либо из этих парусников на Гарру за достаточно короткое время, чтобы от него была польза во время восстания. Хотя бы для бегства, если бы что-то пошло не так, как надо. Корабли нужно было захватить! И она могла их захватить. Но только в начальный период восстания, во всеобщей суматохе. Потом это стало бы сложнее или вовсе невозможно. Кроме того, любое промедление означало, что ее люди, которых она обучала и содержала с мыслью об Агарах, будут втянуты в сражения с имперскими легионами, возможно длительные и наверняка кровавые. Сколько их останется для ее целей? И вот теперь выясняется, что, захватив Агары, она вынуждена будет хранить этот факт в тайне целый месяц, прежде чем осенние штормы не отрежут острова от остального мира! Возможно ли это? Конечно да, в отношении Кирлана… Ведь весь план в значительной мере держался на том, чтобы как можно дольше обманывать империю. Но удастся ли обмануть повстанцев? Людей, у которых она уведет прямо из-под носа столь необходимые им захваченные корабли? Которых она поставит в тяжелое положение, забрав несколько сотен своих людей? Ведь их будут преследовать. Если бы все разыгрывалось в соответствии с первоначальным планом, то есть за две-три недели до штормов, она могла быть уверена, что преследующие ее эскадру корабли вернутся назад или же, напротив, заберутся слишком далеко и не успеют вернуться на Гарру до начала бурь. Впрочем, даже если бы выяснилось, что цель ее — именно Агары, это не имело бы большого значения. Однако новая ситуация превращала все эти расчеты в пустые рассуждения, не имеющие никакой ценности. Если вожди восстания узнают, куда пошли захваченные парусники, естественно, они сделают все, чтобы об этом услышал Кирлан. Хотя бы лишь затем, чтобы отвлечь внимание империи от Гарры. И затем, если восстание добьется значительных успехов раньше, Армект может счесть, что поспешное вмешательство ничего не даст. Подготовка к войне пойдет полным ходом, но война начнется лишь зимой. Однако Армекту хватит сил и средств, чтобы отправить ко дну несколько кораблей, которые будут у нее на Агарах. Император не дурак, он с легкостью сообразит, что позднее, ведя борьбу с Гаррой, он не скоро сможет позволить себе агарскую авантюру… Неделя времени! Ради Шерни, едва неделя на то, чтобы составить новый план! Нужно было немедленно завершить все дела, продать все, что можно, ибо потом, когда вспыхнет восстание, никто не даст и серебряного слитка за каменный дом в Дороне… Алида зевнула. — Ты все продумала, госпожа? — спросила она. — Что еще за сомнения? Насколько я знаю, подготовку, если не считать мелочей, ты закончила уже давно. Перенос срока имеет определенные преимущества, все труднее сохранить происходящее в тайне… Семена кивнула. В этом они были согласны… Ее стрельцов и арбалетчиков никто не держал в казармах. Они получали жалованье, но болтались естественно, без оружия — по всему острову и делали что хотели. Говорили они тоже что хотели… Ходили какие-то слухи, а в гарнизоне, похоже, всерьез начали задумываться о том, что означают странные разговоры о новом оружии, якобы лучшем, чем арбалет… Этим уже собирался заняться доронский Трибунал, но Алиде каким-то образом удалось не дать делу хода. Однако она не могла ни в чем упрекнуть свое войско. И снова — ей не хватало Аскара. — Захвати столицу, — сказала Алида, — а об остальном не беспокойся. — Конечно, — ответила Семена. — Просто изменение срока меня несколько удивило. Ты же знаешь, госпожа, что у меня собственное дело. И восстание не принесет ему ничего хорошего. Но — что поделаешь. С голоду скорее всего не помру. — Об этом тоже не беспокойся. Займи столицу, а после освобождения Гарры найдутся люди, которые позаботятся о твоем благополучии, — заверила ее Алида. «Ты что, на самом деле веришь в победу? — мысленно спросила Семена. — Я считала тебя более разумной». — Город будет взят. — Да, кстати… — Алида бросила в рот горсть изюма. — Еще одно: Багба под твоим контролем? — Конечно. Так, как мы договорились. — Значит, госпожа, ты будешь согласовывать действия в Багбе и в Дороне. В помощь получишь двух человек — одного там, другого здесь. Семена метнулась к столу, за которым сидела блондинка. — Что это значит? — яростно спросила она. — Ничего, кроме того, что я уже сказала, — удивленно ответила Алида. Что случилось, моя дорогая? — Ты прекрасно знаешь, что случилось! — Семена отступила к стене, словно для разбега. — Хочешь за мной следить? Алида с легкой улыбкой раздавила изюминку между пальцами и облизала их. — Скажи, госпожа, почему ты меня терпеть не можешь? — Взаимно, не так ли? — скорее утвердительно, нежели вопросительно сказала Семена. — О да… — Блондинка почти кокетливо посмотрела на нее. — У тебя, госпожа, натура шлюхи. Этого я не могу терпеть ни у кого, кроме себя. Семена снова подскочила к столу и смахнула с него блюдо. Фрукты покатились по полу, дождем посыпались изюминки. — Не знаю почему, — прошипела она, — но когда кто-то сравнивает меня со шлюхой, у меня возникает желание скормить его сердце псам. Алида вздохнула. Не похоже было, что услышанное произвело на нее хоть какое-то впечатление. — Ну ладно… Мы ведь нужны друг другу, правда? Семена взяла себя в руки. — Конечно. К сожалению. — Тогда обсудим детали. Осталась всего неделя.53
Они возвращались. «Сейла» ровно шла поперек ветра на юг, чуть отклоняясь к востоку. Они должны были обогнуть Малый Дартан и плыть дальше, вдоль дартанских берегов, а потом на юго-запад, в сторону Гарры. Лето было в самом разгаре. Работы на корабле было немного; в первый же день после того, как они покинули Дурной Край, матросы, не говоря уже о солдатах, нашли немало минут, чтобы обсудить тамошние чудеса. Говорили и о загадке замедления времени, но довольно неохотно, ибо она не поддавалась разумному объяснению и потому попросту пугала. Каждый когда-то слышал об этом феномене, одно дело, однако, слышать, а совсем другое — самому убедиться в том, что это отнюдь не сказка… Погода была великолепная, и мало кто торчал под палубой. Все радовались, что опасности таинственной земли остались позади. Дартанское море казалось всем привычным и безопасным. Они заметили, что косатки их уже не сопровождают… Лишь двоих нельзя было увидеть в этот день на палубе — капитана и мудреца-Посланника. С того момента, когда решено было возвращаться, они почти не покидали своих кают. Из-за присутствия старика на корабле матросы чувствовали себя несколько неуверенно. Кроме того, они везли множество Брошенных Предметов, о названиях и свойствах которых предпочитали не спрашивать. Вполне хватало и тех приключений, которые они пережили на Черном Побережье. К тому же они потеряли еще двоих. Раладан и Таменат много разговаривали. Капитан хотел знать все о своем происхождении; спрашивал он и о содержании Пророчества, желая лучше понять, что, собственно, такое Законы Всего. Прежде всего, однако, он расспрашивал о Ридарете… Но ответа, который мог бы его удовлетворить, он не получил. Между тем Посланник знал намного больше, чем говорил Раладану. Уже не раз он хотел рассказать обо всем, но всегда вспоминал одну из великих житейских мудростей: несбывшаяся надежда может даже убить… Он хотел уберечь не себя, но Раладана. И потому молчал. Однако это был год замыкания петли. И события следовали друг за другом быстро, неизбежно и неумолимо. На следующий день, после полудня, Раладан стоял на носу (сам того не сознавая, он особенно полюбил место, на котором обычно — когда-то — стояла Риолата: в шаге слева от форштевня, на высоте клюза). Ветер утихал, его горячее дыхание слабо шевелило паруса. Небо было чистым, но на востоке, над самым горизонтом, висела, словно приклеенная к голубому небосводу, черная тучка. — Вахтенный! — скорее сказал, чем крикнул капитан. Матрос, стуча пятками о доски, тут же подбежал к нему. — Позови первого помощника. Штормовые паруса — на мачты. — Есть, капитан. Раладан пошел к корме, навстречу своему заместителю. — Бохед, будет буря. Проследи за сменой курса. Идем по ветру к дартанским берегам. Мы должны успеть, но все должно делаться молниеносно! Молниеносно! Чуть позже капитан вошел в каюту, предоставленную Посланнику. Старик спал; Раладан уже знал, что тот не лучшим образом чувствует себя на море. — Будет буря, господин, — сообщил он, когда старик протер лицо. — Хочу спросить, нужно ли каким-то особым образом обеспечить сохранность Брошенных Предметов? На случай, если мы не успеем к дартанским берегам? — Мы идем в Дартан? — с неожиданным оживлением спросил Посланник. — Это единственное, что можно сделать. Шторм идет с востока. Если мы не найдем безопасного убежища, он погонит нас как раз в сторону дартанских берегов. Ты можешь этого не знать, господин, но во время шторма земля самый опасный враг для любого корабля. — Но ведь мы туда и плывем? — Да, но по собственной воле, а не на крыльях бури. Если мы найдем какую-нибудь бухту, укрытую от ветра и волн, мы бросим там якорь и будем почти в безопасности. Другое дело, если шторм бросит нас на берег. — Море кажется спокойным, — заметил Таменат. — Разве ты не слышал, господин, как порой говорят о «затишье перед бурей»? — удивился Раладан. — Проведя полжизни на острове, ты, похоже, мало что знаешь о капризах моря? Старик чуть улыбнулся. — Меня всегда забавляло, когда Безымянную Землю называли «Дурным Краем», — сказал он. — Потому, что он куда менее «дурной», чем все остальное… В Крае не бывает штормов, ураганов, наводнений, не случаются засухи или убийственные морозы. Поверь мне, капитан, за всю свою жизнь я ни разу не видел бури на море! Не говоря уже о том, чтобы пережить ее на палубе парусника. Раладан, естественно, знал, что отнюдь не все люди на свете — моряки. Однако сам он провел на море всю жизнь, и мысль о том, что кто-то мог не видеть бури, показалась ему чуть ли не забавной. — Лучше закрепи, господин, — сказал он, — все свои вещи. Пергаменты, перья и, уж конечно, бутылку с чернилами! Возможно, первые порывы шторма застигнут нас в пути. А если даже и нет, все равно «Сейла» будет плясать на якоре как безумная. Еще раз спрашиваю про Предметы: никаких специальных предосторожностей не нужно? — Если сундуки хорошо закреплены, то нет, — ответил Таменат. — Гееркото не могут соприкасаться с Дор-Орего, это единственное, за чем нужно обязательно проследить, если мы не хотим получить в трюме войну Темных Полос со Светлыми. — Я все еще раз проверю, — обещал Раладан. — Если тебе что-то потребуется, господин, найдешь меня на палубе. С этими словами он вышел. Вскоре они уже мчались к берегам Дартана. Бухта, которую они нашли, была, с точки зрения Раладана, не самым подходящим местом: она слабо защищала от ветра и почти не защищала от волн. Выбора, однако, у них не было. «Сейлу», крепко вцепившуюся в дно якорями, подбрасывали волны, переваливая с носа на корму. Вода унесла одну из шлюпок со средней палубы, пока, однако, серьезных повреждений не было. Изящный корабль пренебрежительно, почти с презрением, противостоял морю. Команда была начеку, готовая действовать немедленно, лишь только возникнет такая необходимость. Усилившуюся качку хуже всего переносил Таменат. Раладан постоянно находился рядом со стариком. В очередной раз он убеждался, что громбелардский мудрец-Посланник не обязательно должен быть каким-то удивительным существом, в любых условиях излучающим могущество, благородство и силу. Это был просто человек. Обычно несколько шутливый, даже грубоватый, сейчас тяжко страдающий от морской болезни, день ото дня же предававшийся своему любимому занятию, которое было ничем не лучше и не хуже любого другого. Обязанностью солдата было уметь воевать, обязанностью моряка — плавать по морям; обязанностью же Посланника — понимать Шернь. И не более того. Наверняка понимание Шерни давало доступ к силам, которые могли быть использованы во многих обстоятельствах; в конце концов, именно Шернь правила миром. Однако теперь Раладан понимал, сколь забавным, по существу, кажется именование Посланника магом или, в некоторых краях Шерера, почти отождествление его с неким чародеем. — Разве ты не можешь сделать так, господин, — наконец спросил он, видя смертельную бледность старика, — чтобы страдания твои были не столь тяжки? Тот слабо улыбнулся: — Могу, капитан, и притом одним лишь словом. Вернее, мог бы… Но моя сила, так же как и сила каждого среди Посланников, проистекает из понимания Шерни. Нам известно могущество Полос, и именно потому мы знаем, когда можно и нужно его использовать. Капитан, если бы тебе дана была власть над ветрами, ты всегда призывал бы их, каждый раз, когда нужно было бы задуть свечку? Раладан кивнул в знак того, что мысль старика ему понятна. — Так что не удивляйся, что я не использую силу Полос для такой ерунды, как мое недомогание. Если бы мне предстояло от него умереть, будь уверен, я не колебался бы ни мгновения, и Шернь простила бы мне обращение к Полосам. — Буря не должна долго продлиться, — сказал капитан. — В это время года штормы на Дартанском море обычно довольно внезапны, но кратковременны. — Хорошо бы! — пробормотал Таменат, уже не бледный, но совершенно зеленый. — Дай-ка мне, братец, эту лоханку и лучше проваливай, поскольку помочь все равно не можешь… а зачем тебе смотреть, как благородный мудрец блюет с усердием, недостойным его почтенного возраста… Ну, проваливай… Раладан исполнил его просьбу. Как и предвидел капитан, уже к утру буря начала утихать, а к полудню погода улучшилась настолько, что можно было продолжать рейс. Раладан, однако, не спешил. Повреждения, которые можно было исправить уже в открытом море, он решил устранить немедленно, не снимаясь с якоря. Отправляться решили только утром следующего дня. Всех это несколько удивило, особенно Давародена и Бохеда, которые видели, как он торопился до этого. Правда, день, потраченный в Дурном Крае, значил несравненно больше, чем день, потраченный за его пределами, но все же… Тем более что якорь не подняли и утром. Капитан потребовал сначала разыскать унесенную волнами шлюпку (от которой могла остаться в лучшем случае болтающаяся где-то у берега груда поломанных досок), затем — пополнить запасы питьевой воды (в которой, собственно, не было недостатка, хотя, конечно, вкус у нее был не слишком приятный, как у любой воды, которую долго держали в одном сосуде). Моряки, хотя и несколько удивленные, отнеслись к предложению сойти на берег с радостью, — в конце концов, не они командовали кораблем, а спешить им было некуда. Еще большую радость проявлял Таменат. Шлюпка отчалила от борта «Сейлы» около полудня. В ней сидели Раладан, Таменат и Давароден, остальную часть экипажа составляли матросы. Давароден, с недавнего времени решивший ничему не удивляться и ни о чем не спрашивать, изредка бросал взгляды на молчаливого, погруженного в размышления капитана. Раладан, держа румпель, в глубокой задумчивости смотрел на берег, то возникавший над носом лодки, то снова исчезавший под его краем, по мере того как волны поднимали их и опускали. Раз-другой он озабоченно оглянулся на «Сейлу». Давароден, вооруженный как всегда, то есть с мечом на боку, арбалетом под мышкой и шлемом под другой, был не единственным человеком в шлюпке, имевшим при себе оружие: у Тамената, одетого в свою серую мантию, был пояс с мечом, крепко затянутый на талии. Это подчеркивало необычную ширину плеч Посланника; Давароден подумал, что этот однорукий мудрец наверняка сумел бы справиться с двумя его солдатами, и притом безо всяких Формул и прочих штучек с Шернью. Матросы подняли весла. Шлюпка еще немного проплыла по инерции, затем заскрежетала о дно. Гребцы выпрыгнули на мелководье и потащили ее к берегу. Раладан и Посланник почти не замочили ног. Моряки привязали лодку и двинулись вдоль берега. Ясно было, что унесенную волнами шлюпку они не найдут; но раз капитан приказал искать… — Это Дартан, не безлюдная пустыня, — сказал Раладан, оглядываясь по сторонам. — Думаю, где-то поблизости должна быть какая-нибудь деревня. — Наверняка, — кивнул Давароден. — Поищем? Капитан кивнул в ответ. Где-то невдалеке послышался стук копыт. Давароден тут же надел шлем и взял наизготовку оружие. Вскоре из-за песчаных холмов донеслось фырканье коня, а в следующее мгновение на поросшем травой бархане появился силуэт всадника, державшего под уздцы вьючную лошадь. Раладан побледнел так, что стоявший рядом Давароден принял это за внезапный приступ слабости и хотел его поддержать. Однако тут же он остолбенел сам… ибо узнал девушку, которую видел связанной, с кляпом во рту, на Берегу Висельников… Девушка закричала. Раладан бросился к ней. Они бежали навстречу друг другу: он карабкался по сыпучему песку на холм, она, оскальзываясь на склоне, спешила к нему. Он заключил ее в объятия, они покатились по песку, но тут же поднялись, стоя на коленях и держась за руки. Множество чувств охватило Раладана: он боялся поверить, что она снова его нашла (или, может быть, он ее, каким-то чудесным образом?); он хотел просить у нее прощения за то, что отдал ее в руки той, боялся вновь услышать из ее уст враждебные слова, искал во взгляде признаки безумия, которое так недавно заполняло ее душу без остатка… Она поняла обуревающие его сомнения, ибо, не отвечая ни на один из невысказанных вопросов, внезапно поцеловала его, со слезами на глазах, прямо в лицо, где-то между носом и небритой щекой, погрузила его ладони в свои волосы и крепко прижала. Таменат и Давароден переглянулись, потом снова посмотрели на них; арбалетчик почувствовал странный комок в горле. Повернувшись, он пошел к самому берегу моря, туда, где волны омывали песок, посмотрел в сторону «Сейлы», а потом снова вернулся к капитану и девушке. Они все еще стояли на коленях, лицом к лицу, что-то говоря друг другу, о чем-то спрашивая… — Все прошло, — шептала она. — Прошло. Я помню каждый день и каждое мгновение, все понимаю, но больше всего то, что… я снова стала собой. Стала собой, хотя, наверное, не совсем… Понимаешь? Ты — понимаешь! Он смотрел на нее, качая головой. — Я тоже… — беспомощно говорил он. — Я тоже… не знаю. Как ты меня нашла? Что дальше? — Я знала, Раладан. Я знала, что ты окажешься в этом месте… Я жду уже неделю, готова была ждать всю жизнь. Я видела корабль и лодку… а потом узнала тебя на берегу. Дрожащими руками он гладил прекрасные, густые волосы девушки. — Идем, — наконец сказал он. Он не отходил от нее ни на шаг, словно боясь, что снова кто-то или что-то их разлучит. Услышав о том, кто такой великан старик, она подошла и подала ему руку. Потом кивнула арбалетчику. — Мы не можем здесь оставаться, — сказала она. — Я скрываюсь. — Давароден, собери людей, — тут же приказал Раладан. — От кого? спросил он, снова повернувшись к девушке. — От солдат, они меня преследовали. Я украла лошадей… — Она хотела еще сказать, что убила нескольких человек и сожгла деревню, но пока воздержалась. Давароден побежал по пляжу, догоняя матросов. Раладан огляделся вокруг: — При лошадях есть что-нибудь, что тебе нужно, госпожа? — Немного еды и два пледа… Ничего такого, чего нельзя было бы оставить имперцам. Но коней, пожалуй, стоит привести сюда, на пляж. Меньше будут бросаться в глаза. Раладан взобрался на холм. — Вижу, Раладан не тратил зря времени, пока я… — сказала девушка, обращаясь к старику. — Не могу дождаться объяснений! Ты знаешь, господин, кто для меня этот человек? — неожиданно спросила она, показывая движением головы на капитана, ведшего с холма лошадей. — Догадываюсь, — почти тепло ответил Таменат. — Все! — заявила она с преувеличенной, почти детской серьезностью. — Значит, вы те двое, — сказал старик, — кому дано иметь все… Она молча смотрела на него. Потом слегка улыбнулась. Вскоре они увидели арбалетчика, который вел за собой матросов. Несколько минут спустя лодка под сильными ударами весел плыла к «Сейле».54
Восстание началось. Тщательные, уже давно ведущиеся приготовления не прошли даром: сразу же оказалось, что у мятежников почти везде есть свои люди. Двор Князя-Представителя, пытавшийся координировать действия имперских сил хотя бы в столице, был парализован почти тотчас же: распоряжения и приказы либо вообще не доходили по назначению, либо попадали к людям, которые их не исполняли по той простой причине, что давно подчинялись организаторам восстания или были ими подкуплены. Сражения разгорались сразу во многих местах — в Дороне, Багбе, Дране… В Дране из двух эскадр Главного Флота только два парусника перешли на сторону повстанцев, несмотря на то что эскадрами командовали люди Ганедорра и Алиды. На четырех кораблях солдаты отказались выполнять приказы командира эскадр. От этого мало было толку, поскольку матросы, все до единого, тут же сбежали, частично перейдя на сторону повстанцев, частично же влившись в толпу мародеров и грабителей, воспользовавшихся всеобщим замешательством на свой манер (вскоре каждый, кому было хоть что-то терять, бежал из проклятого города сломя голову, унося с собой все, что можно). Так или иначе, в Дране мятежникам удалось заполучить два фрегата вместе с командами, еще один — захватить силой. Остальные, которые не могли выйти в море без моряков, стражники сожгли. Сражения в порту шли ожесточенные и кровавые. Самой большой проблемой, однако, как и предполагалось, оказался Старый Район. Сотня гвардейцев не сдалась без боя превосходящим силам повстанцев, хотя и хорошо подготовленных. Безопасные и спокойные до сих пор улицы залили потоки крови. Несмотря на то что часть офицеров была обязана своими должностями ее благородию Алиде, лишь несколько из них подчинились новой власти. Большинство пошло за старыми десятниками, которых организаторы мятежа не брали в расчет; у Ганедорра и Алиды, боровшихся за высшие должности и ведомства Гарры, не было времени заниматься нижними чинами, кроме того, они не осознавали того значения, которое имели в имперских войсках неприметные с виду десятники. Как это обычно бывает, сотники и подсотники часто менялись, уходили в отставку или на повышение, единственным же вышестоящим начальником, которого солдат хорошо знал и постоянно видел, был бессменный десятник — командир, но вместе с тем и товарищ. Из Драна полсотни отличных солдат вывел — и тем самым спас для императора — не кто иной, как Монаталь, выходец из рыбацкой деревни, рябой служака лет пятидесяти с небольшим, прекрасно помнивший прошлое восстание. Не зная ситуации в других округах и городах Гарры, Монаталь счел первоочередной задачей сохранить хотя бы свой отряд. Уходя от преследования, он повел гвардейцев в Харены, невысокие, но отнюдь не гостеприимные горы, цепь которых образовывала как бы позвоночник острова, тянувшийся вдоль восточного побережья. Еще хуже, чем в Дране, обстояли дела на юге, в Багбе. Семена, с некоторого времени опекавшая также и этот город, не справилась с задачей. Не хватало Аскара… В Дороне восстание завершилось полной победой, местный гарнизон, командование которым после исчезновения Аскара велось довольно неумело, удалось разбить (хотя и здесь мало кто из солдат перешел на сторону мятежников), дворец же Князя-Представителя разграбили, а затем сожгли. Потери, однако, были серьезными, а ситуация достаточно сложной, чтобы в Багбе командование целиком легло на плечи местных вождей мятежников, людей, не умевших воевать и нерешительных (человек, посланный Алидой в Багбу, имел в своем распоряжении меньше недели на то, чтобы ознакомиться с положением дел в этом городе, — слишком мало!). Солдаты стоявших в Багбе эскадр не только не стали слушать призывов к бунту, но и без особых церемоний повесили подстрекателей, после чего вместе с небольшим отрядом легионеров нанесли удар по бандам мятежников, вышвырнув их из города. Место коменданта гарнизона занял молодой, энергичный командир эскадры, армектанец К.С.Элимер, взяв на себя командование всеми имперскими силами на юге. Корабли морской стражи тут же отправились за подкреплением на Южный Архипелаг и Даленоры у восточных берегов. Вооруженные патрули принесли вести из Белона, благополучные для империи. Восстания в Белоне не было, — видимо, мятежники рассчитывали, что захват Багбы и Дороны позволит им взять этот маленький городок в клещи и подавить небольшой гарнизон Гаррийского Легиона позже и без особых усилий. Элимер немедленно усилил гарнизон Белона, после чего, небольшими силами прикрыв Багбу, двинулся на юг и юго-запад, сжигая без лишних рассуждений любую деревню, в которой замечал хотя бы тень сочувствия восстанию, но защищая и охраняя все те, что сохранили верность империи. Через пять дней после начала войны ситуация стабилизировалась; вся Гарра, от северных границ до самого Белона, была в руках повстанцев (если не считать продиравшихся через горы на юге гвардейцев Монаталя, впрочем ожесточенно преследуемых). Южную часть, с Багбой и Белоном, удерживали силы империи. В Багбу начало поступать подкрепление — сначала с Даленор, потом с Сары, из Южного Архипелага. Правда, это означало, что оставшиеся без войска острова оказывались под ударом мятежников, однако пока что острова эти не имели никакого значения, и имперским силам не было смысла их удерживать, точно так же как силам мятежников — захватывать. Корабли Главного Флота все еще были в море, тревожа поочередно острова Гаррийского моря, потом Замкнутого моря, наконец, Прибрежные острова и сам Армект. Первые подтвержденные и проверенные сведения достигли континента… Однако еще до этого, на четвертый день после занятия Дороны, войска повстанцев начали сосредоточиваться для удара по Белону и Багбе. Не был, однако, решен вопрос о том, кому поручить командование этими силами. План восстания не предусматривал широкомасштабных действий в поле; предполагалось, что быстрый, одновременный захват крупных городов и портов Гарры лишит противника возможности собрать силы достаточно большие для того, чтобы можно было назвать их армией… Но все произошло иначе. Нерешенный вопрос о командовании полевыми войсками привел к первым раздорам среди мятежников… У Семены не было особых причин радоваться. Все шло в явном противоречии с планом… Она не сумела завладеть доронскими эскадрами Главного Флота, так как ее солдаты безнадежно увязли в затянувшихся сражениях с обреченными на поражение, но упорными солдатами империи. Фрегаты Главного Флота заняли солдаты Ахагадена, человека Алиды. Четыре старых корабля Резервного Флота вообще были потеряны, так как за два дня до начала восстания их отправили к Барьерным Островам. Ахагаден номинально был подчиненным Семены, однако быстро оказалось, что, ведомый тайными указаниями из Драна или же попросту собственным тщеславием, он не намерен отдавать добычу, несмотря на ясно отданный ею приказ. Она уже собиралась применить силу, но подобная война не сулила ничего хорошего; сидевшие на фрегатах топорники были хорошо вооружены, и у них были неплохие командиры, в то время как ее пищали — на которые она так рассчитывала — себя не оправдали. Возможно, причиной тому был особый характер уличных боев, в которых тяжелое оружие, которым можно было пользоваться лишь вместе с неуклюжими козлами, было крайне неудобно и не выдерживало никакого сравнения с арбалетом. Кроме того, отряды неизбежно разбивались на небольшие группы по полтора десятка человек… Так или иначе, рассчитывать она могла лишь на своих арбалетчиков, которых у нее была неполная сотня, а после сражений с имперским гарнизоном — и того меньше. Теперь она проклинала собственное легкомыслие, из-за которого доверилась неиспытанному в бою оружию. Из трехсот хорошо оплачиваемых солдат двести обслуживали пищали… И это лучшие и самые надежные из наемников, которых она собрала с мыслью об Агарах! Ахагаден, впрочем, после первых стычек даже не оставил ей шансов; он просто уводил фрегаты и реквизированные торговые корабли в море, ставя их на якорь в миле от берега. Если она хотела ими завладеть — то разве что вплавь. Некоторым утешением было то, что она сохранила собственные корабли. Помогли многочисленные предосторожности, о которых в свое время спрашивал Раладан: о том, кто стоит за Литасом (а позднее за его сыном Меларом), знали только предводители восстания. Но корабли Мелара, «Сейла» и старый барк «Даленор», вышли в море еще зимой — и пропали (на самом деле они были в Дурном Крае). Купленные же недавно три фрегата принадлежали наследникам Э.Зикона, дела у которых шли превосходно, но ничто уже их не связывало с госпожой Семеной. Фрегатов этих в Дороне не было (она распорядилась, чтобы в конце лета они появились сразу на Агарах), однако никто не мог обвинить ее в нелояльности, каковой, несомненно, было бы лишение повстанцев поддержки трех — целых трех! — столь необходимых кораблей… Что с того? Те три парусника, без солдат на борту, не могли прибыть на Гарру, во-первых, потому, что не хватало времени, во-вторых — их тут же прибрали бы к рукам повстанцы. План разваливался наглазах. Появился, однако, некоторый шанс. Шанс, правда, довольно слабый, требовавший множества тщательно продуманных действий. Силы повстанцев готовились нанести удар на юге. Одновременно штаб мятежников в Дране планировал морское сражение у юго-западных берегов, в окрестностях Багбы. Семена рассчитывала, что независимо от того, кто окажется победителем в этом бою, корабли выигравшей стороны немедленно направятся в Багбу, важнейший в данный момент порт на острове, намереваясь изо всех сил удерживать (или захватить) его. Именно этими кораблями она и собиралась завладеть. Однако сначала ей нужно было встать во главе повстанческой армии, затем — разбить сухопутные силы империи. Тем временем ни один из планов не предусматривал ее кандидатуры на подобный пост… Единственным козырем была неоспоримая истина, что ее войска единственные из всех добились бесспорного и полного успеха. Однако ей требовались дополнительные, еще более сильные аргументы. Она действовала быстро: после первой же вести о марше гвардейцев Монаталя через горы она послала сорок арбалетчиков и сорок стрелков (для прикрытия) навстречу преследуемому отряду… Шел восьмой день с начала восстания. Отряды мятежников залегли под Дороной. Силы оказались крайне скудными — полторы тысячи пехотинцев, в том числе чуть больше сотни арбалетчиков и, полсотни лучников. К этому добавлялись триста человек Семены. Оказалось, что вожди мятежа не в состоянии были оценить, сколько сил придется затратить на то, чтобы занять захваченные порты и корабли (всего несколько десятков фрегатов и парусников Морской Стражи поменьше, не считая многих реквизированных торговых барков). Немногочисленные перешедшие на сторону повстанцев команды имперских кораблей нужно было усилить своими людьми или заменить вообще, ибо никто не мог ручаться за то, как они поведут себя в сражении с верными императору парусниками. Столь же важной задачей было удержать порты, поскольку нельзя было исключить попыток отбить их со стороны моря. Большой отряд преследовал в Харенах гвардейцев, много людей требовали также городские патрули и отряды, сопровождавшие разнообразные транспорты… Учитывая более высокие, чем ожидалось, потери и повсеместно распространившееся дезертирство (в Дране оказалось, что почти треть солдат предпочитает грабить — вместе с портовым отребьем — брошенные купеческие конторы, а не сражаться за святое дело освобождения Гарры с не любившими шутить гвардейцами), восемнадцать сотен человек, готовых нанести удар по Белону, выглядели тем не менее достаточно впечатляюще. Снова не хватало Аскара, которого в свое время прочили даже на пост главнокомандующего морскими или сухопутными силами. Когда составлялись первые, примерные, планы, Аскар был единственным, кто предвидел возможность боевых действий в поле, отметив, что, если сразу не удастся завладеть главными целями, война станет крайне тяжелой хотя бы по причине малой численности тех, кто способен воевать в поле. Однако Аскар пропал без вести, а никто из офицеров в повстанческом командовании не имел опыта в сражениях на суше и не в состоянии был предвидеть их исхода. Прочный мир, царивший в границах Вечной Империи, не способствовал приобретению боевого опыта… Лишь в Армекте, у Северной Границы, постоянно шла партизанская война с алерскими полузверями. Но ни один из мятежных офицеров не был армектанцем и не служил на Северной Границе… Теперь же еще оказалось, что у этих тысячи восьмисот человек нет командира. Семена, готовясь встретиться вечером с Алидой, прекрасно знала ситуацию и была уже почти уверена, что победит. У нее были все основания так считать. Встреча состоялась возле тракта, ведшего из Дороны в Дран, примерно на полпути между городами. Выбор места диктовала спешка; несмотря на раздававшиеся со всех сторон замечания и настойчивые советы (несомненно, справедливые), штаб восстания продолжал размещаться в Дране, по каким-то причинам затягивая перемещение в Дорону, то есть ближе к месту предполагаемых сражений. Впрочем, Дорона, находившаяся на западном побережье, почти на его середине, вообще была лучшим местом для руководства любыми начинаниями. Привязанность к прежнему месту, которую проявляло руководство мятежников, сказывалась на оперативности действий не лучшим образом… Достаточно сказать, что как Семене, так и Алиде, чтобы встретиться, пришлось проделать путь примерно в пятьдесят миль, пользуясь, к счастью, исправно действующими постами со сменными лошадьми, предназначенными для гонцов, постоянно носившихся по тракту в обе стороны. Семена прибыла первая, усталая и рассерженная, но ее настроение несколько улучшилось при виде изысканной блондинки, еще хуже знавшей таинства верховой езды. Лицо Алиды было серым от пыли, волосы на лбу слиплись от пота, спину же она вообще была не в состоянии распрямить. Семена, успевшая уже немного отдохнуть и умыться, чуть не расхохоталась. Алида, скрипя от ярости зубами, отправила своих людей за водой (обе прибыли с сопровождением, этого требовала предосторожность), после чего, молча хлопнув дверью, скрылась в одной из комнат для гостей. Вскоре принесли несколько ушатов воды. Семена наполнила вином два оловянных кубка и без приглашения вошла в комнату. Алида стояла обнаженная, склонившись над лоханкой с холодной водой и разглядывая натертые, покрасневшие бедра. Она подняла взгляд. — У тебя тоже так? — бесцеремонно бросила она. Семена поставила кубки с вином, немного постояла, после чего повернулась, задрала юбку, показав синие ягодицы, и оглянулась через плечо. Обе долго смотрели друг на друга, в конце концов расхохотались. Наконец они замолчали. Алида набрала в горсти воды и вымыла лицо, после чего смочила бедра, шипя сквозь зубы словечки, каких, наверное, не знали даже самые старые матросы. — Будем беседовать в торжественной обстановке, в тронном зале, или, может быть, начнем прямо здесь? — спросила Семена, опираясь о стену, с кубком в руке. — Нужно было перенести штаб в Дорону, — добавила она, видя, как к Алиде возвращается ярость. — Думаешь, я этого не хочу?! — рявкнула блондинка, расплескивая ладонью воду в лоханке, над которой сидела на корточках. — Попробуй поговори с этими высокорожденными дурнями! «Старый Район — знак древних времен. Лишь здесь может возродиться Гарра». Знаешь, чем плоха Дорона? Тем, что ее перестроили армектанцы! — Не верю, — сказала Семена. — Я тоже! Как можно победить в этом восстании? Знаешь, почему я приехала? Потому что иначе явился бы какой-нибудь сотник стражи! Который ездит верхом еще хуже меня да к тому же и дурак в придачу! Или какой-нибудь старик, которого здесь сняли бы с лошади и тут же закопали! Если он вообще приехал бы верхом! Конь — это чудо Армекта, гарриец же путешествует в носилках. Ну, может, в каком-нибудь из этих проклятых фургонов, или как они там называются. Он ехал бы дня три, — оценила она, мочась в лоханку. — Не верю, — повторила Семена. Алида перевела дыхание. — Однако там дела обстоят именно так, — почти спокойно сказала она. Они хотят начать освобождение Гарры с выкорчевывания всех армектанских сорняков. Даже армия должна быть одной большой толпой, ибо деление на клинья, полусотни и колонны придумали армектанцы. В штабе думают только о том, кому поручить этой армией командовать. В Дране этого поста домогается комендант гвардии, порядочный человек, которого я с большим трудом вытащила наверх. Впрочем, он едва справляется со своими обязанностями. Второй кандидат — старый и действительно опытный командир эскадры морской стражи. Вот только человек этот почти не умеет ходить, когда земля не раскачивается у него под ногами, словно палуба. Сражение он начнет, наверное, с того, что воткнет в землю мачты и поставит паруса, иначе ему будет чего-то не хватать. Дальше: серьезные кандидаты — господин Кахель Мохабен, старший родственник моего умершего от старости супруга, и, наконец, сам Ганедорр. Последний, по крайней мере, человек достаточно разумный и вовсе не хочет командовать никакой армией. Однако, если иного выхода не будет, он согласится. Кто-то, в конце концов, должен командовать. — Почему в таком случае не я? — А почему не мой кандидат, Ахагаден? Он ведь, кажется, твой смертельный враг? Они не отводили друг от друга взгляда. Разговор начал склоняться к тому, из-за чего, собственно, и была устроена их встреча. Алида подняла с пола простую грубую юбку и кое-как вытерлась. Нагота вовсе ее не смущала. Семена подумала, что дело скорее всего в немалом опыте. Блондинка с явным отвращением натянула запыленную рубашку. Юбку же с нескрываемой брезгливостью швырнула в угол. Взяв у Семены кубок с вином, она тоже оперлась о стену. Они стояли, словно на страже, по обеим сторонам дверей. Ни той, ни другой даже не пришло в голову сесть. Им еще предстояло насидеться на обратном пути… — Послушай, — сказала Алида. — Не будем о личном… Те вояки, о которых я тебе говорила, — никакие, конечно, не кандидаты. Другое дело, что они высокорожденные гаррийцы. В конце концов, они предводители всей этой заварушки. А здесь… не Армект. На меня и то уже смотрят косо — что, собственно, делает среди них личность, у которой ничего не болтается между ног? Ганедорр — человек умный и дело свое знает, но остальные твердолобые упрямцы со взглядами столь же старыми, как и камни их дворцов. Как я могу им сказать, что женщина одержит для них победу? Если бы я еще была гаррийкой! — Зато я — гаррийка. — Точно так же как и я. Или мать — армектанка, или отец — армектанец. Позор, и только. — Откуда ты знаешь? Алида искоса взглянула на нее: — Сама только что сказала… Но все это ерунда. С именем Семена ты никогда не будешь для них гаррийкой. — А если это имя — ненастоящее? — А кого это волнует? Ты же его носишь. Нужно было выбрать себе имя с двумя «р», тремя «г» и одним «х». Вот тогда бы хорошо звучало. Словно проблевался и горло прочистил. Они замолчали. — У тебя есть все полномочия назначать командира? — спросила Семена. — Конечно. Иначе какой был бы смысл в нашей встрече? Но знай, что даже если — в чем я сомневаюсь — я назначила бы тебя, то им я об этом сообщать не намерена. Меня прислали сюда, собственно, лишь затем, чтобы я ответила решительным отказом. Повторяю — мы им необходимы, и лишь поэтому нас терпят. Но лишь до поры до времени. Так или иначе, я должна отказать. — И ты это сделаешь? — Собираюсь. Но сперва я хочу выслушать твои доводы. Твои письма полны непоколебимой уверенности в том, что доверить войска кому-то другому просто невозможно. Я хочу услышать почему. — Пока что только я сумела добиться каких-то успехов. В Дране, насколько я знаю, дела обстоят не лучшим образом? — В Дране дела обстоят прекрасно. А в Дороне успехом обязаны не тебе, а Ахагадену. Это он в критический момент переломил ход событий. Не так ли? Семена изумленно смотрела на нее. Алида удовлетворенно показала ей чуть подрагивающий в вульгарном жесте кончик языка. — Мне еще раз объяснить? Ахагаден захватил пять имперских и несколько торговых парусников, а ты ни одного. Гаррийского магната история ничему не научила, для него сила армии все еще определяется количеством кораблей. Наконец, Ахагаден — мой человек. Почти друг. А тебя я не люблю. Так что я просто помогла другу. Я сделала все, чтобы в штабе знали, что победа его заслуга. В глазах Семены блеснули по очереди удивление, недоверие и гнев. Алида удовлетворенно массировала сквозь грубую рубашку свои соски, чувствуя, как они твердеют под ее пальцами. Над домом прокатился отзвук приближающейся грозы. Семена отерла пот со лба и шеи, осознав, что в воздухе стало необычно душно. — А может, оно и к лучшему, — неожиданно почти спокойно сказала она. Город выглядит не лучшим образом, я думала, что мне придется всерьез объясняться. Но раз это сделал Ахагаден… — Что значит «выглядит не лучшим образом»? — Ничего… Вернемся к делу: мои люди окружили сегодня утром гвардейцев в горах. Гвардейцы выбились из сил, а погоня совсем рядом. Известие об этом я получила по пути сюда. — Великолепно. — Алида прервала свою забаву и испытующе посмотрела на нее. — Но это все? Семена нахмурилась: — Сто арбалетчиков и топорники Ахагадена, не считая тех, что на фрегатах. Это хорошие отряды. Несколько десятков верхом — наездники из них так себе, но люди надежные. Три сотни хорошо вооруженных и прилично обученных добровольцев. И может быть, еще две-три сотни чего-то такого, что войском уже не назовешь, но и отребьем тоже. Всего восемь с лишним, но не больше девяти сотен солдат. Остальные — всякий сброд. Не хватает лучников; в Морской Страже почти каждый лучник — армектанец, а они как-то не особо к нам рвались. Наемников же и добровольцев с луками вы взяли к себе на корабли. У меня же — три с лишним сотни солдат. Хорошо обученных и прекрасно вооруженных. И я хорошо им плачу. Их не интересует восстание. Их интересует золото. И добыча. — К чему ты клонишь? — Сколько народу может быть у этого армектанца? Элимера, кажется? — Человек семьсот-восемьсот. Не больше. Но отважных и хорошо обученных, не говоря уже о вооружении. — Именно. — И что из этого следует? — Алида пристально посмотрела на нее. — Только то, что мои арбалетчики в горах заключили с гвардией перемирие. Та сотня человек, которых вы послали в погоню, наверняка уже добралась до места. Если они захотят напасть на гвардейцев, им придется напасть и на моих. И наоборот. Гвардия не может пробиться, поскольку против них одна, а может быть, уже и две сотни. Какой я должна отдать приказ? Алида начала понимать. — Это только начало, — заметила Семена. — Те люди в Харенах мало что изменят. Хотя господин Элимер наверняка озолотил бы меня за пару десятков таких солдат, как эти гвардейцы. А если бы еще оказалось, что заодно я разбила отряд мятежников в сто человек… Но вернемся к Дороне: мои солдаты встанут на ту сторону, на которую я их поставлю. Так на какую они должны встать? Дай умный ответ, ибо, если ответ окажется глупым, я покончу со всем этим восстанием за три дня! Алида молчала, наматывая прядь волос на палец. — Смело говоришь… — пробормотала она, но скорее это было признанием правоты собеседницы, нежели чем-то иным. — Умеешь считать, оценивать и знаешь, для чего служат войска. Уже одного этого хватит, чтобы доверить тебе командование… Вот только, — она задумчиво взглянула на Семену, это идет полностью вразрез с моими мыслями. Семена слегка пожала плечами. — Тебя не интересует восстание. И никогда, естественно, не интересовало. — Алида покачала головой. Гроза приближалась. — А тебя интересовало? Святой долг освобождения Гарры? — издевательским тоном спросила Семена. — Обойдемся без этих бредней об измене, обязанностях, лояльности и всем прочем, что так страшно воняет, попросила она. Они взглянули друг другу в глаза. — Восстание — восстанием… У меня есть своя собственная цель, призналась Алида. — А у меня — своя. — Интересно, они похожи? — Кто знает? — Ой, сомневаюсь… В самом деле сомневаюсь. Семена подняла брови: — Ведь ты хочешь освободить Гарру? Неважно, по какой причине. Я тебе помогу. — Да, конечно. Ты победишь имперское войско, а потом скажешь: Алида, теперь ты. И уйдешь в тень. — Именно так я и хочу сделать. И даже больше: я намереваюсь исчезнуть вообще. — И я должна этому верить? — Попробуй. Уверяю тебя, мне не нужны никакие должности на этом мерзком острове. Мне нужна победа восстания… но для того, чтобы ослабить Армект. Помолчав, блондинка прищурилась. — Эй… — сладким голосом проговорила она. — Может быть, мне стоит начать тебе верить? — Попробуй, — повторила Семена. — Так что там насчет Армекта? — То, что я сказала. — И ничего больше? — Ничего больше. Алида задумалась. — Почему ты так стремишься командовать? Раз тебя интересует только победа восстания, почему бы ее не мог обеспечить кто-нибудь другой? — Есть причины. Прежде всего, я никого такого не вижу. Только я могу выиграть эту войну. Ахагаден этого не сделает, несмотря на то что столь отважно захватил Дорону, и даже весь Главный Флот, не так ли? — Ты наверняка заметила, что стоит тебе посмотреть в зеркало, как в нем отражается змея? — спросила Алида. — Гм… — усмехнулась Семена. — То, что я в нем вижу, вполне меня устраивает… Но позволь, я повторю свой вопрос: какой я должна отдать приказ? Должна признаться, что дискуссия, в которой у противной стороны нет никаких козырей, меня несколько утомила. — А если тебя попросту убрать? — вслух подумала Алида. — Убрать. Попросту убрать, — согласилась та. — Сто человек в Харенах пойдут под мечи, гвардейцы и мои люди объединятся с Элимером, а стратегией повстанцев будут восхищаться все края Шерера. Нет, ты и в самом деле меня удивила! Они в очередной раз посмотрели друг другу в глаза. — В самом деле, кажется, сегодня ты диктуешь свои условия, — подытожила Алида, отрывая спину от стены. — При первой же возможности я подставлю тебе подножку, — пообещала она. — Ты грохнешься на пол, и тогда я буду плясать у тебя на животе. А пока — что ж, теперь ты командуешь армией. Вокруг бушевала гроза.55
Сон приносил не сравнимое ни с чем удовольствие — Семена обнаружила это, лишь когда научилась обходиться вовсе без него. Она и в самом деле начинала мечтать о той минуте, когда у нее наконец будет достаточно времени, чтобы прилечь на лугу или в лесу, и лежать, и спать, и ничего не делать… Было раннее утро, когда войско выстроилось для смотра. Ей все еще не хотелось даже думать о коне, впрочем, она знала, сколь неуклюже сидит в седле, и не желала выставлять себя на посмешище. Она осматривала шеренги, идя вдоль них в сопровождении полутора десятков офицеров высшего ранга и двоих сановников из штаба. Последним даже не дали отдохнуть с дороги. Она сразу дала им понять, кто здесь главный. Теперь они брели за ней следом, уже несколько привыкнув к ее кольчуге и грубым мужским штанам, заправленным в голенища кожаных сапог. На кольчугу был наброшен синий мундир с вышитым на левой груди небольшим ярко-красным кругом. На правом боку висел короткий гвардейский меч. Шлема на голове не было; спадающие на спину волосы колыхались в такт шагам. Семена была самым прекрасным из солдат, которых когда-либо видели небо и земля Шерера. Она миновала неполную сотню всадников, весьма разнообразно вооруженных, на лошадях разной масти, величины и стоимости; дальше стояли двести щитоносцев Ахагадена, в кирасах, с опертыми о землю щитами и топорами или с крепкими короткими копьями на плече, — отличная пехота. Дальше — сто с лишним арбалетчиков и полсотни лучников, все в серебристых шлемах, но в разных мундирах, а часто и без них, в кольчугах, иногда лишь в кожаных куртках, кожаной и полотняной обуви, а порой даже в плетенных из лыка лаптях. Это она еще могла пережить. Но дальше стояли разделенные на полусотни люди, вооруженные всем, что только можно было себе вообразить, и иногда в весьма странном одеянии: ей попался человек в доспехах, от которых отвалилась половина чешуек, а двумя шагами дальше — какой-то коротышка в кирасе с приделанной к ней настоящей, турнирной «лягушачьей мордой», прямо из Дартана… Это уже было свыше ее сил, она ускорила шаг, боясь, что расхохочется или начнет скрежетать зубами. Она любила хороших солдат и уделяла их внешнему виду не меньше внимания, чем выучке. Этому она научилась у Риолаты. Ей пришлось перенять ее привычки, как можно более точно подражать ей во всем… Увидев результат, она многое поняла. Теперь, если бы ей вернули «Звезду Запада», она превзошла бы Броррока! Она научилась тому, что солдат чувствует себя в точности так, как выглядит. Семена дошла до места, где стояли ее люди. По правую руку от нее располагалась огнестрельная пехота: частокол козел, а за ними солдаты прикрытия с копьями, второй ряд — стрельцы с пищалью на каждом плече; третий ряд — снова прикрытие с козлами и снова стрельцы. С левой стороны — арбалетчики в закрытых шлемах, а в конце полсотни топорников. Все — стрельцы, арбалетчики, топорники — в синих мундирах, украшенных красными кругами. Снаряжение и содержание этих трехсот с лишним воинов обошлось более чем в четверть всех сокровищ, не считая оружия, захваченного ее отцом. Но это того стоило. Она медленно прошла вдоль строя, жестом приветствуя своих офицеров. В самом конце стояли согнанные сюда, часто силой, крестьяне и рыбаки из разных селений. Семена едва не зажмурилась. Она обвела взглядом беспомощные толпы и, не говоря ни слова, повернула назад. В то же мгновение она заметила, что один из грязных селян сильно шатается, опираясь на вилы. В первое мгновение она едва не вырвала ему кишки… Лишь немалым усилием она сдержалась, не дав вспыхнуть красному блеску в зрачках. Она быстро подошла к нему, оставив свиту позади. — Пьяный? — коротко бросила она, кладя руку на меч. Запах убийственного пойла сказал ей все. Что-то тихо лязгнуло, она развернулась кругом, и лишь тогда подошедшие офицеры увидели в ее руке меч, который она держала клинком вниз. Она успела сделать два шага, прежде чем крестьянин за ее спиной, хрипя, рухнул наземь. Из артерии хлестала кровь. — Командира этих людей — повесить, — бросила она. — Все. Выходим тотчас же. В передовой страже пойдут лучники, не конница. Все конники — в моем распоряжении, в том числе на марше. Охрана лагерей — без изменений, как и раньше. Она кивнула одному из своих сотников. — Дашь мне коня и пять человек, тоже в седле. Наших, — подчеркнула она. Не обращая больше внимания на офицеров и тем более на гостей из штаба, она быстро пошла обратно вдоль строя. Улицы Дороны словно вымерли. Причиной тому было не только раннее утро; прежде всего, горожане не горели особым желанием встречаться с военными, пусть даже эти военные были освободителями Гарры. В особенности если они были освободителями Гарры. Освободители грабили все, что требовалось восстанию или им самим. Это называлось реквизицией… Эхом отдавался стук лошадиных копыт. Семена, опередив своих людей, направлялась туда, где почти год был ее дом. Небольшой отряд миновал разграбленный и частично сожженный дворец Представителя (интересно, Князя уже отцепили от стропил?) и двинулся дальше. Собственно, в том, что порты и корабли захватил Ахагаден, имелись свои положительные стороны — дворец остался ей… В казну восстания она отправила меньше половины захваченного добра. Остальное пополнило ее личную кассу, что оказалось весьма своевременным. В последнее время она черпала деньги лишь из пояса, который туго набила благодаря поспешной продаже предприятий Мелара и прочих. Несколько дураков сильно обманулись в своих ожиданиях, купив товары и дома, которые почти сразу же отобрало или уничтожило восстание. Если бы Ахагаден не столь усердно стерег свои фрегаты, он мог бы серьезно осложнить ей жизнь. И так уже до штаба в Дране доходили разные слухи. А правда была такова, что частично она заплатила за службу своим солдатам, позволив им разграбить город. Конечно, она поживилась кое-чем, и сама. Она хорошо знала, что настоящие расходы еще впереди! Что ж, два десятка вояк столь увлеклись грабежом, что больше она их не видела. Но и так дезертиров в синих отрядах было меньше, чем в каких-либо других. Большинство ее солдат прекрасно понимали, что под предводительством «ее прекрасного благородия» добычи и женщин им хватит с избытком и что легче их добыть всем вместе, чем в одиночку. И легче потом защитить от завистников. Алида была первым человеком из штаба, увидевшим собственными глазами, что осталось от Дороны после «победы над имперцами». «Ах ты… сука! — в ужасе сказала она тогда. — Во имя Шерни, я совершила ошибку, поручив тебе командование… Если ты выиграешь эту войну, мне придется править пустыней!» Семена в ответ лишь рассмеялась. «А чего ты хочешь? — насмешливо ответила она. — Что, в Дране грабежей не было? А впрочем, ведь здесь побеждал Ахагаден, не так ли?» На улицах валялись какие-то обломки, тряпки, всяческий мусор… Часть убрали уже несколько дней назад, но еще не все. Один лишь вывоз и погребение трупов занял почти неделю. Семена остановила коня перед своим домом. — Ждать здесь, — сказала она солдатам и спрыгнула с седла. Здание было покинуто, по крайней мере такое оно производило впечатление. Может быть, слуги где-то и сидели, но у Семены не было никакого желания проверять. Она лишь нашла канделябр, зажгла свечу, а от нее остальные. Семена спустилась в подвал. Большие бочки стояли нетронутыми. Но ящиков стало меньше, а те, что остались, зияли пустотой. Семена прошла в самый конец подземелья. Подняв крышку люка, она спустилась ниже и отодвинула засовы. Она давно здесь не была… Изнутри ударила жуткая вонь. Семена подождала, боясь, что, если она войдет слишком быстро, может не хватить воздуха для свечей. Потом, перешагнув через разложившийся труп у самого порога и задержав дыхание (так было легче, чем дышать), посмотрела на висящее тело. — С сегодняшнего дня, — сказала она, — я — больше не ты. С сегодняшнего дня меня снова зовут Лерена. Ты же можешь быть Семеной, Риолатой или кем захочешь. Она подошла ближе и осторожно отодвинула остатки волос с опущенного лба сестры. — Риолата, — тихо сказала она. — Риолата… Тебе нравилось, когда я произносила твое имя. Рио-ла-та… Она достала меч и, не обращая внимания на звериный вой и корчи сестры, несколькими ударами перерубила опутанные цепями руки. Кисти и предплечья остались под потолком, остальное рухнуло на каменный пол; из омертвевших коротких культей слабо сочилась кровь. — Иди в Дран, — сказала Лерена, убирая меч. — Там много высокорожденных гаррийцев… Может быть, выйдешь замуж? От смрада ей в конце концов стало дурно, и ее стошнило на стену; пошатываясь, она поднялась по лестнице и вышла, оставив подземелье открытым.56
Восстание не могло не закончиться неудачей — по той же самой причине, что и все предыдущие… Оно должно было потерпеть поражение рано или поздно, ибо висело в пустоте. Нет, оно и в самом деле было подготовлено намного лучше, чем какое-либо из ему предшествовавших. Оно опиралось не только на добровольцев, желавших отдать жизнь за Гарру, но и на отряды наемников, готовых драться с кем угодно, лишь бы за это платили. В свою очередь, подготовка и использование наемных отрядов были возможны лишь потому, что организаторы восстания сумели проникнуть в ряды тех, чьей целью являлось как раз предотвращение мятежей, а именно в ряды имперских войск и урядников Имперского Трибунала. Пожар восстания охватил сразу весь остров, и мятежникам действительно удалось захватить немалую часть территории. Но теперь — многие добровольцы погибли, многие наемники бросили службу. И уже видно было, что — как всегда — все восстание, в сущности, оказалось не более чем гневной перебранкой нескольких древних родов, топаньем ногами, от которого может упасть кувшин со стола, наделав много шуму… но наверняка не обрушится дом. Ибо разве стоял кто-либо за этими магнатскими родами? Может быть, на борьбу подняли купцов? Нет. Купцы лишились из-за восстания своего имущества; их корабли и товары были реквизированы, и вести какие-либо дела стало, в сущности, невозможно. Что могла им дать победа восстания? Разве что конец всяческой торговли с империей, по крайней мере на долгие годы. Может быть, как-то выиграли или должны были выиграть горожане? Тоже нет. В столице они тихо сидели по своим норам, радуясь, если их не ограбили подчистую. В Дране быстро почувствовалось отсутствие на улицах имперских солдат: из дому попросту страшно было выйти. Да и вообще, изменилось ли бы что-нибудь к лучшему, если бы восстание победило раз и навсегда? В лучшем случае все осталось бы так же, как под правлением Кирлана… Рыбаки и селяне? Те, честно говоря, могли лишь возносить молитвы Шерни, чтобы та спалила огнем все эти повстанческие отряды. По очень простой причине: селянин или рыбак, приписанный к имперским владениям, был настоящим богачом по сравнению с крестьянином во владениях гаррийского магната. Имперские сборщики податей обычно требовали четверти урожая, и, кроме того, вольный крестьянин обладал определенными правами. Селянин или рыбак, живший в крепостной зависимости, никаких прав не имел; единственным, и к тому же навязанным его господину Кирланом, было право службы в имперских легионах — привилегия, отличавшая его от раба. Достаточно сказать, что после каждого восстания, когда империя конфисковала имущество замешанных в мятеже семейств, крестьяне в освобожденных императором селениях плясали от радости! А ведь «святое дело освобождения Гарры» вовсе не было безразлично беднякам. Может быть, лишь в Армекте ощущение национальной принадлежности было более сильным. Гаррийский рыбак с гордостью называл себя гаррийцем и всегда помнил, что Армект, включив его край в состав Вечной Империи, страшно отомстил за десятки потопленных кораблей; взятых в плен солдат и моряков казнили. Однако интересы Гарры, понимавшиеся так, как хотели этого магнаты в коричневых дворцах, шли вразрез с интересами рыбака, в конце концов умевшего считать. Даже если бы он не приобрел ничего, кроме изменения названия с Морской Провинции на Королевство Гарры, — рыбак наверняка бы за это сражался… Во всяком случае, если бы он имел хотя бы тень надежды, что в этом Королевстве Гарры он потом не умрет с голоду. Что не станет хуже, чем под властью императора. Однако таких обещаний никто давать не собирался. Напротив, везде и всюду трубили, что после победы воцарится «старый порядок». Ах, старый порядок, в самом деле! Имперскому крестьянину, пожалуй, милее было бы зрелище пожара в усадьбе! Крепостной же крестьянин терял единственную свою привилегию, возможность стать профессиональным солдатом, который служит за деньги, по собственной воле и желанию. Мундир легионера или морского стражника, святой для армектанца, как и все военное ремесло вообще, ставил низкорожденного наравне с человеком Чистой Крови. Жалованье было невысоким, но постоянным. Легионер империи знал свои обязанности, но имел и права. За упущение по службе он мог даже закончить свои дни на виселице, но, если нес службу исправно, мог хотя бы жениться, не спрашивая ничьего согласия. Мало того, перед ним открывалась дорога к военной карьере. В имперских легионах происхождение, по крайней мере формально, не имело никакого значения. Каждый удовлетворявший определенным требованиям — то есть имевший достаточно долгий стаж службы, умевший читать и писать и отвечавший некоторым другим условиям — мог, сдав соответствующие экзамены, стать офицером и продвигаться дальше… Легко понять, почему солдаты столь неохотно переходили на сторону восстания; это означало не что иное, как возврат под «опеку», которой многие из них стремились избежать… А также конец всяческим амбициям и мечтам. В таких обстоятельствах следовало скорее удивляться нейтралитету гаррийских рыбаков; личный интерес велел им сражаться рядом с имперскими солдатами, и сражаться насмерть. Если так не происходило, то на самом деле лишь потому, что рыбак этот ощущал себя гаррийцем. Лерена, наблюдая, с каким энтузиазмом идут в бой крестьяне, силой включенные в состав ее войска, обо всем этом, конечно, даже не думала. Однако она явно видела, что требуется чудо, чтобы эти люди вообще дошли до неприятельских позиций. Она не слишком удивилась, когда чуда не произошло: едва в сторону наступавших полетели первые стрелы, огромная толпа тут же развернулась и бросилась назад к ее собственному расположению. В соответствии с приказом беглецов встретили выстрелами из арбалетов. Однако тяжелые стрелы, убивая и раня, не привели ни к чему, кроме того, что толпа разбежалась во все стороны, бросая вилы, цепы и колья. Половина войска Лерены в одно мгновение перестала существовать. Честно говоря, она почти обрадовалась. Вся эта голытьба лишь обременяла ее, словно ядро на ноге. Теперь она по крайней мере знала, какими силами в действительности располагает. К несчастью, она уже успела совершить ошибку. Видя скудость сил неприятеля, она приказала атаковать с ходу. В бой пошли лучшие ее отряды огнестрельная пехота и арбалетчики, при поддержке лучников. Однако атака захлебнулась под настоящим ливнем стрел, посылаемых противником. Лук не обладал такой убойной силой, как арбалет, не говоря уже о пищали, но он был скорострельным оружием. Град стрел привел в замешательство солдат и ее саму; она остановила атаку на полпути, хотя потери были невелики, и послала крестьян, чтобы те прикрыли отход. Сейчас все ее войско уже стояло готовое к бою. Она подозвала одного из офицеров. — Поведешь щитоносцев, — приказала она. — Усиль их четырьмя сотнями этих. — Она показала на добровольцев, которые не так давно едва не вызывали у нее приступов смеха. — Так точно, госпожа. Она снова обратила взор в сторону противника. Да, крестьяне разбежались, но сражение только начиналось. У неприятеля было всего несколько сотен человек! Что с того, что приходилось наступать в гору? У нее был такой перевес, что результат боя можно было считать предрешенным. Она намеревалась подавить имперских одной лишь численностью. Щитоносцы двинулись вперед вместе с несколькими сотнями всяческого сброда. Она подозвала еще одного из своих офицеров. — Двигайся следом, — сказала она. — Поддержи их. Возьми всех, кто остался. Кроме моих людей и конницы. Они остаются в резерве. — Так точно, госпожа! Офицер ушел. Щитоносцы, под дождем стрел, с трудом, но неумолимо взбирались в гору. Наблюдая за их кровавым маршем, она ощутила легкое беспокойство. Что-то было не так… Позади послышался стук копыт. Она обернулась и удивленно уставилась на одетую в серую рубашку и такую же юбку девушку, спрыгивающую с седла. Лишь мгновение спустя она узнала… Алиду! Растрепанные золотистые волосы, связанные на затылке в обычный «конский хвост», и порозовевшие щеки делали ее моложе на десять лет. Впрочем, сколько ей, собственно, было? — Что ты тут делаешь, госпожа? — спросила Лерена. — Кажется… — Кажется, вождь, мы угодили на море в большую задницу, — почти весело сказала та, но так, чтобы не слышали офицеры Лерены. — Только что до лагерей добрался гонец. — Почему не до меня? — гневно бросила Лерена. — Потому что под ним пала лошадь. В трех с лишним милях отсюда. Он прибежал пешком, едва живой. Я послала к тебе другого гонца. Это я. Главнокомандующая оглянулась на своих офицеров. Те пристально наблюдали за сражением. — Полный провал? — Разве я командую флотом, госпожа? — язвительно спросила Алида. — Не знаю, как это называется, когда два флота топят и захватывают друг друга. — Так сказал гонец? — Так из этого следовало. — Издеваешься? — со злостью рявкнула Лерена. Потом, вспомнив об офицерах, добавила: — Госпожа?! Со стороны имперских позиций донесся жуткий вопль. Лерена тут же забыла об Алиде. Щитоносцы дошли! Но путь, который они преодолели, был отмечен десятками серебристых кирас… Вторая волна наступления достигла середины поля битвы. Лерена заметила, что отряды передвигаются медленно, слишком медленно. Уклон, внешне незначительный, сильно затруднял марш. Солдаты тащили доспехи и оружие, а стрелы все еще свистели в воздухе, хотя и значительно реже; щитоносцы достаточно успешно подавляли лучников. Однако линия имперских войск, выстроившихся на вершине возвышенности, стояла непоколебимо. Лерена не могла понять, как могут легковооруженные лучники успешно оказывать сопротивление тяжелой пехоте? Так или иначе, ждать оставалось недолго… Сейчас подойдет подкрепление. Она должна была выиграть это сражение. И она была уверена, что выиграет. Тем более что флот был разбит. Независимо от того, много ли кораблей потопили или только несколько, путь для подкрепления с континента был открыт. Гарра стала ловушкой. Следовало захватить Багбу и все то, что стояло в порту, пусть даже весельную лодку. И сматываться. Но что же, отказываться от всех своих планов? — Никогда! — громко сказала она. Алида вопросительно посмотрела на нее. — «Никогда» что, госпожа? Она вовсе не выглядела столь беззаботной, какой хотела казаться… «Я никогда не откажусь от Агар, — мысленно ответила Лерена. — Но и никогда не сумею их удержать, если восстание потерпит поражение еще в этом году», — тут же добавила она. — Гавар, — сказала она через плечо, — возьми стрельцов и отправляйся на помощь этим недотепам. Мне нужна победа. Немедленно. — Козлы, госпожа… — Козлы оставь. Оставь пищали. Прикрытие с копьями, а стрельцы с мечами. Ясно? — Госпожа… — неуверенно сказал офицер. Шум сражения внезапно усилился. С неподдельным ужасом Лерена увидела, как из-за возвышенности, на которой расположились имперцы, выдвигаются два сомкнутых отряда, по дуге обходящие с тыла ее войска, сражающиеся с лучниками. Клещи быстро сжимались. Отряды были невелики, но она отчетливо видела сердцевидные щиты с желтым полем посредине, на фоне которого виднелись серебряные четырехконечные звезды Вечной Империи. Топорники Гаррийского Легиона! Предводительница мятежных войск внезапно осознала, что проигрывает. Собственно, сражение было проиграно уже давно… Оно было проиграно еще до того, как Лерена вообще его начала. Роковую роль сыграли отсутствие опыта и излишняя самоуверенность. Уличные бои в Дороне или Дране, хотя и часто ожесточенные, были, однако, скорее стычками или даже драками небольших групп, без какого-либо тактического замысла, а отсутствие выучки и командования во многих случаях уравновешивалось фактором неожиданности. Тем временем командование войском в полевых условиях (даже не слишком многочисленным) требовало много такого, о чем Лерена даже не слышала. Первым, чему не было уделено должного внимания, была разведка. Повстанцы понятия не имели, какими силами располагает противник — как вообще, так и на самом поле битвы. Те двести пятьдесят топорников, выросших словно из-под земли, могли переломить ход сражения лишь потому, что никто о них не знал. Командир имперских войск не был особо опытным солдатом, однако, как и каждый офицер империи от сотника и выше, обязан был отслужить свое на северном пограничье Армекта, где продолжалась нескончаемая жестокая война с алерскими полузверями. Благодаря этому он прекрасно знал, что резервы не только нужно иметь, но стоит их еще и укрыть от глаз противника… Лерена даже не подозревала, что то, что она видит перед собой, лишь часть вражеской армии. Прислушиваться же к чьим-либо советам она не умела и не желала. Отсутствие разведки не было, конечно, единственным грехом чересчур уверенной в своих силах предводительницы мятежников. Каждый армектанский командир хорошо знал, что численное превосходство противника может быть сведено на нет удачным выбором позиции. Элимер действовал вовсе не блестяще — напротив! Каждый знающий командир тут же упрекнул бы его в отсутствии гибкости, если вообще не в схематизме. Тактика, которую он применял, была стара, как армектанский лук… Когда-то о ее достоинствах и недостатках рассуждала Риолата; однако у Риолаты были на этот счет свои собственные мысли, которых недоставало Лерене. Прежде всего, огнестрельную пехоту ни в коем случае нельзя было использовать для наступательных операций! Оборонительной тактике Армекта Риолата хотела противопоставить своеобразную наступательно-оборонительную тактику. По ее мысли, стрельцы с пищалями, синие козлы которых образовывали нечто вроде переносного частокола, должны были сыграть роль шарнира, на котором вращалось бы правое или левое крыло, обходящее вражеские позиции с фланга; пищали, оружие достаточно громкое, должны были обеспечить поддержку наступлению, стрельцы же, прикрываемые солдатами с копьями, представляли бы собой резерв и опору для подвижных войск — резерв, способный в решающий момент поддержать атаку (задача солдат прикрытия) или являющийся оплотом для отступающих, в случае неудачи, войск; тогда забор из козел стал бы просто укреплением, хорошо защищенным огнем пищалей. Принятие боя на навязанной противником территории было ошибкой. Еще большей ошибкой была попытка нанести бессмысленный, по сути, удар, выводивший атакующих прямо под армектанские луки. Лекарство против подобных атак изобрели в Армекте несколько столетий назад! Случилось то, что должно было случиться: тяжеловооруженная пехота, упорно наступающая в гору, понесла значительные потери от стрел, прежде всего же — запыхавшиеся солдаты, лишенные поддержки собственных лучников, а также арбалетчиков и стрельцов (слишком большое расстояние между войсками), добравшись до вражеских позиций, оказались лицом к лицу с легковооруженными, но отдохнувшими лучниками, у которых, самое большее, могли болеть руки от поспешного натягивания тетив… Тяжелый топор или копье, кираса, шлем и щит, вместо того чтобы обеспечить надлежащую силу удара, стали балластом, обременяющим уставших солдат. Когда котел захлопнулся, внутри него не было ни одного отряда, который мог бы предпринять успешную попытку вырваться из окружения. В схватку двинулись резервы мятежников. И тогда выяснилось, что крестьяне, с которыми не в силах была управиться Лерена, все же могут действовать вполне успешно… Прежде всего Элимер, конечно, сжег несколько деревень, в которых прорастали зерна бунта, но другие пощадил. Ни одного крестьянина он не принуждал силой идти воевать (для армектанца нечто подобное было попросту невообразимо; Непостижимая Арилора — Военная Судьба, — покровительница каждого солдата и каждого умирающего, была благосклонна лишь к тем, кто служил ей добровольно; армектанская традиция как всегда и везде, так и здесь соблюдалась нерушимо). Однако — от имени императора — Элимер обещал крепостным крестьянам и рыбакам освобождение их деревень из-под магнатской опеки… И несколько сот человек пошли за ним по собственной воле, безо всякого принуждения. Имея их в своем распоряжении, армектанский командир показал себя с наилучшей стороны; когда синие отряды Лерены двинулись на помощьокруженным, то тут, то там начали появляться многочисленные, хотя и небольшие группы вооруженных кое-как крестьян… Отряды эти даже не вступили в бой, но самим своим присутствием связали руки повстанческим резервам достаточно надолго, чтобы разбить силы мятежников на холме. Элимер, впрочем, развлекался недолго. Силы были действительно не равны; он прекрасно понимал, что, когда перестанет действовать фактор неожиданности, окруженные отряды могут начать оказывать отчаянное сопротивление, возможно даже достаточно сильное, для того чтобы отразить натиск его людей. Кроме того, демонстративные атаки слабых крестьянских групп не могли продолжаться до бесконечности… Так что армектанский командир разбил наголову пойманных в ловушку щитоносцев и добровольцев, после чего открыл им путь для бегства и отбросил вниз по склону. Стала очевидной очередная правда войны: настоящего солдата можно узнать не по тому, как он наступает (чтобы добиться желаемого энтузиазма, достаточно напоить людей водкой), но по тому, как он отступает. Любое отступление плохо влияет на солдата, в особенности же отход в огне сражения. Дисциплинированный солдат может отступать в строю, шаг за шагом, увеличивая потери наступающих отрядов. Плохо обученный — в состоянии лишь убегать. Беспомощная, перепуганная и деморализованная банда, преследуемая меткими дождем стрел, неслась к позициям Лерены. Главнокомандующая полностью потеряла голову. Она носилась верхом от одного отряда к другому. Посреди поля сотня ее всадников резала отряд имперской конницы в сорок человек. Но и что с того! Беспомощные группы беглецов огибали островок сражающихся, мчась сломя голову. Ей бросилась в глаза большая группа серебристых щитоносцев Ахагадена, каким-то чудом собранная вместе в нескольких десятках шагов от нее… Где там! Уже не владея собой, она взвыла от ярости, увидев дикую толпу разбегающихся во все стороны добровольцев. На левом фланге арбалетчики разогнали стрелами последнюю кучку крестьян, но это уже не могло ничего изменить. Вся армия бежала прочь! Она направила коня к группе беглецов, вытащила меч, но ее опрокинули вместе с лошадью! Едва не раздавленная, она вскочила снова, призывая всю мощь своих зрачков. Капризная сила, приходившая к ней лишь иногда, на этот раз оказалась послушной: двое чудно одетых повстанцев упали, словно на всем бегу налетели на невидимую стену. Еще двоих отшвырнуло назад. Впервые она подумала о том, что красное мерцание ее глаз не более чем ярмарочные фокусы. Что, собственно, она благодаря этому приобретала? Могла выигрывать сражения? Одно издевательство! Внезапно она почувствовала себя смешной со своими огоньками в зрачках, бессильной, беспомощной. Ясно было, что вся та мощь, которую можно черпать из Полос Шерни, имеет такое же отношение к правящим миром законам, как кулак к носу! Здесь не было места глупой показухе, здесь правил разум, сила воли, меч! Остальные промчались мимо. Невдалеке она увидела нескольких своих топорников; они бежали вместе с другими… Она уже знала, к чему идет дело; она останется на этом проклятом поле битвы одна! В то же мгновение сбоку подскочил какой-то всадник: — Госпожа! — Гавар! — крикнула она, узнав командира своих стрельцов. — Голи к нашим! Забор! Залп! Офицер понял ее с полуслова. Она потеряла шлем и меч, перепуганная лошадь бегала туда и обратно. Спотыкаясь, — она основательно ушиблась! — Лерена поспешила назад, поскольку уже было ясно, что ситуация вышла из-под контроля. Во имя Шерни! Нужно было вывести отсюда своих! Рядом воткнулась в землю стрела. Лерена обернулась. Имперские лучники не торопясь спускались по склону, то и дело останавливаясь, поднимая луки и выпуская стрелы. Выше ровной линией стояли топорники — как на параде, опираясь на щиты. В нескольких десятках шагов перед ними, на правом фланге Элимера, выстраивались в две короткие шеренги арбалетчики. Те, что были впереди, присели. Им не нужно было подходить так близко, как лучникам: их оружие стреляло значительно дальше. Лерена завыла, словно волчица. Всего лишь горстка! Все это войско могло уместиться у нее под шлемом! Во имя Шерни, она уже знала, почему топорники не гонят недобитых… Их было двести с небольшим! Кто их должен был гнать? Да и зачем?! Они удержали порт, и достаточно! Флот Армекта скоро будет здесь, новые отряды солдат сойдут на берег и наведут порядок! Кто остановит имперские корабли? Ведь флот мятежников потерпел поражение! Внезапно желтые щиты тяжелой пехоты поднялись, и тройная шеренга быстрым шагом двинулась вниз по склону, словно таран! Значит, Элимер решил, что ничем не рискует, продолжая бой; он считал, что разбитое войско уже ничем не может ему угрожать! Ей захотелось заплакать — от унижения. Противник не испытывал к ней ни малейшего почтения! — Ради всех сил… — проговорила она с яростью, но вместе с тем с неподдельным страхом и стыдом… Она повернулась, чтобы бежать к своим, и в то же мгновение застыла как вкопанная. Послышался могучий, протяжный гул. Сначала она увидела облако дыма. Тут же раздалось еще несколько отдельных, запоздалых выстрелов, в дымовом облаке что-то блеснуло… Она стояла, с трудом понимая, что произошло. Ветер развеял дым, и она увидела своих стрельцов, прикрытых наклонным, ровным забором… Разряженные пищали висели на козлах, вставленные в специальные зажимы; стрельцы устанавливали на опоры запасные. Перед сплошной синей преградой она увидела некое подобие братской могилы. Какие-то люди корчились в крови, крича; множество тел лежало неподвижно. Солдаты, носившие козлы, а теперь игравшие роль прикрытия, стояли по флангам стрельцов с выставленными вперед копьями… Они были потрясены. Так же как и сами стрельцы, творцы этой бойни. Она поспешно оглянулась. На склоне неподвижно застыли шеренги имперских лучников, так же как и колонна серебристо-желтых топорников. Потом вражеские отряды начали отступать в гору, назад… — О, ради всех сил… — снова повторила она. Акция огнестрельной пехоты завершила сражение. Эффект был поразительный: последние убегающие группки стояли на месте, глядя туда, где все еще стоял неподвижный строй синих солдат. Подсотники и сотники, придя в себя, начали собирать эти группки в отряды. Похоже, впервые в истории убийство собственных солдат удержало противника! С паникой удалось справиться. Однако, сражение было, так или иначе, проиграно. Кто не сбежал — лежал убитый или раненый или попал в плен. Кроме стрельцов и арбалетчиков у нее осталось человек триста, может быть четыреста. И она прекрасно понимала, что толку от них теперь ровно столько же, сколько от тех крестьян, что незадолго до этого бросились в бой. Победить восемьсот имперцев было уже невозможно. Она проиграла. Но у нее все еще были ее люди… Не все; после первой атаки и всеобщего бегства осталось, может быть, две с половиной сотни. Но она внезапно поняла, что — ввиду поражения флота — это единственные серьезные силы, которыми теперь располагает восстание. Так что она лишилась еще не всех козырей. К ней начала возвращаться прежняя уверенность в себе.57
Поля боя она, однако, не сдала. По многим причинам. Прежде всего, после всего, что она увидела, она начала догадываться, что отступление станет одним большим дезертирством. Не только повстанцев, но также и ее наемников. Она приказала распространить слухи об очень высоких потерях врага и запретила говорить иначе как о «первом дне сражения». Она прекрасно сознавала, что «второго дня сражения» не будет и быть не может, поскольку ее войско неспособно наступать. Но столь же хорошо она знала, что и имперцы атаковать не станут. Вечером пришли первые подробные известия о поражении на море. Все было так, как сказала Алида: ко дну пошли несколько кораблей с каждой стороны, кроме того, имперцы захватили два барка (реквизированных у купцов), в том числе один очень старый, и два фрегата, повстанцы же — фрегат и какие-то мелкие корабли. Однако отсутствие развязки означало победу имперских сил; все отчетливо понимали, что можно даже не мечтать о том, чтобы остановить армектанские эскадры, учитывая присутствие ослабленного, но все еще существующего Главного Флота Гарры и Островов. Восстание агонизировало. Все эти безрезультатные сражения были лишь отсрочкой окончательного приговора. Лерену не особо интересовал исход восстания. Тем не менее столь быстрое его поражение почти полностью перечеркивало ее планы и надежды. Вот именно: почти… Ибо шанс все же был. Несмотря на провал восстания, имелся шанс, что удастся захватить и удержать Агары. Способом, который можно было назвать не столько рискованным, сколько попросту смертельно опасным. Она подумала о нем, когда оказалось, что одна из доронских эскадр — три фрегата Ахагадена — опоздала на морское поле боя. Алида и Ахагаден попали в немилость. Алида… Лерена все еще находилась под впечатлением победы над ней в борьбе за высшее руководство. Победа пришла легко. Может быть, даже слишком легко… Но она явно видела, что блондинка с момента начала восстания выглядит парализованной. Свою силу она черпала от армии шпионов и доносчиков, могущество ее, словно по иронии судьбы, соответствовало могуществу Трибунала. Теперь же, когда эта организация рассыпалась под ударами мятежников, Алида оказалась почти беззащитной. Ее талант перестал быть нужным, она осталась с пустыми руками, не в силах оказать сколько-нибудь существенного влияния на ход событий. Она перехитрила саму себя! Лерена была убеждена, что справится с надменной блондинкой без особого труда. Проблема была в другом. План был попросту рискованным. Всеобщее замешательство на Гарре благоприятствовало безумным предприятиям, были у нее и свои люди, для которых в рядах повстанцев, похоже, не было противовеса. Однако расчеты ее могли с легкостью не оправдаться. Любая деталь могла разрушить все планы. Она нашла Алиду в лагере. Наблюдатели из штаба уехали (или, скорее, сбежали) сразу же после того, как выяснилось, что войско потерпело поражение. Алида осталась. Лерена хорошо ее понимала: в Дране на нее всегда смотрели косо, и тем более после того, как она отдала командование женщине и к тому же — полукровке-армектанке. Теперь же еще оказалось, что эта наполовину армектанка со своей задачей не справилась. И наконец, чашу переполнило опоздание Ахагадена. Лагерь разместился вокруг небольшого селения, названия которого Лерена не помнила. Алида не заняла ни одной из хижин, донельзя грязных и убогих, предпочтя палатку. У входа горел костер, рассеивая ночной мрак. Две женщины смотрели друг другу в глаза над пляшущими языками пламени. — Если кто-то на самом деле проиграл, так это мы, — в конце концов прямо заявила Лерена. — А ты, похоже, даже больше, чем я. Алида не ответила. — Поговорим. Но не здесь, — предложила Лерена. — О чем? — Не здесь. — Тогда где? — Где угодно. Алида, поколебавшись, вошла в палатку. Вскоре она вернулась в наброшенной на плечи куртке. Они миновали ряд повозок, углубляясь в темноту. — Похоже, — спокойно сказала Лерена, — все закончилось? — Кажется, ты хочешь завтра опять сражаться? Лерена на мгновение остановилась: — Ты в это поверила? Алида смутилась, и — несмотря на густую, скрывающую все вокруг тьму Лерена могла бы поклясться, что та покраснела. — Не… не знаю, — пробормотала она. — Я не слишком разбираюсь в военном деле. Лерена неожиданно поняла, что Алида проиграла в еще большей степени, чем ей казалось прежде. Если чьи-то планы и рухнули полностью, так это планы Алиды! Для империи она была изменницей, для восстания — в лучшем случае неудобной и нежелательной персоной. Даже если каким-то чудом мятежникам удалось бы одержать победу, то кто-то должен был стать козлом отпущения, ведь далеко не все пошло так, как предполагалось… Она, Лерена, была теперь последней надеждой для Алиды! Что за ирония судьбы! Представительница Судьи Трибунала верила во второй день сражения, поскольку ничего иного ей не оставалось. Если бы Лерена еще могла победить, это подтвердило бы по крайней мере справедливость передачи ей командования. Не говоря уже, естественно, о значении победы восстания для самой Алиды, для ее планов. Лерена испытала ни с чем не сравнимое блаженство, словно ее благородие Алида уже стояла перед ней на коленях и просила о помощи. Во имя Шерни, стоило проиграть эту битву, чтобы увидеть унижение золотоволосой дамы! «Ты хотела восстания, — язвительно подумала она. — Ну вот, ты его и получила! Что, не вышло? Как же мне жаль, дорогая! Но ты сама виновата, поставив все на одну-единственную карту…» Они молча шли рядом друг с другом. — Кажется, твой Ахагаден не явился на бой? — почти сладострастно шепнула Лерена. — Как это так получилось? На этот раз остановилась Алида. — Случайность, — сказала она со столь безнадежной яростью, что Лерена ей сразу поверила. — Проклятая, проклятая случайность! Словно мало было всего… Случайность. Они пошли дальше. — Теперь, однако, — снова сказала Лерена, — все кончено… Я проиграла сражение. И не могу начать его снова. Я распустила слухи, чтобы сдержать дезертирство. Стоит вслух сказать, что все пропало, и утром даже мои наемники сбегут. — Неужели эти высокие потери имперцев… — Невероятно высокие! Может быть, сто человек с небольшим, из них менее половины убитых. Остальные — раненые, некоторые скоро вернутся в строй. Такова правда. Если посчитать дезертиров, которые перешли или еще перейдут на сторону Элимера, то окажется, что имперцы в этом бою еще и пополнили свои ряды. Достаточно? Алида молчала. — Ты и в самом деле связывала все свои планы с освобожденной Гаррой? Это ошибка, — буркнула Лерена. — Почему ты все время говоришь обо мне? Ты ведь, кажется, хотела ослабить Армект? Ну и как? — Может быть, да… а может быть, и нет. Это была лишь одна из возможностей. Может быть, найду другие, чтобы добиться своего? — Тогда желаю удачи. Лерена кивнула, хотя блондинка и не могла этого видеть. Ночь была темной, хоть глаз выколи. — Помнишь, за неделю до начала всей этой авантюры ты сказала, что мы нужны друг другу? Думаю, в этом смысле ничего не изменилось, Алида. — Что ты хочешь этим сказать? — То, что дело твое дрянь. Если тебя не повесят имперцы, то уберут мятежники… Виноватый всегда найдется. Кому мне это объяснять? Тебе? — Как-нибудь справлюсь. — Сомневаюсь. Однако, если ты так считаешь, значит, не о чем говорить. — У тебя ко мне какое-то предложение? — помолчав, спросила блондинка. — Кто знает?.. — Ближе к делу. — У тебя есть корабли. И люди. — А, вот ты о чем… Да, есть. Ну и что? — У меня только люди… Люди, которых я намерена отсюда забрать, пока еще не поздно. — А куда? — Туда, куда я всегда хотела. Тебе поправит настроение, если ты узнаешь, что этот твой Ахагаден украл лакомый кусок прямо у меня из-под носа? Ваше восстание нужно было мне лишь затем, что я хотела заполучить те фрегаты. И только во вторую очередь — чтобы отвлечь внимание империи. К Алиде, похоже, в самом деле начал возвращаться прежний пыл. — Значит, красавица, — сказала она, — ты хотела отсюда смыться, подорвав в решающий момент наши силы? Да еще и украсть корабли? — Именно. Так я и хотела поступить. Алида глубоко вздохнула: — Ну спасибо… Не стану говорить «поганая шлюха», а то ты на меня кинешься. — Я ответила бы: сука… Я заняла Дорону, чтобы услышать, что на самом деле победу одержал Ахагаден, доказательством чему — захваченные корабли. — Хмм… — удовлетворенно проговорила Алида. — Но, но… Мы уклоняемся от темы. — Сначала скажи, что за люди у Ахагадена. Только честно, сегодня ложь нам ни к чему. — Всякий сброд, как и остальные: пираты, вышвырнутые из войска солдаты, портовые воры… Но платят им из казны восстания. — Или из того, что ты украла у Трибунала, то есть у императора? — И из того, что дали те гаррийские дурни вроде Ганедорра. «Святое дело освобождения Гарры». — Подожди, значит, у Ахагадена… — Одни наемники. Добровольцы остались на берегу. Это те, кого ты сегодня позволила перерезать. — То есть топорники Ахагадена пойдут куда угодно. За золото. — Так же, как и твои. — Сколько их? — Точно не знаю. Больше сотни, но наверняка не две. С тем, что на этих кораблях есть еще немного имперцев, которые перешли к нам. Ну и матросы, ясное дело. Но теперь, моя прелесть, я хочу услышать твои ответы. Куда ты хочешь плыть? — На Агары. Алида застыла как вкопанная. — Куда?! — Кричи громче. На Агары. — Зачем? Ты знаешь, что это такое? Два острова на краю света! Что ты там забыла? — Ничего не забыла… А что это такое, я знаю. Может быть, ты знаешь лучше? — Лучше? Ради Шерни, я там полжизни проторчала! Лерена лишилась дара речи. — Издеваешься? — Я работала для Трибунала, в Ахелии. Несколько лет назад. Лерена явно заинтересовалась: — Несколько лет… назад? — Восемь, десять… Довольно давно. — И ты там была шлюхой? Так же как в Дране? — Конечно, добродетельная ты моя. Лерена внезапно вспомнила свой разговор с Раладаном или, скорее, его рассказ… Вскоре после того, как она узнала, подслушав, что Ридарета дочь Раписа. «Шлюха Чистой Крови… из Ахелии…» — Я слышала, — пробормотала она, — что в Ахелии полно шлюх… — Да? Может быть. Хочешь отправиться туда за шлюхами? Лерена поняла, что еще немного, и старая интриганка сообразит, что вопросы ей задают не просто так. — Нет, — ответила она, решив отложить дальнейшие расспросы на потом. Зачем искать так далеко? Затем она вкратце изложила блондинке свой план. Они сидели на холодной траве, у края небольшого леска. — Как видишь, — сказала Лерена, — ты мне действительно нужна. — В самом деле. Только надолго ли? — О, надолго… Заметь, я ни разу не говорила, что там мы будем на равных. Агары слишком малы для того, чтобы мы могли править там вдвоем. Но мне нужны и будут нужны шпионы. В Дартане, в Армекте, во всех провинциях… В самом Кирлане. И на Агарах. Кто-то должен этим руководить, и руководить четко. Почему бы не ты? — Министр шпионов. В пиратском княжестве. И это должна быть я? — Насколько я знаю, после освобождения Гарры ты собиралась заниматься чем-то подобным. — Подобным?! Ну нет, мне просто весело становится. Если не видишь разницы — прошу извинить и глубоко сочувствую! Во-первых, Гарра — это не какие-то там Агары. Во-вторых, у меня здесь наследство моего незабвенного супруга… — Это наследство погибло, и ты прекрасно это знаешь. — Ну и что, что погибло, в крайнем случае я вышла бы замуж за другого. И, третье и самое главное, кто управлял бы таким, к примеру, Ганедорром? Но на этих твоих Агарах… Ты же прекрасно понимаешь, что для меня означает второстепенный пост на таких… задворках! Может быть, тебе польстит, если я скажу, что не знаю, как я могла бы управлять тобой. Может быть, когда-нибудь я и нашла бы способ, но ведь ты прекрасно знаешь, чего от меня ждать. Нет, девочка моя. Я отдам тебе корабли, отдам своих людей, помогу тебе завладеть повстанческой казной, вернее, тем, что от нее осталось, и все это лишь затем, чтобы оказаться за бортом, едва покажутся агарские берега? Или даже раньше? — У тебя есть мысли получше? Сама прекрасно знаешь, что тебе придется отсюда бежать. — Но не в петлю. — Может, рискнешь? — Рискнуть? С удовольствием. Я всю жизнь только и делаю, что рискую. Но тут я не вижу никакого риска. Вижу только петлю. Столь же однозначно, как и то, что солнце всходит и заходит. Лерена задумалась. — Выход все же есть, — неожиданно сказала блондинка. — Возможно, найдется способ получить от тебя достаточные гарантии. Сначала, однако, я хочу удостовериться, что ты знаешь, что делаешь. Как ты все это себе представляешь, дорогая моя? Теперь? Я понимаю, что втягивание империи в войну с Гаррой дало бы тебе время, необходимое для того, чтобы укрепить Агары. Все это очень хрупко, однако, скажем так, возможно… Но теперь? — Теперь, когда у меня меньше времени, я могла бы иметь больше сил. Вместе с твоими людьми — полтысячи одних солдат. Ну и флот! Если бы в соответствии с моим планом Ахагаден захватил еще несколько кораблей… Ты сама призналась, что это возможно. Добавь к этому три, а если все пойдет как надо, то и пять моих парусников… Теперь подсчитаем наших людей. Полтысячи, так? Ну так захватим Дран и все золото, какое еще осталось у Ганедорра. С этим золотом у нас к весне были бы пираты. Семь, восемь кораблей. Все вместе — уже почти двадцать. Откуда империя возьмет флот, который сможет с ними справиться? Императору придется в первую очередь восстановить силы Гарры. А потом? Агары должны только обороняться. Прибрежные воды могут охранять многочисленные лодки, которые поддержат наш флот. Дешево и эффективно. На таких лодках морские шакалы нападают на вооруженные торговые барки. А знаешь, как дерутся пираты? Во имя Шерни, потребуется тридцать больших кораблей, чтобы отбить Агары! Думаешь, империя на это пойдет? Одна война, сразу за ней — другая? Множество влиятельных людей в самом Кирлане начнут крутить носом, нужно будет умело разжечь антивоенные настроения — золотом, не знаю, чем еще? Вот как раз задача для тебя! Как же я могу вышвырнуть тебя в море? Такое сокровище? Самую предательскую, лживую и ядовитую змею Шерера? — Если бы ты знала, как мне нравится тебя слушать… Несмотря на язвительные слова, в голосе Алиды Лерене послышалось что-то еще… Восхищение. Значит, все-таки… Темнота скрыла улыбку. Она была уверена, что подобный план может ошеломить своим размахом даже Алиду. Особенно Алиду. Проигравшую авантюристку. — В Кирлане будут раздаваться голоса протеста, — повторила она. — Там ведь любят жить спокойно, обогащаться, а тут император увеличит налоги, поскольку без этого… Каждая война — это деньги, расходы и расходы! А уж тем более война на море! И ради чего? Двух островов на краю света? Даже победа повлечет за собой потери людей и кораблей, то есть новые расходы! А поражение? — Увлекательно, — с иронией заметила Алида. — Но как долго ты собираешься платить своим пиратам? И всем наемникам? Раз уж речь зашла о расходах? — Недолго… Очень скоро наступит осень, а тогда те же самые пираты охотно будут отдавать золото за право безопасной стоянки в Ахелии во время штормов. У них будет свой порт, а в нем таверны, шлюхи и все, чего может желать моряк. Пройдет осень, и наши пираты будут даром защищать, клыками и когтями, свои острова! Где можно починить поврежденный штормом такелаж, пересидеть осень, скрыться от облавы, дешево купить сведения о ценных грузах и всяческих грязных делишках, на которых можно заработать. Китобои, как и прежде, вытопят жир из китов, а я его куплю и отвезу на Гарру, где продам, и притом с прибылью… То же самое с медью. Я дешево куплю любую пиратскую добычу — и снова продам. Много ли нужно, чтобы открыть купеческие конторы тут и там? В них будут сидеть приличные люди, с очень чистыми руками… Мне это хорошо знакомо! — Чтоб мне провалиться, — пробормотала Алида, — звучит недурно. Жаль, что я не могу принять участия в игре… на твоей стороне. — Ты говорила о каких-то гарантиях, которые тебя устроят? — Забудь. Некоторое время обе молчали. — У тебя нет выбора, — голос Лерены стал холодным. — Думаешь, я рассказываю тебе обо всех своих планах лишь затем, чтобы услышать в ответ «нет»? Ты сделаешь все, чего я потребую. Ты согласишься на все здесь и сейчас или… Лерена достала меч. — Да, — поспешно сказала Алида. — Я согласна, конечно согласна! Ручаюсь честью и подаю тебе руку. Решено? Лерена чуть не рассмеялась. — Теперь я скажу, что требую гарантий. — Каких? Какие гарантии я могу тебе дать, здесь и сейчас? — Каких… Думаешь, я пришла, чтобы обо всем тебе рассказать, не будучи уверена, что мы придем к согласию? — Издеваешься? — спокойно спросила Алида. — Я что, похожа на тех, кто издевается над серьезными делами? Мне нужны твои корабли. И золото Ганедорра. Ты будешь со мной до тех пор, пока все не закончится. Мы просто не расстанемся, Алида. — Даже об этом и не думай. Ради Шерни, откуда только берутся такие глупые бабы? Ну почему все мои противники как дети? Это несправедливо. Пошла прочь, девчонка! Лерена выставила перед собой меч, пытаясь разглядеть в темноте очертания собеседницы, и коснулась острием ее шеи. — Повтори еще раз. Мне не хочется сидеть здесь всю ночь. — Рискни, — громко сказала Алида. — Она не шутит, — добавила она, обращаясь неизвестно к кому. В темноте щелкнула тетива. Сила удара стрелы бросила Лерену на землю. Она вскрикнула, схватившись за пробитое плечо. — Я здесь! — взвыла Алида, перекатываясь по траве. Среди безлунной ночи выросла огромная фигура, лязгнул меч. Лерена приподнялась, левая рука ее беспомощно висела, правая же лихорадочно искала выроненное оружие… Проклятая сила Гееркото нарастала в ней медленно, слишком медленно. Ладонь сжала рукоять меча, девушка вскочила, но в то же мгновение в воздухе раздался свист, на нее обрушилось нечто подобное самой смерти; темные вершины деревьев быстро пронеслись над ней по широкой дуге и исчезли; какое-то черное пятно прыгнуло ей навстречу, все ближе и ближе, в лоб ударило холодом; и ее охватила боль, какой она никогда еще не знала. — Забери это… с меня! — истерически взвизгнула Алида. Великан отбросил меч, подхватил безголовое дергающееся тело под мышки и оттащил в сторону. Алида поднялась и, вся дрожа, прижалась к слуге. — Все… все, госпожа, — проговорил он сдавленным, не своим голосом. Она судорожно обнимала его, постепенно приходя в себя. — Кровь, — хрипло сказала она. — Я вся липкая… Вся. — Больше я не хочу таких заданий, госпожа. Сначала я все время терял вас из виду… а потом стрелял вслепую! Ради Шерни, я ведь мог попасть в тебя, точно так же как и в нее… Еще немного, и так бы и случилось! Никогда больше, госпожа! Обещай. Если бы… если бы я попал в тебя… голос его сорвался. Она сжала могучую руку. — Идем отсюда… Она сделала шаг и вскрикнула, споткнувшись обо что-то… Великан с яростью наклонился, нащупал это «что-то», схватил за волосы и изо всех сил швырнул в лес. — Я хочу, чтобы ты знала, госпожа, — в гневе крикнул он, — что никогда я не убивал с большим удовольствием! Клянусь, госпожа, в этой женщине было нечто отвратительное! — Идем отсюда! — повторила она, прижимая руку к отчаянно бьющемуся сердцу. — Наивные глупцы — проклятие этого мира… Но и мое благословение, ради Шерни… До рассвета тело на краю леса успело окоченеть. Ненужная, бессмысленная машина, которой не станет управлять ни одна слепая сила, как бы ее ни называть — жизнь, мощь или как-то иначе… Зачем оживлять то, что не видит, не слышит, не мыслит? В двадцати шагах дальше в лес, под ветвями орешника, первые падающие с деревьев листья цеплялись за нечто напоминавшее кучу засохшей травы… Растрепанные, слипшиеся от крови волосы скрывали голову необычной девушки, которой никогда не дано было жить. Израненное лицо утыкалось в землю… а присыпанные ею губы временами шевелились, словно повторяя чье-то имя, которое, однако, не могло прозвучать, поскольку не было легких, которые дали бы воздуха гортани… Лерена все еще видела… слышала… и чувствовала. Тело похоронили двумя днями позже. Голову никто специально не искал, хотя достаточно было пройти туда, где смыкались кусты… Но трупов, которые нужно было похоронить, хватало и без того. Восстание.58
— И все-таки никак не пойму, — недоверчиво наморщила нос Ридарета, что там насчет крепости? Я в этом совершенно не разбираюсь, но думаю, что для того, чтобы окружить целый город и порт стенами, какими-то башнями и всем прочим, потребуются многие годы… Десять лет? Двадцать? Таменат склонился над столом, крепко упираясь единственной рукой в его крышку. — Знаете, что такое Брошенные Предметы? На самом деле? Раладан и девушка переглянулись. — Много веков назад, — начал Посланник, протягивая руку к кубку с ромом, — Шернь сотворила Шерер. По каким причинам это произошло, мы не знаем. Но причины эти — единственный бог вселенной, бог, который правит такими силами, как Шернь. Этого бога-Причину мы зовем Забытым. Раладан кивнул. — Не понимаю, — тем не менее сказал он. — Ну и хорошо, — согласился Таменат. — Чтобы понимать, на то есть такие старики, как я, а ты можешь верить мне на слово; если нет — иди занимайся своими парусами. Разум возник, как предполагают, — продолжил он, — лишь затем, чтобы стать на страже равновесия мира. Создатель разума не вся Шернь, а ее отдельная живая часть, одновременно являющаяся как существом (богом), так и чистой созидательной силой. Мы называем ее Ронголо Ронголоа Краф, или Великий и Величайший Спящий, или лучше — Не-Бодрствующий. Великий и Величайший спит себе (или, скорее, не-бодрствует) где-то в Безымянной Земле. Никто не знает, как он выглядит. К сожалению, а может быть, к счастью, он не слишком трудолюбив: просыпается раз в несколько сотен лет и сразу же дает разум очередному виду животных. Людям, котам и стервятникам он его уже дал. Страшно подумать, что когда-нибудь он может дать его свиньям или еще кому-нибудь, кто приятен на вкус. Посланник выпил за здоровье молодых и закусил сушеной колбасой. Зубы у него были крепкие, как у коня. Ридарета, еще мало знавшая великана, в сотый раз за этот день бросила взгляд на Раладана, словно спрашивая, действительно ли именно так выглядит лах'агар, легендарный мудрец-Посланник. Она всегда — так же как и тысячи других людей — считала, что это обязательно должен быть седобородый, почтенный старец, излучающий силу, говорящий о Шерни с глубоким уважением и серьезностью… Этот же как ни в чем не бывало потягивал ром из кубка. — Ронголо Ронголоа Краф, — продолжал с набитым ртом Таменат, — отец разума. Чтобы разум мог править миром, созданным Шернью, он должен был быть сотворен по ее образу и подобию. — Таменат покачал лысой головой: Но это не так. Ибо Шернь, за исключением Проклятых Полос, так или иначе ею отвергнутых, пребывает в идеальном равновесии. Тем временем разум (в особенности человеческий) формирует мир по-разному, лучше или хуже, но равновесия в том не видно. Отсутствие равновесия — всегда зло. Сказки, которые тебе рассказывал горбун в таверне, — обратился Таменат к Раладану, — звучат красиво, ибо идут вразрез с человеческим пониманием. Человеческим, — подчеркнул он, — ибо разум кота уже воспринимает мир несколько иначе, ему ближе разделение на правильное-неправильное, чем на хорошее-плохое. Полосы Шерни не плохие и не хорошие. Скорее активные и пассивные, хотя и это не вполне верно. Действие и противодействие. Таменат поднял свой кубок и протянул его Раладану. — Стукни. — (Сосуды легко ударились друг о друга, словно бокалы в дартанском тосте.) — Сейчас я показал вам, что происходит в лоне Шерни, — объяснил Посланник, по очереди показывая на кубки. — Темная Полоса и Светлая, ты ударил, мы оба почувствовали удар, действие и противодействие, кубки остались на месте, равновесие, — перечислял он. Он наморщил лоб, подняв брови. — Какой из кубков плохой, а какой хороший? — спросил он, словно прикидываясь дурачком. — Значит, нет ни зла, ни добра? — удивилась Ридарета. — В Шерни? Нет. А в мире… Гм, тут все не так просто. Прежде всего, нет равновесия, а отсутствие такового — всегда зло. В случае Шерни попеременным преобразованием математических формул можно свести произвольную пару Полос к простой системе уравнений. Однако математические модели Шерни строятся в предположении идеальных условий. В отношении мира они бесполезны, ибо деятельность разума поддается, самое большее, статистическому подходу. Таким образом, математическое равновесие Шерни является лишь фундаментом философии, описывающей ее сосуществование с миром. И в конце концов, именно из философии, а не из математики следуют Законы Всего… Он замолчал, видя, что заговорился. Раладан поглядывал на него искоса, что, видимо, должно было означать «здоров ты болтать». Ридарета щекотала в носу прядью волос; наконец она чихнула. — Вернемся к Брошенным Предметам, — тяжело проговорил Таменат. — Они были созданы для того, чтобы быть отражением Полос Шерни. С их помощью можно не только строить модели, но и черпать из Полос: либо Темных, либо Светлых, либо и тех и других, но всегда только из тех, отражением которых является данный Предмет. В Брошенных Предметах записаны принципы равновесия Шерни. Однако, похоже, не все. Ронголоа Краф пользовался Предметами так же, как плотник инструментами. Но Краф сам является частью Шерни. Кроме него, никто не в состоянии использовать Предметы в соответствии с их предназначением и возможностями. Я только что сказал, что не все принципы равновесия Шерни содержатся в Предметах. Я утверждаю так (и не я один) потому, что разум, а значит, и мир не находятся в равновесии, помните об этом. Что-то тут явно не так. — Недостает… добра? — спросила Ридарета. — Недостает активности, — с нажимом сказал Таменат. — Злом является лишь отсутствие равновесия. Чрезмерная активность или пассивность разрушает равновесие. Избыток добра — зло, так же как и его недостаток. Он уже забыл, как разговаривают с людьми. Теперь он понял, что таким образом он ничего не добьется. Понятия, которыми он оперировал, ничего для них не значили. Зло и добро — вот что казалось им важным, понятным и точным. Зло и добро, такое, какое они наблюдали. Он вынужден был начать говорить на их языке, если не хотел разговаривать сам с собой. Некоторое время он размышлял, как, собственно, говорить о причинах, поставив на их место следствия. — Так вот, друзья, — попытался он, — разум, судя по всему, имеет больше возможностей творить добро, нежели зло. То, что он их не использует, другое дело. Может быть, потому, что зла слишком мало? Он борется с ним. Вместо того чтобы умножать добро, он устраняет зло, поскольку кажется, что легче его уничтожить, чем создать противовес добра. Понимаете? Наказание для злодея вместо награды для творящего добро… Разве каждый добрый поступок вознаграждается? Почему же тогда преследуется и наказывается любое злодеяние? Это, похоже, ни к чему не ведет. И быть может, именно поэтому Шернь позволяет отвергнутым Полосам проникать в мир. Проклятые Темные Полосы, активные, — напомнил он. — Подобная активность является чуждой и потому опасной, то есть приносящей зло Шереру. Должен быть создан противовес в виде добра. Вот только стоит помнить, что механизмы, управляющие Шернью, не всегда оправдывают надежды. — Он постучал пальцем по столу. — Так что, я думаю, вместо того, чтобы творить и вознаграждать добро, для чего столь хорошо приспособлен разум, скорее будет предпринята борьба со злом. Конечно, рассказывая обо всем этом, я многое упростил. Тем не менее в общих чертах… — Он покачал головой. — Ты не ошибаешься, господин? Таменат долго изучал взглядом ее сосредоточенное лицо. — Во что-то надо верить, — наконец сказал он. — Математика одна для всех; принципы равновесия Шерни неоспоримы. Но философий много; нет одной, общей для всех Посланников. Я представил вам свою, в очень общих чертах. Во что-то надо верить, — повторил он. — Значит, это вера? Не разум? — Вера, красавица. Вера в собственный разум. Она пошевелила губами, словно повторяя его слова. — Брошенные Предметы, — напомнил, деловой как всегда, Раладан, которого проблемы добра и зла, похоже, интересовали ровно настолько же, как выброшенный за борт старый сапог. — Брошенные Предметы — отражение Полос Шерни… Что-нибудь еще? — Дорлан-Посланник, — снова заговорил Таменат, — великий мудрец Шерера, называл некоторые… группы черт Брошенных Предметов свойствами. Каждый Предмет обладает свойствами. Первое свойство — возможность установления контакта с помощью Предмета с определенными Полосами Шерни; сюда входят также математические признаки Предмета… — Внезапно он замолчал и махнул рукой. — Хватит математики. Теперь второе свойство, наиболее ценимое строителями замков, — Таменат скривился, — и шутами, кувыркающимися в воздухе. Это особые черты, присущие лишь некоторым Предметам. Я скажу о них чуть позже. И наконец, третье свойство, редко проявляющееся: влияние, которое оказывает Брошенный Предмет на его владельца… Этим свойством обладают только Гееркото. В особенности же Рубин Дочери Молний… Ридарета подняла голову. — Ты говоришь обо мне, — совершенно спокойно сказала она. — Нет, девочка. Твоя жизнь — жизнь Рубина, это правда. Но у тебя есть еще и разум. Хорошо, что твоя жизнь и твой разум нашли наконец общий язык. Они молча размышляли над только что услышанным. — Я наблюдатель, — сказал Посланник, словно предупреждая вопрос. — Меня интересуют Законы Всего, ибо они касаются разума и жизни, а разум, как я сказал, должен был быть создан по образу и подобию Шерни. Мы уже знаем, что он не является точной ее копией. Но тем не менее. Ты, красавица, весьма благодарное поле для наблюдений. Ибо то, что произошло с тобой, показывает, как действует в Шерни механизм, поддерживающий в равновесии ее сущность. Равновесие — это победа. Ты победила. Снова наступила тишина. — Не понимаю… — одновременно произнесли Раладан с Ридаретой и переглянулись. — Каждая война, даже победоносная, влечет за собой потери. Много веков назад Шернь, сражаясь с чуждой мощью, Алером, потеряла больше Светлых Полос, чем Темных. Чтобы сохранить равновесие, две Темные Полосы были изъяты из сущности Шерни, эти Полосы уже не Шернь… но они существуют. И Шернь, похоже, иногда ими пользуется, хотя бы позволяет им влиять на судьбы мира. И у тебя тоже были свои ненужные Полосы. Разные предубеждения, сомнения… Ты их отбросила. Теперь ты наверняка будешь разрушать и уничтожать… Но что с того? Важнее, что ты нашла свое добро. Просто добро. Ибо каким оно может быть? У каждого есть свое собственное, иногда у многих есть общее. Но одного добра, единого для всех, нет и быть не может. Не должно быть. Прежде всего необходимо равновесие. Это оно — величайшее на свете добро. Ты боролась со склонностью творить зло, и что из того вышло хорошего? Вот этот, — он показал на Раладана, — девять лет мучился из-за того, что какая-то свихнувшаяся девица вбила себе в голову, что не станет помогать своему опекуну-пирату. Ну он и пошел резать людей, словно свиней. — Так… что же такое мое добро? — напряженно спросила она. — Хотя бы добро твоего отца. Она медленно покачала головой. — Не того призрака на Просторах, который, будучи орудием отвергнутых Полос, сумел все же им противостоять. Думаю, он заплатил за это тем суррогатом жизни, который ему оставили. Но не о нем речь. Таким отцом, что воспользовался тем, что у него между ног, и не более того, может быть каждый дурак… Я говорю о твоем отце, — он показал пальцем на молчавшего Раладана, — самом настоящем из всех, каких ты могла бы иметь, если отцовством называть исполнение отцовских обязанностей. Попробуй теперь возразить, малышка. Скажи, что не отдашь за него жизнь, если потребуется. Ну, скажи! Наступила долгая тишина. Раладан смотрел на свои сплетенные пальцы. — Этот старый лысый прохвост говорит правду, — серьезно сказала Ридарета. — Ты хотел бы иметь дочь, Раладан? Он взволнованно поднял взгляд: — Я имею ее уже девять лет, Рида… Может быть, действительно пора честно себе об этом сказать… Она запрокинула голову, глядя в потолок. — О, наконец-то… Никогда не знала, как тебе сказать, чтобы ты прекратил называть меня этим проклятым словом «госпожа»! — сказала она, крепко его обнимая. Таменат, подавив улыбку, отхлебнул из кубка. — Сейчас закончу, — после небольшой паузы сказал он, — и пойду, можете строить ваши паршивые пиратские планы. Мы везем с собой много Предметов. Их «вторые свойства» могут послужить хотя бы для строительства замка. Что ж, цитадели Посланников на Черном Побережье, да и моя собственная башня, возникли очень похожим образом. В Безымянной Земле постоянно существует… нечто вроде сияния, исходящего от Полос. Тому, кто знает, как использовать силу этого сияния, вовсе незачем бегать с сундуком Гееркото под мышкой. Однако на Агарах того, что я назвал сиянием, нет. Поэтому нужны будут сами Предметы. Среди них есть такие, что увеличивают силу мускулов. Есть такие, что режут скалы, и такие, что переносят камни по воздуху. Плоская красная раковина с дырой посредине, называемая Кольцом Обольщения, наколдует вам пятьдесят шагов стены там, где ее не хватит. Конечно, это будет стена из воздуха, но никто не отличит ее от настоящей, пока не дотронется. То полукруглое чудо, про которое ты спрашивал, — он кивнул в сторону Раладана, — это Веер. Проведи его краем по поверхности двух каменных блоков и соедини их — и больше уже не разделишь. Необходима крайняя осторожность, этот Предмет накрепко склеивает все, чего коснешься его краем и потом соединишь. Дайте его дураку, и он до конца жизни будет ходить со сложенными руками… Но человек внимательный и умный возведет с помощью Веера столп до самого неба, не пользуясь раствором. Я мог бы перечислять еще долго. Есть Предметы, которые вам очень пригодятся, другие — меньше, а некоторые не пригодятся вообще. Те последние можно продать; с помощью золота замок можно построить столь же быстро, как и при помощи Брошенных Предметов… Старые городские стены достаточно будет починить, а вокруг самого порта, я уверен, не пройдет и года, как встанут укрепления, которых никто не одолеет. Тем более что, — он задумчиво потер подбородок, искоса глядя на собеседников, — мудрец Таменат будет на этих самых Агарах скучать. Вторые свойства хороши для людей, которые ничего о Шерни не знают. Но для старого Тамената более подходящим будет Черный Камень (мы везем его с собой, а как же), Гееркото, Предмет немногим слабее Серебряного Пера. Если не принимать во внимание несомненную истину, что, швырнув его как следует, можно навылет продырявить корабль, — он кивнул, видя произведенное его словами впечатление, — Предмет этот вовсе не капризен, с его помощью легко в изобилии черпать из нескольких Полос. Темных, естественно. ЕстьФормула, относящаяся к этим Полосам… Если найдется на Агарах немного ненужных людей, скажем пленников, я сделаю из них машины, работающие без сна и пищи в течение шести-семи недель, и притом работающие хорошо. К сожалению, потом они умрут. Но что сделают то сделают. Есть еще много Формул, призывающих силу Полос, отражением которых является Камень… — Почему же никто до сих пор не воспользовался Брошенными Предметами таким образом? — спросила несколько ошеломленная Ридарета. — Похоже, что Перья и Веера когда-то использовались при строительстве нескольких крепостей на армектанской Северной Границе. С уверенностью можно сказать, что они использовались и для возведения дартанской Роллайны. Но правда такова, что Предметы не раздают горстями. Нужно за ними прийти в Край, найти их… и вынести. Не каждому в этом помогают косатки. И уставшие, разочаровавшиеся в жизни Посланники. — Косатки? — не поняла Ридарета. — А, об этом уже спрашивай не меня. — Таменат чокнулся с Раладаном. Столько, сколько вы везете в трюме, всем искателям приключений не вынести из Края за десять лет, да и за двадцать тоже. Три ящика… Моя совесть чиста, — сказал он словно про себя, — як этому руку не приложил… Ну, может быть, чуть-чуть. — Ведь эти огромные знания, — неожиданно сказал Раладан, доказывая, что, вопреки видимости, довольно внимательно слушал Посланника, — могли бы для чего-нибудь пригодиться. Я знаю, господин, что такое математика. Не такая, о которой ты говорил… — он нахмурился, — но числа и простые формулы должен знать каждый капитан корабля. — Он показал на маленький столик, где лежали таблицы солнечных склонений, секстант и несколько других приборов. — Я знаю, что науку можно применить для… очень многих вещей. — Можно, но зачем? — Ну… наверное… — Зачем мне это? — уточнил Таменат. — Ради славы? Или ради золота? А может быть, чтобы осчастливить жителей Шерера? Как много лет назад Ленард Давин, гарриец, которому надоела мантия Посланника? Чертежи воздушных кораблей и подводных лодок… — Он скривился. — В конце концов он повесился, — подытожил он, — а ни того, ни другого как не было, так и нет. Хорошо хоть, что он рисовал прекрасные портреты. — Почему ты стал Посланником, господин? — спросил Раладан. — Во имя чего, собственно, углубляют сущность Полос Шерни? Какой в том смысл? Старик покачал головой. — А почему, братец, — ответил он вопросом на вопрос, — ты стал моряком (забудем о твоем происхождении)? Во имя чего, собственно, любят соленую воду? Какой в том смысл? Они посмотрели друг на друга.59
— Ради всех морей… что это? — удивленно проговорил Раладан. Такой эскадры он никогда прежде не видел. Может быть, один только раз: когда Демон захватывал Барирру. Но сейчас? Здесь? — Что такого? — спросила Ридарета. — Обычные парусники. — Обычные парусники? Первый — это «Кашалот» Броррока, а на нем дедушка всех пиратов. Второго не знаю… но третий, та бригантина с прямым парусом на фок-мачте, — «Колыбель» Китара. Двое самых известных после Демона пиратов Просторов знай себе дефилируют вдоль Барьерных островов, где торчат имперские эскадры! Сколько себя помню, пират всегда пробирался здесь тайком и ночами! Помнишь? Ведь это здесь, недалеко, как раз у Барьерных, нас тогда поймали островитяне! Качая головой, он смотрел на идущие поперек ветра к «Сейле» корабли. — Может, восстание… началось раньше? — предположила девушка. — Если даже так… В любом случае такой хитрец, как Броррок, не пренебрег бы осторожностью. — У него три корабля. Немалая сила. — Но чтобы так сразу ее показывать? — Что будем делать? Ждать их? Раладан нахмурился. Встреча в море, как обычно, возбудила интерес команды. Почти все собрались на палубе, глядя на капитана. — Есть возможность кое-что узнать… Но, с другой стороны, оказаться среди трех таких кораблей почти то же, что положить голову под топор… вслух размышлял Раладан. — Бохед! — неожиданно крикнул он, а когда офицер подошел, распорядился: — Сундуки с Предметами поставь между мешками с провизией, ну те, с сухарями, ты знаешь. Запомни, у нас в трюме ничего нет. Скажи ребятам, что мы были в Дартане, в Нин-Айе. — Есть, капитан. — Еще одно: кораблем командует, — он показал на Ридарету, — Красотка Лерена. Запомни это хорошенько. Девушка вопросительно посмотрела на него. — Помнишь лица матросов, когда они тебя увидели? Вы все три совершенно одинаковые… Ты и твои дочери. Сходство всегда было велико, а с тех пор, как Рубин начал доводить вашу красоту до совершенства, вы стали почти неотличимы друг от друга. Броррок знает Лерену, но если даже ты ему покажешься немного другой, он подумает, что это из-за повязки на глазу. Ты потеряла глаз недавно, запомни. Справишься? — Неужели Броррок никогда не слышал об одноглазой дочери Демона? спросила она. — В свое время на Агарах об этом немало говорили. — Сколько лет назад это было… Эту историю давно уже причислили к сказкам. Броррок видел дочь Демона, и у нее было два глаза. Он скорее поверит в то, что дочь Раписа недавно лишилась глаза, чем в то, что дочерей Раписа несколько и к тому же одинаковых… Справишься? — Не беспокойся… А если нет, то подожгу эти посудины. Он вопросительно посмотрел на нее. — Я много чего умею, — самоуверенно заявила она. — Это не всегда просто и не всегда легко дается. Очень утомляет… Но сегодня хороший день. Без проблем сожгу им паруса. Сердце его забилось сильнее. Она была такой, о какой он всегда мечтал: беззаботной, самонадеянной, смелой. Он мог бы плавать вместе с этой девушкой по морям до конца жизни. Снова вести пиратский парусник через никому не известные проливы, поверять его воле течений, способных пересилить ветер, неожиданно появляться на торговых путях и пропадать без вести на многие месяцы… Он этого хотел. Больше ничего, этого ему было достаточно. Вся его жизнь была отдана морю и сражениям. Наблюдая за кораблями, двигавшимися им наперерез, он неожиданно для самого себя заговорил: — Раньше мы об этом не говорили… Разве что раз-другой, мимоходом… Что с твоими дочерьми, госпожа? — А что с ними должно быть? И не называй меня «госпожа», иначе я в конце концов рассержусь. Он улыбнулся: — Теперь — все-таки «госпожа». И даже «капитан». Так я обращался к Лерене… Они тебя не волнуют? Твои дочери? — Раладан, — серьезно сказала она, — а разве они когда-нибудь меня по-настоящему волновали? Если я что-то и приобрела благодаря тому, что ношу в себе эту красную силу, то только то, что перестала себя обманывать… Старик был прав, когда говорил, что я нашла свое добро. Всякого рода. Ведь я всегда хотела быть такой, как Демон. Но отца я не знала, а воспитывала меня мать. Я любила ее. Каждый раз, когда ты говорил мне, что мир не черно-белый, а попросту серый, тебе отвечала она, не я. Ты слышал ее слова, а еще больше — ее мысли и желания. Дальше объяснять, почему так происходило? — Не надо. — Вот видишь. Потребовалась долгая война и великая сила, чтобы сделать меня такой, какой я должна была быть на самом деле. Чтобы разрушить проклятую скорлупу, в которую меня заковали тогда, когда я не могла и не умела защищаться. Я боролась с тем, что мне приказано было видеть в черном цвете; меня убедили и научили, что черное достойно истребления… Я была словно выдрессированный для борьбы раб. Разве те, что убивают друг друга в Роллайне, на потеху дартанской толпы, испытывают друг к другу ненависть, враждебно настроены друг к другу по своей природе? Нет, просто их обучили драться с такими, а не с другими противниками. Я была рабыней, обученной сражаться. Однако мне дали свободу. Теперь я могу выбирать, с кем и для чего я хочу бороться. И это наверняка не то, с чем я боролась прежде. Я это точно знаю. — Она отбросила волосы со лба точно таким же движением, как это обычно делала Риолата. — Но бороться я хочу и буду! — добавила она. Она задумчиво ткнула его в грудь пальцем. — Я ищу союзника, — сказала она с преувеличенной серьезностью, подчеркивая вес своих слов энергичным кивком. Он лишь с улыбкой покачал головой. — Не без причины, — продолжала она, — я столько расспрашивала тебя об Агарах… Думаю, Раладан, все хорошо. Пока. А ты? — Собираешься заключить перемирие? С ней? — А почему бы и нет? По крайней мере на какое-то время… Риолата посеяла, Лерена соберет урожай… а мы его продадим. — Семена, — поправил он. — Какое мне дело до ее фальшивого имени? Ведь не для нас же она его взяла. — Да, но ты сказала: Лерена. — Ну и что? Он в замешательстве посмотрел на нее. — Лерена, — повторил он еще раз. — Ну хорошо! — не выдержала она. — Я что, плохо выговариваю? Наверное, я знаю имя собственной дочери, каким бы оно ни было! — Но ведь, кажется, ты говоришь о ее сестре, о Риолате, не так ли? — Он тоже не выдержал. — Семена-Риолата! Она уставилась на него: — Погоди, так ты думаешь?.. Но… Раладан! Ты что, не знал? У него беспомощно опустились руки из-за дурного предчувствия… — Чего не знал? — тупо спросил он. — О чем? — Ты отдал меня в руки Лерены! Не Риолаты! Я даже на мгновение не подумала о том, что ты не знаешь! Фальшивым именем «Семена» пользовалась Лерена! Он оперся о планшир. — Ради всех морей… Ты не ошибаешься? Она посмотрела на него с неподдельным изумлением и еще — с жалостью. — Кто же их должен различать, если не я? — спросила она. — Ты мне не веришь? — Ты была тогда… — начал он. — Не в своем уме? Чушь и еще раз чушь! Я тебе уже говорила, что все помню! Повторить? Я помню все, Раладан, даже ледяной снег с водой на лице!.. Каждую подробность, какую только можно помнить через несколько месяцев! А мы разве говорим о деталях? Еще раз повторяю: Семена, которую я видела, и Лерена — одно и то же лицо! Где Риолата — не знаю. Он поверил. Естественно, поверил. «Ради Шерни, Раладан. Не спрашивай меня о Лерене. Может быть… когда-нибудь я расскажу». «Какое тебе дело до Лерены?» «Она так много для тебя значила?» «Лерена жива…» «Ром… Когда-то Лерена мне говорила, что это хороший способ при ранениях». — Как же многое, — сказал он, — как многое я теперь понимаю! И как мало… — тут же добавил он, опустив голову. Ридарета показала на корабли. — Поговорим позже, — рассудительно заметила она. — А сейчас — гости. — «Сейла» под командованием Красотки Лерены! — крикнул Раладан. Красотка приветствует капитана Броррока! На дрейфовавшем на расстоянии в пятьдесят шагов фрегате началось оживление. Кто-то проталкивался к фальшборту, распихивая в стороны толпу матросов. Раздался хриплый, но хорошо слышимый голос: — Сто тысяч молний, чтоб мне сгореть! Слепой, что ты делаешь на этой игрушке? А где же госпожа капитан?! Ридарета махнула рукой. — Скажи ему, что постирала рубашку, — шепнул Раладан. — И что твой корабль чище, чем у него… Не удивляйся, просто скажи. — Капитан! Я постирала рубашку! А корабль у меня чище, чем у тебя! — Пригласи его… — Приглашаю! — Чтоб меня… — донесся голос Броррока. — Сто тысяч… миллион молний! Иду, дочка! Иду, чтобы увидеть! На фрегате тут же спустили шлюпку. — Когда он поднимется на палубу, сделаешь вид, что сразу же его узнала, — говорил Раладан. — Ему уже далеко за девяносто. Если с ним будет рыжий, то ты якобы тоже его уже видела. Кивни ему. Броррок пьет молоко… Да, молоко! — кивнул он, видя раскрытый рот девушки. — Никакого рома. Можешь дать ему воды, он не обидится. Скажи ему, что он научил тебя тому, как должен выглядеть корабль, этим ты его купишь… Рабов ты больше не возишь. Запомнишь? Остальным я займусь сам. — Пьет молоко… дать ему воды… рабов не вожу… — повторяла слегка развеселившаяся и вместе с тем слегка ошеломленная Ридарета. — Ага, и он показал мне, как должен выглядеть корабль. Да, Раладан? — Очень хорошо, — похвалил он. Он жестом подозвал Давародена. — Не болтайся на виду с оружием. Иди к Таменату. Пусть сидит у себя. Слишком уж он привлекает внимание. — Есть, капитан. — Не «капитан», ради Шерни! Капитан — она, я только лоцман! Арбалетчик кивнул. Капитан «Кашалота» плыл к «Сейле». — О, дочка! — Броррок все еще не в силах был скрыть восхищения. — О, дочка! Они сидели в капитанской каюте. Ридарета с серьезным видом пожала плечами. — У меня был прекрасный образец для подражания. — Она показала на Броррока собственной персоной. — Превосходный корабль… и достойный этого корабля капитан. Старик словно сбросил пару десятков лет. — О, дочка, — повторил он, почти светясь от счастья. Неожиданно лицо его исказилось от гнева. — Кто это тебя, сто тысяч молний? — прорычал он, показывая на повязку на глазу. — Имперские, — буркнул Раладан. — Кто же еще? — Слепой… и слепая, — расстроенно проговорил Броррок. — Но корабль как золото! Не то чтобы лучше, чем у меня… Но как золото, говорю. Чтоб мне сдохнуть в подвале! — Что происходит, капитан? — спросил Раладан. — Вы что, устроили пиратский парад вдоль Барьерных островов? — Пиратский? Пиратский, говоришь? О, Слепой… — обиделся Броррок. «Кашалот», сто тысяч молний, — каперский корабль! — Почему «слепой»? — удивилась Ридарета. Наступила короткая пауза. — Разве я не говорил? — задумался Броррок. — Говорил, капитан, — словно нехотя ответил Раладан. — Но она до сих пор не верит… Ридарета поняла, что сморозила глупость. — О, сто тысяч… Так покажи ей! У тебя что, целый год времени не было?! — Никто меня так больше не называет. Ты зря вспоминаешь, капитан, это прозвище. Стар я уже… — Стар? Он говорит, что стар. — Броррок изумленно посмотрел на Рыжего. — Он меня оскорбил. Ты слышал? Он стар. Тогда я, наверное, труп! Раладан протянул руку. Рыжий с легкой улыбкой снял с шеи платок. Раладан завязал себе глаза, затем, вынув нож из ножен на поясе и еще два из-за голенищ, бросил сразу два, потом третий. — «Слепой», — пояснил он, снимая повязку. — Теперь веришь, госпожа? Ножи торчали в двери — почти вровень друг с другом, каждый — по центру своей доски. — Теперь верю, — сказала с совершенно искренним изумлением Ридарета. Научишь меня так?.. Раладан беспомощно поднял глаза к потолку. — Ба!.. — начал было Броррок, но Раладан перебил его: — Так ты капер, капитан? Старик мгновение смотрел на него, ухватывая нить разговора. — Капер, — подтвердил он. — С каперским письмом… — он хлопнул ладонями по бедрам, — выданным его благородием командующим флотом Армекта! Раладан начал понимать. — Восстание? — Уже месяц, пусть меня зажарят! — торжествовал Броррок. — Все, что гаррийское, разрешено! Император купит у старого Броррока каждый захваченный корабль! Могу зайти, — он развел руками, трясясь от смеха, — в порт на Барьерных, в Таланту! Вот я и дожил до этих дней! Теперь… теперь — пусть меня утопят! Он хлопнул Рыжего по спине, едва не опрокинув его вместе со стулом. Старый пират (капер!) закашлялся. — Пусть меня… утоп… ят… — прохрипел он, хватая ртом воздух. — Что там насчет восстания, капитан? — спросил Раладан, когда Броррок отсмеялся и несколько успокоился. — Бились на море, возле Гарран. Недели две назад. Никто, говорят, не победил. Потом, говорят, мятежники передрались между собой. Кто-то похитил какие-то корабли, сожгли порт в Дране. Четыре имперские эскадры шли в Багбу из Армекта. Большой Флот. Я сам видел три гвардейские каравеллы. Такие, как папаши твоего, пусть ему море… — кивнул он девушке. — Ну и, сто тысяч молний, — Броррок устроился поудобнее, — армектанцы проверили, что вроде Багба все еще их, и собирались туда идти. Как раз тогда дошли слухи, что весь флот мятежников разошелся на все четыре стороны, якобы завоевывать острова в Гаррийском море, и Южные, и Гарраны… Другие же говорили, будто все совсем не так, будто они идут в Лла и даже в Замкнутое море, чтобы сжечь Лида-Ай и Тарвелар. Имперские совсем сдурели: две эскадры пошли обратно, стеречь вход в Замкнутое море и Ллапму — одна в Гаррийское море, а гвардейцы, вместе с теми, что собрались на Барьерных, в Багбу! Война, значит, до осени не кончится, всю Гарру им за это время не отбить! Но до этого в море было не протолкнуться! Баркасы, лодки — все, что под парусом, даже дартанские галеры. Разве что, сто тысяч молний, на плотах не плавали. Ну меня и прихватили! Я думал, какая-то облава, но, Слепой, что это за облава с одними баркасами? Быстрые-то они быстрые, но народу на борту человек тридцать! Я сам дал себя догнать, — что они, сами смерти ищут? А они, сто тысяч молний, сами сдаются! Стражник, живой, был на моем «Кашалоте»! — Броррок сделал паузу, наслаждаясь удивлением собеседников. — И живым с него ушел! Они там хватали на море всех: купцов, солдат, и старого Броррока тоже! Я получил каперское письмо, подписанное командующим всех ихних флотов, и пожелания успеха от императора! Тогда я еще не верил! Но когда у Барьерных я встретил Китара? С этим, купцом, пусть меня забьют до смерти! Китар сколотил эскадру, они шли вдвоем на Гарру! У купца было несколько парней с железом, для охраны товара, он услышал, что за захваченные корабли платят, а поскольку недавно разорился, то взял каперское письмо… и ходит купец теперь вместе с Китаром! Чтоб мне!.. — неожиданно сказал он. — В горле пересохло, сто тысяч… Ну и наговорил же я. Молока у вас наверняка нет, а, дочка? Ну дай воды… и добавь рома. Но только капельку! Такие дела творятся, что капля… капелька… не повредит! — объяснил он. Раладан и Ридарета молча переваривали услышанное. Старик осторожно потягивал разбавленный ром. — И что теперь каперу делать, дочка? — наконец прохрипел он. — Забрать у вас эту игрушку? Мне хорошо заплатят. Вас я не трону, еще и к себе возьму… Но корабль отдайте. — Это не повстанческий корабль, — сказала Ридарета. Броррок захохотал. — А кто о том знает? Корабль — это корабль, дочка! — Капитан, — вежливо напомнила она, — ты у нас в руках. — Красотка угрожает? Старику? — возмутился Броррок. — Дочка, да я бы даже голый сюда пришел, если бы было что показать, я бы пришел, чтоб меня… Я, дочка, долго прожил и тебя не боюсь! Как-то уж так получается, что каждому дороже собственная жизнь, чем чужая смерть… Слепой, скажи ей, о чем я! А то я уж и так языком натрепался! Раладан кивнул. — Китар в любом случае пойдет на абордаж, — объяснил он. — Даже если бы мы вышвырнули наших гостей за борт. Мы можем угрожать сколько угодно, Китар все равно своего добьется. Вот только в этом случае он прирежет уже нас. — Вот видишь. — Броррок с довольным видом разглядывал девушку. Давайте корабль. Забираю. Ридарета посмотрела на Раладана, но тот лишь поморщился и слегка пожал плечами. — Не стоит, капитан, — почти лениво проговорил он. — А это еще почему, Слепой? Ты так уверен? — Я слышал, — ответил Раладан, — что весной намечается кое-какая работа? Броррок насторожился. — Эй! А ты откуда знаешь, а? — Я слышал, — добавил Раладан, — что она того стоит. Броррок посмотрел на Рыжего: — Ты что-нибудь знаешь? — потом снова обратился к Раладану: — Я знаю только, что мне хотят заплатить за какую-то авантюру. Вовсе не уверен, что это того стоит. — Стоит, — сказал Раладан, бросив взгляд на Ридарету. — Помнишь Барирру, капитан? Вот и здесь то же самое. Только теперь тебе заплатит не Демон, а его дочь. Пират раскрыл рот: — Так это ты, дочка, хотела сторговаться? Что ж ты таких придурков по тавернам посылала? А, дочка? — Я должна была громко кричать, что это я? — спросила Ридарета. — Еще покричим. Через полгода. — Через полгода. — Броррок подавленно сгорбился. — Но, дочка, доживу ли я? А тут у меня твой кораблик, и он тоже своего стоит. — На троих? — усомнился Раладан. — Ведь прямо сейчас вы этого купца не утопите, только потом, когда в нем не будет надобности… Ну так что? Хватит на троих? Что, император вдруг так расщедрился? Броррок снова посмотрел на Рыжего: — И то правда… Рыжий кивнул. — Ты еще сто лет проживешь, капитан, — серьезно сказал Раладан. Что-то я не вижу, чтобы ты торопился в могилу. А если даже не сто, то уж дюжину наверняка… Заработаешь весной, и немало. Лучше, чем у императора. — Ну… может быть… — задумался капер. — Но, Слепой, ведь Китар и этот купчик вас не отпустят. Они уже считают золото, которое за вас получат. — Скажи им, капитан, все как есть. Они тоже могут заработать. А золото… может быть, дадим немного? — У вас есть золото? — заинтересовался старик. — Капитан! — покачал головой Раладан. — Разве я позволю что-то у меня отобрать? Ты сам меня учил, а потом Демон… Разбери этот корабль на кусочки и все равно ничего не найдешь! Но если мы договоримся… — Давайте! — разъярился старик. — Быстро! — Неожиданно он хитро посмотрел на Раладана: — Только Китар ничего не должен знать… Что я ему скажу, то скажу… Он молодой, еще найдет себе немало золота! Ридарета кивнула, чуть улыбнувшись. — Нет, сто тысяч… Пусть меня отравят, корабля его дочери я бы не тронул, — заверил себя и всех присутствующих Броррок.60
«Сейла» на всех парусах шла к Агарам. Раладан еще раз объяснил все Ридарете и Таменату. Благодаря полученным от Броррока сведениям стало ясно, что план Семены (Лерены!) удался. В Дороне искать было нечего, от берегов Гарры следовало держаться подальше. Агары были захвачены, в этом не было никакого сомнения. После памятной гибели агарской эскадры Раладану казалось весьма сомнительным, что в Ахелии силы Резервного Флота могли быть больше, чем один средний парусник и, может быть, еще какие-нибудь баркасы… Сто человек? Вряд ли больше. И несколько легионеров в Арбе. Итак, Агары находились в руках Лерены. Таким образом, следовало идти прямиком в Ахелию. Ридарете смертельно наскучило обсуждение далеко идущих планов. Ей хотелось действовать, а не болтать без конца; казалось, потраченные впустую долгие годы требовали своего. В конце концов она предоставила все Раладану и Таменату. В последнем все явственнее просыпался искатель приключений, беспокойный дух громбелардского арбалетчика. Великан забросил свои чернила и пергаменты и дни напролет проводил в диспутах с Раладаном; они чертили какие-то планы крепостей, водили пальцами по картам эскадры, которых у них еще не было… Все это казалось ей по крайней мере преждевременным. Впрочем, она считала, что мужское дело — строить планы, а женское — действовать. Ей хотелось драться, командовать сотнями людей, вести сражения, стрелять, жечь… да — жечь! Она чувствовала, как под кожей бегут мурашки… Сила, которой она обладала, не любила пребывать в бездействии. Скучно. Корабль шел и шел вперед, регулярно сменялись вахты, те двое беспрерывно болтали… Она бродила по палубе, пару раз даже взобралась на грот-мачту, побывала в трюме, и на носу, и на корме… Скучно. С того мгновения, когда она бежала из Роллайны, прошло немало времени достаточно для того, чтобы она обнаружила у себя ряд черт, которых когда-то не было или казалось, что не было… Прежде всего, она была активна, безделье мучило ее и раздражало. Если бы она спросила Раладана, тот не колеблясь ответил бы, что некоторым образом она стала подобна своим дочерям. Впрочем, это было легко объяснить. Что ж, первая дочь Раписа была теперь скорее Лереной, нежели Ридаретой, которая восемь без малого лет провела вне мира людей, в заброшенном доме на краю леса. Короткая юбка, которую дал ей Раладан, может быть, и имела некоторые преимущества, но ее она лишь злила. Так же как рубашка и эта отвратительная безрукавка… Хорошо она себя чувствовала лишь в платье. Но зеленое платье, в котором она преодолела пол-Дартана — пешком и на лошади, — превратилось теперь в обычную тряпку, дырявую, мятую и столь грязную, что никакая стирка помочь уже не могла. Раладан не возил на «Сейле» платьев. И драгоценностей тоже. Пират называется, во имя Шерни… Правда, у него было золото Лерены (большую часть забрал Броррок). Но что с ним делать? Подвесить золотые слитки в уши? Или нацепить на шею? Прекрасная одноглазая капризница была уже сыта по горло этим довольно унылым морским путешествием. Похоже, однако, что Давароден не заметил бы никаких украшений, даже если бы она их имела и носила… Скорее для собственного удовлетворения, чем действительно по необходимости, она занялась прической. Она уложила ее без зеркала (на «Сейле» не было ни одного), но оно ей и не требовалось; она разглядывала собственное отражение целый год, почти без перерыва, и знала наизусть каждый локон и каждую прядь волос… Она ему понравилась. И еще как… Но он ей тоже понравился. Он был упитанный, может быть даже чересчур, но высокий, сильный и очень мужественный. Он командовал арбалетчиками уверенно и спокойно, словно был рожден лишь для этого и ни для чего больше. Ей это пришлось по вкусу. Ой по вкусу… Ей очень хотелось покомандовать им. — Всегда с мечом, — сказала она, опершись о планшир в двух шагах от арбалетчика. — И всегда в доспехах. Солдат каких мало. Он посмотрел на нее, окинул взглядом большой узел, из которого выплывал широкий султан волос, плясавший за спиной в такт дуновениям ветра, и ответил, почти смутившись, чуть ли не пытаясь объясниться: — Служба, госпожа… Моя вахта длится непрерывно, кто же должен быть всегда готов, если не командир находящихся на борту солдат? — Но доспехи? — с улыбкой спросила она. — Ведь если ты свалишься за борт, они тут же утянут тебя на дно! — Ты так думаешь, госпожа? — на этот раз улыбнулся он. — А я тебе говорю, что плавал и в кольчуге, и в кирасе. Может быть, не слишком долго, но все-таки. Если бы сейчас я свалился за борт, ты успела бы привести помощь. — Обязательно! — с уважением сказала она. Она повернулась к морю, глядя на красный закат. — Арбалетчик, — отчетливо проговорила она, словно пробуя слово на вкус. — Арбалетчик… Мечом ты тоже хорошо владеешь, Дав? — Дав… — Он искоса посмотрел на нее. — Моя жена тоже так меня называла. — У тебя есть жена? — спросила она со столь явным разочарованием, что тот даже поднял брови… и снова смутился. Однако ненадолго. — Была. Ошибка молодости. Она выжидательно молчала, с явным интересом. — Я ни в чем ее не виню, — искренне сказал он. — Думаю, просто солдат-бродяга не был ей нужен. Не о таком мужчине она мечтала. — О! — удивилась она. — А я думала… Она замолчала и пожала плечами. — Да, госпожа? — Госпожа… Почему не просто Ридарета? — кокетливо спросила она. Его замешательство ее по-настоящему забавляло. — Думаю, капитан не одобрил бы подобную фамильярность. — Капитан! — возмутилась она. — Какое дело капитану до мужчин, которые мне… — Она не договорила. Он снова бросил на нее короткий взгляд. — Я проговорилась? — скорее утвердительно, чем вопросительно сказала она. — Я совсем… ничего не знаю о мужчинах, кроме того, что им нужно нравиться, — наивно добавила она. — Я знаю, эта моя прическа просто глупая… — Она с хмурым видом потянулась к волосам. — Оставь, госпожа! — чересчур поспешно запротестовал он. Неожиданно она придвинулась к нему совсем близко. — Дав… — смущенно проговорила она, касаясь пальцами прикрытой мундиром кирасы. — Идем ко мне! Он как будто ее не понимал. — Я простой солдат, госпожа, — наконец сказал он, без какой-либо связи. — Как жаль, ведь я королева, — ответила она с неподдельной злостью, отодвигаясь и разводя руками. — Да что там, даже императрица! Снова буду сидеть весь вечер одна. А почему? Потому что этому самому простому солдату капитан запретил нравиться женщинам! Она положила руки на планшир и снова посмотрела на море. — Кому нужна одноглазая девушка… — тихо проговорила она. — Не говори так, — живо возразил он. — Ты самая прекрасная из всех женщин, которых я когда-либо видел. Она молча посмотрела на него. Давароден хотел еще что-то сказать, но сдержался. Он не был ребенком и прожил уже немало, чтобы понять, что девушка пытается поймать его в ловушку. Но ему это на самом деле льстило. Она действительно была красива. Невероятно красива. Он знал, что слегка теряет голову, но, если так подумать, разве было в этом что-то плохое? Правда, все происходило как-то так… наспех, он не привык к женщинам, которые говорят ему прямо: «Ты мне нравишься…» Но опять-таки разве в этом было что-то плохое? — Соблазняешь меня, госпожа? — чуть улыбнулся он. — Ловко, правда? — со злостью фыркнула она. Она занимала каюту, раньше принадлежавшую Бохеду. После ее появления на корабле Раладан взял офицера к себе. Каюта была такая же, как и все офицерские помещения на «Сейле», небольшая и довольно темная. Но два фонаря, висевшие под потолком, давали достаточно света. Достаточно для того, чтобы он мог оценить, что видит перед собой одну из прекраснейших женщин Шерера. Он остолбенело смотрел на груди, соски которых казались твердыми, словно из камня, на округлые бедра, идеальные очертания ног… Подбежав к постели, она стукнула его кулаком по доспехам: — Что, прямо в этой скорлупе ляжешь? — Она легла, закинув руки за голову. — А может быть, ты все еще на службе? Тогда принеси еще и арбалет. Только стрелу не заряжай, ради Шерни… Может, я и хочу, чтобы меня проткнули… только не стрелой… Отстегивая меч, он подумал, что все-таки хорошо бы было, чтобы Раладан ни о чем не догадался. Давало о себе знать некое чувство вины. Была глубокая ночь, когда он медленно застегивал ремни кирасы. Девушка лежала на животе, подложив руки под подбородок; скрещенные в лодыжках ноги чуть покачивались над округлыми ягодицами. Думала ли она о том же самом, что и он? Он чувствовал себя отвратительно. Все это было ни к чему. Он ругал себя за отсутствие выдержки. В сорок лет нужно все-таки уметь думать… Старый, а глупый — так иногда говорили. — Что-нибудь не так? — спросила она. — Все не так, — ответил он, прежде чем сообразил, что, собственно, говорит. Тут же он понял, что к многочисленным ошибкам, которые он успел сегодня совершить, добавилась еще одна… Но в конце концов, разве это имело какое-то значение? — Ты прекрасная женщина… Самая прекрасная из всех, кого я когда-либо видел… — добавил он, чувствуя и слыша, сколь фальшиво звучат его слова. — Самая прекрасная из всех, кого ты когда-либо видел… — повторила она. — Кажется, понимаю. Самая прекрасная, но не более того. Так? Он молча кивнул. — Я обычный солдат… — Он вертел в руках пояс с мечом. — Мечту не насилуют, — неожиданно добавил он. В другой раз она, возможно, задумалась бы над тем, сколь красиво умеет порой говорить этот «обычный солдат». Они молча смотрели друг на друга. Каштановые волосы полностью закрывали спину девушки — и самый грозный, мрачный рисунок из всех, что он когда-либо видел. Он слышал, что такие татуировки делают в Дартане, и знал, что она долго была в Роллайне. Внезапно она подняла руки и одним движением сняла с лица повязку. Он отшатнулся в неподдельном ужасе от того, что увидел. — Вот такая я на самом деле, - сказала она. — Самая прекрасная на свете, не так ли? Он проглотил слюну. — Зачем ты это делаешь? — спросил он. — Какая разница зачем? Может, я хочу получить от этой ночи немного удовольствия. Ты сказал мне, что чувствуешь, ну так я тебе показываю, какая я на самом деле. Откровенность за откровенность и правда за правду… Тебе не нравится мое лицо? Неожиданно она вскочила. — Раладан не должен об этом узнать, — подчеркнуто серьезно сказала она. — Он бы на меня обиделся! — Он не узнает, — заверил ее Давароден. — Не узнает, — эхом повторила она, снова надевая повязку. — Я уверена, что не узнает. Раладан, полуодетый, столкнулся с поспешно выбегавшим из своей каюты Таменатом. В руке великана сверкал меч. Крик не прекращался! Они ворвались в каюту девушки. Пылающий словно факел человек метался по каюте, воя как зверь. Огонь лизал стену, стол, расползался по полу… Прежде чем они осознали весь ужас происходящего, сквозь пламя пробежала Ридарета, вырвала меч из руки Посланника, после чего бросилась к живому огненному шару, ударив изо всех сил. Огненный ком рухнул на пол, язык пламени прыгнул к волосам девушки… Таменат издал горловой крик, помещение заполнилось густой чернотой, холодной как лед, — и все стихло. Они услышали стон Ридареты. Таменат сказал что-то еще, какое-то короткое слово, и вспыхнули фонари под потолком… Раладан бросился к девушке, которая стояла обнаженная посреди каюты. Он схватил ее за руки, оглядывая с головы до ног, но огонь, похоже, не причинил ей вреда, хотя волосы ее были сильно обожжены, наверняка обожжены были и ступни… Он крепко обнял ее. — С тобой ничего не случилось? Таменат тяжело присел возле трупа. Лицо было страшно опалено, как и руки, остальное же… Мундир сгорел, остались кираса и кольчуга. Арбалетчик попросту изжарился в своих доспехах… В обожженной шее зияла рана от меча. — Он хотел меня… — глухо проговорила она. — Пытался… Она что-то неразборчиво пробормотала. — Давароден, — коротко сказал капитану Таменат. — Это Давароден. Он мертв, зарезан и зажарен. Раладан крепче сжал голые плечи девушки. — Не может быть… — с ужасом произнес он. — Он? Не могу поверить… Девушка, тяжело дыша, уткнулась лбом ему в плечо. — Во имя Шерни… Кому в этом мире можно верить?! — бросил капитан, повернув голову к старику, но не выпуская из объятий Ридарету. — И я считал эту падаль своим другом! Я… Таменат молча схватился за кирасу арбалетчика. Несмотря на пронизывающий холод, который принесла с собой вызванная для борьбы с огнем тьма, доспехи все еще были теплыми. Посланник выволок труп на палубу, на глазах растущей толпы. Без особых усилий выбросив тело за борт, он посмотрел на матросов и солдат: — Что надо сказать? Один из матросов негромко проговорил: — Море забрало… Старик отвернулся и посмотрел в ночной мрак. Так он стоял некоторое время, а потом увидел рядом с собой солдата… Солдат нес арбалет своего командира — дар Посланника. Он коротко посмотрел на старика и, отвернувшись, бросил оружие в волны. Таменат выпрямился и медленно вернулся на место пожара. Он появился в дверях как раз в то мгновение, когда Раладан повернул девушку спиной к себе и откинул в сторону волну волос. — Что это? — с неописуемым изумлением спросил он. Желтый крылатый змей поднимался над волнами, неся на спине обнаженную девушку с рубиновыми глазами… У змея был выбит глаз, и рисунок был выполнен столь мастерски, что Раладан машинально коснулся спины девушки, словно желая удостовериться, что кровавая рана не настоящая рана на теле… — Что это? — повторил он, понизив голос. — Я была в Роллайне, — ответила она, словно это все объясняло. — Найди ей какую-нибудь одежду, вместо того чтобы стоять и болтать языком, — резко сказал Таменат. — Будешь теперь картинки рассматривать? Ты же видишь, что с ней ничего не случилось, а об этой татуировке вы еще успеете поговорить! Раладан лишь кивнул в ответ и вышел. Она повернулась к Посланнику. — Я догадываюсь, как все было на самом деле, — без лишних слов сурово проговорил он. — Учись владеть собой! Ее глаза блеснули красным. — Не смеши меня этой своей силой, красавица, — почти мягко осадил он ее. — С помощью рубинов я мог бы отпугивать чаек, гадивших на крышу моей башни… Думай, что творишь! Вот очередное доказательство того, что ты не умеешь владеть собой. Когда-нибудь ты спалишь себе не только волосы. Будем считать, что я не знаю, что здесь произошло, но продумай как следует свою историю, иначе Раладан рано или поздно сам задумается, как это так получилось, что арбалетчик пришел тебя насиловать в полном вооружении… И если мы хотим остаться друзьями — обещай, что не поджаришь мне когда-нибудь задницу во сне! Она недоверчиво смотрела на него. — Ты меня не осуждаешь? — удивленно спросила она, наклонив голову. — За что? За то, что ты отягощаешь одну чашу весов? К чему я столько говорил о равновесии Шерни и мира, если ты до сих пор не понимаешь? Если я не хвалю и не вознаграждаю добро, по какому праву я могу карать или клеймить зло? Впрочем, что там зло и добро! — Он мазнул рукой и пожал плечами. — Копченая грудинка и куча песка… — Он собрался уже было уходить, но остановился. — Не знаешь, как сказать ему о своем имени, да? Она отступила на полшага, побледнев. — Откуда ты знаешь? — Не знаю. Но думаю, что каждый любит, чтобы его называли собственным именем. Придет и этому время… Риолатте. Позже. Сейчас это имя вызвало бы у него чересчур дурные мысли. — Но это имя… — С тех пор как он узнает, что оно значит, он может упоминать его хоть сто раз в день. Он покачал головой. — Красивая ты, — уважительно сказал он, выходя. — Но, кажется, в Дартане пользуются для удаления волос горячим воском, а не огнем? Не знаю, я только так слышал… Только сейчас она осознала, что до сих пор стоит голая.61
До Ахелии они добрались без хлопот, хотя в нескольких милях от входа в порт им встретилась эскадра фрегатов, патрулировавших море. Однако небольшой одинокий парусник не вызвал — по крайней мере пока — особого интереса. Легко догадаться почему. Таменат видел Ахелию первый раз в жизни. Ридарета была однажды в порту, но недолго. Раладан же, хорошо знавший порт, был просто ошеломлен его видом! Но, собственно, чего еще он мог ожидать? Пристань напоминала военный порт на Барьерных островах… Да что там! В Таланте, на Барьерных, стояла эскадра Главного Флота и вторая — Резервного и еще несколько небольших кораблей. А здесь? Небольшой причал был буквально забит разнообразными парусниками. Здесь стояли фрегаты, в которых опытный глаз легко узнавал корабли Главного Флота Гарры и Островов; чуть дальше — две каравеллы, одна старая как мир, другая поновее; еще дальше — маленькие баркасы. Когда «Сейла» причаливала к набережной, из порта как раз выходила изящная бригантина, с белыми парусами на главных мачтах и красным — на бизань-мачте. На последней, бонавернтура-бизань-мачте, красовался косой парус цветов «малого флота Островов». Возможно, эта бригантина была захвачена уже здесь, в Ахелии. Отсутствие интереса к «Сейле» подошло к концу, едва был сброшен трап. Словно из-под земли вырос отряд топорников в открытых кирасах, а за ними арбалетчики в синих мундирах. — Это все наемники Лерены? — пробормотала Ридарета. — Неплохое войско… Десять солдат остались на берегу, остальные поднялись на палубу. Следом за ними появился худой загорелый мужчина без шлема, но в кольчуге и цветастом мундире. — Что за корабль? — спросил он громким, энергичным голосом, оглядываясь по сторонам. — Капитан? Раладан спустился на среднюю палубу. Ридарета и Таменат двинулись следом. — Ты капитан этого корабля, господин? — спросил мужчина, окидывая Раладана взглядом. — Похоже, уже недолго? — скривился тот. — Я реквизирую корабль, — подтвердил офицер, внимательно присматриваясь к капитану. Он перевел взгляд на девушку и неожиданно застыл. — О, ради всех… — проговорил он, инстинктивно отступая на шаг. Раладан обернулся к Ридарете. — Похожа? — спросил он. — Ты все поймешь, господин… Но у нас дело не к тебе, а к госпоже. — Не сомневаюсь… — Мужчина, казалось, все еще был ошеломлен. — Раз ты жива… — Он посмотрел в лицо Ридарете и тут же отвел взгляд. Она откинула волосы со лба. — Ты меня знаешь, господин? — удивленно спросила она. — Кто ты такой? Офицер молчал. — Не понимаю, — наконец сказал он. Раладан и Ридарета тоже понимали все меньше. — Кто ты, господин? — следом за девушкой повторил Раладан. Мужчина показал на Ридарету, словно желая сказать, что ей это прекрасно известно, но неожиданно пожал плечами и сухо проговорил: — Военный комендант Ахелии, Герен Ахагаден. До ваших игр мне нет никакого дела… Конечно, вы встретитесь с госпожой. И немедленно. Топорники уже заняли корабль. Он повернулся к ним и выкрикнул какое-то имя. Один из солдат не мешкая подошел к нему. Ахагаден тихо обменялся с ними несколькими словами. Солдат отдал честь и сразу же сбежал по трапу. Они заметили, что тот в большой спешке забрал с собой синих арбалетчиков. — Часть перешла на нашу сторону, — с явной насмешкой сказал офицер. Но лучше, чтобы ты с ними не встречалась, госпожа… Раладан и Ридарета в очередной раз переглянулись. — Мы можем идти? — спросил Раладан, решив, что самым простым способом все выяснить будет разговор с Лереной. — Конечно. Прошу за мной. — Что с моей командой? — Она останется на корабле. — Бохед! — крикнул Раладан. — До моего возвращения остаешься за старшего! — Так точно, капитан! — послышался ответ. Ахагаден улыбнулся, словно давая понять, что особых хлопот у того не будет, но ничего не сказал. Когда они сошли на причал, он кивнул небольшому отряду, до этого остававшемуся на берегу. — Солидный эскорт… — заметил Раладан. После чего, обращаясь к Ридарете и Таменату, добавил: — Неужели я попал в немилость? Ахагаден шел рядом, то и дело оглядываясь на Ридарету, словно опасаясь, что та воткнет ему нож в спину… Интересно, думал Раладан, мог ли этот человек (которого он ни разу в жизни не видел) знать Ридарету? Возможно. Ведь она была заложницей, и многие из людей Лерены могли видеть безумную тогда — девушку. Но Ридарета решительно утверждала, что помнит все, что тогда происходило. Значит, она должна была знать Ахагадена столь же хорошо, как и он ее. Но она его наверняка не знала. В то время как, судя по поведению офицера, его общение с одноглазой не было, по крайней мере, поверхностным. И отнюдь не дружественным… «Шернь! — неожиданно осененный догадкой, подумал Раладан. — Он ее принимает за Риолату! Пути сестер снова каким-то образом пересеклись! Как он там сказал: „Раз ты жива…“ Ну, значит, сестрички снова поцапались!» Он хотел сказать об этом Ридарете, но увидел, что девушка явно думает о том же самом. Они кивнули друг другу. От порта они шли сначала в сторону казарм, но потом свернули кзданию, которое занимал в Ахелии Имперский Трибунал. Перед входом стояли солдаты: в полном вооружении, при топорах, с щитами у ноги. Молчавший все время Ахагаден коротко проговорил: — Сейчас вернусь. Терпение… — Он снова насмешливо посмотрел на Ридарету. Они остались у входа, рядом с солдатами. Раладан и Ридарета обменялись несколькими словами. Таменат только слушал, не вмешиваясь, но легко понимая, в чем дело: ведь до этого Раладан рассказал ему почти о всей своей жизни, да и Ридарета много чего добавила. Потом они замолчали. Раладан задумчиво огляделся по сторонам. Многие воспоминания связывали его с этим городом. Вот улица, по которой он много лет назад шел в сторону казарм и обратно, подкарауливая Варда… Если же вернуться в порт и свернуть чуть раньше влево — он легко отыскал бы старую таверну «Под Парусами»… А дальше, среди самых богатых домов города, стоял тот, в котором он встретил единственную высокорожденную женщину империи, которая носила косу… Золотую косу на голубом платье. Он покачал головой. Сантименты… Похоже, он начал стареть. Но это не были обычные воспоминания. Во имя Шерни, в конце концов, именно здесь, на этих островах и в этом городе, все по-настоящему началось. Он подумал еще о многом: о кладбище, звавшемся Проклятым, о высоком китобое (Ведал? Беган? — как там его звали?), о скупом торговце из Арбы, о Варде (он уже знал, как погиб остававшийся наивным до последнего мгновения капитан, Ридарета рассказывала; интересно, что он делал в Дране?), о сером уряднике Трибунала, которого он раздавил медленно и тщательно, словно отвратительного червяка… Из задумчивости капитана вывело лишь возвращение Ахагадена. — Оружие, — без лишних слов сказал офицер. Раладан пожал плечами и вынул из-за пояса нож (но ножи в голенищах оставил), Таменат расстегнул ремень, переброшенный через спину; чаще всего он носил меч как громбелардец, именно на спине. Он вообще выглядел совершенно иначе, чем на своем острове. Прежде всего, он помолодел. Он уже не носил длинный плащ и неприметную мантию, на нем были высокие сапоги, такие же как у Раладана, черные грубые штаны и плотная, завязанная у шеи куртка из медвежьей шкуры — самая большая, какую удалось найти для него Раладану. Левый рукав куртки был заткнут за пояс, сзади, а правый был явно короток. Могучие плечи старого великана распирали куртку. Он походил на мудреца-Посланника точно так же, как Ридарета — на ощипанного цыпленка… Ахагаден повел их в здание. Перед большими двустворчатыми дверями, у которых стояли часовые, он остановился. — Только ты, госпожа, — коротко сказал он. Прежде чем Таменат и Раладан успели среагировать, он открыл двери и провел девушку внутрь. Двери он тут же закрыл за собой. Алида стояла неподвижно, глядя на одноглазую. За ее спиной возвышались солдаты с арбалетами наготове. Ахагаден предупредил ее о том, кого привел, но она не в силах была поверить. Теперь, однако, она видела. Первое впечатление ее ошеломило. Но потом… Во многом можно было упрекнуть Алиду, но только не в отсутствии наблюдательности. — Во имя Шерни, — проговорила Алида, — нет, это не она! Ахагаден изумленно уставился на нее. Но точно так же изумлена — если не больше — была и Ридарета. — Кто ты такая? — спросила она, окидывая блондинку взглядом. — Что здесь происходит, ради всех сил? — Кто ты такая? — не осталась в долгу Алида. — Ее сестра? Нет, этого не может быть, это невероятно! Не могу поверить! В то же мгновение за дверями кто-то закричал, створки распахнулись от могучего удара… и в комнату ввалился или, вернее, влетел солдат, использованный в качестве тарана. Раладан почувствовал, что что-то не так. Он уже знал, что Ридарета может постоять за себя, но он не собирался оставлять ее один на один с любимой дочкой, которая сумела, еще на «Звезде Запада», свернуть шею матросу… Достаточно было и того, что он уже однажды отдал девушку в заложницы. Таменат и капитан «Сейлы» ворвались в комнату уже вооруженные алебардами. Они увидели двух неподвижных женщин, остолбеневшего Ахагадена и троих солдат, явно забывших о своих арбалетах. Раладан посмотрел на Ридарету, а потом на другую… Невысокая красивая блондинка, с переброшенной через грудь голубого платья косой, отступила на шаг, опершись о стоявшего за ней арбалетчика. Раладан опустил алебарду. Алида, до сих пор убежденная, что упасть в обморок не может, схватилась за плечо солдата. Внезапно, собравшись с силами, она шагнула вперед. Раладан, отступая назад, споткнулся о вброшенного в комнату часового. В следующее мгновение Алида метнулась к капитану «Сейлы» и обеими руками толкнула его в грудь. Чуть не упав, он перескочил через ногу лежащего и наткнулся на стену. Раладан поспешно отбросил алебарду, словно опасаясь, что женщина вырвет ее у него из рук и угостит лезвием… — Где ты был? — бессмысленно спросила она, уже понимая, что ведет себя как ребенок. Она еще раз стукнула его в грудь кулаком, после чего беспомощно топнула ногой, не зная, что делать… Раладан поостыл. Но глупый вопрос женщины все еще звучал у него в ушах, и… он не знал, почему… но он чувствовал себя так, словно вернулся домой. Дома у него никогда не было. Чувствуя незнакомый жар в груди, не зная отчего, он столь же бессмысленно ответил: — Я вернулся… Алида смотрела ему в лицо. Изумленная до пределов возможного Ридарета тоже. Внезапно они посмотрели друг на друга, потом — снова на него и одновременно спросили, подозрительно и недоверчиво, показывая друг на друга: — Кто эта женщина? Раладан открыл рот.ЭПИЛОГ
Подходил к концу пятый месяц осени… — Я знаю, что говорю. — Таменат постучал пальцами по столу. — Знание о самом себе — вот ключ к могуществу. Заметь: одна из сестер с самого начала носила имя Рубина, то есть свое собственное и настоящее, вторая же другое… А теперь посмотри, насколько могущественнее была первая. — До поры до времени. — Тем не менее. Ведь это с нее все началось. Это имя подобно тайному паролю… а если к тому же знать, что оно означает… Вот почему Ридарета теперь все время ноет, чтобы ее называли Риолатой. Это вовсе не каприз. Полное знание о себе — это ключ к могуществу, повторяю. Да ты и сам изменился, узнав правду о себе. И наверняка изменишься еще больше… — Изменился? — удивленно посмотрел на него Раладан. — Конечно, друг мой. Ты иначе воспринимаешь истину. — Нет, господин, — возразил Раладан. — В сущности, мало что уже может меня удивить… — Посмотрим, — пробормотал Таменат. — …но я когда-то объяснял почему: благодаря всему тому, что я успел за свою жизнь повидать. И не более того. Я человек и хочу быть только человеком… — Ты даже не спрашиваешь, каким могуществом одарили тебя Просторы. — Не спрашивал и не буду. — Может быть, тебе все-таки стоит это знать. Никаким, брат. Можешь рассчитывать на их опеку, но не более того. Но ты сейчас в самом расцвете сил, тебе нет еще и сорока… — Хотел бы, чтобы мне было столько, — усмехнулся Раладан. — А на самом деле мне… Что ж, наверное, я никогда не узнаю сколько. Когда меня вытащили из моря, я выглядел лет на двенадцать. Надо бы посчитать… — Когда ты в последний раз смотрелся в зеркало, друг мой? — спросил старик, прервав его чуть ли не на полуслове. — А какое это имеет отношение к делу? — Я говорю, что тебе неполных сорок, поскольку именно на столько ты выглядишь. А всюду, куда долетает соленый морской бриз, жизнь тебе не нужна! Раладан удивленно посмотрел на него: — То есть? — То есть беспокоиться о старости ты начнешь лет, может быть, через тысячу, не раньше. Разве что сбежишь от моря. Раладан остолбенел. — Что ты хочешь сказать, господин? — Что хочу, то и говорю! — резко оборвал его Таменат. — Ты вечен, как и твой отец, жизнь которому дают Просторы, и как они сами. Вместе с этой красавицей вы можете пережить империю и все, что за ней последует. В глазах других людей (ибо вы все-таки люди!) ваше существование — это бессмертие. Но помни, — он многозначительно поднял палец, — что меч остается мечом, а огонь — огнем… Ничто не оживит того, чего нет. Примеры нам известны, не так ли? Раладан молчал, не зная, что сказать. — И это тот, кто ничему не удивляется, — покачал лысой головой Таменат. — Потому что не могу понять! — последовал ответ. — Уже полгода с лишним, во имя Шерни, а ты мне только теперь говоришь, что я бессмертный?! Таменат отнюдь не чувствовал себя виноватым. — А ты спрашивал? Ведь ты, кажется, хочешь быть обычным человеком? Раладан подошел к узкому окну и оперся руками о стены по обеим его сторонам. Он смотрел на Ахелию. Из башни, в которой они сидели, хорошо была видна прочная стена, охватывавшая порт и город; дальше возвышалась прибрежная цитадель. Соединенные с остальными укреплениями башни стерегли вход в порт; тяжелая цепь, которыми они были связаны, свешивалась над самыми волнами. — Далеко на востоке есть земля, — сказал Раладан. — Я всегда хотел туда отправиться… Но жизнь все время казалась мне слишком короткой, чтобы уместить в ней все мои планы. Если бы ты мог отправиться со мной, господин! — внезапно воскликнул он, ударив кулаком о стену. — Сумасшедший, — заметил Таменат. — Добавь ему пару лет жизни, и от Просторов его за уши не оттащишь. — После чего спокойно добавил: — Я скоро умру. — О, ради всех морей! — бросил Раладан. — Кроме того, гм, твоя жена… — А, шлюха! — фыркнул тот. — У меня уже рога в дверях не помещаются! — И тебе это так сильно не нравится? Раладан помолчал, потом, неожиданно улыбнувшись, сказал через плечо: — Может, это и странно… но нет. Если не считать этого, она вся моя, без остатка. Пусть уж лучше будет так, чем наоборот. Скрипнула дверь. Они обернулись. Ридарета бросила на стол рукавицы, отстегнула от пояса меч и тоже положила на стол. Потом сняла шлем, освободив пышные волосы. — Как учеба? — спросил Таменат. — Учеба… — буркнула она. — Эти местные дохляки еле таскают козлы для пищалей. Но снова нашлась пара добровольцев. — В городе дороговизна, а в деревнях голод, — подытожил Раладан. Что-то долгая эта осень… Недавно он совершил поступок, которого, пожалуй, не знала история Просторов, — отправился сквозь шторм в Дартан. И вернулся… С мукой, зерном, фасолью. Цитадель в Ахелии теперь кормила весь остров. Беспокоиться приходилось лишь о Малой Агаре. Лишь однажды, в ясный день, туда ушли баркасы. Но до сих пор не вернулись. Добралось ли до места продовольствие? — Ахагаден, — сказала Ридарета. — Он свое дело знает. Вот это — солдат! — добавила она таким тоном, что мужчины многозначительно переглянулись и улыбнулись. — Должна признаться, если поставить моих стрельцов против его щитоносцев и арбалетчиков, один против одного, то после сражения даже доспехи моих никуда не были бы годны. — Больше стреляй, — посоветовал Таменат. — В конце концов, это ты командуешь всем войском, не Ахагаден. Возьми у него несколько хороших десятников. Если хочешь получить из огнестрельной пехоты отборное войско… — Стрелять… У нас мало пороха. Я не могу палить просто так. Кто знает, что будет, когда кончится осень? Империя все так же там, где и была. А твоя красотка? — спросила она, глядя на Раладана. — Никто не знает, где она? Как обычно? — Совсем недалеко, — сказала Алида, стоя в дверях. — Ты снова приказала выпороть бичом солдата… Держи себя в руках! Слишком это тебя возбуждает. — Ее высочество княгиня Алида, владычица Агар, — произнесла Ридарета, не обращая внимания на упрек, и поклонилась, приложив руку к груди. Собственно, они друг друга любили, но и обожали дразниться. — У меня есть для тебя жеребец, — злорадно сообщила Алида. — Можешь на нем отыграться. Без бича. — Из огнестрельных? — Может, и огнестрельный, откуда мне знать? Если даже и огнестрельный, то уж наверняка не со мной. Кто может быть более огнестрельным, чем мой господин и супруг? Раладан посмотрел в потолок и снова отвернулся к окну, заложив руки за пояс. Он молчал, покачиваясь на каблуках. — Наш друг, — наконец сказал он, — собрался в могилу. Обе с беспокойством взглянули на старика. В последние месяцы великан стал почти отцом для всех троих. — Вовсе нет, — тут же возразил он. — Я просто говорил, что умру. Раладан пожал плечами. Женщины переглянулись. — Цитадель почти закончена, — продолжал старик. — Пора платить строителю. Раладан снова обернулся. — Золотом? — недоверчиво спросил он. — Ради Шерни, у нас нет столько… — Молокосос. Наглый молокосос, — подытожил великан, качая головой. Зачем золото старику? Мне нужно то, что имеет ценность в моем возрасте… Они выжидательно смотрели на него. — Жизнь. Ваша жизнь. Он тяжело встал и подошел к Раладану, положив руку ему на плечо. — Не вся, конечно. Но у меня есть сын… В некотором смысле… вы вернули меня миру, — признался он. — Я хочу вернуться в Громбелард. Если бы мне потребовалась помощь — найду ли я ее здесь, на Агарах? Я хочу найти своего сына, — объяснил он. — Для одиночки это может оказаться слишком трудной задачей. Если мне потребуется помощь? В моем личном деле? — снова спросил он. Они изумленно уставились на него. — Вот тебе мое слово, господин, — серьезно сказал Раладан. — Ты должен требовать, а не спрашивать. — Но самое большее через полгода я умру… — Что за чушь? — разозлилась Ридарета. — Я знаю, что говорю, красавица. Однако пора мне сказать, что я решил: во второй раз в жизни я сбрасываю мантию Посланника. И без всякого сожаления… Мудрец из меня никакой, я должен быть тем же, что и мой сын. Они сосредоточенно его слушали. — Даже если бы я упрямо хотел торчать под боком у Шерни, она сама этого не допустит после того, что я совершу. Твоя история, Рубинчик, — обратился он к Ридарете, — не одного научит… Я завидую вашему долголетию. Ибо он тоже, — он показал на Раладана, — на это обречен. Я ему уже сказал. Алида и Ридарета широко раскрыли глаза. Таменат положил на стол большой рубин. — Гееркото, — коротко сказал он. — Плохой из меня лах'агар, но с этим камешком я, пожалуй, справлюсь… Ему придется заменить мою прежнюю жизнь. Они поняли, хотя и не сразу. — О, ради всех морей… — удивился Раладан. — Это возможно? — спросила Ридарета. — Это можно сделать преднамеренно? Обдуманно? Алида молча отвернулась. — Но, господин, — помолчав, сказал Раладан, — потребуется еще один Рубин. Пусть даже совсем маленький. Таменат, не говоря ни слова, показал второй камень. И улыбнулся. Золотоволосая княгиня медленно подняла взгляд. — Ты хочешь меня… навсегда? — изумленно спросила она, глядя на супруга, словно на какое-то диво. Тот кивнул с кривой улыбкой. — Я всегда могу сбежать во второй раз, — добавил он. — Даже вообще с Агар. Я неплохо плаваю. Она обняла его: — Только попробуй… — Нет, — сказала Ридарета. — Это какая-то сказка… Она покачала головой и рассмеялась, но тут же посерьезнела. — Все это произошло потому, — задумчиво обратилась она к Таменату, что именно так желали Законы Всего? Старик долго молчал. — Не знаю. Может быть… А разве для вас это имеет какое-то значение?Нора Лофтс Джентльмен что надо
Посвящаю от всего сердца ДжеффриИз энциклопедии «Британика». Издательство Вильяма Бентона, т. 18, 1961 РАЛЕЙ, сэр Уолтер (1552-1618), британский путешественник, родился приблизительно в 1552 году, в семье Уолтера Ралея из Фарделла и Катрины, дочери сэра Филиппа Чампернауна из Модбюри. Он родился в сельском поместье Хейз, расположенном рядом с бухтой Бадлей Салтертон-бей. В 1568 году он, человек незнатного происхождения, тем не менее поступил в Ориел-колледж в Оксфорде. В 1569 году Ралей последовал за своим двоюродным братом Генри Чампернауном, который принял командование группой английских добровольцев на службе у французских гугенотов. Скорее всего, он участвовал в битве при Жарнаке (13 марта 1569 года). Далее сведений о его жизни нет вплоть до февраля 1575 года, когда Ралей поступил на службу в Тампль. В июне 1578 года его сводный брат сэр Хэмфри Гилберт получил патент, который позволял ему в течение шести лет владеть «любыми отдаленными варварскими землями, которые не принадлежат ни одному из христианских властителей или простых христиан». В 1578 году Гилберт возглавил пиратскую экспедицию против испанцев. Ралей сопровождал своего сводного брата как капитан корабля «Сокол» и, скорее всего, оставался с ним в течение всего годичного плавания, оказавшегося неудачным. В 1580 году Ралей дважды арестовывался за дуэли, и тогда он избрал графов Лестера и Оксфорда своими покровителями и стал их преданным слугой. Позже, в том же году, Ралей служил капитаном пехотной команды в Манстере, в Ирландии, и принял активное участие в подавлении восстания Десмонда *["987]; он был сторонником безжалостной политики в отношении ирландцев и рекомендовал убийство как лучший способ разделаться с их руководителями. В декабре 1581 года офицера Уолтера Ралея отослали домой с официальными донесениями, и его карьера началась с того момента, когда он появился при дворе, где был уже известен по переписке с Уолсингемом *["988] в течение нескольких лет. Вполне вероятно, что Ралей действительно бросил свой плащ на землю, чтобы королева Елизавета I Тюдор могла посуху перейти грязную лужу, и что он действительно нацарапал бриллиантом стихи на стекле, чтобы привлечь ее внимание. Во всяком случае, его стройность и привлекательность, приятные манеры и быстрый ум, безусловно, понравились королеве, и записки сэра Роберта Наунтона «О королевской власти», а также фуллеровские «Ценности» дают, пусть и искаженное, представление о том, как он попал в милость. Его услуги в Ирландии ни в коей мере не заслуживают того дождя наград, который пролился на него. В феврале 1583 года Уолтер Ралей сопровождает герцога Алансонского и Анжуйского во Фландрию. В том же году он получает в дар особняк Дархем-хаус на Стрэнде, и тогда же при поддержке королевы он удержал за собой два доходных арендных участка земли в Оксфорде, которые и реализовал с большой выгодой, получив патент на выдачу лицензий владельцам таверн, которые арендуют эту землю. В следующем, 1584 году Ралей добился новых милостей, получив лицензию на экспорт древесины, а в конце того же года он был посвящен в рыцари и сделался сэром. Его придворная карьера складывается столь удачно, что в 1585 году он уже граф Бэдфордский. Этот титул Ралей получил как губернатор-смотритель оловянных рудников. В этой должности он активно использовал свою власть для организации горного дела в западных районах и содействовал уменьшению прежних таможенных сборов, демонстрируя свое хорошее отношение к рабочим. В 1586 году ему было передано сорок тысяч акров конфискованных земель Десмонда в Ирландии, раскинувшихся по берегам реки Блэкуотер. Ралей приложил массу стараний, чтобы упрочить положение английских колоний, а также распространить в Англии табак. В 1587 году он получил в дар часть конфискованных земель Бабингтона. *["989] Ралей достиг пика своей карьеры, но у королевы Елизаветы всегда было несколько фаворитов, и на нее было трудно влиять. Она обращалась с Ралеем как с придворным фаворитом, но не давала ему ответственных поручений и не допускала к участию в Совете. Даже звание капитана королевской гвардии, присвоенное ему в 1587 году, было, скорее, номинальным. Меж тем срок действия патента, выданного его сводному брату Хэмфри Гилберту, истекал в 1584 году. Чтобы смягчить такую потерю, Ралей, частью из своего собственного кармана, организовал в 1583 году экспедицию в Ньюфаундленд (Северная Америка), в которой Гилберт погиб. Патент был возобновлен на имя Ралея в марте 1584 года. Теперь Ралей предпринял серию мероприятий по колонизации земель в Америке. Патент давал право ему и его наследникам владеть всей занятой ими территорией, в уплату за которую они должны были вносить в королевскую казну одну пятую долю всей добычи драгоценных металлов. В апреле 1584 года Ралей отправил двух капитанов — Филиппа Амадаса и Артура Барлоу — в исследовательскую экспедицию. Они проплыли от Канарских островов к Флориде и прошли вдоль побережья Северной Америки до узкой бухты между заливами Албемарлем и Памлико, то есть до современной Северной Каролины. Обширным неисследованным землям было присвоено название Виргиния, но ни один из капитанов Ралея или поселенцев не смог освоить хоть часть территории и удержать за собой. В том же году Уолтер Ралей становится членом парламента от Девоншира. Его первая колония поселенцев под руководством сэра Ричарда Гренвилля в 1585 году высадилась на современном острове Роанок в Северной Каролине. У поселенцев не сложились отношения с местным населением (индейцами), поэтому они покинули колонию, когда к побережью в 1586 году прибыл флот Дрейка. Попытки колонизовать эти земли в последующие два года окончились провалом, и в 1589 году Ралей уступил свои права торговой компании, оставив за собой ренту и право на пятую долю от любой возможной добычи драгоценных металлов. После 1587 года сэр Уолтер Ралей уступил свое место фаворита графу Эссексскому, и в следующем году его звезда закатилась. Часть года он провел в Ирландии с сэром Ричардом Гренвиллем и в качестве вице-адмирала Девоншира контролировал береговые оборонительные сооружения и подразделения ополчения графства. В 1589 году Ралей снова оказался в Ирландии и навестил Эдмунда Спенсера *["990] в Килколмане. С помощью Ралея Спенсер получил пенсию и королевскую помощь в публикации трех книг для королевской библиотеки. Вернувшись из Ирландии, в том же году Ралей участвовал в экспедиции к берегам Португалии с целью поднять восстание против Филиппа II Испанского. *["991] Экспедиция провалилась. В 1591 году ему в последний момент было запрещено принять участие в плавании на Азорские острова. Вместо него туда отправился его двоюродный брат сэр Ричард Гренвилль. Однако в 1592 году Ралей все-таки отправляется в море с каперской целью — перехватывать испанские торговые корабли, но королева вскоре отозвала его обратно, обвиняя в том, что он соблазнил одну из ее фрейлин, Елизавету Трогмортон. В письме к лорду-канцлеру Роберту Сесилу *["992] Ралей отрицает это. По возвращении бывшего фаворита заточили в Тауэр, и если до этого Ралей оставался холостым, то теперь его женили. Чтобы успокоить гнев королевы, он притворялся, что полон отчаяния от потери ее расположения. По существовавшим обычаям фрейлины не могли выходить замуж без разрешения королевы, а ее величество Елизавета Тюдор не спешила его давать, особенно если речь шла об одном из ее бывших любовников. В конце концов разрешение было получено, и Ралей женился. Он был верным мужем, и жена любила его до конца жизни. Вскоре после этого корабли его эскадры захватили большое португальское торговое судно «Матерь Божья», и Ралей руководил распределением трофеев. Он потратил много собственных денег на эту экспедицию, но королева оставила ему сумму, которой едва хватило на покрытие расходов. Ралей вышел в отставку и поселился в Шерборне, в Дорсетшире. Это поместье он силой забрал у епископа Салисбюри в то время, когда пользовался неограниченным королевским расположением. Там в 1593 году у него родился сын, названный Уолтером. Но спокойная жизнь в отставке была не по душе Ралею, и в 1595 году он отправился в экспедицию к берегам Южной Америки. Без сомнения, он стремился найти золотые месторождения. Ралей был наслышан об Эльдорадо. Его отчет об экспедиции «Открытие Гвианы», опубликованный после его возвращения, написан блестящим стилем и отличается возвышенным романтизмом, но его встретили с недоверием. Теперь Уолтер Ралей стал одним из самых непопулярных людей в Англии. Его обвиняли в алчности, высокомерии и недостатке веры. А до этого, в 1590 году, его, вместе с Марло и другими писателями и драматургами *["993], вообще именовали атеистом. Ралей много сделал для Англии. В частности, участвовал в захвате Кадиса, был ранен, и это вернуло ему расположение двора: очевидно, он помирился с графом Эссексским, с которым вместе отправился в плавание на Азорские острова в 1597 году. Но это совместное плавание привело к возобновлению ссоры, и Ралей оказался в еще большей немилости, чем раньше. В 1600 году он добился поста губернатора острова Джерси, и в следующем, 1601 году принял участие в подавлении восстания Эссекса. На казни графа Эссексского Ралей присутствовал в качестве капитана гвардии. В 1600 году сэр Уолтер присутствовал на последнем заседании парламента Елизаветы. Он всегда проповедовал терпимое отношение к религии и критиковал судебное и аграрное законодательство того времени. После смерти королевы Елизаветы для сэра Уолтера Ралея настали трудные времена. Новый король Яков I Стюарт был расположен к Эссексу, своему стороннику, и, соответственно, заранее предубежден против Ралея. Кроме того, сэр Уолтер стоял за войну с Испанией, а это не входило в планы мирной политики Якова. В 1602 году Ралей продал свои ирландские поместья Ричарду Бойлю. У него отобрали особняк Дархем-хаус, который был возвращен епископу, сместили с должности капитана гвардии, лишили всех монополий и губернаторства в Джерси. Считалось, что он оказался причастным к тайному заговору в первые месяцы правления Якова, и 19 июля 1603 года его заточили в Тауэр. Там он пытался заколоться, но нанес себе лишь небольшую рану. Процесс над ним состоялся в ноябре 1603 года в Винчестере и отличался очевидной предвзятостью. Сэр Уолтер отлично держался, что, в сравнении с грубостью генерального прокурора сэра Эдварда Кока, заставило публику перейти на его сторону. Однако Ралей, скорее всего, знал о готовящемся заговоре, хотя суду не удалось собрать достаточно улик, чтобы доказать его вину. Всем заправлял Тайный совет *["994], и суд опирался на то, что Совет считал его виновным. Сэру Уолтеру Ралею вынесли смертный приговор, который не был приведен в исполнение, а оказался заменен заточением в Тауэре, где Ралей и оставался до 19 марта 1616 года. Король забрал себе владения в Шерборне, переданные ранее Ралеем сыну, а сумма в восемь тысяч фунтов, которая должна была быть выплачена королевским казначейством в качестве компенсации за поместье, была уплачена лишь частично. Несмотря на содержание под стражей, заключение Ралея оказалось достаточно легким, и он снова обратился к занятиям химией и литературой. До этого сэр Уолтер был известен как поэт, а в тюрьме он сочинил и один том своей подробной «Всемирной истории». Там же, в Тауэре, он изобрел чудодейственный эликсир, очевидно сильно действующий стимулятор жизнедеятельности. Его никогда не покидала надежда на освобождение, и он добился свободы очень своеобразным способом. Ралей пообещал королю найти золотое месторождение в Гвиане и при этом не вторгнуться в испанские владения. Это было совершенно невозможно, и испанский посол Гондомар предупредил короля, что У испанцев на этом побережье расположены поселения. Но королю были нужны деньги, и он ответил послу, что если Ралея уличат в пиратстве, то по возвращении казнят. Таким образом, сэр Уолтер дал обещание, которое невозможно было выполнить, да он и сам это знал. Ралей отплыл 17 марта 1617 года, отдавшись на волю случая и интриг. Плохо подготовленная экспедиция тем не менее достигла устья Ориноко в канун нового, 1618 года. Здесь сэр Уолтер заболел лихорадкой и остановился в Тринидаде. Он отправил пять небольших кораблей вверх по Ориноко под командованием Лоуренса Кеймиса, вместе с которым отплыли сын и племянник Ралея. На пути к предполагаемому месторождению экспедиция обнаружила испанское поселение. Завязалась битва, в которой погибли сын сэра Уолтера и несколько испанцев. Кеймис вернулся к сэру Уолтеру с известием о смерти Уолтера-младшего и собственной неудаче и покончил жизнь самоубийством, не выдержав упреков Ралея. После унизительных сцен взаимных обвинений и упреков экспедиция вернулась домой. Ралей был арестован и в соответствии с королевским обещанием, данным Гондомару, казнен 29 октября 1618 года.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ МЫС БАДЛИ В ГРАФСТВЕ ДЕВОН. 23 ИЮНЯ 1568 ГОДА
Мы только однажды теряем девственность, но наше сердце навсегда остается там, где мы ее потеряли.Старый Харкесс, толкавший свою лодку к воде, остановился и прислушался. Все было тихо вокруг. До него доносилось только дыхание летнего моря да шум ветра в густых зарослях на вершине скалы; старик, однако, ожидал иного. Он тяжело вздохнул, потому что был стар и ленив, и ему отнюдь не помешало бы, если бы ему кто-нибудь помог спустить лодку на воду и поработать на веслах в эту теплую ночь. Он поплевал себе на руки и снова взялся за борт лодки. Еще дважды он останавливался и на третий раз услышал то, чего так ждал: быстрые шаги, ускоренное дыхание и, наконец, сдавленным голосом произнесенные слова: — Харки, подожди меня, Харки. Призыв прозвучал негромко, хотя и настойчиво, и старик улыбнулся в темноте: ишь какой Уолли — ведь страсть как хочет поехать с ним, а осторожничает. Он спокойно откликнулся: — Эгей, парень! Из темноты, спотыкаясь, появился человек, не говоря ни слова, уперся в лодку и вместе со стариком столкнул ее наконец в воду. Когда они забрались в нее, мальчишка произнес с упреком в голосе: — Ты, наверно, уже собрался уйти без меня. — Я совсем не хотел этого. Ты же знаешь, мне нравится быть в компании с кем-нибудь. Но время-то шло, становилось уже поздно, а ночи сейчас короткие. Я боялся, что тебя не выпустят из дома. — Да уж постарались. Отец запер меня, но, слава Богу, я еще достаточно худой, чтобы вылезти из окна, и достаточно легкий, чтобы спуститься по стволу глицинии. — А иначе тебе тут и не быть бы. Что ты потом-то делать будешь? — Потом я уеду. Этой осенью мне надо отправляться в Оксфорд. — Мне будет сильно не хватать тебя, Уолли. — А мне еще больше будет не хватать тебя, Харки. Тебе ведь все равно, кто из мальчишек станет твоим помощником. Для меня же ты — Одиссей. — Что это такое? — Смелый моряк, который всегда много говорил. — Ну и прозвище ты мне придумал! — Поверь мне, это большая похвала. Куда ты сейчас направляешься? — От мыса прямо по курсу. К французскому судну, груженному отличным бордоским вином. Как жалко, что твой отец настроен против ночного лова, Уолли! Сколько дешевой выпивки он заимел бы! — Ох, отец! — В голосе мальчика прозвучала нотка жалости. — У него и так хватает забот, без нарушения таможенных правил. Люди Девона всегда виноваты: они, оставаясь протестантами, удручают тем самым Деву Марию, а теперь вот Елизавета вообще запретила пиратство. — Нет, парень, это только возле своих берегов. Если бы твой отец и его друзья орудовали в Вест-Индии *["995], она называла бы их ярчайшими бриллиантами своей короны. Звоном колокола прозвучали в голове мальчика слова — Вест-Индия. — Ладно, Харки, давай уж я сам погребу. А ты отдохни пока. На обратном пути лодка будет тяжелее. Старик не имел ничего против, отложил весла и откинулся назад на своем сиденье. — Уолли, почему твой отец настроен против того, чтобы ты был моряком? Сам-то он моряк. — Вот поэтому он и против. Говорит — ничего хорошего в этом нет. Я должен изучить либо право, либо церковную службу и затем строить свою карьеру. Кузина моего отца, Кейт Эшли, пользуется благосклонным вниманием королевы и замолвит словечко за меня. — Да, оно, конечно, такое дело куда надежнее. Только совсем зачахнешь ты, парень, если станешь клерком. — Может быть. Однако никогда не вредно поучиться. Да и не смогу я быть таким морским волком, как Хэмфри, — я вечно страдаю от морской болезни. Зато ночи вроде этой очень хороши. И еще — у меня большое желание увидеть Вест-Индию и всю ту огромную страну, которая расположена за островами. — Да-а-а, некоторые из островов довольно привлекательны, да и богаты к тому же. Но теперь они не так приветливы, как в дни моей молодости. С испанцами у нас натянутые отношения, и индейцы так озверели от обращения белых с ними, что поджидают за каждым деревом, чтобы ужалить отравленной стрелой, а после выпустить из тебя кишки. — Однако скоро из них вообще никого не останется в живых. Вспомни, что ты мне рассказывал прошлой ночью. — О том, как их тысячами загоняют в серебряные рудники и потом уже никто из них никогда не выходит оттуда? Да, тут ты, пожалуй, прав. И все же всякому, кто ступит на этот континент сейчас ли или когда-нибудь потом, придется с бою брать каждую пядь той земли, так я считаю. Оба смолкли, старик — вспоминая далекие страны, которые ни в коей мере не представлялись ему романтическими, а были всего лишь местом, где вас поджидали голод, или жажда, или угроза быть убитым, и мальчуган, который тоже думал о тех далеких. странах, но его они влекли к себе так необоримо, как магнит притягивает к себе иголки. Он понимал, что Харкесс, если бы он прочел его мысли, посмеялся бы над ним. Харки говорил ему, что четыре тысячи рабов были загнаны в серебряные рудники, но Уолли не мог представить себе этого. Подобное страшное деяние никак не вязалось в его уме с обликом победителя. Он не мог до конца понять, как это чернокожие рабы добывают серебро из черной земли, как сваливают кучами это серебро в сокровищницы галионов, которые переправляют его затем прямо в Кадис. Ему не хотелось, чтобы Харки так думал. Хватит того, что он донес до него сам факт, но его соображения на этот счет не должны были портить созданную воображением Уолли романтическую картину. Хотя, вероятно, именно в простоте и реализме рассказов Харкесса заключался секрет того огромного влияния, которое оказали его незамысловатые слова на всю последующую жизнь юного Ралея. Наконец темный корпус корабля навис над ними; Харкесс снова взялся за весла, и они осторожно проследовали вдоль его борта. Опутанные веревками бочки с вином были аккуратно расставлены на дне лодки; деньги перешли по назначению, моряки перебросились несколькими фразами на странном — не английском и не французском — языке браконьеров, и Ралей с Харкессом тронулись в обратный путь. Они почти не разговаривали, так как нагруженная лодка требовала всего их внимания и сил; Харкесс только один раз нарушил молчание, чтобы сказать: — Вторая пещера, Уолли. Примерно в ста ярдах от берега Ралей поднял весла и, повернув голову к берегу, прислушался. Харкесс тоже перестал грести и тихо спросил: — Что там? — Кто-то там есть, если я не ошибаюсь. Ты ничего не слышишь? — Слышать-то я ничего не слышу. Но там… там виден свет. Черт побери, да это Трибор, он уже несколько недель подкарауливает нас там. Уолли, нам нельзя причаливать. Придется обогнуть мыс и, пока не наступило утро, постараться спрятать все это у мамаши Шейл. Надеюсь, нам удастся это сделать, или ты будешь иметь удовольствие увидеть меня в колодках. Ну, а тебя твой отец… — Оставь меня с моим отцом в покое. Небо на востоке уже начинало светлеть, и они, согнувшись в три погибели, взялись за весла с усердием рабов на галере. Обогнуть мыс Бадли всегда представлялось нелегкой задачей: там встречались различные течения и среди ледяных волн и бурунов можно было разглядеть скрытые в воде рифы. Миновав крайнюю точку мыса, они посмотрели друг на друга: оба, скинув с себя всю одежду, остались в одних штанах, пот ручьями стекал по их телам. Однако теперь они оказались вне поля видимости для тех, кто поджидал их в пещере, и у них появился наконец шанс сохранить и свой груз, и свою свободу. Пристанище мамаши Шейл пряталось в выемке скалы, со всех сторон оно было укрыто от посторонних глаз — разве что с моря его еще можно было разглядеть. Это было длинное, низкое, рассевшееся строение, которое в зависимости от требований посетителя могло служить пивной, фермой, местом сбора браконьеров или борделем. В подвале дома всегда находились бочонки с вином, но редко бывало так, чтобы одни и те же бочки оставались там больше двух ночей, то же самое можно было утверждать и относительно лошадей в ее конюшне. Сама мамаша Шейл была довольно гнусная старуха. На ее спине до сих пор оставались следы порки, которой ее подвергли на улице Эксетера давным-давно за то, что она была распутной девкой. Та порка навсегда сделала ее сторонницей всех, кто преступил закон, и многие браконьеры, жулики и проститутки, попав в беду, имели все основания восхвалять Господа за эти шрамы на ее спине. Она подошла к окну, когда камешки, брошенные рукой Ралея, застучали по нему. В десяти словах Харкесс изложил ей суть ночного происшествия, и она захромала к дверям. Через четверть часа вино уже стояло у нее в подвале, а лодка находилась на фут выше воды, на песке в бухточке позади дома. В то же время кто-то внутри дома помешал золу в очаге, который никогда не гас до конца, и скоро Харкесс и Ралей, продрогшие на холодном утреннем ветре, скорчились возле него, держа на коленях блюда, наполненные жирным беконом, а в руках — кружки с крепким элем. Юноша, проведя всю ночь без сна, в течение стольких часов подвергая себя столь необычайному напряжению, теперь едва ли способен был доесть свой завтрак, не уснув. Он встал на ноги, чтобы сказать Харкессу: — Я должен пойти домой, — и тут же рухнул на стул, так и не услышав, как Харки сказал в ответ: — Куда ты пойдешь в таком виде, парень! Да ты все равно не попадешь домой до того, как тебя там хватятся. Но мальчик уже спал, опустив голову на колени. Когда Уолли проснулся, первое, что он почувствовал, это запах свежескошенного сена, а потом красное сияние, которое окружало его. Затем он заметил девушку, которая своим разглядыванием разбудила его. Ее красные губы расплылись в улыбке, она смеялась над ним. Ралей быстро сел и стал стряхивать солому со своих волос и одежды, слегка покраснев оттого, что эта хохочущая девушка застала его в таком неприличном виде. Она продолжала смеяться и, схватив пук сена, рассыпала его над ним и сказала: — Соня. Ты проспал целый день. Харкесс уже ужинает. Мальчик с трудом поднялся на ноги, попутно стараясь избавиться от сена в волосах и на одежде. Но девушка пребывала в игривом настроении. И стоило ему освободиться от соломы, как она снова закидывала его ею. Наконец, скорее из желания выиграть время, нежели подыграть ей, он захватил большую охапку сена и со своей удобной позиции на макушке кучи забросал сеном всю ее, с головы до пят. Тихо вскрикнув, она бросилась на него, и в течение нескольких минут сено летело во все стороны. Красные лучи заката отплясывали свой дикий танец в поднявшейся пыли, и Уолли с девушкой, изможденные и задыхающиеся, свалились наконец на взъерошенное сено один подле другого и, тяжело дыша, смотрели друг на друга. Тут он разглядел, что она старше него и прехорошенькая. Ее волосы там, где они плотно прилегали к голове, были черные, но отдельные пряди, просвеченные вечерним солнцем, казалось, были покрыты легкой красноватой паутиной. Ее кожа была словно мед, за чуть приоткрытыми губами сверкали мелкие белые зубки и розовый, тонкий язычок. Однако в ее остром носике и подбородке заключалась угроза, что через каких-нибудь несколько лет в ней можно будет безошибочно признать внучку старой мамаши Шейл, но пока что она была прелестна. Надув губки, девушка сдула упавшую на нос прядь волос и откинулась назад, на сено, подложив под голову руки. Рукава ее хлопчатобумажного платья задрались кверху, обнажив тоненькие голубые жилки, вьющиеся по руке от запястья к локтю, и в этой ее позе все внимание наблюдателя сосредоточивалось на основании ее шеи, где не тронутая загаром кожа была пугающей белизны, и на расцветающую грудь с сосками, которые буквально вонзались в легкую ткань ее платья. Что-то незнакомое сдавило мальчику горло. — Вы прелестны, — едва выдохнул он. Она снова рассмеялась и, схватив одной рукой его голову, привлекла ее к своему лицу. Ралей неуклюже, робко поцеловал ее, как целовал свою мать, когда этого требовали обстоятельства. Но в этом, как, впрочем, и во всем другом — так уж устроена была его натура, — он был способным, смекалистым учеником, а обучившись, становился экспертом. Да и для девушки такое занятие было явно не в новинку. Так что все пошло как по маслу. — Что с тобой, Уолли? Мне недосуг дожидаться тебя. Выспишься дома, — загремел вдруг снизу голос Харкесса. Вздрогнув, юноша вскочил на ноги. Девушка прошептала ему: — Не говори, что я тут. Приходи еще. — Приду, — прошептал он, соскользнул с кучи сена и, притворно зевая, вышел из темного сарая навстречу Харкессу, освещенному последними лучами заката. — Никогда не встречал такого соню мальчишку, — проворчал старик. — Давай вставай, бери ноги в руки, и я провожу тебя домой и скажу твоему отцу, что тут нет твоей вины. — Не беспокойся, Харки. Я как-нибудь сам разберусь со своим отцом. Было что-то в его тоне, что заставило Харкесса с изумлением взглянуть на него. Да, «Харки» он произнес по-старому — как мальчишка и друг, — тем не менее вся фраза прозвучала с оттенком высокомерия, а последние слова вдруг напомнили Харкессу, что перед ним сын сквайра и что сам он не более чем контрабандист. Однако его доброе старое сердце принудило его настаивать на своем: — Ты уверен? Мне бы совсем не хотелось, чтобы ты пострадал из-за меня. Ралей рассеянно возразил: — Все обойдется. — И они в полном молчании отправились в путь. Так вот, подумал юноша, что значит быть мужчиной, что значат чисто мужские наслаждения и прерогативы. Он знал о них и раньше и старался избегать их, но никогда не предполагал ничего подобного. Какая она была ласковая, мягкая, и покладистая, и сведущая в таких делах! Впрочем, лучше не думать об ее осведомленности — на этом фоне его невежество особенно бросается в глаза. Однако какие же перспективы, какие будущие услады открылись перед ним сегодня вечером! Даже Вест-Индия вылетела у него из головы, и он небрежно пожелал Харкессу спокойнойночи и пошел на встречу со своим отцом. Он теперь был мужчиной и не собирался позволить пороть себя ни в этот вечер, ни в любой другой. Сама мысль о том, что чья-то наглая рука замахнется на него, бросала его в жар, но если вчера еще чувство страха было причиной этого, то теперь только стыд обжигал его щеки. И эта столь неожиданная для него самого уверенность в себе была так сильна, так явно опиралась на законы естества, что его отец, едва взглянув на его пылающее, готовое к отпору лицо, оставил свое намерение телесно наказать его, и оставил его навсегда.
ГЛАВА ВТОРАЯ НИДЕРЛАНДЫ. 17 НОЯБРЯ 1572 ГОДА
В тот ноябрьский вечер трое мужчин сидели, скорчившись, в дырявой палатке возле жаровни и явно ждали четвертого. Можно было подумать, что четвертого им не хватает для игры в карты, потому что на перевернутом вверх дном ящике лежала колода карт, стояли бутылка вина, на три четверти пустая, и несколько кубков. Но этому мирному предположению не соответствовали выражение беспокойства на их лицах и напряженные позы сидящих на табуретках людей. Хэмфри Гилберт просверливал новые дырки в растянувшемся от сырости ремне; гвоздь, которым он орудовал, скрипел в мокрой коже, и он время от времени делал паузу, поднимал кверху гвоздь и прислушивался; затем, убедившись, что это был не тот звук, которого он дожидался, Хэмфри качал своей большой башкой и снова принимался скрипеть гвоздем по коже. Всякий раз, когда Гилберт останавливался, Филипп Сидней тоже переставал писать, смотрел на выход из палатки и ждал. Но стоило Гилберту покачать головой, как Сидней, поймав его взгляд, смотрел на него с выражением сочувствия, затем снова принимался писать. Третий участник этой сцены казался не таким озабоченным. Он, склонив свой табурет на одну ножку, раскачивался и крутился на нем; при этом тихо напевал что-то, не размыкая губ, посматривал на бутылку и морщился при виде того, как мало вина в ней оставалось; а когда Гилберт замирал в ожидании, он громко вздыхал. Наконец Сидней отложил в сторону перо, закрыл крышкой чернильницу и сложил бумагу. — Это бессмысленно, — сказал он тихим голосом, — малыш уехал двенадцать часов назад, а то и раньше. Что-то с ним случилось. — Я не доверяю местным жителям, — обеспокоенно заметил Гилберт. — Как только дело доходит до драки, они, похоже, готовы отвернуться от своих союзников и начинают заискивать перед испанцами. Это моя вина, мне не следовало отпускать его. Ведь если посмотреть, то он всего лишь мальчишка. — Ладно вам, — произнес Гэскойн, рывком ставя табуретку в нормальное положение. — Если что-нибудь и случилось с ним, то считайте, что он сам нарывался на это. Да я тоже мог бы схватить испанскую пулю, а то и датскую пику себе в селезенку, и по делам нашим мы по уши увязли в дерьме до самой своей смерти. — Мы не о тебе говорим, — все еще спокойно сказал Сидней, но в голосе его прозвучала нотка недовольства. — У тебя, может, и нет ничего за душой. Уолтер же молод, слишком молод, чтобы… — Не надо об этом, — попросил Гилберт. Он встал и бросил так и не пробуравленный ремень в дальний угол палатки, где колеблющийся свет дымящего фонаря продолжал гореть. — Ему еще и двадцати нет; это его первый поход. Гэскойн, решительно не желавший отказаться от своей пессимистической позиции, пробурчал будто самому себе: — Те, кого боги любят… — Перестань! — перебил его Сидней. — Эта дурацкая старая поговорка означает, однако, что если боги любят кого, то оставляют его молодым до восьмидесяти лет. Не унывай, Хэмфри. Может быть, кони увязли. Уолтер парень смекалистый. Кроме того, подумай, разве можно вечно стоять на его пути и оберегать его от всех напастей. Гилберт снова сел. Его брюки из мягкой кожи, загрубевшие под непрекращающимися дождями, скрипели при каждом его движении. Гэскойн подкинул немного угля в жаровню и опять принялся тихо напевать. Новые струи дождя прошелестели по мокрой крыше. Какое-то время тишину в палатке нарушали только шипенье угля в жаровне и монотонное звучание бесконечной песни Гэскойна. Потом вдруг смолкло все. Певец снова тяжело вздохнул и взялся за карты. — Ради всего святого, давайте что-нибудь делать. Иначе я сойду с ума и допью оставшуюся четверть бутылки вина, а ведь она у нас последняя. И мне совсем не хочется так поступать, потому что для Уолтера это будет приятный подарок. Филипп, тебе нынче фартит, «незримое свидетельствует», как говорят церковники. — Не паясничай, — остановил его Сидней. — И у меня нет никакого желания играть сейчас. — Да ладно тебе, давай сыграем. Я еще надеюсь отыграться на своей сдаче и побить тебя окончательно. Ничего мы тут не добьемся, если будем продолжать сидеть словно немые на похоронах. — А, да ладно уж. Моя Пегги против твоего Пана. Готов поставить на кон свою хромую клячу, Хэмфри? Гилберт покачал головой. Гэскойн принялся тасовать карты — из всего его имущества они были главным его сокровищем. Каждая карта представляла собой тончайший листок из слоновой кости — настолько тонкий, что просвечивался насквозь, а короли и королевы были нарисованы столь искусно, что могли сойти за художественные миниатюры. Королева червей была особенно хороша: у нее были рыжие волосы, тонкие губы и необычайной прелести руки Елизаветы Тюдор. Все остальные были брюнетками, в общем-то ничтожествами по сравнению с ней. Гэскойн никогда не видел королеву воочию, но намеревался в тот день, когда его честолюбивые мечты сбудутся и он окажется перед лицом ее величества, сказать ей, что во всех своих многочисленных и диковинных походах он всегда носил с собой ее портрет. Он только успел взять в руки свои карты и с радостью обнаружить, что рыжая королева выпала ему, как Гилберт снова вскочил на ноги и, опрокинув табуретку, ринулся к выходу. Сидней положил свои карты и спросил: — Ты куда? — К Лестеру. Я должен хоть что-то предпринять. Я постараюсь выпросить у него с десяток солдат и отправлюсь на поиски малыша. — Я с тобой, — заявил Сидней. Он протянул карты Гэскойну, который, вынув из кармана кожаную коробочку и положив в нее колоду, тоже поднялся с места и сказал: — И я с вами. Втроем они вышли на импровизированную улицу палаточного городка. Вдоль грязной дороги выстроились в два ряда палатки. Из некоторых доносились голоса и смех обитателей, но большинство из них, заполненные спящими людьми, тонули в темноте и безмолвии. Мужчины решительно пропахали грязную дорогу и в конце ее повернули налево. На новом отрезке их пути грязь оказалась еще гуще и глубже, но он вывел их на открытую площадку, посредине которой находилась большая палатка — штаб-квартира Лестера. Подойдя ближе, они услышали мужские голоса и плюханье лошадиных копыт по грязи. В руках спешащих к палатке солдат плясали горящие фонари. — Это они! — воскликнул Сидней и, схватив Гилберта за руку, устремился вперед, не замечая, что грязь с его ботинок летит прямо в лицо Гэскойна, поспевавшего следом за ним. Гэскойн выругался и отстал на шаг или два. Куда спешить, подумал он. Если это Уолтер, добрые вести никуда не денутся, а если это дурные вести о нем, тогда какой смысл торопиться? Двое опередивших его товарищей остановились в круге света от фонаря, подошел к ним и не столь прыткий Гэскойн. Пытаясь заглянуть через плечи людей, столпившихся вокруг, он привстал на цыпочки и оперся рукой на плечо Сиднея. Бросив взгляд через толпу, Гэскойн снова опустился на пятки и возбужденно заговорил с Гилбертом, не обращая внимания на Сиднея, который, увидев, кто на нем повис, раздраженно посмотрел на него. Гэскойн знал, что Сидней не любит его, и с удовольствием без конца задирал бы его, если бы Уолтер не был их общим другом. — Погляди на лошадей, Хэмфри. На них испанские уздечки и удила. Ей-богу, мальчики прихватили с собой пленных! — Вернулся ли он сам? Хотел бы я знать. — Гилберт стряхнул со своего плеча руку Гэскойна и стал проталкиваться сквозь толпу. — Это люди Ралея? — спросил он несколько раз и, отчаявшись получить ответ, стал пробираться дальше. Сидней и Гэскойн ринулись вслед за ним в образованное широкими плечами сводного брата Ралея пространство, быстро заполнявшееся людьми, и скоро уже стояли перед палаткой Лестера. Из нее доносился знакомый застенчивый голос, о чем-то рассказывающий, при этом, как всегда, запинаясь. В тот же миг под напором ветра пола, прикрывавшая вход в палатку, взметнулась вверх, и прямо перед ними предстал Ралей. При свете фонарей, понавешанных на шестах вокруг палатки, они разглядели его лицо, бледное от усталости, мокрое и блестящее от дождя, с сияющими глазами и приоткрытым ртом. — Привет, Хэмфри, Филипп, Джордж, — поприветствовал он каждого из них по очереди. — Видели, что мы доставили сюда? — У тебя все в порядке? — спросил Гилберт. — Лучше не бывает. Устал. Но вы поняли, с чем мы вернулись? — Десять испанских грандов, наряженных хоть куда, и десять коней под золотыми попонами, — сказал Гэскойн, и второй раз за этот вечер Сидней обрезал его: — Не паясничай. Филипп Сидней понимал, что это золотой час юноши, и его друзьям следовало тихо стоять и слушать все, что он скажет, даже его похвальбы. — На сей раз это не паясничанье. Только их не десять, а девятнадцать. И еще фургон герцога Альбы *["996], полный серебряных и золотых монет, — жалованье испанской армии за шесть месяцев службы. Вот уж тут все три его слушателя были потрясены. — Что? — вскричали они. И затем, когда великая новость дошла до них, они принялись жать ему руки, колотить его по спине, целовать в обе щеки. — Полагаю, это действительно монеты? — с тревогой спросил Гилберт. — А то ведь эти испанцы большие проныры. Они не подсунули тебе какое-нибудь барахло, чтобы самим не остаться внакладе? — Да нет. У них и времени на это не хватило бы. Я вам все расскажу потом, во всех подробностях, только сначала мне нужно переодеться во что-нибудь сухое. Я промок до нитки. Все четверо тронулись в путь по грязной дороге к себе в палатку. То из одной палатки, то из другой подбегали люди и спрашивали, правда ли то, что говорят, но Гилберт, охранявший Ралея с одной стороны, и Сидней — с другой, отталкивали их, коротко бросая: — Ага, он привез от Альбы мешки с деньгами, — и торопили Ралея вперед. — Скоро войне конец, — рассуждал Гилберт по дороге домой. — Наши солдаты, как только им заплатят и хорошенько накормят, просто скушают испанцев. Испанцы же теперь, хлебнув горя, падут духом. Уолтер, мальчик мой, ты делаешь честь своей семье. На его лице появилась одна из редких улыбок и, так никем не замеченная в темноте, исчезла. Гилберт испытывал в отношении Уолтера не только гордость за его успех, но и благодарность. Потому что, как и все войны, которые проходят на мокрых, равнинных землях, эта тянулась бесконечно долго, пока обеим армиям не надоело воевать, не надоели грязища, дожди и ужасные неудобства до такой степени, что им уже было все равно, кто победит в этой войне, только бы вернуться домой, в теплую, сухую постель, где их досыта накормят. А у Гилберта были свои причины страстно желать окончания этой войны. То, чем для его сводного брата были Виргиния или Гвинея, для самого Гилберта был Северо-Западный пролив. Все, чего он желал в жизни, — это получить разрешение королевы и ее грамоту, хороший корабль под его командованием, чтобы отыскать путь к теплому и ароматному Востоку через холодные проливы, которые, по его убеждению, находились севернее Ньюфаундленда. Но для этого надо было сначала обратить на себя благосклонное внимание королевы, а Гилберт с его простой и честной натурой видел только один путь к сердцу королевы — это честно служить ей. Начинал он службу в Ирландии, но этого оказалось недостаточно; поэтому он и оказался в Голландии вместе с другими такими же джентльменами и дворянами, отдавшими свое время и состояние, сражаясь в королевской войне, и теперь утопавшими в грязи; их деньги ушли; их солдатам давно не платили, и они были на грани мятежа; а их надежды угасали день за днем под беспрестанными дождями. Теперь с этим будет покончено. Испанцы сникнут от столь неожиданно свалившейся на их головы беды, а испанская армия, и так довольно недисциплинированная в этой войне в Нидерландах, и вовсе взбунтуется, не получив заработанных денег. И именно рукой Уолтера были сбиты оковы с ног Гилберта. Милый Уолтер! Такой сумасбродный, такой сообразительный и такой везучий! Гилберт любил его за эти его качества — именно их явно не хватало ему самому. Они вернулись к палатке и, наклоняя головы, один за другим вошли в небольшое пространство относительного уюта и комфорта. Возвращение домой знаменуется не только обостренным зрительным восприятием или некими характерными звуками, но и запахами, и Ралей с удовольствием глубоко вдохнул воздух, заполненный запахами керосиновой лампы и мокрой кожи. В течение этого дня, полного событий, он не раз думал, будет ли ему дано вновь ощутить их. Испытывая сонливое довольство, он опустился на табуретку, которую до этого занимал Гэскойн, улыбнулся друзьям и протянул руки над жаровней. Сидней встал на колени — как слуга — и начал стаскивать с него сапоги с огромными шпорами. Гэскойн, чтобы не оказаться в стороне, налил вина в один из кубков и, в насмешку над Сиднеем, тоже встал на колено и предложил вино Уолтеру. Гилберт в это время рылся в вещах, пока не отыскал шерстяной плащ, подбитый овечьим мехом, и когда Сидней поднялся с колен, держа в руках сапоги, Гилберт сказал: — Снимай с себя всю мокрую одежду, Уолтер, и надевай это. Ралей охотно подчинился, встал и, расстегнув застежки и ремни, сбросил тяжелые, пропитанные влагой одежды на пол. Какое-то мгновение он оставался голым, по-мальчишески стройный, с белой как алебастр кожей, за исключением его рук и шеи, которые были постоянно открыты и поэтому резко выделялись своим коричневым цветом на фоне этой белизны. Потом с чувством наслаждения завернулся в плащ и снова сел на табурет. Гэскойн, затаив дыхание, наблюдал за ним. Для него, мужчины сорока лет, это мимолетное явление мальчишеского тела явилось воплощением юности, и непорочности, и невостребованных возможностей. Уолтер был молод, хорош собой, обаятелен и смел. И несомненно, после этого одного-единственного, такого удачного дня он сразу станет фаворитом королевы. Широко открыв глаза и чуть приоткрыв рот, она будет слушать рассказ о двадцатилетнем юноше, который во главе подразделения страшно уставших людей отобрал у испанцев золото, которое испанский генерал с нетерпением ожидал, отсиживаясь в своей неприступной крепости. И когда вся история будет изложена, за спиной рассказчика вдруг окажется его лучший друг, Джордж Гэскойн, ждущий своего часа. В ожидании момента, когда счастливым оборотом речи, неожиданной остротой или удачным комплиментом он сумеет приковать внимание королевы к себе. Вот в чем была причина того, что он, взрослый, поглощенный земными делами, многоопытный человек так рьяно поддерживал дружбу с этим мальчиком, во всем уступал ему и льстил. Однако и насмехался над ним порой. Потому что этот человек был достаточно умен, — хотя ум его никогда не приносил ему желаемой выгоды, — и он прекрасно понимал, что Ралей не дурак и ему быстро надоест друг, который только и делает, что подлизывается. Так что похвалы Гэскойна никогда не бывали чрезмерными. Когда Ралей осушил кубок и поставил его на место, Гэскойн спросил: — Так где же твои дукаты, Уолтер? — У графа. Где же еще им быть? — с неприязнью ответил Уолтер: он заметил и глубоко осудил издевку Гэскойна над Сиднеем. — Чертовщина! Какая ошибка! — вскричал Гэскойн. — Почему ты не сразу пришел сюда? Я бы растолковал тебе, что нужно делать. — А что еще можно сделать, как не передать главнокомандующему пленных и все остальное? — Взял бы половину, а то и все, что захватил, себе и отвез бы в Уайтхолл или Виндзор *["997], или еще куда-нибудь — туда, где сейчас пребывает королева, и положил бы к ее ногам. — Чьим ногам? Ах, королевы. Много было бы толку от этого! Все это нужно здесь. Солдат не кормили толком и не платили им вот уже много месяцев. У нас самих скудный стол. Гэскойн постучал пальцем по горлышку пустой бутылки. — Не о том речь. Тебе нужно подумать о собственной карьере. Завоевать расположение королевы куда важней для тебя, чем накормить ораву болванов. — Твой путь ведет в пустыню, — торжественно заявил Гилберт, — и если королева, как утверждает молва, действительно хоть наполовину женщина, не в этом путь к ее расположению. Гэскойн презрительно скривил губы. — Если она хотя бы наполовину женщина, как о ней говорят, денег Альбы хватит для того, чтобы купить ее душу… и тело. Сидней с раздувающимися ноздрями резко наклонился вперед на своем табурете. Наконец-то, кажется, появилась полновесная и объективная причина для ссоры, о которой он так долго мечтал. — Откажись от своих слов, Гэскойн, или, видит Бог, я разделаюсь с тобой. Гэскойн, взглянув на Ралея, сразу заметил, что выражение усталости и довольства на его молодом лице сменила настороженность, и только пожал в ответ плечами. Ссориться с Сиднеем он не собирался. — Да пожалуйста, если это тебе так надо. Не думал что ты такой принципиальный. Слова Гэскойна не успокоили Сиднея, и он продолжал с вызовом: — В этом походе с Уолтером было еще двадцать, как ты назвал их, «болванов». Они тоже подвергались опасности, и они, как и все другие подобные им, должны получить свою долю тех благ, которые доставляют деньги. — Накормить солдат и заплатить им значит, как мне кажется, покончить с войной, — вставил практичный Гилберт. — Я бы сказал — это значит снабдить армию материальными ресурсами, — уже не так агрессивно ответил Гэскойн Гилберту. Он никогда не рассчитывал занять место сводного брата в сердце Ралея. — Ладно, хватит спорить, послушаем лучше, что нам расскажет Уолтер, — предложил Сидней. Ему, единственному из четверых, было безразлично, покончил ли Ралей с войной или она будет продолжаться, узнает ли королева о золоте или нет. Сидней не притязал ни для себя, ни для своих друзей на карьеру такой ценой. Он хотел жить и наслаждаться жизнью, находиться там, где происходят волнующие события, узнавать людей, которые способствуют возникновению таких событий, по возможности самому участвовать в них. Он отправлялся не туда, где жизнь сулила ему награды, а туда, где было Дело. И когда раздавался бой барабанов, оповещая об окончании очередного Дела и о наступлении тишины, он уходил, удовлетворив свои амбиции и оставив по себе лучшую память. И сейчас он не хотел раздумывать над тем, что может принести каждому из них этот день в будущем, он хотел услышать, как все произошло. — Это было нетрудно, — начал свой рассказ Ралей. — Весь тот день ничего с нами не происходило, никого мы не видели. Хозяйка какой-то фермы дала нам черствого хлеба и поднялась по лестнице наверх к окну посмотреть, как мы будем есть ее хлеб — так я думаю. И вдруг оттуда, сверху она испуганным голосом стала гнать нас прочь: она увидела испанцев на дороге и побоялась, что если они вдруг заметят нас и поймут, что она нас накормила, то сожгут ее ферму. Я взбежал по лестнице, выглянул из окна и далеко, на горизонте увидел длинную вереницу конников и посредине нее повозку. Я догадался, что в ней было что-то ценное, иначе этот медленно ползущий фургон они поставили бы в конец. Мы доели хлеб — его было не так уж много — и поскакали полукругом, пока не взяли в кольцо участок дороги. Перед нами оказался мост через канал и возле него стога сена. Мы спрятались за ними и стали ждать. Дорога была очень плохая, и передние конники не ожидали нападения, они спокойно ехали, и примерно тридцать из них переправились через мост первыми. За ними, бултыхаясь в грязи, следовала повозка, а дальше, позади нее, двигались еще человек тридцать. Я велел моим парням приготовиться и, когда повозка поравнялась с нами, сказал: «Вот вам, детки, и обед на завтра, вылезайте и забирайте его». Мы захватили фургон и расправились с солдатами, следовавшими за ним, прежде чем уехавшие вперед услышали шум схватки и вернулись назад. Некоторые из них, увидев, какой мы учинили разгром, удрали, остальные сражались с нами, но это было уже ни к чему — не готовы они были к бою. Так вот мы и привели сюда фургон и заодно пленных, вот и все. Закончив свой бесхитростный рассказ, он зевнул и сладко потянулся. — Неплохой урок стратегии, — сказал Гилберт. — Три против одного — не так уж мало, — добавил Сидней. — Да не выступали они одновременно втроем против нашего одного, — снова зевнув, уточнил Ралей. — Надеюсь, в своем донесении Лестер все опишет, как было, и не забудет, что это твоя заслуга, я не его, — заметил Гэскойн. Во время своей реплики он встал и откинул в сторону полу палатки. — Дождь кончился, — сказал он и вышел наружу. Как только за ним закрылся полог, Сидней протянул руку к Ралею и сжал его запястье. Оно было очень тонким, его пальцы плотно охватили руку. — Не позволяй ему отравлять твою душу его дурацкими наставлениями, Уолтер, — поспешил он высказать свое мнение, пока не вернулся в палатку Гэскойн. — Раз уж дело сделано, какое значение имеет чье-то там донесение? Только раз дай зависти укусить тебя — и ты погиб навек. Услышав приближающиеся шаги Гэскойна, он поспешно убрал свою руку. — Пойду спать, — сказал Ралей, прикрыв руками глаза. Однако уже в постели, в темноте палатки он никак не мог уснуть. Его мозг как будто превратился в зеркало, в котором все события прошедшего дня отражались одно за другим. Он снова видел сражение у моста. Потом сцену, когда он докладывал о деле Лестеру. Потом стал раздумывать: а что бы он стал делать, если бы сначала пришел к Гэскойну и послушался бы его совета? Он пересек бы пролив, как всегда при этом мучительно страдая от морской болезни; он пришел бы к королеве и высыпал бы золото к ее ногам; как она была бы довольна! Нет, она разгневалась бы на него за дезертирство, как сказал Хэмфри. Какая же из представившихся ему картин была верна? Он подумал о наспех высказанном предупреждении Сиднея. При этом воспоминании Уолтер тяжело вздохнул и перевернулся на другой бок. Возможно, Сидней прав: не в награде радость, она в самом действии. Но что-то тревожило его душу, что-то совершенно чуждое высоким идеалам рыцарства, исповедуемым Сиднеем. Он любил Сиднея, наверное, даже сильнее всех других, похрапывающих тут же, рядом с ним. Характер Сиднея, его спокойный нрав и способность воспламеняться, его идеалы и поэзия — все в нем привлекало юношу, который сам во многом повторял его. Но притягивал его к себе и Джордж. Если одна часть Ралея принадлежала Сиднею, то другая осознавала куда более изощренное, тайное родство с иной, более жесткой, беспокойной и приземленной натурой. Вероятно, именно в ту ночь, когда он беспокойно ворочался на своем соломенном тюфяке и слышал шорох дождя по крыше палатки, началась эта дуэль между двумя компонентами его души, именно тогда разыгралось начало этой дуэли, конец которой мог наступить только после его смерти. То он был верным учеником Сиднея, и ему наплевать было, напишет в своем донесении Лестер о нем или нет. И тут же — ученик Гэскойна — он весь покрывался холодным потом при мысли о том, что в рапорте не окажется его имени. И все это время Уолтер прекрасно понимал, что нет у него ни выбора, ни своей воли в этом деле. Он состоял из двух персон — поэта и хитроумного софиста *["998], боровшихся между собой за господство над ним, и ни один из них не мог отказаться от этой борьбы, не поранив его душу. «Кто же я?» — спрашивал он самого себя. «Сидней!» — кричал поэт. «Гэскойн!» — вопил софист. «Вы оба», — жалобно стенал Ралей. Наконец два духовных символа — обитателя нашего героя угомонились. А в это время Лестер потребовал себе две новых свечи, и когда их зажгли и они, колеблясь от сквозняка в дырявой палатке, осветили стол, он склонился над своим донесением. Новости, которые генерал собирался сообщить королеве и Совету, вселяли в него бодрость. Наголову разбит отряд из шестидесяти испанцев, девятнадцать из них и фургон с золотом захвачены в плен. Вот порадуется королева! Но имени падавшего с ног от усталости, всего в грязи мальчика, который повел в бой солдат за «завтрашним обедом», в рапорте не было. Должны были пройти целые годы, прежде чем имя его достигнет украшенных драгоценностями ушей королевы. Когда Ралей услышал о том, что его имя не было упомянуто в донесении, по неприятному ощущению в животе он понял, что Гэскойн в нем одержал свою первую победу.ГЛАВА ТРЕТЬЯ БЭЛЛИ-ИН-ХАШ, ИРЛАНДИЯ. 10 ОКТЯБРЯ 1581 ГОДА
Toujours de 1'audace *["999].Внимание лорда Роша Бэлли было приковано сразу к двум вещам. С одной стороны, он усиленно потчевал своего гостя мясными блюдами и не забывал подливать в его бокал вино. И в то же время он глаз Не спускал с его лица, пытаясь понять, что скрывается за этим высоким, белым лбом, за узкими, горящими, черными глазами. Он был наслышан о капитане Ралее, который не так давно с пистолетом в одной руке и пикой в другой отбил атаку грозного Фитц-Эдмондса и еще двадцати солдат у брода через реку между городами Йол и Корк. Лорд Рош был очарован рассказом об этом военном эпизоде, несмотря на то даже, что Фитц-Эдмондс был его другом, а капитан Ралей — одним из английских тиранов. Старый воин и хитроумный ирландский мятежник одинаково рукоплескал любому подвигу, кем бы он ни был совершен. Но сейчас, когда этот герой сидел с ним за одним столом, старик чувствовал себя неловко. За ним числилось немало таких дел, которые требовали расследования, и раза два их беседа принимала опасный поворот. Так что старый вельможа тревожно посматривал на молодого человека из-под своих густых бровей и не раз пугался сказанных им слов, а испугавшись, наполнял его бокал и менял тему разговора. Леди Рош надела на себя все уцелевшие в ее владении драгоценности. Их было не так уж много, потому что восстания обходятся дорого, а поместья Бэлли-ин-Хаш были не столь уж богаты. Она тоже наблюдала за молодым человеком — ведь он не раз останавливал взгляд своих черных глаз на ней, и было в них что-то такое, что пробуждало еще дремавшее в груди старой женщины кокетство. Она выставляла напоказ свои украшенные сверкающими и переливающимися при свете свеч бриллиантами руки — все, что осталось от ее былой красоты. В комнате присутствовало еще одно заинтересованное лицо, и прекрасный юный капитан пробуждал в нем чувства куда более глубокие, чем врожденная настороженность отца и потаенное кокетство матери. Дженис едва могла удержать в руке нож — так дрожали ее руки — или сделать глоток — так билось ее сердце прямо у нее в горле. Всего только раз взглянул он на нее, когда они занимали свои места за столом, но в его изумленном, оценивающем взгляде она прочитала все, что хотела прочитать, и, казалось, он навсегда наложил зарок на ее красоту и на ее мечты. — А после испанской кампании, — спрашивал в это время лорд Рош, — что после нее, капитан Ралей? — Я поселился в Лондоне. Ведь я прежде всего мирный человек. Мне нравится читать книги, писать и вести беседы со своими друзьями. В Лондоне сейчас собралось несколько великолепных собеседников. Кит Марло, например, и Томас Нэш, и Том Лодж… *["1000] — Его голос потеплел при воспоминании о них, нынешних его товарищах, но довольствоваться только чернилами и бумагой… Нет, увольте. Как же мало эти мирные орудия труда могут принести ему славы! Ему было комфортно с друзьями, он мог наслаждаться стихами Марло и писать в ответ на них свои, мог спорить с Флетчером о проблемах человечества и истории — он мог быть, как он только что сказал, «мирным человеком»; и тем не менее Уолтер всегда сознавал, что этого ему мало. Его мечты нельзя было просто переплести в кожаный переплет, чтобы люди читали их. Но и легкой славой с громом аплодисментов он не удовлетворился бы, подумал он про себя. Ралей принадлежал к обоим мирам… но ни один из них в отдельности до конца не удовлетворял его. Что будет… И тут он вдруг, за этим освещенным свечами столом, перед тремя людьми, о которых еще два часа назад и понятия не имел, а через час или два они вообще станут его врагами, обнаружил, что говорит о вещах, о которых никогда не слышали ни Кит, ни Том. — …когда я был в Лондоне, королева поручила моему сводному брату отыскать Северо-Западный пролив, ведущий через Северную Америку в восточные страны. Я в качестве командира королевского корабля «Сокол» последовал за ним. Мы попали в шторм, и нас отнесло от других кораблей. Тогда я попытался совершить бросок на берег Американского континента. Именно там заключено наше будущее. Другие нации давно поняли это: Испания с ее Мексикой, Португалия с ее Бразилией — все они стремятся на Запад, как устремляется туда солнце. Там должны находиться прохладные страны, где мягко греет солнце, где спокойно могут жить англичане, обрабатывая землю и строя города — это все можно превратить в английскую колонию. Я не добрался до континента. Не хватило пищи, да и хозяин корабля с самого начала был против этого предприятия. Но старый моряк, которого я знавал в юности — Харкесс его имя, — клялся и божился мне, что на западе и севере Индий лежит земля пиний и фазанов, там богатая целина, на которой все наши безземельные люди — и вы в том числе, лорд Рош, — могли бы поселиться и обрести землю в собственность… Я не более чем плохой моряк, и все же я надеюсь достичь этого континента, увидеть, как разрастается земледелие, как появляются все новые дома. Мне бы самому хотелось начать это дело — построить там первую колонию Англии и править ею. Заметив, что его слова упали на благодарную почву, Ралей понял — его мечты и амбиции обрели форму слов. Больше это не пустые фантазии, не блуждание вслепую. Он хотел править. Шок от этого открытия вернул его к действительности. С едой было покончено, наступила ночь, и уже нельзя было откладывать дело, ради которого он тащился сюда двадцать миль пути из Корка. — Между прочим, — произнес он, вежливо наклоняясь к хозяину дома, — меня послали за вами, чтобы привезти вас в Корк. Есть вопросы относительно последнего выступления мятежников, на которые ответить можете только вы. Лорд Рош оставался спокоен и улыбался, несмотря на то, что вяло и как бы неуместно точивший его в течение всего вечера инстинкт вдруг вышел на свет Божий и предупреждал: «Берегись!» — Нет таких вопросов, касающихся последнего выступления мятежников, на которые я мог бы ответить, — спокойно заявил он, — и, более того, я категорически отказываюсь ехать с вами в Корк. — Очень сожалею, но в таком случае у меня нет выбора: я должен буду применить силу. — Применяйте и пойдите к черту. Я пока еще в своем собственном замке. Город за его стенами тоже принадлежит мне, и народ, населяющий его, тоже мой, все до последнего человека. Боюсь, ваши угрозы мало весят, капитан Ралей. — Угрозы? Да я не произнес ни одной. Какие могут быть угрозы с моей стороны, если вы ничего не знаете о последнем восстании? Я приглашаю вас проехать со мной в Корк; если вы отказываетесь, я вас забираю. — Забираете? Каким образом? Ралей поднялся и, подойдя к окну, выходившему во двор замка, отодвинул тяжелые занавеси. Старый вельможа, опершись на его плечо, смог разглядеть там, внизу, как поблескивали в свете фонарей пики в руках солдат. Он даже разглядел на плаще одного из них, повернувшегося к ним спиной, вышитую розу Англии. Единственное, чего он не мог увидеть, это что под его окном было выставлено всего лишь небольшое подразделение солдат, — все, что имел при себе Ралей. Их было пятьдесят, но стояли они как целая армия и так же выглядели. Еще днем пятьсот жителей города, вассалов лорда Роша, встретили отряд Ралея, но он со спокойной наглостью отнесся к ним как к уже потерпевшим поражение. Не объявляя военных действий, он расположил своих пятьдесят человек по улицам города в качестве полицейских, и ирландцы, обескураженные столь странным поведением, позволили загнать себя в дома, им при этом пообещали полную безопасность, если они будут вести себя хорошо. И они вели себя настолько «хорошо», что пятьдесят «полицейских» смогли по одному, потихоньку прокрасться во двор замка и подготовить подходящую картинку, на которую лорд Рош теперь взирал. — Все они основательно вооружены, — спокойно объявил их капитан, — но если вам вдруг померещится, что этих небольших сил недостаточно, чтобы защитить вас от ваших недоброжелателей по пути в Корк, призовите своих горожан. Как я успел убедиться сегодня утром, все они крепкие ребята, и я не возражаю, если они тоже будут сопровождать вас в Корк. Лорд Рош, который на протяжении пяти минут размышлял, как бы ему созвать своих горожан и обмануть этого пронырливого англичанина, услышав предложение Ралея, был окончательно сражен. Стало совершенно очевидно, что капитан Ралей повидался с народом и абсолютно не боится его. Смирившись со своей судьбой, старик пошел готовиться к поездке. Ралей обратился к леди Рош: — Простите, что приходится в ответ на ваше гостеприимство забирать вашего мужа, но если, как лорд утверждает, он ничего не знает, ему и бояться нечего. Если же, напротив, он что-то знает, рано или поздно сюда вернутся все наши войска и, вероятнее всего, солдаты сожгут ваш замок. Леди Рош по достоинству оценила правоту его слов и сумела ответить ему улыбкой. Горожане по приказу своего господина построились в эскорт. Лорд и леди Рош обнялись. Ралей склонил свою темную голову над рукой Дженис и прикоснулся к ней губами. При этом он улыбался, потому что дрожь ее руки могла означать лишь одно. Однако Дженис сказала с достойной похвалы холодностью: — Полагаю, поскольку задание ваше выполнено, мы уже никогда больше не увидимся, капитан Ралей? И, одарив ее вторым долгим взглядом, капитан ответил: — Никогда — это слишком долго. Странная кавалькада двинулась в непроницаемую темь, и Ралей не отставал от всех, появляясь то тут, то там. А оставшаяся в высоком замке девушка прижимала к груди руку, как какую-нибудь драгоценность, и раз за разом повторяла: «Никогда -это слишком долго». Была ли она настолько глупа, что услышала в этих словах легкий намек на обещание?
Ралей вошел в Корк вместе со своими пленниками. Среди них был не только лорд Рош, но и его ближайшие сподвижники, и существовала надежда, что у них найдутся ответы на все назревшие вопросы. Не было пролито ни капли крови, никому не причинили оскорбления, и, ясное дело, даже самый большой пессимист — молодой пессимист, — не мог бы не рассчитывать на награду и продвижение по службе после так хорошо проведенной операции. Но губернатор, лорд Грей, недолюбливал капитана Ралея. Потому что перо Ралея оказалось более болтливым и неосмотрительным, чем его язык: в своих письмах домой он не раз выражал свое мнение о своем сводном брате, теперь уже сэре Хэмфри Гилберте; так, однажды он написал, что, мол, Хэмфри покончил с мятежом в этом именно регионе Ирландии за два месяца, имея при том всего треть от числа тех войск, которыми командовал теперь лорд Грей. А с мятежом до сих пор так и не покончено. До губернатора дошли слухи о нелояльных по отношению к нему письмах капитана, но он никак не отреагировал на них. Кто такой Ралей, кто там его корреспонденты? Так что он продолжал с холодной терпимостью проявлять несправедливость к нему, даже не соприкасаясь с ним, пока, проснувшись однажды, он не обнаружил, что имя Уолтера Ралея у всех на устах и что его письма дошли до Лестера и Беркли *["1001]. Следовало срочно убрать со своего пути супостата и его никогда не остывающее перо. В декабре он отправил Ралея в Лондон с письмами для королевы. И надежнее средства избавиться от него он не мог бы придумать.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ УАЙТХОЛЛ. 30 ЯНВАРЯ 1582 ГОДА
Королева Бесс была в своей спальне, И была она средних лет…Ему было тридцать. Даже этот его возраст был ему на руку, если говорить об отношениях с королевой Елизаветой, которая в свои сорок девять, явись Ралей юношей, нашла бы его слишком молодым для себя: она еще не впала в старческий маразм, когда только мальчик мог бы угодить ей. Теперешний Ралей вот уже десять лет прожил в условиях, частенько жестоких, всегда опасных, и жизненный опыт отложил свой отпечаток на его лице. Его высокий лоб оставался поразительно белым там, где на него падала тень от шлема, а по контрасту черные глаза и обветренные щеки казались особенно темными. Он был высок и тонок, но тонок не как какой-нибудь долговязый мальчишка, а как человек, проведший немало времени в седле и поживший в свое удовольствие. И одет он был по ее вкусу: роскошно, богато, в ушах его и на пальцах сверкали бриллианты, от волос пахло духами. Склонив голову, он преклонил колена перед королевой, и сердце ее зашлось. Такое случилось с ней лишь однажды, очень, очень давно, прежде чем она задумалась об искусстве управлять государством и стала рассматривать свое тело как залог в политической игре. Это был суровый зрелый мужчина, который пришел в спальню девушки позабавиться с нею и оказался втянутым в куда более серьезную игру. И заплатил за это своей жизнью Его звали Томас Сеймур *["1002]. Поцелуи, которыми она покрывала его жесткий, улыбающийся рот, были такими же роковыми, как поцелуи Медузы; потому что Тайный совет, который в те времена возглавлял недалекий, анемичный Эдуард *["1003], был уже достаточно прозорливым, чтобы по достоинству оценить девственность Елизаветы. Сеймур положил свою голову на плаху, и его последняя мысль принадлежала ей королеве. Он написал ей письмо, в котором рассказал, как лучше справиться с подозрениями ее брата и министров. И она последовала совету мертвеца и благодаря своему уму победила. И теперь она вместо Эдуарда возглавляла Совет, и кто посмел бы сказать ей хоть слово упрека, если бы ей Понравился какой-то человек? А Ралей понравился ей и своей осанкой, и своим сходством с тем далеким возлюбленным, и способностью неожиданно появляться перед ней сразу после своих мужских деяний. Она взмахнула своей необычайно красивой рукой (рукой, нарисованной на игральной карте бедного Гэскойна, обреченного так никогда и не увидеть королеву), и все ее посетители исчезли. Тяжелые, бархатные занавеси тихо прошелестели и закрыли дверной проем. Елизавета велела Ралею подняться, сесть на стул и говорить с нею. Она не подала виду, что он ей понравился: это было не в ее привычках. Приоткрыв рот, но совсем немного: она всегда помнила о своих испорченных зубах, — королева принялась расспрашивать его. Что там делается, в этой Ирландии? Чего эти ирландцы хотят на самом-то деле? Елизавету глубоко волновало то, что часть ее народа упорно не хотела воспринимать английское правление. Как идет подавление восстания? В чем сэр Хэмфри лучше лорда Грея? Оказалось, у Ралея на все вопросы были готовы ответы. Он описал ей страну со всеми ее природными контрастами: ее равнинами, холмами и необычайно зелеными полями. Уолтер рассказал ей о народе, ее населяющем: даже по отношению к своим они бывали коварны. Они были суеверными, невежественными, бедными и фанатичными людьми, но, отстаивая свои идеалы, становились потрясающими воинами. О своих подвигах он не сказал ни слова. Впереди, как он почувствовал, еще предстояли дни: завтра, и послезавтра, и послепослезавтра… Но Елизавета в своей удивительной манере вдруг резко повернула разговор на самого рассказчика. В сражении у брода действительно участвовало двадцать ирландцев? Как именно он со своими пятьюдесятью солдатами сумел захватить в плен пятьсот? Ралей, не принижая своих достоинств, но и без хвастовства рассказал ей обо всех произошедших событиях. В комнате становилось душно. По ее приказанию Ралей отодвинул занавеси на окне и немного приподнял зарешеченное окно. Он стоял в некотором отдалении от Елизаветы и смотрел на нее. И на какое-то мгновение королева вдруг оказалась наравне с потаскушкой из гостиницы и с изнывающей от любви к нему девушкой из Бэлли-ин-Хаш. Она подошла и встала позади него, и они теперь смотрели наружу вместе. За окном над городом нависала бархатно темная ночь, и в оконном стекле отражались они оба: он, Ралей, и королева. Кровь бешено стучала в висках королевы. Вот человек, для которого она хотела бы быть только женщиной во всем ее женском величии, но вот парадокс: таким человеком должна была быть она сама, со всем набором легенд, уже созданных о ней. Ралей со скрипом водил рукой по стеклу. Елизавета наблюдала за ним. На темном фоне нацарапанные буквы казались белыми. «Мне бы наверх, да боюсь сорваться». Королева любила и не раз прибегала к подобным завуалированным выражениям, которые можно было толковать по-всякому. Она в свою очередь нацарапала на стекле ниже его свою фразу: «Если тебе не хватает духу, то совсем ни к чему карабкаться вверх». Что бы все это значило? Через некоторое время Ралей собрался уходить. Потаскушка в гостинице сказала ему: «Приходи еще». Дженис сказала: «Мы больше никогда не увидимся». Сколько еще женщин, помимо этих двух, расставались с ним со словами надежды или отчаяния? Елизавета была королевой Англии; она сказала: «Сопровождайте меня завтра».
Белые царапины оставались на стекле, и каждому, кто на следующее утро отодвигал в сторону занавесь, они говорили о том, что взошла новая звезда.
ГЛАВА ПЯТАЯ ХЭТФИЛД. 10 АПРЕЛЯ 1583 ГОДА
Леди, которую Время всегда заставало врасплох…Елизавета прогуливалась по террасе в Хэтфилде. Стоял ясный апрельский день. Свежий ветерок гнал по бледно-голубому небу редкие облака. Словно галионы проплывали они, то и дело накрывая солнце, так что королева попадала из тени в свет и снова в тень. Внизу на газоне желтые нарциссы, склоняясь под порывами ветра, будто солнышки, освещали ярко-зеленую траву, и зеленая листва легкой паутиной покрывала кусты боярышника. Она ждала Ралея, которого не видела вот уже два месяца; королева хорошо себя чувствовала; в государственных делах не было ничего такого чрезвычайного, что могло бы тревожить ее; но то и делоона останавливалась в глубокой задумчивости и снова шла вперед, кусая губы и капризным жестом всплескивая руками, так что кольца и браслеты начинали звенеть на них. Нельзя быть старой в такое утро. Воздух насквозь пропитан флюидами молодости. Сам ветер прилетел сюда из юных стран Запада. Это утро и сознание того, что Ралей уже скачет к ней, вызывали трепетную дрожь в ее груди под украшенным драгоценностями корсажем. Но у нее была ясная голова, и она была достаточно честна перед собой, чтобы понимать, что эта дрожь не к лицу ей — ни по ее возрасту, ни по положению. Кроме того, в то утро она читала. Бывают же люди, счастливо наделенные таким умом, что им достаточно одного взгляда, чтобы проникнуть в самую суть написанного; но когда такому человеку пятьдесят, а кругом цветет весна, ему лучше не вдаваться в содержание прочитанного или, проникнув в его существо, постараться сразу забыть о нем если прочитанное вот о чем:
ГЛАВА ШЕСЬАЯ ТАВЕРНА «РУСАЛКА». ФЕВРАЛЬ 1585 ГОДА
Такой ночи в Англии еще не бывало… Через узкую, мощенную булыжником улицу русалка таращилась на высокие, витые трубы на противоположном доме. На ней местами поблескивали еще остатки морской соли, а изгиб ее шеи, вознесшейся над улочкой, свидетельствовал о том, что изготовлена она была когда-то для того, чтобы украшать нос корабля, а не дверь трактира. Над ее головой было светло-серое, умытое дождями февральское небо в тучах, и с единственной яркой звездой, украшавшей его. Дрейк остановился на булыжной мостовой, подняв кверху голову, рассматривал русалку, и на душе у него вдруг полегчало. Ее взгляд был устремлен вдаль, как будто она видела далекие, новые страны или необыкновенный парусник, пересекающий пустую линию горизонта, там, где море сходится с небом. Как и сам он, она была лишней здесь, в этом узком мощеном переулке. Когда-то она летела на носу кто знает какого старинного корабля и, возможно, могла видеть самого Колумба. Входя в таверну, Дрейк наклонил голову, и это было как поклон ее особе, тем более что для того, чтобы у него была необходимость наклоняться, ему явно не хватало нескольких дюймов. Предстоящее ему рандеву ничуть не радовало его, и шаги моряка, когда он поднимался по лестнице, были тяжелыми и выдавали его нежелание идти туда. Он был наслышан об этом «Клубе у Русалки», но едва ли имел намерение когда-либо посетить его: это было пристанище говорливых поэтов, вечно бубнящих что-то о книгах. А он считал, что в мире существовала одна книга, заполненная добротными рассказами о Давиде и Гедеоне *["1008] и дающими пищу уму изречениями о том, как надо беспощадно бить своих врагов. Это все Ралей — это он заварил всю эту кашу. Так здорово разбираться в кораблях, быть таким мозговитым в морском деле, — другого такого и не найти, — и на тебе — занимается писанием стишков, читает книги, написанные другими. Но Дрейк откликнулся на приглашение Ралея, потому что сам сэр Филипп Сидней попросил Ралея позвать его. А для Сиднея это был последний вечер в Англии: на следующий день англичане, опять под предводительством Лестера, отплывут к берегам Нидерландов. А Дрейк всегда испытывал желание пожелать «Счастливого пути!» всем, кто шел воевать с испанцами. Все потому, что, так же как Библия удовлетворяла все его потребности в книгах, девиз «К черту всех испанцев!» — выражал вкратце все его политические убеждения. Все остальное было «от лукавого», представлялось ему пустым битьем баклуш. Однако его неохотное восхождение завершилось — он стоял на поороге комнаты, откуда доносился гул мужских голосов. Дрейк не очень уверенно толкнул дверь и, вступив в дверной проем, который он полностью загородил своим большим, крепким телом, вгляделся в происходящее в комнате. Она была обшита панелями из дуба, потемневшего от старости и мягко отражавшего блики яркого пламени, гудевшего в открытом очаге. На голом столе среди винных бутылок и на полке камина горели свечи, и в их свете и свете из камина он разглядел четырех мужчин, которые сидели на уснащенных подушками стульях вокруг стола и очага. Все они встали, когда он вошел, и приветствовали его с большим энтузиазмом, воздав тем самым должное его детскому тщеславию и изгнав из его души последние остатки плохого настроения. Он учтиво поздоровался с маленькой компанией — сэром Филиппом Сиднеем, Китом Марло, Уиллом Шекспиром и сэром Уолтером Ралеем. — Сегодня, — сказал, одарив улыбкой Дрейка, Сидней, — исполнилась наконец моя мечта пятилетней давности. Почему мы до сих пор не встречались с вами, сэр Френсис? — Я был занят, — ответил Дрейк, — и если когда и наезжаю в Лондон, то только по делам. Меня сделали мэром Плимута. Должен вам честно сказать — управлять городским советом куда тяжелее, чем кораблем в сильнейший шторм. — Почему же так? Вопрос задал Шекспир. В тот вечер Дрейк убедился, что этот спокойный человек с большой головой никогда не отпустит тебя, не получив ответа на свои бесконечные вопросы. — Кто ж его знает, — ответил Дрейк. — Такое впечатление, что все городские дурачки входят в этот совет, и тут уж они не просто какие-нибудь Том, Дик или Гарри — их уже так не назовешь и не позовешь, теперь они «мистер такой-то» или «мистер сякой», и та толика власти, которую они обрели, кружит их бедные, тупые башки. — В его громком, ухающем голосе звучало великое презрение к этим людям. Постепенно звук его угас, но тот же смысл, немного измененный, «наделенный недолговременной малой властью», проявился снова, когда он продолжил свою речь. — По сравнению с битвой, которую мне пришлось выдержать за новый водопровод, наша с Уолтером военно-морская миссия была сплошным праздником. Вы думаете, это дурачье радовалось предложению провести прямо в их дома чистую воду? Да они растолковали это так, будто всю эту воду выпью я один! И послушали бы вы их, когда я велел им носить новую красную одежду! Но раз уж снова начинается война за Голландию, а значит, и морской промысел, пусть эти члены городского совета ковыряются в своем водопроводе сами, подоткнув подолы своих красных poб вокруг своих задниц, если так уж устроены их мозги! — Вы снова отправитесь на Запад? — спросил Ралей. — Возможно, — сказал Дрейк, заглядывая в пивную кружку будто в надежде прочитать там свои планы. — Но у меня есть мыслишка заглянуть в залив при Кадисе. Слышал, там затеяли что-то строить. Я бы мог заскочить туда, посмотреть, не нужна ли моя помощь. Мы с сэром Уолтером знаем все о последних моделях корабельной оснастки. А? — Скучное занятие строить хорошие корабли только для того, чтобы их потом расстреляли и потопили; им можно было бы найти лучшее применение, — возразил Ралей. — А, это вы все о своих колониях. Множество хороших кораблей еще пойдут ко дну, прежде чем моря станут безопасными для плавания ваших пассажирских кораблей или Америка превратится в родной дом для ваших колонистов. Вы, сэр Уолтер, не так ненавидите «донов», как ненавижу их я. Я пропитываю этой своей ненавистью каждый парус, каждую доску, каждый канат или бочку с сельдями, которую я беру на борт. — Почему вы так ненавидите их? — спросил Шекспир, дотягиваясь до бутылки с вином. Дрейк повернулся вместе со своим стулом лицом к нему. — Чтобы объяснить это вам досконально, мне потребовалась бы целая ночь. Начнем с того, что они — католики. Я ненавижу их не за это, а за то, что когда дело доходит до их религии, они теряют и разум, и человечность. Вот я расскажу вам одну историю. Как-то однажды нам не повезло, и мы потеряли корабль, так что кое-кому из нас надо было переждать на берегу. Пять человек добровольно пошли на это. Они были холостяками, а у остальных были жены — поэтому так и решили. Я выбрал, как мне казалось, безопасное место — поблизости не было ни одного испанского поселения, — и обещал вернуться за ними, как только позволит попутный ветер. Испанцы обнаружили их и передали в руки их проклятой Святой инквизиции. Заметьте, совсем не как своих противников. Им не хватило совести объявить их военнопленными. Они захватили их в качестве протестантов и под розгами протащили их по улицам Веракруса; затем их повесили за ноги и держали так до тех пор, пока они не сошли с ума и не умерли. Одному из них перерезали веревку, приняв его за мертвого, но он остался жив и бежал в лес. Я нашел его, бедного безумца, и это все, что осталось от пятерых моих крепких молодцов, оставленных нами на берегу. — Его сильный, хриплый голос вдруг сорвался от переполнявших его чувств. Дрейк сглотнул слюну и добавил: — Вот вам и вся история — думаю, хватит с вас. — Но, — сказал Марло, который любил ставить точку в любом споре, — считается, что они приносят в жертву тело во имя спасения души. Дрейк гневно обернулся к нему. — Пожертвуй мой зад! Они кровожадны, им нравится быть кровожадными ради самой кровожадности. Я ненавижу все это дьявольское отродье! Он провозгласил это свое убеждение, как провозглашал любое свое мнение — как будто оно было единственным во всем белом свете и каждый разумный человек должен был разделять его с ним. — Они так же ненавидят вас, судя по всему, — заметил Сидней. — О, несомненно. Но не за мое отношение к пленным. Знайте, у меня перебывали сотни их, но убил я только двоих. Но и тут виноваты были сами эти свиньи. — Он опорожнил стакан и продолжал без паузы: — Я и об этом вам расскажу. Я захватил город, но не форт, находившийся снаружи. Испанцы направили офицера с белым флагом для переговоров о выкупе. Со мной был негритенок, маленький парнишка с кудрявой головой, и я послал его привести парламентера к нам в стан. Может, он и не был достаточно хорош, чтобы представлять своего хозяина; как бы то ни было, ублюдок посол наклонил свою пику, к которой был привязан белый флаг, и проткнул живот моему малому. Бедняга малыш приполз ко мне и скончался прямо у моих ног. Это же я его послал, поймите, и он смотрел на меня глазами собаки, не понимая, почему с ним случилось такое. Я был в ярости, но паршивый гад укрылся в форте и оказался недосягаем. Тогда я взял одного из захваченных мною монахов и повесил его точно на том месте, так что весь форт мог видеть его. Затем я послал другого монаха с письмом, в котором говорилось, что я буду вешать их одного за другим, пока мне не выдадут того мерзавца убийцу. Наутро никаких признаков того, что он выйдет, не было, и тогда я повесил своего второго монаха, объяснив ему, что винить за это следует не меня, а его собственных соотечественников. В конце концов мой «дон» вышел из форта ночью, и его я тоже повесил, но не единым рывком, как я сделал с монахами, нет уж… Шекспир отвернулся к камину и уставился на огонь. Он не сомневался, что это и был нужный ему тип. Жестокий по отношению к своим врагам и нежный с друзьями. По всей видимости, неудобный для общества, но уверенный в себе и умеющий простым языком рассказать об обычной жизни. Женщине ничего не стоит влюбиться в такого человека. При этом все, казалось, было против этой ее любви. Сделать его безобразным, больным, бедным?.. В чем может быть изюминка его рассказа о нем? Ага, вот оно! Пусть он будет негром. Государственный деятель, черный человек, который покорил белую женщину рассказами о своих потрясающих делах. И что потом? Да, потом он снова потеряет ее, потому что он неудобный человек и всего лишь государственный деятель. Шекспир взглянул довольно робко на Дрейка, отметил про себя, что у него жесткое, круглое лицо, короткий, тупой, немного вздернутый нос, что курчавые волосы, ровной линией поднимающиеся со лба, подойдут и негру, только если они будут черными, а не темно-каштановыми с проблесками соломенных прядей, как у Дрейка. Он отвернулся и стал снова смотреть на огонь в камине. Как интересна жизнь! Как много она может предложить наблюдательному глазу! Дрейк, который не мог долго соблюдать молчание в приятной компании, опять что-то рассказывал. — Чуть не забыл. У меня тут для вас, сэр Уолтер, сувенирчик. На память о наших совместных трудах. Никогда не думал, что так хорошо работается с поэтом. Дрейк порылся в мягкой кожаной сумке, которую принес с собой и поставил на пол рядом со своим стулом. Он наверняка не открыл бы сумку и не преподнес бы своего подарка Ралею, если бы тот оказался в окружении болтливых писателей, которые мудростью и глупостью своих разговоров привели бы его в уныние и в результате он так и не открыл бы рта в их компании. Но сейчас, обмякнув от выпитого Канарского и от звуков собственного голоса, он забыл, что у Ралея существовала черта характера, которой он совсем не одобрял. С непривычной бережностью он вынул из сумки, подержал в своих толстых пальцах нефритовую фигурку и поставил ее на стол, туда, где ее хорошо освещали свечи. Будда, невозмутимый и несуразный со своими ручками, сложенными на пухлом животе, сидел и смотрел на них. — Это идол, — пояснил Дрейк. — Глаза у него рубиновые, а то, на чем он сидит, — он притронулся пальцем к пьедесталу, — из необработанного опала. Это я не к тому, чтобы вы думали — вот какую дорогую вещь я дарю. Но это забавно. Там ему поклоняются. — Прекрасное изделие, — сказал Ралей. Он взял фигурку в руки и подивился ее весу и законченности произведения. — Я очень благодарен вам и всегда буду ценить этот ваш подарок. Мне еще никогда не дарили ничего такого дорогого. Очень довольный, Дрейк улыбался. — Такие вещицы легко найти, надо только знать места. У меня их почти не осталось. Но я не забуду никого из вас в свой следующий приход. Ему вдруг захотелось, чтобы у него для всех них были подарки. Такие приятные парни, так внимательно слушали его рассказы. Дрейк повернулся к Сиднею. — Завтра вы отплываете в Нидерланды, сэр? — Да. Дело будет не из легких, но уж я задам перцу этим испанцам за вашего негритенка и пятерых крепких молодцов. — О, и не только за них. Это еще что! Вот я вам расскажу… И он приступил к новым историям. Ралей сидел, обхватив одной рукой стакан с вином, а другую положив на жесткие, холодные колени Будды. Ему не было нужды слушать истории Дрейка. Он слышал их раньше. А сейчас, хотя он и обожал маленького пирата и был глубоко тронут его подарком, Уолтер чувствовал разочарование в этом человеке. Он пытался пробудить в нем интерес к своим планам по колонизации западных земель и основанию новой империи там. Но Дрейк только смеялся над этим. Его увлекали разбой и открытия. А Ралей, добившийся таких успехов, что это принесло ему немало завистливых врагов, Ралей, который, блестя своими серебряными доспехами при дворе — он их заказал, когда королева назначила его капитаном королевской гвардии, — внутренне переживал период жесточайшей депрессии и разбитых надежд. Привязанность Елизаветы, благоволение Совета, деньги, которые он получал от монополии на вино и торговлю, — для чего все это нужно, если не для достижения своей цели? Но как и прежде — далеко ему было до достижения своей цели. О его последней попытке колонизировать Виргинию — так он назвал новую землю, чтобы угодить королеве, — ничего не было слышно. Сто семь колонистов на пяти кораблях под командованием Гренвилля отправил он туда на свои средства. Это должно было оправдать себя. Другого такого упрямого человека, как Гренвилль, еще не видел свет, но он был прекрасным моряком и хорошим лидером. Пора было бы уже прийти известиям. Уолтер сидел среди своих друзей в уютной, хорошо натопленной и освещенной комнате и жаждал всей душой тяжестей и опасностей дальних путешествий, жизни первопроходцев. Как его раздражало это предубеждение королевы, будто он — и только он! — может служить по этому морскому ведомству! Вполне вероятно, что под тем или иным предлогом она свяжет его по рукам и ногам навсегда. Каждый из сидящих здесь, в комнате, имеет возможность дать волю своему таланту. Один он должен ждать и ждать без конца. Конечно, возможно, Дрейк прав со своей стороны. Может быть, на морях должно стать безопаснее плавать и политика должна стать более подходящей для того, чтобы осуществились его мечты о колониальной империи. Сидней и Дрейк все еще были заняты разговором. Марло и Шекспир ловили каждое слово Дрейка. В голове Шекспира накапливались описания того веселого возбуждения, которое охватывало рассказчика, когда он отправлялся в открытое море или бросался в схватку: не отдельные слова, которыми пользовался моряк, а целые фразы, неожиданные даже для него самого. «А ну-ка, друзья, еще раз на брешь… стисните зубы, взбодрите кровь». Драматург, в мирную жизнь которого вторглась всего одна кровавая ссора, и его друг-поэт, посасывающий вино у камина, оба они были опьянены страстными рассказами Дрейка о баталиях. И Сидней в преддверии войны, в которой он лично никак не был заинтересован, но на чей зов он откликнулся, подобно какому-нибудь рыцарю короля Артура, внимательно слушал рассказ Дрейка о пережитом им, о зле, которое он теперь сможет искоренить. Это придавало смысл его походу на войну. Сидней, самый отзывчивый из всей этой маленькой компании и больше всех любивший Ралея, первым отвлекся от повествований Дрейка и заметил угнетенное состояние друга. — Хотел бы завтра пойти с нами в море, Уолтер? — спросил он. — Одному Богу известно, как я этого хочу! Если бы мне разрешили покинуть Англию, я бы взбунтовался. И повернул бы свои корабли на запад. Знать бы только, как они там… И будто откликнувшись на его слова, послышался стук в дверь. Ралей встал, в три шага достиг двери и распахнул ее, полагая, что знает, кто там стоит за нею. И все-таки он не рассчитывал увидеть мастера Кавендиша, того Кавендиша, который вместе с Гренвиллем отплыл от берегов Англии вот уже несколько месяцев назад. Кавендиш стоял в дверях, онемев от восторга. На тонком юношеском лице, покрытом потом и грязью, пылали синие глаза. Ралей схватил его за руки и втащил в комнату, захлопнув за собой дверь пинком ноги. — Это мистер Кавендиш с вестями из Виргинии! -вскричал он. — С вестями, вы говорите? Еще с какими чудесными вестями, — сказал Кавендиш дрожащим от волнения голосом. — Колонисты высадились на берег? Они там остановились? У них все в порядке? Волнуясь не меньше, чем сам юноша, Ралей склонился над ним, теребя его за рукав, за воротник, за плечи, и так и сыпал вопросами. Кавендиш кивнул, и тут поведение Ралея изменилось в корне. — Бедный малый, да вы падаете от усталости. Посидите немного тут. С хорошими известиями можно подождать. Он налил в свой стакан вина и протянул его юноше. С нежностью расстегнул плащ на нем и повесил его на спинку стула. Кавендиш выпил вино и оставался молча сидеть, пока комната не поплыла перед его глазами и он испугался, что сейчас заснет, так и не рассказав ничего. Юноша был измотан до предела, потому что не терял ни минуты. Как только его судно бросило якорь в бухте Плимута, он вскочил на лошадь и несся очертя голову без остановок, только раз сменил лошадей и проглотил кувшин пива. Он должен был первым, прежде Гренвилля, прежде Фернандо, сообщить новости Ралею. Потому что для этого молодого человека — всего двадцати двух лет — Ралей, так быстро прославившийся благодаря только самому себе, представлялся существом сказочным, блистательным. Для него сражения Ралея в Голландии, Йоле и Бэлли, подернутые пленкой зависти или слишком близкого знакомства в умах других, были столь же реальными и воспламеняющими, как рассказы о подвигах героев древности. И наравне с этими подвигами его в этом человеке пленяли теперь и его положение ученого, поэта, приближенного королевы, и слава самого большого мечтателя о широких просторах. Когда Кавендиш в одиночку, на маленьком суденышке одолевал шторм в Португальском заливе и проходил его, присоединившись к другим кораблям, что было для такого неопытного моряка незаурядным подвигом, его девизом, его напутственным словом было имя «Ралей». Пока Гренвилль устраивал колонистов и ссорился с индейцами, закладывая тем самым фундамент для множества поместий будущих лендлордов, Кавендиш бродил по окрестностям в поисках специй и информации, которая могла бы заинтересовать его властелина. И вот, полумертвый от усталости, он оказался здесь, и Ралей смотрел на него с восторгом и удивлением и ждал от него рассказа об их миссии. И не один Ралей. Тут же были и легендарный сэр Френсис, похваливший его своим грубым голосом, и благородный сэр Филипп, горящий энтузиазмом и рассуждающий на тему о том, как все они вместе, когда он вернется с войны, поработают на колонию. Возвращенный к жизни вином и головокружительными похвалами, Кавендиш приступил к своим объяснениям и описаниям. — Вот здесь, — с помощью подсвечника он обозначил место, — они собираются устроить свою штаб-квартиру. Река протекает вот так. — Он прочертил течение реки между бутылками, фигуркой Будды и пивной кружкой. — Индейские поселения располагаются вот здесь. Тут уже были небольшие неприятности… О нет, ничего особенного, — поспешил он успокоить Дрейка, который откинулся на спинку стула с таким выражением на лице, как будто хотел сказать: «А что я вам говорил… « — С тех пор как командующим назначен Лейн, с этим покончено. Сэр Ричард такой неосторожный… Он замолк, сообразив, что критикует начальство. — А какие именно неприятности? — тихо спросил Ралей. — Это напишут в рапорте, — неохотно ответил Кавендиш. — Прошу — расскажите мне вы, и сейчас же. — Все началось с того, что у сэра Ричарда пропала серебряная чаша, и заподозрили в ее пропаже индейцев. Когда они отказались вернуть ее — не имея возможности или не желая сделать это, мы так и не узнали, по какой из этих двух причин, — он спалил деревню и часть кукурузного поля… Это породило вражду, но Лейн скоро уладит все эти дела. — Ах, если бы я сам мог поехать туда! Это был крик души. Кавендиш поспешил сменить тему разговора. Он вынул из кармана три длинных глиняных трубки, украшенных простым, но приятным рисунком. — Индейцы делают их из глины и затем наносят рисунок из других цветов… Снова порывшись в карманах, он вынул пучок сухих листьев, от которых исходил незнакомый запах. — Это они курят, я сейчас покажу вам как. Это их обычай, и, надо сказать, довольно приятный. В одну из трубок он положил листья и примял их своим большим пальцем. Все присутствующие наблюдали за тем, как он сунул в рот мундштук трубки, поднес к пламени свечи ее повернутую к огню чашечку с табаком и стал активно затягиваться, пока листья в трубке не затлели и над ней не показался голубой дымок. Когда огонек в трубке хорошо взялся, он тщательно, почти благоговейно протер конец мундштука своим рукавом и предложил трубку Ралею. — Не пугайтесь, если сначала вы начнете задыхаться. Так по первому разу со всеми бывает, зато потом она вам понравится. Одну за другой он раскурил оставшиеся трубки и по очереди передал их Сиднею и Дрейку. Откуда ему было знать о том, какое важное место займет в истории спокойно сидящий слева от очага человек. Трубки наполняли табаком раз за разом и передавали их друг другу. Комната — первая в Англии, в которой происходило такое, — постепенно наполнилась голубым дымом. Ее посетители кашляли и задыхались. Мастер Кавендиш вспоминал о пиниях и фазанах, о которых давным-давно рассказывал Ралею старый Харкесс, и описывал корни растений, которые индейцы выкапывали из земли и ели. Он сказал, что таких корней у него на корабле много и что они здорово помогли ему от цинги. Он рассказывал о больших птицах, живущих в лесах Виргинии. У них пятнистое оперение и красные зобы, которые они раздувают, когда злятся; их мясо похоже на мясо курицы, но оно сочнее и его значительно больше. — Они заменят нам гусей, если удастся приручить их, — сказал Кавендиш. Собравшиеся болтали или впадали в задумчивость, пока последняя опустошенная бутылка не легла набок и последний табачный лист не испустил свой ароматный дух, и все, кроме молодого моряка, чувствовали тошноту и головокружение. Затем они прогрохотали каблуками вниз по лестнице, продолжая разговоры. Сидней повторил свое обещание раздолбать испанцев во имя Дрейка, Дрейк в свою очередь пообещал навестить новую колонию и оставить там большие запасы всего необходимого поселенцам, как только получит от королевы разрешение на плавание. Под русалочьим взглядом, устремленным к морю, они расстались, пожав друг другу руки и пожелав удачи. Ралей позвал Кавендиша к себе домой и взял его под руку, сделав тем самым юношу счастливейшим человеком на земле в этот миг. Дрейк важно зашагал прочь, погрузившись в планы своего визита в Кадис. Сидней шел медленно, размышляя о Ралее и Кавендише и оттачивая фразу, которой была суждена долгая жизнь: «С песней он идет, с песней, которая отвлекает детей от их игр, а стариков — от теплого угла у очага». Марло спешил домой, чтобы составить отчет о всех этих делах для смуглой леди, которая приходилась Уиллу никак не менее, чем любовницей. Сам же Шекспир тяжело вышагивал, уже «беременный» своим «Отелло». И Ралей, почерпнув еще кое-что из того, что поведал ему заплетающимся языком Кавендиш, оказался в разброде и шатании, то окрыленным и ликующим оттого, что его мечта обрела наконец форму и имя, то опустив нос и в полном отчаянии, словно корабль без шкипера, обреченный на гибель.ГЛАВА СЕДЬМАЯ ЛОНДОН. 1586 ГОД
Ралей шел навестить Леттис Ноллис. В связи с этим он натянул шляпу до бровей и поднял воротник своего обыденного темного плаща до самого носа. Слишком много королевских слуг навещало Леттис. И Ралею вовсе не улыбалось потерять свое положение фаворита, попав им на глаза. Однако это не было любовным свиданием. Два дня назад он получил известие о смерти Филиппа Сиднея под Зютфеном. Погас навсегда этот яркий светоч. Уолтер потерял единственного из друзей, кто действительно понимал все его мечты и сочувствовал его устремлениям. И Ралей ощущал необходимость поговорить с кем-нибудь из тех, кто любил его, и, кроме того, было совершенно естественно с его стороны проявить свое соболезнование женщине, для которой Филипп был не просто другом, а любовником. Он миновал парадную дверь -слуги обожают посплетничать, — обогнул дом и увидел сквозь щель в занавеске горящую лампу в ее комнате. Ралей осторожно постучал в окно, щель расширилась, и из него выглянула сама Леттис. — В боковую дверь, — тихо сказала она. Он не замедлил появиться в ее комнате. Старуха, возившаяся возле камина, поднялась и прошаркала мимо него, даже не взглянув в его сторону. Ралей и леди остались одни, стояли и смотрели друг на друга. Его удивило, что Леттис выглядела как всегда. Не было следов слез в ярких, чуть подведенных глазах или признаков обуревавшей ее скорби в аккуратно причесанной голове и в одежде. У Ралея промелькнула мысль, что умри он сейчас, его некому было бы оплакивать, но если бы он положил свою любовь к ногам женщины, то хотел бы, чтобы после его смерти она выглядела бы немножко иначе. Уолтер не знал точно, в чем именно иначе, но чуть-чуть изменившейся, так, как если бы горе затронуло и ее. Леттис Ноллис пригласила его присесть и сама села напротив него. Два эти долгих дня она ждала его прихода. Что-то говорило ей, что Ралей непременно явится. И оба эти дня она раздумывала, как ей нужно будет вести себя, когда они с Уолтером увидятся вновь. Возбудит ли внимание мужчины зрелище безутешного горя, или лучше в каждом слове, в каждом жесте демонстрировать свой интерес к будущему, а не к прошлому? Она остановилась на последнем и оказалась неправа в своем суждении о Ралее. Все его поступки как будто бы свидетельствовали о его жесткости и эгоизме. Его поведение по отношению к королеве, внешне такое осмотрительное и холодное, по сути своей должно было скрывать что-то далеко не осмотрительное и не холодное — так считал весь Лондон. Ведь за что-то она любила его? И Леттис решила про себя, что человек, такой твердый и расчетливый, вряд ли склонен к сантиментам. Его мешковатые веки и довольно циничный взгляд тоже ввели Леттис в заблуждение, и не только ее. Эти умудренные опытом глаза с морщинками по углам были свидетельством его постоянных насмешек. Человеку с такими глазами ни к чему женщина, распускающая, как какая-нибудь школьница, сопли по усопшему любовнику. И поэтому ее волосы были так аккуратно уложены — локон к локону, завиток к завитку, каждая прядка на месте, — на ее лице не было и намека на слезы, а одежда продумана до мелочей. Однако именно в этом и состояла ее ошибка. Вся эта непреклонность Ралея — кроме разве что его бесстрашия — была наигранная, по требованию общества взлелеянная им, но совершенно чуждая натуре этого человека, однако весьма существенная для претворения его планов в жизнь. Глупые и пылкие попытки Елизаветы вернуться в молодость возбудили в нем жалость к ней и тягу к поэзии, в то время как весь двор, сам потешаясь над капризами королевы, считал, что и он высмеивает эти причуды. И если бы Леттис Ноллис вышла к нему вся в слезах от горя, он постарался бы утешить ее, и, возможно, испытывая общее горе, они сошлись бы ближе. Леттис поняла это слишком поздно. Они немного поговорили о погибшем друге. О его благородстве, его стихах, его рыцарственной натуре, блестящих способностях, проявившихся уже в юности и угасших навсегда. Леттис сидела не двигаясь. Наконец она предложила ему вина, налила немного и себе и смотрела на него через край бокала, пока пила его. Она соглашалась со всем, что он говорил о Филиппе, но при этом было очевидно, что тот был для нее всего лишь одним из многочисленных любовников и что она легко заменит его другим. Однако, когда уставший и разочарованный своим визитом Ралей встал и собирался уйти, она вдруг разразилась слезами, прикрывая лицо кружевным рукавом, и вся, со своими дрожащими, худенькими плечиками, обратилась к нему. Это были слезы досады и разочарования. Он таки навестил ее, это был ее последний, золотой шанс, и вот он упущен. Ралей вернется к своей королеве, а поскольку Сидней мертв, их дорожки не пересекутся больше никогда. А Уолтер тут же решил, что он неправильно понял ее, что ее спокойствие происходило не от ее равнодушия, а в результате удивительного самообладания, которое наконец не выдержало, лопнуло. Он встал, подошел к ней и положил ей руку на плечо. Сквозь легкую атласную ткань Уолтер ощутил хрупкие, маленькие, как у ребенка, косточки ее плеча, и вся она была беспомощной и несчастной, как ребенок. Он обнял ее и прижал дрожащее тело к своему плечу, успокаивая ее нежными словами и довольно неуклюжими похлопываниями по спине. При этом Уолтер не испытывал страсти в отношении нее: он давно убедил себя, что уже не в том возрасте, когда его легко было бы соблазнить, тем более женщине, которую он вплоть до этого вечера воспринимал не иначе, как любовницу своего друга. Ралей ласково подержал ее так в своих объятиях, пока не почувствовал вдруг происшедшей в ней перемены. Она уже не плакала и, повернувшись лицом, прижалась к нему всем телом. Он ощутил ее запах, и мягкость ее груди, и тепло, и ту ужасную силу, которая исходит от жаждущей тебя женщины, силу столь мощную, что под ее воздействием, — в представлении индусов, — если такая женщина обнимет ствол финиковой пальмы, на ней созреют плоды. Ему стало не по себе, прошла жалость к ней, Уолтер отпустил ее и отступил, но Леттис сделала шаг и встала перед ним; вздымающаяся грудь, влажные губы и глаза в поволоке выдавали ее тайное желание. Осознав это, Ралей вздрогнул от омерзения. — Филиппу повезло, что он умер, так и не узнав о вашем распутстве, — отчетливо произнес Ралей. Захватив плащ и шляпу, он быстро покинул ее. Уолтер не заметил гнева и ярости, запечатлевшихся на ее лице, и понятия не имел о том, что этой своей нехитрой фразой он сотворил себе смертельного врага, который когда-нибудь нанесет ему роковой удар.ГЛАВА ВОСЬМАЯ ИППОДРОМ МЕДОУ. ВЕСНА 1588 ГОДА
Елизавета резко бросиласвой веер на ручку кресла, отчего сломались несколько его непрочных ребер, в результате чего королева еще больше разозлилась. Черт подери! Неужели у нее и так недостаточно забот, чтобы еще возиться с этим настырным парнем, без конца мучающим ее своими домогательствами — отпусти да отпусти его в Виргинию? — Запрещаю, бесповоротно и окончательно, — заявила она. — Сиди и жди здесь, как повелевает тебе твой долг. У ворот страны испанцы — разве это подходящее время для того, чтобы тратить наши корабли и людей на твои дурацкие выдумки? — Как раз подходящее, — настаивал на своем Ралей. — Армада скоро выступит против нас *["1009], и тогда уж ни о чем другом мы не сможем помышлять. Мои суда готовы к походу; получив ваше разрешение, я за три дня погружусь и посещу свою колонию, оставлю им запасы продовольствия и одежды, подбодрю их и буду здесь еще задолго до того, как первый галион выйдет из Кадиса. — Так только говорится. И я хочу, чтобы ты, Уолтер Ралей, знал: мне уже докладывали, что никакой колонии в Виргинии нет. Что все эти небылицы нужны тебе для поддержания своего реноме. А еще говорят, — злобно понизив голос, добавила она, — что у тебя в Испании завелся дружок. — Пусть подавится этой ложью тот, кто ее придумал. Назовите мне его имя, и, клянусь Богом, он откажется от своих слов. — Об этом говорят многие, Уолтер. — Излив свой гнев, она чувствовала себя уже намного лучше. — Вряд ли ты справишься сразу с сотней их. Я им не верю… — Благодарю ваше величество хотя бы за это. — …но я устала от твоего нытья. Я хочу мира в моем государстве, в моем королевском дворе, в моей комнате наконец. — Перечисление своих владений она каждый раз сопровождала хлопками сломанного веера. Время, которого так страшилась королева, наложило отпечаток на нее. Время застало ее врасплох. С недавних пор ее собственные рыжие волосы заменил парик, первый из коллекции париков, число которых к ее смерти достигло шестисот. Лицо ее было откровенно нарумянено и накрашено и приобрело теперь очарование хорошо выполненной маски, и отныне легкоранимому наблюдателю стало куда сложнее поддерживать в королеве стремление казаться молодой. Но руки ее оставались прекрасными: необычайно нежные, белые, без единого изъяна, они, казалось, подтверждали слухи о том, что она, подобно испанским грандам, спит в перчатках, пропитанных оливковым маслом и медом. Ей хотелось обворожить Ралея после того, как она устроила ему такую выволочку, и она стала своими прелестными ручками сдирать со сломанного веера расписанный атлас. — Я приказала устроить карнавал, — весело заявила она. — Правда? — угрюмо откликнулся Ралей. Он был настолько разочарован разговором с ней, что не задумывался в тот момент над тем, не оскорбит ли ее своим тоном. Быть фаворитом королевы ничего практически не значило для него: все его просьбы наталкивались на ее запреты. В этом году ему исполнится тридцать шесть; больше половины жизни прошло зря; и он по-прежнему целиком зависит от воли стареющей королевы-деспота, до которой не доходят никакие доводы. — Карнавал поднимет настроение у народа и развеселит двор, а испанцам покажет, насколько нам наплевать на их угрозы, — продолжала она оживленно. Ралей подумал — а отправлюсь-ка я в плавание без ее разрешения. Ну и что хорошего от этого будет? После такого его поступка она никогда не позволит ему править колонией… И все же — стоит попробовать. Если он там, на месте будет хорошо управлять колонией, может, этот номер у него и пройдет. Уолтер отвлекся от своих мыслей, почувствовав, что он уже не наедине с королевой. Внезапно прекратив свои рассуждения по поводу карнавала, она воскликнула: — О, Роберт! Какое удовольствие видеть улыбающееся лицо! Уолтер дуется тут на меня, оттого, что я не отпускаю его в Америку — ведь Филипп Испанский собирает против нас свою Армаду. Эссекс посмотрел на Ралея со скрытой ненавистью. — А почему бы не отпустить его, ваше величество? — Он моряк, а моряки нам сейчас понадобятся, — ответила королева. — У нас и так хватает моряков, — возразил Эссекс в таком тоне, что понятно было, что он имел в виду. — И получше сэра Уолтера. Ралей взглянул на Эссекса так, будто впервые видел этого крепыша с веселым, румяным лицом. Он никогда не принимал Эссекса всерьез и уж тем более не опасался его. Эта его слепота происходила главным образом от его самоуверенности. Королева, осыпая его упреками, как было заведено у нее, когда бывала в дурном настроении, тем не менее с благодарностью принимала его советы и рассуждения, как это было, например, в тот апрельский день в Хэтфилде. Как этот неоперившийся мальчишка мог избавить стареющую, умную женщину от тягостных мыслей? Отчасти это было результатом ее равнодушия. Игривые выходки Елизаветы частенько раздражали и огорчали капитана королевской гвардии. Пусть королева заведет себе другую болонку, и целует ее, и ласкает, и шлепает. Это позволит ему, ее старой, поношенной игрушке, заняться вещами, к которым у него действительно лежит душа. Однако он сразу понял свою оплошность, когда заметил, какими оживленными стали их лица, когда они обменивались своими идеями по поводу карнавала. Уолтер понял, что Эссекс будет рад убрать его со своей дороги. Ралей быстро справился со своим плохим настроением и присоединился к обсуждению планов, внося усовершенствования во все предложения Эссекса, ловя взгляды Елизаветы, играя роль придворного. И в то время как королева улыбалась, слушала, обращалась то к одному, то к другому, эти двое искоса бросали друг на друга ревнивые взгляды, как будто два пса, готовые вцепиться друг другу в глотку. Они стояли лицом друг к другу на беговой дорожке ипподрома Медоу. Множество знаменитых дуэлей начиналось здесь так же и раньше. Место было тихое, ровное, окруженное деревьями и располагалось недалеко от города. Солнце пробивало своим теплом желтую шелковую рубашку на плечах Ралея и било своими лучами по клинку в его руках в то время, когда он засучивал свои гофрированные рукава. Высоко над ним рано потревоженный жаворонок, покинув гнездо, разразился своей песней. Вполне вероятно, песней смерти. Выжидая, пока Блаунт подаст сигнал, Ралей смотрел на человека, которого он собирался убить. Большое, крепкое тело в голубой рубашке и длинные ноги в штанах того же цвета, но с ярко-красными прорезями — было что-то в этом Эссексе удивительно инфантильное. Ралею уже не хотелось наносить ему удар: он в какой-то мере почувствовал удовлетворение, смазав своей перчаткой по этому жизнерадостному лицу. Но ничего не поделаешь — дуэль была неизбежна, оставалось только приступить к ней и победить. Не могут же Виргиния и все его надежды рухнуть от удара меча марионетки. В поднятой руке Блаунта развевался на ветру платок. Юный Кавендиш, секундант Уолтера, издал пронзительный свист. Ралей не спускал глаз с платка, но вдруг увидел, что Блаунт, вместо того чтобы уронить его, подошел к Эссексу и стал показывать на что-то позади него, по направлению к реке. По тропе, по которой они пришли сюда, на полной скорости мчался паж, размахивая руками и крича во весь голос. За ним прямо по росистому лугу двигалась женщина, двигалась быстро, хотя ей было явно нелегко идти. Она опиралась при этом на трость. Это была королева. Не удовлетворенная усилиями пажа, она сама, заметив, что на нее обратили внимание, подняла трость и прокричала: — Остановитесь! — голосом, который эхом отозвался в лесочке. Эссекс бросился к Ралею. — Это вы все заранее подстроили? — спросил он с нескрываемой ненавистью. — Нет. Не вы ли? — ответил Ралей. Затем, движимые одним инстинктом, они вложили шпаги в ножны и побежали навстречу королеве, которая, увидев, что они приближаются к ней, остановилась, опершись на трость. Утреннее солнце бросало свои безжалостные лучи на ее ненакрашенное лицо. Парик королевы, с дурацким бантом под подбородком и повязанный шарфом, неуклюже сполз на сторону, так что одна растрепавшаяся рыжая прядь накрыла ее черную бровь. И все же никогда Елизавета не выглядела такой поистине царственной. Когда они оказались в шести шагах от нее, каждый стремясь приблизиться к ней первым, чтобы первому произнести нужные слова, она голосом твердым и холодным как лед приказала: — На колени, оба! Вот оно! Так-то вы подчиняетесь моим приказам о дуэлях! Двое крупных мужчин опустились на колени в покрытую росой траву. Королева сделала пару шагов в сторону, словно в ожидании, когда они переведут дух. — Это что еще такое? — потребовала она затем ответа. Они заговорили оба сразу, осыпая друг друга оскорблениями и насмешками. — Стойте, — остановила их королева. — Уолтер, как старший, говори первый. — Все началось с чепухи, — приступил к объяснениям Ралей. — Для карнавала он выбрал мои цвета, так что я и мои люди выглядели бы его сторонниками. Я обратил его внимание на это, в ответ он оскорбил меня. — Как? — Он заявил, что считал, что я остановлюсь на цветах, более близких к испанским — не знаю, что он имел при этом в виду, но это уже не важно. — Тогда, — вмешался в разговор без разрешения королевы Эссекс, — он швырнул мне в лицо перчатку и вызвал меня на дуэль. — Будь я мужчиной, я поступила бы так же, -сказала королева. — Это было оскорблением с вашей стороны, и вы попросите извинения у него. А вы, Уолтер, извинитесь за то, что устроили всю эту шумиху из ничего, — добавила она, обратившись к Ралей. — Нам известно о ваших монополиях, но я что-то не слышала, чтобы человек имел монополию на одежду красно-коричневого цвета. — Но он сделал это с намерением опозорить меня, превратить меня в одного из своих слуг… — Довольно об этом. Вы оба не правы. Хуже того — вы оба позволили себе ослушаться моих приказов. Разве я не запретила дуэли при дворе? Хорошенькое было бы дело, если бы я потеряла Уолтера благодаря тебе, Роберт, или Роберта благодаря тебе, Ралей. Еще того лучше, если бы накануне того дня, когда Англии понадобится каждый сильный мужчина, каждый из вас привел бы в негодность своего соперника. Припасите ваши удары и вашу злость для испанцев. Она глубоко вздохнула. — Опять же, милое дело вытащить меня из постели ни свет ни заря, поставить среди мокрого луга с риском подхватить простуду и умереть — и все только ради того, чтобы два взрослых человека не оказались наутро никчемными трупами. Эти слова привели в замешательство обоих дуэлянтов. Они знали, что состояние здоровья королевы не позволяет ей подобные, опасные для ее жизни прогулки. Но Елизавета еще не закончила экзекуцию. Она с юности любила пользоваться своим высоким положением, и немало трясущихся послов узнали об этом на собственном горьком опыте. И теперь, несмотря на боль в спине, насквозь промокшие ноги в тоненьких туфлях, тяжело опираясь на трость, она не собиралась оставить их в покое, пока не почувствует, что сделала свое дело. — Оставайтесь там, где вы есть, и слушайте меня. — Она подняла трость и не шутя нанесла по одному удару по ребрам каждому из них. — Если вы еще когда-нибудь поссоритесь, по любому поводу, я накажу вас обоих. Клянусь Богом, я это сделаю. И клянусь, если бы сегодня утром кто-нибудь из вас убил другого, я повесила бы убийцу. Неповиновение мне есть предательство, и я буду наказывать за это именно как за предательство. Помните об этом, вы оба. Теперь можете встать. Роберт, ты попросишь прощения за свои слова. Уолтер, ты извинишься перед Робертом за то, что ударил его. — Она оставила без внимания причины ссоры. — А ну, приступайте! Я жду. Они сконфуженно встали на ноги — на коленках у них остались мокрые пятна. — Прошу прощения, ваша милость, — произнес Ралей. — Прошу прощения, сэр Уолтер, — сказал Эссекс. И одновременно, торжественно: — Я принимаю ваши извинения. Они стояли в ожидании новых приказаний. — Одевайтесь. Мальчик! Принеси их камзолы. Они влезли в свои одежды, чувствуя себя — да и выглядя — как нашкодившие юнцы. Королева истощила свой гнев и теперь старалась пробудить в них жалость к себе. В своей типичной манере быстро меняться она поманила к себе Блаунта. — Возьмите мою трость, — чуть ли не шепотом попросила она его. — А вы оба можете подать мне руку, каждый со своей стороны. Королева взяла их под руки — они уж постарались предложить для ее тонких, нежных ручек свои согнутые в локтях, одетые в шелк руки, — и повисла на них всем своим весом. Кто знает, была ли Елизавета так утомлена, как старалась изобразить. Они шли, нежно поддерживая ее, и, хотя их соперничество не дошло до кровопролития, каждый чувствовал комизм своего положения. Они выглядели и чувствовали себя такими смешными, когда стояли на коленях в мокрой траве, а потом в спешке натягивали на себя и свои камзолы. Елизавета, которая остро ощутила приближение грозы, теперь так же остро сознавала наступившее перемирие. Она брела между ними и то и дело раздавался скрип ее больных суставов. С юности она мучилась ревматизмом, и вот теперь при каждом шаге, перед тем как поставить ногу на землю, она производила укоризненный звук, сгибая сустав в голени. Ей при этом доставляло удовольствие наблюдать, как вздрагивал Ралей при каждом нарочитом проявлении ее немощи.ГЛАВА ДЕВЯТАЯ УАЙТХОЛЛ. АВГУСТ 1588 ГОДА
Каким бы великим ни считал себя человек, А есть две вещи, перед которыми и он бессилен, И первая из них — любовь…Из комнаты доносились звуки клавесина, и высокий, звонкий голос исполнял простую, жалобную песню. Сэр Уолтер Ралей взялся за ручку двери и остановился послушать пение.
Через четыре часа он тихо вскочил на балкон и прокрался к последнему окну, сквозь которое слабо пробивался свет горящей свечи, как знак ожидания и привета. Лиз подошла к окну, держа над собой свечку, и он увидел тень на лице от ее дрожащих ресниц и челки. Она выглядела удивительно, по-детски трогательно со своими распущенными по плечам светлыми волосами. Не испытывая особой радости от своего поступка, Ралей обнял ее. Но ее тело, освобожденное от корсажа на китовом усе и от многочисленных юбок, было мягким, и податливым, и желанным и возбудило в нем такую страсть, которую не могли омрачить годы, а погасить смогла только смерть.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ЛОНДОН. 1589 ГОД
I
Он кончил говорить и стоял, протягивая королеве письма от Дрейка и Гренвилля, чтобы она ознакомилась с ними. Елизавета гневно оттолкнула их от себя и, забыв о своих гнилых зубах, которые обнаружились при ее ухмылке, сказала: — Итак, вот она, ваша колония, которая должна была соперничать с Нидерландами по ввозу суконных товаров. Поселенцам, да и вам скорее подошли бы пеленки, а не мужские амбиции. Хорошенькое дельце для того, чтобы насмешить весь мир. Забыв о долге вежливости, который всегда трудно соблюдать, когда плюют на твои доводы, он ответил: — Вы в этом виноваты не меньше, чем я. Весь год я умолял вас отпустить меня к ним, проведать колонию. Если бы она была у меня в руках, если бы я правил ею, ни все индейцы мира, ни все испанцы мира, ни сам дьявол не отняли бы ее у меня. — Много слов, сэр Уолтер. Большие болтуны это и большие бездельники. — Только вы одна во всем мире можете говорить мне такое! Колония там была, в чем вы сами можете убедиться, прочитав эти письма, и если бы я хоть немного позаботился о ней — а у меня была такая возможность, — она и сейчас продолжала бы свое существование. Но вы, не поддержав ее, сыграли плохую роль в ее судьбе. Я, может быть, и большой болтун, но я доживу до той поры, когда увижу ее английским владением. — Вы уповаете на долгую жизнь, — сказала Елизавета. Она взвинтила себя до предела, и даже его внешность, устремленные на нее темные, жесткие глаза, побелевшие губы и высоко поднятая голова не могли смягчить ее гнев. — Я уповаю на то, что когда-нибудь англичане обретут здравый смысл. Испанцы овладели всем Новым Светом всего лишь с тремя кораблями и кучкой уголовников, в которых Англия отказала Колумбу. Злая подлость деда, от которого она так многое взяла, решила все за королеву. Да, ее волновали его смелые речи и мужественное лицо в минуту его поражения. Но его следовало проучить; он не должен был так отвечать на ее слова; она достаточно долго терпела его гордыню и дерзость. Какая-то извращенность, возникшая непонятно из какого источника — от огорчения ли или от физического недомогания, сделала ее способной испытывать удовольствие при вынесении ему своего приговора. — Поскольку ваши яркие способности так мало согласуются с нашей леностью и тупостью, мы освобождаем вас от необходимости присутствовать при дворе. И для того, чтобы вы могли полностью посвятить свое драгоценное время и необходимое внимание этому «фениксу», который возрождается каждый год в вашем воспаленном мозгу, я освобождаю вас и от обязанностей капитана гвардии. — Как пожелает ваше величество, — ответил Ралей, хотя ее приговор задел его за живое. — Вы даете мне ваше соизволение отправиться в Ирландию? — В Ирландию? Да хоть к черту на рога! — Благодарю вас. Он склонился в очень низком поклоне, затем поднялся и, очень прямой и стройный, направился к двери. Внутри Елизаветы все кричало: «Вернись, я не имела в виду и половины сказанного». Но она не проронила ни слова. Будь она немного моложе и не будь обучена так строго контролировать свои чувства, она бы побежала за ним, взяла бы за руку и вернула его. Но на самом деле королева подумала: «К черту этого парня. И откуда у него берется такая сила? Уж не оттого ли, что он, как и я, всегда выходит из трудных обстоятельств, действуя властно?» Королева долго сидела в полной тишине и вдруг с удивлением и даже с тревогой обнаружила, что ее редкие ресницы повлажнели от слез.II
— Пойдем со мной, Лиз. Она все равно уже разгневана, хуже не будет ни ей, ни мне, а в Ирландии ей нас не достать. — Единственное место, где мы можем спрятаться от нее, это могила. — Я присоединюсь там к повстанцам. Единственное, чего им не хватает, это настоящего лидера. — Уж не думаешь ли ты, что я хочу сделать из тебя предателя? — Что угодно, только бы ты поехала со мной. — Нет. — Даже во имя нашей любви? — Да. — Ради Бога, скажи, почему? — Потому что в Тауэре мы не будем вместе. — Мы не будем в Тауэре. — Почему, по-твоему, нам должно больше повезти, чем Пемброкам? — Рискни, Лиз. Рискни ради меня. — Нет. — Возможно, мы не увидимся целых шесть месяцев, а то и больше. — В Тауэре мы не увидимся никогда. Небольшая разлука может оказаться полезной для нас. Она по меньшей мере закалит нас. — Ты и так закаленная, Лиз. — На моем месте нельзя иначе. Слабая женщина уже давно подвела бы тебя под монастырь. — Но ты хоть думай обо мне и жди. — Всю мою жизнь. При дворе нет другого Ралея, а на меньшее я не согласна. — Последний раз прошу — поедем со мной, любимая. — Последний раз отвечаю — нет.ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ИРЛАНДИЯ, ЛОНДОН. 1590-1592 ГОДЫ
— Она прекрасна и горда. Холодная как лед со всеми, со мной она пылкая как пламя, Спенсер. Я никогда не слышал, чтобы она солгала или схитрила. Вряд ли найдется много женщин, о которых мужчина мог бы сказать такое. — Только одна, я полагаю. Вас тошнило от вашей первой трубки? — Еще как! И Сидней, и Марло, и Шекспир, и Дрейк, и я были словно пьяные, еле доплелись до дома. — В такой компании и я опьянел бы. — Возвращайтесь-ка лучше со мной в Англию, если я когда-нибудь поеду туда. Мы примем вас в члены клуба «Русалка». Вы там будете чувствовать себя как дома. — Если бы я мог! Но вы читали про ворону, которая спозналась с петухами, правда ведь? — Мой дорогой, вы просто слишком скромны. Я нахожу вас гением. А я не бросаю слов на ветер. Эдмунд Спенсер густо покраснел. Была ли похвала Ралея искренней, или он просто льстил ему? Может, ему приятно было найти родную душу в этом ирландском захолустье и на этой его радости зиждется суждение о нем? Спенсер отложил в сторону недокуренную трубку и развернул сверток с бумагами, которые до сих пор страшился показать Ралею. — Это начало моей новой поэмы, —застенчиво признался он. — Я сомневался, захотите ли вы прочитать ее и сказать мне ваше мнение о ней. — Это доставит мне величайшее удовольствие. А вы зато прочитаете вот это — я написал это для Mapло. Вы, конечно, читали его «Приди ко мне и стань моей любовью», верно? Ну а это мой ответ ему. Он протянул листок бумаги Спенсеру, тот принял его с благоговением. За все время общения с Ралеем он действительно боготворил его. Этот человек обращался к Шекспиру «Уилл» — вместо Уильям, называл Марло «Кит» — вместо Кристофер, когда-то давно жил в одной палатке с Филиппом Сиднеем. Он и сам был не последним поэтом. И сама судьба привела его в Йол, соседствующий с Килколманом, где Спенсер отдавал себя служению только музе поэзии. От этой мысли его смиренное сердце трепетно забилось у него в груди. Ралей склонился над текстом. Ошибки быть не могло: Спенсер был поэтом «от Бога». Настоящая находка. Это открытие взволновало тонкую натуру Ралея так же глубоко, как зрелище корабля, выходящего из порта Плимут взволновало бы Дрейка. Какое-то время он просто, как художник, наслаждался превосходным произведением поэта. А потом вдруг, все еще продолжая читать, понял, что мысль о выгоде закралась ему в душу — это была вечная его беда: все, к чему он прикасался, должно было иметь свою цель. Уолтер бросил взгляд на собственные стихи, которые Спенсер положил на стол. В последнем четверостишии там говорилось: Могла бы юность длиться, любовь — еще желать, Чтоб радость — без предела и не стареть — пылать; Тогда восторги эти осилил бы мой ум, Чтоб жить с тобой и вечно любить тебя одну… Мысль о единстве радости и молодости заставила его задуматься сразу о двух проблемах. Его собственная юность кончалась, а похвастать ему особенно было нечем. Он подвизался в поэзии, но не числился среди поэтов. Будучи политиком, он не состоял в Тайном совете королевы. Будучи колонизатором, он истратил уйму денег на создание колонии, но она погибла от недостатка внимания к ней, и ему даже не было позволено присутствовать при ее умирании. Юность уходила. Елизавета осталась в прошлом. «И не стареть — пылать…» Что нужно этой стареющей женщине? Уверенность, и еще раз уверенность в себе, в том, что она — все та же Глориана своего воображения. Как просто! И каким дураком он был, вступая с ней в пререкания, пытаясь внушить ей свои понятия. Как глупо было с его стороны отвечать философическими, здравыми рассуждениями на ее жалобы на свой возраст. А она-то хотела — и хотела все время — всего ничего, она хотела лести, изысканной лести, которую и получала от других. Бог мой, да пусть она получит ее! Из своей ссылки он доставит ей такое жертвоприношение, какое прежде не доставалось ни одной королеве. Придя к мысли о необходимости льстить, сколько экстравагантности, сколько искусства, сколько необычайной тонкости должен был проявить он, приступая к этому! Ралей склонился и похлопал ничего не подозревающего Спенсера по колену. Спенсер, смаковавший про себя картину, на которой Ралей, Шекспир и все остальные беседовали в клубах табачного дыма в таверне «Русалка», сделал еще одну попытку выкурить трубку и дошел уже до состояния, когда ему море стало по колено. — Что вы собираетесь делать с этими стихами? — Я еще ничего не собирался. Я подумывал, не возьмете ли вы на себя труд, когда снова станете фаворитом королевы, попросить ее разрешения посвятить поэму ей. Ралей улыбнулся. — Я уже говорил вам, Эдмунд, вы слишком скромны. Вы не только должны посвятить ее королеве, вы своей поэмой должны сделать имя ее бессмертным. Вам остается только… Ночь потеплела, и звезды взошли над миртами, вишнями и кедрами в саду ирландского поместья Ралея, сначала яркие, потом они побледнели, а он все объяснял Спенсеру, что тот должен сделать. Чуть-чуть перестроить здесь, немного добавить в этом месте — и Елизавета уже — Королева фей, живая, несокрушимая, бессмертная. Эдмунд прислушивался к каждому слову Ралея, благодарил за проявленный интерес к его творчеству, с радостью принимал все предложения и так никогда и не узнал, что на крыльях «Королевы фей» Ралей замыслил вернуться ко двору и заодно в объятия своей Лиз. Рассвет разгорался над заливом, когда Ралей провожал поэта до калитки и смотрел потом, как в каком-то нереальном свете нарождающегося утра удалялся он с рукописью под мышкой, с растрепанными волосами и сползшим набок воротником. Уолтер повернул назад и шел, проклиная себя, среди рядов цветущего картофеля. Сегодня он исхитрился заполучить прекрасный манускрипт себе в руки, теперь поэма, может быть, и прекрасна, но уже лишена своей свежести. А Спенсер ни о чем не догадывается. Поэты принимают его, Ралея, за своего; и с моряками он на короткой ноге; только политики подозревают в нем второе дно и с осторожностью вступают с ним в контакт. Леденящая душу мысль. После той ночи он начал подыскивать подходящее время для возвращения ко двору. Он будет держать рукопись Спенсера под рукой, а другие, еще более утонченные комплименты — на кончике своего языка. Но, размышляя под своими молодыми тутовыми деревьями, даже он никак не мог предположить, что Леттис Ноллис, лишившаяся Сиднея, отвергнутая Уолтером, вскружит голову и поработит юного Эссекса. Об этом он узнал, получив записочку в одну строчку, без подписи, только своей краткостью выдававшую авторство Лиз. «Эссекс женился. Возвращайся». Это было единственное послание от Лиз за все время его ссылки, но с его появлением кончалось его изгнание. И вот он снова лежит рядом с Лиз на узкой, короткой кровати, и ее светлые волосы покрывают ему грудь. Только теперь, когда прокукарекали первые петухи, напомнив ему, что пора уходить, у них нашлось что сказать друг другу. Если не считать нескольких бессвязных слов нежности при встрече, их воссоединение было таким же безмолвным и простым, как весеннее соитие птиц после зимней разлуки. — Она была рада видеть тебя, да? — вяло спросила Лиз. — Поразительно, если вспомнить, как мы расстались, посылая друг друга к черту. Знаешь, Эссекс и его жена не в Тауэре. Возможно, со временем она становится терпимее. — С Эссексом она не смеет поступить слишком сурово. В нем течет королевская кровь, и он безумно популярен. Елизавета Тюдор никогда не бывает терпимой без причины. — Твое недоверие пустило глубокие корни. — Я видела ее лицо, когда ты вошел. Не хотела бы я выглядеть так, как она в тот момент. С исчезновением Эссекса жизнь ее превратилась в сплошную скуку. Сесил слишком осторожен, Беркли стар и благоразумен. Она столкнулась с таким же одиночеством, какое переживала все эти месяцы я. И вдруг появляешься ты. Когда она протянула к тебе руки и выкрикнула твое имя, я готова была убить ее. — Ты позавидовала ей? Зачем? Любимая, я отдаю тебе все, все, что имеет цену, что никогда не достанется ей. Бедная королева так одинока. — Полагаю, что это действительно так. Но что ты за странный человек, Уолтер. Я смотрю на нее и вижу тирана, ненасытную властительницу рабов. Ты же видишь в ней одинокую женщину, которую следует жалеть, а не бояться и ненавидеть. Для тебя нет ничего простого. — Есть одна простая вещь — мне уже пора бежать. Он снова заключил ее в свои объятия и покрывал поцелуями со всей своей страстью, которую должен будет тщательно скрывать, как только покинет эту комнату: завтра, когда они встретятся в присутствии королевы, никто ничего не должен заметить. Проходили месяц за месяцем. Ночные часы приносили тайные наслаждения; дни — новые свидетельства благорасположения королевы. Спенсер получил пособие — пятьдесят фунтов в год. Но надо всем этим повисла легкая пелена, похожая на ту, которая возникает в природе в золотые дни осени, когда лето встречается с зимой и отступает, уходит постепенно, пытаясь обмануть себя, одевая в яркие одежды папоротники, буки и рябины, но, однажды пробудившись, обнаруживает, что первый мороз превратил эти яркие одеяния в погребальный саван. Как-то вечером он поздно покинул королеву. На нее напало воинственное настроение. В десятый раз она, сама себя взвинчивая до полного неистовства, рассказывала ему о смерти Гренвилля. С горящими глазами, глядевшими на Ралея из-под рыжего парика, она пересказывала ему историю, которую он уже знал наизусть. Как Гренвилль доложил о том, что тысяча испанцев сдалась его флагманскому кораблю, хотя у него были начисто срублены все мачты, пушки и даже палубы искрошены. Как он три дня лежал смертельно раненный и, кончаясь, потребовал вина, выпил и, раздавив зубами стакан, проглотил и его, тем самым продемонстрировав, из какого материала сделаны англичане. — …и теперь, когда я направлю туда экспедицию, ты возглавишь ее, — закончив повествование; добавила она. — В моем окружении нет другого человека, способного последовать подобному примеру. — Умереть на борту моего флагмана с животом, полным стеклянных осколков? Королева содрогнулась. — Я не это имела в виду. Гренвилль был отрезан от всех, но в таком безвыходном положении сделал все, что было в его силах, — то же сделаешь и ты, Уолтер, несмотря на все твои ухмылки. Но ты должен взять с собой крупные силы и не подвергать себя риску. Было уже поздно, и сонные фрейлины в ожидании часа, когда можно будет приступить к раздеванию королевы, ерзали и зевали в приемной. Но когда Ралей поднялся и направился к дверям, королева позвала его обратно. — У меня есть кое-что для тебя, Уолтер. Он подавил зевок и вернулся к ней. Лукаво глядя на него, она спросила: — Что ты думаешь о Шерборне? — О Шерборне? — Меня давно и сильно занимало это поместье в Дорсете. Теперь наконец у меня в руках право на аренду его, на девяносто лет. Даю его тебе. — Вы слишком добры ко мне. Как мне благодарить вас? — Я, помнится, глумилась над твоим желанием долго жить. Вот теперь я обеспечила тебе жизнь до глубокой старости. С выражением искренней любви она улыбнулась ему. Ее упоминание о словах, брошенных ему в лицо в пылу гнева, звучало трогательно, как воспоминание о ничтожном событии, послужившем причиной ссоры двух любовников, когда они помирились и смеются над ним. Это был королевский жест, о котором бедный Беркли или Уолсингем могли только мечтать после своего пожизненного пребывания на службе королеве. Стоя перед ней на коленях, Ралей решил, что экспедиция, в которую она обещала послать его, завершится успехом. Он ее не подведет. Было уже поздно, Лиз наверняка уже не ждала его. Но Уолтер испытывал желание поделиться с ней доброй новостью. Он мечтал доказать ей, что характеру королевы присущи и доброта, и щедрость. Покинув дворец, он осторожно обогнул парк и присел, разглядывая окно Лиз. По тому, что в нем горел свет, он узнавал, вернулась ли она с процедуры раздевания королевы. И когда в нем и в других окнах гас свет, это означало, что можно забраться на балкон и войти к ней в комнату. Тихо сидя в полной темноте, он вдруг обнаружил, что клюет носом, засыпая, и, испугавшись, что промокнет, встряхнулся и увидел, что во всех окнах, кроме последнего из выходящих на балкон, свет погашен. Уолтер ждал еще довольно долго из боязни, что Лиз вернулась к себе первой, но свет в других окнах так и не появился, так что он в конце концов, подобно кошке, взобрался на балкон и на цыпочках подкрался к ее окну. И тут Ралей услышал скрип плохо отточенного гусиного пера, яростно водимого по бумаге. Это остановило его. Кому это Лиз пишет, Лиз, которая сподобилась послать ему всего каких-то три слова без подписи на клочке бумаги? Он отошел немного в сторону и заглянул в комнату через щель в занавесках. Она сидела за столом, и колеблющийся от сквознячка свет свечей падал на лист бумаги, роняя тень на ее щеки, казавшиеся от этого более впалыми. Ее тяжелая коса была переброшена через плечо. Левой рукой она подпирала голову, а правой царапала по листу своим скрипучим пером. Ралей стоял и смотрел на нее какое-то время, потом тихо позвал: — Лиз! — Это не должно было испугать ее, потому что так называл ее только он, а она должна была привыкнуть к его неожиданным ночным появлениям. Тем не менее девушка вскочила при звуке его голоса, и перо упало на пол, она схватилась руками за стол, как бы стараясь загородить собой лист бумаги от его глаз, и оставалась в этом положении, уставившись в окно. Ралей переступил через подоконник, привычно задернул за собой занавески и открыл ей свои объятия. Лиз нехотя отступила от стола и подошла к нему. Он заметил, что впалость ее щек объяснялась не падавшей на них тенью, а тем, что у нее действительно осунулось лицо, так изменилось, будто ей пришлось пережить какие-то серьезные потрясения. — Что с тобою, любимая? Кому ты пишешь? — Никому, просто пишу, — сказала она и попыталась увлечь его подальше от стола, к своей кровати. — Но ты так бледна! Уж не заболела ли? — Я не ожидала увидеть тебя. И мне вдруг показалось, что это не ты, а призрак. — Тебе так же не следует опасаться моего привидения, как бояться меня самого. Что-то, по-видимому, так расстроило тебя, что ты, вместо того чтобы лечь в постель, так поздно принялась писать кому-то. И для чего этот наполовину упакованный саквояж? Уж не собираетесь ли вы поехать в Хэмптон? Поездка в Хэмптон всегда означала для них прекращение ночных свиданий и даже поздних встреч в парке, потому что там Лиз делила комнату с Агнессой Лоули. — О нет, — сказала Лиз. — Я просто хотела кое-что достать из него. Она так странно вела себя, настойчиво удерживая его на краю кровати, что Уолтер был убежден: Лиз лжет ему. — Ты что-то прячешь от меня, — сказал он. И внезапно появившийся испуг в ее глазах окончательно убедил его в этом. — Я хочу посмотреть твое письмо. — Уолтер, пожалуйста, не надо. Ты увидишь его завтра. Оно адресовано тебе. Коротенькое, глупое письмо, чтобы сказать тебе… сказать… что я люблю тебя. Он оттолкнул ее руку. Чтобы Лиз с ее настороженностью писала всякую ерунду — чепуха это. Она тут же вскочила. — Ну прошу тебя, Уолтер. Умоляю, не делай этого. Я не вынесу, если ты станешь читать это при мне. — В нем не говорится о том, что ты устала ото всего этого? Она молчала, и Ралей решил, что попал в точку. Первое, что пришло ему в голову, это упрек в свой адрес. Конечно, Лиз не могла не устать от всего этого. Как и любая другая женщина на ее месте. Для него она никогда не была на первом плане. Королева, колония в Виргинии, его карьера — вот что было для него самым главным. Он отошел от стола, не тронув бумагу, и увлек ее за собой, посадив рядом на кровать. Решение, которое Ралей только что принял, заставило горячо забиться его сердце. Ощущение было похоже на то, которое испытывает человек, стоящий на вершине скалы и собирающийся спрыгнуть с нее, не зная ее высоты. — Лиз, — сказал он, — я все обдумал. Лучше я буду жить с тобой без всякого благоволения королевы и, если понадобится, в нужде и забвении. Милая, выходи за меня замуж и давай кончать со всеми этими расставаниями? Ну вот, главное сказано. Он смотрел на нее, готовый к ее протесту, удивлению, но никак не к этому побелевшему, окаменевшему лицу, которое в ответ обернулось к нему. В какое-то мгновение Ралей был потрясен мыслью, что опоздал, что она уже тайно вышла за кого-то другого. Едва шевеля губами, она спросила: — Что заставляет тебя именно сегодня просить меня об этом? — Тебе нужны объяснения? Не предлагал ли я тебе то же самое перед отъездом в Ирландию? — Ты никогда не говорил о женитьбе. Или о том, чтобы бросить вызов самой королеве. И я отвечала тебе отказом. Ты бы не стал повторять свое предложение так скоро, пока ничто не изменилось. Если бы ты не догадался. Боже, но если догадался ты, почему бы не догадаться и всем другим? — Постой, ты о чем? Он представления не имел, о чем она говорила, но; был достаточно умен и опытен в этих делах, чтобы добраться до правды прежде, чем стал задавать ей неуместные вопросы. Лиз вздернула подбородок, теперь она уже не выглядела убитой, выражение упрямой решимости сменило горесть. — Пусть так, но и в этом случае я не выйду за тебя замуж. Мало ли на свете незаконнорожденных детей, и это не самое худшее. Ты не можешь бросить все из-за того, что так не вовремя появился этот ребенок. Значит, так оно и есть. Теперь, когда он точно знал причину, он сказал: — У меня и в мыслях этого не было. Когда я предлагал тебе замужество, я ничего не знал о ребенке. — Ты сказал, что догадался. — Вовсе нет. Вспомни, я сказал: «Постой, ты о чем?» Я надеялся снять таким образом налет таинственности, и, слава Богу, он снят. От злости глаза ее наполнились слезами, и отдельные капельки повисли на ресницах. — Ты слишком умен для меня, — заявила она, — но всего твоего ума не хватит для того, чтобы заставить меня выйти за тебя замуж. И по собственной воле я никогда этого не сделаю. — Очень хорошо. Я, наверное, и не могу заставить тебя, хотя подобные вещи случались, зато я завтра утром пойду прямо к королеве и скажу ей, что ее фрейлина, девица Трогмортон, больше не девица и укажу на себя как на соблазнителя. Можно себе представить, какой переполох поднимется. А каков будет твой братец Артур, можешь представить? — Ты не посмеешь. — Разве? Ты меня еще плохо знаешь. Послушай, Лиз, прежде чем я покину сегодня эту комнату, ты торжественно пообещаешь выйти за меня замуж, при первой возможности, тайно. Дождемся, пока закончится мой поход против Испании. Это не будет слишком поздно? — Он дождался ее согласного кивка. -Когда я вернусь, мое влияние на королеву будет таким сильным, что целый султанский гарем не сможет помешать мне. И в конце-то концов, она почти простила Эссекса. — А я лучше уж поеду домой. Я бы уехала завтра, если бы ты сегодня не пришел ко мне. — И ты обещаешь любить меня. — Я люблю тебя, поэтому и не хочу твоей гибели. — Я сам себя погублю завтра. Если сегодня не получу от тебя обещания. — Но тогда и ты пообещай мне одну вещь. — Что же это? — Никогда не признаваться ей и никому другому тоже, если это грозит нам Тауэром. Я могу выдержать изгнание, если ты навлечешь его на себя, но заточение — никогда. — Даю тебе слово, что сделаю все, чтобы не допустить этого. — «Чтобы не допустить этого!» Ах, Уолтер, достаточно одного дуновения ее гнева, чтобы сделать из тебя соломинку на ветру. О, эти женщины, которые не знают, что такое любовь, но имеют власть на то, чтобы не дать возможность другим наслаждаться ею. Хорошо Беркли — он может сказать своему сыну: «Бойся стать похожим на Ралея». Я была бы рада, если бы ты был простым пастухом. — Любая привилегия имеет себе цену, драгоценная моя. Если бы этот простой пастух посмел поднять взор на тебя, он лишился бы своих ушей. Как говорится в новом молитвеннике, нам надлежит строго придерживаться «стези, предназначенной нам Богом». Ну а пока мы обменялись обещаниями — я своим, ты своим. И надеюсь, малыш простит тебе попытку сделать его внебрачным ребенком. — У тебя есть священник, которому ты полностью сможешь довериться? Лиз уже переключилась на практическую сторону проблемы. — Четыре или пять, рассчитывающих на мою поддержку в продвижении по службе. Да не мучай ты себя больше! Пожелай мне лучше попутного ветра и зрелища разбитых испанских кораблей. А теперь — спокойной ночи. Ты заметила, что мы целый час провели вместе без единой ласки? — Пусть лучше мы лишим себя этого сейчас, чем потом. Я вот думаю, сколько раз ты пожалел о том, что не отправился прямо к себе сегодня. — Черт возьми! — воскликнул Ралей, проигнорировав ее колкость. — Ты мне напомнила, ради чего я пришел сегодня к тебе. Она подарила мне Шерборн. — Шерборн? — удивилась Лиз, как удивился сам Ралей несколько часов назад. — Это поместье в Дорсете. Полагаю, весьма миленькое. Чудное место для малыша. Я с удовольствием стану отцом, дорогая. — Тебе достанется это право довольно дорогой ценой, — сухо заметила Лиз. Он совсем немного приподнял занавески, не раздвигая их, и перенес свою длинную ногу через подоконник и затем, помахав ей рукой, исчез в ночи. Лиз осторожно порвала письмо на куски и сожгла их один за другим в пламени свечи. Затем она разобрала свой саквояж, легла спать и увидела во сне, будто королева подошла к ней с вопящим ребенком на руках и сказала: «Возьми его, я украла его у тебя, но он по праву принадлежит тебе». Лиз оттолкнула от себя ребенка и закричала: «Он мне не нужен! Он -ваша копия. Заберите его от меня!» Она проснулась и увидела склонившуюся над ней Агнессу в белой ночной рубашке. — Простите, мне пришлось прийти к вам, — извиняющимся тоном проговорила девушка: было известно, что Лиз не любит, когда к ней заходят даже с самыми благими намерениями. — Вы так кричали. А до этого вы долго разговаривали сама с собой. Лиз поняла, что от возбуждения они с Уолтером совсем забыли о всегда присущей им осторожности. — Мне снились такие ужасные вещи. Очень мило, что вы зашли ко мне, Агнесса. И у нее возникло теплое чувство к своей ничего не подозревающей соседке. — Все этот противный картофель, который наделал столько шума при дворе, — сказала Агнесса. — Тут всякому привидятся кошмары. Я называю его свинячьей едой, но если Ралей начнет есть желуди, нам тогда тоже придется потреблять их, скорее всего. Лиз засмеялась, и леди Лоули подумала, что не такой уж она сухарь.ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ ТАУЭР. 1592 ГОД
По секрету и в спешке ему удалось все же еще раз попрощаться с Лиз. Покидая королеву, он дрожал от страха, что она вдруг снова изменит свое решение, как это не раз бывало, и поторопился в Грейвзенд. Ему было сорок лет; почти на каждом этапе своей жизни на его долю выпадали разочарования, и тем не менее в этот ясный майский день он был полон надежд — впрочем, так бывало всегда. Снова, как это было с поэмой Спенсера и с женитьбой Эссекса, фортуна была на его стороне. Один сокрушительный рейд на богатый испанский город — и Лиз будет принадлежать ему. Обретя новый шанс на успех, он забыл о своих предыдущих поражениях, обо всех препонах, о которые разбивались его чаяния. Он проверил каждый канат, каждый бочонок и ранним утром шестого мая двинулся вниз по реке на морские просторы. Впервые ему довелось командовать целым флотом. Когда были подняты белые паруса и «Роубак», его корабль *["1011], вклад в королевский флот, закачался на морских волнах, старые мечты о Виргинии немного потревожили его сердце. Но он быстро отбросил их. Что такое быть сорокалетним мужчиной? Это означало только одно: хватит совершать ошибки, пора приступать к настоящему делу; и для человека с его способностями и его возраста может ли быть залог надежнее, чем сама королева? Но при воспоминании о ней он нахмурился: уже с марта она все сомневалась, отправлять ли экспедицию или нет, и в конце концов, когда благоприятное время для похода в Панаму прошло, она разрешила поход. Оставалась одна надежда: встретить грузовые суда на их обратном пути в Испанию. Уже на неспокойных водах Канала *["1012] «Роубак», будто оправдывая свое имя, с легкостью танцевал и прыгал на волнах, и Ралей почувствовал давно знакомую ему тошноту и слабость в желудке. Он заставил себя осуществить последний разворот флота, убедился, что все прекрасно держат дистанцию, и спустился в свою каюту. В ней находились его книги и неуклюжий идол, подаренный ему Дрейком в память о совместной шести— или семилетней давности службе в Морском департаменте. Рядом с ним стояла синяя ваза с примулами, которые он купил у мальчишки на пристани рано утром. Это была его последняя покупка для флота, и узнай Дрейк, или Фробишер, или Гренвилль об этой вазе с бледными цветочками, они бы сказали: вот еще одно доказательство его чудаковатости. Со вздохом удовлетворения он оглядел все свои сокровища и бросился в койку. В течение нескольких часов ему было очень плохо, и только к утру от полного изнеможения он погрузился в тяжелый сон. В его кошмарах Артур Трогмортон преследовал его. Брат Лиз был взбешен, но не говорил почему. Он стоял над ним с дубинкой в руке — с подобными дубинками ирландцы ходят по дороге из Бэлли-Хаш в Корк, — и говорил: «Ты еще поплатишься за это. Бойся быть Ралеем. Ты еще поплатишься». Он изо всех сил старался выкарабкаться из глубин ужасного сна и защитить себя и наконец сумел раскрыть глаза. Возле койки стоял матрос. — Какое-то судно пытается догнать нас, сэр. Прикажете остановиться? — Да, я сейчас поднимусь на палубу. Он довольно уверенно встал на ноги, но, когда «Роубак» развернулся и сбросил скорость и вся мощь морских волн обрушилась на него, его снова стало рвать, и только хватаясь руками за мебель, ему удалось добраться до палубы и совершить торопливый и далеко не полный туалет. Он еще был наверху у сходного трапа, повиснув на канате, чтобы его не смыло в море, когда появился огромный человек в сопровождении матроса. — Сэр Мартин Фробишер направляется к нам на корабль, сэр, — сказал матрос. Ралей поднял на Фробишера свои покрасневшие от недомогания глаза и кивнул ему; тот уверенной ногой ступил на ступени трапа, легко взбежал на палубу и взял Ралея под руку. И таким манером они отправились в капитанскую каюту. — Вам совсем плохо, — сочувственно сказал Фробишер своим грубым голосом. — Не больше, чем обычно. Я всегда так — час-другой меня сначала рвет. Но вот день пройдет, и я оклемаюсь. Что привело вас сюда? — Приказ королевы. Теперь я буду командовать экспедицией, вы же должны немедленно вернуться в Хэмптон. — Ради всего святого, что случилось? — Она ничего не сказала. Вчера за час до полудня она послала за мной, вручила мне свои приказания и велела поторопиться. Вот и все. Могу признаться, что мне стоило дьявольски большого труда нагнать вас. Однако вы выглядите так, что вам явно лучше будет на суше, чем в море. — Я же сказал вам — это обычное дело для меня, и я не собираюсь возвращаться на берег. — Как не собираетесь? Вам же приказано. — Возможно. Но мне также было приказано идти вперед, пока я не увижу испанские корабли и не захвачу их. И я буду придерживаться этих приказов. — Но говорю же вам… — Не затрудняйте себя, Фробишер. Я остаюсь здесь, по крайней мере до тех пор, пока не решу, что пришло время повернуть назад. — А что прикажете делать мне? — Что хотите. Если вы считаете, что приказания королевы не лишают вас права присоединиться к нам, мы будем рады вашей компании. — Мне было приказано принять на себя командование этой экспедицией. — Аналогичные приказания получил и я, только раньше вас. Когда я решу повернуть назад, вы сможете стать главнокомандующим. Вероятно, повысившись в ранге, вы будете так добры, что доведете это до моего сведения. А теперь — вперед! Поднять все паруса! Благодарю вас. Скоро увидимся. Когда Фробишер отошел, Ралей отвернулся и почувствовал себя хуже, чем когда-либо раньше. Явно, что-то там было неладно, и, как всякий любящий человек, он мог думать только о том, что что-то неладное случилось с Лиз. Он не подумал, что она больна, потому что в таком случае королева никогда не позвала бы его. Ей доставило бы удовольствие сознание того, что пока где-то далеко он служит королеве, женщина, которую он обожает, болеет или даже умерла. Их тайна раскрыта — вот в чем была причина неожиданных передряг. И теперь, чтобы покрыть их преступление, не оставалось ничего другого, кроме как вернуться к ней с несметными богатствами. Так что «Роубак» продолжал следовать в авангарде флота, а кипящий от нетерпения Фробишер замыкал кильватер *["1013]. Четыре дня они плыли все вперед, пока ночью среди темного моря перед ними не вырос огромный мыс Финистерре. Два бесконечных дня они болтались в виду берега, но не появилось ни одного испанского паруса. Тогда Ралей послал за Фробишером. — У нас есть всего лишь еще один шанс, — сказал он, — разделим флот пополам, одна половина его останется здесь, а другая пойдет к Азорским островам — таким образом мы, может быть, столкнемся с испанцами. — Черт побери, я тоже так думаю. Если вы явитесь к королеве с пустыми руками, особенно после того, что ослушались ее приказа, вам несдобровать, сэр Уолтер. — Кому лучше знать это, чем мне? — сказал Ралей, и они продолжали обсуждать, какие корабли направить к Азорам, а каким лучше остаться здесь. Но все было напрасно. Корабли вернулись от Азорских островов ни с чем: они не повстречали там ничего более грозного, нежели рыбацкие суденышки. А к этому времени Ралей извел себя окончательно тревогой за Лиз и уже всей душой хотел вернуться. Он перенес свои книги, одежду и нелепого Будду на корабль Фробишера, проводил глазами мощную фигуру моряка, поднимавшегося в качестве командующего флотом на борт «Роубака», пожелал ему удачи и отплыл — все это холодно и спокойно, пробудив тем самым невольное восхищение Фробишера. Единственный раз, когда уже приказ идти к Грейвзенду был отдан, в нем родились сомнения. Его новый корабль, хотя и был меньше и не так приспособлен к морским плаваньям, как «Роубак», был достаточно надежным. Почему бы не стать пиратом? Почему бы ему не пойти на Запад и не провести годы — если понадобится, — соревнуясь с Дрейком в его прежних предприятиях? Зачем смиренно возвращаться туда, где его ждут неведомые неприятности, во много раз умноженные еще его неповиновением королевскому приказу. Нет, это не годилось. Где-то в Англии его ждала Лиз, ждала, чтобы он исполнил свое обещание никогда, если только это в его силах, не расставаться с ней. А Елизавета была способна излить всю свою злобу на беззащитную голову Лиз. От мыса Финистерре он плыл назад по фарватеру с пустыми руками и с тяжелым сердцем. Прибыв в Лондон, Ралей задержался только для того, чтобы помыться, переодеться и надушиться перед тем, как явиться пред ясны очи Елизаветы в Хэмптоне, куда она, вероятно, сбежала из-за теплой погоды. Прием был абсолютно формальным, что еще больше усилило его подавленность и не предвещало ничего хорошего. Он едва успел выразить свое уважение и доложить о провале своей миссии, как королева, которая просто не слушала его, обернулась к прислужнице и сказала: — Пригласите сюда сэра Артура Трогмортона. Брат Лиз явился из приемной, и, хотя у него в руке не было дубинки, вид у него был достаточно грозный. — Сэр Уолтер, — сурово произнесла королева, — этот человек клянется, что вы изнасиловали его сестру. Что, по прошествии столь долгого времени, вы имеете сказать? — Просто… — Только без вранья. У него есть свидетель. И хотя сама девица нема как могила, и так достаточно ясно, что хотя бы часть ее истории имеет под собой почву. Уж не хотела ли королева в этой экстремальной обстановке, пребывая в холодном бешенстве, которое пострашнее ее вспышек гнева, уберечь его от позора прослыть лжецом в глазах всех здесь собравшихся? — Просто я хотел сказать, что он лжет. Елизавета Трогмортон — моя жена. Все, кто мог наблюдать за королевой, видели, как отхлынула вся кровь с ее лица и румяна яркими пятнами обозначились на щеках, отчего ее подбородок, нос и лоб сделались белыми, как кость. Это было лицо женщины, получившей смертельный удар, хотя она и пыталась не выдать себя. — У вас есть доказательства? — сказала она наконец, и ее голое не дрогнул. Она не могла контролировать бледность своего лица, но королева долго и упорно тренировалась, чтобы голос всегда был послушен ей. — Сколько угодно, — ответил Ралей. Королева подозвала к себе одну из фрейлин — все они отошли на некоторое расстояние от нее, но не настолько далеко, чтобы не слышать происходящее. Никто не мог сказать наверняка, когда королеве взбредет вдруг в голову впасть в истерику и пинками отогнать от себя тех, кто окажется у нее под рукой. — Кузен сэра Уолтера ожидает внизу, приведите его сюда, и быстро! В зале все хранили молчание, пока в дверях не появился Джордж Кэрью в сопровождении взволнованной женщины. Все отчетливо слышали тяжелое дыхание королевы. У Елизаветы не было времени на Джорджа Кэрью, хотя в кои-то веки он понадобился ей. Она коротко приказала: — Отдаю в ваши руки этого человека. Возьмите двух стражников и препроводите его в Тауэр. Поместите и содержите его в Кирпичной башне, пока не поступит новых распоряжений; вы отвечаете за него своей головой. Ралей поклонился ей, повернулся, чтобы идти, но засомневался и снова повернулся к ней. — Умоляю, уделите мне частичку вашего милосердия, скажите, где она? — В таком же надежном убежище, но не в Тауэре, — произнесла королева и отвернулась от него. Первые июньские цветы украшали сады Хэмптона и берега реки. Среди полян стояли бело-розовые кусты боярышника, служившие убежищем для кукушек, которые, вовсю голося, носились в пространстве между зеленой землей и голубыми небесами, когда Ралей обратился лицом к Тауэру. Последние слова королевы означали, что Лиз находится под стражей. Ее заключили в тюрьму в таком месте, которое подобрала для нее ревнивая женщина как раз в то время, когда Лиз особенно нуждалась в свежем воздухе, в том, чтобы ее окружали друзья, чтобы рядом с ней находился ее муж. Он застонал про себя — такое вот испытание уготовила им их любовь. И он оказался так плохо подготовлен к этой катастрофе. Кэрью, который был главным смотрителем Тауэра, мог бы сказать ему, — потому что, конечно, знал это, — что с каждым своим шагом Ралей приближается если не к ней, то хотя бы к месту, где она находится. Но, как это частенько бывает, кузены недолюбливали друг друга, поэтому лучшего надзирателя для Лиз трудно было бы найти. Кэрью не захотел говорить ему ничего. И когда он проходил в ворота Тауэра, ничто не подсказало ему, что Лиз была заключена в одном из крыльев замка в Северном бастионе. Бастион был виден из окна той комнаты, куда его поместили, он загораживал ему вид наружу, и Ралей возненавидел его. Несомненно, и Лиз, глядя в свое узкое окно, видела Кирпичную башню и тоже ненавидела ее, но по другой причине. Уолтер пытался угадать, когда наступит час родов для Лиз. Он вернулся из изгнания в январе. У нее появилась уверенность — если бы она не была уверена, она не стала бы писать ему, — в начале апреля. Прошел май; сейчас начало июня. Освободится ли он через четыре или пять месяцев? Выйдет он из тюрьмы уже, естественно, не фаворитом, но зато свободным человеком, имеющим право и силы отыскать свою жену. Как долго еще продлится гнев Глорианы? Ралей очень быстро сообразил, что иного пути отсюда, кроме как по воле королевы, не будет. Кэрью хотя бы сказал ему о том, что распоряжения о заключении его в тюрьму не было; не было выдвинуто никаких обвинений против него, иначе его бы вызвали на допрос, где он смог бы оправдаться. Ничто, кроме недовольства королевы, не являлось причиной его заключения в это место, и ничто, кроме ее прощения, не сможет вернуть ему свободу. Кончился один из самых длинных дней его жизни. С каждым вечером время, которое солнечный свет оставался еще на стенах Северного бастиона, становилось короче; с каждым утром все позднее луч солнца забирался на его постель и пробуждал его ото сна. Кончился август, и пришел наконец день, когда, выглянув из окна, он впервые увидел затмившую его взор пелену утреннего осеннего тумана. Это потрясло его. Ралей убедил себя, что это ему показалось. Лето еще не прошло. Как первая ласточка не делает весны, так и первый туман не делает осени. Но Уолтер был потрясен: он уже достиг того возраста, когда первое слабое напоминание о приближающемся окончании года наводило на него тоску по прежним временам, будило воспоминания о том, как все они канули в забвение зимы. К тому же он был поэт, и поэтому все первое в природе — первый снег, первые розы, расцветшие на диких кустах вдоль дороги, первый осенний туман или первые зимние заморозки — все это всегда пробуждало в нем тревогу: голоса многих умерших, кто когда-то наблюдал и любил все это, теперь уже не звучали больше. За все время своего заключения он ни разу не написал Лиз и в письмах своих не упоминал ее имени. Любое напоминание о ней только подлило бы масла в огонь королевской ярости. К тому же Ралей не мог рассчитывать на то, что адресованное Лиз письмо дойдет до нее без перлюстрации. Эти его меры предосторожности говорили о том, что он еще не потерял надежды. Ралей написал немало слезных просьб, в которых в доступных ему выражениях немилосердно льстил королеве. Когда она как-то собралась в поездку по стране, он написал ей: «Никогда не был я так глубоко повержен, как сегодня, когда узнал, что королева отбывает в столь дальнее путешествие, королева, которую я сопровождал всюду на протяжении столь долгих лет со всей моей любовью и вожделением, а теперь брошенный во тьме тюремной камеры совсем один…» Что побудило ее оставить незамеченными слова «с любовью и вожделением», написанные человеком, которого она засадила в тюрьму за его любовь к другой, — тщеславие? Во всяком случае, ничто не говорило о том, что она прочитала их или вообще получила от него хоть какие-то послания. Наступил день, когда стало известно, что королева отправляется на своей галере в плавание по реке. Ралей бросился к своему кузену с мольбой позволить ему, хотя бы под маской, выйти на реку только для того, чтобы взглянуть на эту красоту, от которой он был оторван на такое долгое время. Кэрью возражал — он, мол, не смеет этого делать. Тогда Ралей в отчаянье и решимости выхватил свой кинжал и с его помощью пытался уговорить Джорджа выполнить его просьбу. Все это было глупо, и кому, как не Ралею, было знать это? Но в рапорте Кэрью все это выглядело довольно занятно, особенно его собственное добавление о том, что он боится, как бы его подопечный не сошел с ума, если королева будет по-прежнему гневаться на него. Однако Елизавета была в одинаковой мере нечувствительна как к лести, так и к драматическим жестам. Она вернула свою благосклонность Эссексу. Его преступление мало чем отличалось от преступления Ралея, но он был моложе. В этом было главное различие. Эссекс мог в порыве юношеской страсти наделать глупостей, оставаясь при этом в глубине души верным ей — как он сам и объяснял свой поступок. Ралею исполнилось сорок, он был достаточно взрослым человеком, чтобы устоять против ясных глаз и натуральных кудрей, если бы его чувства к ней были достаточно сильными. Его роман — который она могла бы еще простить — и его женитьба — которую простить она никак не могла — оскорбили ее до глубины души, потому что она никогда не испытывала в отношении него материнских чувств. Он был почти что сверстником ее и посмел пренебречь ею. Так что, когда она послала сказать Кэрью, чтобы он освободил пленника, не из какого-то чувства к нему она это сделала — хотя и с обидой, — а из чисто меркантильных соображений.ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ДАРТМУТ. СЕНТЯБРЬ 1592 ГОДА
С грузом павлинов и обезьян И слоновою костью, сандалом, Кедрами, сладостями и белым вином…На протяжении всего пути по обочинам дороги дрок пламенел своими листьями, и зеленый кустарник был украшен красными ягодами шиповника и боярышника. Ребятишки, погрузившиеся в заросли ежевики с руками и ртами, вымазанными пунцовым соком ягод, выглянули на дорогу при звуке топота копыт и уставились на двух проезжавших мимо них всадников. Один из всадников был чудесно одет, и его плащ цвета ежевикового сока развевался у него за спиной, обнаруживая при этом серебристо-серую подкладку. Он то и дело улыбался на скаку, и дети, которые видели его, восхищенные его пышным нарядом и веселостью, махали ему вслед своими грязными ручонками. Он махал им в ответ, и солнце играло на разноцветных украшениях его перчаток. Его спутник не улыбался и не махал рукой, он продолжал невозмутимо свой путь и хмуро смотрел на мир. Уже ранним утром в тот день, когда он зашел в Тауэр к Ралею, то с угрюмым видом произнес: — Королева приказала вам приготовиться к поездке в Дартмут со мной. У нее там есть дело для вас; но вы по-прежнему остаетесь арестантом и должны относиться ко мне как к вашему стражнику. — Как скажете, Блаунт, — с улыбкой ответил Ралей. — Какое же дело ждет меня? — Это мы вскоре узнаем. Лошади готовы. — И я сейчас буду готов, вот только переоденусь. Мне совсем не хотелось бы навлечь позор на своего стражника. Блаунт, одетый нарочито просто и заурядно, нахмурился и с нетерпением поглядывал, как Ралей надевает на себя свои самый нарядный камзол, накрахмаленные брыжи и свои лучшие, из русской кожи сапоги для верховой езды. Нетерпение Блаунта было напрасным: Ралей так рвался в путь, что у него руки дрожали, и не прошло и десяти минут, как он весело накинул себе на плечи свой пурпурно-серебряный плащ, что для наблюдателя сей процедуры представлялось прямым оскорблением в его адрес, и сказал: — Ну вот я и готов. И теперь он мчался в Дартмут на какое-то задание, для выполнения которого среди всех своих слуг королева не нашла никого лучше, чем он; и скакал по широкой дороге, вдыхая воздух свободы. Как же было не улыбаться и не махать рукой. Запах дыма делал воздух терпким и возбуждал кровь. Стайки птичек, собираясь в дальний перелет на юг, щебетали на крышах сараев и на стогах. Он улыбался и им. Они ведь были путешественницами, они были свободны. Ралей вдруг почувствовал жалость к птицам, посаженным в клетку. Их вид теперь уже никогда не оставит его равнодушным. День превратился постепенно в теплое золото, потом потускнел до виноградно-цикламеновых тонов сумерек, и в ближайшем городе они решили остановиться и подыскали гостиницу. Тут кто-то узнал это узкое лицо, на котором так сильно выделялась черная бородка на фоне все еще покрывавшей его тюремной бледности. А уж тогда, как ни старался Блаунт поддержать свой статус стражника, сделать это стало невозможно. В дверях и в окнах маленькой лавочки столпились люди, только бы взглянуть на знаменитого человека. Ралей с удовольствием переживал подаренный ему таким образом короткий миг былой популярности. Он был человеком, женившимся на своей возлюбленной вопреки воле самой королевы. Рослые горожане взирали на него с восхищением; краснолицые женщины заглядывали в окно, страстно желая увидеть его. Кто-то счел момент подходящим и помчался к дому мэра, чтобы сообщить ему, что выдающаяся личность остановилась вгостинице «Одинокий бык». Мэр в это время сидел дома в домашних тапочках с кружкой в руке. Он просипел пришедшему: «Тс-с!», — чтобы тот замолчал, потому что жена находилась в соседней комнате, а она всегда ввязывалась во все государственные дела. Выходя, он предупредил ее: — Я тут по делу выйду на минутку, любимая, -и поднялся на цыпочках наверх за своей цепью и шляпой. Он надел их уже на улице, завязал шнурки на ботинках, застегнул пуговицы у себя на камзоле и поспешил со своим осведомителем, буквально наступавшим ему на пятки, к гостинице «Одинокий бык». Хозяин рассыпался перед ним в приветствиях и указал на дверь комнаты, где сэр Ралей вкушал свой ужин. К негодованию Блаунта, Ралей приказал зажечь свечи и не запахивать занавески, чтобы все граждане Тенмора, кому это нравится, могли видеть, как питается великий человек. Те, кто находился поближе к окну, получили дополнительное удовольствие от лицезрения того, как мэр с его блистающей золотом цепью, в камзоле с неправильно застегнутыми пуговицами украдкой заглянул в дверь и затем с трудом протиснул в нее свой кругленький животик. Он торопливо поклонился несколько раз и сказал (к сожалению, граждане города не могли слышать этого): — Ваш покорный слуга, сэр Уолтер, ваш покорный слуга. Я мэр. Я пришел приветствовать вас, сэр Уолтер, примите наши горячие приветствия от всех граждан нашего древнего города. — Очень мило с вашей стороны, ваша милость, — ответил Ралей, с улыбкой разглядывая комичную фигуру мэра. — Очень мило. Не присядете ли, не выпьете ли с нами вина? Мой… друг и я, мы ужинаем. На столе для мэра не оказалось кубка, но прежде чем Ралей успел распорядиться, сам «его милость» подошел к двери и прокричал распоряжение. И когда оно было выполнено и вино разлили по бокалам, главный гражданин города Тенмора устроился у окна на виду у всех так, чтобы те, кто был ниже его по положению, могли наблюдать, как он свободно общается с великими мира сего. Тогда они, может быть, поймут, что их мэр не простой человек, а это, в свою очередь, подвигнет твердолобый городской совет провести в жизнь его решение о запрете мусорной свалки на Кук-стрит. Он потягивал свое винцо, привставая и расплываясь в улыбке при каждом взгляде Ралея на него. Сэр Уолтер, хотя и чувствовал усталость после славного, но тяжелого дня скачки на свежем деревенском воздухе, был доволен оказанным ему приемом в «Одиноком быке», восхищен ужином и всем на свете, а потому осыпал гостя любезностями, и маленький толстяк был вне себя от полученного удовольствия. — Когда бы мы знали, сэр Уолтер, когда бы мы только знали, мы оказали бы вам достойный прием и предложили бы мой небогатый, но гостеприимный дом к вашим услугам. А как обрадовалась бы моя жена, как бы она обрадовалась! — Я тоже бы обрадовался. О, если бы при этом присутствовали Эдмунд, или Уилл, или Лиз: любой из них, перехватив его взгляд, не мог бы не оценить его иронию. А если бы была королева… она не меньше других позабавилась бы. Тем временем толстячок, взбодренный выпитым вином, решился приступить к удовлетворению своего любопытства. — И что же, сэр Уолтер, если позволите, что привело вас в наши края? — Дела королевы, ваша милость. С первыми петухами я отправляюсь завтра утром в Дартмут. — Уж не связано ли ваше дело с кораблем «Матерь Божья»? — «Матерь Божья»? — озадаченно повторил за ним Ралей. — Большой корабль, прибывший в Дартмут две недели назад. Он так называется, правда, это по-английски. Виноват, но испанское название мне не по зубам. — «Мадре де Дьос?» — спросил наудачу Ралей. — Совершенно верно, сэр Уолтер, именно так. Большой корабль с непонятным грузом, с которым, по всей видимости, никто не знает толком, что делать. Думаю, за вами послали, чтобы расспросить вас о некоторых товарах, найденных на корабле, или для того, чтобы расплатиться с матросами. Они оказались в пиковом положении. Не побоюсь сказать вам, что сэр Роберт Сесил уже проехал той же дорогой, что и вы. Сам я его не видел, но слышал, что он останавливался в этой же гостинице, чтобы поменять лошадей, и отобрал у хозяина две серебряные вилки, которые тот купил у моряка двумя днями раньше. Как мне говорили, сэр Роберт объяснил, что эти вилки из того самого груза и что тот моряк не имел на них никакого права. Однако моряк свои деньги получил, а хозяин остался ни с чем. Вот все это и навело меня на мысль, что вы отправляетесь туда по тому же делу. Ралей взглянул на Блаунта: если тот в курсе этого, он должен как-то отреагировать на слова мэра. Информация толстячка не могла ничем повредить предприятию независимо от того, верна она или нет; все равно скоро станет известно, действительно ли в этом состоит его задача. Но Блаунт уткнулся носом в свой бокал с вином и оставался так же замкнут, как прежде. — Что ж, ваша милость, кому, как не вам, знать, что в государственных делах надо проявлять осмотрительность. — Будьте уверены, как не знать, — согласился с ним государственный человек. — Так что больше не будем касаться моего задания, если вы не возражаете. В полном убеждении, что он попал-таки в точку, «его милость» лукаво улыбнулся в знак полного взаимопонимания. Прошло совсем немного времени, но гость заметил, как Ралей подавил зевок, и, проявив невиданный такт, поднялся, чтобы попрощаться. — Это была восхитительная встреча, сэр Уолтер, просто восхитительная. И если вы надумаете возвращаться тем же путем, умоляю вас, будьте моим гостем. А пока, прошу вас, не оплачивайте свое проживание здесь, окажите честь городу Тенмору, позвольте ему расплатиться за вас. — Буду счастлив. Было очень мило с вашей стороны зайти к нам на огонек. Я, несомненно, дам вам знать в следующий раз, если буду проезжать через ваш город. Спокойной ночи. Маленький человечек выскочил из комнаты и отправился домой, придерживаясь самого высокого мнения о себе, которое почти нисколько не пострадало от вида неправильно застегнутых пуговиц на камзоле. Он запасся таким количеством материала для рассказов в кругу близких друзей, и детей, и внуков, которого должно было хватить еще на много лет. А Ралей в минуту хорошего расположения духа обрел неожиданно для себя сторонника, готового прошагать многие мили на своих толстеньких, коротеньких ножках, только бы услужить ему. Везде, где они впоследствии останавливались, события развивались примерно тем же порядком и сопровождались добрыми пожеланиями и любопытствующими вопросами, и вот наконец они прибыли в Дартмут, в гостиницу «Сокол». Они прискакали во двор «Сокола» в полдень, и как только прозвучал топот копыт по мостовой, полная женщина в широком белом переднике выбежала навстречу им. — Вы сэр Уолтер Ралей? — спросила она немного приглушенным от низкого поклона голосом. Ралей кивнул и спрыгнул с коня на совсем одеревеневшие ноги. От прежней веселости не осталось и следа. Но он оставался в хорошем настроении, хотя Блаунт надоел ему до смерти, а ноги были стерты в кровь седлом. — Там, в доме, вас дожидается сэр Джон Хоукинс, — сказала ему встретившая их женщина. — Неужели он? Прекрасно. Ведите меня к нему и приходите затем с бутылкой Канарского. — Вино-то уже там, сэр Уолтер. Сэр Джон позаботился об этом. Хоукинс начинал ощущать бремя своих шестидесяти семи лет, он с трудом выбрался из своего глубокого кресла и пошел по-моряцки враскачку навстречу Ралею, который устремился к нему с раскрытыми объятиями. Старик стиснул Уолтеру руку и похлопал его по спине. — Дьявольщина, как же здорово снова встретить тебя! Пойдем сядем и выпьем за твое освобождение. — Но, заметив в коридоре Блаунта, он добавил, понизив голос на столько, на сколько был способен, а это означало, что он слышен был даже в конце коридора: — Этот мрачный тип, он ведь Эссексов дружок? Что, он тоже должен войти в эту комнату? — Боюсь, что да. Видишь ли, в настоящее время он исполняет роль моего стражника. — К черту стражника, мне нужно поговорить с тобой, Уолтер. Хоукинс по возможности избегал пользоваться при обращении титулами. Только то обстоятельство, что его визиты к королеве были очень редкими и всегда официальными, мешало ему называть ее просто «Елизавета» или даже «Лэсс». Он обратился к Блаунту голосом, которым способен был перекричать любой шторм: — В конце коридора есть очень удобная комната, сэр, где вы можете спокойно устроиться и продолжать выполнять свои обязанности. У меня с Уолтером большой разговор. Ралей довольно улыбался, наблюдая, как Блаунт надменно отвернулся и проследовал в другой конец коридора. Поскольку на протяжении всего их путешествия Блаунт оставался нем как рыба, теперь он заслуженно был оставлен в одиночестве, в то время как Ралей выслушивал новости. Как только за ними закрылась дверь и бокалы наполнились вином, он сказал: — Теперь расскажи мне обо всем. Этот болван не сказал мне ничего о том, ради чего меня сюда послали, кроме того, что это дело королевы. — А как он мог? Он ведь друг Эссекса. Они теперь по глотку в грязи оттого, что я выручил тебя из Тауэра. — Ты? Хоукинс энергичным кивком с явным удовлетворением подтвердил новость. — Я тебе все понемногу выложу, — пообещал он, поднимая бокал. — Восьмого — я запомнил число, потому что это был день рождения королевы, — Фробишер вернулся из похода с «Мадре де Дьос» на буксире. Корабль шел из Малабара и имел на борту груз, лучше которого наши берега еще не видели. Корабль достался им нелегко. На нем было до восьми сотен человек, и сражение продолжалось шестнадцать часов кряду. Но ты знаешь, чего стоит старый бульдог Мартин: уж если он вцепился во что-то своими зубами, то не выпустит свою добычу никогда, так что в конце концов португальцы сдались. Но на этом схватка не закончилась. Фробишер и Берг, его заместитель, сцепились из-за сокровищ и спорили на протяжении всего пути назад, и когда команда высадилась на берег, они продолжали спорить. Большая часть товаров была выгружена прямо на пристань — атлас и слоновая кость, жемчуг и рубины, — тебе наверняка не приходилось видеть столько добра сразу, и тут матросы, которым ничего не заплатили за поход, позаботились о себе сами. Но к тому времени слухи о грузе достигли ушей королевы, а поскольку она дала на эту экспедицию и корабли и свои деньги… — Тут Хоукинс поднялся и заговорил совсем другим тоном: — Однако все это тебе и так известно, ты же был поставлен командовать флотом, не так ли, и командовал им, пока она не послала за тобой… Ну, она, конечно, ухватилась за свою долю — кто бы поступил иначе? Королева послала в Дартмут этого дурака Сесила сказать, чтобы ничего не трогали. Тогда же прибыл сюда и я. Я спустился в гавань просто посмотреть, что там творится, и, знаешь, увидел такое — около сотни тонн специй, валяющихся и рассыпанных прямо под солнцем, будто это грязь какая. Всех матросов и торгашей интересовали только драгоценности и серебро. А вокруг толпы людей громко доказывали свои права, и моряки орали, что им ничего не заплатили. Такого бедлама ты наверняка никогда не видел. И знаешь, я написал письмо; тебе известно, как я ненавижу писанину, но тут я постарался, чтобы не было ни одной ошибочки и мне не пришлось бы переписывать его заново; в нем я говорил, что в Англии есть один-единственный человек, который разбирается в цене всех этих специй, шелка и маленьких штучек, с таким искусством вырезанных из кости. Я написал что есть один-единственный человек, с чьим мнением будут считаться и моряки, и торговцы, и что этот человек — ты. — И он ткнул Ралея в грудь своим волосатым пальцем. — И вот теперь ты здесь, такие вот дела. — В таком случае я твой должник и вряд ли смогу расплатиться с тобой когда-либо, — торжественно заявил Ралей. — Погоди, не говори ничего, пока не увидишь всего того, что лежит в гавани. Этого добра хватит, чтобы расплатиться не с одним долгом, а я являюсь пайщиком в этом деле, — сказал хитрый старый пират. — Но не подумай, что я ради этого старался, — серьезно продолжал он, перехватив взгляд Ралея. — О, ни в коем случае. Ты никогда не угадаешь, что заставило меня приняться за то письмо. Он откинулся на спинку стула — посмотришь и скажешь — прекрасный человек сидит. Однако, подумал его собеседник, как же мало у этого человека друзей и как много врагов, и за ним числится репутация типа со скверным характером. — Ты имеешь в виду причину, не имевшую ничего общего с моей ролью в этом деле? — Ага, именно не имевшую ничего общего. Парень, да если бы я не любил тебя, из меня никакими клещами никогда не вытянули бы упоминания твоего имени. Я тебе скажу… — Он наклонился вперед, будто собирался доверить Ралею строжайшую тайну. — Ты, может быть, и не помнишь этого, но как-то, вернувшись из очередного плавания, я рассказал тебе, что слышал о дереве, на котором вместо листьев растут устрицы, и о стране, у обитателей которой головы растут прямо из груди, а не из плеч. И ты не стал смеяться надо мной. Эту же байку я рассказал другим людям — ты их не знаешь, — и они подняли меня на смех. А ты обещал мне, что расскажешь ее какому-то драматургу, своему другу, потому что это довольно интересно для одной из его пьес. А мне-то как хотелось, чтобы мои слова были напечатаны! Если бы у меня было время и хоть немного умения владеть пером, я сам написал бы целую книгу. — Да, по-моему, ты лучше всех во всей Европе владеешь пером, — вполне серьезно заметил Ралей. И он представил себе, что это была бы за книга — полная невероятных приключений, и кровавых событий, и отчаянных подвигов. Превосходное чтение. На окно упала тень прохожего, и Хоукинс презрительно фыркнул. — Вот и этот окаянный крючкотвор Сесил. Устраивай свои дела сам, Уолтер, не принимай его во внимание. Сэр Роберт Сесил открыл дверь, и Ралей поднялся, чтобы поздороваться с ним. Хоукинс оставался сидеть и благодарил Бога, что он моряк, а не какой-то там государственный деятель и ему не надо притворяться вежливым, коли он не чувствует в этом никакой надобности, и он не имел ничего против того, чтобы Сесил догадался, как он не любит и презирает его. Ралей и Сесил не виделись с того самого дня, как королева обнаружила тайну отношений между Уолтером и Лиз. Когда только-только разразилась во дворце гроза после того, как Трогмортон обвинил Ралея в изнасиловании сестры, Сесил все это слышал и присоединился к общим выражениям протеста против фаворита, назвав его поведение «скотским». Это слово не раз повторяли в адрес Ралея, и оно глубоко ранило его. Он-то думал, что в любом, самом тяжелом случае Сесил останется его другом — если не из любви к нему, то хотя бы из ненависти к Эссексу. Сесил писал ему в Тауэр, уверяя, что его чувства к нему остались неизменными, что слово это относилось к насилию, а не к женитьбе, о которой он в то время не знал. Ралей принял его извинения, написал, что понимает его, но теперь пристально рассматривал сына лорда Беркли. Он припомнил, как Лиз предупреждала его как-то: «Беркли ничего не стоило сказать своему сыну: „Бойся быть как Ралей"“, и ему страстно хотелось прочитать мысли, скрывавшиеся в этой длинной, похожей на лисью голове, за взором этих глаз, один из которых был гораздо меньше другого. Но приветствие Сесила было таким радушным, что лучшего и желать нельзя было. — Как же я рад видеть вас, сэр Уолтер, — начал он, — рад за вас и за себя. Решить эту проблему абсолютно не в моих силах. Там есть такие товары, само наименование которых неизвестно мне. Надписи на сундуках все сделаны на португальском языке, что только добавляет трудностей. Это дело под силу разве что Геркулесу, самому Геркулесу. Хоукинс посмотрел на Ралея, улыбнулся и поднял мохнатые брови, как бы говоря: «Дурак ненормальный». Но хотя Ралей улыбнулся ему в ответ, в душе он не был согласен с мнением Хоукинса. Если судить поверхностно, сына лорда-канцлера можно было принять за «ненормального» и нерасторопного, нервничающего из-за возложенной на него ответственности, но он был умен и хитер — иначе и быть не могло: в нем текла кровь Беркли. Следом за Сесилом в комнату вошел сэр Джон Гилберт, депутат от Девона, и превзошел всех в экспрессивности своего приветствия. Он вошел и застыл на месте, будто язык проглотил, хотя все видели, как под его плохо накрахмаленными брыжами ходит кадык. Гилберт протянул обе руки к своему родственнику и затем повис на его плечах, не стыдясь катившихся из глаз слез. Ралей хлопал его по плечу и целовал в щеку. Немного оправившись от охвативших его чувств, Гилберт сказал: — В странное время мы живем — человека сажают в тюрьму только за то, что он женился на своей молодке. Это же хуже инквизиции! — Шш! — шепотом — как ему казалось — произнес Хоукинс. — В этой комнате присутствуют длинные уши и не менее длинный язык в придачу к ним. Нам бы не хотелось, чтобы вы угодили в Тауэр. — Отправимся-ка лучше в гавань, — поспешил заявить Сесил, который прекрасно слышал каждое сказанное Хоукинсом слово. «Неотесанный негодяй, — думал про себя Сесил, — мы сейчас от него избавимся, он не член Комиссии и не имеет права вмешиваться». Но Хоукинс не отставал от них, пока они шли по коридору, и он единственный из всех вспомнил о Блаунте, оставленном в комнате в другом конце коридора. — Пошли с нами, если не хотите оставить без присмотра своего арестанта, — прокричал он, открывая дверь, — мы отправляемся в гавань. Поскольку никто не решился предложить сэру Джону, чтобы он отстал от них, старый адмирал сопровождал их всю дорогу, и по его осанке вполне можно было предположить, что именно он возглавляет Комиссию. Пристань маленького приморского городка была усыпана всеми теми сокровищами, которые когда-то Ирод предложил Саломее *["1014]. Из сандаловых сундуков высовывалось их содержимое, и в смеси с этой красотой в воздухе витал аромат великого множества разных специй. Некоторые сундуки были варварски вскрыты, и товары из них разбросаны на камнях. Тут были все сокровища Востока. Сказочные богатства, которые увлекли корабли Колумба в плавание на запад. Драгоценности, из-за которых в разные времена во всем мире были совершены все преступления, значащиеся в каталоге сатаны. — Чувствуете аромат специй? — спросил Хоукинс. — Их-то безмозглые свиньи и бросили портиться на открытом воздухе, на солнце. Там есть такие ковры, которые станут наследственными святынями и переживут всех нас, а их даже от дождей не укрыли. Все пятеро прошли через ограждения, установленные по приказанию Сесила, и принялись рассматривать награбленное добро. Среди прочего тут были драгоценные камни, которые несчастные рабы под свист кнута добывали в тайных месторождениях; вышивки, над которыми женщины гнули спины, пока не становились слепыми; ковры, сплетенные руками детей, которые представления не имели, что такое игры, и чьи тела никогда не разовьются как следует из-за согнутого положения, которого от них требовал их труд. Была там и слоновая кость, ради которой люди охотились на слонов и валили их, осыпая сотнями стрел, каждая из которых таила на кончике своем медленную смерть; и мускатный орех, который доставляли из рощ континента на побережье моря на жестких спинах терпеливых осликов. Ралей осмотрел все. Он один из всей этой маленькой компании мог прочесть трагические истории, связанные с добытыми сокровищами, понять, сколько пота, и крови, и боли, и риска для жизни содержалось в процессе обретения всех этих богатств. Но ему было не до этого, его поджимало время. Сейчас они были для него всего лишь ценой благосклонности ее величества, залогом нового расцвета. Он взял в руку несколько жемчужин, добытых каким-нибудь черным искателем жемчуга из морских глубин, кишащих акулами. Он вспомнил, как Дрейк рассказывал ему однажды о том, что искатели жемчуга, проработав три года, умирают, выхаркивая куски своих зря растраченных легких. Но перед его глазами не появились темнолицые призраки, он взирал на сверкающие шарики, которые скоро заблестят на шее, и на пальцах, и в ушах королевы, для которой он тут же их и отобрал. Торговцы, которые при первом же известии о прибывшем в Дартмут грузе явились сюда, примчались, на пристань, чтобы предложить свои цены после долгого, нетерпеливого ожидания отмены эмбарго Сесила. Им Ралей продал самые обычные, хорошо известные изделия. На аукционе по продаже перца в тот же день он выручил сто тысяч фунтов. Затем он расплатился с моряками. Они подходили по очереди, один за другим со своими загорелыми, жесткими лицами и странной татуировкой на руках и груди, чтобы получить причитавшиеся им деньги. Ралей целый день простоял у входа в заграждение со списками экипажей кораблей, выкрикивал имена матросов, выплачивал им положенные суммы и вычеркивал из списков имена тех, кто получил деньги. Затем он составил скрупулезный список оставшегося добра: хрусталя, фарфора и ладана, гобеленов, янтаря, атласа, корицы; жемчуга и серой амбры; ковров, слоновой кости, гвоздики и изделий из сандала. На третью ночь Ралей вернулся в гостиницу «Сокол» с этим и еще одним реестром, в котором перечислялись имена пайщиков и доля каждого из них, закрылся в своей комнате от всех посетителей -даже от Хоукинса — и сел за подсчеты весьма интересовавшей его суммы. К вечеру стало прохладно, в камине тихо потрескивали дрова, добавляя освещения к горящим свечам. Ралей разложил перед собой оба списка, разжег свою длинную трубку и, опершись подбородком на руку, задумался. Доля королевы насчитывала примерно двадцать тысяч фунтов. Немалая сумма, но в восторг ее не приведет: хотя эти деньги и представляли большой интерес, но их в таком случае было как раз столько, сколько ей полагалось, ни на цент больше. Он должен как-то извернуться и повысить ее пай, но под пристальным наблюдением Комиссии за каждым его действием сделать это было нелегко. Он обозвал про себя Фробишера круглым дураком. Если бы тот в свое время установил контроль над тем, что так славно захватил, не понадобилось бы никакой Комиссии… Но нет, Бог мой! Тогда бы и Ралей тут не понадобился, он по-прежнему оставался бы в Тауэре! При этой мысли капли пота выступили у него на лбу, и Ралей поспешил вместо проклятия вознести благословение на тупую, упрямую башку Фробишера. Он выбил свою трубку и озадаченно уткнулся носом в бумаги. Часть доходов причиталась и ему самому за его «Роубака», но если он пожертвует свой пай королеве, то тем самым нарушит свои собственные планы на будущее. Можно, конечно, отдать ей половину… Потом еще Хоукинс: он включил в состав флотилии свой «Стэллион» и таким образом получил право на тридцать шесть тысяч фунтов. Но урезать его долю нельзя, отчасти потому, что он точно знает сумму своего пая, но главное потому, что Хоукинс оставался его другом и именно он порекомендовал на роль поверенного по разделению добытого добра его, Ралея, и вдруг ограбить его… но… Хоукинс… В его ушах вдруг явственно, как три дня назад, прозвучал рокочущий бас Хоукинса: «Ты — единственный человек в Англии, кто знает истинную цену специй, шелка и вырезанных из слоновой кости красивых штучек». Боже милостивый! Вот оно, счастье! Он снова заправил табаком трубку и принялся обрабатывать первый список. Фарфор, атлас, шелк, серую амбру и ладан он оценил значительно ниже, чем они стоили в действительности. Более ходким товарам, таким, как слоновая кость и ковры, драгоценности, гвоздика и мускатный орех, он назначил их подлинные цены. Затем он распределил добро между всеми пайщиками. Когда он закончил подсчеты, согласно бумаге королеве причитались ее двадцать тысяч фунтов, но настоящая цена доли королевы, как с радостью констатировал Ралей, теперь составляла восемьдесят тысяч фунтов, то есть в четыре раза больше причитавшегося ей пая. Плутовская, кривая улыбка на губах Ралея сделала его лицо похожим на лисью мордочку Сесила. Он налил себе вина и выпил бокал за свой острый ум. Затем он подвинул к себе чистый лист бумаги и написал наверху: «Дартмут, двадцать восьмое сентября 1592 года» — и приступил к письму королеве. В нем он рассказал о своих трудах последних нескольких дней. Он открыл ей настоящую цену выделенных ей товаров и подробно, со всей точностью доложил о том, как он это организовал: если бы он позволил ей думать, что кто-то другой помог ей получить так много, все его усилия пропали бы даром. И в заключение он написал: »…ни один человек до сих пор не добывал для ее величества такое огромное богатство. Если Господь Бог доставит его в качестве выкупа за меня, смею надеяться, что ее величество с ее безграничным великодушием примет его. Если ее величество не вычеркнула меня окончательно из своего сердца, я еще, уповая на ее добрый нрав, льщу себя надеждой, что искренно привязанный к ней человек не будет отторгнут ею…» На следующий день остальные члены Комиссии подписали список паев, и Джон Хоукинс укатил восвояси со своими тридцатью шестью тысячами фунтов, благословляя сэра Уолтера и счастливую мысль, которая пришла ему, старику, в голову в тот сентябрьский день. — Если когда-нибудь доктора пропишут мне пиявки, я пошлю за вами, Блаунт, — послал он прощальный привет Блаунту, который ни на шаг все это время не отпускал от себя Ралея. Его слова заставили Ралея задуматься, что он должен делать теперь, когда его труд окончен. Должен ли он вернуться в Тауэр? Или рискнуть и отправиться в Шерборн? Королева уже получила его письмо и должна, должна была сменить гнев на милость. Однако если он вернется с Блаунтом в Тауэр, он там и останется, забытый и всеми покинутый. Уж лучше рискнуть. В тот день, когда все было готово к их отъезду, за завтраком он спросил Блаунта: — Так, а теперь что вы намерены делать со мной? — Я взял вас из Тауэра, и теперь мой долг вернуть вас в Тауэр. Ралей рассмеялся. — Вам придется позвать кого-нибудь себе в помощь, потому что мой труп будет достаточно тяжелым. Я уезжаю в Шерборн. — А мне здорово достанется за то, что я отпустил вас, — с горечью заметил Блаунт. — Совсем не обязательно. Поедемте со мной в Шерборн. Предлагаю вам все гостеприимство моего бедного дома. А как обрадуется моя жена, как обрадуется! Блаунт не улыбнулся в ответ на передразнивание Ралеем толстенького мэра Тенмора. Он был сыт по горло насмешками сэра Уолтера и его обществом. Расстались они во дворе гостиницы «Сокол». — Вы присматривали за мной восхитительно. Благодарю вас. Прощайте! — прокричал Ралей, садясь на коня. Блаунт проворчал что-то и тоже сел на лошадь, чтобы скорее вернуться в Лондон и как можно злобнее доложить о своей миссии королеве. А Эссексу сказать, что Ралей гораздо опаснее, чем они считали его: у него есть такой подход к простому люду, о котором его враги могут только сожалеть. Ралей поскакал в Шерборн. Его сильно разочаровало молчание королевы, зато он был в восторге от собственного издевательства над облеченным властью Блаунтом, что весьма облегчило его подверженную переменам душу, и он запел на скаку. Насмешливое упоминание о своей жене пробудило в нем былое влечение к ней. Скоро они будут вместе: восемьдесят тысяч фунтов — неплохой выкуп за двоих. Осень шагала уже по всей стране. Из-под копыт его коня вздымались тучи сухих листьев; на фоне бледного неба желтыми всполохами горели клены. В окрестностях Шерборна буки приветствовали его красными кострами своей листвы, и он окончательно воспрянул духом. Притомившийся конь рысью одолел подъездную дорожку к дому и даже марш белых ступенек у самой двери. И когда он остановился, свершилось чудо. Дверь распахнулась, и Лиз отяжелевшей походкой, торопливо, но, соблюдая осторожность, спустилась с лестницы и кинулась в его объятия. Уолтер какое-то время крепко прижимал ее к своей груди, потом обхватил голову жены руками и внимательно заглянул ей в лицо. — Каким чудом ты оказалась здесь? — Меня выслали. О, Уолтер, какое счастье снова видеть тебя! — Правда? А кто же выслал тебя? — Уже четыре месяца прошло с тех пор, как я последний раз видела тебя. Да королева же. Появилось сообщение или что-то там еще, что ты скоро должен быть здесь. Но я точно не знаю, что это было. О, Уолтер, мы вместе! Мы свободны! — Мы вместе, и мы свободны, — повторил он с отсутствующим видом. Королева, получив его письмо, освободила Лиз. Это, конечно, прекрасно, но (он глубокомысленно погладил свою бородку), что же получается — его свобода, свобода Лиз и Шерборн — это единственное его вознаграждение? Это было бы так похоже на королеву. Уолтер словно услышал голос Елизаветы Тюдор: «Ты хотел эту женщину — получи ее, и живи с ней, и не появляйся мне на глаза». Ралей почувствовал на себе взгляд Лиз. Он выбросил из головы мысли, которые по сути своей были противны ей. — Я просто ошеломлен, — сказал он в оправдание минутной рассеянности. И вдруг в порыве дикой радости он схватил ее на руки, взбежал с нею по ступенькам и переступил порог дома. — Я должен был быть здесь несколько дней назад, — сказал он. И Лиз, смеясь и протестуя, что, мол, их двоих нести ему слишком тяжело, забыла о промелькнувшей по его лицу тени и про свое кратковременное подозрение из-за того, что встреча оказалась не такой радостной, как она того ожидала.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ШЕРБОРН. 1594-1595 ГОДЫ
I
Лиз, сбегая по лестнице вниз и стараясь уравновесить свою тоненькую фигуру с весом сидевшего на руках малыша, увидела загорелого незнакомца, уже допущенного в дом, и остановилась как вкопанная. По его одежде, походке и голосу она сразу поняла, что это был моряк, а у моряка в этом доме могло быть только одно дело. — Бежим, бежим дальше! — кричал малыш Уолтер, которому понравилось спускаться таким манером по лестнице. Но мать только приказала ему: — Успокойся, — и больше не обращала на него внимания. Дальше Лиз спускалась уже медленно и как бы в раздумье. Она посадила мальчика на сундук в холле и сказала: — Если посидишь здесь тихо, пока я не вернусь, мы еще поиграем с тобой. И чтобы никакого шума, иначе тут же отправишься в кровать. Уолтера, который уже привык к ее непреклонному тону, ничуть не испугало ее предупреждение, он взглянул на нее широко открытыми глазами и сказал: — Уолтер сидеть. Лиз прошла через главный вход и резко повернула налево, к террасе. Она не слышала барабанной дроби, которую освоил Уолтер, принявшись стучать своими маленькими красными ботиночками по стенке пустого сундука. На террасу, в самом ее конце, выходило окно кабинета Ралея. Вдоль окна поднимался розовый куст, без цветов, с листвой бронзового цвета в это время года, и, скрываясь в его тени, она могла заглянуть в комнату без риска быть замеченной. Частенько в дни прошедших весны и лета она стояла там, наблюдая, как ее муж, склоняясь над столом, читает книгу, или рассматривает карту, или поглощен сочинением очередного письма Елизавете или Сесилу. Имя моряка, которого она пока еще не знала, было Уиддон; он сел в кресло с высокой спинкой у края стола. Напротив него сидел ее муж на стуле, который сильно наклонился вперед, когда он потянулся за бумагами, протянутыми ему гостем. Она не слышала ни слова из их беседы сквозь закрытое окно, но видела, как Уиддон ткнул своим темным пальцем в какое-то определенное место на карте. Ралей вскочил со стула и направился к полке за книжкой. Быстро перелистав ее, Ралей вернулся к Уиддону и положил книгу перед ним, при этом он оперся одной рукой на спинку кресла, где сидел моряк. Две головы, одна квадратная и рыжая, а другая узкая и черная, склонились над страницей, и Лиз почувствовала, что ей становится нехорошо. Что-то задумывалось в этой ярко освещенной солнцем комнате, что-то, в чем ей отказано было участвовать. Сейчас Уиддон был всем для Ралея, она же — ничем. Лиз протянула руку, и свесившаяся в сторону ветка розового куста коснулась кисти и поцарапала ее. Она приложила царапину ко рту и удивилась, почувствовав, как холодна ее рука. Тут она сообразила, что стоит на ноябрьской стуже без плаща и шляпы уже четверть часа, и вспомнила о маленьком Уолтере, оставленном и холле. Да и все равно — делать здесь было нечего. Лиз повернулась и направилась легкой, мягкой походкой к ожидавшему ее сыну. Все время, пока она одевала его и натягивала на себя плащ и перчатки, он не переставал болтать, на что она в ответ время от времени говорила ему «Да» или «Нет», не слыша, а потому и не отвечая на его вопросы. Сегодня наступил кризис, которого она ждала и боялась весь прошедший год. Она видела, как нарастает недовольство и тревога в душе Уолтера; но еще надеялась, что Шербон повлияет на него так же, как он повлиял на нее. Казалось, он заинтересовался экспериментами с картофелем и табаком, был доволен, когда опыты с картофелем удавались, и расстраивался, когда табак оказывался не таким сладким, каким он вырастал под горячим солнцем Виргинии. Ралей разводил лошадей и соколов и хорошо справлялся с делами в своих поместьях. Стремительно вышагивая по парку, Лиз думала: такая жизнь удовлетворила бы любого мужчину. Даже тот, кто с юных лет был поражен микробом честолюбия, мог бы прекрасно устроиться здесь в свои сорок три года и, оглядываясь назад, вспоминая мечты своей юности, считать их не более как глупым мальчишеством. Комфорт и достойная жизнь в доме, авторитет, интересные занятия и упражнения вне его стен -что еще надо человеку? Но она понимала, что обращается с проповедью к вероотступнику; ей было хорошо в Шерборне, Уолтеру — нет. Она видела, как при любом упоминании королевы или Эссекса он отодвигал от себя блюда нетронутыми. Много долгих ночных часов провела она рядом с ним, притворяясь спящей, когда он ворочался с боку на бок и и оттого, что Уолтер пытался. скрыть от нее свои страдания, они были не менее тяжкими. И вот появился этот моряк с его указующим перстом и морскими картами, он явно подстрекал Уолтера на что-то. В этом она была уверена. Лиз яростно вонзила свои каблучки в мягкий дерн и раздраженно велела маленькому Уолтеру, отбежавшему немного в сторону, немедленно вернуться к ней и идти рядом. Он покорно подошел к матери с ручонками, полными буковых орешков, и с удивлением посмотрел ей в лицо. Она всегда была строга с ним, но редко сердилась на него по-настоящему, а мальчик отлично сознавал, что в это утро он не озорничал. Они встретились глазами, и в неожиданном порыве чувств Лиз подняла его на руки. От теплоты его маленького тела, прижавшегося к плечу, и от чудесного ребячьего запаха ее затопило чувство нежности, от чего она еще острее ощутила досаду на те обстоятельства, которые сделали ее только что такой злой и несправедливой. Лиз прищурилась и немного оттопырила нижнюю губу. Какие бы тайные планы не вынашивал там сейчас ее Уолтер, она постарается помешать их осуществлению. Раз он может писать Сесилу, то и ей это не заказано. Оставалось только по возможности выяснить, что именно он задумал. Малыш Уолтер устал от крепкого объятия и молчания матери и стал вырываться из ее рук. Она пересадила его себе на плечи и поскакала, изображая норовистую лошадь, и галопом влетела с ним в дом. Уиддон оставался у них всю ночь и весь следующий день, но все, что удалось узнать об их деле хозяйке, это услышать случайно оброненное слово «Гвиана». Но когда Ралей провожал его к дверям, она тоже оказалась там с самым невинным видом и с улыбкой на губах и услышала, как ее муж при прощании сказал: — Я обращусь за патентом немедленно, и, будьте спокойны, я его получу. Сесил еще не забыл Дартмут… После ухода Уиддона Ралей с полчаса повозился с малышом, резво подпрыгивая с сидящим на нем верхом ребенком по пледу из медвежьей шкуры, и в это мгновение никак нельзя было сказать о нем, что он собирается доставить своей жене совершенно не заслуженные ею тревоги. Но вот он поднялся. Стряхнул пыль со своих штанов и пригладил растрепавшиеся волосы. — Пойду напишу несколько писем, — сказал он. — Не ждите меня. Он, как и подобает доброму мужу, поцеловал Лиз, потрепал по головке сына и отправился в свой кабинет. Лиз тут же передала сына няне и поспешила в свою комнату. Не так уж много в своей жизни писала она писем, и несколько минут ушло у нее на то, чтобы приготовить все к этому процессу, но скоро все было готово, зажжены добавочные свечи, она села и принялась за письмо к Сесилу. Ее и его отцы были большими друзьями, ее брат Артур был его закадычным другом, и она и подумать не могла, что ее письмо останется втуне. Своим неразборчивым, готическим почерком она строчила строку за строкой: «…Если уважение ко мне или любовь к нему не забыты вами, покорнейше умоляю вас — не подталкивайте его на это предприятие, а скорее остановите его…» И дальше все в том же духе — мольбы, напоминания, уговоры… и в конце: «…чем вы обяжете меня навеки». А этажом ниже в другой части дома, в кабинете, свет из которого падал на пол террасы — Лиз, отодвинув занавеску, видела его отблеск, — Ралей обращался к тому же человеку с просьбой использовать свое положение и повлиять на королеву ради него И он тоже умолял, напоминал, уговаривал. А Сесил, глубоко погрузившись в собственные двуличные планы, читал оба письма и думал про себя, как некий израильский царь: «Что я, Бог?»II
Патент пришел в январе, как и предполагал Ралей. Королева уже не могла устоять против его назойливости. Новое слово «Гвиана» захватило ее воображение. Он выбросил из головы Виргинию: теперь уже поздно думать о ней, и он, и Елизавета слишком стары, чтобы связывать свои надежды с рискованным делом в стране, которая должна развиваться и расти долго, как растет ребенок. И королева не так уж сильно любит своего наследника, кто бы им ни оказался, чтобы тратить время и деньги на приумножение его наследства. Новейшим девизом Ралея стало — золото. В своих письмах к Елизавете и Сесилу он не уставал повторять обещания, содержавшиеся в этих странных, древних морских картах, которые увлекали людей на погибель: «Здесь много золота». Он был достаточно умен, чтобы понимать, что сердце последней из Тюдоров недоступно чувствам и убеждениям, глухо к поэзии и мольбе, тем более один из них должен был постоянно подогревать его, а другой без конца, как попугай, твердить о золоте. И в конце концов Ралей оказался прав. Наконец-то он держал в своих руках бесценный документ. Он давал ему право проникать на территорию Ориноко, исследовать ее и населять земли, еще не попавшие во владение христианских монархов. Патент был адресован «Нашему слуге, Уолтеру Ралею». Намеренно пропущенные общепринятые в подобных документах слова «верный» или «возлюбленный» дали ему понять, что он остается никем для королевы. Тяжелым ударом по его гордости было это новое оскорбление — его и так задело за живое долгое, нетерпеливое ожидание этого решения. Теперь нельзя было терять ни минуты. Нужно сейчас же довести это до сведения Лиз. С патентом в руках он отправился на ее поиски. Лиз сидела в гостиной, придвинув поближе к разогретому камину свой станок с пяльцами, и занималась вышивкой. За окном медленно угасал короткий зимний день, бросая красные блики заката на темно-серые стволы буков. Огонь очага окрашивал одну сторону ее светлой головы в медный цвет, а на ее янтарного цвета бархатном платье плясали теплые отблески пламени. На ее вышивке павлин ярко-зеленого и синего цвета разгуливал по лугу, усыпанному маргаритками. Это был уже четвертый экземпляр, все они предназначались для кресел в столовой. Лиз подняла глаза на вошедшего мужа и сразу поняла — по пергаменту в его руке и по выражению лица, — с чем он пришел к ней. Но она постаралась не выдать себя. Взглянув, на него, она тут же снова опустила глаза на свою работу и продолжала трудиться. Сердце бешено стучало у нее в горле, пальцы дрожали, но она казалась совершенно спокойной. Минуту-другую Ралей потоптался возле ее пялец, подергал за нитки на изнаночной стороне вышивки. Потом подошел к огню и пошевелил его ногой. Одно полено сдвинулось. Он поправил его, не спуская с Лиз глаз. Но, хотя треск огня в камине заставил ее встрепенуться, она не повернула к нему головы. Туда-сюда, туда-сюда сновала иголка. — Лиз, — не выдержал наконец Ралей. — А, — откликнулась она и еще ниже склонилась над последним стежком. — Я только что получил патент королевы на поход в Гвиану. — Гвиану? — Ты, должно быть, слышала. Я говорил о ней. Это в Южной Америке. Говорят, там-то и есть Эльдорадо. — И ты этому веришь? — Конечно. И королева верит. А иначе она не стала бы посылать меня туда. — Можно посмотреть? — Разумеется. Уолтер со скрипом развернул пергамент и протянул его жене. Она, аккуратно приколов иголку к материи, оставила свой станок и с пергаментом в руке пересела на низенький стул поближе к огню. Довольно долго Лиз сохраняла молчание и сидела, повернувшись к огню так, что ему не видно было ее лицо. Затем она вернула ему манускрипт. — Смертный приговор в вежливых выражениях, — сказала она безразличным тоном. — Милая, ты преувеличиваешь. — Ты так считаешь? Лиз обернулась к нему и подняла на него свои синие глаза. В них не было ни страха, ни удивления, ни гнева, в них было такое, чего он никогда раньше не видел — что-то вроде насмешливой жалости, порожденной какой-то особой ее мудростью. — Преувеличиваю? А что случилось с Орелиано? С Диего Ордасом? С Педро д'Ошиа и Агири? Я назвала только четверых, судьбы которых мы знаем. А сколько еще таких, чьи имена не попали ни в какие списки, но кто отправился в эти дальние страны и умер там от лихорадки, от ран или в результате вероломства? Валаам не был так удивлен, когда его ослица повернулась к нему и заговорила человеческим голосом, как удивился Ралей, услышав эти давно известные ему имена из уст Лиз. — Что ты знаешь о них? — То же, что и ты. Все, что можно вычитать из твоих книг. Ралей как ошпаренный выскочил из своего кресла. Разговор принимал совершенно неожиданный оборот. Он-то думал, что Лиз зальется слезами, что он обнимет и успокоит ее. Но к этим спокойным, бесчувственным доводам он не был готов. Ралей нервозно заходил по комнате, бросая отрывистые фразы, будто разговаривал с посторонним мужчиной. — Допустим — они умерли. Дорога к успеху всякого рискованного предприятия вымощена смертями. Магеллан отправился в кругосветное путешествие и был убит. Это отпугнуло Дрейка? Стоит одному человеку задуматься о несчастной судьбе других людей и остановиться, как другой человек отставит тарелку, не дотронувшись до еды, от одной только мысли о том, сколько людей до негобыло отравлено за столом. Каждый день люди умирают от простых царапин: гвоздь в ноге, вредные испарения — все может стать причиной смерти. Смерть тех, кого ты сейчас назвала, не была по меньшей мере бессмысленной. Это была смерть во имя подвига. — Но для чего все это, скажи мне, Уолтер? Можешь ты объяснить мне? Ралей постоял некоторое время в задумчивости, прежде чем ответить. — Это зов, — сказал он наконец, — и только те, кто слышат его, могут это понять. В Англии тысячи людей, которые могут жить так, как я жил до сих пор. Зачем это нужно? Рот, который легко заткнуть жратвой, две ноги, чтобы обхватить ими бока лошади. Жизнь требует от человека большего. Здесь, окруженный комфортом и надежной охраной, я похож на собаку, которая поплелась за прохожим, предложившим ей косточку. Хозяин свистнет, и она, хотя и знает, что получит не косточку, а пинок в бок, покорно возвращается к его ноге. — Так что же, наша жизнь здесь, наш дом, наш ребенок — все это не более, нежели косточка случайного прохожего для тебя? Ралей сообразил, что разговаривает с женщиной, принимающей, как и любая другая на ее месте, каждое его слово близко к сердцу. — О, Лиз, — сказал он, — это было неудачное сравнение. С женщинами вообще невозможно говорить. Они все понимают так буквально. И еще не родилась такая женщина, которая способна была бы поверить, что мужчина может любить ее и тем не менее покидать ее, или хотя бы понять, что наступит конец света, если при столкновении любви и дела дело не сможет побеждать хоть иногда, хоть изредка. — Будучи всего лишь женщиной, я припоминаю, как однажды любовь встала на пути карьеры — а именно это ты подразумеваешь под словом «дело» -и любовь, юная и сильная, победила на какое-то время. Теперь пришла очередь карьеры. Когда-нибудь, когда ты станешь стариком — если ты станешь им, — ты поймешь, что карьера — это сплошная фальшь. И будешь рад, что любовь победила ее. — Я люблю тебя, Лиз. И всегда буду любить тебя. Но есть вещи сильнее меня. И теперь, когда королева с таким презрением и так холодно отнеслась ко мне, я поеду в Гвиану, хотя бы самая страшная из всех смертей грозила мне. — Знаю. Ради того лишь, чтобы хорошо выглядеть в ее глазах, ты готов сделать вдовой меня, а сына — сиротой. Ни к чему мне спорить с тобой, Уолтер. Смиримся с тем, что есть. Она немного помолчала. Если бы обычная, хорошенькая женщина грозила занять ее место в его жизни! С женщиной можно бороться женским же оружием. Но против этого коварного врага в лице его неуемного честолюбия и стремления снова завоевать положение любимца королевы у нее не было средств. Золотые волосы, нежная кожа, гибкое тело — все это ничего не значило в данной ситуации. Когда она заговорила снова, ее тон изменился. С неподдельным интересом она спросила его: — Что в ней такого, что делает ее мнение таким весомым? Для любви — слишком стара, для идеала — слишком фальшива и тщеславна, и тем не менее ей все должны поклоняться и льстить. Что же в ней такого? Раскрыть секрет притягательности — возможно ли это? Способен ли Уолтер, с его умом и умением все так хорошо объяснять на словах, облечь это в такую форму, что ее можно было бы изучить и затем примерить к себе? — Я не могу объяснить это, Лиз. Сомневаюсь, что сможет кто-либо другой. На нее можно злиться, но это все равно что злиться на Всевышнего — себе же хуже. Можно ублажать ее самой невероятной лестью и презирать ее за то, что она ее принимает, сознавая при этом глубоко в душе, что ее нельзя обмануть. С ее флиртом и скаредностью она может выставлять себя в самом смешном виде. Но несмотря на все это, она обладает таким достоинством, которое не может быть унижено ничем, даже ее собственным поведением. Она — Королева. Она — сама Англия. И если бы я вызвал хотя бы улыбку на ее устах или если бы она сказала в мой адрес «Хорошо сделано», я бы не стал подсчитывать, чего стоили мне эти ее слова… Но все это не имеет никакого отношения к тебе, любимая. И то, что я делюсь с тобой своими мыслями, только подтверждает это. Ты — это я, и поэтому ты должна понять меня. И он посмотрел на нее своим долгим, неотрывным взглядом, от которого в недавнем прошлом у нее сердце переворачивалось в груди, но на этот раз она устояла и перед ним. — Я понимаю. Понимаю также, насколько правильно поступают католики, требуя от своих священников дать обет безбрачия. Набожный человек, фанатик, предан он Богу, или Королеве, или Подвигу, не годится для таких простых вещей, как семейный очаг, собственный дом. — Горечь твоих слов говорит о твоем негодовании против меня — Напротив, я жалею тебя, как жалела бы любого больного человека. Ты болен. Ты бросаешь женщину, которая любит тебя, чтобы служить той, которая тебя презирает. Ты покидаешь Шерборн ради страны, где за каждым кустом тебя подстерегает смерть. Если это не болезнь… Прекратим разговор на эту тему. Она зажгла свечи и снова села за свою работу. Туда-сюда, туда-сюда сновала иголка. И так же безотчетно сновали мысли женщины, которая начала познавать, насколько ненадежны узы любви. Неведомое взывало к мужским сердцам. Оно было повинно в том, что однажды Ралей сел за нее в Тауэр, оно же повинно в том, что теперь он не может остаться с нею в Шерборне. За четыре года совместной интимной жизни рассеялось былое очарование… А не в этом ли секрет притягательности королевы? При этой мысли Лиз застыла с иголкой в руке. Никто по-настоящему не знает королеву. Ходили всякие слухи о том, что ее тело так же загадочно, как и ее ум. И Лиз вдруг твердо поверила в постоянно дискутируемую девственность Елизаветы. Вполне вероятно, подумала Лиз, королева полна желания удержать при себе мужчину, но не способна овладеть им. Что в таком случае она, Лиз, должна предпринять? Ответ напрашивался сам собой. Что сделала сестра Елизаветы для того, чтобы удержать в Англии Филиппа Испанского? Привязала его к себе байками о своей беременности, и он в них поверил и ждал до бесконечности рождения ребенка, который никогда не был зачат. Не попытаться ли и ей поступить так же? Сможет ли это удержать Ралея при ней? Вряд ли. Может, на какое-то время это и расстроит его планы. Однако не только планы, но и его веру в нее, и радость общения с ним. Слишком дорогая цена. Лиз в одинаковой мере почувствовала себя и измученной, и несчастной. Устало поднявшись, она отставила в угол станок и ушла спать. Спустя час или чуть позже Ралей потянулся к ней и хотел привлечь ее к себе. Он мечтал о примирении и о любви в те короткие мгновения, что еще оставались у него. Но Лиз отвернулась от него и молча отодвинулась на самый край широкой постели. Он был слишком гордым и щепетильным человеком, чтобы повторить попытку примирения. На следующий день ранним утром он покинул Шерборн и отправился собирать корабли и товары, подыскивать людей, готовых разделить с ним трудности путешествия. Третьего февраля сквозь непроходимый снежный буран он вернулся в Шерборн проститься. Лиз, которую на протяжении этих трех недель раздирали противоречивые чувства любви и ненависти к нему при воспоминании об их расставании, теперь на минуту заколебалась, прежде чем поцеловала его по приезде в Шерборн. Ралей за дорогу продрог и устал; он ожидал, что она обрадуется его появлению, но заметил заминку при встрече и вдруг ужасно рассердился. Сбросив плащ, он резко приказал: — Пришли мне сюда еду. Сейчас подойдет Миер, чтобы получить поеледние указания. Он быстро прошел по коридору в свой кабинет и на весь остаток вечера заперся в нем со своим управляющим. Лиз безутешно слонялась вокруг его одежды и книг, которые он собирался взять с собой и которые со всей присущей ей тщательностью она упаковала. Она вынула из ящика со стружкой нелепого Будду и вгляделась в его непостижимую улыбку. Все мы идолопоклонники, подумала она. Уолтер был моим идолом, но он не был так несокрушим, как этот твердый зеленый бог. Пожалуй, впервые Лиз поняла, что из них двоих она — слабейшая и что, если она не добьется примирения с ним и не признает свое единодушие с его целями и интересами, ее дальнейшая жизнь будет искалечена навсегда. В его жизни было так много интересов; у нее было только три: Уолтер, ребенок и Шерборн. И самым важным для нее из этих трех был первый. Она осознала это сегодня, когда он уронил поднятые для объятия руки и улыбка сошла с его лица. Сейчас Лиз готова была на все, лишь бы вернуть то мгновение и изменить его. Это было невозможно, но впереди еще маячила ночь. Она зашла на минуту к Уолтеру-младшему и поправила сползшее с него одеяло. Потом медленным шагом вошла в спальню. Распустила свои волосы и долго расчесывала их. Она прислушивалась к тишине в доме и слышала, как уходил Миер, как он желал удачи хозяину и обещал ему, что тот, вернувшись, найдет все в полном порядке в своем поместье. Она слышала, как муж накинул засов на дверь, прислушалась к его шагам по лестнице. И не услышала их. Сначала она подумала, что он убирает свои книги и бумаги и гасит свечи. Но прошел тот короткий промежуток времени, который был необходим для этого, и не прозвучало ни звука. Лиз уже разделась, и теперь сквозь ночную рубашку ужасный холод пробирал ее до костей. Она взглянула на постель. Остатки прежней Лиз убеждали ее лечь и, если сможет, заснуть или притвориться спящей, если заснуть не удастся. Но рожденная этим утром новая женщина при этом предположении чуть не умерла от страха. Это значило бы, что Ралей всю ночь проведет внизу. Нельзя, чтобы последние их часы так пролетели. Завтра она просто не сможет подойти к нему. А сколько еще таких «завтра» ждет ее впереди? Для ее рук, для ее голоса он будет недостижим. Мысль об этом стала еще мучительней, когда она вспомнила о его достоинствах. Он был всегда добр. В век, когда на людях демонстрировалось рыцарство, а в интимной жизни царила жестокость, он всегда был с нею нежен и предупредителен. Он никогда не давал ей повода для вульгарной ревности. Он женился на ней и тем самым разрушил свою карьеру, которую теперь такими отчаянными мерами пытается восстановить. И в конце-то концов получается так, что это она своими собственными руками посылает его в эту опасную авантюру. Лиз зажгла свечу и босая сбежала вниз по лестнице и по коридору к нему в кабинет. Он сидел у догорающего огня в камине. На столе стояли погасшие свечи, а те, что были на каминной полке, должны были вот-вот погаснуть. Уолтер сидел, опершись локтями в колени и положив подбородок на руки, и глядел на тлеющий угольки. Он повернулся на звук открывающейся двери. Лиз не успела произнести заготовленные слова, как Уолтер, увидев ее босые ноги, вскочил с криком: — Любимая, бедные твои ножки! Он обнял ее за дрожащие плечи и усадил в свое кресло; взяв в руки ее ноги, он подержал их над огнем. Лиз уже не могла сдерживаться. Она в слезах уронила свое лицо ему на плечо, обхватила руками его голову, так что почувствовала уколы его жестких черных волос у себя на пальцах. Ралей так крепко прижал ее к себе, что пуговицы от его камзола оставили синяки у нее на груди. Их губы встретились в поцелуе, и он ощутил соль от слез на ее губах. Не было нужды ни в каких объяснениях. Он просто отнес ее наверх, в спальню. И свою последнюю ночь они провели как любовники. А утром, накинув на голову шаль и взяв на руки малыша, она стояла под непрекращавшимся снегопадом и смотрела, как он садится на коня. Ралей наклонился к ней, в последний раз поцеловал ее и сжал ее руку своей теплой, ласковой рукой. — Не бойся за меня, любовь моя. Человек обычно заранее чувствует, если идет на смерть. Я вернусь к тебе. Он отпустил ее руку и надел перчатку. В конце подъездной дороги Ралей обернулся в седле и помахал ей рукой. Она подняла пухленькую ручку мальчика. — Помаши, Уолтер. И вскоре пелена густого снега и стволы деревьев скрыли его. Сильный ветер рвал с нее шаль. Лиз повернулась и, покрепче прижав к себе малыша, поднялась по ступенькам в притихший дом.ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ ГВИАНА. 1595 ГОД
Еще немного — и они поймут. Трещали от напряжения мускулы на груди гребцов, когда они налегали на весла; их голые торсы блестели от пота, и его прогорклый запах смешивался с запахом тухлых продуктов на барже. Ралей встал и помахал руками. — Это большая река, ребята. Это Ориноко. — Все тридцать миль шириной, если измерить! — испуганно прокричал Кеймис, — Зато она ведет в самое сердце «золотого города»! — крикнул Ралей. Баржа и лодки вышли на сверкающее лоно великой реки, и все, в том числе и их лидер, облегченно вздохнули. Это была настоящая река, можно теперь и в «золотой город» поверить. День за днем, многие дни их мучили сомнения, а есть ли вообще большая река. Они блуждали среди бесконечных протоков, которые, казалось, текли во всех направлениях, даже вспять, по плоским, заросшим джунглями землям. Они задыхались, пробираясь на своих лодках сквозь зеленые туннели мрачной растительности, огромные деревья смыкались своими вершинами у них над головами, неба не видно было за множеством лиан, которые сплели живую, цветущую крышу из своих ветвей, переброшенных с одного берега на другой. Встречались такие места в этих протоках, где приходилось прорубать топорами путь через сплетение лиан. Но эта большая река протекала по открытой местности, и у людей, которые сникли было от недостатка воздуха, теперь захватило дух от жуткой радости, и они продолжали продвигаться вперед. Неожиданно их развлек вид голых индейцев, плывших на каноэ впереди них. — Догоните их, — приказал Ралей, — они могут указать нам путь или по крайней мере продать свежие продукты. Индейцы, явно смертельно напуганные, гребли что было силы, но, поняв, что от белых пришельцев им не уйти, выгребли быстро к берегу, вскарабкались на него и исчезли. Лодки подошли вплотную к брошенному каноэ, и гребцы увидели, что в нем полным-полно каких-то плоских лепешек, напоминающих хлебные изделия, и сверкающей чешуей рыбы, еще копошащейся на дне лодки серебряной живой массой. — Я выйду на берег, — сказал Ралей, — и осмотрю все вокруг. Вы тоже можете высадиться, разжечь костер и пожарить на нем рыбу. Если найду аборигенов, расплачусь с ними за нее. — Не ходите один, — настаивал юный Гилберт, собираясь последовать за Ралеем, — они очень коварны. — Если я пойду один, они увидят, что я не собираюсь им навредить, — возразил Ралей. — Оставайтесь здесь и проследите, чтобы справедливо распределили еду. И мне немного оставьте, — добавил он, потому что его соратники уже с жадностью набросились на плоские лепешки после нескольких недель диеты, состоявшей из нашпигованных долгоносиками сухарей и жестких, как полено, кусков солонины. Взбираясь на берег, он заметил, как менялся цвет почвы из темно-красного в голубоватый. Он сделал зарубку в своей памяти, отметив про себя, что именно в таком грунте они должны искать золото. Ралей легко забрался на берег и совсем близко от него обнаружил индейскую деревню, очень хитро расположенную в расщелине, так что с реки ее невозможно было увидать. Грязные маленькие хижины напоминали ульи и по размеру были ненамного больше них. Возле некоторых из них, у низкого лаза горели небольшие дымящиеся костры, вокруг валялись разукрашенные глиняные горшки, там, где их в ужасе побросали обитатели домишек, когда всего пять минут назад подняли тревогу прибежавшие с реки рыбаки. Ралей огляделся. Все дома пустовали, но он знал, что у индейцев не было времени уйти далеко, и он кожей ощущал, что из-за каждого куста, из-за каждого дерева, окружавших поляну, за ним наблюдают. Он сел на обугленный пенек и подумал, что дерево, которое за отсутствием топора свалили с помощью огня, теперь, возможно, было тем самым каноэ, которое они оставили на плаву возле берега. Он разложил перед собой ножи и резаки, которые принес в знак доброй воли, и закурил трубку. Прежде чем она раскурилась, из-за кустов осторожно высунулись сначала одно коричневое лицо, за ним второе, потом еще и еще и уставились на него. Вдруг откуда-то вылетел камень и ударил его прямо в висок. Он приложил руку к месту удара и, окровавленную, снова опустил ее, потом протянул обе руки, показывая, что безоружен, хотя у него под рукой блестели резаки. Он постарался улыбнуться предполагаемому противнику. Снова наступила пауза. Наконец из кустарника на открытую поляну вышел человек, робея, но исполненный любопытства. Ралей не шевельнулся, хотя теплая, липкая струйка крови из пораненного виска стекала ему за воротник. Скоро образовался круг голых, коричневых зрителей. Тогда Ралей сказал по-испански: — Я пришел к вам как друг. Но при звуках этого вызывавшего ужас языка почти на всех лицах отразился испуг. Он отрицательно покачал головой и повторил те же слова по-английски. При этом Уолтер улыбался и, снова Протянув обе руки, показывал им на разложенные на земле подношения. Никто даже не шевельнулся. Тогда он встал и отошел на некоторое расстояние, снова сел и наблюдал за ними. То один, то другой, потихоньку, индейцы подобрались к разложенным на земле товарам и стали с явным интересом и удовольствием рассматривать ножи и топоры. Но когда он опять поднялся и направился к ним, они быстро побросали вещи и разбежались. Ралей поднял один из ножей и, держа его за лезвие ручкой вперед, предложил его таким образом ближайшему к нему человеку. После продолжительного Колебания тот осторожно потянулся рукой за ножом Рука еще повисела нерешительно в воздухе, потом обхватила ручку ножа и, когда Ралей отпустил лезвие, рванула его к себе. Индеец с любопытством рассматривал подарок. Его соплеменники окружили его, быстро лопоча что-то на своем языке. Он дал одному из них подержать нож, а сам бросился к своему дому. Индеец тут же вернулся с клохчущей курицей под мышкой. Приблизившись к Ралею, он открутил ей голову и, еще трепыхавшуюся, положил к его ногам. Затем он отступил на насколько шагов и стал наблюдать. Радей поднял курицу и знаками показал, как он ее ощипывает, ест и после этого, улыбаясь, стал поглаживать свой живот, проявляя при этом все признаки истинного наслаждения. Тут наконец и индеец улыбнулся и что-то прокудахтал по-своему — мол, понял вас. Осмелели и все остальные, и скоро на месте ножей, резаков и топоров, мгновенно исчезнувших, лежал разнообразный набор рыбы, лепешек, кур и кусков свинины. Затем индейцы собрались в большую толпу, как подумал Ралей, для того, чтобы представить ему свои подношения, но спустя некоторое время, в течение которого они что-то кричали и чуть ли не дрались, из толпы вышли два человека, держа за руки третьего. Пленник бурно и многословно протестовал. Один из державших его за руки наклонился и поднял с земли камень, которым недавно ударили в висок Ралея. Он вложил его в руку пленника, потом быстро несколько раз ткнул пальцем в индейца, потом в камень, потом показал на камень и на рану, причиненную им, досконально, жестами доказывая вину захваченного ими человека. Затем два надзирателя дали такого пинка виновному, что тот отлетел и упал на колени прямо в ноги англичанина. Индеец дико вращал глазами, испуганно смотрел на пришельца и что-то без конца тараторил. Ралей вытащил из-за пояса маленький кинжал с серебряной ручкой, несчастный страшно завопил и поднял руки, но не сделал никакой попытки как-то защититься или убежать. Гладкая серебряная ручка кинжала мягко легла в его распростертую руку, Ралей дружески похлопал индейца по дрожащему плечу. Индеец робко поднялся на ноги и кинулся бежать, а за ним и все остальные индейцы вскочили и с криками, как зайцы, пустились в другой конец поляны. Там они выстроились в круг и прошлись, кланяясь и отбивая голыми пятками ритм. Потом круг распался, и жители деревни последовали за другой группой людей, которая медленно направлялась к Ралею. Во главе шествия выступал старик. Годы сильно согнули его, и он шел, опираясь на искусно расписанный посох. Его длинные волосы, белые как лунь, свисали ему на плечи, образуя удивительную рамку для его коричневого, испещренного морщинами, как яблоко двухлетней давности, лица. Хотя все следовавшие за ним индейцы были абсолютно голы, он носил набедренную повязку, а плечи его покрывала материя того же цвета, что и набедренная повязка. На макушке у него развевался пучок из разноцветных перьев. Без страха и без любопытства направлялся он прямо к Ралею, и ни его голые, покрытые пылью голени, ни явная дряхлость не могли унизить определенного достоинства, свойственного ему. Старик остановился в пяти шагах от Ралея и на довольно сносном испанском языке проговорил: — Я есть Топиавари, король Арромайи, Если ты пришел с миром, будь желанным гостем. — Я пришел с миром, — очень серьезно ответил Ралей. — От испанцев? — Нет. Я из Англии. — Ага. Я слышал об этой стране и о королеве, которая правит там. Она — враг Испании. — Это верно. Думаю, это не помещает мне быть вашим желанным гостем, Топиавари. Старик покачал головой, но продолжал настойчиво следить за ним. — Незнакомец, который приходит к нам с миром, всегда наш желанный гость. Ты один? — Тут недалеко еще с сотню моих людей, но все они мирные люди. Они едят вашу пищу. — Вели им подняться сюда, — сказал старик, обернувшись в ту сторону, куда указывал Ралей, — и мы поедим все вместе, как принято у друзей. Он повернулся к своим подданным, которые во время беседы тихо стояли в стороне, и сказал им что-то на своем языке. Индейцы кинулись к своим домам, кое-кто из них стал дуть на угли затухающих костров, другие взяли глиняные кувшины и отправились за водой, остальные убивали и ощипывали цыплят, нанизывали их на острые палки и держали над огнем. Скоро над всей деревней распространился аромат готовящейся пищи. Английские моряки оставили внизу свои лодки и поднялись в деревню. Старый Топиавари с раздувающимися как у хорошей гончей ноздрями ходил среди них, рассматривая их одежду, оружие, даже деньги в поисках признаков их испанского происхождения. Он склонял голову набок, прислушиваясь к их разговорам, в расчете уловить какое-нибудь испанское слово или выражение, которое выдало бы их. Но к тому времени, когда зашло солнце и все было готово к празднику, он, казалось, успокоился, вернулся к Ралею, и разговор между ними пошел уже более доверительный. Праздник устроили на открытом воздухе, потому что в Деревне не было дома, который мог бы вместить всех местных жителей и восемьдесят человек гостей, и, хотя преобладали дружественные чувства, оказалось, что как индейцы, так и белые лучше чувствовали себя в компании себе подобных. Ралей, Топиавари и Кеймис с двумя индейцами, которые пришли сюда вместе с королем, уселись немного в стороне от всех, и их обслуживали первыми и приносили им отборные блюда. И рыбу, и цыплят, и свинину раскладывали на разложенных на земле листьях или на круглых глиняных плошках. Глиняная посуда, на которой лежали лепешки и в которой подавали вино, была раскрашена в тех же тонах, что и первая трубка Ралея. Маленькие, тоже расписанные орнаментами плошки, наполненные маслом с плавающими в нем фитилями, освещали эту фантастическую сцену. Выбирая самые простые испанские слова, понятные старому королю, Ралей рассказывал ему о взятии города Сент-Джозеф. При упоминании имени Беррео старик нахмурился и плюнул в темноту за своей спиной. Когда он услышал, что город Беррео был разрушен, он засмеялся; а когда Ралей сказал ему, что испанец теперь его пленник, он стукнул кулаками по земле и захихикал. — Беррео плохой человек. И жестокий. Он убил моего племянника, который был как сын мне. Конечно, никакой индеец не станет воевать за него. Он крал наших девушек или покупал их за дрянные топоры; которые после первого же удара ломались, а потом самых красивых и молодых продавал на Островах по сто пятьдесят песо. Все испанцы плохие и жестокие. Я, как видишь, старый человек. Каждый день я слышу зов смерти, но однажды они держали меня, как собаку, на цепи семнадцать дней, три из них — без воды. Ралей посмотрел на старика, такого трогательного в своей дряхлости и наделенного таким достоинством. Его поразительная фраза «каждый день я слышу зов смерти» запала в сердце Ралея-поэта. Он подумал о том, какому жестокому обращению подвергались тысячи таких, как Топиавари. Припомнил он и давние рассказы Харкесса о том, как индейцев загоняли во мрак подземных шахт, откуда они уже никогда не возвращались на свет Божий. Сидя на зеленой поляне с куриной ногой в одной руке и лепешкой в другой, Уолтер окончательно решил, что когда эти земли будут заселены и он станет управлять ими — а Ралей был уверен, что наступит такой день, — с индейцами будут обращаться со всей возможной добротой и справедливостью. — Вы что-нибудь слышали о золотом городе на западе? — опросил он Топиавари, вспомнив о своей настоящей миссии при мысли о планах на будущее. — О да. Славный золотой город инков, в садах которого все цветы и листья из металла, который белые люди ценят выше всего. Это город Маноа, которым сейчас владеют испанцы. — Вы уверены, что это действительно город? — Насколько я знаю, да. Но мне говорили те, кто знает, что дальше на запад есть город, еще богаче этого. Они говорили, что он принадлежит умершему племени. Но у всех народов есть такие сказки. Когда я был у испанцев, я слышал о таком городе, они называли его Рай, там души праведников летают На крыльях, как птицы, над цветами, у которых никогда не опадают лепестки, а дороги на улицах вымощены жемчугом. Слышал я и о другом городе, в котором все улицы пылают огнем и души грешников день и ночь ходят по пламени и не сгорают. Этот город называется Ад. Вы, наверное, слышали о нем? — Я слышал о них обоих, — совершенно серьезно ответил Ралей. — Но мы попадаем в них только после смерти. А Маноа — реально существующий город. Я читал о нем в книге Мартинеса. Я буду рад посетить его. — До него далеко отсюда, и, черт бы его побрал, в нем много испанцев. Я бы не хотел посетить его. Ралей наклонился поближе к королю и, глядя ему прямо в глаза, заговорил тоном, самым убедительным, на какой только он был способен: — Пошлите людей во все подчиненные вам племена и деревни, соберите всех ваших воинов, в том числе и женщин, которые владеют копьем, и тогда мы с вами, Топиавари. Ваши люди и мои, вместе мы сметем всех испанцев до единого с земли Маноа. И в обмен на золото ваш народ обретет мир. Старик покачал головой. — Это невозможно. Твоих людей, пусть они храбрые и хорошо вооруженные, слишком мало, и они состоят всего лишь из плоти и крови. Моих людей больше, но они стали слабы духом. Они, так же как и я, столкнулись со свирепостью и жестокостью испанцев и боятся их до смерти. И я слишком стар, чтобы сражаться, а моего племянника, который мог бы возглавить войско, убил Беррео. Это невозможно. — Для смелого нет ничего невозможного. — Так говорит человек, которого никогда не били. Мы не посмеем выступить против испанцев, даже ради того, чтобы воздать им за несправедливость. Арромайа теперь может рассчитывать только на то, чтобы за то время, что ей осталось жить, не было войны и чтобы не осталось наших детей на страдания. Друг, посмотри внимательно вокруг. Много ли ты видишь малышей? Никого. Но наши мужчины здоровые, сильные, и наши женщины очень добрые. Но мы не пускаем пчелу на цветок, не пускаем все эти двенадцать лет. Лучше совсем не родиться, чем родиться и жить рабом, говорим мы. К тому времени, когда он, — король указал пальцем на одного из индейцев из его свиты, — достигнет моего возраста, Арромайи не будет. А ведь мои прапрапраотцы правили племенем еще тогда, когда луна была не больше звездочки. Голос его задрожал, и он умолк. Вождь отвернулся от англичанина и тихо плакал. Ралей был потрясен, он положил свою руку на дрожащую руку старика. — Держитесь, друг, и поведем наших воинов на Маноа. Клянусь, вы станете свободными, и еще успеете увидеть столько детей возле себя, сколько звезд на небе. Снова Топиавари затряс головой, но теперь в его глазах был непреоборимый страх. — Нет-нет. Мы битые люди. Юные народы, как солнце, поднимаются на Востоке, и как солнце, старые народы умирают на Западе. Где теперь инки, или ацтеки, которые были до них, или майя? Их больше нет. Не будет и Арромайи. Вы можете разбить испанцев и стать правителями вместо них; Но придет более молодой народ и разобьет англичан, И тогда, увидев тело сына своего, вы поймете, что то, что я сказал тебе сегодня вечером, правда. Не неволь меня больше. — В моей стране говорят, что старый конь борозды не портит, Топиавари, и урожай бывает хороший. Я предлагаю тебе оружие и мужество молодой нации. Немного мужества — и вы получите свободу для своего народа. Но Топиавари сказал свое последнее слово: — Не неволь меня больше. И теперь страх переполнял его голос. Настойчивость Ралея подавляла его. Он, по всей видимости, чувствовал, что его втягивают в бессмысленную авантюру, которая лишит его народ даже той крохи мира, которая сохраняется лишь благодаря их кротости и безвестности. Но, несмотря на то, что его чувства были омрачены страхом, по отношению к Ралею они оставались дружественными. Масло в плошках кончалось, и ночь неумолимо надвигалась на их крохотный круг света. Топиавари коснулся своим коричневым пальцем виска Ралея в том месте, куда попал брошенный индейцем камень. Он обратился к одному из своих приближенных и что-то сказал ему на своем языке. Тот встал и поспешил в один из домиков. Он вернулся с глиняным, закупоренным пробкой кувшином в руках — изумительно раскрашенным и разрисованным изделием. Индеец осторожно вложил сосуд в руку короля, и снова присел рядом. Топиавари откупорил сосуд и понюхал его содержимое. — Это секретная мазь, — сказал он и протянул его Ралею. — Не скупясь наложи ее на рану или на места укусов насекомых, которые ты и твои спутники так по-глупому расчесываете, что превращаете их в гнойники. Я расскажу тебе, как приготовить такую мазь. Об этом мы никогда не говорим испанцам. У них один клич — золото, и они, ради того чтобы выудить из нас будто бы известные нам сведения, пытали нас самым мучительным образом. Но они никогда не спрашивали у нас, что мы знаем о травах, и мы никогда не говорили им об этом, хотя это могло бы спасти жизнь многим из них, это надежное средство против ран, способных разбить сосуд жизни. Есть у меня еще и смесь, которая излечивает все болезни тела, а родить ребенка с его помощью все равно что сорвать с дерева зрелый плод. И про это лекарство я расскажу тебе, потому что ты разочаровался во мне за то, что я отказался отправиться с тобой в это отчаянное путешествие, и для того, чтобы, когда ты вернешься в свою страну, ты вспоминал Топиавари и не совсем презирал его при этом. И человек, который сделал все — сначала чтобы установить дружеские отношения с индейцами, а затем обратить их в своих союзников, сел писать под диктовку Топиавари способы изготовления различных снадобий. Обманутый в своих ожиданиях, Ралей страдал и от разочарования, и от усталости, но, видя перед собой в гаснувшем, неверном свете лицо старика, он понимал, что индеец делится с ним чем-то очень ценным для себя; и отчасти из жалости к старику, отчасти из простого любопытства заставлял себя аккуратно записывать рецепты лекарств и переспрашивал индейца, просил объяснить ему всё, что сразу не схватывал. Но даже это показалось старому вождю мало для возмещения нанесенной им, как он полагал, обиды. Так что, когда наконец Праздник закончился и индейцы, обитавшие в этой деревне, стали делиться своими одеялами и циновками с теми, кто пришел к ним вместе с Топиавари посмотреть на странного белого человека, король подошел к Ралею и сказал: — Пойдем со мной. Он привел его в хижину, стоявшую немного поодаль от остальных, и, пригнувшись, они прошли в низкую дверь. Три маленьких светильника слабо освещали ее внутренность, но казались при этом яркими бриллиантами после царившей снаружи кромешной тьмы. На грязном полу сидела юная индианка и нанизывала на нитку алые бусы. Поднимаясь с пола, она уронила их на пол, и они рассыпались у ее ног. Индианка робко приблизилась к Ралею. — Испанцы забирают наших женщин и страшно оскорбляют нас, — сказал Топиавари. — Но эта девушка принадлежит мне, и я приготовил ее для тебя. Было время, когда я предложил бы тебе выбрать любую из дюжины, но едва ли найдутся теперь среди них девственницы. Однако возьми. Она твоя. — Перейдя с испанского на родной язык, он тут же что-то сказал девушке. Она кивнула в ответ и прошептала несколько слов. Топиавари взял ее за подбородок и приподнял ее голову. — Она прекрасна, — сказал он, удивляясь молчанию Ралея. — Да, она прекрасна, — повторил за ним Ралей. Он смотрел не на ее плоское испуганное коричневое лицо. В желтом свете ее только что умащенное маслами тело блестело, подобное бронзе, у нее были стройные коричневые ноги, а бедра и грудь были как у той девушки, которая когда-то давно на постоялом дворе лишила его невинности. Лиз была далеко от него, да и, возможно, пройдут месяцы, прежде чем он вновь увидит ее. Ралей почувствовал, аромат масел, которые делали ее тело таким блестящим, и от сладострастного запаха у него закружилась голова. Он уже не был мальчиком и, хотя его любовь к Лиз одержала верх над его амбициями, не относился к числу тех мужчин, для которых женщины значили все. Но здесь, в этой чужой стране, в компании с королем, для которого подарить девственницу гостю значило то же, что в знак гостеприимства накормить его хорошенько мясом и напоить крепкими местными напитками, он вдруг ощутил в себе дикаря, который как-то умудрялся прятаться за одеждой и речами цивилизованного человека. С какой вековой мудростью готовили ее для него! Каким крепким и податливым будет ее тело! В какое-то мгновение он возжелал ее, готов был, как говорил сам Христос, на прелюбодеяние. Но не воспоминание о Лиз остановило его, его остановила мысль о его миссии. — Я не один, со мною восемьдесят мужчин, Топиавари, и наша цель стать друзьями индейцев, Ради достижения этой цели я запретил всем моим товарищам, как бы их ни соблазняли, дотрагиваться хотя бы пальцем до ваших женщин, И я не могу нарушать правила, которые установил для всех остальных. И тем не менее оттого, что я не могу принять вашего подарка, моя благодарность не станет от этого меньше. — Кто узнает? — лукаво спросил старик. — Я сам буду это знать, Топиавари, и тогда в моих приказаниях будет недоставать убедительности. — Из таких, как ты, выходят короли, — сказал индеец просто. Девушка стояла, наблюдая за ними. Она не понимала, о чем они говорят, но каким-то образом. до нее дошло, что ту обязанность, о которой говорил ей Топиавари, ей не придется выполнять. Она склонилась над полом и стала подбирать рассыпавшиеся алые бусы. Вид узкой коричневой спины и согнутых маленьких коленок побудил Ралея опять обратиться к старику. — Скажите ей, что виновато табу, а не она, что она вполне пригожа, — попросил он. Топиавари перевел ей слова Ралея, и она одарила его ослепительной улыбкой в ответ. Они вышли из хижины, и король пожелал доброй ночи своему гостю. Ралей долго не мог уснуть. Он лежал на спине на мягкой шкуре, которую ему постелил один из индейцев, и глядел в усеянное звездами небо, В темноте из-за деревьев слева поднялась луна, большая и красная, потом она пожелтела, поплыла над поляной и, наконец, скрылась за деревьями справа. Он думал о Лиз, о том, как лежит она теперь в одиночестве, бледненькая, беспомощная и далекая, как цветок, утопленный в глубоком пруде. Но в то же время она была менее реальной для него сейчас, чем манящий к себе город на не обозначенной ни на каких картах реке или королева, которую он видел внимающей его рассказам о взятии города. Он думал о Топиавари и его печальном смирении перед падением его народа. Так и сам он мог остаться в ожидании своего смертного часа в Шерборне. Что же это такое, что так неодолимо влечет к себе некоторых людей? Была ли это жажда похвал со стороны соотечественников, такая банальная и проходящая, как с горечью отзывалась о ней Лиз? А может, это предначертание, согласно которому они должны сыграть свою роль в драме человечества? Предположим, Колумб предпочел бы остаться на одной из узких улочек Генуи, чинить там сети и попивать винцо или Христос удовлетворился бы жизнью сапожника в лавочке Назарета… Нет, его жизнь, образец всех человеческих жизней, была предначертана во всех ее деталях, с самого ее зарождения, со всеми странствиями, со всеми трапезами, со всеми произнесенными им словами она была предопределена и известна где-то там, кому-то, даже еще до того, как Мария почувствовала всколыхнувшуюся в ее чреве жизнь. Если это мог один, почему не могут все? И кто же этот режиссер, который наделяет некоторых людей такими трудными ролями? Например, этих индейцев; или рабов из Марокко на галерах; или гугенотов во Франции. Уж не для развлечения ли все это какого-нибудь бессмертного театрала, который и сейчас смотрит на эту Богом забытую поляну среди диких лесов и, видя, что он не спит, думает: «Ралей разговаривает сам с собой»? От старания разгадать непостижимое голова у него пошла кругом. Он оставил свои тщетные попытки, как до него делали многие другие философы, перевернулся на бок и заснул. Ралей не слышал, как индейцы Топиавари тихо перебирались от хижины к хижине, поднимая спавших, не слышал и их крадущихся шагов, когда они, нагруженные едой и скарбом, пробирались мимо него на тропу, ведущую через скалы и заросли кустов в деревню короля. Когда проснулся первый из англичан, весь поселок был пуст. Топиавари ненавидел испанцев и готов был полюбить Ралея, но любовь его не была настолько сильной, чтобы победить страх, и ни один из его индейцев не проявил желания сесть в одну из лодок англичан для похода с ними вверх по реке и тем самым навлечь на свое племя гнев испанцев. — Простите, сэр Уолтер, — сказал Кеймис, — но так думают все, и я согласен с ними. Ралей, трясущимися руками удерживая подбородок и стараясь не стучать зубами, с трудом проговорил: — Прошу, еще один только день, Кеймис. Город не дальше, чем на расстоянии одного дня пути. В конце концов, это всего лишь дождь, ну и гром иногда. Это не может повредить им. — Ну хорошо, доберемся мы туда, и что потом? Половина наших людей больна, и все мы умираем от голода. И подумайте о себе наконец: при такой лихорадке вам надо лежать в постели. — Мне необходимо там побывать. Кроме нескольких мешков с золотом я должен привезти в Англию еще кое-что. Ну пожалуйста, еще один день, Кеймис. Я бы сам поговорил с матросами, но мне ненавистна сама мысль, что они увидят меня в таком состоянии. Кеймис посмотрел на вздувшиеся воды реки, мчавшиеся мимо их лодок, которые не могли продвинуться вперед против течения ни на дюйм. «Он совсем сошел с ума, — подумал Кеймис, — но надо как-то успокоить этого сумасшедшего». — Ладно, сделаю все возможное, — сказал он. Ралей сжал обеими руками голову и продолжал неотрывно смотреть вверх по течению реки. Прошли сутки. Кеймис заявил: — Простите, но с нас хватит. Последний шторм окончательно доконал нас. На каждого человека осталось по полпорции хлеба, и если вы не отдадите приказ поворачивать назад, я сделаю это за вас. С нашей стороны было безумием разрешить вам так далеко завлечь нас. Ралей встал. Дрожащим голосом, перекрывая рев реки и шум дождя, он прокричал: — Вам кажется, что вы пропадете здесь и умрете с голоду? Я докажу вам, что вы не правы. Я пешком доберусь до Маноа и принесу вам еду. Кто со мной? Ни один голос не раздался в ответ, только по-прежнему ревела река и шумел дождь. И вдруг юный Гилберт, пока еще не растерявший ни чувства жалости, ни фанатизма, встал: — Я пойду. И вслед за ним бас старого Уиддона: — Раз уж ты такой дурень, я с тобой. Прошло еще шесть часов. — Вон там, впереди. Неужели не видите? Хрустальные и гиацинтовые ворота, и двадцать четыре башни из слоновой кости, и серебряные колокола на них. Они звонят, приветствуя нас. Маноа, Маноа! — Бери его за ноги, Гилберт. И Бог нам в помощь! Мы с тобой вымотались окончательно. Они вытащили Ралея из грязи, уже засасывавшей с бульканьем его тело, и, по колено в этой хляби, а иногда и проваливаясь в нее по грудь, побрели к берегу и притащили командира к лодкам, которые уже выстроились, чтобы плыть вниз по реке. Через три дня бушующие коричневые воды реки вернули их к месту расположения индейской деревни. — Гребите к берегу, — велел Ралей, — цепляйтесь за него с помощью весел, веток и всего, что под руку попадет. Тут мы по крайней мере достанем еду. Весь дрожа с головы до пят от лихорадки, он кое-как выбрался с баржи и вскарабкался на берег. На маленькой поляне стояла знакомая деревня, абсолютно пустая. «Индейцы, вероятно, бежали от реки подальше на время дождей», — подумал он и содрогнулся от ужаса. Если так, он стал невольным убийцей восьмидесяти человек, доверивших ему все, вплоть до своей жизни. До Тринидада, несмотря на бешеную скорость речного потока, они доберутся не раньше, чем умрут с голода. И все-таки стремительный поток стал их спасителем. Он пронес их со скоростью больше ста миль в день вниз по реке, с ужасающей силой швыряя суденышки от берега к берегу, грозя каждую минуту поглотить их. Ралей пригнулся у входа в крайнюю из хижин и приподнял край соломенной циновки, спасавшей ее от непрекращающегося ливня. Он ничего не смог разглядеть: воздух внутри хижины был такой спертый и продымленный, что Ралей почти ослеп от слез и уже подался было назад в отчаянии от вновь постигшего его разочарования, когда раздался голос женщины. При этом звуке Ралей чуть не зарыдал от радости. «Топиавари», — сказал он. Это было единственное слово на их языке, которое он знал, и оно должно было помочь ему объяснить ей, пусть даже на английском языке, что он не совсем, чужой им. Но и на этот раз фортуна была на его стороне. Не сказав ни слова, женщина отвязала циновку от притолоки и, укрыв ею голову, словно большой, квадратный гриб, вышла наружу и знаком предложила Ралею следовать за ней. Они прошлепали по грязи до какой-то хижины, женщина остановилась и указала англичанину на дверь. Ралей приподнял циновку и лицом к лицу столкнулся с королем. — Мой друг, — воскликнул старик, — как ты поживал? — Дьявольски плохо, — сказал Ралей, — и если вы, Топиавари, не накормите нас, мы все умрем с голоду. — Это счастье, что я оказался здесь. Я пришел сюда двенадцать дней назад, чтобы уладить тут кое-какие споры, и не смогуехать из-за дождя. Но расскажи мне, как ты поживал. — Мои люди с неимоверным трудом удерживают лодки у берега, — сказал Ралей. Топиавари тут же встал. — Я прикажу, чтобы каждый дом выделил по горсти муки, — сказал он. — О большем я не могу просить их. У них самих осталось очень мало, а в такую погоду мужчины не могут выйти на охоту. Боюсь, ни мяса, ни рыбы не будет. Он подошел к двери и прокричал что-то. Появился человек с циновкой на голове и тут же убежал выполнять поручение. — Ну а теперь скажи мне — дошли вы до города? — спросил король. Ралей покачал головой. — Нет. У нас кончилась еда, и пошли дожди. Люди были напуганы — и не мне винить их за это. Я попытался дойти до него по суше, пешком. Я точно знал его местоположение. Но меня свалила лихорадка, и если бы два верных товарища не притащили меня обратно к лодкам, я бы умер там. Но все это уже позади. В будущем году я приду сюда с более солидными запасами продовольствия и с большим количеством людей и снова буду у вас, Топиавари, и вы присоединитесь ко мне. Старик покачал головой. — Для такого старого человека, как я, глупо строить планы на год вперед. В будущем году я встречусь со своими покойниками. А за своих соплеменников я ничего не могу обещать. Пуганый бык ярма не сбросит. А ты даже можешь навлечь на нас беду. В присутствии какого-нибудь испанца, который понимает твой язык, ты случайно можешь сказать: «Топиавари накормил нас. Он был беден, но дал нам то, что сам имел». И тогда испанцы сразу же нападут на нас со словами: «У вас хватает еды, чтобы раздавать ее налево-направо? Тогда отдайте ее нам». Или: «Такое гостеприимство говорит, что ты богат, Топиавари; покажи нам, откуда берутся твои богатства, или мы выколем тебе глаза». И когда в будущем году ты вернешься, ты не найдешь среди моего народа ни одного человека, который пожелает тебе добра. А, ладно, ты, должно быть, не видишь в нас ничего другого, кроме радушно предложенной тебе горстки еды или, возможно, нашего ночного набега на твоих врагов. Сидя на полу, он сложил свои тонкие руки у себя на груди и, казалось, целиком погрузился в себя. В его голосе, позе, полных безысходности, было для Ралея что-то невыразимо трагичное. Его чувства, обостренные собственными неудачами и физической слабостью, натолкнули его на мысль, что король индейцев взвалил на свои тщедушные плечи груз всех просчетов его племени, вопли всех потерпевших крушение на этой земле. Дождь продолжал шелестеть по крыше, просачиваясь через дырки на глиняный пол хижины. Казалось, опустел весь мир и остались только манившие в трясину болотные огни. Индеец, посланный королем за милостыней для Ралея, вернулся, неся в каждой руке по полной корзине. Он поставил их перед англичанином, и они немного посторонились, чтобы Ралей мог разглядеть темную маисовую муку, находившуюся в них. — Не могу передать вам, как я благодарен. Но я за нее заплачу, если не вам, то вашему народу, — сказал Ралей. — Не за что, — сказал Топиавари, его удрученное лицо осветилось улыбкой. Ралей вдруг вообразил себя в своем кабинете в Шерборне, горели свечи, Лиз сидела за своим вышиванием, и на мягкой шкуре медведя перед ярким огнем очага играл маленький Уолтер. Даже если королева отвергнет его поползновения и с презрением откажет ему в своем обществе, все это останется при нем, а также его поля, его книги, его друзья и его неистребимые надежды. У Топиавари не было ничего. Ни его доброта, ни его необычайный интеллект, ни его врожденное достоинство — ничто не могло утаить того факта, что он всего лишь почти абсолютно голый дикарь, восседающий в грязи в ожидании собственной смерти. И, однако, будучи сам беден как церковная крыса, он наделил едой пришельцев, которые не могли ему дать взамен ничего, даже слабой надежды. Самый саркастический и тонкий человек Англии, бывший любимец Елизаветы, завсегдатай самого блестящего, циничного двора Европы, видел мысленным взором, как горсти грубой, темной муки сыпались из рук людей, настолько нищих, что ни один европеец не смог бы по-настоящему понять это слово в применении к индейцам. Он вообразил, как коричневые руки голодных индейцев горстями вынимают свои сокровища из полупустых кувшинов, возносят их над корзинами и разжимают ладони. Подобно мучившей его тело лихорадке, что-то больно сдавило ему горло. Ралей снял со своего похудевшего пальца кольцо со своей печатью и, приподняв трясущуюся руку Топиавари, надел его на один из его грязных пальцев. Потом он обнял сутулые плечи короля и поцеловал его в обе щеки. — Друг мой Топиавари, я вернусь в будущем году. И со мной будет большое войско, и я освобожу тебя. Живи ради меня и ради этого дня. — Да расцветут все твои надежды, да будет каждый твой день радостным для тебя, и да почиешь ты в мире! — сказал ему старик. Подняв с пола нагруженные корзины, Ралей наклонил голову, выбираясь наружу через низкую дверь хижины. Слеза — то ли от слабости, то ли от только что пережитого — скатилась по его щеке. Ему нечем было смахнуть ее — обе руки были заняты, — и дождь поглотил ее, как и его следы, оставленные им на обратном пути к барже. Наблюдая за своими жадно поглощавшими мокрую муку и при этом не прекращавшими борьбу со взбесившейся рекой соратниками, он подумал о том, что у него есть что предъявить королеве и обществу в доказательство его трудов: его карты, образцы золота, налаженные с индейцами дружеские отношения. Нельзя считать их экспедицию полностью провалившейся. И всегда остается еще и завтрашний день. Корабли стояли там, где он оставил их. Когда Ралей поднялся на борт, его встретил Флаудье. — Все в порядке, сэр, и мы готовы отплыть. Докладывать не о чем, кроме… — Кроме чего еще? Не держите меня в неведении. — Сбежал Беррео, сэр. Трое наших спустили лодку, чтобы пойти порыбачить. Разразился шторм, и они укрылись от него на берегу. Когда шторм кончился, они не нашли ни лодки, ни пленника. Мне ужасно жаль… — Да ладно, — сказал Ралей, — я и так не знал, что с ним делать. Формально мы не находимся с испанцами в состоянии войны, и у нас нет права брать пленных. Так что — скорее в путь! И он бросился на свою узкую койку. И не было в мире постели мягче этой.ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ ЛОНДОН. 1595 ГОД
Шекспир ласково погладил обложку книги «Открытие Гвианы». — Хотел бы я, чтобы мой еврей так же переплетал мои книги, — с чувством зависти сказал он. — Испытываешь наслаждение, беря ее в руки, да и при чтении не меньшее. Ралей печально улыбнулся. Он сам написал книгу и сам же выбирал для нее переплет и шрифты с таким же тщанием, с каким составлял ее текст. Весь этот труд он готовил как подарок королеве, но до сих пор не услышал от нее ни слова и был в неведении, видела ли она вообще его книгу. — Вы мне позавидовали? — спросил он. — О, страшно, — ответил Шекспир. — Я долго поджидал вас в «Русалке», чтобы сказать, как сильно я вам завидую. Но вы все не приходили, и я вынужден был отыскать вас в вашем логовище. — Рад, что вы сделали это. Я чувствовал себя одиноким и страдал от скуки, но в «Русалку» я больше не пойду. Один раз я дошел до самых ее дверей. Но клубы созданы для молодых людей, не для таких, как я: мне в каждом кресле мерещится привидение. Шекспир бросил на него пронизывающий взгляд. Ему показалось, что Ралей имеет в виду Марло. Он успел забыть о Сиднее и обо всех других, кого из любимых мест их юности отозвали смерть или какое-то дело. Было время, когда и он стал избегать «Русалку», время, когда из темного угла таверны вдруг выглядывало лицо Марло и по лестнице разносился его крик: «Подожди меня, Уилл, я с тобой». Потому что смерть Марло тяжким бременем легла на его совесть, как будто он своею собственной рукой нанес ему роковой удар. Уилл знал, — но знал один он! — что если бы захотел, то мог бы спасти Марло. Было время… Но мозг художника подсказал ему лекарство от подобных переживаний. Страшные события своей жизни он стал обращать на пользу себе же, и сцена «На пиру» в «Макбете» навсегда изгнала дух Марло из его жизни.ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ КАДИС И ЛОНДОН. 1596 ГОД
I
На полированный стол, за которым сидели члены Тайного совета, падал слабый январский свет. В обоих концах зала в каминах горел огонь, едва ли прогревая воздух, который казался холодным и тяжелым, как вода в проруби. Королева сгорбилась и потихоньку терла и согревала свои руки у себя на коленях. Беркли произносил речь, и она смотрела на него, прислушиваясь к его рассказу о болезни короля Испании, но видела перед собой что-то иное, а не хитрое старческое лицо министра. Она видела перед собой новые длинные галереи Эскуриала *["1018] и умирающего в них мужа вечно недовольной своей сестры Марии *["1019], слышала его последний вздох и вместе с ним — его призыв к народу поспешить и последним усилием сокрушить этого ренегата — протестантскую Англию, чтобы клятва его не осталась невыполненной после его смерти. Он ведь поклялся, этот медлительный, очень серьезный человек, что вернет истинную веру и церковь в Англию, и во имя достижения этого, подумала Елизавета, слегка вскинув подбородок, он устроил этот брак без любви с 6едной Марией, а потом напрашивался в поклонники к ней, ее сестре, но, будучи отвергнут, согласился на роль непримиримого ее врага. И вот теперь он умирал. И на какое-то мгновение в ней пробудилось что-то, похожее на жалость к нему. Будто заболел почти что друг — так хорошо она знала его. Его сомнения, припадки решительности, даже упрямая, старомодная привязанность к своим громоздким, тяжеловесным галионам в тот миг показались ей, женщине, которая занозой сидела у него в мозгу, милыми чертами его характера. И тем не менее его следовало разгромить. Она отбросила прочь мысль о том, что она и все эти люди собрались тут, чтобы затеять войну против человека, который сейчас, может быть, уже мертв. Какая чепуха! Филипп мог умереть. Но есть Медина-Сидония *["1020], есть приближенные короля — доны Испании, и аббаты, и кардиналы, и за всеми ними — архивраг, сам папа, все они остаются жить, и они могущественны и опасны. Беркли закончил речь, и королева подняла руки и стукнула ими по столу, затем ровным, бесстрастным голосом, специально припасенным для выступлений на Совете, она начала говорить. — Я согласна с мнением лорда Беркли, которое он с такой неохотой воспринял. Войне быть. Но я не считаю, что мы пойдем на нее в одиночку. Как вы только что слышали, король Испании намерен напасть на Ирландию. Он полагает, что это самое уязвимое место в нашей обороне. Но у него самого есть еще более уязвимое место. Нидерланды. О нет, — быстро отреагировала она, услышав возгласы на другом конце стола: «опять эти 82-й и 85-й годы», — я не предлагаю снова проливать кровь англичан у Зютфена *["1021]. На сей раз, я полагаю, Нидерланды должны помочь нам. Мы уже не раз предоставляли в их распоряжение наших солдат и деньги. Они должны нам солидную сумму. Берега нашей страны всегда служили убежищем для их иммигрантов. В Левинхэме они производят свое сукно, в Норвиче красят свои шелка. — Ей незачем было напоминать лордам о том, что это их гостеприимство было отнюдь не благодеянием. Фламандский шелк и фламандские ткачи принесли немалую пользу Англии, распространив по стране познания в области этих ремесел, но королева предпочитала считать присутствие голландцев постоянным бременем, несчастными, бездомными беженцами, живущими за счет благотворительности англичан. — Мы обратимся к Нидерландам, напомним им о наших прошлых благодеяниях и о наших нынешних дружеских отношениях и обещаем в обмен на их солдат и корабли простить им — но только на время, это должно быть четко оговорено — на время! — деньги, которые они задолжали нам; если же они не пойдут на сделку, потребуем деньги немедленно, чтобы снарядить в поход собственные корабли. У них есть корабли, что же касается денег — тут я не уверена. Думаю, у них не будет особого выбора… И тогда мы нападем на испанцев на их собственной территории, возможно, через Кадис. — Члены Совета выразили свое согласие, и королева продолжила: — А сейчас мы могли бы определить состав команд, так чтобы ко времени, когда мы получим ответ от Нидерландов, наш флот был готов и вышел бы в поход без всяких проволочек. Беркли вооружился пером, и благонравная атмосфера зала заседаний превратилась в сплошное столпотворение, где разные предложения и контрпредложения, согласие и несогласие сталкивались, вызывали споры, сотрясая холодный воздух, заполнявший помещение. Королева не принимала участия в дискуссии. Она сидела на своем конце стола, прямая и безмолвная, спрятав замерзшие руки в широкие рукава своего платья. Наконец Беркли отложил в сторону перо и протянул ей совершенную копию листа, который лежал перед ним, со всеми фамилиями и пометками, где одни имена заменялись другими, какие-то новые вносились, какие-то вычеркивались. Елизавета взяла бумагу и отошла с нею к окну. Зрение у нее понемногу ухудшалось, а на улице уже наступали сумерки; и хотя обычно она избегала нелестный для ее лица свет из северного окна, у которого она сейчас стояла в профиль к членам Совета, Елизавета всегда достаточно хорошо владела своими чувствами и своим тщеславием, чтобы оставить их за порогом зала заседаний. Она пробежала глазами список. Эссекс и Хоуард Эффингем в одной команде — это хорошо, кивнула она. Этим назначением она потрафит честолюбивому Эссексу, а совместное с Эффингемом командование охладит несколько его неукротимый нрав. Командовать наземными войсками, если высадка состоится, назначили Вира и Клиффорда. Сэра Джорджа Кэрью поставили командующим артиллерией. На этом имени она споткнулась, нахмурилась — она не любила Кэрью; однако он знает дело. Томас Хоуард — командующий флотом под присмотром своего родственника Эффингема. Елизавета посмотрела в окно, оперлась подбородком на руку, насупила брови, поджала губы, постучала ногой по полу — для тех, кто знал ее и наблюдал за нею в тот момент, все это было признаком того, что она готова принять какое-то решение. Королева посмотрела на другую, чистую сторону листа, быстро свернула его и вернулась на свое место за столом. Отыскав свое золоченое павлинье перо, она мазнула им по своим губам, опустила его в чернильницу и вписала чье-то имя после имени Хоуарда, заключила оба имени в скобки и передала бумагу Беркли. Старик взглянул на элегантно написанное, еще блестевшее невысохшими чернилами имя и недоуменно поднял брови. Он взглянул на королеву, задохнувшись, готовый произнести свое несогласие; но Елизавета не спускала с него глаз, и в ее мерцающем, наполовину насмешливом, наполовину враждебном взгляде он прочел такую решимость, которая при первом же намеке на протест обернется неудержимым гневом. И на том вдохе, который он приготовил, чтобы выразить свой протест, он произнес: — Сэр Уолтер Ралей назначен вместе с сэром Томасом Хоуардом командовать флотом. По залу пронесся шорох, вроде шелеста зрелой пшеницы под порывом ветра, но голоса не подал никто. Королева внимательно, одного за другим, обежала взглядом всех присутствовавших на Совете. Ни один из них не принял вызова королевы. Итак, в назначенный час, во главе с Эффингемом на его старом, еще времен разгрома «Непобедимой армады» ветеране «Арк Ройял», с гордо поднятым над ним алым флагом вошедшим в Канал, вошли и корабли его флота; плескались флаги: сразу за алым — красно-коричневый флаг Эссекса, когда-то приведший его к дуэли, за ним — сверкающий на солнце синий флаг лорда Томаса, и затем шел Ралей на «Духе войны» под своим белым, развевающимся на ветру флагом. Уолтер Ралей вышел в море во всем своем блеске. Внизу, в каюте, на книгах, которые повсюду сопровождали его, сияло золотое тиснение, и смешной Будда сидел, уставившись на покрывало на койке, которое было точно такого же бронзового цвета, как и он сам: Лиз с трудом отыскала его у какого-то торговца шелком. И сердце так и прыгало в груди Ралея. Он должен в этом походе вернуть себе свою честь, выжать ее, как говорил Уилл, «из этой бледнолицей луны».II
Белостенный монастырь Богородицы Всех Скорбящих стоял на небольшом возвышении в центре города, и из его верхних окон были хорошо видны улицы, расположенные между монастырем и портом, и сама гавань. Весь предыдущий день сестры украдкой наблюдали за битвой и шепотом, потихоньку обменивались впечатлениями. Но сегодня выглядывать в окошки или рассуждать о превратностях войны не было времени: монастырь превратился в госпиталь, и сестрички, которые зареклись смотреть на мужчин и тем более дотрагиваться до их тел, были призваны матерью настоятельницей проявить все свое милосердие в уходе за изуродованными в сражении солдатами, а тех монахинь, которые содрогались при виде крови и от ее запаха, она убеждала, что солдаты «пострадали за то же дело, что и сам Христос». Из кладовых, из келий девственниц вытащили все узкие соломенные тюфяки и рядами разложили в залитой солнцем, южной крытой аркаде, и в течение всего дня сестры семенили туда и обратно, накладывая на зияющие раны мази, настоянные на травах, перевязывая сломанные суставы полосами от простыней, и настоем из лимона и красного клевера поили раненых, чтобы предупредить воспаления. От тех из своих подопечных, кто мог и хотел говорить, к вечеру они узнали обо всех подробностях сражения, о двух сумасшедших англичанах, которые начисто порушили все планы обороны испанского города. Один из них, высокий, на корабле с красно-коричневым флагом, в возбуждении сбросил свою шляпу за борт корабля и приказывал спускать на воду лодку за лодкой с солдатами, с тем чтобы высадиться на берег. Но Бог помешал ему совершить это, начавшийся бурный прибой потопил лодки уже в гавани. Другой был капитаном корабля с белым флагом; он тоже был как одержимый; именно он начал брать испанские корабли на абордаж, вслед за ним сделали то же и другие; они бросали абордажные крюки за борта огромных новых галионов с благочестивыми именами двенадцати апостолов, и тут уж испанцам не осталось ничего другого, как поджечь свои превосходные суда в надежде, что огонь с них перебросится на корабли противника и уничтожит их. Сестры иногда прерывали свое занятие, прислушиваясь к стрельбе и канонаде, и когда появлялись новые страдальцы, теперь частенько не только с пулевыми ранениями, но и с ожогами, они с трепетом спрашивали их: «Как вы думаете, они высадятся на берег?» И в конце концов, когда уже стемнело и стал ясно виден ослепительный свет горящей пристани, появился солдат, который вместо привычного ответа на их вопрос: «Конечно нет», произнес страшные слова: «Они уже высадились». Вряд ли кто-нибудь спал в ту ночь в монастыре, да и в любой другой части города. Даже в темноте сражение продолжалось на баррикадах, спешно сооруженных на улицах города. Английские и фламандские матросы, распаленные грабежами, кровью и добычей, буйствовали на улицах, они вламывались в винные магазины, и к безумию победителей добавлялось безумие опьяневших от незнакомого им вина людей. Женщины и дети с воплями устремились в не занятые пока районы города или, полные решимости отстоять свое добро, свешивались с балконов высоких белых домов и бросали в солдат тяжелую медную кухонную утварь, камни, стулья, лили кипяток и швыряли на головы завоевателей горящую паклю. «Они будут здесь к утру», — на ходу перешептывались монашки и снова спешили к своим раненым, и разные чувства — в зависимости от темперамента каждой — овладевали их умами под скромными монашескими чепцами. Порой это бывала смесь самых противоречивых чувств: страх, смирение, бесстрашие, смутный плотский интерес. Англичане выставили своих монахинь из монастырей в светский мир, а с монахинями побежденного врага — чего только они не сделают? Но даже перед лицом такой угрозы положение служительниц Бога обязывало выполнять свой долг, и наутро сестры, бледные и измученные, потому что не ложились в постели всю ночь, разносили в южной галерее монастыря миски с супом, банки с мазями и рулоны матерчатых полос. Мать настоятельница приказала закрыть ворота и накинуть на них засов, сама же устроилась у подъемной решетки, чтобы решить, когда их нужно открыть. Хотя и важно было не допустить внутрь англичан, но не менее важно было и не обидеть никого из тех, кто нуждался в помощи. Но в то утро больше уже никто из раненых не поступил в монастырь, потому что в результате поражения наступил хаос, и теперь каждый раненый мог рассчитывать только на свои силы или просто оставаться лежать там, где его настигла беда. И в конце концов, поняв это, мать настоятельница покинула свой пост у ворот и вернулась в свой временный госпиталь. И ни монахини, ни раненые не знали о прибытии целой партии пьяных моряков до той самой минуты, пока они не вторглись во двор через маленькую дверь возле ворот. Это было похоже на нашествие дьяволов: все они прокоптились до черноты, и многие из них были покрыты спекшейся кровью. Крепкие английские головы, привыкшие к легкому элю, распалились от выпитого ими диковинного вина. Они волокли за собой узлы с добычей прошедшей ночи, дурацкие вещи, вроде медных ламп, отрезов шелка, испанских сапог и кухонной посуды. Один из моряков воткнул в свою взъерошенную бороду дамский гребень, и у большинства из них на их коротких пальцах было по нескольку колец, зачастую налезавших лишь на первую фалангу пальцев. Женщин они не пощадят, подумала настоятельница, поднимаясь с тюфяка, и, пытаясь навести хоть какой-то порядок, обратилась к пришедшим с вопросом, чего они хотят. С тем же успехом она могла обратиться к глухим. Моряк с гребнем в бороде схватился левой рукой за ее четки, сразу порвал их и, крепко обняв ее за плечи правой рукой, впился в ее губы своим бородатым ртом. Она на какое-то время оказалась совершенно обезоруженной, как физически, так и умственно, но затем ужас и неожиданный поворот мысли обрели свой голос в молитве: «Боже, избавь меня, нанеси ему смертельный удар!» — и в то же мгновение она решила, что Бог услышал ее молитву и помог ей, дополнив длинный список своих чудес еще одним чудом. Но избавление пришло от рук одного из тех, кого она опекала минуту назад: потянувшись со своего тюфяка, он сумел дернуть за ноги моряка, и тот свалился, с грохотом ударившись головой о каменный пол галереи. («Все равно это Бог помог мне через своего посредника — человека», — всегда после того ужасного дня говорила себе настоятельница.) Но при виде творившегося вокруг нее безобразия она чуть было не пожелала, — что было бы большим грехом, конечно, — чтобы ее молитва звучала иначе: «Нанеси мне смертельный удар». Раненые испанцы, которым их раны позволяли подняться на ноги, пытались защитить сестер, но вопли несчастных говорили о тщетности их усилий, и паника все возрастала, вплоть до того, что раздалось истерическое хихиканье сестры Агаты, которая оказалась такой ненадежной — мать настоятельница всегда боялась за нее. Абсолютно безотчетно и не надеясь ни на что, она бросилась на помощь Агате, так как если вопящей монахине грозит опасность, то хихикающая монахиня способна совершить грех. Но она так и не добралась до потенциальной грешницы: залп из нескольких ружей обратил весь этот ад в скульптурную, массовую группу. Настоятельница обратила свой взор к входу в галерею. Там стояли четверо мужчин, трое из них с еще дымящимися мушкетами в руках, четвертый опирался на палку, импровизированную трость из неровной серой ветки оливы. Все присутствующие, в том числе и все монахини, тоже смотрели на них, а нагрянувшие в монастырь моряки, пошатываясь, постепенно приходили в себя. Человек с палкой говорил с ними резко, энергично, на не понятном для нее языке. Но она увидела, как моряки поспешно построились парами и в относительном порядке промаршировали к воротам. Человек с палкой посторонился, пропуская их мимо себя, а двое из трех мушкетеров направились вслед за парнями, которые неожиданно превратились из вселявших ужас дьяволов в обычных пьяных людей. Третий человек с мушкетом остался стоять у ворот, а четвертый с трудом сделал шаг-другой вперед, и настоятельница увидела, что он ранен в ногу. Грубая повязка на его ноге ниже колена промокла, и кровь капала на его шелковые чулки. Направляясь к ней, он снял с себя шляпу и, остановившись на почтительном расстоянии, поклонился ей. — Я прошу у вас прощения, мадам, за недостойное поведение некоторых моих соотечественников. В этом виновато ваше вино. Надеюсь, ваши страдания ограничились кратковременным испугом. У него прекрасный испанский язык, подумала настоятельница, да и лицо, хотя и бледное и искаженное от боли, тоже прекрасно. — Это было ужасное потрясение, — просто призналась она. — Мне страшно подумать, что бы стряслось со всеми нами, если бы не появились вы. Сказать, что мы благодарны вам, — значит не сказать ничего о том, что мы на самом деле чувствуем. Она заметила, что вокруг нее собрались монахини и не спускают глаз с человека, да и у нее самой сердце забилось от восхищения, когда она впервые увидела его. Настоятельница повернулась к сестрам и сказала: — Вернитесь к своим обязанностям, наверстывайте упущенное время. Робкие, как лани, монахини подчинились ее приказу, подобрали с пола, куда они от страха побросали, все свои тарелки, банки и перевязочные материалы и возобновили заботы о раненых, как будто ничего здесь не произошло. Настоятельница снова обернулась к англичанину, чтобы продолжить выражения благодарности, но вместо этого ей пришлось броситься вперед, чтобы подставить стул незнакомцу, которого качало из стороны в сторону и к которому с тревожным выражением на лице устремился уже единственный его сопровождающий. — Это всего лишь слабость, вызванная потерей крови, мадам. Не беспокойтесь, пожалуйста, — сказал ей чужестранец. — Как я могу не беспокоиться о таком добром друге, когда вижу его страдания, — твердо заявила маленькая женщина. — Вам не трудно будет прилечь? Эй, кто-нибудь, — обратилась она к лежащим перед ней на тюфяках раненым, — проявите благородство, отдайте ему свой матрас. — Да нет же. Я не нуждаюсь в постели. Мне уже лучше, подобная слабость быстро проходит. В ответ на обеспокоенный взгляд настоятельницы он улыбнулся ей, такой внимательный и так похожий на ребенка со своей грязной белой повязкой на ноге. — Тогда что-нибудь стимулирующее, — предложила она, и скорее для того, чтобы порадовать ее, нежели из доверия к ее безобидному лекарству, он согласился. — Это и в самом деле не помешает. Он был приятно удивлен, когда настоятельница с необычайной резвостью — если принять во внимание ее длинные одежды, — сбегала и принесла ему маленький серебряный бокал с отборным бенедиктином. Увидев, с каким удовольствием гость выпил напиток, настоятельница решилась предложить ему сменить повязку на его ноге, но он отказался. — Вы очень добры ко мне, но у меня нет больше времени. Одному Богу известно, что еще могут натворить эти ребята. — А доктору вы покажетесь в ближайшее время? — настаивала она. — Скорее всего, нет. Он начнет пускать мне кровь. И попытается успокоить боль, что уже сделано. Кривые сабли ваших парней одновременно и ранят, и лечат. Англичанин снова улыбнулся ей, и она едва ли слышала, как он уверял ее, что больше нечего бояться нового нашествия банды. На рассвете он арестовал тех моряков и считал, что после них никто не посмеет сунуть носа в монастырь. А ей так хотелось, чтобы этот человек задержался в солнечной галерее среди ее пациентов. Как было бы хорошо поухаживать за ним, принести ему меду, зажарить курицу из монастырского курятника ему на обед! Глупая и грешная мысль. Надо будет наложить на себя епитимью. А он снова кланялся ей, собираясь уходить, когда настоятельница вдруг решилась спросить: — Не скажете ли вы мне ваше имя? Вы чужестранец и до сих пор были нашим врагом, но сегодня вы стали другом, и мы будем молиться за вас как за друга. Человек улыбнулся, и она тут же поняла, что он не из тех темных людей, которые с презрением относятся к молитвам верующих. — Мое имя Ралей. Уолтер Ралей. И я счастлив и горд, что был полезен вам. Он надел шляпу и, тяжело опираясь на оливковую палку, медленно, но твердо зашагал к дверям и вышел на площадь. Миниатюрная мать настоятельница постояла немного, повторяя про себя резкие и труднопроизносимые слога, составлявшие его имя. Затем медленно подошла к двери и закрыла ее за ним. Эта входная дверь закрылась легко, а вот другая, в ее голове… многое она дала бы за то, чтобы и она захлопнулась, но она оставалась открытой. Она часто думала о нем и так же часто наказывала себя за это. И она считала частью наказания то, что лик Иисуса Христа, ясный и сияющий в ее воображении, теперь то и дело заслоняло другое лицо, бледное, узкое и искаженное болью, но улыбающееся. Иногда над лицом возникала изящная, с пером шляпа. И тогда настоятельница застывала в ужасе. Слыхано ли такое, чтобы Господь Бог был в шляпе? Какое смятение чувств и путаница поселились в голове этой серьезной и простой женщины! Но время и постоянные епитимьи понемногу освобождали ее память от образа чужестранца, и только изредка, по каким-то таинственным и нечестивым каналам памяти лик Христа в ее воображении возрождал имя «Уолтер Ралей».III
Прошло двадцать четыре часа после сражения, когда лорд Хоуард Эффингем уселся в своей каюте за неприятное для него дело — рапорт о проведенной акции. По стариковскому обычаю, оставаясь в одиночестве и чувствуя раздражение, он вдруг начинал разговаривать с самим собой и теперь то и дело повторял: «Баловень судьбы», «Фат», «Дурак неотесанный». Вся трудность написания официального документа состояла в том, чтобы не допустить, чтобы все эти выражения оказались зафиксированными в нем: он слыл честным старым человеком и имел обыкновение в большинстве случаев резать правду-матку в глаза. Однако Эффингем был достаточно прозорлив для того, чтобы видеть, что теперь в этом достаточно деликатном отчете он не должен нападать на Эссекса, который был, как известно, куда милее королеве, чем любой другой участник экспедиции. Но именно этот молодой глупец, думал старик, снова ворча себе под нос ненужные слова и отложив в сторону перо, целиком виноват в гибели такого множества людей. Разгневанный донельзя, Эффингем снова вспомнил, как вел себя Эссекс, приказывая спускать на воду эти несчастные лодки. Он приказал спустить не менее четырех, и все они были потоплены, и все, кто в них находились, утонули. И не потеря лодок или людей больше всего раздражала Хоуарда: лодки для того и строятся, чтобы потом потонуть, а люди рождаются для того, чтобы умереть; но преждевременные попытки высадиться на берег довели до сведения граждан Кадиса, что англичане не собираются вступать в морской бой, что они намерены вести сражение на земле. В результате все ценное было вывезено из города задолго до того, как Ралей, применив абордаж, обеспечил успешную высадку десанта. И после разграбления города Кадиса удачливый командир должен теперь сидеть, за столом и докладывать своей королеве, что вся их добыча далеко не окупит затрат, связанных с экспедицией. Из Перу, из Вест-Индии, с Востока галионы с сокровищами прибывали в этот город, чтобы сложить на его каменной пристани в королевском складе все эти богатства, однако англичане обнаружили в нем всего лишь несколько сотен фунтов среди скрытых запасов и что-то из церковной утвари — серебро и немного вещей сомнительной ценности. «Столько-то мы могли бы получить и от голландцев», — проворчал Хоуард. С каким облегчением он вздохнул бы, если бы мог написать: «Милорд Эссекс провалил финансовую часть экспедиции, и если бы не сэр Уолтер Ралей и я не остановили его, натворил бы еще Бог знает что». С какой радостью он запечатал бы письмо, содержащее эту фразу! Но он устоял перед искушением. И ему хватало аргументов для объяснения своих действий: ведь они с Эссексом были объединены для общего командования экспедицией и поэтому должны были придерживаться одной линии в своих отчетах, а именно, что испанцы каким-то образом получили предупреждение о предстоящей атаке и вывезли из города сокровища. Ему придется забыть о длинном караване повозок, запряженных мулами, за которым они наблюдали в течение часа после первого, преждевременного приказа Эссекса спускать лодки на воду. Но, подумал Эффингем, снова берясь за перо, его никто не посмеет обвинить в том, что он в своем послании похвалил ее любимчика. Нет уж, все похвалы в нем будут относиться только к тому человеку, который так стремительно приплыл на лодке со своего корабля «Дух войны» на его «Арк Ройял» с криком: «Вы что, не видите, к чему ведет этот глупец? Если вы, адмирал, не прикажете ему сейчас же прекратить это, он потопит всех наших солдат, не дав им шанса вступить в бой. Нам сначала надо заняться их кораблями, потом уж городом». Уолтер Ралей становился героем послания адмирала. И вполне возможно — неисповедимы пути твои, Господи! — это даже понравится ее величеству. В конце концов, когда-то она обожала Ралея и в этот поход сама его назначила. К тому же он мог бы послужить неплохим оружием против Эссекса. «Хотя и он тоже самонадеянный тип, но по крайней мере не такой отпетый дурак, как этот Эссекс. Он мне нравится намного больше. Но в наше времяименно таким открыта дорога в рай», — подумал старик, после чего раздул ноздри и презрительно фыркнул. В следующий раз он скажет вслух эту заковыристую, но, как он думал, полную достоинства фразу.Но пока Хоуард писал, и останавливался, и бранился, и оттачивал свои выражения, сэр Джордж Кэрью описывал свои собственные впечатления о состоявшейся схватке вероломному лорду Сесилу. Кэрью писалось легко, и хотя он не был приверженцем Ралея, он четко осознавал, куда дует ветер. «Должен заверить вас, ваша светлость, что сэр Уолтер был выше всех похвал, и многие из его прежних врагов вынуждены были отдать ему должное в своих высочайших суждениях о нем». Говорил ли Кэрью от себя или от лица кого-то другого? «Ничто не могло сравниться с тем, что он сделал на море». Из уст кузена Кэрью такие слова звучали высшей похвалой Ралею, и Сесил, всегда готовый ставить палки в колеса, когда дело касалось Эссекса, с удовольствием читал письмо и строил собственные приятные планы. Ралей вернулся в Дархем-хаус, нянча свою ногу и свое разочарование по поводу ничтожности награбленного в Кадисе, и одним из первых его посетителей был возбужденный, хитрый, дальновидный человек, которому так приятно было извиниться перед Ралеем за его не к месту сказанное слово, когда речь зашла о мере ответственности.
IV
Приехала Лиз. Приехала, не желая того, потому что так же сильно ненавидела Лондон, как сильно любила Шерборн. Лондон был обиталищем враждебности, тревог и опасности; Шерборн — мирной жизни. Она не забывала никогда, как небрежно оброненное слово бросило их обоих в Тауэр, и каждое мгновение ее пребывания здесь было омрачено страхом, как бы королева не прослышала о нем, не вспылила бы от вновь проснувшейся ревности и не произнесла бы еще раз роковые, небрежные слова. И все же она приехала. Она мечтала увидеть Уолтера, подлечить его изуродованную ногу и показать ему сына. Такими причинами она объясняла свое трудное путешествие и встречу с ненавистным городом. Но гораздо более серьезная причина была спрятана так глубоко в ее душе, что даже самой себе она не признавалась в ней. Маленький Уолтер из нежного дитяти вырос в крепкого мальчугана с кудрявыми волосами и с хохолком на макушке. Летний загар еще не сошел с его лица, и с его чудесными волосами и ресницами он выглядел как маленькое золотое изображение мальчика. Сначала он стеснялся отца, но очень скоро по улыбкам и ухмылкам узнал в нем своего старого товарища по детским играм. Ралей, ползая по полу с Уолтером на спине, забыл и о своем возрасте, и о всяких церемониях. Лиз наблюдала за ними и пыталась понять, преуспеет ли малыш в том, в чем она сама явно проигрывала, сможет ли он завлечь отца обратно, в мирные поля Шерборна? Она много говорила о поместье, рассказала о только что собранном урожае, о скотине и о лесах; но хотя Ралей слушал с учтивым интересом, ей ясно было, что его мысли витали где-то далеко и что ее слова не пробуждают в нем желания вернуться в Шерборн. Так, он стал перечислять ей вещи, которые она должна была передать Миеру, управляющему поместьем. Спроси его об этом, напомни ему то-то. И каждое его указание, направленное этому спокойному и умелому человеку, было на самом деле стрелой, пущенной в самое сердце ее надежды, пока она окончательно не погибла, как Эдмунд под стрелами датских варваров *["1022]. И когда надежда умерла, она смогла говорить. — Королева уже посылала за тобой, Уолтер? — Нет еще. — Думаешь, пришлет? — Уверен в этом. Сесил хлопочет за меня. — За тебя! С каких это пор он стал другом кого-то, кроме себя самого? — Не злись, родная. Если бы ты знала, как злость искажает твои губы, глаза. Ты становишься чужой. — Я и есть чужая. Но кто в этом виноват? Мои губы, говоришь… Знал бы ты, как тяжело у меня на сердце от наших разлук… — Нам нет необходимости разлучаться. Этот дом такой же твой, как и мой. Оставайся в нем. — Я ненавижу Лондон. Мальчику хорошо в Шерборне. К тому же поместье требует своего хозяина. Каждый день случается такое, в чем можешь разобраться только ты или я в твое отсутствие. Все сельские угодья страдают оттого, что их владельцы предпочитают подхалимничать при дворе вместо того, чтобы заниматься хозяйством, как им надлежало бы. — Но тебе же нравится это дело, Лиз? — Какое? — Быть маленькой королевой Шерборна? — Почему ты обо всех женщинах судишь по ней? — По кому? — По ней. По Елизавете Тюдор. И если уж ты меряешь всех нас ее меркой, подумай обо мне. Неужели ты считаешь, что если какая-нибудь девица, моложе и красивее меня, какой я сама являюсь по отношению к королеве, отберет тебя у меня, я смогу когда-нибудь простить ее? И она никогда не простит меня. Все это время, пока я буду здесь, она глаз с меня не спустит… и в один прекрасный день… Ты помнишь Эми Робсарт и лестницу? Я не могу оставаться здесь, Уолтер. — У страха глаза велики, родная моя, и он лишает тебя всякой логики. Лестер был любовником королевы, так говорит весь свет. — А ты? — Лиз! — Прости меня! Я сказала, не подумав. Но, с другой стороны, что еще я могу думать? Почему твою женитьбу она встретила так в штыки, что вот уже четыре года не хочет видеть тебя, в то время как Эссексу его женитьбу простила чуть ли не на следующий день? Почему ты должен терять здесь зря время, как какой-нибудь терпеливый проситель, в ожидании ее вызова? Почему я все время чувствую, что достаточно одного ее взгляда, чтобы уничтожить меня? — Ты все это придумала. Твое одинокое пребывание в Шерборне породило в тебе все эти страхи, — терпеливо объяснял ей Ралей. Лиз поняла, что он так же далек от понимания ее проблем, как и прежде. Она соскользнула со своего кресла и упала перед ним на колени. — Послушай меня, Уолтер. Позволь мне один раз сказать тебе все, и я никогда больше слова не вымолвлю. Ты бросил к ее ногам Гвиану как вызов. Она проигнорировала его. Слава о твоих подвигах в Кадисе у всех на языке. Только она молчит. А ты сидишь и ждешь. Проходят годы. Ты уже далеко не так молод. Временами тебя трясет лихорадка. Ты теперь еще и хромой. Вернись в Шерборн, и будем жить тихо-мирно. Что тебе до всего этого? Что великие мира сего, что нищие, все они превратились в прах и спят себе, и никто не отличит их друг от друга. Что такое слава, что такое честь? Быстротечная известность в глазах таких же, как ты, слабых и благородных людей Будет ли хоть один из тех, кого ты называешь «своим другом», любить тебя так, как будет любить тебя Уолтер только за то, что ты подаришь ему час занятий верховой ездой или чтением? Да любила ли тебя королева хоть когда-нибудь так, как люблю тебя я? Дорогой мой, ты весь изведешься в поисках, в ожидании, в стремлении ко всяким глупостям и в результате останешься ни с чем… Ралей вскочил на ноги и, стиснув руки — по странному совпадению, очень похоже на королеву, когда она гневалась, — зашагал по комнате мимо Лиз. — Ни слова больше, прошу тебя. — Он говорил умоляющим тоном, и Лиз почувствовала, что ее слова глубоко задели Уолтера, но, когда она взглянула на мужа, что-то в выражении его лица заставило и ее подняться на ноги. — Возможно, в твоих словах много правды. Среди сотни произнесенных слов всегда найдутся и крупицы истины. Но я выбрал свой путь. Я женился на тебе, потому что полюбил тебя; я люблю тебя и сейчас, но не тебе держать меня в повиновении. Я останусь здесь до тех пор, пока королева не пришлет за мной. Если ты согласна остаться со мной, оставайся, я буду рад. Все, что тебе положено, все твое, вопреки королеве, дьяволу или кому угодно еще. Если же ты выбираешь Шерборн, поезжай туда и правь им как моя всегда искренне уважаемая жена. Но, ради Бога, избавь меня от этих разговоров. Лиз вздернула подбородок. Она потерпела поражение. Ее доводы в пользу его возврата в поместье ударили по ней же самой. Она надеялась увезти его с собой. Но наваждение было слишком сильным. Лиз потерпела фиаско, но не была сломлена. У нее еще оставались Шерборн и мальчик. — Завтра я уезжаю, — своим обычным, спокойным тоном сообщила она, что прозвучало странно после ее столь страстной мольбы. — Наверняка найдется доброхот, который сообщит об этом королеве. Как она обрадуется! Ралей хотел заговорить. Нужно было сказать что-то такое, что поставило бы все на свои места; но он так ничего и не придумал. Лиз вышла из комнаты, а он все мучился в поисках нужных слов. На следующий день она уехала в Шерборн. Они расстались как немного поднадоевшие друг другу друзья. И Елизавета, по-видимому, знала обо всем этом, так как ее шпионы водились повсюду, и очень скоро она прислала за Ралеем.ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ ДВОР В ХЭМПТОНЕ. 1597 ГОД
Елизавета сидела в окружении своих фрейлин. Одна из них перебирала струны лютни, и рядом с ней пел мальчик:ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ДВОР В ХЭМПТОНЕ. НОЯБРЬ 1599 ГОДА
Пробежало лето. Ралей успел побывать с Эссексом в его неудачной экспедиции к Азорским островам, но для себя сумел извлечь все возможные почести из этого обреченного на провал похода. Кончалась осень, а Елизавета все еще оставалась в Хэмптоне. Обычно она уезжала из Хэмптона ко времени созревания винограда, но в этом году королева замешкалась, явно не решаясь пуститься в путь. Ее раздражал Эссекс. И хотя у Елизаветы не хватало желания, чтобы напуститься на него и излить весь свой гнев, постоянное недовольство подтачивало ее здоровье. Она горько сетовала на холод. Порошки Топиавари помогали ей от изнуряющей головной боли и болей в ревматических суставах, но они не могли согреть ее. Елизавета избегала больших помещений, где тяжелые портьеры раскачивались на сквозняке, и присмотрела себе две небольшие комнаты, в которых постоянно поддерживался большой огонь в каминах. Поверх шуршащих шелков и тяжелого шелестящего бархатного одеяния она носила горностаевый плащ с высоким, жестким воротником, плотно прилегавшим к ее шее, в результате чего походила на снежную бабу с карнавальной маской вместо лица. Такой увидел ее Ралей как-то ноябрьским утром и впервые был потрясен сознанием того, что и она в конце концов всего лишь смертная женщина и что приближается время, когда Елизавета, как сказал однажды старый, грязный индейский король в своей замызганной глиняной хижине, будет «каждый день слышать зов смерти». Сам же Ралей чувствовал себя прекрасно и не вспоминал о своем возрасте. Он ехал в Хэмптон холодным утром, и белый пар лошадиного дыхания смешивался с облачком пара из его собственного рта. Красное солнце поднялось над горизонтом и заблистало на покрытых инеем, мерзлых лугах, а он ехал по дороге по берегу реки и пел песню о чести, которая приходит и уходит незнамо откуда, и не сознавал, какое жало таится в ней. Кому какое дело до того, как честь приходит и как уходит, если вот она, при нем сегодня? Он держит ее в своих руках, она — его. Мысли Уолтера вернулись в недавнее прошлое. Ралей высадился на острове Файял *["1023], вопреки всем приказам, прежде чем туда прибыл Эссекс, и когда его солдаты отказались идти в атаку против вооруженных до зубов и беспрестанно паливших огнем из пушек испанцев, Уолтер сам, размахивая своим белым шарфом, с криком бросился в атаку. Сначала два, потом десять, двадцать человек присоединились К нему, и за ними, словно овцы, последовали все остальные. Ради одного такого мига стоило жить, и мысленно возвращаться к нему, и снова и снова слышать треск ружейной стрельбы и звуки расплющивающихся о скалы пуль вокруг. И стоило посмотреть на Эссекса, исходившего злобой, когда он прибыл слишком поздно, и грозил военным судом, и, наконец, сдался. Обоюдные извинения и состоявшийся потом обед тоже скрасили ему жизнь. А теперь, после того как он отсутствовал по делам и королева была предоставлена самой себе, она срочно послала за ним, потому что нуждалась в его совете И вот он, разгоряченный быстрой скачкой, стоит перед ней, а она, протянув одну руку к огню, взмахом другой отсылает своих фрейлин и предлагает ему сесть. — Я ждала тебя, — брюзгливо начала она. — Ваше величество, я получил ваше послание вчера в полночь и, как только забрезжил свет, выехал к вам. — Я обо всей этой неделе говорю. Тебя не было дома всю эту неделю. Где тебя носило? Если бы она просто спросила его: «Ты был в Шерборне?», смысл вопроса был бы так же ясен. — Я был на острове Сент-Ив. — Какого черта? — Поговаривали об испанской угрозе. Шериф послал за мной, чтобы я ободрил народ, что я и сделал довольно легко. Королева вглядывалась в него, выставив вперед подбородок, с мрачным видом, тем самым скрывая истинные свои мысли о нем. А он действительно был тем человеком, который способен взбодрить и стадо баранов. Да, он прихрамывал после ранения в Кадисе, да, его мучили приступы лихорадки, да, на висках у него появилась седина, но эти горящие, будто у веселого жеребенка, глаза, в которых почти отсутствовали белки, этот звонкий голос — нет ничего удивительного в том, что на Файяле солдаты последовали за ним. Если бы она сама была из тех женщин, которыми можно руководить, в предводители себе она выбрала бы только его. — Меня опять выбили из колеи, Уолтер, — пожаловалась Елизавета. — И это святая правда. — Что случилось? — За три дня до того, как Роберт прибыл из похода, я пожаловала Хоуарду Эффингему титул графа Ноттингема. Он этого достоин. Адмирал уже старик, и все эти годы верой и правдой служил мне. Теперь в парламенте он занимает более высокое положение, чем Эссекс, и Роберт скулит, как маленький ребенок. Лишить Хоуарда предоставленной ему чести я не могу… но мне нужен покой. Подумай, Уолтер, что тут можно сделать. Ралей провел рукой по лицу и подпер ею подбородок. Он думал, но совсем не о решении этой ничтожной проблемы. Какой же этот Эссекс глупец! Вечно эти его дурацкие выкрутасы; он ведет себя как капризная юная девица с без ума влюбленным в нее старым сластолюбцем. Поменять их полами — и будет та самая ситуация. Но капризуле ничего не стоит просчитаться, тем более что королева — дочь Генриха Тюдора. Существует некая грань, за которую в отношениях с ней нельзя заходить. Дай волю этому Эссексу, позволь ему думать, что все его самые дикие требования будут удовлетворены, и он, как домашний пес, сам себя и загубит. И в то время как внешне Ралей, казалось, был занят решением проблемы королевы и тем самым укреплением своего положения как фаворита, глубоко внутри шевелилась непрошеная мысль, которая разозлила бы Елизавету сверх всякой меры, выскажи он ее в открытую. Это была мысль о том, что как жаль, что ей, такой старенькой, такой хрупкой, приходится возиться с проблемами приоритета этого молокососа, который по возрасту своему мог бы быть ей внуком. Это была самая правильная, самая человечная из всех занимавших его мыслей, но она не заслуживала его внимания. Она появилась и растаяла, как призрак чуткого созерцателя жизни, каким, вероятно, Ралей был в более нежном возрасте. И как только она испарилась, решение королевской проблемы вырвалось на первый этаж этого забитого обитателями дома, а именно мозга Уолтера. — У меня есть идея, — сказал он. — Должность лорда-маршала после смерти Шрусбери осталась вакантной. Предложите ее Эссексу. Ведь звание маршала выше адмирала, не так ли? Елизавета улыбнулась. — Ты гений, Уолтер. Я так и сделаю. Тогда, возможно, меня на некоторое время оставят в покое. А теперь — если бы ты придумал что-нибудь, что бы согрело меня! — Это я могу, только бы вы согласились последовать моему совету. Королеву передернуло. — Все что угодно. — Тогда рюмку рома. А затем выйдем на солнышко. — Ветер прикончит меня. — Ни в коем случае. Попробуем? Он стоял возле нее, пока Елизавета пила обжигающий напиток и приказывала подать ей туфли потолще. Потом с королевой, тяжело повисшей у него на руке (ее собственная рука ощущалась как сучковатая палка), он вышел к старой кирпичной стене, преграждавшей дорогу ветру и скопившей тепло бледного, осеннего солнца. Тут он заставил ее непрерывно двигаться до тех пор, пока она собственными руками не отложила меховой воротник себе на плечи. — Потеплело? — с улыбкой спросил он. — Пожалуй, да. После этого они замедлили шаг, и Ралей, оглядевшись вокруг, заметил на вившейся по стене ветке розового куста запоздалый цветок, его розовые лепестки покоричневели по краям, а тронутые морозом листья стали пурпурными. Он подпрыгнул и достал цветок; понюхал его и протянул королеве. — Ни одна роза не пахнет так прелестно, как та, которую тронул морозец, — сказал он. Взгляд, которым Уолтер одарил ее, произнося эти слова, позволил тщеславной старухе обнаружить двойной смысл, метафору в его фразе. Восстановив силы с помощью ли прогулки, или рома, или общения с ним, она вдруг решилась отдать приказ двору завтра же возвращаться в Уайтхолл. Ралей вернулся в свой Дархем-хаус, уверенный в том, что теперь вопрос о назначении его членом парламента был всего лишь делом времени. Эссексу ничего другого не оставалось, как принять небольшое продвижение, которым Елизавета, по совету Ралея, расплатилась с ним, так что место в Совете освободится.ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ ЭССЕКС-ХАУС НА СТРЭНДЕ. 1601 ГОД
Женщина, которая когда-то была Леттис Ноллис, потом леди Сидней, а теперь называлась леди Эссекс, слонялась из комнаты в комнату по Эссекс-хаусу. Она приказала зажечь свечи во всех комнатах и переходах и теперь с застывшим, отрешенным взглядом сомнамбулы безостановочно бродила по ним. Слуги, исполнив ее приказание касательно свеч, сгрудились вокруг огня на кухне, и звони она хоть во все колокола в доме, ни один из них не отважился бы выйти к ней в ту ночь. Вот уже десять дней — с тех пор, как в предыдущее воскресенье Эссекса забрали на допрос по делу о предательстве интересов Англии и королевы, — она не ложилась в постель, ничего не ела, кроме разве корочки хлеба со стола. Слуги решили, что она колдунья или скорее сама заколдована. Ее бледное, как у призрака, лицо, усохшая фигура и горящие глаза приводили их в ужас, и они под шум ветра и хлопанье распахиваемых ею дверей все теснее жались друг к другу у огня и даже боялись ложиться спать. Наконец раздался стук в наружную дверь. Никто из слуг и не пошевелился. Госпожа умолила дьявола спасти их господина, и у них не вызывало сомнений, что это сам сатана явился, чтобы заключить с нею сделку. Стук повторился, потому что сэр Роберт Сесил видел с улицы, что во всех окнах горит свет, и не мог понять, почему никто не откликается на его призывы. Но Леттис наконец сама услышала его и подошла к двери. Увидев Сесила, она прижала руку к сердцу и схватилась за косяк двери. — Мне нужно с вами переговорить, — сказал он. — И мне с вами, — с угрозой в голосе ответила Леттис. Она провела его в небольшую комнату, в которой Эссекс занимался обычно своими делами и принимал огромное количество просителей. Камин в ней не горел, а февральский вечер был довольно ветреным и холодным; но Леттис стояла в своем платье с короткими рукавами, недоступная ни холоду, ни усталости. — Допрос закончился? — спросила она. Сесил кивнул. — И каков приговор? — Самый худший. Повесить и четвертовать… — Леттис закричала истошным голосом, и от этого крика слуги, трясясь как в лихорадке, схватились друг за друга. Сесил спокойно продолжал: — Но королева смягчит приговор, и ему отсекут голову по всем правилам чести. Я об этом позабочусь. — Нет возможности отложить исполнение приговора? — Никоим образом, — сказал Сесил, хотя мог бы повторить свои слова: «Я об этом позабочусь». Но сейчас, когда Эссекс пал, он не собирался вступаться за него, да это уже и не могло спасти графа. Это было абсолютно невозможно. Прочла ли его мысли Леттис, или почему-то еще, но она сама решила, что пришло время и ей показать зубы. Она запустила руку за пазуху, и Сесил услышал шуршание бумаги. — У меня есть бумага, оставленная моим мужем, в которой содержится детальный план заговора, который затевали вы и Ралей, чтобы посадить на английский трон инфанту Испании. Сегодня же ночью, если мы с вами не придем к согласию, я передам его королеве. Она с прищуром рассматривала Сесила, но не обнаружила не только страха, но даже и бледности на этом узком, оливкового цвета лице. — Это едва ли поможет вашему мужу. Этим поступком вы только заставите замолчать человека, который способен спасти его от потрошения. Да и сомневаюсь, чтобы королева особенно пеклась об этом. Ее величество весьма слабо интересует, кто унаследует ее трон. Ее беспокоит дата вступления на трон будущего короля. Леттис не отрывала от него глаз. — Тогда нам нужно подумать о будущем, моем и вашем. Королеву может не интересовать план заговора сам по себе, но вам он встанет поперек глотки. Это вы допускаете? Сесил вновь кивнул. — Вы также согласны — глупо было бы отрицать это передо мной, — что вы ведете переговоры с королем Шотландии, который будет претендовать на английский трон — не важно, добьется он этого или нет? И опять Сесил склонил голову в знак согласия. — Тогда вот мои условия. Я оставлю бумагу при себе и буду молчать о ней, пока королева не умрет. За это вы используете все свое влияние для того, чтобы спасти Роберта. А когда шотландец осуществит свое намерение и взойдет на трон, вы приложите все свои силы для того, чтобы уничтожить Ралея. Сесил задумался. — В чем причина вашей ненависти к этому человеку? — спросил он наконец. — Он всегда был врагом Эссекса и моим врагом, — ответила Леттис. — Понятно. Бумага будет находиться у вас, пока мы не сможем использовать ее против одного Ралея. А я отправляюсь сейчас же к королеве молить о пощаде графу. Так? На этот раз опустила голову, соглашаясь, Леттис. Потом, подумав немного, она добавила: — Если приговор будет исполнен так, как он записан теперь, я сойду с ума и в припадке бешенства могу выболтать все как есть. — Будьте уверены, я сделаю все, что в моих силах, чтобы склонить королеву к милосердию. Леттис снова впала в свое сомнамбулическое состояние, и Сесил решился покинуть ее и вышел на улицу. Он уже довольно далеко отошел от ее дома, когда вдруг вспомнил, что даже не взглянул на документ. Он уже почти повернул назад, но задумался. Бумага в конечном счете не имела никакого значения, решил он. Он обещал ей только то, что заранее готов был пообещать. Еще до того, как он постучал к ней в дверь, он готов был действовать именно так, как потребовала от него, угрожая документом, Леттис. Роберт Сесил собирался молить всего лишь о приличествующей Эссексу, члену Совета и пэру Англии, казни, иначе эта позорная казнь стала бы опасным прецедентом, и, совершив такое, Елизавета сама бы раскаялась в содеянном; да, он пообещал действовать против Ралея, но и это уже созрело в его голове — стать на пути сэра Уолтера после вступления на трон нового короля, потому что как соперник Ралей был страшно неудобен, хотя и мог служить полезным орудием. Так что Сесил прямо направился к королеве и не столкнулся с человеком, которого только что, минуту назад пообещал сокрушить. Ралей с сорока своими гвардейцами присутствовал на процессе Эссекса. Он слышал выдвинутые против молодого графа обвинения, сбивчивую и противоречивую его речь в защиту себя; видел, как председатель суда разломил надвое свой жезл, когда произнес ужасный приговор. В течение всего того дня мысли в его голове метались от прошлого к будущему. Он припомнил давнее утро, такое далекое, туманом многих лет подернутое утро, когда они с Эссексом, каждый в стремлении пролить кровь соперника, встретились лицом к лицу на поляне, заросшей росной травой. Он вспомнил о женитьбе Эссекса, когда при известий о ней он примчался из Ирландии в Лондон, и тогда наступил второй этап благоволения к нему королевы. Вспомнил Ралей и утро в Хэмптоне, когда он посоветовал королеве сделать Эссекса лордом-маршалом. Как повлияло это назначение на последующее поведение этого юного баламута? Трудно сказать. Эссекс был направлен в Ирландию, потерпел там поражение и вернулся по своей воле, не прошенный. Елизавета еще не была одета, когда он ворвался к ней в комнату, и ему было запрещено являться ко двору. Затем, вместо того чтобы действовать так, как в подобных обстоятельствах поступил бы он, Ралей, — с великой осторожностью и терпением, — он составил какой-то сумасбродный заговор против королевы, и это было его концом. Эссекса отвели в Тауэр в сопровождении палача, который шел за ним по пятам с топором, лезвие которого было повернуто к его предполагаемой жертве. Эта история наводила на грустные мысли — тут было о чем подумать, — и Ралей, отводя своих гвардейцев с места судилища, ничего не замечал вокруг себя. Его, как поэта, трогала судьба юноши и такой неожиданный конец блестящей и мимолетной, как полет метеора, карьеры; он по-человечески сожалел о настигшем Эссекса роке — расплате за его глупость; но, оставаясь при этом самим собой, он был чрезвычайно доволен тем, что в Совете теперь образовалось вакантное место.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ВНУТРЕННИЙ ДВОР ТАУЭРА. ПЕРВАЯ СРЕДА ВЕЛИКОГО ПОСТА 1601 ГОДА
Среда Великого поста, морозное утро. Каждая былинка на земле, каждая веточка блестит под серебряным, бледным светом солнца. Оно то воссияет на небе, то скроется за низкими, багряными тучами. Ралей стоял у плахи во дворе Тауэра, держа в руке приказ о казни Эссекса. Закутавшись в плащи, сохраняя мертвое молчание, собравшиеся ожидали последнего акта ураганной драмы о краткой жизни пэра Англии. Ралей, находясь близко к месту, где так скоро должна была оборваться столь насильственным образом жизнь человека, ни в коей мере не праздновал в душе свою победу. Его состояние можно было бы сравнить с тем, какое он испытывал в то далекое утро, когда они с Эссексом встретились на росистом лугу ипподрома Медоу. В его душе не было чувства вражды к нему. Да, в Совете освободится место, но он предпочел бы, чтобы оно освободилось каким-нибудь другим манером. Эссекс был таким ярким, таким живым с его пылкостью, с его вспыльчивостью и с его приверженностью чести дворянина и верностью товариществу. В его памяти возникла картинка их совместного ужина после той ужасной ссоры на острове Файял. Граф больше уже никогда не выпьет вина, никогда не захохочет, никогда не будет глумиться над властителями мира сего. Блаунт и другие друзья Эссекса не могли знать, о чем думал Ралей. Для них его величественная, мрачная фигура, оказавшаяся так близко к местуэкзекуции, была прямым оскорблением. И еще до того как появился Эссекс, Блаунт подошел к Ралею и тихо, но злобно сказал ему: — Позлорадствовать вы могли бы в каком-нибудь другом, не менее удобном месте, не так ли? А здесь, у смертного одра, место не врагам его, а друзьям и близким. Ралей взглянул на него и на остальных людей, чьи злые лица подтверждали их солидарность с мнением Блаунта. Не говоря ни слова, он повернулся и пошел к Белой башне, где из окна Арсенала он сможет видеть все, оставаясь невидимым для других, и выполнить свой долг капитана гвардии, не бросая вызов друзьям Эссекса. Не прозвучало ни одного звука, лишь по толпе пробежала волна какого-то движения, когда на эшафоте появился весь в черном молодой граф в сопровождении трех священнослужителей. Его обычный сангвинический румянец будто смыло с лица, неспокойные глаза без намека на прежнее гордое пренебрежение оглядывали все вокруг. Со шляпой в руке он подошел к краю эшафота и поклонился присутствовавшим. Затем тихим, неуверенным голосом граф начал публичное раскаяние в своих грехах. Он раскаивался в своей похоти, своей суетности, своем тяготении к земным утехам, в своей гордыне и особенно в своем последнем грехе — «…великом, лютом, вопиющем, грязном грехе, соблазнившем многих из любивших меня на злые дела против Бога, владычицы земной и против мира…». Наблюдателю из Арсенала стало не по себе. К чему это самоуничижение? Человек уже обречен, смертный приговор ему подписан. Смерть ожидает его. У него нет возможности ни избежать ее, ни отодвинуть срок. Лучше, в тысячу раз лучше призвать на помощь всю укоренившуюся в душе за тридцать четыре года жизни надменность и взойти на плаху с пренебрежением. Зачем укутывать память о его блистательных, феерических годах жизни в саван, в этот убогий наряд публичного раскаяния? Покаяние завершилось, Эссекс пал на колени и предался страстной молитве. Все собравшиеся тоже опустились на холодные камни и молились вместе с ним. Двор наполнился гулом, будто пчелы жужжали среди клеверного поля, это говорило о том, что все присоединились к молитве Господней «Отче наш». В наступившей затем тишине Эссекс поднялся, отложил в сторону свой белый плоеный воротник *["1024] и черный камзол. Палач, по обычаю, встал перед ним на колени и просил у него прощения за то, что должен был вскорости совершить. После всего этого Эссекс лег ничком на плаху и распластал свои руки в красных рукавах по сторонам. Воскликнув: «Господи, будь милостив к поверженному рабу твоему!», он положил на плаху свою золотую голову. Луч солнца скользнул по лезвию поднятого топора. Три раза он взметался и падал, прежде чем разрубил сильную молодую шею, и тогда палач взял голову за светлые волосы и подержал ее, еще истекавшую кровью, над примолкнувшими свидетелями казни. «Боже, храни королеву!» — прокричал он, и люди, хранившие молчание все то время, которое прошло с прочтения «Отче наш», повторили за ним: «Боже, храни королеву!» Но принятое обычно: «Накажи так же всех предателей!» — прозвучало едва слышно, как вздох. Ралей, покидая башню и снова укутываясь в свой плащ, не почувствовал предостерегающего укола; даже намек на то событие, которое должно было произойти семнадцать лет спустя, не омрачил его сознание; когда он покидал Тауэр, ничто не явилось его внутреннему взору, ничто из того, что Уолтер видел в этот день, не предупредило его о том, какой будет его собственная смерть. Но, отправляясь домой, Ралей все-таки думал, что будь он на месте Эссекса, то не стал бы молить о милосердии, он молил бы о даровании ему мужества. Распустив свою команду, Ралей принялся снова тешить себя надеждами на членство в Тайном совете. Но Сесил не дремал. С Эссексом он покончил и теперь твердо решил, что никогда ни один фаворит не добьется ни крохи власти, разве что по его соизволению. И Ралей, так рассчитывавший на место в Совете, получил губернаторство на острове Джерси.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ШЕРБОРН. РОЖДЕСТВО 1602 ГОДА
Лиз пристроила на надлежащее место последнюю гирлянду и стояла, засунув палец в рот и любуясь проделанной работой. — Собери мусор и гвозди и отнеси их на кухню, Уолтер. Вот-вот приедет отец. Она подбросила дрова в камин, и, вспыхнув ярким пламенем, они осветили нарядную комнату. На сиденьях стульев красовались двенадцать павлинов, на стенах с темными панелями жемчужными выглядели ветки омелы и блестели красные рождественские ягоды. На столе стояло серебро и бокалы из цветного стекла, которые Ралей купил на венецианской каравелле, когда она зашла в порт Плимут во время одного из его наездов туда. Лиз обошла комнату с тонкой горящей лучиной и зажгла все свечи в их тяжелых серебряных подсвечниках. Еще раз внимательно осмотрев комнату, она пришла к заключению, что теперь все готово к приему гостей. Она подняла портьеру из тисненой испанской кожи, которая загораживала дверь, и прошла на кухню, где на шампурах жарились индейка и нога оленя. Заглянула в кастрюли с приправленными пудингами, на кипящие приправы и соусы. Тут все было в порядке. Она по очереди обошла комнаты — кабинет Ралея, гостевые комнаты и их с мужем спальню, проверила, хорошо ли горят дрова в каминах. В последней комнате она задержалась и посмотрела на себя в мутное, маленькое зеркальце. Да, волосы были гладкие и блестящие: два дня спешных приготовлений не наложили на ее внешность ни отпечатка усталости, ни расхлябанности. Она не видела своего мужа вот уже десять месяцев. Он приезжал в Шерборн в феврале и оставался одну только ночь. Пришло Рождество, и он с гостями ехал, чтобы побыть здесь неделю. Вдруг, когда она еще стояла и приглаживала складки на своем желтом шелковом платье, на промерзшей дороге к дому, под буками раздался топот копыт. Лиз подхватила свои юбки, бросилась вниз по скользким дубовым ступенькам и распахнула входную дверь. Ралей и еще двое мужчин спешивались у крыльца. Одного из гостей она не знала, лица второго не видела, пока он слезал с лошади. Однако, когда он обернулся, она с досадой узнала в нем лорда Кобхэма. У ее испортилось настроение. Эта неделя уже не будет тем безоблачным домашним праздником, на который она так рассчитывала. Вместе с Кобхэмом в Шерборн пришли политика и интриги, потому что они были неразделимы. Лиз тепло поздоровалась с мужем, изящно, но сдержанно — с незнакомцем, которого ей представили как лорда Комптона, и холодно — с Кобхэмом. Она отвела гостей в их комнаты, где они могли переодеться и помыться после дороги. Затем пришла к Ралею и, пока он, согнувшись над умывальником, плескался и умывался, спросила его: — В каком состоянии ты оставил королеву? — В плохом, — ответил он, окуная в воду лицо и встряхиваясь. — Ее величество уже никогда не оправится от удара, постигшего ее в октябре, когда она упала на открытии парламента. У нее появляются проблески энергии, но они становятся все короче и все реже. — Семьдесят лет — это немало, — заметила Лиз, не имея при этом в виду свои тридцать один. — Она назвала наследника престола? — Этот вопрос, насколько я могу судить, волнует не только тебя, он волнует всех англичан, — энергично обтираясь полотенцем, заявил Ралей. — Нет, не назвала. Ни словечка на эту тему, но мы с Кобхэмом как раз это и собираемся обсудить. Большинство высказывается в пользу шотландца Якова. Но я знаю, что Сесил — его человек, и почти уверен, что он действует против меня через Совет Звездной палаты, хотя мне непонятно — почему: мы ведь всегда были друзьями. Я же больше склоняюсь к инфанте Испании. — Королева-испанка — странный выбор для Англии. — Не знаю. С любой нацией можно сражаться, пока не появится странное влечение к ней. А это означало бы такой мощный альянс, какого мир не видал. — А мне казалось, что главная идея, преследуемая нашими государственными мужами, это равновесие сил. — Дорогая, ты становишься необычайной умницей. — У меня было много времени для размышлений и на чтение. А ты отдаешь предпочтение инфанте только потому, что Сесил склонен посадить на трон Якова, или у тебя есть другие причины для этого? — Да, целых две. Она моложе, и ею легче руководить. Он же будет все делать по-своему и приведет с собой своих шотландских друзей. Кроме того, когда на троне королева, у мужчин оказывается больше власти. При короле чаще правят государством женщины. Вот если он победит, я льщу себя надеждой, моя милая, благодаря твоим чарам прихватить кусочек власти и себе. Ралей распрямился и поцеловал ее, улыбаясь при мысли, как это Лиз с ее прямотой и честностью станет интриговать и командовать при королевском дворе. — Если я когда-нибудь и попрошу что-либо у короля, то это чтобы он запретил тебе под угрозой смерти показываться в Шерборне, пересекать границы поместья, — довольно сухо откликнулась Лиз. Это был достаточно тонкий намек на грустную тему, что побудило Ралея сказать, поправляя складки на плоеном воротнике: — Ну, нам пора спускаться вниз. Я, между прочим, не видел еще Уолтера. — Да он все время болтался в холле. Но смутился, увидев шедших впереди тебя незнакомцев. — Он уже достаточно взрослый, чтобы не выкидывать подобных штучек. Уолтер видит слишком мало людей. Ему надо побольше находиться в Лондоне, со мной. — Да. Я уже думала о том, что он нуждается в отце. Мы, наверное, приедем к тебе в новом году. Ралей удивленно взглянул на нее. Непонятно, что привело ее к такому неожиданному решению — болезнь королевы или собственные соображения. Он не мог ответить на этот вопрос, но ее заявление порадовало его. С легким сердцем он обнял жену за талию и сбежал с нею вниз по лестнице. Юный Уолтер, не по возрасту высокий и серьезный, застенчиво подстерегал их внизу, у лестницы, готовый при первом же звуке незнакомых голосов быстро скрыться. Но, увидев отца и мать, он подошел к ним и обнял отца. — Как же долго я ждал вас! — сказал он. — Скажите, вы еще не ездили за золотом? — Каким золотом, сын? — Он читал твою книгу о Гвиане, — объяснила Лиз. — Ах, это… Нет, я больше не был там. — Как хорошо! Когда вы отправитесь туда, возьмите с собой меня, пожалуйста, отец. Мальчик говорил очень серьезно, будто это было для него делом жизни или смерти. Ралей с интересом взглянул на него. У сына было его лицо, такое же узкое, удлиненное, только глаза материнские, светлые, и волосы золотистые, и темные ресницы. — Откуда у тебя это желание? — О, я так хочу увидеть все эти необычные вещи и коричневых людей. Я ни о чем никогда не попрошу вас больше, если вы возьмете меня с собой. Как вы считаете, тот старик со смешным именем 6удет еще там? — Топиавари? Нет, не думаю. Он был очень стар уже тогда, в те давние времена. — Ралей обратился к Лиз: — Мой сын абсолютно такой же, каким был я в его возрасте. Тогда я дружил со старым моряком по имени Харкесс, он рассказывал мне обо всех тех местах, где сам побывал, и я чуть с ума не сходил от желания посетить их. — Он же, в конце концов, твой сын, — сказала Лиз и ушла на кухню. Вспомнив об алфавите из яблочной кожуры и сахарных палочек, она с горечью подумала, что заботами Ралея мальчик едва ли научился бы читать, а теперь он забьет его головку всякими безумными рассказами, и она потеряет сына. Браня служанку за то, что она пересушила пудинг, Лиз раздумывала над тем, как вырос интерес маленького Уолтера к делам отца по сравнению с прошлым его визитом. Она сама не ожидала — и это ее потрясло, — что она станет ревновать сына к отцу. Но, хотела Лиз того или не хотела, она должна была признаться себе, что ее муж все так же очарователен. И, увидев его этим утром, немного постаревшего, растерявшего свое здоровье, она была глубоко тронута его обликом, и это натолкнуло ее на мысль поехать в Лондон, чтобы находиться рядом с ним и окружить его своими заботами, в которых он явно нуждался, хотя никогда и не признавался в этом. Вернувшись из кухни, Лиз увидела, что гости с хозяином покинули застолье и сели возле огня. Мальчик пристроился на поручне кресла отца и задавал лорду Кобхэму вопросы, проявляя полное самообладание. Правда, лорд Кобхэм избрал для беседы подходящий предмет — пони, но Лиз пожалела, что стеснительность Уолтера так легко прошла в присутствии такой компании. — А ну-ка, сбегай на кухню, Уолтер, — приказала она. — Я забыла сказать Марте, чтобы она подогрела эль для ряженых. Они вот-вот явятся. Уолтер, хоть и неохотно, подчинился, и, как только он вышел из залы, за окнами, в чистом, морозном воздухе зазвучала песня.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ДВОР В ХЭМПТОНЕ. МАРТ 1603 ГОДА
Скипетр и корону Пора отбросить в сторону. Они с лопатой и косой Сравняются во прахе, под землей.Несмотря на холода и собственную, все возрастающую слабость, королева повелела двору отправиться в Хэмптон, а сама поместилась в двух хорошо протопленных комнатах, откуда Ралей когда-то вытащил ее на прогулку в парк. Оглядываясь назад, на тот далекий день, Елизавета думала, что тогда она была еще молодой и здоровой женщиной. Хотя и с трудом, ее величество еще могла передвигаться. Индейские порошки больше не помогали ей, потому что Елизавета все больше и больше увлекалась ими. Она не могла принимать пищу и иногда сидела целый час за столом, обхватив руками бокал с вином, и затем отставляла его в сторону нетронутым. Ее болезнь пробудила нездоровый интерес к ней, и старые непристойные байки свободно гуляли по дворцу. Например: она родила Лестеру дочь, и теперь та замужем за французским принцем и будет претендовать на трон. Или: ее сын от Ралея был задушен при рождении тут же, в Хэмптоне. Или: Беркли и Уолсингем поимели удовольствие с ней и не требовали никакого вознаграждения за это. Но даже если до нее и доходило что-то из этих сплетен, она не подавала виду: никто не был повешен, никого за уши не пригвоздили к позорному столбу, никому не отрубили руки. Погруженная в меланхолию, вызволить из которой ее никто не мог, королева готовилась к смерти. Все думали, что она уже никогда не покинет своих апартаментов, но в один прекрасный день, когда под порывами ветра дым вздымался над огнем в каминах и колыхались гобелены на стенах, одна из фрейлин прошептала другой: — Как она? — Умирает, — ответила другая. Елизавета встала. — Я вовсе не умираю, бесстыдницы. Как вы посмели сказать такое? — Да нет, ваше величество, не вы. Это графиня Ноттингем умирает. — Графиня? О, леди Хоуард. Почему мне ничего не сказали? Если в такую дьявольскую погоду мне слишком холодно, чтобы выйти наружу, так, значит, со мной можно обращаться как с умалишенной? Притащите мне еще одну шаль. И, вы там, притащите сюда еще и мужчину. Лучше Ралея, если найдете его. Он, наверное, изнывает возле своей поблекшей женушки, но поищите его. Да поскорей. Срочно призванный Ралей отложил небольшую книжку меланхолической поэзии, которую читал, и поспешил к королеве. Слова одного из четверостиший поэмы, которую он впервые читал в этот день, застряли у него в голове и преследовали его.
Королевская гвардия в последний раз отправляла свою службу. В черных камзолах и касках, опустив пики, гвардейцы стояли вдоль всего пути, по которому двигалась процессия. Мимо них проследовал катафалк со свинцовым гробом, накрытым покрывалом, над которым возвышалась восковая фигура королевы в том обличий, в каком она предстала перед людьми в день ее коронации: бледное, гордое лицо, освещенное разумом, золотисто-рыжие волосы, королевские одежды. За катафалком шел старый Хоуард, в последний раз исполняя свой долг перед королевой; за ним следовал Сесил, уже изменивший своей королеве; затем шествовали придворные, фрейлины с лицами, перекошенными от рыданий. Все они медленно проплыли мимо высокого, мрачного человека, чьи мысли в это время были заняты воспоминаниями о другом апрельском дне; в тот день тучи закрывали временами солнце, и королева спросила: «Господи, да буду ли я королевой Англии Там?» Все ее величие и острый ум, все эти вспышки гнева и доброта, все ее мужество, вся ее жизнь, вся она — все сжалось, превратилось во что-то ничтожно малое, что сейчас поднимут себе на плечи люди, унесут и забудут. По команде гвардия пристроилась сзади похоронной процессии и проследовала к Вестминстерскому аббатству. Воздух был напоен запахом древнего ладана, смешанного с запахом колеблющихся на ветру свеч. Величественные, торжественные слова заупокойной молитвы перекрывали плач и всхлипывания присутствовавших. В назначенное время тело королевы поместили рядом с прахом ее предков: осторожного, умного Генриха Седьмого, грубого и сластолюбивого Генриха Восьмого. Она взяла многое от них, но по своему величию превосходила их обоих. Хор закончил свое последнее печальное песнопение, свечи растаяли в подсвечниках. Ралей вывел своих гвардейцев наружу, на апрельское солнышко и распустил их. Теперь не осталось нужды в гвардии. Нечего стало охранять.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ВИНДЗОРСКИЙ ЗАМОК. 1603 ГОД
Яков, Божьей милостью король Англии и Шотландии, заступник веры, смотрел на Ралея, и Ралей смотрел на Якова. Так вот он, этот доблестный Ралей, думал Яков. Перед ним стоял высокий, стройный, темноволосый человек с гордой осанкой, немного прихрамывающий и с совершенно седыми висками, одетый богато, но в темные одежды. Ралей думал: и это король! Человек с желтоватым, плоским лицом, с редкой, неприбранной бородой и неспокойными, бегающими глазками; одет в подбитый ватой камзол и такие же штаны, из-под которых нелепо торчат тонкие, слабые ноги. На нем было грязное белье, и часто выступающий от страха пот пропитал всю его одежду и отвратительно, резко вонял. Его испачканные руки лежали на поручнях кресла, в котором часто отдыхала Елизавета. Он говорил грубым голосом, присущим жителям юго-восточной части Шотландии, речь его была затруднена из-за слишком толстого языка. — Мы рады видеть вас, сэр Уолтер Ралей, хотя бы с запозданием. Большинство государственных мужей уже давно представились мне. — Было объявлено, ваше величество, что государственные служащие должны воздержаться от посещения вас, — сказал Ралей, глядя на Сесила, автора этого объявления. — А вы всегда так скрупулезно выполняете указы? — Я стараюсь. — А я слышал обратное. Мне говорили о приближенных покойной королевы как о людях своевольных. Ралей промолчал: если король желает проявить свое несогласие, так оно и будет, ничто не может остановить его. Но глаза Ралея полыхнули гневом. Неужели Сесил стоит за всем этим? Играет на трусости нового короля. Яков заметил, как вспыхнули в ярости глаза Ралея. — Однако хватит об этом, — сказал он, — и договоримся: завтра вы сопровождаете меня на прогулке верхом. Я хочу знать ваше мнение по многим проблемам. Ралей удалился, и Яков обратился к Сесилу: — Вы были правы в оценке этого человека: он слишком горд и опасен. — И к тому же — атеист, — добавил Сесил, который уже прознал о глубине почти пуританской религиозности Якова.Прогулка верхом на следующее утро явилась тяжким испытанием для Ралея. Сам он был великолепным наездником и привык к верховой езде с Елизаветой и Лиз; однако весьма комическое зрелище, которое представлял собою Яков верхом на лошади, поразило его чрезвычайно. Он был таким неуклюжим всадником, что только его подбитые ватой штаны спасали его от серьезных неприятностей; он рвал удилами рот лошади, широко расставлял свои локти и колени, и в результате их беседа, которая и послужила предлогом для приглашения на прогулку Ралея, без конца прерывалась его увещеваниями, обращенными к собственной кобыле. Ралей был повинен в некотором позерстве: он не подумал о том, как могли раздражать нескладного Якова его прямая спина, прекрасная посадка искусного всадника и длинные ноги. — Вы тот человек, который не раз вступал в бой с испанцами; скажите, есть ли еще основания опасаться нападения с их стороны?.. Ну, ты, животное, стой! Стой же! — Ваше величество, должен сказать, что и их армия, и их флот значительно выросли после восемьдесят восьмого года. — Они настроены враждебно? — Любая устоявшаяся нация ненавидит догоняющую ее. Посмотрите хотя бы на то, как мы сами начинаем ненавидеть Данию. — Меня удивляет… Ах, окаянная, да держи ты свою морду как следует!.. Между прочим, я удивлен, что не было попыток захватить трон. Это же их любимое занятие. — Не было такой возможности, — откровенно заметил Ралей. — Вся страна высказалась в вашу пользу. — Вся? — Были, конечно, единичные исключения. Но это не должно тревожить вас. Покойная королева, да упокоит Господь ее душу, была самым популярным монархом на протяжении всей истории Англии, но даже ее восшествие на трон приветствовалось далеко не всеми. — В самом деле. Но вернемся к Испании… Тихо! Тихо ты!.. Да, вернемся к Испании. Какую политику в отношении нее вы бы посоветовали? — Ту, которую я всегда исповедовал, — действовать. Если мы не поторопимся, весь Новый Свет окажется в руках Испании, все его полезные ископаемые, богатые целинные земли, его необозримые возможности для обогащения и обустройства наших соотечественников, для которых в Англии нет никаких перспектив. — Продолжайте. Что же вы предлагаете? — Я бы лапал на испанцев в районе реки Ориноко. Индейцы там сослужили бы нам хорошую службу. В девяносто пятом году, имея в своем распоряжении всего двести человек, я разгромил испанцев и их город на Тринидаде. Испанцы набрали тогда рекрутов из местных индейцев, но те при первом же выстреле развернулись и стали сражаться на нашей стороне. И они сделают то же самое, особенно если там буду я. — Почему? — Яков с неприязнью посмотрел на этого головореза. — Я знаю их, и они знают меня и верят мне. Я приложил немалые усилия, чтобы оставить незапятнанным свое имя в их памяти. Я постоянно получаю известия от капитанов кораблей, которые побывали у берегов Ориноко. Индейцы до сих пор не забыли меня. — Ну да, — сказал Яков. — Поворачиваем назад. — Я бы за свой счет взял с собой две тысячи людей, — продолжал Ралей, пока они разворачивались и легким галопом направлялись в Виндзор. — И если я получу ваше дозволение, я возглавлю отряд. Это было бы блестящим началом вашего царствования. — Об этом нужно подумать всерьез. — Это нельзя откладывать в долгий ящик. Испанцы не ожидают столь скорого нашего выступления, и это сыграет нам на руку. Яков промолчал. Он возвращался в замок вполне удовлетворенный. Этот Ралей оказался как раз таким, каким ему представили его приближенные: скандалист, готовый всю страну втравить в войну из собственных необузданных амбиций; хвастун, нахал — ему бы только диктовать свою волю королям, — и ведь за все время всего один раз обратился к нему, королю, «ваше величество». Яков сравнил его с Сесилом — существом учтивым, хотя и болезненным,подобострастным, пусть и уродливым. Вот он — его человек. Король Англии с трудом спешился с лошади и пошел держать совет с Сесилом. И государственный секретарь, ныне злейший враг Ралея, отпустил ему, возможно, самый грандиозный за всю его жизнь комплимент. — Арестуйте сначала Кобхэма, — посоветовал он королю, — он выдаст сэра Уолтера. От самого Ралея мы не добьемся ровным счетом ничего.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ТАУЭР. 1604 ГОД
Сэр Джон Пейтон, комендант Тауэра, человек с большим, толстым животом и очень доброй душой, заметил, что Ралей в первые дни после своего ареста грустит непомерно, и решил пригласить его к себе на ужин. Никому от этого хуже не будет, решил он: Ралей еще только дожидался суда, его еще ни в чем не обвинили и не вынесли никакого приговора. И, исходя из собственного опыта, он подумал, что хороший ужин приободрит арестанта. Комендант заказал суп из угрей, рыбу калкан, приготовленную в белом вине, жареных утят, яблочный соус и огромный пирог из разных фруктов, покрытый шоколадом и разными кондитерскими изделиями. Он спустился в свой подвал и вернулся с четырьмя пропыленными бутылками, две из которых держал под мышками; в них было крепкое белое сладкое «Малмси», чудесное Канарское и драгоценное красное вино из Опорто. Когда комендант взглянул на накрытый стол, он подумал, что такое зрелище утешило бы его и на пороге могилы, а ему до этого еще, слава Богу, далеко. Садясь за ломившийся от яств стол, он снял с себя ремень, расстегнул камзол и с удовольствием отметил про себя, что и сэр Уолтер сделал то же. — Боюсь, я буду плохим гостем, — заметил Ралей, — человек, у которого тяжело на сердце, вряд ли составит приятную компанию вам. — Не стоит так легко поддаваться отчаянию, — возразил добряк, погружая свою ложку в тарелку с супом. — Насколько я знаю, против вас есть только свидетельство лорда Кобхэма, а слушать его не всякий будет. — Король и Роберт Сесил будут слушать то, что они хотят услышать, впрочем, как все мы. И про себя они уже приговорили меня. А иначе зачем было отнимать у меня все монополии, принадлежавшие мне, и место губернатора Джерси? — Это место они отдали мне, — сказал Пейтон, смеясь. — Вы, наверное, не знали этого. Я вовсе не добивался этой должности, поверьте, — добавил он, вновь посерьезнев. — Даже если бы вы добивались ее, я не стал бы корить вас за это. В нашем мире каждый человек старается только ради самого себя, Пейтон. Желаю вам счастья на острове. Между прочим, прекрасное местечко. — Мне так и сказали. Только, боюсь, я не справлюсь с его управлением. — Ничего подобного. Однако постарайтесь с самого начала произвести впечатление на публику: по случаю каждого общественного мероприятия выходите в лучшей вашей одежде. Они ведь наполовину французы и любят всякую показуху. А в остальном жизнь там идет сама собой: правление на острове полуфеодальное, вдаваться в его особенности вам нет нужды. Мне это не понадобилось, правда, я недолго там правил. Если не считать неожиданных, яростных междоусобиц, народ там мирный, очень симпатичный. Неожиданная мысль пришла Ралею в голову, с такой остротой напомнив ему о его былых чаяниях и о нынешней беспомощности, что прежде чем высказаться, он выпил до дна свой бокал вина. — Буду очень признателен вам, если вы присмотрите за моим картофелем. Этой весной я посадил его там, совсем немного. На острове для него вроде бы подходящий климат. Там и зерновые поспевают раньше, а семена картофеля хорошо перенесли путешествие из Южной Америки. Я почти не сомневаюсь, что со временем картофель может стать прекрасным продуктом для экспорта и для продажи. — Не беспокойтесь, я за ним присмотрю. Первый урожай зерновых я сниму для вас, и, когда вас выпустят на свободу, вы сами его увидите. Блестящая струйка жира, сбегавшая по его двойному подбородку, не испортила впечатления от полного сочувствия взгляда, которым комендант одарил гостя. Ралей был обеспокоен уверенностью Пейтона в благополучном исходе его процесса. При водворении в Тауэр он распростился со всеми своими надеждами. Сэр Уолтер был в заговоре с Кобхэмом, этого невозможно было отрицать. И хотя свой заговор они составили и затем отказались от него еще во времена правления Елизаветы, чье-то злобное намерение вполне могло истолковать его как измену королю Якову. Сесил введет в состав суда, который займется делом Ралея, только его врагов — сделать это проще простого. И Ралей расценил уверенность Пейтона как результат его неосведомленности, присущего ему оптимизма и доброй натуры, и потому окончательно решил исполнить то, что задумал еще утром, когда получил приглашение к ужину. Весьма громко высказывая свои сожаления по поводу плохого аппетита гостя, сам Пейтон упорно расправлялся с ужином, достойным самого Гаргантюа, и наконец, проглотив с фунт прекрасной клубники, наполнил свою тарелку молодыми стеблями имбиря в сиропе, восточными сладостями, которые как раз тогда были в большой моде в Англии. Он наполнил оба серебряных бокала красным испанским вином и поднял свою ложку. Ралей наблюдал за ним. Испортит ли то, что он намерен был сделать, аппетит Пейтона? Может быть, и нет, но сама возможность этого сдерживала его. Он смотрел, как ложка в руке Пейтона поднималась и опускалась, слушал, как хрустит еда на его зубах, как царапает дно тарелки ложка в поисках остатков сиропа. Ему приходилось смотреть в лицо смерти в самых разных обстоятельствах, в окружении своих друзей. И вот он должен умереть не под свист пролетающих пуль, а под звуки пережевывания стеблей имбиря этим гурманом. И, когда ублаготворенный Пейтон откладывал в сторону пустую ложку, Ралей схватил свой столовый нож. Одним движением левой руки он распахнул уже расстегнутый камзол, а правой вонзил в грудь нож. Он увидел, как кровь брызнула на стол, услышал крик Пейтона, почувствовал, как нож ударил по кости, и понял, что проиграл. Пейтон вцепился всеми силами в его руку одной рукой, другой прикрыл скатертью рану на груди Ралея и стал громко звать слуг. — Никого не нужно звать, — сказал Ралей, — ничего страшного не случилось, нож ударился о ребро, это всего лишь царапина, черт бы ее подрал. — Вы с ума сошли? — задыхаясь, спросил толстяк. — Я — нет. Простите, Пейтон, что я сделал это за вашим столом, но вы же знаете: заключенным не положено давать ножи. — Но вообще-то — зачем вы это сделали? — Я хотел сберечь Шерборн для моей жены и сына. Они не стали бы судить мертвеца как предателя, и пока меня не обвинили в этом и не вынесли приговор, право на аренду Шерборна должно было перейти к моему сыну. А теперь этого не будет. Он ударил рукой по окровавленной груди, а Пейтон молча стоял, онемевший и беспомощный перед этим горем, которое вдруг превратило все плотские удовольствия в нечто мелкое и пустое.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ УАЙТХОЛЛ. 1606 ГОД
— Мне оно нужно, и оно будет моим, — сказал Яков. — Но как же мой сын — ему что, идти побираться в таком случае? — Такова участь всех детей предателей короля. — Мой сын не… — начала было с горячностью Лиз. Но тут же поняла, что нужно избрать другую линию поведения. Она грациозно склонила свою гордую голову и, шурша юбками, пала к ногам короля. — Ваше величество, будьте милосердны. Во всей Англии это единственное наше пристанище, в этом доме родился мой сын. — Я уже был милостив, — самодовольно отпарировал Яков. — Ваш муж, как предатель, был приговорен к плахе. Я отсрочил казнь. Грубые, резкие слова так и вертелись на кончике языка Лиз. Она готова была вскочить на ноги и бросить ему в его мерзкое лицо: «Да, отсрочили. Но почему? Чтобы спасти свое лицо. Заслужить за этот счет хоть немного популярности». Лиз подавила свой порыв и кротко спросила: — Его жизнь вы пощадили, и за это я на коленях благодарю вас. Теперь сохраните для моего сына несколько акров земли в Шерборне, и это будет поистине королевская милость. Это последнее каверзное словечко задело его. Больше всего Яков мечтал выглядеть королем. И в этой странной, новой для него стране он каждый день вспоминал о своей предшественнице, так естественно, без всяких усилий с ее стороны, с ее легкомысленными, вошедшими в легенды поступками воспринимавшейся как настоящая королева, в то время как большинство его потуг в этом направлении выглядели жалкими и фальшивыми. Тут он чуть было не склонился к тому, чтобы поднять женщину с колен и вернуть ей ее права. Но пока он подыскивал подходящие выражения, чтобы произнести свой вердикт, в окне промелькнула чья-то тень. Только и всего. Но появление этого прямого, юношеского профиля заставило короля отказаться от опасной и легкомысленной игры в абстрактное королевское достоинство. Юный Карр желал получить Шерборн, и он его получит. А жена и отродье предателя пусть остаются нищими и умирают с голоду. Как хорошо быть королем и, обладая Шерборном, иметь возможность подарить его! И тем самым так по-королевски выразить дорогому Робу свою любовь! Король снова посмотрел на Элизабет, не спускавшую с него своих прекрасных, молящих, трогательных глаз. Она вспоминала при этом насмешливые слова Ралея, сказанные им в те счастливые, далекие дни: «Вот если он победит, я льщу себя надеждой, моя милая, благодаря твоим чарам прихватить кусочек власти и себе». Она все еще оставалась очаровательной, и можно ли было осудить ее за то, что она старалась использовать свои чары, чтобы смягчить сердце короля в пользу сына? Но в случае с Яковом ее пол играл против нее. Если бы она была хорошеньким мальчиком со светлыми, гладкими волосами и голубыми глазами, с темными ресницами, тогда Яков, возможно, отдал бы ей не только Шерборн, но и все, что она пожелает. Но только не женщине, нет! — Поместье конфисковано. Я уже распорядился о его дальнейшей судьбе, — сказал он. Лиз поднялась с колен. — Тогда, ваше величество, позвольте мне просить вас о другом. Разрешите мне взять сына и жить в Тауэре вместе с ним и моим мужем. Снова в окне появился силуэт. Роб прохаживался под окнами в ожидании окончания затянувшейся аудиенции. — Не возражаю. Полагаю, вы будете придерживаться существующего распорядка жизни там? — Конечно, ваше величество. Какой же счастливец этот Ралей, подумал Яков. А если бы он оказался в таком положении, нашелся бы хоть один человек, пожелавший разделить его заключение, терялся он в догадках. Уж конечно, не Анна. Может быть, Роб. С несколько запоздалой и совсем нелегко давшейся ему любезностью он отпустил Элизабет со словами: — Сожалею, леди Ралей, что у меня не было возможности ничем более быть вам полезным. — Не все возможно в этом мире, даже для королей, — сухо заметила Элизабет и удалилась из покоев Якова Стюарта. Едва за ней закрылась дверь, как Карр, ожидавший, как догадывался Яков, ухода леди Ралей, выскользнул из-за угла и вошел к королю. В то же самое время в коридоре незнакомая женщина быстрым шагом нагнала в коридоре Элизабет, остановилась в метре от нее, оглянулась на промелькнувшего в дверях Карра и, топнув ногой, воскликнула: — Чтоб ты провалился! Лиз остановилась и посмотрела на нее. Это была невысокая, коренастая женщина с простым, но умным лицом и темно-рыжими волосами. Их взгляды встретились. Маленькая женщина сделала еще шаг навстречу Лиз и снова остановилась. — Вы леди Ралей? — спросила она с легким, приятным акцентом. — Да, — ответила Лиз. — Я так и думала. Я мечтала встретиться с вами. Я королева. Лиз склонилась перед ней в самом низком реверансе. — Простите меня, ваше величество. Я вас не признала. Я совсем недавно приехала из Шерборна. — Вы не торопитесь? Не уделите ли вы мне немного вашего времени, не поговорите ли со мной? — Конечно, ваше величество. — Тогда идемте. Королева привела леди Ралей в парк и села на скамью как раз напротив того окна, где когда-то жила Лиз. — Я так рада, что ваш муж был помилован, — начала королева. — Я делала все, что было в моих силах, чтобы это произошло. — Моя самая искренняя благодарность вам за это, — сказала Лиз. — Я поссорилась со своим мужем из-за Шерборна, — продолжала королева, — но, с тех пор как эта крыса Карр положил на него свой ненасытный глаз, бесполезно было протестовать или умолять короля. Этот тип слонялся здесь поблизости, дрожа от страха, что ваши мольбы пересилят его влияние. Как я его ненавижу! Где вы живете? — Мы с моим сыном остановились у моего брата, но только что я получила разрешение короля поселиться в Тауэре. Не как арестованная, — поспешила добавить она, заметив, что Анна задохнулась от возмущения, — там можно жить, если вам по силам выдержать все ограничения, предписываемые правилами Тауэра. Для мальчика лучше, если он будет жить со своим отцом. Ни одна женщина не способна правильно воспитать сына одна. — Я попытаюсь сделать это со своим сыном, — резко возразила Анна. — И я уж постараюсь, чтобы он стал настоящим королем. — Да, но он видит своего отца, других мужчин. Он не только с вами общается, в отличие от Уолтера, который видит одну меня. Выражение глубочайшей скорби появилось на простом, сумрачном лице королевы. — Уж пусть лучше Генри будет со мной, чем с этими людишками, которые сейчас окружают короля. — Она заговорила другим тоном: — Вас, наверное, удивляет, что я так откровенна с вами, но я всегда говорю что думаю. Все изменилось с того дня, как Карр во время ристалища свалился с коня и упал прямо к ногам короля. Я стараюсь быть терпимой. Я не забываю, что еще до своего рождения мой супруг пострадал, что роды были странными и что в детстве с ним обращались плохо. И когда-то он любил меня. Но если мы собираемся стать друзьями — вы и я, — а я надеюсь, что вы этого хотите тоже, перестаньте думать, что отец может быть лучшим воспитателем, чем мать. И вы должны помочь мне в выполнении именно этой задачи. — Помочь вам? — Да. Насколько мне стало известно из моих расспросов, ваш муж — человек по мне. Я буду навещать вас. Я приведу с собой Генри. Я хочу, чтобы он узнал этого человека. Чтобы поговорил с ним. Чтобы услышал о великих временах, которые сгинули, но которые могут вернуться, если мы хорошо выполним нашу работу. Обещайте мне ни слова никому не говорить об этом, обещайте помочь мне, а я клянусь, что все, на что я способна, словом ли, делом ли, все пущу в ход, чтобы освободить его. Я королева Англии в конце-то концов! — Ваши слова бесценны для меня, и мне, к сожалению, нечем ответить вам на них. Будущее казалось мне. таким беспросветным до сих пор. — Оно просветлеет, — сказала Анна, — у меня ведь тоже были черные дни. Когда сегодня днем я увидела Карра, входившего в эту дверь, то готова была убить его. Но тут встретила вас, снова почувствовала свою силу, и теперь я полна надежд в отношении Генри. Я очень скоро появлюсь в Тауэре.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ТАУЭР. 1606 — 1616 ГОДЫ
I
Когда Лиз входила к Ралею в комнату, он стоял у окна и смотрел на реку. Может быть, это мой последний взгляд на эту живую, с великим множеством спешащих по делам кораблей магистраль, печалился он: новый комендант Тауэра распорядился соорудить стену у него за окном, и завтра или в один из последующих дней, когда положат последние кирпичи, этот вид будет закрыт для него навсегда. Ралей благодарил Бога за то, что стройка затянулась, так что сегодня он увидел, как во время прибоя суда «Сара Констант», «Быстрый» и «Открытие» отправились в плавание к Виргинии. Три маленьких кораблика — основывать империю. Но на борту одного из них находился достойный человек. Капитан Джон Смит обратил свой взор на Тауэр, когда воды Темзы вынесли корабли к его стенам, и чувства глубокого уважения и соболезнования, одолев стены этой серой громадины, устремились к ее узнику, а навстречу им летели добрые пожелания и такое же глубокое уважение к солдату, подхватившему знамя несчастного пленника. Смит не мог видеть бледное лицо заключенного, Ралей не видел бронзовое лицо Смита на палубе корабля, но какое-то мгновение они чувствовали друг друга и нерасторжимые узы, связывающие их. Перед внутренним взором Ралея предстали картины штормящего, серого моря, пиний и песчаных берегов Виргинии под ее голубыми небесами. Он вспомнил, как волновали его обширнейшие замыслы, раз и навсегда запавшие в его душу после посещения той страны. Тяжело вздохнув, он вернулся к призрачной действительности и двум комнатам, в которых его содержали. Две комнатушки и короткие прогулки на террасе, когда сэр Уильям Уэд соблаговолит разрешить их. Там, на воле, весна покрывала снежными хлопьями берега реки, лето опоясывало их гирляндами жимолости. Нет, теперь уже весна не взбудоражит его кровь, и лето не согреет ее. Две серые клетушки сомкнулись, зажали его в своих холодных объятиях, и их, как саму смерть, ничто не сможет сокрушить. Ралей обернулся на звук открываемой двери и, как всегда при посещениях Уэда, принял безразличный вид. Но на сей раз это был не комендант. Это была Лиз в нарядном платье из серого с красными розами шелка, опоясанном розовыми лентами. Никакого безразличия не осталось на его лице, когда он бросился к ней с возгласами радости и тревоги одновременно: — Лиз, что ты делаешь тут в такой час? — Я теперь могу приходить сюда в любое время. — Тебя тоже арестовали? — испуганно спросил он. Лиз, смеясь, кивнула. — Я сама себя заключила в Тауэр, мой дорогой. Я хотела быть с тобой. И это она говорила когда-то: «Я люблю простор и свежий воздух». Она говорила: «Я могу вынести любое наказание, но заключение в крепость — никогда». А он… посмотрев на отплывающие вниз по реке корабли, он вернулся в комнату, считая себя самым несчастным человеком на свете! И тут опять руки Лиз вернули его к жизни. Это было предзнаменование. Ралей уже знал, что она скажет дальше. — А у меня есть новости. Хорошие и плохие. Сначала расскажу тебе о плохих. Шерборна у нас больше нет. Карр возжелал его, и Яков подарил поместье ему. — Он не имел права. — У него, пожалуй, не было выбора, Уолтер. Он любовник этого молодого человека. Ралей некоторое время с недоверием смотрел на нее. Затем с громким хохотом закричал: — Ну и ну! Да, такое стоило, пожалуй, потери Шерборна. Ничего подобного никто не слышал со времен Пьера Гавестона, украшавшего себя бриллиантами из королевской короны при Эдуарде Втором! Ты уверена, что тебе это не приснилось? — Сама королева сказала мне об этом. — Королева? — Да, — подтвердила Лиз, усаживаясь на стул и сажая его рядом с собой. — Сегодня я ходила к королю просить оставить Шерборн Уолтеру. Как я умоляла его! Я опустилась перед ним на колени и, как ты сам видишь, постаралась выглядеть как можно привлекательней. Единственное, чего мне удалось добиться, это разрешения быть здесь с тобой. Как только я вышла из его покоев, туда поспешил мужчина, а женщина, проходившая в это время по коридору, увидев его, воскликнула: «Чтоб ты провалился!», и я, видимо, неприлично уставилась на нее. Она посмотрела на меня и назвала по имени. И это была королева, Уолтер. Мы вышли с нею в парк и поговорили. Она хочет навестить тебя и привести с собой своего сына, принца Генриха. Она хочет, чтобы он видел перед собой Мужчину. И это ты, любовь моя. Более того, она обещала, что не пожалеет ни сил, ни слов в защиту тебя, чтобы вызволить из темницы. — Вот это новость так новость. Какая она из себя? Обладает ли она властью? — Она придет, и ты увидишь ее. Она небольшого роста, не толстая, но коренастая. У нее довольно плоское, круглое, жесткое лицо, но оно расцветает, когда она улыбается. У нее очень приятный, низкий голос, говорит она с небольшим акцентом. Но королева знает, чего хочет, и у нее полно планов относительно ее сына. Она мне нравится, Уолтер. — Я рад, что хотя бы одна из королев Англии сумела понравиться тебе, — сказал Ралей, развлекаясь восторженной похвалой жены ее величеству. — Она и тебе понравится, — уверенно заявила Лиз. — Возможно. Но тем не менее, Лиз, хотя я несказанно рад твоему решению, но я не хотел бы, чтобы ты оставалась тут. — Почему, Бога ради? — Ты возненавидишь тут все. Тауэр ни в коем случае не для тебя. Ты поблекнешь, ослабнешь в этих вечно сырых стенах. Здесь никогда не бывает солнца. А здешние правила сведут тебя с ума. — О нет! О нет! Если уж ты со своей лихорадкой выносишь все это, мы тоже как-нибудь справимся. — Мы? — Уолтер и я. Он там, за дверью сейчас. — Это не место для него. — Не место? Что подойдет принцу Уэльскому, то уж конечно подойдет и сыну Ралея. А это — общение с собственным отцом. Я тоже хочу, чтобы мой сын видел перед собой Мужчину. Лиз пожала ему руку и направилась к двери, но задержалась и со всей серьезностью сказала ему: — Не пытайся переубедить меня. Я всегда жила там, где мне нравилось. Это мое право как свободной женщины. «Свободная женщина!» — подумала она, стараясь открыть дверь, которая наконец подалась. Она думала о дремучих лесах и зеленых полях в Шерборне, об уютных комнатах, о парке, предмете ее постоянного восхищения. Мысль о Тауэре обдала ее холодом, Лиз всю жизнь страшилась замка. Но она выбрала его, потому что, несмотря на всю свою хваленую свободу, она оставалась не более чем рабой гордого человека, которого не смогли сломить никакие несчастья. И на меньшее она не была согласна. Лиз позвала юного Уолтера.II
— Продолжайте, продолжайте же, — умолял принц. — Но это уже конец истории. Нам ничего не оставалось, как только возвращаться домой, — сказал Ралей, откидываясь на спинку кресла и набивая табаком трубку. — И больше вы никогда туда не плавали? — Нет, существовали причины, из-за которых некоторое время я не мог этого сделать, но я посылал туда на разведку Уиддона, и он, прибыв к Ориноко, наткнулся на форт Беррео в месте слияния двух рек. Было бы у меня достаточно денег, чтобы повторить экспедицию сразу после того, как кончились дожди… Не могу я больше оставаться здесь и бить баклуши. — И кто, как не мой отец, держит в клетке такую птицу? — вздохнул Генри. — Не падайте духом, сэр Уолтер, а то вы так и останетесь ни с чем. Вот подождите, стану я королем, вы получите в свое распоряжение столько кораблей, людей и денег, сколько вам понадобится. Ралей улыбнулся. — Пойдемте, я вам кое-что покажу. Он привел юного принца к переоборудованному курятнику, который Уэд, подметив, каким вниманием королевы и ее сына пользуется узник, предоставил в полное его распоряжение. Ралей превратил его в лабораторию с установкой для дистилляции воды и печью для исследования проб золота. На ней же он приготавливал мази и снадобья по рецептам Топиавари. Здесь же он проводил и различные эксперименты. Он достал с полки флягу. Откупорив ее, Ралей протянул ее Генриху. — Попробуйте. Принц отпил содержимое фляги, опустил ее и, с удивлением посмотрев на Ралея, понюхал напиток. — Это просто вода, — сказал он, решив, что сэр Уолтер ошибся. — Хорошая вода? — Да, хорошая, обыкновенная вода. Что в ней такого? — Я ее сделал. Вам когда-нибудь приходила в голову мысль о том, сколько сражений было проиграно, сколько экспедиций должно было повернуть назад, сколько славных приключений закончилось ничем и сколько людей умерло от жажды, потому что опустели бочки, не осталось в них ни капли воды? А на много миль вокруг них море раскинуло свои соленые воды. Теперь ни один моряк, ни один исследователь дальних стран не погибнет от жажды. То, что вы сейчас попробовали, была дистиллированная вода, добытая из морской воды. Уиддон доставил мне сюда эту бочку. Я вскипятил немного воды, собрал пар, он передавался из одного сосуда в другой, пока снова не приобрел вид воды (у нее был до того отвратительный вкус), и теперь вы не смогли отличить ее от обычной, хорошей воды. Разве это не открытие? — Такое, что стоит всех этих лет вашего заключения, — торжественно произнес Генри. — Возможно. Я частенько задумываюсь над тем, что все, что ни делается в мире, все к лучшему или, во всяком случае, имеет какое-то тайное предназначение. На воле я никогда не задумался бы над этими проблемами. — А я, может быть, так и не узнал бы вас. — Так ли это важно. В круговороте придворных интриг упоминание о Гвиане — не более чем пустой звук. — О нет. В жизни всегда найдется внимательный и целеустремленный слушатель истинно мужественных историй. Ваша история — самая мужественная, самая лучшая из всех, какие мне когда-либо доводилось слышать. Вам не придется теперь долго оставаться здесь. Карр впал в немилость, новый фаворит моего отца Вильерс терпеть не может Говардсов и дружит с моей матерью и со мной. У меня отныне будет власть, у меня уже есть мои собственные приближенные, и я не успокоюсь до тех пор, мой дорогой друг, пока вы не окажетесь на свободе. А за этот короткий срок… нет, это нагло с моей стороны обращаться к вам с таким предложением… — Говорите, — сказал Ралей. — За этот короткий срок вы можете с помощью своего пера достигнуть бессмертия. — Я уже описал свою историю. — Вы способны на большее. Вы единственный из всех, кого я знаю, одинаково глубоко разбираетесь и в прошлом и в будущем и поэтому должны написать всемирную историю. «Всемирная история» — хорошо сказано. Грехопадение человека. Разграблен Иерусалим. Рим пал в результате нашествия варварских племен. Долгие годы в Тауэре научили Ралея не только отчаянию, но и терпению. Он, в отличие от принца, не верил в свое скорое освобождение. У него было много времени впереди. — Я это сделаю! — воскликнул Ралей. — Я напишу всемирную историю для вас. Загоревшись этой идеей, он плотно закрыл дверь в курятник-лабораторию. Завершен — и вполне успешно — великий эксперимент. Изготовлено достаточное количество снадобий. Ему не придется отвлекаться на другие дела. Доктор Баррел снабдит его книгами и добрым советом. Бен Джонсон просмотрит все работы по теме, опубликованные в прессе. А для него самого эта книга станет прибежищем от тоски. Он уйдет в нее от своих двух клетушек, от прогулок по террасе и от крошечной лаборатории. Это будет его битва при Саламине. *["1026] Пелопоннес, твои четыре тысячи бойцов Спят после битвы, сразив три миллиона персов. Он проложит себе путь к свободе тоже через Фермопилы. Голос принца прервал мечты, рожденные им же: — Дайте мне трубку, сэр Уолтер. Мой отец только что проклял эту губительную привычку, так что это, пожалуй, настоящее занятие для мужчин.III
Обложенный со всех сторон подушками и поставив ноги на разогретый кирпич, принц Генри старался одолеть слабость хотя бы настолько, чтобы успеть дочитать книгу. «О всемогущая Смерть, справедливая и необоримая, — слипающимися глазами читал он, — тот, кому никто не отваживался и совета дать, того Ты увещевала; то, чего никто не смел делать, Ты делала; тот, к кому прельщался весь мир, того Ты вышвыривала из этого мира и презирала; Ты соединила воедино все величие и всю гордыню человеческую, всю жестокость и суетность людей и укрыла все это всего лишь двумя короткими словами: „Hie Jacet“. *["1027] — Я должен прочитать последние слова, очень важные слова, — так тихо сказал принц, что Вильерсу пришлось наклониться к нему, чтобы расслышать его. — Сделай для него все возможное, Джордж. Ты один должен сделать все, что мы задумывали с тобой вместе. Не подведи меня. Никогда еще не было человека такого умного, такого благородного и такого мужественного, как он. Он не должен умереть узником. Ах, какой язык! — Вы слишком рано опускаете руки, — неуверенно возразил Вильерс. — Не бойтесь, вы еще сами освободите его из Тауэра. — Нет. Я ведь частенько присутствовал при изготовлении этого снадобья в лаборатории Ралея и не раз слышал, как он говорил, что оно помогает от всех болезней, если только болезнь не вызвана отравлением. Я выпил целую кварту его, и никакого улучшения. Меня отравили, и я умру. Все мои чаяния, мое будущее царствование, все, что я мог совершить, все оказалось мертворожденным и едва ли заслуживает даже тех коротких слов: «Hie Jacet». — Вы слишком много разговариваете. У вас снова начнется озноб, — сказал Вильерс. Он подошел к окну и наблюдал за грачами, летавшими вокруг своих гнезд на черных кленах, голые вершины деревьев сплели сеть из веток на фоне красноватого, закатного неба. Как грустно, думал Джордж Вильерс, умирать в пору своей весны, когда на каждом дереве во всей Англии взбухают весенние почки. Он знал, что люди с подозрением смотрят на его преданность принцу, расценивая ее как его стремление остаться фаворитом и при будущем короле, как и при Якове. Люди не понимали, — а сам он был не из тех, кто станет выяснять отношения, — что юный принц, ныне умиравший в своей постели, оказывал истинное, сильное воздействие на его приземленную и легкомысленную душу. Вильерс отошел от окна и нежно предложил: — Давайте я вас уложу как следует. Через десять минут здесь будет ваша матушка с докторами. Я слышал, как приказывали разбудить ее в четыре. — Если любишь меня, Джордж, отмени приказ. За последние шесть дней королева впервые отдыхает, и она ничем не может помочь мне. У нее сердце разрывается на части, когда она видит меня, а у меня — когда я слышу ее плач. Сделай это, Джордж, и возвращайся ко мне. И поплотнее закрой дверь от этих пиявок. Вильерс неохотно подчинился просьбе Генри. Он надеялся, что это проявление воли свидетельствует об улучшении самочувствия принца. Может быть, у него прибавилось сил. Когда он вернулся, то нашел принца еще глубже погрузившимся в подушки, в одной руке он по-прежнему сжимал «Всемирную историю». — Последняя просьба к тебе, Джордж. Раскури мне трубку. Не думаю, что смогу покурить ее. Но уж если я должен умереть, то что может быть лучше, чем умереть с его книгой в одной руке и с его трубкой в другой? Умирающие, подумал наш мирянин, видят все яснее. Умиравший разбойник, взглянув на распятого рядом с ним товарища по несчастью, назвал его «Господи». И принц на пороге своей смерти — в том, что он умрет, Вильерс уже не сомневался, — видел что-то настолько привлекательное в этом старом узнике Тауэра, что даже перед кончиной подражал ему в курении, как при жизни подражал его походке. Передав ему трубку, он дернул за шнурок звонка, который прозвенел в комнатах королевы и докторов, и, вернувшись к постели принца, торжественно произнес: — Обещаю вам, что не пощажу сил своих ради спасения вашего Ралея.На выполнение обещания ушло ровно два года.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ЛОНДОН. 1617 ГОД
Он вышел из Тауэра и направился к дому, который вышедшая за две недели до него из крепости Лиз приготовила для них. Прохожие не обращали внимания на высокого, сутулого человека с седыми волосами, с парализованной левой рукой и шаркающей походкой. Они его не знали. Прошли те времена, когда на улицах Лондона на сэра Уолтера Ралея пялили вовсю глаза и указывали пальцем. И никто из них не догадывался, что все они: водовоз с его бадьями, хозяйки с сумками, продавцы овощей со связками лука и пучками моркови, — все они казались ему такими же прекрасными, как ангелы в радостных, утренних лучах мартовского солнца. Он смотрел на них очарованный. После двенадцатилетнего перерыва он снова шел по улицам, у него из-под ног поднималась пыль, подошвы его ног, отвыкшие от мостовых, горели, громкие голоса людей казались слишком резкими после долгих лет тишины, окружавшей его. Проплывавшая мимо него леди в паланкине, заметив его удивленный взгляд, не без кокетства, но и с долей неудовольствия, задернула занавески. Откуда ей было знать, что она — первая пассажирка столь странного, впервые повстречавшегося ему вида транспорта? То глазея по сторонам, то останавливаясь, слегка опьянев от уличной сутолоки, он подошел к скромному домику, который Лиз посчитала подходящим для их семьи с довольно скромными средствами. Они с Уолтером выглядывали из окна и поспешили вниз встретить его. На ней было все то же серое платье с розами, в котором она была на аудиенции короля. Все это время оно пролежало в сундуке с лавандой и теперь сильно пахло этой травой, но шелковые сборки на лифе сильно попортились. — Бедняжка Лиз, — сказал он, когда было покончено с изъявлением радостных чувств по поводу его прибытия, — мы должны купить тебе новое платье. — Мне и в этом хорошо, — возразила она. — Продавец, который продал мне его, был мошенником. Пролежав двенадцать лет в сундуке, оно износилось сильнее, чем если бы я носила его каждый день. — Тем не менее оно по-прежнему тебе впору. Неужели ты никогда не станешь матроной, Лиз? — У меня полно седых волос, а будет еще больше. Уолтер, сходи на кухню и принеси вина и засахаренных фруктов. Такой же послушный в свои двадцать, каким он был в десятилетнем возрасте, Уолтер вышел. Как только за ним закрылась дверь, Лиз посерьезнела и заговорила напористо. — Уолтер, эта наша с ним последняя неделя была ужасной. Стоило ему услышать, по какой причине тебя освободили, как он стал вспоминать об обещании, которое ты дал ему, когда ему было восемь лет. Он клянется, что ты обещал ему взять его с собой в свой следующий поход в Гвиану. Ты должен отрицать это, убедить его, что все это лишь его фантазии. Дверь открылась, появился Уолтер-младший с подносом в руках. — Благодарю тебя, — сказала Лиз. — Ты не посмотрел, как там огонь в камине, Уолтер? — Нет. — Тогда пойди и посмотри. Я должна быстренько накрыть стол. Уолтер взглянул на нее и усмехнулся. — О нет, мать. Пока я не задам отцу свой вопрос, тебе не удастся выдворить меня из комнаты. Ведь если тебе дать время, ты станешь уговаривать его отказаться от его же собственных слов. Отец, разве вы не обещали мне еще в Шерборне, что, когда вы в следующий раз отправитесь в Гвиану, вы возьмете с собой и меня? — Не помню. У меня всегда была плохая память. — Вечером на Рождество, когда вы с сэром Кобхэмом и еще каким-то человеком приехали в Шерборн, в холле у лестницы я попросил вас об этом. Тогда вы не сказали мне ни «нет», ни «да», вы посмеялись надо мной и спросили, почему я так хочу этого. Потом как-то во время нашей с вами верховой прогулки я снова попросил вас об этом, и вы торжественно пообещали мне взять меня с собой. Я помню каждое ваше слово. Хотите, повторю их? — Все это твои выдумки, Уолтер, — резко возразила Лиз. — Твой отец не так глуп, чтобы давать подобные обещания ребенку. Ведь он мог бы отправиться в Гвиану уже на следующий год. Как бы он взял тебя с собой тогда? — Вы мне сказали, — продолжал Уолтер, обращаясь к отцу и не обращая внимания на слова матери. — «Мой сын» — как видишь, мама, это было торжественное обращение, он начал со слов «мой сын», — «мой сын, я обещаю тебе, что возьму тебя с собой. Для меня самое большое удовольствие сознавать, что зов крови заставил близкого мне человека пойти по моим стопам». Так-то вот. — Он никогда не мог сказать такое мальчишке, а если бы даже и сказал, ты не мог запомнить его слова, — решительно возразила Лиз. — Говоря по правде, именно так я и сказал, Лиз. Ралей мысленно вернулся в то ясное январское утро, когда они с Уолтером ехали по буковой аллее в Шерборне. Теперь тот маленький толстячок превратился в двадцатилетнего юношу, почти мужчину, и предъявлял ему его собственное обещание, глядя на него с такой же твердостью, какая была присуща ему самому. — Тут нужно подумать, — сказал Ралей в ответ на неумолимый взгляд сына. — С тех пор многое изменилось. Лиз охватил страх. Она тоже помнила то Рождество и песню, которую она так и не дала закончить, потому что ее слова ранили ей душу. — Выполните свое обещание, отец. Я там куда больше сумею сделать для вас, чем любой другой. Я забуду, что вы мой отец, разве что буду более послушен и предан вам больше всех. Пожалуйста, отец. Я мечтал об этом всю жизнь. — Всего неделю назад ничего не было ясно, твой отец все еще уговаривал Вильерса выпросить для него разрешение у короля. Всю твою жизнь! Тебе что — всего неделя? Поверь мне, всякий, кто услышит тебя, так и решит. — Оставь мальчика в покое, — сказал Ралей, заметив угрюмую, агрессивную мину на лице юноши. — Я дал обещание, не подумав о последствиях, с которыми столкнусь, когда оно снова всплывет на поверхность. Позднее мы все с тобой обговорим, Уолтер. Ну а пока должен сказать, что теперь я не хотел бы, чтобы ты шел со мной в этот поход. После обеда мы с тобой спустимся к докам и выберем себе корабль. Я назову его «Судьба», потому что это действительно моя судьба. На обратном пути они встретили Джорджа Перси, человека, который одним из немногих навещал Ралея в Тауэре. Он присоединился к ним, и между ними завязался разговор об экспедиции. — Итак, он отпустил вас с условием, что вы привезете ему золотой прииск. Очень хотел бы надеяться, что так оно и будет. Но скажу по секрету: испанцы знают все об экспедиции уже сейчас. Дон Диего, испанский посол, предложил дать вам спокойно выйти в открытое море. Вам понятно, что это означает? Он будет знать все о ваших планах. И вы дойдете только до того места, до которого они позволят вам, и ни на ярд дальше. — Я знаю. От всего этого заигрывания с испанцами любого англичанина тошнит. Тем не менее я ухожу в поход на этих условиях и, что бы там ни было, должен выполнить их. У меня не такое положение, при котором я мог бы торговаться. И скажу вам по секрету: я когда-то уже задал перцу испанцам и надеюсь повторить это. Еще какие новости? — В гостинице «Колокол» остановилась аборигенка из Виргинии. Говорят, в своей стране она принцесса. Я как раз иду туда. Пойдемте со мной? — Пойду ли я? Прибавим-ка шагу! Человек из Виргинии! Да она может рассказать ему, как дела в колонии у Смита. — Уж не сама ли это Покахонтас, а? — спросил он, задыхаясь от темпа, который сам же предложил. — Да, так ее зовут, — сказал Перси. — Как-то на днях она была на скачках в Ньюмаркете вместе с королем и королевой. Ралей чуть ли не с чувством благоговения вошел в гостиницу «Колокол». Покахонтас, высокая, стройная, с кожей цвета листьев старого дуба, поднялась навстречу Перси, которого она уже знала. Он насмешливо представил Ралея «принцессе»: недалекий, ограниченный Перси отдавал прерогативу королевского достоинства особам с белой кожей, — и он был крайне удивлен, увидев, как Ралей опустился на колени и поцеловал черную руку с выражением глубочайшего уважения. Юный Уолтер в свою очередь поступил так же. Дочь Похатана, которую в Англии встретили с любопытством и доброжелательно, но без должного благоговения, засияла от удовольствия и смотрела с улыбкой на этого высокого, статного мужчину с прекрасными манерами и на его прелестного сына. — Вы знайте капитан Джон Смит? — спросила она на ломаном английском языке. — Да. Это мой человек. Я послал его в Виргинию. — Вы посылать его? Вы гордиться им? — Очень. Благодаря его энергии и мужеству колония существует наконец. Кстати, как у них дела? — Хорошо, как они не искать золото, теперь табак, и картошка, и индейский маис, чтобы кушать. Не так было. Но не будет капитан Смит для меня. — Не будет? — Не будет, — покачав головой, повторила Покахонтас. — Вы не слышать история, как я покупать капитан? Глаза ее вспыхнули диким огнем, на щеках появился румянец. — Нет. Расскажите мне. В последнее время я мало слышал хороших историй. — Мой папа схватить его на охота — большой лес. Мой папа не любить белый люди, он велит голова долой. Принести камень, топор. Я выглядывать и видеть человек. Какой белый шея, борода — солнце. Я бежать из дома и класть мой голова на его — они мою отсекать сначала. Я — дочь короля. Они не сметь. И он спасайт. Я говорить мой папа и на другой ден мука и мясо буйвол — белому человеку, а я показать им, как сажать маис. — Замечательная история, — сказал Ралей, — позвольте и мне отблагодарить вас за него. Потерять такого человека для нас было бы невосполнимой утратой. Покахонтас выглядела опечаленной. — Он нет благодарить меня теперь. Раньше — да, не теперь. Он меня отсылать сюда, так далеко. — Вы вернетесь, Покахонтас. Назад, в Виргинию. — Да, может, когда-то. Но капитан Смит не любить меня. Все равно, где я есть. В комнате витала трагедия. Белый мужчина, коричневая женщина. Сколько же еще будет таких грустных историй, подумал Ралей, пока флаги белого человека не вознесутся над всей землей? Они покинули несчастную принцессу, чьей судьбой стала любовь к белому человеку, чье здоровье погубит английская зима и чьи кости будут покоиться на английском кладбище. Они вернулись в скромный дом, где Лиз с настороженными глазами и горящими от готовки на плите щеками ждала их ужинать. Корпус «Судьбы» уже возвышался над доками; испанский посол и король исподтишка обсуждали все, что планировал Ралей, каждую дощечку на корабле, каждую погруженную на него пушку — в Мадриде обо всем сразу же становилось известно; а Лиз решила поставить на карту все. Судьба, которая отняла у нее любовь, покой, здоровье, свободу и гордость, теперь покушалась на ее сына, и на алтарь этой последней битвы она решила положить всю себя, до последнего вздоха. А это было тяжко, потому что, подобно богиням судьбы, эти двое самых любимых ею людей объединились в битве против нее. — Ты еще слишком молод, чтобы знать, что тебе нужно, — с отчаянием в голосе сказала она Уолтеру. — Мне почти двадцать один год. Отец пошел на войну с Нидерландами, когда ему было меньше лет, чем мне, — упрямо настаивал на своем Уолтер. — Все это так гадко. Ты не должен был принимать навязанные тебе королем и испанцами условия, — сказала она, обращаясь уже к Ралею, — но тебе хоть кол на голове теши. Но зачем же сбивать с панталыку мальчишку? Скажи «нет», скажи твердо и пощади моего сына. — Он не только твой, но и мой сын, Лиз. — Твой сын! Ты хоть вспоминал об этом в ожидании, когда королева позовет тебя, когда я одна воспитывала его? Не вспоминал. Он тогда был ребенком, требующим забот, и воздух Лондона был вреден ему. А теперь, когда он благодаря мне вырос и стал мужчиной, ты видишь в нем лишь очередную жертву своей страсти к приключениям. Может, ты и для меня найдешь место кока или матроса на своем корабле, и мы составим семейную команду? — Ты несправедлива ко мне, Лиз.Ты всегда не понимала меня, когда речь заходила о моих рискованных предприятиях. — А ты чего бы хотел? Этот твой последний поход в Гвиану — он же привел всех нас к полному краху. Теперь-то я это отлично понимаю. Яков стал твоим врагом не потому, что ты будто бы составлял заговор против него, а потому, что всем известно, как ты ненавидишь Испанию, а он всячески старается ее задобрить. Вот почему мы лишились Шерборна и провели двенадцать лет в Тауэре. Но ты и теперь настолько глуп, что отправляешься на поиски золота во владениях испанцев и при этом обещаешь не наносить им ударов. Они же тем временем прекрасно осведомлены о том, когда и куда ты намерен отправиться. И при этом ты хочешь взять с собой Уолтера. Откуда у тебя эта чертова слепота? — Она тяжело вздохнула и продолжала уже более спокойно: — Ты иди, уж коли решил. Ты никогда не принадлежал мне, разве что несколько быстролетных часов. Но Уолтер — мой, он плоть от плоти моей: я его родила, я нянчила его, когда он был болен, я учила его, когда он был здоров, и воспитывала мужчиной. Я не дам ему уйти от меня. Она сложила руки у себя на коленях и упорно, вызывающе смотрела на них обоих. — Но, мама, мужчины всегда покидают своих матерей. Сотни юношей с радостью уходят в плаванье со своими отцами, и тогда их матери гордятся ими. Собирается в поход Уолтер Ралей. Я не могу отстать от него. И не хочу. Если ты уговоришь отца и он запретит мне идти с ним, я сотворю что-нибудь еще. Я пойду в «Московскую компанию» *["1028], они с удовольствием возьмут меня. Я понимаю, ты всем пожертвовала ради меня: ухаживала за мной и воспитывала меня, — юноша поежился в замешательстве, вспомнив, что совсем недавно жил в полной зависимости от нее, — но ведь твоя мать отпустила тебя. Ты покинула ее и выбрала собственный путь в жизни. Мне кажется, твоя мать была бы против твоего брака с фаворитом королевы и нашего с тобой вселения в Тауэр, но ты поступила именно так. Ты не послушалась бы ее. — Надо было мне быть поумнее и не делать всего этого, — горько заметила Лиз. Произнося эти слова, она с вызовом смотрела на Ралея. И мгновенно пожалела о сказанном. Была в ее характере особая черта: горе вызывало не слезы, а гнев в ее душе, и она начинала смотреть на жизнь бескомпромиссно и без жалости к себе. Последние годы ожесточили эту ее черту, придав ей больше стойкости и в какой-то мере цинизма, но ожесточили не до конца. Двенадцать лет она прожила с Ралеем в тесных комнатушках, и теперь не замечала тех изменений, которые произошли с ними за это время. Но, увидев, с какой болью муж глядит на нее, пораженный ее резкостью, она вдруг поняла, что он уже пожилой человек, что он слаб телом и раним, как никогда прежде. Лиз с грустью вдруг осознала всю бренность бытия. Юность пролетела, они подгоняли время, надеясь на новые возможности сделать то или иное для себя. И пришли к концу своей жизни с обманутыми надеждами. Он вот собирается в гибельную экспедицию, хотя никак не годится для нее теперь, а не его ли, не этого ли человека она любила? И Лиз почувствовала, что как прежде — слаба перед ним, поняла, что еще мгновение — и она сдастся, сердце больше не выдержит. Она еще попыталась удержаться на краю пропасти, но потом сказала изменившимся, странным голосом: — Уолтер, оставь нас одних на секундочку. Нет, я не буду настаивать на своем, обещаю. Юноша неохотно покинул помещение, неплотно прикрыл дверь и задержался в коридоре, чтобы при первых же звуках сражения кинуться в драку. Лиз подошла к Ралею и положила руку на его согбенное, худое плечо. Он молча посмотрел на нее. Вся эта сцена и те, что предшествовали ей, глубоко ранили его: он прекрасно понимал и Уолтера с его чаяниями, и Лиз с ее отношением к нему. Но теперь она говорила с ним мягко. — Много лет назад я отдала тебе все, что имела, Уолтер. Сегодня у меня ничего не осталось, кроме мальчика. Но ты нуждаешься в нем больше, чем я. Возьми его. — Но ты же говорила только что… — смущенный неожиданной переменой в ней, начал было, заикаясь, Ралей. — Знаю. Забудь об этом. Я не то хотела сказать. Его место рядом с тобой. Ралей, предвидя, в каком восторге будет Уолтер, с облегчением и ликованием принял окончание этой неприятной ситуации, как будто сбросил со своих плеч двадцать лет. Он вскочил и бросился целовать ее руки. — Лиз, ты не пожалеешь об этом. Со мной он будет в полной безопасности. Давай позовем его и скажем ему. Прежней энергией загорелись его усталые глаза. Лиз покачала головой. — Сделай это сам, — сказала она и, отняв у него руки, поспешила к дверям, наткнулась на сына и кинулась вверх по лестнице, в спальню, где в потоках слез упала на кровать. Далекие дни их страстной любви, тайного ухаживания, отчужденности и примирений, обоюдных испытаний — все это с новой силой возродилось у нее в голове, пока она в рыданиях лежала у себя в спальне. И к чему все это привело, и ради чего? Нагими и изможденными следует отправляться в могилу. Вероятно, так уж устроена жизнь: отняв силы, и гордость, и благородные мечты, она превращает могилу в желанное и отрадное место.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ КАНАРСКИЕ ОСТРОВА. ОКТЯБРЬ 1617 ГОДА
Время гонит овец из загона в загон.Дом губернатора в Гомере на Малых Канарских островах представлял собой белое, низкое здание с широкой, опоясывавшей его по всему периметру верандой, выстланной яркими испанскими плитками. Вьющиеся растения густо обвивали колонны, и их вершины свободно свисали сверху; ручная обезьянка, забавляясь, бегала по крыше веранды и кидала в прохожих цветы. Жена губернатора окинула последним критическим взглядом стол, накрытый к ужину, и комнату, которую от веранды отделяло что-то вроде занавески из рубленых тростниковых стеблей. Обычно подобные домашние дела только раздражали ее, и она оставляла эту обязанность на совести своего черного слуги, который и сейчас повсюду следовал за нею, беспокоясь, как бы этот необычный интерес хозяйки к плодам его труда не привел к худшему. Однако она не нашла изъянов в сервировке стола, накрытого скатертью с кружевами и уставленного серебряной посудой и цветами, и слуга вздохнул с облегчением, когда хозяйка удовлетворенно кивнула, налила себе бокал вина, вышла на веранду и легла там на тахту, обложенную множеством подушек. Впервые в своей жизни ей предстояло развлекать мужчину одной, подумала она, потягивая вино из бокала. Если об этом узнает Карлос, он будет в ярости. При этой мысли она пожала плечами. Подумаешь, да он всегда злится, дает она ему повод к этому или нет. Дон Карлос заседал в суде на другом конце острова, и когда прибыл посланец с письмом от капитана английского корабля, который только что вошел в гавань, ее охватило озорное, непреоборимое желание превратить его временное пребывание в доме в легкое приключение. Она, возможно, и не стала бы этого делать, если бы не перчатки. Их принес посыльный вместе с письмом, которое она тут же отослала своему супругу; эта пара мягких белых перчаток, украшенных вышивкой. Они свидетельствовали о том, что человек, приславший их, обладает и вкусом, и воображением, и она сразу же решила пригласить его на ужин. И теперь, уложив хорошенько каждый локон и украсив себя драгоценностями, она ждала его прибытия. Он, возможно, стар или ужасно уродлив, убеждала себя донья, но она все равно получит удовольствие от настоящей английской речи и узнает новости о цивилизованном мире. А это, право же, стоит накрытого стола и риска испытать на себе гнев ревнивца-мужа. С замиранием сердца услышала она звон колокола у ворот усадьбы и строго приказала крикливой обезьянке успокоиться. Обезьянка в ответ бросила в нее веткой красных роз, запутавшихся в ее черных локонах, и она сердито вытаскивала ее из волос, когда черный слуга ввел через главный вход англичанина. Придерживая ветку левой рукой и приветливо протягивая правую навстречу гостю, она, улыбаясь, уже собиралась заговорить. Но вдруг улыбка замерла у нее на губах, она отбросила розу и, затаив дыхание, приложила руку к груди. Ралей остановился, пораженный произошедшей переменой в ее лице, пытаясь понять, что могло так напугать ее при виде приглашенного ею гостя. Она не отрываясь смотрела на него, моргая зелеными блестящими глазами, как будто ожидала, что при следующем взмахе ресниц видение исчезнет. — Вы не помните меня? — спросила она по прошествии минуты, которая показалась раз в десять длиннее. — Прошу прощения. У меня не очень хорошая память. И тем не менее голос, лицо — они мне определенно знакомы. Она не без труда взяла себя в руки и, снова протянув к нему руку, сделала навстречу шаг-другой. Ралей взял ее руку и, склонившись над ней, поднес ее к своим губам, ощущая, как она похолодела и дрожит. Потом он снова посмотрел на нее. Черт возьми, да кто же она и что так ужасно взволновало ее? Перед ним стояла высокая, стройная женщина в последней поре своей красоты, которая когда-то была явно не из заурядных. Зеленые глаза, черные волосы, матовая кожа. Где же он видел ее раньше? Наморщив лоб, он рассматривал ее платье, будто в нем надеялся найти ключ к разгадке. Сиреневый шелк, довольно-таки устарелый корсаж с аметистами, аметистовые серьги, аметистовые перстни. Он перевел взгляд на ее лицо. Его явное замешательство позволило ей вернуть себе самообладание и успокоиться. — «Никогда» тянулось довольно долгое время, не так ли, капитан Ралей? «Никогда». Долгое время! Он вспомнил. Замок в Бэлли-ин-Хаш: как он боялся тогда, что его уловка сорвется. Леди Рош, посылавшая прощальный привет мужу, и он сам, склонившийся над такой же трепещущей, холодной рукой. — Дженис! — воскликнул он. — И вы после стольких лет. Я так рада видеть вас. — И я вас. Я ожидал встретить здесь толстую испанскую леди, которая стала бы задавать мне ужасные вопросы, ответы на которые хотел бы слышать ее супруг. Вы, конечно, поняли из моего письма, что это буду я. Она покачала головой. — Нет, я отослала его мужу, который сейчас в отъезде. Я даже осмелилась просить вас отужинать со мной, со мной наедине. Она уже положила руку на тростниковую занавеску, но при первом же шелесте тростниковых палочек ее отвела в сторону черная рука изнутри, и они вошли в комнату, освещенную свечами. Два черных евнуха, босые, безмолвные, подавали вино и еду, и Ралей, окончательно оправившись от мерзкого приступа морской болезни, рад был тому, что беседа касалась самых обыденных тем и он мог отдать должное вкусной еде. — Надеюсь, ваш отец простил меня, — сказал он в одну из непринужденных пауз. — Простил?! Да он обожал вас больше всех на свете. Он не уставал рассказывать всем и всякому, как вы взяли в плен целый город. Он без конца божился, что, будь среди англичан побольше таких людей, как вы, он не стал бы мятежником. Похоже было на то, будто хвалят мальчика, мало знакомого мальчика, который уже мертв. Какое яркое начало у этой маленькой саги из его жизни! Ралей постарался избавиться от тоскливых мыслей и распрямил плечи, решив, что конец саги должен быть достоин блистательного начала. — Как вы оказались здесь? — спросил он, отвлекаясь от собственных забот. — Это длинная история, — сказала Дженис, — и, — она бросила взгляд на слуг, — я лучше расскажу ее вам позже. Расскажите мне лучше о Лондоне и о новом короле. — Я и о том и о другом слишком мало осведомлен. Я находился в Тауэре больше двенадцати лет. — Так долго? Я что-то слышала об этом в свое время. Испанцы очень радовались. Они чувствовали, что их Гвиана вне опасности, пока вы в тюрьме. Вы, конечно, женаты? — с явно нарочитой небрежностью спросила она. — Уже двадцать один год. — У вас есть дети? — Сын. А у вас? Дженис покачала головой. Опасаясь, что причинил ей боль своим вопросом, Ралей пошел на маленькое предательство по отношению к своему обожаемому сыну. — Не все так просто с ними. Из ребенка они вырастают в зрелого человека, за которого по-прежнему чувствуешь свою ответственность, но над которым уже не имеешь никакой власти. — Ваш сын разочаровал вас? — О нет. Он такого высокого мнения обо мне. он настоял на своем участии в этой моей экспедиции. А это означает, что я сейчас уязвим более чем когда-либо. — Древние считали детей заложниками будущего. За разговором незаметно ужин подошел к концу. Дженис отдала короткое приказание слугам на испанском языке и поднялась из-за стола. Она подошла было к тростниковой занавеске, закрывавшей выход на веранду, но остановилась и вернулась назад. — В доме будет гораздо удобнее, — сказала она и провела его в комнату, сплошь увешанную коврами, обставленную низкими, заполненными подушками софами и с множеством книг. — Поговорим лучше здесь, — сказала она. Прежде чем сесть, она взяла с одной из полок что-то похожее на тоненькую книжку в кожаном переплете и положила себе за спину, за подушку. — Вы собирались рассказать мне, как вы здесь оказались, — напомнил ей Ралей, желая проследить ее путь из холодного, неприглядного ирландского замка на этот шикарный субтропический остров. — Вообще-то это коротенькая история, если не касаться причины, а я не очень уверена, что должна открыть ее вам. Но я, так и быть, расскажу. Она подложила под голову еще одну подушку и откинулась назад. — Меня занесло сюда из-за «Армады». После вашего визита к нам я прожила в Бэлли еще шесть лет и собиралась провести там и всю оставшуюся жизнь. Но как-то утром на скалы возле нашего берега вынесло потерпевший крушение корабль. Наши мужчины на лодках поплыли к нему и вернулись на берег с несколькими моряками, они были испанцами. За одного из них я вышла замуж. Она смолкла и, оставаясь в обществе этого странного посетителя, погрузилась в воспоминания о том, очень далеком утре, когда едва передвигающиеся, измученные люди вскарабкались на берег и воспользовались гостеприимством замка Бэлли. Дженис вытащила из-под подушки похожий на книжечку кожаный переплет и развернула его. В обложке помещался портрет. Она сначала сама посмотрела немного на него, потом протянула его Ралею. Он взял портрет и с удивлением некоторое время рассматривал его: ему показалось, что на портрете изображено его собственное лицо. — Это мой муж, — сказала Дженис. — Но он похож… Я хотел сказать — вы заметили сходство? — С вами? Ну, конечно. Тогда утром я в первый миг подумала, что какой-то счастливый случай вернул вас в замок. Простые слова, так просто сказанные. Но они выдали ее с головой: ее ожидание, надежды, молитвы, обращенные ко всем святым и к Богоматери, чтобы он вернулся, что так никогда и не случилось; все мечты ее юности обнажились в этом коротком предложении. Она ждала шесть лет, но в конце концов дала свое согласие чужестранцу единственно за его лицо, такое близкое, знакомое лицо. — К нашему берегу не так уж много кораблей приставало, большинство проходили мимо, на запад. Некоторые простые моряки из той команды остались и так и живут там — или их дети, — ну, а влиятельные лица дождались удобного случая и отплыли на родину. Вместе с Карлосом уехала и я. Так я попала сюда. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как многое в жизни зависит от случая? Не мы распоряжаемся нашей судьбой, правда ведь? Предположим, в то ясное утро это оказался бы Ралей, подумала она; предположим, он полюбил бы ее так, как полюбил Карлос, — как изменился бы ее жизненный путь! А если бы она вообще никогда не видела Ралея, тогда чем бы очаровал ее тот молчаливый чужой человек, потерпевший кораблекрушение? И Ралей тоже думал о своем: предположим, она очаровала бы меня и я женился бы на ней еще до того, как увидел королеву. Мне бы тогда не пришлось жертвовать своей карьерой, как это случилось в результате моей тайной связи с Лиз. После смерти королевы я мог бы занять место, которое сейчас занимает Сесил, и не стал бы ввязываться в эту губительную экспедицию, рискуя при этом всем, что мне дорого. — В какой-то мере мы распоряжаемся ею, но при этом мы используем тот материал, который нам дан, а он иногда бывает абсолютно неподатлив и сводит все наши усилия к нулю. А возвращаться мыслью назад, к началу жизни, — все равно что читать книгу, начиная с конца. — История вашей жизни должна выглядеть одинаково хорошо, с какого конца ни начни. — Моя? Почему? — Вы занимали важный пост и имели власть. Даже в нашей тихой заводи кое-что известно о вас. — Я почти не добился ничего из того, чего хотел. Бывали хорошие времена и, может быть, еще будут. Если этот поход завершится удачей. Но как знать? А у меня слишком мало времени осталось, чтобы проигрывать. — Вы действительно хотели бы знать, что ждет вас в будущем? В ожидании его ответа она странно посмотрела на него. — Хотел бы, но кто, кроме Бога, знает это? Вместо ответа Дженис поднялась, прошла в другой конец комнаты и открыла там какой-то ящик. Покопавшись в нем, она нетерпеливо закрыла его и открыла другой. Из этого ящика она вынула сверток — что-то завернутое в черный бархат, — держа его в руке, она вернулась к нему и уселась рядом. Еще не развернув сверток, она сказала: — Я предскажу вам будущее. Я не делала это вот уже несколько лет. Мой духовник считал это смертным грехом, так что я отложила эту вещь в сторону и забыла о ней. Но теперь у меня очень терпимый исповедник, и он отпустит мне этот грех, тем более что я не себе буду гадать, а вам. Ралей смотрел, как она развернула бархатный лоскут, там оказался хрустальный шар зеленоватого цвета, в глубине которого как будто вилось колечко дыма. Она обхватила шар руками, согревая его в своих ладонях. — Смотрите в него, у вас тоже может оказаться провидческий дар, — сказала она. — Давным-давно, еще в Севилье, старушка-испанка дала мне его. И я совершенно случайно поняла, что могу пользоваться им по назначению. Шар упал Уолтеру в ладони, тяжелый и холодный. Холодок пробежал у него по спине и добрался до макушки. Протест, который висел уже на кончике его языка, присмирел под воздействием сразу двух свойственных ему чувств — суеверия и скептицизма. Он верил в гадание настолько, чтобы желать узнать, что оно покажет; но и его неверие было достаточно сильно, чтобы не брать в расчет предостерегающую дрожь, охватившую его при взгляде на это безобидное стекло. Ничто не изменилось в зеленоватой глубине шара. Только не стало видно кольца дыма, шар оставался прозрачным и пустым. Он отдал его Дженис. Она расстелила на подушке бархатный лоскут и положила на него шар, кончиками пальцев коснувшись его поверхности со всех сторон. Когда Дженис наклонила голову над кристаллом, тишина в комнате стала давящей: казалось, весь мир замер в ожидании провозглашения судьбы сэра Уолтера. Наконец Дженис заговорила, голос ее был другой: низкий, отстраненный и вдохновенный. — У вас много врагов, — сказала она, — и очень мало друзей. Вот юноша, ваш сын, естественно, и женщина со светлыми волосами. Ваша жена? Они преданы вам. Еще я вижу моряка, он умрет за вас, и несколько черных людей — это ваши друзья. Снова наступила гнетущая тишина, и в хрустальном шаре не видно было ничего: глаза провидицы вглядывались в руку, спокойно лежавшую на поручне рядом стоящего кресла. Дженис вспоминала, как сегодня вечером, до его появления, прихорашиваясь и одеваясь у себя в комнате, она предвкушала в лучшем случае вечер с легким флиртом, в худшем — просто обмен светскими сплетнями. А тут вдруг воспоминания унесли ее к тем далеким дням, когда она испытывала безумную, неодолимую страсть, и теперь она смотрела в этот хрустальный шар, чтобы узнать дальнейшую судьбу любимого человека, хотя все это время желала одного: обнять его замечательное, разрушенное годами тело, разгладить морщины на его лбу своими поцелуями, которые она сберегала для него на протяжении всех этих тридцати шести лет. Дженис с трудом отвела глаза от его руки и вернулась к предмету, который держала в своей руке. В комнате снова довольно надолго воцарилась тишина, пока тот же отстраненный голос не произнес: — Ваши люди доберутся до прииска. Вы никогда его не увидите, вы будете тяжело больны, очень тяжело. Затем… Ралей наклонился к ней, почувствовав, как вся она напряглась. Дженис вдруг широко открыла рот, ужас застыл в ее глазах. Одной рукой она накрыла шар бархатным лоскутом, другой, вскочив на ноги, схватилась за горло, страшно побледнела, задохнулась и не могла произнести ни слова. — Бог милостивый, — наконец пробормотала она, — я, конечно, согрешила, но разве можно так наказывать за этот грех? — Что с вами? Что вы там увидели? При звуках его голоса она уронила руки и опустила глаза, чтобы скрыть поразивший их ужас. — Да ничего такого, — невнятно произнесла она, -ничего, что касалось бы вас. Это обо мне. Я увидела там себя безотносительно к вам. Он сразу понял, что она хочет разуверить его в чем-то. — Что вы там видите? Вы должны сказать мне. Но Дженис уже взяла себя в руки, и следующая порция лжи, произнесенная ее побелевшими губами, звучала гораздо убедительнее. — Это не касалось вашей судьбы. Клянусь Богом. Я случайно отвлеклась, думала найти там ваше будущее, а увидела свое. Я больше никогда не возьму в руки этот противный шар. Она взяла со стола серебряный колокольчик и стала неистово вызванивать слугу. Тот, словно джинн из бутылки, тут же предстал перед ней, и Дженис отрывисто приказала: — Принеси вина, и немедленно. В ожидании возвращения слуги она взяла в руки шар и, открыв окно, выбросила его куда-то в темноту. — Простите меня, пожалуйста, — сказала она, — ни к чему было испытывать судьбу. Но мы ведь не позволим этой ерунде испортить нам вечер, не так ли? Дженис изобразила улыбку на лице и, когда вино прибыло, разлила его по бокалам твердой рукой и сказала: — Мой тост — за ваш прииск. Пусть он оправдает все ваши надежды. — И за нашу встречу, она оказалась куда лучше всего, на что я надеялся, — ответил Ралей. Дженис снова опустилась в свое кресло, пододвинув его поближе к Ралею. Что-то чуть-чуть изменилось в манере ее поведения. — Вы когда-нибудь вспоминали обо мне? — Часто. — И это в некотором смысле было правдой: когда бы он ни вспоминал тот свой марш из Бэлли в Корк, перед его глазами всегда возникали ужин в замке и обе женщины — леди Рош и ее дочь, напоминавшие ему марионеток в той маленькой драме. — Мне это приятно слышать, — сказала Дженис, — ведь я так часто думала о вас и гадала, удастся ли мне когда-нибудь снова увидеть вас. Но никогда не могла представить себе, что это случится именно так. Ей никогда не приходило в голову, что годы могут так изменить его, превратить его черные волосы в седые, наградить его хромотой и почти неподвижной рукой. Ее жизнь была такой незыблемой и спокойной, что годы обошлись с нею мягко. Немного незначительных морщинок вокруг глаз, которые при улыбке становились виднее; два-три седых волоса, которые ничего не стоило выдернуть из блестящих, темных локонов. Разница в возрасте между ними была в тринадцать лет, что в юности воспринимается как большой разрыв, а с годами уже не так ощущается. И тем не менее она видела перед собой глубокого старика. И обреченного человека. Потому что она не допускала ошибки в том, что сцена, появившаяся в затуманившейся глубине хрустального шара, знаменательна и правдива. Теперь не только юношеское обожание терзало ее сердце. Ею овладело желание утешить его, защитить, спасти. И ей не оставалось ничего другого, как протянуть к нему руки, согреть его лежавшую на ручке кресла холодную, бесчувственную руку своими теплыми руками. — Так вы должны исполнить поручение короля? — На этом построены все мои надежды. А что? В вашем шаре вы видели наше поражение? — О нет. Но вы заболеете. Очень сильно заболеете, а это будет так далеко, и вокруг вас будут одни мужчины. — Из них получаются прекрасные сиделки. Да и ваши видения могут в конце концов не сбыться. — Я в этом почти уверена. Но в душе она не сомневалась в истинности предзнаменования. И при мысли об этом Дженис сняла свои руки с его руки: перед лицом того, что неумолимо надвигалось на него, любое проявление сочувствия казалось глупым и неуместным. Ему придется идти в этот поход, а что касается ее собственного умишка, ей остается только забыть все. Неотразимое, пылкое обаяние его юности, с одной стороны, и потрясшие ее, неожиданные приметы его старости — все должно быть забыто. Будто ощутив кардинальное изменение хода ее мыслей, Ралей встал и собрался уходить. — Утром я пришлю к вам на корабль свежих фруктов и сахара, — сказала Дженис. Ей явно нелегко было говорить, и от этого голос ее был невыразительный, напряженный. На сей раз она знала точно, что больше уже никогда не увидит его. Его новое появление в ее жизни походило на повтор первой строки песни в конце ее; на печальное, но неизбежное рондо. И Ралей, прижимая ее руку к своим губам, взглянул на нее и этим взглядом, казалось, выдал свое полное понимание всего — и ее прошлых грез, и ее сегодняшнего горя. Даже слова благодарности в его устах звучали не просто как благодарность за гостеприимство и за те дары, которые она принесет завтра утром на корабль, в них прозвучало нечто гораздо более значительное. Дженис проводила его до двери и затем словно во сне побрела к своему креслу на веранде. Луна светила с высоты ярким светом, и Дженис разглядела обезьянку, которая держала что-то в лапках и забавлялась игрушкой. Хозяйка рассеянно позвала ее, и та покорно спрыгнула к ней на колени и положила на них хрустальный шар. Дженис с криком вскочила на ноги. Ужас, накативший на нее от увиденного в глубине шара, с которым она должна была и сумела справиться, при Ралее, теперь поразил ее в самое сердце. В то время как черный евнух, задохнувшись, спешил к ней из дома на помощь, она потеряла сознание и свалилась к его большим босым ногам.
Ралей возвращался на свое судно. Даже эта встреча, напоминание о далеких днях юности, не взволновала его. Он вспоминал уже о ней, как вспоминают о приснившемся сне — будто в тумане. Она, конечно, что-то значила для него, что-то очень важное. Но его прежде такой живой ум безжалостно притупили многие тяжкие годы жизни, никогда не оставлявшие его каждодневные заботы. Медленно шагая в эту светлую, теплую ночь по чужому острову, он гадал, способен ли он будет когда-нибудь еще к сильным чувствам.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ ТРИНИДАД. ДЕКАБРЬ 1617 — МАРТ 1618 ГОДА
В лучах заката — алые паруса.Мотая головой по жесткой подушке, он тихо стонал. Вот уже в четвертый раз за это утро Ралей пытался слезть со своей койки, но валился обратно в нее от такой слабости, с которой не могла справиться никакая решимость. И теперь, когда нетерпение сводило его с ума и заставляло трепетать и останавливаться его сердце, он должен был еще один день провести в постели. Целые сутки, двадцать четыре часа, за которые он мог бы сделать так много. По-видимому, тот проклятущий шар предсказывал правильно. Он был предупрежден о подстерегавшей его болезни. Тихо вошел Кеймис и встал в дверях, пытаясь определить, спит ли его патрон. — Входи же, — нетерпеливо воскликнул Ралей, — я хочу поговорить с тобой. — Как вы чувствуете себя сегодня? — тихо спросил Кеймис. — Все еще дьявольски плохо. Как дела у остальных больных? — Четыре поправляются. Еще двое… — Он прикусил язык, испугавшись невесть какого воздействия подобной информации на страдальца. — Умерли? Значит, на «Судьбе» осталось всего сорок два человека. Кеймис, это невыносимо. Мы тут валяемся, а люди мрут каждый Божий день, а испанцы с каждым днем становятся все сильнее. Сегодня я должен встать. Я должен встать. Я только что пытался, но не смог. Но, может быть, с твоей помощью… — Я не осмелюсь помогать вам, — угрюмо ответил Кеймис. — Помочь вам подняться с постели означает помочь вам лечь в могилу. — Кеймис, ты обязан. Ничего другого не остается. Если рука друга поможет мне хотя бы подняться на ноги, с остальным я справлюсь сам. Ты же знаешь, что значит для меня эта проволочка. Умоляю тебя, помоги мне. — Хорошо, — сказал моряк, глубоко задетый словами Ралея. — Вы тоже знаете, что значит для меня эта задержка. Он подошел вплотную к койке, обхватил сильными руками худые плечи, ощутив при этом каждую выступающую косточку, жар, исходящий от тела, и пот, выступивший на плечах. Ралей с трудом опустил ноги с края койки и поднялся на ноги, хватаясь за Кеймиса, как утопающий хватается за соломинку. Кеймис увидел, как сильно прикусил он свою нижнюю, покрытую бородой губу и как на испещренном морщинами лбу выступил холодный пот. Ралей отпустил поддерживавшее его плечо и, тяжело дыша, сказал: — Ладно. Оставь меня. Теперь я сам. Кеймис очень осторожно отпустил его руку. — Подай, пожалуйста, мне штаны. Моряк потянулся за темными, моряцкими одеждами, сменившими пышные придворные наряды. Но Ралей, протянув руку, чтобы взять их, как сноп, рухнул на пол. Кеймис легко, словно перышко, поднял его и снова уложил в постель. Глаза Ралея были закрыты, он по-прежнему крепко прикусывал зубами нижнюю губу. Это было лицо мертвеца. Бутылка рома стояла на ящике возле койки, Кеймис взял ее, открыл и своей далеко не нежной рукой разжал зубы Ралея. Острый запах спирта распространился по каюте, когда жидкость из бутылки пролилась на грудь и подбородок больного. Вторая попытка оказалась более удачной, Кеймис видел, как задвигался кадык на шее Ралея и как он сделал один глоток, и через минуту-две ресницы его дрогнули, и он произнес слабым голосом: — Все бесполезно. Присядь на минутку, друг. Я должен изменить наши планы. Некоторое время в каюте стояла тишина. Кеймис посматривал по сторонам, разглядывал картинки на стенах, книги, нелепого Будду, как будто видел все это в первый раз. Он знал, насколько ограничен в средствах был его патрон, когда готовился к этой экспедиции, и в который раз удивлялся потрясающей воле его и уму: будучи таким бедным и обреченным на безнадежное, безрассудное дело, он сумел окружить себя такой красотой. Кеймис, сам придерживавшийся спартанского образа жизни и пуританин по натуре, не видел в этом человеке ничего, за что можно было бы его упрекнуть, и очень многое в нем он всем сердцем обожал. И даже это удивляло его. Он смотрел на тонкое лицо с закрытыми глазами и пытался угадать, какой еще план созревает за этим таинственным фасадом. Очень скоро он узнал о нем. — Не остается ничего другого, Кеймис. Ты должен идти на поиски прииска без меня. Кеймис прекрасно понимал, чего стоило это решение Ралею. И в то же время ему льстило, что в этой почти безнадежной ситуации Ралей выбрал именно его на свое место. Ему приятно было сознавать, что он подходит для этого дела не меньше, чем любой другой человек. — Хорошо, сэр Уолтер. Я сделаю все, что в моих силах, вы же знаете. Когда прикажете отправляться? — Сегодня же, если это возможно. Возьми пять небольших кораблей. Они годятся для прохода по реке. И двести пятьдесят подходящих людей, если сумеешь набрать столько. Я поручаю командование тебе одному и полагаюсь на твое благоразумие. По мере сил — избегай столкновений с испанцами. И все-таки, — тут голос его вдруг приобрел силу, — доберись до прииска, Кеймис, и, если на тебя нападут, дай отпор, чего бы это тебе ни стоило. Не добраться до золота значит потерпеть наше собственное поражение, спастись бегством от испанцев значит опозорить всю нацию. — Не бойтесь. Я пойду готовиться к походу и вернусь, как только все улажу. Ралей кивнул, и Кеймис направился к двери. — Да, Кеймис! — Слушаю, сэр Уолтер. — Мой сын пойдет с тобой. Прежде я еще никогда не посылал никого взамен себя, но теперь, так низко павши, я хочу послать своего сына. — В этом нет никакой нужды, — начал было Кеймис, но Ралей не дал ему продолжить. — Я так хочу. И он тоже. Обрати внимание на выражение его лица, когда скажешь ему об этом. Сообщи ему мое решение и пришли ко мне его и Герберта.
После того как Кеймис покинул каюту, Ралей лежал, переживая самый горький свой час. Он, беспомощный, приговорен лежать на этой опостылевшей койке, когда появился наконец последний, величайший шанс в его жизни. Положиться целиком на Кеймиса, когда от малейшего изменения плана действий, от неожиданного прозрения, дерзкого решения может зависеть все. Кеймис, конечно, славный малый, смелый, достойный, преданный ему человек, но это дело не его жизни, не его судьбы. Ну почему именно сейчас накинулась на него эта лихорадка? И почему именно на него, Господи? Вошел Уолтер, чуть дыша от восторга. — Спасибо, отец, что вы посылаете меня. Мы обязательно добьемся успеха, что бы там ни было. И, пожалуйста, не беспокойтесь, ладно? Лежите и поправляйтесь тут. К следующей нашей встрече я подготовлю славные новости для вас. — Я на это очень надеюсь, сынок. Помогай во всем Кеймису. И не забывай, что он твой командир. Он знает страну. Уолтер кивнул. — Но копьеносцы — мои. — Да, конечно, но дай Бог, чтобы они вам не понадобились. — Да, да, — рассеянно согласился с отцом Уолтер. — К сожалению, мы должны относиться к испанцам как к своим друзьям, пока сами они не докажут, что это далеко не так. У Уолтера вытянулась физиономия: он, конечно, понимал это, таков был приказ по флоту, но повторять это сейчас значило сводить все приключение к банальному событию. — Прежде было куда лучше, — с сожалением заметил он. — Да, пожалуй. Ты запоздал со своим появлением на свет, Уолтер. А я, я зажился на этом свете. — Не говорите так. Даже думать так не смейте. Ваш день еще придет, когда мы вернемся с золотом домой. Вот это будет день так день! — Да уж, день так день! А, это ты, Герберт? Заходи. Я хочу, чтобы вы вдвоем посадили меня в кресло и подняли на палубу. Я по крайней мере должен видеть, как вы отправитесь в путь. — Разумно ли это, отец? — спросил Уолтер. — Разумно или неразумно, но я так хочу. Я слишком стар, чтобы во всем поступать разумно. Они обернули одеялом его ноги и туловище, на плечи накинули плащ, подняв при этом воротник. И в таком виде на их сильных, молодых руках он снова поднялся на палубу. Со своего кресла Ралей наблюдал за спешными приготовлениями на пяти судах и следил за отбором копьеносцев для предстоящего похода. В полдень из-за неумолимой жары приготовления пришлось приостановить, но Ралей отказался спуститься в свою каюту: он предпочел подремать здесь же, на палубе. Это испытание не прошло для него даром — лихорадка усилилась, и, когда Уолтер и Кеймис покинули его, ему показалось, что между ним и этими энергичными, оживленными людьми уже упала вечная завеса. Он еще мог видеть и слышать их, сам вполне осмысленно говорил что-то об экспедиции, но все это казалось нереальным, атмосфера отчужденности накрыла все вокруг. Пять маленьких суденышек медленно отплыли. Постепенно каждый корабль терял свой цвет, пока все они не превратились в черные точки на фоне сияющего закатного неба. А затем стеньги осветило заходящее солнце, и на миг они блеснули рыжеватым цветом, который он всегда так любил. Цвет надежды, из-за которого когда-то они поссорились с покойным Эссексом. Этот неожиданный всплеск рыжего сияния над все уменьшающимися, исчезающими кораблями, был ли он предзнаменованием? Запад. Земля всех его упований, магнит его души. А может, это предзнаменование чего-то еще? В ушах изможденного болезнью человека прозвучали давно сказанные Топиавари слова: «Молодые нации поднимаются на востоке, старые нации умирают, как заходит солнце на западе» — что-то в этом духе припомнилось ему. И кое-что еще, кое-что о том, что поражение грядет на голову сына его сына. «Прощай, Уолтер!» — снова произнес он, тихо и на этот раз с глубоким вздохом. Теперь горизонт был чист, и стало прохладнее. Он позвал людей, чтобы они отнесли его вниз, в каюту. Долгое пребывание в Тауэре научило его по меньшей мере терпению. Ралей частенько вспоминал потом этот месяц ожидания. Он должен был закончиться известием, хорошим или плохим, и все. Остальное пребывало в неизвестности. Ралей вел записи в своем судовом журнале; следил, чтобы на кораблях, которые, как и он, ждали и надеялись на добрые вести от ушедших на поиски золота, все было в полной готовности к отплытию; а в те дни, когда болезнь ненадолго отпускала его, он высаживался на берег, собирал травы и получал новые сведения об острове. Иногда бывало и так, что он забывал о том, что он — сэр Уолтер Ралей, несчастный и почти что сломленный человек, жизнь которого целиком зависит от результатов экспедиции; случалось, что при виде чего-то нового на этом незнакомом ему тропическом острове он приходил в восторг от удивительного этого мира и оттого, что при всей недолговечности бытия он смог стать свидетелем и участником этой многовековой драмы. Но стоило ему вспомнить, что он — всего лишь хромой, уставший от ожидания командующий той части флота, которая ушла без него и от которой все не было вестей, как радость угасала в его душе. Четырнадцатого февраля на горизонте пустынного моря возникла черная точка. С запада подходил корабль. С момента его появления до того мгновения, когда человек с письмом в руке поднялся на борт «Судьбы», прошло времени больше, чем за все его годы в Тауэре, за всю его жизнь. Что там случилось? Уж не единственный ли это корабль, уцелевший после какого-то невообразимого сражения? Пришел ли на этом корабле Кеймис или Уолтер? И золото. Как с ним обстоят дела? Но вот наконец он держал в своей руке письмо. Дрожащими пальцами он распечатал его и пробежал глазами, схватывая смысл одним взглядом. Нет, этого не могло быть. Его глаза обманывали его. Он слишком быстро прочитал письмо. Как будто ушибленный, он снова, по складам, как начинающий, стал перечитывать письмо, каждое слово в отдельности, очень медленно. «Испанцы напали на нас при Сан-Томе». К этому он был готов. «Мы дали отпор». Да, в это тоже можно было поверить, это понятно. Но затем… «Уолтер Ралей и капитан Космор были убиты». Так и написано. Это не галлюцинация. Уолтер мертв. Его сильный, юный сын, который пожал ему руку, поцеловал его и ушел в поход, пообещав выполнить за него его работу. Тот маленький кудрявый мальчуган, который вынудил его в холле Шерборна сделать то, что привело его теперь к такому концу. Уолтер, который провел свои детские годы в мрачных застенках Тауэра, лишь изредка позволяя себе невинные, грошовые развлечения, в то время как другие дети проводят их в радости и забавах. Его сын, которому он так долго не уделял должного внимания, ответил на его пренебрежение обожанием и преданностью. И вот он мертв. Его золотая голова лежит теперь в чужой земле. Гвиана навеки смежила его светлые очи. Ралей закрыл лицо руками и застонал. Как он ругал себя, что позволил Уолтеру пойти в эту экспедицию! Хотя это было желание самого Уолтера. Он горько оплакивал свое отцовство: будто умерло что-то в нем самом. Долго сидел он, держа в бесчувственной руке письмо. Сначала мучила затянувшаяся болезнь, теперь этот удар. От подобных вещей погибли Дрейк и Хоукинс. Наступает час, когда у человека не остается сил на сопротивление, когда кажется, что лечь и умереть куда предпочтительнее и естественнее, чем продолжать жить без всякой надежды и твердости духа. Теперь он мог уйти из жизни. Стоило только, как говорится в Библии, повернуться лицом к стене и опуститься в пустоту и умиротворение могилы, и тогда смерть будет легкой. Но еще оставалась Лиз. Он обещал ей по возвращении спокойную жизнь. И теперь он должен был вернуться к ней со словами успокоения. Но откуда взять такие слова при таких страшных обстоятельствах? Уолтер был так молод — погиб в расцвете сил. Он не страдал никакой болезнью. Он никогда не знал, как теряют надежду. Не испытал он и превратностей любви. Старческие болячки и немощь никогда не коснутся его. Он умер внезапно, незапятнанной смертью бойца в жаркой схватке, в той роли, которую он сам себе избрал — командиром копьеносцев, он погиб от рук врагов. Ралей припомнил, каким был он сам в возрасте Уолтера. Тогда он участвовал в военных действиях в Нидерландах, и для него риск погибнуть в бою был не меньшим. Допустим, он погиб бы там. Много ли он от этого потерял бы? Так ли все, что последовало за той войной, было хорошо, мило его сердцу? Любовь Лиз, ночи украдкой у ее окна. Теперь он за них расплачивается; выходит, ужасная новость, которую он должен ей сообщить, всего лишь плод их любви. Короткая, быстротечная слава, порадовавшая его в свое время, теперь ушла, оставив после себя мрак и бессилие. Уолтера, может быть, надо не жалеть, ему надо завидовать. Может быть.
Ралей наконец поднял письмо с пола, куда незаметно для себя уронил его, и прочитал ту его часть, где говорилось о прииске. Кеймис определил его местонахождение и засел в засаде неподалеку от него. В то время, когда он писал письмо, он надеялся молниеносным набегом подобраться к прииску и вернуться с таким количеством золота, что оно должно было оправдать всю их экспедицию. И опять — не оставалось ничего другого, как ждать. Прошло шестнадцать невыносимо жарких, заполненных припадками лихорадки дней, которые завершились возвращением Кеймиса с пустыми руками. Они смотрели друг на друга, и только узкое пространство каюты разделяло их. Верный Кеймис, большой и загорелый до черноты, который в течение трех месяцев каждый день глядел смерти в лицо, отстаивая интересы, совершенно чуждые ему. Он стыдился своего провала, он, заикаясь, пытался оправдать себя в глазах этого убитого горем человека и при этом понимал, что тот потерпел окончательное фиаско. Ралей в полном отчаянии старался соблюдать спокойствие. — Ты говоришь, что вы нашли его. Но как же так? Я не понимаю тебя, Кеймис. — О да, мы его нашли. Вы не понимаете, почему мы не пошли добывать золото. Говорю вам — испанцы со всех сторон окружили нас, они только ждали, чтобы мы приблизились к прииску, показали его им, и тогда они накинулись бы на нас. Что мы могли поделать против половины всего состава испанской армии — мы, горсточка людей, отрезанных от наших кораблей, где находилась вся наша еда? — Так что, когда мы меняли наши планы, мы думали о еде и о том, что предпримут испанцы? — Вы не хотите понять, — уже невольно раздражаясь, сказал Кеймис, — что нас было слишком мало. С самого начала мы были обречены. Король предал нас. Испанцы вилисьвокруг нас, словно пчелы в улье, они знали все: сколько у нас людей, сколько кораблей, сколько продовольствия и амуниции. Единственное, что им было неизвестно, это где находится прииск. Так что, я должен был показать им его? — Такое впечатление, Кеймис, что ты подумал обо всем, кроме того, что мы благодаря твоей необычайной осторожности вернемся в Англию разгромленные и с пустыми руками. Они намеревались разделаться с нами? Если бы я был там и остался бы один в живых, я и тогда, хоть ползком, на животе, продолжил бы дело. Ралей откинулся на спинку кресла, глядя страдальческими глазами на Кеймиса, а тот, с трудом подыскивая слова, виновато проговорил: — Это еще не все. Когда я покидал вас, вы были больны, так больны… вы так выглядели… что казалось, что вы не собираетесь… что вы долго не протянете. А король все еще не простил вас. Для него я не хотел открывать прииск. То есть, я хочу сказать, раз уж все равно от этого вам не стало бы лучше… Кеймис оцепенел под взглядом сэра Уолтера. Ралей заговорил медленно, не обратив внимания на всю сердечность и преданность Кеймиса, выразившиеся в его последних словах. — Ты хочешь сказать, что настолько рассчитывал на мою смерть, что готов был убить меня? Что ж, тебе это удалось, Кеймис. Моряк бросил на своего адмирала последний взгляд: он понял, что ему никогда не удастся убедить этого сумасшедшего, разочарованного человека, повернулся и вышел из каюты. Три минуты спустя тишину потряс грохот выстрела. Пройдя голод и невыносимую жару, мор и все бедствия, напасти и горькое разочарование, Кеймис остался верным своему патрону. Что ему смерть? Но своим выстрелом Кеймис успокоил не только свое многострадальное преданное сердце. Демон, который грыз все это время душу Ралея, вдруг будто улетучился. Все в мире успокоилось, и будущее четко обозначилось перед ним. Давняя мысль, родившаяся в его голове еще в самом начале похода, когда перед ним во всей своей необъятности открылось вновь море, мысль о том, что если его рискованное предприятие лопнет, то он попробует вступить на путь дикого пиратства, больше не беспокоила его. Он сдержит свое слово и сохранит свое достоинство, покорно вернувшись в Англию. Ралей теперь даже не думал о том, что своим возвращением он сохранит и легенду о себе. Портрет одинокого, убитого горем и болезнью человека, добровольно пожертвовавшего своей не узаконенной свободой во имя позорной смерти, отпечатается в умах тех, кто еще не родился, и он займет достойное место среди бессмертных. Возможно, Дженис видела в своем шаре, как умирает за него друг-моряк. Он же смотрел куда глубже. Он был земным человеком, и земной человек вынесет ему приговор. Он был интриганом, и теперь ради интриг других людей его принесут в жертву. Яков в преддверии свадьбы принца Уэльского и испанской принцессы не простит ему битву при Сан-Томе. И с ясным взором и без всякой горечи Ралей, развернув свой флот в сторону Англии, смог написать:
Взметнулись паруса, отличные корабли взбороздили неподвижные воды океана, и зазвучали голоса моряков, как бывало и раньше, когда и мир, и он сам были молодыми. Но добрые давние дни уходили, на смену им надвигался суровый вечер. Королева, Гэскойн, Сидней, Марло и Уильям Шекспир — все они уже лежат в своих могилах. Оставалась одна Лиз, оставалась мысль о встрече и близкой разлуке с ней, она терзала его сердце. Но теперь, со своим новым, ясным взглядом на прошлое и будущее, он смотрел безразлично на тот короткий промежуток времени, который разделит их. В конце концов, не так уж давно был он мальчишкой и слушал рассказы старого Харкесса о далеком южном море.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТАРЫЙ ЗАМОК, ДВОР. ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ 1618 ГОДА
Златокудрым девушкам и парням, как и трубочистам, Всем приходит время лечь в могилу мглистую.Когда он открыл глаза, было уже утро. Слабый свет пробивался в окно, в лужицах растаявшего воска видны были остатки погасших свечей, оставленных гореть с вечера. Он не собирался засыпать — берег время; короткое беспамятство сна годилось для тех, у кого впереди еще оставалось много времени для работы. Но, потянувшись, он вдруг испытал радость, потому что за эти немногие часы произошло чудо: болезнь отпустила его. Ему была ненавистна сама мысль о том, что он, трясущийся, взойдет на эшафот и все решат, что это от страха, а не от болезни он весь дрожит. А теперь, если эта передышка продлится достаточно долго, он сможет держаться прямо, как и подобает настоящему мужчине. Он был благодарен Лиз за то, что, покидая его в последний раз, после припадка слабости и рыданий, она собралась с силами и своим твердым, немного охрипшим от слез голосом сказала ему: — Теперь спи, чтобы набраться сил и достойно встретить завтрашний день. Стало уже настолько светло, что можно было писать. Ралей встал, все еще ощущая гордость и радость от ощущения возвратившихся к нему сил, подошел к столу, пододвинул стул, попробовал перо на своем указательном пальце и принялся нанизывать одно слово за другим с обычной для него легкостью. Сначала он не мог полностью сосредоточиться: мысли соскальзывали в прошлое и мешали писать. Он видел, как надувались паруса под октябрьским ветром и корабли отплывали в Вест-Индию. Белые стены Кадиса, отражаясь в море, возникали перед его взором, а там, в Йоле, солнце сияло над его миртовыми деревьями. Для всех, кроме него, это утро было началом нового дня, а для него… Ралей подавил в себе душещипательные мысли. Все люди — и на море, и на земле — неизбежно умрут, рано или поздно. Многие из тех, кому он сейчас завидует, не доживут до его возраста, умрут неожиданно, не раскаявшись в своих грехах, или будут умирать долго от тяжких болезней, и близкие отвернутся от них с отвращением. Поцелуй Лиз в эту последнюю его ночь был таким же трепетным и горячим, как в ночи их любви. Утешившись таким образом, потому что он был гордым человеком, Ралей. целиком погрузился в свое писание. Наконец, заскрипев железом по железу, дверь камеры отворилась, и вошел Хирон, тюремщик, крупный мужчина, старавшийся двигаться неслышно. Он постоял немного из боязни прервать занятие узника, но Ралей даже не поднял головы, и тогда он сказал: — Осталось меньше часа, сэр Уолтер, и священник ожидает вас в часовне. Ралей закончил предложение и взглянул на тюремщика. — Правда? Ну что ж, все почти закончено. Он имел в виду свои письма, но в этом месте и в этот час его слова приобрели многозначительный, зловещий смысл; он почувствовал это и повторил: «Почти закончено», и теперь прозвучали эти слова как будто из уст совсем другого человека. Хирон стоял и ждал. Ралей добавил пару строк и положил на стол перо. Они вместе вошли в часовню, где священник ожидал его, приготовив вино и хлеб для совершения обряда. Ралей преклонил колена там, где когда-то юная Елизавета Тюдор также стояла на коленях с мрачными мыслями о своем предстоящем правлении. Ее мысли были обращены в будущее. Мысли Ралея витали в прошлом. Он вспомнил о Джордже Гэскойне, который прожил жизнь атеистом, а умирал в смертельном страхе перед встречей с Богом, которого он всю жизнь отвергал. Красное вино, белый хлеб, превращенные некоей божественной алхимией в тело и кровь Христа. Христос, встретивший, не дрогнув, смерть, куда более страшную, нежели та, что ожидала его, более всего любил, конечно, людей мужественных. — Дай мне, Боже, умереть бесстрашно. Прими меня в Царствие Твое. Утешь Лиз и всех, кто будет горевать обо мне. Ралей поднялся и твердо встал на ноги. Его ожидал завтрак, и, как ни глупо ублажать свою плоть, которая умрет здесь же всего через час, он съел все, привычным, изящным жестом стряхнул крошки с черных шелковых штанов. И раскурил свою последнюю трубку, против чего король в свое время так злобно выступал. — Он много потерял, — заметил Ралей, ощущая горьковатый вкус табака во рту и наблюдая за голубыми колечками дыма. Он еще не докурил трубку до конца, когда в дверях снова появился Хирон. С трубкой в зубах Ралей встал и принялся рыться у себя в карманах. Он вытащил миниатюру, оправленную в золотую рамку с бриллиантами. Положил на стол рядом с запечатанными посланиями ее и еще теплую от последней порции табака трубку. — Это вам, Хирон. Это все, что осталось у меня от всех моих богатств. Миниатюру вы можете продать, а трубку оставьте себе, не пожалеете. Она будет вам добрым другом, каким была для меня. И отправьте, пожалуйста, мои письма. У Хирона перехватило дыхание. — Да, да, конечно. Все совершится быстро, сэр. Баркер большой специалист, и топор, я сам проверил, топор острый. — Вы были настоящим другом, Хирон. А у меня их не так уж много было. Но, может быть, я не там искал их. Ралей всматривался куда-то в даль, погрузившись в воспоминания о тех местах, где он искал, но, как видно, не друзей. — Здесь холодно, — глухо заметил Хирон, — а там вон горит очаг. Может, вы погреетесь еще до этого… — Да уж лучше поскорее покончить с делами, — сказал Ралей. И они пошли по длинным коридорам Старого дворца. На ходу он вспоминал всех тех, кто до него прошел этой дорогой. Анна Болейн, жена короля Генриха и мать Елизаветы Тюдор, со словами: «У меня есть шея, но очень короткая». И старый Томас Мор, педант до конца: он отодвинул в сторону свою бороду со словами: «Будет очень жаль отрубить и ее, она не совершала предательства». Ралей думал, удастся ли ему найти такие слова, благодаря которым люди запомнят его. Его уже ждали, ждали люди, которые пришли посмотреть, как он будет умирать; простые люди и напротив них пышная свита мэра. И вот, сказав свое последнее «прости», он опустился на колени перед плахой, и тут его осенило. Он поцеловал топор — острый, как и обещал Хирон, — и сказал: «Лекарство острое, но исцеляет от всех болезней». Мгновение — и «лекарство» сделало свое дело. Не осталось ни ненасытных амбиций, ни сдерживаемого гнева, ни горьких сожалений о прошедшей юности, ни охоты за словами, чтобы в поэтическом экстазе найти невыразимую прелесть. Один удар — и все кончено. А в тюрьме на его столе все еще лежали написанные им письма, и прокравшееся в камеру солнце растопило и ослабило одну из недостаточно крепко притиснутых печатей. Лист развернулся, и пришедший в комнату исполнить свой последний долг Хирон мог бы прочитать написанный Ралеем самому себе Реквием, стихи, которые впоследствии разойдутся по всей Британской империи, о создании которой он так мечтал.
Но Хирон не умел читать, и он представления не имел о том, какая история закончилась в этот день у него на глазах или какими стезями нужно было пройти, чтобы дойти до такого печального конца.

Последние комментарии
1 час 51 минут назад
3 часов 38 минут назад
4 часов 51 минут назад
5 часов 57 минут назад
7 часов 6 минут назад
19 часов 4 минут назад