Амурские сказки [Дмитрий Дмитриевич Нагишкин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
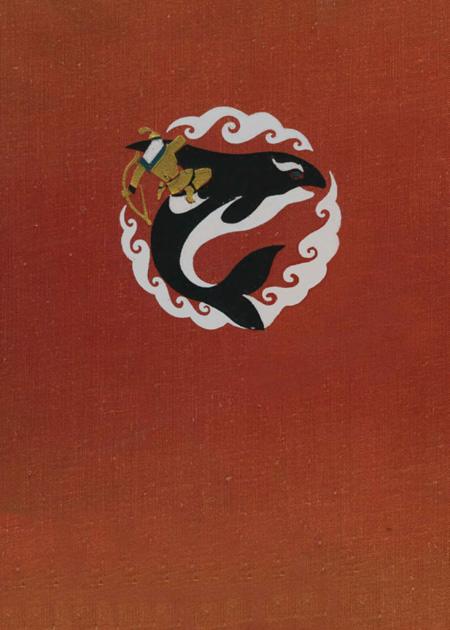
Дмитрий Дмитриевич Нагишкин Амурские сказки




Храбрый Азмун
 Смелому никакая беда не помеха. Смелый сквозь огонь и воду пройдет — только крепче станет. О смелом да храбром долго люди помнят. Отец сыну о смелом да храбром сказки сказывает.
Давно это было. Тогда нивхи еще каменные наконечники к стрелам делали. Тогда нивхи еще деревянным крючком рыбу ловили. Тогда Амурский лиман Малым морем звали — Ля-ери.
Тогда на самом берегу Амура одна деревня стояла. Жили в ней нивхи — не хорошо и не худо. Много рыбы идет — нивхи веселые, песни поют, сыты по горло. Мало рыбы идет — молчат нивхи, мох курят да потуже пояса на животах затягивают. Одной весной вот что случилось.
Сидят как-то парни и мужчины на берегу, на воду смотрят, трубки курят, сетки чинят. Глядят — по Амуру что-то плывет. Пять-шесть, а может, и весь десяток деревьев. Видно, где-то буревалом деревья повалило, полая вода их друг с другом сплотила и так сбила, что и силой не растащишь. Земли на те деревья навалило. Трава на них выросла. Целый остров — ховы́х — плывет. Видят нивхи — на том ховыхе заструженный шест стоит. В несколько рядов на том шесте стружки вьются, на ветру шумят. Красная тряпочка, на том шесте привязанная, в воздухе полощется.
Говорит старый нивх Плету́н:
— Кто-то плывет на ховыхе. Заструженный шест поставлен — от злого глаза защита. Значит, помощи просит.
Слышат нивхи — плач ребенка доносится. Плачет ребенок, так и заливается. Говорит Плетун:
— Ребенок на ховыхе плывет. Видно, нет у него никого. Злые люди всех его родичей убили, или черная смерть всех унесла. Зря не бросит ребенка мать. На ховых посадила — добрых людей искать послала.
Подплывает ховых. Слышен плач все сильнее.
— Нивху как не помочь! — говорит Плетун.
Кинули парни веревку с деревянным крючком, зацепили ховых, подтянули к берегу. Глядят — лежит ребенок: сам беленький, кругленький, глазки черные, как звездочки блестят, лицо широкое — как полная луна. В руках у ребенка — стрела да весло.
Посмотрел Плетун, говорит — ребенок богатырем будет, коли с колыбели за стрелу да за весло схватился: ни врага, ни работы не боится. Говорит:
— Сыном своим назову. Имя новое дам. Пусть Азму́ном называться будет.
Взяли нивхи Азмуна на руки, к дому Плетуна понесли. Только что такое?.. С каждым шагом ребенок все тяжелей становится!
Говорят старику:
— Эй, Плетун, сын-то твой на руках растет! Гляди!
— На родной земле да на родных руках как не расти! — отвечает Плетун. — Родная земля силу человеку дает.
Видно, правду Плетун сказал, что родная земля силу дает: пока до дома старика дошли, вырос Азмун; до порога его парни донесли, а у порога он с рук на землю сошел, на свои ноги стал, посторонился — старшим дорогу уступил, только тогда в дом вошел.
«Э-э! — думает Плетун, на нового сына глядя. — Мальчик-то хорошие дела делать будет: наперед о людях думает, а потом о себе».
А Азмун названого отца на нары посадил, поклонился ему и говорит:
— Посиди, отец. За долгую жизнь устал ты. Отдохни.
Сетки взял, весло взял. На берег вышел — лодка сама собой в воду соскочила. А Азмун в лодку стал, на корму свое весло бросил — стало весло работать, на середину реки выгребать. Пошла лодка. Азмун сетку бросил в воду. Сетку вынул — много рыбы поймал. Домой пришел — женщинам рыбу отдал. В деревне все в этот день рыбу ели. А Азмун названому отцу говорит:
— Мало рыбы в этом месте, отец.
Отвечает ему Плетун:
— Не пришла рыба. Амур рыбу не дает.
— Попросить надо, отец. Как нивхам без рыбы жить?
Раньше всегда рыбы просили — Амур кормили, чтобы рыбу давал.
Вот поехали Амур кормить.
На многих лодках поехали. Лучшие одежды надели из пестрых тюленей, собачьи дохи черные надели. Плывут, песни хорошие поют. На середину Амура выехали.
Взял Плетун кашу, ю́колу — сушеную рыбу, — сохачьего мяса взял. Все в Амур бросил:
— Простые люди просят тебя — рыбу пошли, много хорошей рыбы пошли, разную рыбу пошли! Вот юколу тебе собачью бросаем — больше у нас нечего есть. Голодаем! Животы к спине прилипли у нас. Помоги нам, а мы тебя не забудем!
Кинул Азмун сетку в воду — много рыбы взял. Радуются нивхи. А Азмун хмурится. «Один раз — это просто удача», — говорит. Кинул сетку второй раз — меньше рыбы взял. Хмурится Азмун. Кинул сетку в третий раз — последнюю рыбу взял. Кто из нивхов потом сетки ни бросал — ничего не поймал. Даже корюшка в сетку нейдет. В четвертый раз кинул свою сетку Азмун — пустую вытащил.
Приуныли нивхи. Трубки закурили. «Помирать теперь будем!» — говорят.
Велел Азмун всю рыбу в один амбар сложить — понемногу всех людей кормить.
Заплакал Плетун, говорит Азмуну:
— Сыном тебя назвал, думал — новую жизнь тебе дам! Рыбы нет — что есть будем? Все помрем с голоду. Уходи, сын мой! Тебе другая дорога. От нас уйди — наше несчастье на нашем пороге оставь!
Стал Азмун думать. Отцовскую трубку закурил. Три амбара дыму накурил. Долго думал. Потом говорит:
— К Морскому Старику — Тайрна́дзу — пойду. Оттого рыбы в Амуре нет, что Хозяин о нивхах забыл.
Испугался Плетун: никто из нивхов к Морскому Хозяину не ходил. Никогда этого не было. Может ли простой человек на морское дно к Тайрнадзу спуститься?
— По силе ли тебе дорога эта? — спрашивает отец.
Ударил Азмун ногой в землю — от своей силы по пояс в землю ушел. Ударил в скалу кулаком — скала трещину дала, из той трещины родник полился. Глаз прищурил — на дальнюю сопку посмотрел, говорит: «У подножия сопки белка сидит, орех в зубах держит, разгрызть не может. Помогу ей!» Взял Азмун лук, стрелу наложил, тетиву натянул, стрелу послал. Полетела стрела, ударила в тот орех, что белка в зубах держала, расколола пополам, белку не задела.
— По силе! — говорит Азмун.
Собрался Азмун в дорогу. В мешочек за пазуху амурской земли положил, нож, лук со стрелами взял, веревку с крючком, костяную пластинку взял — играть, коли в дороге скучно станет.
Обещал отцу в скором времени весть о себе подать. Наказал: той рыбой, что он наловил, всех кормить, пока не вернется.
Вот пошел он.
К берегу моря пошел. До Малого моря дошел. Видит — нерпа на него глаза из воды таращит, с голоду подыхает.
Кричит ей Азмун:
— Эй, соседка, далеко ли до Хозяина идти?
— Какого тебе хозяина надо?
— Тайрнадза, Морского Старика!
— Коли морского — так в море и ищи, — отвечает нерпа.
Пошел Азмун дальше. До Охотского моря дошел, до Пи́ля-ке́ркха — так его тогда называли. Лежит перед ним море — конца-краю морю не видать. Чайки над ним летают, бакланы кричат. Волны одна за другой катятся. Серое небо над морем висит, облаками закрыто. Где тут Хозяина искать? Как к нему дойти?! И спросить некого. Глядит Азмун вокруг… Что делать? Чайкам закричал:
— Эй, соседки, хороша ли добыча? Простые-то люди с голоду помирают!
— Какая там добыча! — чайки говорят. — Сам видишь, еле крыльями машем. Рыбы давно не видим. Скоро конец нашему народу придет. Видно, заснул Морской Старик, про свое дело забыл.
Говорит Азмун:
— Я к нему иду. Да не знаю, соседки, как к нему попасть…
Говорят чайки:
— Далеко в море остров стоит. Из того острова дым идет. Не остров то, а крыша юрты Тайрнадза, из трубы дым идет. Мы там не бывали, наши отцы туда не залетали — от перелетных птиц слыхали! Как попасть туда — не знаем. У косаток спроси.
— Ладно, — говорит Азмун.
Вышел на морской берег Азмун. Долго шел. Устал. Сел среди камней на песке, голову на руки положил, стал думать. Думал, думал — уснул. Вдруг во сне слышит — шумят какие-то люди на берегу. Азмун глаза приоткрыл…
Видит — по берегу молодые парни взапуски бегают, на поясках тянутся, друг через друга прыгают, с саблями кривыми играют. Тут тюлени на берег вышли. Парни тюленей саблями бьют. Как ударят — так тюлень на бок! «Э-э, — думает Азмун, — мне бы такую саблю!» Смотрит Азмун — стоят на берегу лодки худые…
Стали тут парни бороться. Сабли на песок побросали. Задрались между собой — ничего вокруг не видят, кричат, ссорятся. Тут Азмун изловчился, веревку с крючком забросил, одну саблю зацепил, к себе потихоньку подтянул. Тронул пальцем — хороша! Пригодится.
Кончили парни бороться. Все за сабли взялись, а одному не хватает. Заплакал тут парень, говорит:
— Ой-я-ха! Задаст мне теперь Хозяин! Что теперь Старику скажу, как к нему попаду?
«Э-э, — думает Азмун, — парни-то со Стариком знаются! Видно, из морской деревни парни!»
Сам лежит, не шевелится.
Стали парни саблю искать — нету сабли. Тот, кто саблю потерял, в лес побежал — смотреть, не там ли обронил.
Остальные лодки в море столкнули, сели. Только одна осталась на берегу.
Азмун за теми парнями — бежать! Пустую лодку в море столкнул — смотрит, куда парни поедут. А парни в открытое море выгребают. Прыгнул и Азмун в лодку, стал в море выгребать. Вдруг смотрит — что такое? Нет впереди ни лодок, ни парней! Только косатки по морю плывут, волну рассекают, спинные плавники, как сабли, выставили, на плавниках куски тюленьего мяса торчат.
Тут и под Азмуном лодка зашевелилась. Хватился Азмун, огляделся — не на лодке он, а на спине косатки! Догадался тут парень, что не лодки на берегу лежали, а шкуры косаток. Что не парни на берегу с саблями играли, а косатки. И не сабли то, а косаток спинные плавники. «Ну что ж, — думает Азмун, — все к Старику ближе!»
Смелому никакая беда не помеха. Смелый сквозь огонь и воду пройдет — только крепче станет. О смелом да храбром долго люди помнят. Отец сыну о смелом да храбром сказки сказывает.
Давно это было. Тогда нивхи еще каменные наконечники к стрелам делали. Тогда нивхи еще деревянным крючком рыбу ловили. Тогда Амурский лиман Малым морем звали — Ля-ери.
Тогда на самом берегу Амура одна деревня стояла. Жили в ней нивхи — не хорошо и не худо. Много рыбы идет — нивхи веселые, песни поют, сыты по горло. Мало рыбы идет — молчат нивхи, мох курят да потуже пояса на животах затягивают. Одной весной вот что случилось.
Сидят как-то парни и мужчины на берегу, на воду смотрят, трубки курят, сетки чинят. Глядят — по Амуру что-то плывет. Пять-шесть, а может, и весь десяток деревьев. Видно, где-то буревалом деревья повалило, полая вода их друг с другом сплотила и так сбила, что и силой не растащишь. Земли на те деревья навалило. Трава на них выросла. Целый остров — ховы́х — плывет. Видят нивхи — на том ховыхе заструженный шест стоит. В несколько рядов на том шесте стружки вьются, на ветру шумят. Красная тряпочка, на том шесте привязанная, в воздухе полощется.
Говорит старый нивх Плету́н:
— Кто-то плывет на ховыхе. Заструженный шест поставлен — от злого глаза защита. Значит, помощи просит.
Слышат нивхи — плач ребенка доносится. Плачет ребенок, так и заливается. Говорит Плетун:
— Ребенок на ховыхе плывет. Видно, нет у него никого. Злые люди всех его родичей убили, или черная смерть всех унесла. Зря не бросит ребенка мать. На ховых посадила — добрых людей искать послала.
Подплывает ховых. Слышен плач все сильнее.
— Нивху как не помочь! — говорит Плетун.
Кинули парни веревку с деревянным крючком, зацепили ховых, подтянули к берегу. Глядят — лежит ребенок: сам беленький, кругленький, глазки черные, как звездочки блестят, лицо широкое — как полная луна. В руках у ребенка — стрела да весло.
Посмотрел Плетун, говорит — ребенок богатырем будет, коли с колыбели за стрелу да за весло схватился: ни врага, ни работы не боится. Говорит:
— Сыном своим назову. Имя новое дам. Пусть Азму́ном называться будет.
Взяли нивхи Азмуна на руки, к дому Плетуна понесли. Только что такое?.. С каждым шагом ребенок все тяжелей становится!
Говорят старику:
— Эй, Плетун, сын-то твой на руках растет! Гляди!
— На родной земле да на родных руках как не расти! — отвечает Плетун. — Родная земля силу человеку дает.
Видно, правду Плетун сказал, что родная земля силу дает: пока до дома старика дошли, вырос Азмун; до порога его парни донесли, а у порога он с рук на землю сошел, на свои ноги стал, посторонился — старшим дорогу уступил, только тогда в дом вошел.
«Э-э! — думает Плетун, на нового сына глядя. — Мальчик-то хорошие дела делать будет: наперед о людях думает, а потом о себе».
А Азмун названого отца на нары посадил, поклонился ему и говорит:
— Посиди, отец. За долгую жизнь устал ты. Отдохни.
Сетки взял, весло взял. На берег вышел — лодка сама собой в воду соскочила. А Азмун в лодку стал, на корму свое весло бросил — стало весло работать, на середину реки выгребать. Пошла лодка. Азмун сетку бросил в воду. Сетку вынул — много рыбы поймал. Домой пришел — женщинам рыбу отдал. В деревне все в этот день рыбу ели. А Азмун названому отцу говорит:
— Мало рыбы в этом месте, отец.
Отвечает ему Плетун:
— Не пришла рыба. Амур рыбу не дает.
— Попросить надо, отец. Как нивхам без рыбы жить?
Раньше всегда рыбы просили — Амур кормили, чтобы рыбу давал.
Вот поехали Амур кормить.
На многих лодках поехали. Лучшие одежды надели из пестрых тюленей, собачьи дохи черные надели. Плывут, песни хорошие поют. На середину Амура выехали.
Взял Плетун кашу, ю́колу — сушеную рыбу, — сохачьего мяса взял. Все в Амур бросил:
— Простые люди просят тебя — рыбу пошли, много хорошей рыбы пошли, разную рыбу пошли! Вот юколу тебе собачью бросаем — больше у нас нечего есть. Голодаем! Животы к спине прилипли у нас. Помоги нам, а мы тебя не забудем!
Кинул Азмун сетку в воду — много рыбы взял. Радуются нивхи. А Азмун хмурится. «Один раз — это просто удача», — говорит. Кинул сетку второй раз — меньше рыбы взял. Хмурится Азмун. Кинул сетку в третий раз — последнюю рыбу взял. Кто из нивхов потом сетки ни бросал — ничего не поймал. Даже корюшка в сетку нейдет. В четвертый раз кинул свою сетку Азмун — пустую вытащил.
Приуныли нивхи. Трубки закурили. «Помирать теперь будем!» — говорят.
Велел Азмун всю рыбу в один амбар сложить — понемногу всех людей кормить.
Заплакал Плетун, говорит Азмуну:
— Сыном тебя назвал, думал — новую жизнь тебе дам! Рыбы нет — что есть будем? Все помрем с голоду. Уходи, сын мой! Тебе другая дорога. От нас уйди — наше несчастье на нашем пороге оставь!
Стал Азмун думать. Отцовскую трубку закурил. Три амбара дыму накурил. Долго думал. Потом говорит:
— К Морскому Старику — Тайрна́дзу — пойду. Оттого рыбы в Амуре нет, что Хозяин о нивхах забыл.
Испугался Плетун: никто из нивхов к Морскому Хозяину не ходил. Никогда этого не было. Может ли простой человек на морское дно к Тайрнадзу спуститься?
— По силе ли тебе дорога эта? — спрашивает отец.
Ударил Азмун ногой в землю — от своей силы по пояс в землю ушел. Ударил в скалу кулаком — скала трещину дала, из той трещины родник полился. Глаз прищурил — на дальнюю сопку посмотрел, говорит: «У подножия сопки белка сидит, орех в зубах держит, разгрызть не может. Помогу ей!» Взял Азмун лук, стрелу наложил, тетиву натянул, стрелу послал. Полетела стрела, ударила в тот орех, что белка в зубах держала, расколола пополам, белку не задела.
— По силе! — говорит Азмун.
Собрался Азмун в дорогу. В мешочек за пазуху амурской земли положил, нож, лук со стрелами взял, веревку с крючком, костяную пластинку взял — играть, коли в дороге скучно станет.
Обещал отцу в скором времени весть о себе подать. Наказал: той рыбой, что он наловил, всех кормить, пока не вернется.
Вот пошел он.
К берегу моря пошел. До Малого моря дошел. Видит — нерпа на него глаза из воды таращит, с голоду подыхает.
Кричит ей Азмун:
— Эй, соседка, далеко ли до Хозяина идти?
— Какого тебе хозяина надо?
— Тайрнадза, Морского Старика!
— Коли морского — так в море и ищи, — отвечает нерпа.
Пошел Азмун дальше. До Охотского моря дошел, до Пи́ля-ке́ркха — так его тогда называли. Лежит перед ним море — конца-краю морю не видать. Чайки над ним летают, бакланы кричат. Волны одна за другой катятся. Серое небо над морем висит, облаками закрыто. Где тут Хозяина искать? Как к нему дойти?! И спросить некого. Глядит Азмун вокруг… Что делать? Чайкам закричал:
— Эй, соседки, хороша ли добыча? Простые-то люди с голоду помирают!
— Какая там добыча! — чайки говорят. — Сам видишь, еле крыльями машем. Рыбы давно не видим. Скоро конец нашему народу придет. Видно, заснул Морской Старик, про свое дело забыл.
Говорит Азмун:
— Я к нему иду. Да не знаю, соседки, как к нему попасть…
Говорят чайки:
— Далеко в море остров стоит. Из того острова дым идет. Не остров то, а крыша юрты Тайрнадза, из трубы дым идет. Мы там не бывали, наши отцы туда не залетали — от перелетных птиц слыхали! Как попасть туда — не знаем. У косаток спроси.
— Ладно, — говорит Азмун.
Вышел на морской берег Азмун. Долго шел. Устал. Сел среди камней на песке, голову на руки положил, стал думать. Думал, думал — уснул. Вдруг во сне слышит — шумят какие-то люди на берегу. Азмун глаза приоткрыл…
Видит — по берегу молодые парни взапуски бегают, на поясках тянутся, друг через друга прыгают, с саблями кривыми играют. Тут тюлени на берег вышли. Парни тюленей саблями бьют. Как ударят — так тюлень на бок! «Э-э, — думает Азмун, — мне бы такую саблю!» Смотрит Азмун — стоят на берегу лодки худые…
Стали тут парни бороться. Сабли на песок побросали. Задрались между собой — ничего вокруг не видят, кричат, ссорятся. Тут Азмун изловчился, веревку с крючком забросил, одну саблю зацепил, к себе потихоньку подтянул. Тронул пальцем — хороша! Пригодится.
Кончили парни бороться. Все за сабли взялись, а одному не хватает. Заплакал тут парень, говорит:
— Ой-я-ха! Задаст мне теперь Хозяин! Что теперь Старику скажу, как к нему попаду?
«Э-э, — думает Азмун, — парни-то со Стариком знаются! Видно, из морской деревни парни!»
Сам лежит, не шевелится.
Стали парни саблю искать — нету сабли. Тот, кто саблю потерял, в лес побежал — смотреть, не там ли обронил.
Остальные лодки в море столкнули, сели. Только одна осталась на берегу.
Азмун за теми парнями — бежать! Пустую лодку в море столкнул — смотрит, куда парни поедут. А парни в открытое море выгребают. Прыгнул и Азмун в лодку, стал в море выгребать. Вдруг смотрит — что такое? Нет впереди ни лодок, ни парней! Только косатки по морю плывут, волну рассекают, спинные плавники, как сабли, выставили, на плавниках куски тюленьего мяса торчат.
Тут и под Азмуном лодка зашевелилась. Хватился Азмун, огляделся — не на лодке он, а на спине косатки! Догадался тут парень, что не лодки на берегу лежали, а шкуры косаток. Что не парни на берегу с саблями играли, а косатки. И не сабли то, а косаток спинные плавники. «Ну что ж, — думает Азмун, — все к Старику ближе!»
 Долго ли плыл так Азмун — не знаю, не рассказывал. Пока плыл, у него усы отросли.
Вот увидел Азмун, что впереди остров лежит, на крышу шалаша похожий. На вершине острова — дыра, из дыры дымок курится. «Видно, там Старик живет!» — себе Азмун говорит. Тут Азмун стрелу на лук положил, отцу стрелу послал…
К острову косатки подплыли, на берег кинулись, через спину перекатились — парнями стали, тюленье мясо в руках держат.
А та косатка, что под Азмуном была, назад в море повернула. Без своей сабли, видно, домой ходу нет! Свалился Азмун в воду — чуть не утонул.
Увидали парни, что Азмун барахтается в море, кинулись к нему. Выбрался Азмун на берег, парни его рассматривают, хмурятся. Говорят:
— Эй, ты кто такой? Как сюда попал?
— Да вы что — своего не узнали? — говорит Азмун. — Я от вас отстал, пока саблю искал. Вот она, сабля моя!
— Это верно, сабля твоя. А почему ты на себя не похож?
Говорит Азмун:
— Изменился я от страха, что саблю свою потерял. До сих пор в себя прийти не могу. К Старику пойду — пусть мне прежний вид вернет!
— Спит Старик, — говорят парни, — видишь, дымок чуть курится.
В свои юрты парни пошли. Азмуна одного оставили.
Стал Азмун на сопку взбираться. До половины взошел — видит, тут стойбище стоит. Одни девушки в стойбище том. Загородили Азмуну дорогу, не пускают:
— Спит Старик, не велел мешать!.. — Пристают к Азмуну, ластятся: — Не ходи к Тайрнадзу! Оставайся с нами! Жену возьмешь — хорошо жить будешь!
А девушки — красавицы, одна другой краше! Глаза ясные, лицом прекрасные, телом гибкие, руками ловкие. Такие красивые девушки, что подумал Азмун — не худо бы ему и верно из этих девушек жену себе взять.
Зашевелилась тут за пазухой у него амурская земля в мешочке. Вспомнил Азмун, что не за невестой сюда пришел, а вырваться от девушек не может. Догадался он тут — из-за пазухи бусы вынул, на землю бросил.
Кинулись девушки бусы подбирать — тут и увидел Азмун, что не ноги у тех девушек, а ласты. Не девушки то, а тюлени!
Долго ли плыл так Азмун — не знаю, не рассказывал. Пока плыл, у него усы отросли.
Вот увидел Азмун, что впереди остров лежит, на крышу шалаша похожий. На вершине острова — дыра, из дыры дымок курится. «Видно, там Старик живет!» — себе Азмун говорит. Тут Азмун стрелу на лук положил, отцу стрелу послал…
К острову косатки подплыли, на берег кинулись, через спину перекатились — парнями стали, тюленье мясо в руках держат.
А та косатка, что под Азмуном была, назад в море повернула. Без своей сабли, видно, домой ходу нет! Свалился Азмун в воду — чуть не утонул.
Увидали парни, что Азмун барахтается в море, кинулись к нему. Выбрался Азмун на берег, парни его рассматривают, хмурятся. Говорят:
— Эй, ты кто такой? Как сюда попал?
— Да вы что — своего не узнали? — говорит Азмун. — Я от вас отстал, пока саблю искал. Вот она, сабля моя!
— Это верно, сабля твоя. А почему ты на себя не похож?
Говорит Азмун:
— Изменился я от страха, что саблю свою потерял. До сих пор в себя прийти не могу. К Старику пойду — пусть мне прежний вид вернет!
— Спит Старик, — говорят парни, — видишь, дымок чуть курится.
В свои юрты парни пошли. Азмуна одного оставили.
Стал Азмун на сопку взбираться. До половины взошел — видит, тут стойбище стоит. Одни девушки в стойбище том. Загородили Азмуну дорогу, не пускают:
— Спит Старик, не велел мешать!.. — Пристают к Азмуну, ластятся: — Не ходи к Тайрнадзу! Оставайся с нами! Жену возьмешь — хорошо жить будешь!
А девушки — красавицы, одна другой краше! Глаза ясные, лицом прекрасные, телом гибкие, руками ловкие. Такие красивые девушки, что подумал Азмун — не худо бы ему и верно из этих девушек жену себе взять.
Зашевелилась тут за пазухой у него амурская земля в мешочке. Вспомнил Азмун, что не за невестой сюда пришел, а вырваться от девушек не может. Догадался он тут — из-за пазухи бусы вынул, на землю бросил.
Кинулись девушки бусы подбирать — тут и увидел Азмун, что не ноги у тех девушек, а ласты. Не девушки то, а тюлени!
 Пока девушки бусы собирали, добрался Азмун до вершины горы. В ту дыру, что на вершине была, свою веревку с крючком бросил. Зацепил крючок за гребень горы и по той веревке вниз полез. На дно спустился — в дом Морского Старика попал.
На пол упал — чуть не расшибся. Огляделся: все в доме как у нивха — нары, очаг, стены, столбы, только все в рыбьей чешуе. Да за окном не небо, а вода.
Плещется за окном вода, зеленые волны за окном ходят, водоросли морские в тех волнах качаются, будто деревья невиданные. Мимо окон рыбы проплывают, да такие, каких ни один нивх в рот не возьмет: зубастые да костлявые, сами смотрят — кого бы сглотнуть!..
Лежит на нарах Старик, спит. Седые волосы по подушке рассыпались. Во рту трубка торчит, почти совсем погасла, едва дымок из нее идет, в трубу тянется. Храпит Тайрнадз, ничего не слышит. Тронул его Азмун рукой — нет, не просыпается Старик, да и только…
Пока девушки бусы собирали, добрался Азмун до вершины горы. В ту дыру, что на вершине была, свою веревку с крючком бросил. Зацепил крючок за гребень горы и по той веревке вниз полез. На дно спустился — в дом Морского Старика попал.
На пол упал — чуть не расшибся. Огляделся: все в доме как у нивха — нары, очаг, стены, столбы, только все в рыбьей чешуе. Да за окном не небо, а вода.
Плещется за окном вода, зеленые волны за окном ходят, водоросли морские в тех волнах качаются, будто деревья невиданные. Мимо окон рыбы проплывают, да такие, каких ни один нивх в рот не возьмет: зубастые да костлявые, сами смотрят — кого бы сглотнуть!..
Лежит на нарах Старик, спит. Седые волосы по подушке рассыпались. Во рту трубка торчит, почти совсем погасла, едва дымок из нее идет, в трубу тянется. Храпит Тайрнадз, ничего не слышит. Тронул его Азмун рукой — нет, не просыпается Старик, да и только…
 Вспомнил Азмун про свою костяную пластинку — кунгахкеи́, — из-за пазухи вытащил, зубами зажал, за язычок дергать стал. Загудела, зажужжала, заиграла кунгахкеи: то будто птица щебечет, то словно ручей журчит, то как пчела жужжит…
Тайрнадз никогда такого не слышал. Что такое? Зашевелился, поднялся, глаза протер, сел, под себя ноги поджав. Большой, как скала подводная; лицо доброе, усы, как у сома, висят. На коже чешуя перламутром переливается. Из морских водорослей одежда сшита… Увидел он, что против него маленький парень стоит, как корюшка против осетра, во рту что-то держит да так хорошо играет, что у Тайрнадза сердце запрыгало. Мигом сон с Тайрнадза слетел. Доброе лицо свое он к Азмуну обратил, глаза прищурил, спрашивает:
— Ты какого народа человек?
— Я — Азмун, нивхского народа человек.
— Нивхи на Тро-ми́фе — Сахалине да на Ля-ери живут. Ты зачем так далеко в наши воды-земли зашел?
Рассказал Азмун, какое горе у нивхов стало, поклонился:
— Отец, нивхам помоги — нивхам рыбу пошли! Отец, нивхи с голоду умирают! Вот меня послали помощи просить.
Стыдно стало Тайрнадзу. Покраснел он, говорит:
— Плохо это получилось: лег только отдохнуть да и заснул! Спасибо тебе, что разбудил меня!
Сунул руку Тайрнадз под нары. Глядит Азмун — там большой чан стоит: в том чане горбуша, калуги, осетры, кета, лососи, форели плавают. Видимо-невидимо рыбы!
Рядом с чаном шкура лежит. Ухватил ее Старик, четверть шкуры рыбой наполнил. Дверь открыл, рыбу в море бросил, говорит:
— К нивхам на Тро-миф, на Амур плывите! Быстро плывите, плывите! Хорошо весной ловитесь!
— Отец, — говорит Азмун, — нивхам рыбы не жалей!
Нахмурился Тайрнадз.
Испугался тут Азмун. «Ну, пропал я теперь! — думает. — Рассердил Старика. Плохо будет!» Отца вспомнил, ноги выпрямил, прямо на Тайрнадза смотрит.
Улыбнулся тот:
— Другому бы не простил, что в дела мои мешается, а тебе прощу: вижу, не о себе думаешь, о других. Будь по-твоему!
Бросил Тайрнадз в море еще полшкуры рыбы всякой:
— На Тро-миф, на Амур плывите, плывите. Хорошо осенью ловитесь!
Поклонился ему Азмун:
— Отец! Я бедный — нечем мне отплатить тебе за добро. Вот возьми кунгахкеи в подарок.
Дал он Тайрнадзу пластинку свою; как играть на ней, показал.
А у старого давно руки чешутся, хочется ее взять, глаз от нее отвести не может! Больно понравилась игрушка.
Обрадовался Тайрнадз, в рот пластинку взял, зубами зажал, за язычок стал дергать…
Загудела, зажужжала кунгахкеи: то будто ветер морской, то словно прибой, то как шум деревьев, то будто птичка на заре, то как суслик свистит. Играет Тайрнадз, совсем развеселился. По дому пошел, приплясывать стал. Зашатался дом, за окнами волны взбесились, водоросли морские рвутся — буря в море поднялась.
Видит Азмун, что не до него теперь Тайрнадзу. К трубе подошел, за веревку свою взялся, наверх полез. Пока лез, все руки себе в кровь изодрал: пока гостил у Старика, веревка ракушками морскими обросла.
Вылез, огляделся.
Тюлень-девушки все еще бусы ищут, ссорятся, делят — и про дома свои забыли, двери в те дома мхом заросли!
На нижнюю деревню Азмун посмотрел — пустая стоит, а далеко в море плавники косаток видны: гонят косатки рыбу к берегам Пиля-керкха, к берегам Ля-ери, на Амур рыбу гонят!
Как теперь домой попасть?
Видит Азмун — радуга висит. Одним концом на остров, другим — на Большую землю опирается.
А в море волны бушуют — пляшет Тайрнадз в своей юрте. Белые барашки по морю ходят.
Полез Азмун на радугу. Едва вскарабкался. Весь перепачкался: лицо зеленое, руки желтые, живот красный, ноги голубые. Кое-как влез, по радуге на Большую землю побежал. Бежит, проваливается, чуть не падает. Вниз взглянул, видит — от рыбы черно в море стало. Будет рыба у нивхов!
Кончилась радуга.
Спрыгнул Азмун на землю. Глядит — на берегу морском, возле лодки, тот парень-косатка сидит, чью саблю Азмун утащил. Узнал его Азмун, саблю отдал. Схватил парень саблю.
— Спасибо! — говорит. — Я уж думал, век мне дома не видать… Твоего добра не забуду: к самому Амуру рыбу подгонять буду. Зла на тебя не храню: знаю теперь — не для себя ты старался, для людей.
Через спину перекатился — косаткой стал, свою саблю — спинной плавник — вверх поднял и поплыл в море.
Пошел Азмун к Пиля-керкху, к Большому морю вышел. Чаек, бакланов встретил. Кричат те парню:
— Эй, сосед! У Старика был ли?
— Был! — кричит им Азмун. — Не на меня — на море смотрите!
А рыба по морю идет, вода пенится. Кинулись чайки, стали рыбу ловить, на глазах жиреть стали.
А Азмун дальше идет. Ля-ери прошел, к Амуру подходит. Видит — нерпа совсем издыхает. Спрашивает нерпа парня:
— У Старика был ли?
— Был! — говорит Азмун. — Не на меня — на Ля-ери смотри!
А рыба вверх по лиману идет, вода от рыбы пенится. Бросилась нерпа рыбу ловить. Стала рыбу есть — на глазах жиреет…
А Азмун дальше пошел. К родной деревне подошел. Нивхи едва живые на берегу сидят, мох весь искурили, рыбу всю приели.
Выходит Плетун на порог дома, сына встречает, в обе щеки целует.
— У Старика, сын мой, был ли? — спрашивает.
— Не на меня, а на Амур, отец, смотри! — отвечает Азмун.
А на Амуре вода кипит — столько рыбы привалило. Кинул Азмун свое копье в косяк. Стало копье торчком, вместе с рыбой идет. Говорит Азмун:
— Хватит ли рыбы, отец мой названый?
— Хватит!
Стали нивхи жить хорошо. Весной и осенью рыба идет!
Про многих людей с тех пор забыли… А про Азмуна и его кунгахкеи помнят до сих пор.
Как разволнуется море, заплещутся волны в прибрежные скалы, седые гребешки на волнах зашумят — в свисте ветра морского то крик птицы слышится, то суслика свист, то деревьев шум… Это Морской Старик, чтобы не заснуть, на кунгахкеи играет, в подводном доме своем пляшет.
Вспомнил Азмун про свою костяную пластинку — кунгахкеи́, — из-за пазухи вытащил, зубами зажал, за язычок дергать стал. Загудела, зажужжала, заиграла кунгахкеи: то будто птица щебечет, то словно ручей журчит, то как пчела жужжит…
Тайрнадз никогда такого не слышал. Что такое? Зашевелился, поднялся, глаза протер, сел, под себя ноги поджав. Большой, как скала подводная; лицо доброе, усы, как у сома, висят. На коже чешуя перламутром переливается. Из морских водорослей одежда сшита… Увидел он, что против него маленький парень стоит, как корюшка против осетра, во рту что-то держит да так хорошо играет, что у Тайрнадза сердце запрыгало. Мигом сон с Тайрнадза слетел. Доброе лицо свое он к Азмуну обратил, глаза прищурил, спрашивает:
— Ты какого народа человек?
— Я — Азмун, нивхского народа человек.
— Нивхи на Тро-ми́фе — Сахалине да на Ля-ери живут. Ты зачем так далеко в наши воды-земли зашел?
Рассказал Азмун, какое горе у нивхов стало, поклонился:
— Отец, нивхам помоги — нивхам рыбу пошли! Отец, нивхи с голоду умирают! Вот меня послали помощи просить.
Стыдно стало Тайрнадзу. Покраснел он, говорит:
— Плохо это получилось: лег только отдохнуть да и заснул! Спасибо тебе, что разбудил меня!
Сунул руку Тайрнадз под нары. Глядит Азмун — там большой чан стоит: в том чане горбуша, калуги, осетры, кета, лососи, форели плавают. Видимо-невидимо рыбы!
Рядом с чаном шкура лежит. Ухватил ее Старик, четверть шкуры рыбой наполнил. Дверь открыл, рыбу в море бросил, говорит:
— К нивхам на Тро-миф, на Амур плывите! Быстро плывите, плывите! Хорошо весной ловитесь!
— Отец, — говорит Азмун, — нивхам рыбы не жалей!
Нахмурился Тайрнадз.
Испугался тут Азмун. «Ну, пропал я теперь! — думает. — Рассердил Старика. Плохо будет!» Отца вспомнил, ноги выпрямил, прямо на Тайрнадза смотрит.
Улыбнулся тот:
— Другому бы не простил, что в дела мои мешается, а тебе прощу: вижу, не о себе думаешь, о других. Будь по-твоему!
Бросил Тайрнадз в море еще полшкуры рыбы всякой:
— На Тро-миф, на Амур плывите, плывите. Хорошо осенью ловитесь!
Поклонился ему Азмун:
— Отец! Я бедный — нечем мне отплатить тебе за добро. Вот возьми кунгахкеи в подарок.
Дал он Тайрнадзу пластинку свою; как играть на ней, показал.
А у старого давно руки чешутся, хочется ее взять, глаз от нее отвести не может! Больно понравилась игрушка.
Обрадовался Тайрнадз, в рот пластинку взял, зубами зажал, за язычок стал дергать…
Загудела, зажужжала кунгахкеи: то будто ветер морской, то словно прибой, то как шум деревьев, то будто птичка на заре, то как суслик свистит. Играет Тайрнадз, совсем развеселился. По дому пошел, приплясывать стал. Зашатался дом, за окнами волны взбесились, водоросли морские рвутся — буря в море поднялась.
Видит Азмун, что не до него теперь Тайрнадзу. К трубе подошел, за веревку свою взялся, наверх полез. Пока лез, все руки себе в кровь изодрал: пока гостил у Старика, веревка ракушками морскими обросла.
Вылез, огляделся.
Тюлень-девушки все еще бусы ищут, ссорятся, делят — и про дома свои забыли, двери в те дома мхом заросли!
На нижнюю деревню Азмун посмотрел — пустая стоит, а далеко в море плавники косаток видны: гонят косатки рыбу к берегам Пиля-керкха, к берегам Ля-ери, на Амур рыбу гонят!
Как теперь домой попасть?
Видит Азмун — радуга висит. Одним концом на остров, другим — на Большую землю опирается.
А в море волны бушуют — пляшет Тайрнадз в своей юрте. Белые барашки по морю ходят.
Полез Азмун на радугу. Едва вскарабкался. Весь перепачкался: лицо зеленое, руки желтые, живот красный, ноги голубые. Кое-как влез, по радуге на Большую землю побежал. Бежит, проваливается, чуть не падает. Вниз взглянул, видит — от рыбы черно в море стало. Будет рыба у нивхов!
Кончилась радуга.
Спрыгнул Азмун на землю. Глядит — на берегу морском, возле лодки, тот парень-косатка сидит, чью саблю Азмун утащил. Узнал его Азмун, саблю отдал. Схватил парень саблю.
— Спасибо! — говорит. — Я уж думал, век мне дома не видать… Твоего добра не забуду: к самому Амуру рыбу подгонять буду. Зла на тебя не храню: знаю теперь — не для себя ты старался, для людей.
Через спину перекатился — косаткой стал, свою саблю — спинной плавник — вверх поднял и поплыл в море.
Пошел Азмун к Пиля-керкху, к Большому морю вышел. Чаек, бакланов встретил. Кричат те парню:
— Эй, сосед! У Старика был ли?
— Был! — кричит им Азмун. — Не на меня — на море смотрите!
А рыба по морю идет, вода пенится. Кинулись чайки, стали рыбу ловить, на глазах жиреть стали.
А Азмун дальше идет. Ля-ери прошел, к Амуру подходит. Видит — нерпа совсем издыхает. Спрашивает нерпа парня:
— У Старика был ли?
— Был! — говорит Азмун. — Не на меня — на Ля-ери смотри!
А рыба вверх по лиману идет, вода от рыбы пенится. Бросилась нерпа рыбу ловить. Стала рыбу есть — на глазах жиреет…
А Азмун дальше пошел. К родной деревне подошел. Нивхи едва живые на берегу сидят, мох весь искурили, рыбу всю приели.
Выходит Плетун на порог дома, сына встречает, в обе щеки целует.
— У Старика, сын мой, был ли? — спрашивает.
— Не на меня, а на Амур, отец, смотри! — отвечает Азмун.
А на Амуре вода кипит — столько рыбы привалило. Кинул Азмун свое копье в косяк. Стало копье торчком, вместе с рыбой идет. Говорит Азмун:
— Хватит ли рыбы, отец мой названый?
— Хватит!
Стали нивхи жить хорошо. Весной и осенью рыба идет!
Про многих людей с тех пор забыли… А про Азмуна и его кунгахкеи помнят до сих пор.
Как разволнуется море, заплещутся волны в прибрежные скалы, седые гребешки на волнах зашумят — в свисте ветра морского то крик птицы слышится, то суслика свист, то деревьев шум… Это Морской Старик, чтобы не заснуть, на кунгахкеи играет, в подводном доме своем пляшет.

Как медведь и бурундук дружить перестали
 Когда Хинганские горы еще маленькие были, когда можно было выстрелить из лука и услышать, как стрела по ту сторону Хингана упадет, — вот тогда медведь и бурундук дружили.
Жили они вместе в одной берлоге. Вместе на охоту ходили. Делили все пополам: что медведь добудет, то бурундук ест; что бурундук добудет, то медведь ест. Так дружили они очень долго. Да известно — завистникам чужая дружба всегда глаза колет. Пока друзей не поссорят, не успокоятся…
Вот вышел как-то бурундук из берлоги, захотелось ему орехов пощелкать. Повстречалась ему лиса. Рыжим хвостом завертела, поздоровалась, спрашивает:
— Как поживаешь, сосед?
Рассказал ей все бурундук.
Выслушала его лиса, и завидно ей стало, что два зверя вместе живут и не ссорятся. А сама она ни с кем не дружила, потому что всегда хитрила да всех обмануть норовила.
Притворилась лиса, что жалеет бурундука, лапки на животе сложила, слезу пустила: известно, что обманщику заплакать ничего не стоит. Говорит:
— Бедный ты, бедный! Жалко мне тебя!
Испугался бурундук:
— Почему ты жалеешь меня, соседка?
— Глупый ты! — отвечает лиса. — Медведь тебя обижает, а ты и не догадываешься об этом.
— Как так — обижает? — спрашивает бурундук.
— А вот так. Когда медведь добычу берет, кто первый ее зубами рвет?
— Брат-медведь, — отвечает бурундук.
— Вот видишь, самый сладкий кусок ему и достается! Ты, поди, уж давно хорошего куска не видал, все медвежьими объедками питаешься! Оттого и ростом ты маленький.
Завиляла лиса хвостом, слезы утерла, покачала головой.
— Ну, прощай, — говорит она напоследок. — Вижу, нравится тебе такая жизнь. Только я на твоем месте первая бы в добычу зубы запускала!
И побежала лиса, будто по делу. Бежит, хвостом следы заметает.
Посмотрел ей вслед бурундук, задумался: «А ведь соседка-то, пожалуй, правильно рассудила!»
Так бурундук задумался, что и про орехи забыл. «Вот, — думает, — медведь-то какой обманщик оказался! А я ему верил, за старшего брата считал».
…Вот пошли медведь и бурундук на охоту.
Зашли по пути в малинник. Сгреб медведь в лапы куст малины, присосался сам и брата приглашает. А тот смотрит — лиса-то правду сказала!
Поймал медведь еврашку — суслика, — зовет бурундука. А тот глядит — медведь-то первым в еврашку когти вонзил! Выходит, правду лиса говорила!
Пошли братья мимо пчелиного дубка. Медведь тот дубок своротил, лапой придержал, нос в улей всунул, ноздри раздул, губами зашлепал. Брата зовет — мед испробовать. А тот видит: опять медведь первый пробует, — значит, опять лиса права!
Рассердился тут бурундук. «Ну, — думает, — проучу я тебя!»
Пошли они на охоту в другой раз.
Сел бурундук брату на загривок — ему за медведем на своих маленьких лапках не поспеть.
Когда Хинганские горы еще маленькие были, когда можно было выстрелить из лука и услышать, как стрела по ту сторону Хингана упадет, — вот тогда медведь и бурундук дружили.
Жили они вместе в одной берлоге. Вместе на охоту ходили. Делили все пополам: что медведь добудет, то бурундук ест; что бурундук добудет, то медведь ест. Так дружили они очень долго. Да известно — завистникам чужая дружба всегда глаза колет. Пока друзей не поссорят, не успокоятся…
Вот вышел как-то бурундук из берлоги, захотелось ему орехов пощелкать. Повстречалась ему лиса. Рыжим хвостом завертела, поздоровалась, спрашивает:
— Как поживаешь, сосед?
Рассказал ей все бурундук.
Выслушала его лиса, и завидно ей стало, что два зверя вместе живут и не ссорятся. А сама она ни с кем не дружила, потому что всегда хитрила да всех обмануть норовила.
Притворилась лиса, что жалеет бурундука, лапки на животе сложила, слезу пустила: известно, что обманщику заплакать ничего не стоит. Говорит:
— Бедный ты, бедный! Жалко мне тебя!
Испугался бурундук:
— Почему ты жалеешь меня, соседка?
— Глупый ты! — отвечает лиса. — Медведь тебя обижает, а ты и не догадываешься об этом.
— Как так — обижает? — спрашивает бурундук.
— А вот так. Когда медведь добычу берет, кто первый ее зубами рвет?
— Брат-медведь, — отвечает бурундук.
— Вот видишь, самый сладкий кусок ему и достается! Ты, поди, уж давно хорошего куска не видал, все медвежьими объедками питаешься! Оттого и ростом ты маленький.
Завиляла лиса хвостом, слезы утерла, покачала головой.
— Ну, прощай, — говорит она напоследок. — Вижу, нравится тебе такая жизнь. Только я на твоем месте первая бы в добычу зубы запускала!
И побежала лиса, будто по делу. Бежит, хвостом следы заметает.
Посмотрел ей вслед бурундук, задумался: «А ведь соседка-то, пожалуй, правильно рассудила!»
Так бурундук задумался, что и про орехи забыл. «Вот, — думает, — медведь-то какой обманщик оказался! А я ему верил, за старшего брата считал».
…Вот пошли медведь и бурундук на охоту.
Зашли по пути в малинник. Сгреб медведь в лапы куст малины, присосался сам и брата приглашает. А тот смотрит — лиса-то правду сказала!
Поймал медведь еврашку — суслика, — зовет бурундука. А тот глядит — медведь-то первым в еврашку когти вонзил! Выходит, правду лиса говорила!
Пошли братья мимо пчелиного дубка. Медведь тот дубок своротил, лапой придержал, нос в улей всунул, ноздри раздул, губами зашлепал. Брата зовет — мед испробовать. А тот видит: опять медведь первый пробует, — значит, опять лиса права!
Рассердился тут бурундук. «Ну, — думает, — проучу я тебя!»
Пошли они на охоту в другой раз.
Сел бурундук брату на загривок — ему за медведем на своих маленьких лапках не поспеть.
 Учуял медведь добычу — косулю словил. Только хотел он ее зубами схватить, а тут бурундук как прыгнет у него меж ушей! Это — чтобы прежде брата в добычу зубы вонзить, сладкий кусок себе взять да немножко подрасти. Испугался медведь, выпустил косулю, и ушла она.
Остались оба брата голодными.
Пошли они дальше.
Увидел медведь еврашку, подкрался, а бурундук опять тут как тут! Опять перепугал медведя до полусмерти. Опять охота пропала. Рассердился медведь, а брату ничего не говорит.
Повстречались они с молодым кабаном. В другое время медведь и задираться бы не стал, а тут от голодухи у него живот к ребрам прилип. Озлился медведь и попер на кабана! Заревел так, что попятился кабан от медведя. Пятился, пятился, уткнулся хвостом в дерево — дальше некуда. Тут на него медведь и насел. Пасть раскрыл, зубами щелкает — вот сейчас целиком сглотнет!
Только приступил медведь к кабану, а бурундук опять с его загривка меж ушей — на кабана прыг! Хочет первым кабана попробовать. Тут медведь совсем разозлился. Как хватит бурундука лапой по спине, так все пять когтей и вонзил ему в спину, чтобы под лапу не попадался.
Рванулся бурундук — всю шкуру себе от головы до хвоста распорол. Взвыл от боли. Прыгнул на дерево, да на другое, да на третье… Как пошел с ветки на ветку перепрыгивать, только его медведь и видел!
Позвал медведь брата, когда кабана заломал:
— Эй, брат! Иди свеженину есть!
Нет бурундука, будто и не было никогда.
Пошел медведь домой. Ждал, ждал брата, да так и не дождался.
Убежал бурундук. На деревьях долго жил, пока раны на спине не зажили. Ну, раны-то зажили, а пять черных полос от когтей медведя на всю жизнь у него остались.
Теперь бурундук к медведю и не подходит и мяса не ест. А случится ему от медведя неподалеку оказаться, он со злости в медведя кедровыми шишками кидает. А как медведь голову поднимет, бурундук бежать — только его и видели!
Учуял медведь добычу — косулю словил. Только хотел он ее зубами схватить, а тут бурундук как прыгнет у него меж ушей! Это — чтобы прежде брата в добычу зубы вонзить, сладкий кусок себе взять да немножко подрасти. Испугался медведь, выпустил косулю, и ушла она.
Остались оба брата голодными.
Пошли они дальше.
Увидел медведь еврашку, подкрался, а бурундук опять тут как тут! Опять перепугал медведя до полусмерти. Опять охота пропала. Рассердился медведь, а брату ничего не говорит.
Повстречались они с молодым кабаном. В другое время медведь и задираться бы не стал, а тут от голодухи у него живот к ребрам прилип. Озлился медведь и попер на кабана! Заревел так, что попятился кабан от медведя. Пятился, пятился, уткнулся хвостом в дерево — дальше некуда. Тут на него медведь и насел. Пасть раскрыл, зубами щелкает — вот сейчас целиком сглотнет!
Только приступил медведь к кабану, а бурундук опять с его загривка меж ушей — на кабана прыг! Хочет первым кабана попробовать. Тут медведь совсем разозлился. Как хватит бурундука лапой по спине, так все пять когтей и вонзил ему в спину, чтобы под лапу не попадался.
Рванулся бурундук — всю шкуру себе от головы до хвоста распорол. Взвыл от боли. Прыгнул на дерево, да на другое, да на третье… Как пошел с ветки на ветку перепрыгивать, только его медведь и видел!
Позвал медведь брата, когда кабана заломал:
— Эй, брат! Иди свеженину есть!
Нет бурундука, будто и не было никогда.
Пошел медведь домой. Ждал, ждал брата, да так и не дождался.
Убежал бурундук. На деревьях долго жил, пока раны на спине не зажили. Ну, раны-то зажили, а пять черных полос от когтей медведя на всю жизнь у него остались.
Теперь бурундук к медведю и не подходит и мяса не ест. А случится ему от медведя неподалеку оказаться, он со злости в медведя кедровыми шишками кидает. А как медведь голову поднимет, бурундук бежать — только его и видели!

Большая беда
 У стариков — жизнь позади. Старики много знают — хороший совет всегда дать могут. Только и молодой хорошее слово сказать может: силы у него больше, глаз лучше, руки тверже, вся жизнь впереди — он вперед смотрит.
Давно удэ в теплых краях жили, на равнине, на берегу моря. Много их было, как деревьев в лесу. Тихо жили, ни с кем не воевали. Зверя били, рыбу ловили, закон соблюдали, детей растили. Давно это было.
Тогда в одном стойбище хозяином был старый шаман Кандига́. Как заболеет кто-нибудь, вытащит Кандига свой бубен, на котором Агды́ — гром — нарисован, костер разведет, бубен на костре подогреет и начнет шаманить. Вокруг костра ходит, пляшет, разные слова говорит, поет, в бубен бьет, будто гром гремит. В бубен бьет Кандига, говорит — злых чертей пугает… Шум такой поднимет, что потом эхо два дня откликается. Иной больной и выздоровеет, глядишь. А если умрет… и тогда шаман свое дело сделает: на серой птице с красным клювом душу покойника в подземное царство — Буни́ — увезет. Ту птицу, правда, никто не видал, да как шаману не верить!
Боялись шамана сородичи, слушались его. Что захочет шаман взять — отдают. Что скажет шаман — сделают. Как шаману не дать! Не дашь — он злых чертей на стойбище напустит, всем худо будет… Говорили про Кандигу, что он очень большой шаман. Черти шамана любили — все у Кандиги было, даже тогда, когда все другие удэ голодали, свои унты с голоду жевали.
И жил в том стойбище молодой парень Димдига́. Охотник хороший: одной стрелой двух гусей убивал. Парень как парень — не хуже других, а лучше. Смотрел этот парень на Кандигу — одного в толк не мог взять: почему это так получается? Двух уток он убьет, одну — себе, другую — Кандиге отдать надо; двух соболей забьет, одного — себе, другого — опять Кандиге. Кандига на охоту не ходит, в болоте не мокнет, на солнце не сохнет, на морозе не мерзнет, а добычи столько же получает, сколько и Димдига. Отчего это?
На совете мужчин Кандига говорит, разделив добычу:
— Хорошо сделали мы, все довольны…
Говорит Димдига:
— Хозяин! Я недоволен… Почему так? Ты в юрте сидишь, ног не бьешь. Тебе все мужчины половину отдают. Почему у меня — охотника — меньше добра, чем у тебя?
— Глупый ты! — говорит Кандига. — Счастье мне духи приносят! Почему? С ними поговори… Вот сейчас всех чертей своих сюда позову!
Рогатую шапку надевает, пояс с погремушками надевает, за бубен гремящий хватается. Гремит бубен — по всей округе гром идет.
Просят старики:
— Не шамань, молодого не слушай! Он ума на охоте не добыл, только зверя на охоте добыл…
— Ладно, — говорит шаман, — только ради вас его прощаю.
И опять ходит Димдига на охоту. Зверя бьет: одного — себе, одного — Кандиге. А шаман все Димдигу ругает. Что бы ни сказал парень, все шаману впоперек.
…В тот год из дальнего стойбища люди прибежали. Оборванные, голодные люди прибежали. Говорят, плача:
— Страшные люди на нас напали! Множество великое их! Сами — как тигры. На диких зверях ездят.
— Что за звери? — спрашивает на совете Димдига. — Собаки?
— Нет, не собаки.
— Олени?
— Нет, не олени. Нам ли оленей не знать — всю жизнь оленей держали! Четыре ноги у тех зверей, шерсть гладкая, морда на оленью похожа, да не совсем; хвосты у тех зверей длинные, на ногах круглые копыта да на шее тоже длинные волосы. Кричат те звери так, что далеко слышно. У тех, кто крик их услышит, сердце заячье делается. Те люди никого не щадят. Мужчин убивают, женщин с собой уводят, детей малых под копыта своим зверям бросают.
— Плохие люди! — говорит Димдига. — Уходить надо, у нас с ними драться силы не станет.
— То не люди, — говорит Кандига.
— Да мы сами видали: две руки, две ноги, одна голова у тех людей. Не по-нашему говорят. От деревень только пепел оставляют. Где они пройдут — там и трава не растет.
— То не люди, — говорит Кандига, — то злые черти! Это их Димдига накликал… Не бывает таких людей! Шаманить буду — мне дары давайте, тех чертей прогоню!
Люди с дальних стойбищ дальше бегут…
Прибегают из средних стойбищ люди.
— Бегите! — кричат. — Злые люди на нас напали! Против них у нас силы нет. Юрты жгут, людей бьют!
— Уходить надо, — на совете Димдига говорит. — Злые духи юрт не жгут.
— То не люди, — на своем Кандига стоит, — то злые черти! Нет такого черта, чтобы меня испугал. Шаманить буду — всех чертей перепугаю! Несите мне дары.
Люди со средних стойбищ дальше бегут…
Из ближних стойбищ люди прибежали:
— Тех злых людей мунгалами звать! Говорят, они весь мир прошли, никого в живых не оставили! Только и есть живые, что мы с вами!
— Со своих зверей слезают ли мунгалы? — спрашивает на совете Димдига.
— Слезают, когда едят и когда убивают.
— Что едят мунгалы?
— Тех зверей, что с ними запасными идут.
— Это люди, — говорит Димдига. — Надо оружие готовить. Надо уходить с их дороги. Что едят мунгальские звери?
— Траву, — отвечают люди.
— Надо в лес уходить, надо в горы уходить, — говорит Димдига. — Те люди, верно, к лесам да горам непривычны.
— То черти! — говорит Кандига. — Злые духи, их Димдига раздразнил. Несите дары мне! Я все беды отгоню! Мангни́ — идола — сделаю, всех чертей разгоню!
Стал Кандига шаманить день и ночь. Упадет от усталости, вскочит и опять шаманит. Страшного идола сделал — Мангни — и вокруг него кружится.
Мангни на холме стоит. Три роста в нем. Живот у Мангни пустой, чтобы вечно голодный был. Руки у него змеями перевиты, чтобы гибкими в драке были. У того Мангни на ногах ящерицы, чтобы быстро бегал. В груди у него птица вместо сердца. На груди — медный круг начищенный, как солнце сияет, чтобы врагов слепить. В том медном круге все отражается.
Говорит Кандига:
— Подлетят мунгалы на своих зверях, в медном круге себя увидят, подумают, нет здесь никого, кроме них. Уйдут.
— Копьями и стрелами мунгалов надо отгонять! — говорит Димдига.
Жмутся люди к Кандиге. Никто не защитит их больше.
Сделал Кандига еще двух идолов — Мангни на помощь, чтобы бить чертей.
Говорит тут Димдига:
— Эй, люди! Большая беда пришла — не Кандиге-старику ее отогнать. Берите луки, стрелы, копья, в леса уходите, в горы уходите! Тем мунгальским зверям трава нужна. Дойдут мунгалы до лесов, до гор, увидят — зверей нечем кормить, назад повернут!
Шум в стойбище поднялся. Молодые кричат:
— Димдига правду говорит — мужчины должны драться!
Старики вопят:
— Никто против чертей не силен!
А мунгалы уже близко… Уже крик их слышен… Уже пламя видно: жгут мунгалы юрты соплеменников Димдиги.
Шаманит Кандига. Изо рта у него пена брызжет. Бубен, как гром, гремит. Побрякушки на поясе звенят. Шапка рогатая раскачивается. Трясутся от страха старики, на него глядя.
У стариков — жизнь позади. Старики много знают — хороший совет всегда дать могут. Только и молодой хорошее слово сказать может: силы у него больше, глаз лучше, руки тверже, вся жизнь впереди — он вперед смотрит.
Давно удэ в теплых краях жили, на равнине, на берегу моря. Много их было, как деревьев в лесу. Тихо жили, ни с кем не воевали. Зверя били, рыбу ловили, закон соблюдали, детей растили. Давно это было.
Тогда в одном стойбище хозяином был старый шаман Кандига́. Как заболеет кто-нибудь, вытащит Кандига свой бубен, на котором Агды́ — гром — нарисован, костер разведет, бубен на костре подогреет и начнет шаманить. Вокруг костра ходит, пляшет, разные слова говорит, поет, в бубен бьет, будто гром гремит. В бубен бьет Кандига, говорит — злых чертей пугает… Шум такой поднимет, что потом эхо два дня откликается. Иной больной и выздоровеет, глядишь. А если умрет… и тогда шаман свое дело сделает: на серой птице с красным клювом душу покойника в подземное царство — Буни́ — увезет. Ту птицу, правда, никто не видал, да как шаману не верить!
Боялись шамана сородичи, слушались его. Что захочет шаман взять — отдают. Что скажет шаман — сделают. Как шаману не дать! Не дашь — он злых чертей на стойбище напустит, всем худо будет… Говорили про Кандигу, что он очень большой шаман. Черти шамана любили — все у Кандиги было, даже тогда, когда все другие удэ голодали, свои унты с голоду жевали.
И жил в том стойбище молодой парень Димдига́. Охотник хороший: одной стрелой двух гусей убивал. Парень как парень — не хуже других, а лучше. Смотрел этот парень на Кандигу — одного в толк не мог взять: почему это так получается? Двух уток он убьет, одну — себе, другую — Кандиге отдать надо; двух соболей забьет, одного — себе, другого — опять Кандиге. Кандига на охоту не ходит, в болоте не мокнет, на солнце не сохнет, на морозе не мерзнет, а добычи столько же получает, сколько и Димдига. Отчего это?
На совете мужчин Кандига говорит, разделив добычу:
— Хорошо сделали мы, все довольны…
Говорит Димдига:
— Хозяин! Я недоволен… Почему так? Ты в юрте сидишь, ног не бьешь. Тебе все мужчины половину отдают. Почему у меня — охотника — меньше добра, чем у тебя?
— Глупый ты! — говорит Кандига. — Счастье мне духи приносят! Почему? С ними поговори… Вот сейчас всех чертей своих сюда позову!
Рогатую шапку надевает, пояс с погремушками надевает, за бубен гремящий хватается. Гремит бубен — по всей округе гром идет.
Просят старики:
— Не шамань, молодого не слушай! Он ума на охоте не добыл, только зверя на охоте добыл…
— Ладно, — говорит шаман, — только ради вас его прощаю.
И опять ходит Димдига на охоту. Зверя бьет: одного — себе, одного — Кандиге. А шаман все Димдигу ругает. Что бы ни сказал парень, все шаману впоперек.
…В тот год из дальнего стойбища люди прибежали. Оборванные, голодные люди прибежали. Говорят, плача:
— Страшные люди на нас напали! Множество великое их! Сами — как тигры. На диких зверях ездят.
— Что за звери? — спрашивает на совете Димдига. — Собаки?
— Нет, не собаки.
— Олени?
— Нет, не олени. Нам ли оленей не знать — всю жизнь оленей держали! Четыре ноги у тех зверей, шерсть гладкая, морда на оленью похожа, да не совсем; хвосты у тех зверей длинные, на ногах круглые копыта да на шее тоже длинные волосы. Кричат те звери так, что далеко слышно. У тех, кто крик их услышит, сердце заячье делается. Те люди никого не щадят. Мужчин убивают, женщин с собой уводят, детей малых под копыта своим зверям бросают.
— Плохие люди! — говорит Димдига. — Уходить надо, у нас с ними драться силы не станет.
— То не люди, — говорит Кандига.
— Да мы сами видали: две руки, две ноги, одна голова у тех людей. Не по-нашему говорят. От деревень только пепел оставляют. Где они пройдут — там и трава не растет.
— То не люди, — говорит Кандига, — то злые черти! Это их Димдига накликал… Не бывает таких людей! Шаманить буду — мне дары давайте, тех чертей прогоню!
Люди с дальних стойбищ дальше бегут…
Прибегают из средних стойбищ люди.
— Бегите! — кричат. — Злые люди на нас напали! Против них у нас силы нет. Юрты жгут, людей бьют!
— Уходить надо, — на совете Димдига говорит. — Злые духи юрт не жгут.
— То не люди, — на своем Кандига стоит, — то злые черти! Нет такого черта, чтобы меня испугал. Шаманить буду — всех чертей перепугаю! Несите мне дары.
Люди со средних стойбищ дальше бегут…
Из ближних стойбищ люди прибежали:
— Тех злых людей мунгалами звать! Говорят, они весь мир прошли, никого в живых не оставили! Только и есть живые, что мы с вами!
— Со своих зверей слезают ли мунгалы? — спрашивает на совете Димдига.
— Слезают, когда едят и когда убивают.
— Что едят мунгалы?
— Тех зверей, что с ними запасными идут.
— Это люди, — говорит Димдига. — Надо оружие готовить. Надо уходить с их дороги. Что едят мунгальские звери?
— Траву, — отвечают люди.
— Надо в лес уходить, надо в горы уходить, — говорит Димдига. — Те люди, верно, к лесам да горам непривычны.
— То черти! — говорит Кандига. — Злые духи, их Димдига раздразнил. Несите дары мне! Я все беды отгоню! Мангни́ — идола — сделаю, всех чертей разгоню!
Стал Кандига шаманить день и ночь. Упадет от усталости, вскочит и опять шаманит. Страшного идола сделал — Мангни — и вокруг него кружится.
Мангни на холме стоит. Три роста в нем. Живот у Мангни пустой, чтобы вечно голодный был. Руки у него змеями перевиты, чтобы гибкими в драке были. У того Мангни на ногах ящерицы, чтобы быстро бегал. В груди у него птица вместо сердца. На груди — медный круг начищенный, как солнце сияет, чтобы врагов слепить. В том медном круге все отражается.
Говорит Кандига:
— Подлетят мунгалы на своих зверях, в медном круге себя увидят, подумают, нет здесь никого, кроме них. Уйдут.
— Копьями и стрелами мунгалов надо отгонять! — говорит Димдига.
Жмутся люди к Кандиге. Никто не защитит их больше.
Сделал Кандига еще двух идолов — Мангни на помощь, чтобы бить чертей.
Говорит тут Димдига:
— Эй, люди! Большая беда пришла — не Кандиге-старику ее отогнать. Берите луки, стрелы, копья, в леса уходите, в горы уходите! Тем мунгальским зверям трава нужна. Дойдут мунгалы до лесов, до гор, увидят — зверей нечем кормить, назад повернут!
Шум в стойбище поднялся. Молодые кричат:
— Димдига правду говорит — мужчины должны драться!
Старики вопят:
— Никто против чертей не силен!
А мунгалы уже близко… Уже крик их слышен… Уже пламя видно: жгут мунгалы юрты соплеменников Димдиги.
Шаманит Кандига. Изо рта у него пена брызжет. Бубен, как гром, гремит. Побрякушки на поясе звенят. Шапка рогатая раскачивается. Трясутся от страха старики, на него глядя.
 Сородичам говорит Димдига:
— Кто со мной пойдет — перейдите ручей! Кому детей своих жалко — перейдите ручей! Кому за оружие взяться не стыдно — перейдите!..
Кто шаману не верил — перешел ручей. Остались с шаманом те, кто чертям верил больше, чем своим рукам.
Ушел Димдига.
А мунгалы словно туча идут. Как песку на берегу морском тех мунгалов! Дрожит земля от топота. Над мунгалами шум стоит, как в половодье: кричат они, гикают, своих зверей погоняют. В руках у них кривые сабли длинные, за плечами — колчаны со стрелами, у седла — топоры боевые. Правду Димдига сказал, что не черти мунгалы, а люди.
Стойбище увидали мунгалы, еще пуще закричали. Целую тучу стрел пустили — солнца не видно стало!
А Димдига со своими уже от леса недалеко.
Увидали мунгалы Димдигу — помчались вслед. Чуть не догнали. Да парень уже в лес вошел. Женщин и детей дальше погнал Димдига. А сам с мужчинами за деревьями спрятался.
Стали в мунгалов стрелы из тугих своих луков пускать. Запели стрелы, полетели. Сквозь черта стрела пройдет, разве может человек черта убить? А мунгалы падают с седел…
От дерева к дереву — глубже в лес уходит Димдига. От дерева к дереву — глубже в лес уходят и те, кто с ним из стойбища ушел.
Долго гнались мунгалы за Димдигой. Только звери их в лесу непривычны. Только зверям тем в лесу тесно. Только зверей тех в лесу кормить нечем. Тех зверей мунгалам пасти негде. Только мох седой вокруг на деревьях висит да папоротники стеной стоят…
Повернули мунгалы обратно.
Послал Димдига людей своих всем соплеменным сказать, как от мунгалов спасаться. Потянулись удэ в леса да в горы. Стали на горах да в лесах жить. Лесными людьми удэ стали. Так их и до сих пор зовут.
…Сколько времени прошло — не знаю. Пошел Димдига на старое стойбище. Посмотреть хотел — помог ли Кандиге Мангни со своими одноногими.
Видит Димдига — мунгалы до моря дошли, назад повернули, в свои степные равнины назад ушли.
Видит Димдига — в старом стойбище Мангни лежит поверженный… В пустом брюхе трава растет, в пустой груди ящерки бегают. Одноногие помощники обугленные лежат — мунгалы из них костер делали.
Видит Димдига — лежит шаман, ноги раскинул, в руках топор держит. Рядом с ним мунгал лежит, топором убитый. Вспомнил, видно, шаман Димдигу, да поздно было. Лежит Кандига. На нем ворон черный сидит. Хорьки да росомахи по стойбищу рыскают.
Обратно Димдига в лес пошел. Родичам сказал: «Лес да камни — нам лучшая защита!»
Стали удэ в лесах жить. На совете молодые стариков слушают. Но и старики от молодых хорошего слова ждут.
Сородичам говорит Димдига:
— Кто со мной пойдет — перейдите ручей! Кому детей своих жалко — перейдите ручей! Кому за оружие взяться не стыдно — перейдите!..
Кто шаману не верил — перешел ручей. Остались с шаманом те, кто чертям верил больше, чем своим рукам.
Ушел Димдига.
А мунгалы словно туча идут. Как песку на берегу морском тех мунгалов! Дрожит земля от топота. Над мунгалами шум стоит, как в половодье: кричат они, гикают, своих зверей погоняют. В руках у них кривые сабли длинные, за плечами — колчаны со стрелами, у седла — топоры боевые. Правду Димдига сказал, что не черти мунгалы, а люди.
Стойбище увидали мунгалы, еще пуще закричали. Целую тучу стрел пустили — солнца не видно стало!
А Димдига со своими уже от леса недалеко.
Увидали мунгалы Димдигу — помчались вслед. Чуть не догнали. Да парень уже в лес вошел. Женщин и детей дальше погнал Димдига. А сам с мужчинами за деревьями спрятался.
Стали в мунгалов стрелы из тугих своих луков пускать. Запели стрелы, полетели. Сквозь черта стрела пройдет, разве может человек черта убить? А мунгалы падают с седел…
От дерева к дереву — глубже в лес уходит Димдига. От дерева к дереву — глубже в лес уходят и те, кто с ним из стойбища ушел.
Долго гнались мунгалы за Димдигой. Только звери их в лесу непривычны. Только зверям тем в лесу тесно. Только зверей тех в лесу кормить нечем. Тех зверей мунгалам пасти негде. Только мох седой вокруг на деревьях висит да папоротники стеной стоят…
Повернули мунгалы обратно.
Послал Димдига людей своих всем соплеменным сказать, как от мунгалов спасаться. Потянулись удэ в леса да в горы. Стали на горах да в лесах жить. Лесными людьми удэ стали. Так их и до сих пор зовут.
…Сколько времени прошло — не знаю. Пошел Димдига на старое стойбище. Посмотреть хотел — помог ли Кандиге Мангни со своими одноногими.
Видит Димдига — мунгалы до моря дошли, назад повернули, в свои степные равнины назад ушли.
Видит Димдига — в старом стойбище Мангни лежит поверженный… В пустом брюхе трава растет, в пустой груди ящерки бегают. Одноногие помощники обугленные лежат — мунгалы из них костер делали.
Видит Димдига — лежит шаман, ноги раскинул, в руках топор держит. Рядом с ним мунгал лежит, топором убитый. Вспомнил, видно, шаман Димдигу, да поздно было. Лежит Кандига. На нем ворон черный сидит. Хорьки да росомахи по стойбищу рыскают.
Обратно Димдига в лес пошел. Родичам сказал: «Лес да камни — нам лучшая защита!»
Стали удэ в лесах жить. На совете молодые стариков слушают. Но и старики от молодых хорошего слова ждут.

Кукушкино богатство
 Не бойся к делу руки приложить. Коли рукой не пошевелишь — и счастье мимо пройдет. Только и видел его!..
В одной деревне три брата жили — Халба́, Адунга́ и Покчо́.
Два брата охотничий промысел любили, на охоту ходили. Ловушки для зверя делать умели. Стрелой белке на лету в глаз попадали. А младший брат за старших хоронился. Братья на охоту — соболевать, Покчо — за ними. Братья шалаш сделают, огонь разведут, Таежному Хозяину поклонятся, чтобы удача была, — и в тайгу. А Покчо в шалаше сидит, кашу варит, звезды на небе считает, думает: «Вот бы мне столько соболей!» — да свою долю от добычи братьев ждет. А ему, сидячему, от всей добычи — десятая часть. Оттого беднее всех братьев был Покчо. Только и радости у него, когда братья медведя добудут: на пиру наестся до отвала. Тут Покчо впереди всех был!
Два брата рыбный промысел любили, на реку ходили. Лодки делать умели. Острогой рыбу били. Сети вязали. Одним ударом калугу убивали. Трезубой острогой сразу трех рыб брали. И Покчо тут: на берегу сидит, в костер сучья подбрасывает, листья на деревьях считает, думает: «Вот бы мне рыбы такой улов!» — да свою долю от улова братьев ждет. А его доля — десятая часть. От этого не разбогатеешь… Только и радости у Покчо, когда братья калугу добудут: наестся он до отвала; все едят, и он ест. Тут за Покчо никому не угнаться! Так и жили братья.
Завидует Покчо Халбе с Адунгой. Чем дальше время идет, тем у них добра больше.
А у Покчо последнее невесть куда девается.
Хочет Покчо разбогатеть. Ходит, на землю смотрит — не валяется ли где-нибудь медвежий зуб: говорят, он богатство приносит. Тряпочку на земле увидит Покчо — сейчас ее за пазуху: а вдруг она счастливая окажется, богатство принесет! Лиственницы рассматривает, где та счастливая лиственница, на которой еловые шишки растут.
Пошел однажды Покчо с братьями в тайгу.
Братья — на промысел, Покчо — в шалаш.
Сидит, кашу варит. «Вот, — думает, — кабы мне столько соболей добыть, сколько крупинок в каше, то-то бы я хорошо пожил!»
Вдруг сверху сухая ветка упала. Поднял голову Покчо, видит — на сосне кукушка сидит. Сидит, охорашивается, хвостом сверху вниз помахивает.
— Осенью ягод много будет, — думает вслух Покчо. — Старая примета.
О приметах вспомнил и даже подпрыгнул: говорили старики, что, если кукушку убить, съесть, потом уснуть, а во сне вспотеть, — богатство само в руки пойдет.
Как ни ленив был Покчо, а тут зашевелился. Счастье само в руки дается, как можно упустить! Хвать котелок с кашей — да в кукушку! Облепила горячая каша птицу. Свалилась кукушка на землю. Съел ее Покчо вместе с перьями и потрохами. Потом прилег на бочок, свернулся калачиком и заснул.
Жарко ему стало вскоре.
Глядит Покчо — что за диво: из тайги один за другим соболи идут! Впереди большой, черный как уголь; шерсть на нем так блестит, что глазам больно. Обомлел Покчо-лентяй. Догадался, что из тайги сам Соболиный Хозяин вышел. «Ай да кукушка!» — радуется Покчо.
Идет Соболиный Хозяин — и прямо к Покчо. Дошел до него, вверх прыгнул и исчез. А те соболи, что за Хозяином шли, прямо в руки Покчо лезут. Не растерялся Покчо, схватил большую ложку, давай соболей бить. Только одного по носу стукнет, а тут уже другой наготове стоит. Даже устал Покчо. Справа целую гору зверей накидал. Слышит — спрашивает его сверху Соболиный Хозяин:
— Не хватит ли, Покчо?
— Давай, давай! — орет Покчо.
Не бойся к делу руки приложить. Коли рукой не пошевелишь — и счастье мимо пройдет. Только и видел его!..
В одной деревне три брата жили — Халба́, Адунга́ и Покчо́.
Два брата охотничий промысел любили, на охоту ходили. Ловушки для зверя делать умели. Стрелой белке на лету в глаз попадали. А младший брат за старших хоронился. Братья на охоту — соболевать, Покчо — за ними. Братья шалаш сделают, огонь разведут, Таежному Хозяину поклонятся, чтобы удача была, — и в тайгу. А Покчо в шалаше сидит, кашу варит, звезды на небе считает, думает: «Вот бы мне столько соболей!» — да свою долю от добычи братьев ждет. А ему, сидячему, от всей добычи — десятая часть. Оттого беднее всех братьев был Покчо. Только и радости у него, когда братья медведя добудут: на пиру наестся до отвала. Тут Покчо впереди всех был!
Два брата рыбный промысел любили, на реку ходили. Лодки делать умели. Острогой рыбу били. Сети вязали. Одним ударом калугу убивали. Трезубой острогой сразу трех рыб брали. И Покчо тут: на берегу сидит, в костер сучья подбрасывает, листья на деревьях считает, думает: «Вот бы мне рыбы такой улов!» — да свою долю от улова братьев ждет. А его доля — десятая часть. От этого не разбогатеешь… Только и радости у Покчо, когда братья калугу добудут: наестся он до отвала; все едят, и он ест. Тут за Покчо никому не угнаться! Так и жили братья.
Завидует Покчо Халбе с Адунгой. Чем дальше время идет, тем у них добра больше.
А у Покчо последнее невесть куда девается.
Хочет Покчо разбогатеть. Ходит, на землю смотрит — не валяется ли где-нибудь медвежий зуб: говорят, он богатство приносит. Тряпочку на земле увидит Покчо — сейчас ее за пазуху: а вдруг она счастливая окажется, богатство принесет! Лиственницы рассматривает, где та счастливая лиственница, на которой еловые шишки растут.
Пошел однажды Покчо с братьями в тайгу.
Братья — на промысел, Покчо — в шалаш.
Сидит, кашу варит. «Вот, — думает, — кабы мне столько соболей добыть, сколько крупинок в каше, то-то бы я хорошо пожил!»
Вдруг сверху сухая ветка упала. Поднял голову Покчо, видит — на сосне кукушка сидит. Сидит, охорашивается, хвостом сверху вниз помахивает.
— Осенью ягод много будет, — думает вслух Покчо. — Старая примета.
О приметах вспомнил и даже подпрыгнул: говорили старики, что, если кукушку убить, съесть, потом уснуть, а во сне вспотеть, — богатство само в руки пойдет.
Как ни ленив был Покчо, а тут зашевелился. Счастье само в руки дается, как можно упустить! Хвать котелок с кашей — да в кукушку! Облепила горячая каша птицу. Свалилась кукушка на землю. Съел ее Покчо вместе с перьями и потрохами. Потом прилег на бочок, свернулся калачиком и заснул.
Жарко ему стало вскоре.
Глядит Покчо — что за диво: из тайги один за другим соболи идут! Впереди большой, черный как уголь; шерсть на нем так блестит, что глазам больно. Обомлел Покчо-лентяй. Догадался, что из тайги сам Соболиный Хозяин вышел. «Ай да кукушка!» — радуется Покчо.
Идет Соболиный Хозяин — и прямо к Покчо. Дошел до него, вверх прыгнул и исчез. А те соболи, что за Хозяином шли, прямо в руки Покчо лезут. Не растерялся Покчо, схватил большую ложку, давай соболей бить. Только одного по носу стукнет, а тут уже другой наготове стоит. Даже устал Покчо. Справа целую гору зверей накидал. Слышит — спрашивает его сверху Соболиный Хозяин:
— Не хватит ли, Покчо?
— Давай, давай! — орет Покчо.
 Руку переменил, налево кладет. Такую гору навалил, что из-за нее и леса не видно стало.
— Не хватит ли, Покчо? — спрашивает его Соболиный Хозяин опять.
— Давай, давай! — кричит Покчо.
Обеими руками за ложку покрепче ухватился, колотит соболей. И впереди него целая гора выросла.
Выбился Покчо из сил. Спрашивает его Соболиный Хозяин в третий раз:
— Не хватит ли, Покчо? Ты столько соболей набил, с места не сходя, сколько сто охотников за весь промысел не добудут.
Хотел было Покчо крикнуть: «Давай, давай!» — да чуть не задохся под грудой соболей.
— Хватит! — говорит.
Братья из тайги вернулись. Глядят — под соболями и шалаша не видать, только унты Покчо снизу торчат.
Вытащили они брата, на ноги поставили.
Сел Покчо. Трубку закурил, говорит:
— Устал, посижу отдохну. А вы шкурки снимите.
Стали братья шкурки снимать. Долго работали, взмокли даже. Под ними снег протаял, земля отошла, зеленая трава выросла. Над ними пар столбом стоит, радуга в нем играет.
А Покчо поторапливает братьев, покрикивает на них.
Кончили братья работу…
Тут к Покчо одна за другой, откуда ни возьмись, собачьи упряжки катят. Собачки — одна другой лучше: все белые, лапы черные, сбруя сохатиная, с медными пуговками. Шкурки сами собой на нарты погрузились.
Поехали братья в деревню.
На первой нарте Покчо важно сидит.
Подъезжает Покчо с братьями к деревне, а его уже купцы дожидаются.
Принялись купцы торговаться, рядиться; друг с другом из-за соболей дерутся. Очень уж шкурки хороши! Дали купцы Покчо два чувала серебра, халатов — не сосчитаешь сколько, крупы, муки, сластей — целый амбар.
Такой Покчо богатый стал, что все сородичи ему поклонились.
А счастье Покчо все валит и валит, как снег на голову.
Послал Покчо братьев сетки свои посмотреть. Пошли братья, стали сетки тянуть — силы не хватает: такой улов богатый! Всю деревню на помощь созвали. Едва-едва вытащили сетки. А в сетках — в каждой рыба, да не какая-нибудь мелочь несто́ящая, а калуга-рыба! Мяса на целый год всей деревне за один улов добыли. Вот как!
Самым важным человеком в деревне стал Покчо.
Добрый парень Покчо был. Решил на радостях людей угостить. Каши наварил большой-большой чан: вся крупа туда ушла и вся мука. Всех людей созвал Покчо, говорит:
— Ешьте сколько хотите!
Пришли люди, вокруг котла сели.
Говорят старики:
— Надо сначала детей накормить…
— Правильно, — говорит Покчо, — пусть сначала дети малые едят.
Подошел к каше мальчишка малый с маленькой ложкой в руках.
Говорит ему Покчо:
— Возьми большую ложку.
Отвечает ему малыш:
— Ничего, мне много не надо.
Зачерпнул мальчишка своей ложкой кашу из чана — так сразу весь чан и опорожнил.
— Вкусно, да мало, — говорит.
Вытаращил Покчо глаза: как так вышло?
А люди обижаются:
— Что же ты, Покчо? Обещал всех людей накормить а не мог мальчика досыта угостить! Видишь, облизывается — съел бы еще, да нету.
— Ничего, — говорит Покчо, — я еще крупы куплю. Позовите сюда купца.
Побежали люди за купцом.
Развязал Покчо чувал с деньгами. А монеты сами из чувала выскакивают да по той дороге катятся, по которой купцы приезжали. Хочет удержать их Покчо — да куда там! Будто вода между пальцев, текут деньги. Поглядел Покчо, а оба чувала уже пустые лежат…
— Ничего, — говорит Покчо, — людей как можно не угостить! Халаты продам, а людей накормлю!
Пошел он в амбар. Висели там разные халаты. Ватные, шелковые, из рыбьей кожи, из шкуры сохатого, из меха оленя халаты. Шелками шитые, оленьим волосом шитые, золотыми драконами тканные халаты. С медными, серебряными да золотыми пуговками халаты. Потащил Покчо халаты из амбара. Кричит, чтобы скорее другого купца звали.
А люди говорят ему:
— А что ты, Покчо, продавать хочешь?
— Как «что»? — говорит Покчо.
Глядит, а в руках у него березовая кора, дятлом поклеванная. И полны амбары березовой коры.
Кричит Покчо:
— Ничего, я ведь кукушку съел — теперь счастливый! Давайте калугу есть, на целый год наловили!
— Э-э, хватился! — говорят Покчо. — Нету твоей калуги!
— Да где же она? — спрашивает Покчо.
— Кукушка склюнула.
— Как «кукушка склюнула»?
— Да так: подлетела к калуге, на голову села, в глаз клюнула, так вся калуга и пропала! Говорил ты, что кукушку съел, а выходит — она тебя съела…
Ушли люди.
Лег Покчо с горя спать. Это он умел делать! Слышит — кричат ему люди:
— Эй, не спи, Покчо: всю жизнь проспишь!
Стыдно Покчо стало. Жарко ему стало. Проснулся он…
Глядит — в охотничьем шалаше он сидит, а костер разгорелся так, что уже и к нему подбирается, от жара даже унты у Покчо покоробились.
Закурил Покчо. Подумал. Еще раз подумал. Глядит — а около самого шалаша свежий следок соболиный. Видно, соболь прошел, когда Покчо сны видел.
Вскочил ленивый Покчо. Схватил лучок. Стал на лыжи. По соболиному следу побежал.
— Э-э, — говорит, — лучше один соболь, своими руками пойманный, чем все кукушкино богатство!
А ведь правда это, пожалуй!
Руку переменил, налево кладет. Такую гору навалил, что из-за нее и леса не видно стало.
— Не хватит ли, Покчо? — спрашивает его Соболиный Хозяин опять.
— Давай, давай! — кричит Покчо.
Обеими руками за ложку покрепче ухватился, колотит соболей. И впереди него целая гора выросла.
Выбился Покчо из сил. Спрашивает его Соболиный Хозяин в третий раз:
— Не хватит ли, Покчо? Ты столько соболей набил, с места не сходя, сколько сто охотников за весь промысел не добудут.
Хотел было Покчо крикнуть: «Давай, давай!» — да чуть не задохся под грудой соболей.
— Хватит! — говорит.
Братья из тайги вернулись. Глядят — под соболями и шалаша не видать, только унты Покчо снизу торчат.
Вытащили они брата, на ноги поставили.
Сел Покчо. Трубку закурил, говорит:
— Устал, посижу отдохну. А вы шкурки снимите.
Стали братья шкурки снимать. Долго работали, взмокли даже. Под ними снег протаял, земля отошла, зеленая трава выросла. Над ними пар столбом стоит, радуга в нем играет.
А Покчо поторапливает братьев, покрикивает на них.
Кончили братья работу…
Тут к Покчо одна за другой, откуда ни возьмись, собачьи упряжки катят. Собачки — одна другой лучше: все белые, лапы черные, сбруя сохатиная, с медными пуговками. Шкурки сами собой на нарты погрузились.
Поехали братья в деревню.
На первой нарте Покчо важно сидит.
Подъезжает Покчо с братьями к деревне, а его уже купцы дожидаются.
Принялись купцы торговаться, рядиться; друг с другом из-за соболей дерутся. Очень уж шкурки хороши! Дали купцы Покчо два чувала серебра, халатов — не сосчитаешь сколько, крупы, муки, сластей — целый амбар.
Такой Покчо богатый стал, что все сородичи ему поклонились.
А счастье Покчо все валит и валит, как снег на голову.
Послал Покчо братьев сетки свои посмотреть. Пошли братья, стали сетки тянуть — силы не хватает: такой улов богатый! Всю деревню на помощь созвали. Едва-едва вытащили сетки. А в сетках — в каждой рыба, да не какая-нибудь мелочь несто́ящая, а калуга-рыба! Мяса на целый год всей деревне за один улов добыли. Вот как!
Самым важным человеком в деревне стал Покчо.
Добрый парень Покчо был. Решил на радостях людей угостить. Каши наварил большой-большой чан: вся крупа туда ушла и вся мука. Всех людей созвал Покчо, говорит:
— Ешьте сколько хотите!
Пришли люди, вокруг котла сели.
Говорят старики:
— Надо сначала детей накормить…
— Правильно, — говорит Покчо, — пусть сначала дети малые едят.
Подошел к каше мальчишка малый с маленькой ложкой в руках.
Говорит ему Покчо:
— Возьми большую ложку.
Отвечает ему малыш:
— Ничего, мне много не надо.
Зачерпнул мальчишка своей ложкой кашу из чана — так сразу весь чан и опорожнил.
— Вкусно, да мало, — говорит.
Вытаращил Покчо глаза: как так вышло?
А люди обижаются:
— Что же ты, Покчо? Обещал всех людей накормить а не мог мальчика досыта угостить! Видишь, облизывается — съел бы еще, да нету.
— Ничего, — говорит Покчо, — я еще крупы куплю. Позовите сюда купца.
Побежали люди за купцом.
Развязал Покчо чувал с деньгами. А монеты сами из чувала выскакивают да по той дороге катятся, по которой купцы приезжали. Хочет удержать их Покчо — да куда там! Будто вода между пальцев, текут деньги. Поглядел Покчо, а оба чувала уже пустые лежат…
— Ничего, — говорит Покчо, — людей как можно не угостить! Халаты продам, а людей накормлю!
Пошел он в амбар. Висели там разные халаты. Ватные, шелковые, из рыбьей кожи, из шкуры сохатого, из меха оленя халаты. Шелками шитые, оленьим волосом шитые, золотыми драконами тканные халаты. С медными, серебряными да золотыми пуговками халаты. Потащил Покчо халаты из амбара. Кричит, чтобы скорее другого купца звали.
А люди говорят ему:
— А что ты, Покчо, продавать хочешь?
— Как «что»? — говорит Покчо.
Глядит, а в руках у него березовая кора, дятлом поклеванная. И полны амбары березовой коры.
Кричит Покчо:
— Ничего, я ведь кукушку съел — теперь счастливый! Давайте калугу есть, на целый год наловили!
— Э-э, хватился! — говорят Покчо. — Нету твоей калуги!
— Да где же она? — спрашивает Покчо.
— Кукушка склюнула.
— Как «кукушка склюнула»?
— Да так: подлетела к калуге, на голову села, в глаз клюнула, так вся калуга и пропала! Говорил ты, что кукушку съел, а выходит — она тебя съела…
Ушли люди.
Лег Покчо с горя спать. Это он умел делать! Слышит — кричат ему люди:
— Эй, не спи, Покчо: всю жизнь проспишь!
Стыдно Покчо стало. Жарко ему стало. Проснулся он…
Глядит — в охотничьем шалаше он сидит, а костер разгорелся так, что уже и к нему подбирается, от жара даже унты у Покчо покоробились.
Закурил Покчо. Подумал. Еще раз подумал. Глядит — а около самого шалаша свежий следок соболиный. Видно, соболь прошел, когда Покчо сны видел.
Вскочил ленивый Покчо. Схватил лучок. Стал на лыжи. По соболиному следу побежал.
— Э-э, — говорит, — лучше один соболь, своими руками пойманный, чем все кукушкино богатство!
А ведь правда это, пожалуй!

Чориль и Чольчинай
 И любовь и дружба с трудом достаются. Чтобы все хорошо стало, много в жизни тяжелого перенести надо. Без труда и палку не выстругаешь. А для друга и любимого ни рук, ни головы жалеть не надо.
Еще тогда, когда нивхов много было, жили на Тро-мифе — острове — Чори́ль из рода Тахта́ и Чольчина́й из рода Чильби. Как родилась Чольчинай, мать Чориляперевязала ей руку собачьим волосом: стала Чольчинай невестой Чориля.
Когда девочка первую куклу в руки взяла, Чориль первого соболя добыл. Когда Чольчинай первый раз ножик в руки взяла, чтобы рыбу почистить, Чориль на совете мужчин первый раз голос подал как мужчина и охотник.
Чориль Чольчинай куклу из дерева сделал. Ножик ей сделал. Доску для выделки рыбьих шкур сделал, да так красиво вырезал, как никто до сих пор не умел.
Так и жили они.
Только без горя жизнь не проживешь… Пришла на остров черная смерть. Купцы ли с Нипонских островов ее привезли, родичи ли с Амура, Тайфун ли — ветер — на своих черных крыльях принес ее или сама она по воде пришла — кто знает? Куда потом ушла, тоже никто не видал. Только пришла она одна, а ушла — многих нивхов с собой унесла. В каждом доме покойник был. В каждом доме слезы лились.
У Чольчинай родителей болезнь унесла. У Чориля родителей черная смерть унесла. Оба осиротели.
Взял Чориль свою невесту к себе в дом.
Стали жить они вместе.
Чориль, что ни день, в дом добычу тащит. Охотник он был хороший — ни один зверь от него не уходил. Рыбак он был хороший — ни одна рыба от него уйти не могла. Твердую руку Чориль имел, острый глаз. Красивый был, голосом степенным говорил, песни петь умел. Все он умел. За что Чольчинай ни схватится — все Чориль своими руками сделал: невод сплел, чумашки — коробки из бересты — сделал, лодку сделал, нож, копье и шест, острогу, весло и чашки. Даже зеркало серебряное для невесты Чориль сделал.
Чольчинай с каждым днем все красивее становится. Глаза у нее ясные, как звезды; губы будто малиновым соком сбрызнуты; брови, как два соболя, над глазами раскинулись; а ресницы у Чольчинай такие, что с тех пор и поговорка пошла: «Вокруг глубокого озера камыш растет».
Скоро время Чольчинай две косы заплетать. Скоро за Чориля замуж идти. Как взглянет на невесту Чориль — сердце у него, точно ласточка, забьется.
Чориль уже и запас на свадьбу готовит.
Когда с охоты идет, под шкурками самого не видать — столько зверя набьет.
Когда с рыбной ловли возвращается Чориль — всей деревней за ним улов тащат.
Смотрит на него Чольчинай, спрашивает:
— Отчего тебе удача во всем, Чориль?
Посмотрит Чориль на свою Чольчинай, голову запрокинет и запоет таким голосом, что у Чольчинай в груди замирает.
«Анн-н-га! Ынн-г-га! — поет Чориль. — О милой помни всегда! Сердце стучит и глаза блестят тогда! Ноги быстрей и руки ловчей тогда! Скалы возьмешь и повернешь тогда! Через горы и реки полетишь тогда! Море как горсть воды тогда! Никто не остановит тебя тогда! О милой помни всегда! Сильней всех врагов будешь тогда!»
Ходит Чольчинай по деревне. Самая красивая из всех. Голос у нее, как у птички. В черной собачьей шубе Чольчинай ходит. Юбка на ней — из пестрых тюленей. Шапочка на ней — из беличьих шкурок.
Увидал невесту Чориля старый Аллых из рода Уда́нь-Хингану. Увидал — глаз отвести не может. Рот раскрыл, губы распустил… Понравилась ему Чольчинай.
— В мою юрту пойдешь, девчонка?
Посмотрела на него Чольчинай и рассмеялась:
— Я невеста Чориля, Аллых! Как могу я смотреть на жабу, когда рядом со мной солнце стоит?
Закрыл рот Аллых, губы вытер.
— Ладно, — говорит, — посмотрим, долго ли твое солнце светить будет!
Плохое задумал Аллых.
Аллых шаман был. Двенадцать толи — медных блях — у Аллыха на поясе висели. Двенадцать шаманов до Аллыха этот пояс носили. Большую силу Аллых-шаман имел.
…Пошел однажды Чориль медвежат добывать. Проводила его Чольчинай. Села, стала свадебный халат вышивать.
А Аллых бубен взял, костер развел, шаманить стал, злых духов стал призывать. Долго шаманил.
И любовь и дружба с трудом достаются. Чтобы все хорошо стало, много в жизни тяжелого перенести надо. Без труда и палку не выстругаешь. А для друга и любимого ни рук, ни головы жалеть не надо.
Еще тогда, когда нивхов много было, жили на Тро-мифе — острове — Чори́ль из рода Тахта́ и Чольчина́й из рода Чильби. Как родилась Чольчинай, мать Чориляперевязала ей руку собачьим волосом: стала Чольчинай невестой Чориля.
Когда девочка первую куклу в руки взяла, Чориль первого соболя добыл. Когда Чольчинай первый раз ножик в руки взяла, чтобы рыбу почистить, Чориль на совете мужчин первый раз голос подал как мужчина и охотник.
Чориль Чольчинай куклу из дерева сделал. Ножик ей сделал. Доску для выделки рыбьих шкур сделал, да так красиво вырезал, как никто до сих пор не умел.
Так и жили они.
Только без горя жизнь не проживешь… Пришла на остров черная смерть. Купцы ли с Нипонских островов ее привезли, родичи ли с Амура, Тайфун ли — ветер — на своих черных крыльях принес ее или сама она по воде пришла — кто знает? Куда потом ушла, тоже никто не видал. Только пришла она одна, а ушла — многих нивхов с собой унесла. В каждом доме покойник был. В каждом доме слезы лились.
У Чольчинай родителей болезнь унесла. У Чориля родителей черная смерть унесла. Оба осиротели.
Взял Чориль свою невесту к себе в дом.
Стали жить они вместе.
Чориль, что ни день, в дом добычу тащит. Охотник он был хороший — ни один зверь от него не уходил. Рыбак он был хороший — ни одна рыба от него уйти не могла. Твердую руку Чориль имел, острый глаз. Красивый был, голосом степенным говорил, песни петь умел. Все он умел. За что Чольчинай ни схватится — все Чориль своими руками сделал: невод сплел, чумашки — коробки из бересты — сделал, лодку сделал, нож, копье и шест, острогу, весло и чашки. Даже зеркало серебряное для невесты Чориль сделал.
Чольчинай с каждым днем все красивее становится. Глаза у нее ясные, как звезды; губы будто малиновым соком сбрызнуты; брови, как два соболя, над глазами раскинулись; а ресницы у Чольчинай такие, что с тех пор и поговорка пошла: «Вокруг глубокого озера камыш растет».
Скоро время Чольчинай две косы заплетать. Скоро за Чориля замуж идти. Как взглянет на невесту Чориль — сердце у него, точно ласточка, забьется.
Чориль уже и запас на свадьбу готовит.
Когда с охоты идет, под шкурками самого не видать — столько зверя набьет.
Когда с рыбной ловли возвращается Чориль — всей деревней за ним улов тащат.
Смотрит на него Чольчинай, спрашивает:
— Отчего тебе удача во всем, Чориль?
Посмотрит Чориль на свою Чольчинай, голову запрокинет и запоет таким голосом, что у Чольчинай в груди замирает.
«Анн-н-га! Ынн-г-га! — поет Чориль. — О милой помни всегда! Сердце стучит и глаза блестят тогда! Ноги быстрей и руки ловчей тогда! Скалы возьмешь и повернешь тогда! Через горы и реки полетишь тогда! Море как горсть воды тогда! Никто не остановит тебя тогда! О милой помни всегда! Сильней всех врагов будешь тогда!»
Ходит Чольчинай по деревне. Самая красивая из всех. Голос у нее, как у птички. В черной собачьей шубе Чольчинай ходит. Юбка на ней — из пестрых тюленей. Шапочка на ней — из беличьих шкурок.
Увидал невесту Чориля старый Аллых из рода Уда́нь-Хингану. Увидал — глаз отвести не может. Рот раскрыл, губы распустил… Понравилась ему Чольчинай.
— В мою юрту пойдешь, девчонка?
Посмотрела на него Чольчинай и рассмеялась:
— Я невеста Чориля, Аллых! Как могу я смотреть на жабу, когда рядом со мной солнце стоит?
Закрыл рот Аллых, губы вытер.
— Ладно, — говорит, — посмотрим, долго ли твое солнце светить будет!
Плохое задумал Аллых.
Аллых шаман был. Двенадцать толи — медных блях — у Аллыха на поясе висели. Двенадцать шаманов до Аллыха этот пояс носили. Большую силу Аллых-шаман имел.
…Пошел однажды Чориль медвежат добывать. Проводила его Чольчинай. Села, стала свадебный халат вышивать.
А Аллых бубен взял, костер развел, шаманить стал, злых духов стал призывать. Долго шаманил.
 …Побежала по снегу поземка. Завихрился снег, столбом встал, закружился. Черная туча небо обложила. С темной стороны большой ветер прибежал, кверху весь снег поднял.
Потемнело вокруг. Буран поднялся такой, что своей руки не увидишь!..
Никогда еще такого бурана не было. У нивхов все юрты занесло — ровное поле стало там, где деревня стояла. Где лес был — только верхушки сосен из-под снега торчат.
Застиг Чориля буран.
Видит парень — не будет охоты. Понюхал ветер — чует, надолго. Как спастись? Стал Чориль пустую берлогу искать. Пустой не нашел. Нашел такую, где медведица лежала. Сказал ей Чориль, что не за ней пришел, что буран его загнал. Лег рядом, пригрелся. Заснул…
Десять дней и десять ночей выл буран, дороги заносил, деревья ломал, снег до неба поднимал. Потом утих ветер, улегся снег. Тихо стало. Мороз ударил. Хороший наст стал. Самое время Чорилю идти медвежат добывать. Не может парень проснуться! Во сне слышит, будто Горный Хозяин говорит ему: «Кто из простых людей с медведицей в одной берлоге зиму проспит — нашим, таежным человеком станет!» Дернулся было Чориль — хотел встать, бежать из берлоги, да сил у него не стало сон с себя сбросить, проснуться.
Пока лежал Чориль в берлоге, шерсть на нем выросла и когти на руках и ногах выросли. Таежным человеком Чориль стал, медведем.
Ждет Чольчинай жениха, а его все нет.
Буран улегся. День за днем идет. Пора бы Чорилю вернуться, а его все нет. Плачет Чольчинай, тоскует…
Пришел к ней Аллых, за руку взял:
— Что ты одна сидишь, девчонка? Не вернется твой парень! Иди в мою юрту.
Вырывается Чольчинай, а Аллых так держит руку, что не вырвешься. Закричала Чольчинай, на помощь зовет. Сбежались люди.
Говорит им Аллых:
— Одна девчонка осталась. Чориля злой кехн — черт — утащил. Пропадет теперь девчонка! В свою юрту ее возьму. Добрый я.
Молчат люди, боятся против Аллыха слово сказать.
И утащил Аллых в свою юрту Чольчинай. Сел на нары, брови нахмурил, пальцем шевельнул — десять его жен со всех ног бросились мось — кушанье — готовить. Рыбьей кожи нарезали, тюленьего жира натопили, в котел бросили. Ягод, рису в котел бросили. Отварили все. Сушеной рыбы накрошили. Для цвета и вкуса белой глины подбавили. Стали жены мось жевать да Аллыху в рот класть. Только и остается ему, что глотать. Протягивает Аллых мось Чольчинай: ешь! Не взяла Чольчинай мось — сухой юколы, из дома взятой, пожевала.
…Зима проходит — Чориля все нет.
Каждый день спрашивает Аллых Чольчинай:
— Скоро ли две косы заплетешь, девчонка?
— Не скоро еще! — отвечает Чольчинай.
Выбрала Чольчинай время. Оделась в охотничий наряд, копье взяла, нож взяла, что Чориль сделал, сумочку свою рукодельную взяла, гребень взяла. Ушла из дома Аллыха ночью — Чориля искать.
Идет Чольчинай по тайге, видит — над сугробом парок вьется. Значит, медвежья берлога под тем сугробом.
Устала уже Чольчинай, есть захотела. Думает: «Подниму медведя, заколю! Кто знает, сколько мне еще Чориля искать? Медведя заколю, крови горячей напьюсь — силы прибудет, мяса с собой в дорогу возьму».
Сунула Чольчинай в проталину копье. Стала в берлоге медведя шевелить.
Заревел медведь, вылез наружу. Большой, шерсть на нем серебром отливает. Еще не видала Чольчинай такого красивого медведя. «Хорошая добыча!» — думает Чольчинай. Отступила назад, покрепче в снег ногой уперлась. Замахнулась копьем, чтобы под сердце медведя ударить, без лишней муки убить. А копье в сторону ушло, в сугроб уткнулось, только древко раскачивается… Схватилась Чольчинай за нож, размахнулась посильнее и ударила медведя в сердце. А нож в кольцо завился, даже не оцарапал медведя. Чольчинай глаза закрыла, чтобы смерть свою не видеть.
…Побежала по снегу поземка. Завихрился снег, столбом встал, закружился. Черная туча небо обложила. С темной стороны большой ветер прибежал, кверху весь снег поднял.
Потемнело вокруг. Буран поднялся такой, что своей руки не увидишь!..
Никогда еще такого бурана не было. У нивхов все юрты занесло — ровное поле стало там, где деревня стояла. Где лес был — только верхушки сосен из-под снега торчат.
Застиг Чориля буран.
Видит парень — не будет охоты. Понюхал ветер — чует, надолго. Как спастись? Стал Чориль пустую берлогу искать. Пустой не нашел. Нашел такую, где медведица лежала. Сказал ей Чориль, что не за ней пришел, что буран его загнал. Лег рядом, пригрелся. Заснул…
Десять дней и десять ночей выл буран, дороги заносил, деревья ломал, снег до неба поднимал. Потом утих ветер, улегся снег. Тихо стало. Мороз ударил. Хороший наст стал. Самое время Чорилю идти медвежат добывать. Не может парень проснуться! Во сне слышит, будто Горный Хозяин говорит ему: «Кто из простых людей с медведицей в одной берлоге зиму проспит — нашим, таежным человеком станет!» Дернулся было Чориль — хотел встать, бежать из берлоги, да сил у него не стало сон с себя сбросить, проснуться.
Пока лежал Чориль в берлоге, шерсть на нем выросла и когти на руках и ногах выросли. Таежным человеком Чориль стал, медведем.
Ждет Чольчинай жениха, а его все нет.
Буран улегся. День за днем идет. Пора бы Чорилю вернуться, а его все нет. Плачет Чольчинай, тоскует…
Пришел к ней Аллых, за руку взял:
— Что ты одна сидишь, девчонка? Не вернется твой парень! Иди в мою юрту.
Вырывается Чольчинай, а Аллых так держит руку, что не вырвешься. Закричала Чольчинай, на помощь зовет. Сбежались люди.
Говорит им Аллых:
— Одна девчонка осталась. Чориля злой кехн — черт — утащил. Пропадет теперь девчонка! В свою юрту ее возьму. Добрый я.
Молчат люди, боятся против Аллыха слово сказать.
И утащил Аллых в свою юрту Чольчинай. Сел на нары, брови нахмурил, пальцем шевельнул — десять его жен со всех ног бросились мось — кушанье — готовить. Рыбьей кожи нарезали, тюленьего жира натопили, в котел бросили. Ягод, рису в котел бросили. Отварили все. Сушеной рыбы накрошили. Для цвета и вкуса белой глины подбавили. Стали жены мось жевать да Аллыху в рот класть. Только и остается ему, что глотать. Протягивает Аллых мось Чольчинай: ешь! Не взяла Чольчинай мось — сухой юколы, из дома взятой, пожевала.
…Зима проходит — Чориля все нет.
Каждый день спрашивает Аллых Чольчинай:
— Скоро ли две косы заплетешь, девчонка?
— Не скоро еще! — отвечает Чольчинай.
Выбрала Чольчинай время. Оделась в охотничий наряд, копье взяла, нож взяла, что Чориль сделал, сумочку свою рукодельную взяла, гребень взяла. Ушла из дома Аллыха ночью — Чориля искать.
Идет Чольчинай по тайге, видит — над сугробом парок вьется. Значит, медвежья берлога под тем сугробом.
Устала уже Чольчинай, есть захотела. Думает: «Подниму медведя, заколю! Кто знает, сколько мне еще Чориля искать? Медведя заколю, крови горячей напьюсь — силы прибудет, мяса с собой в дорогу возьму».
Сунула Чольчинай в проталину копье. Стала в берлоге медведя шевелить.
Заревел медведь, вылез наружу. Большой, шерсть на нем серебром отливает. Еще не видала Чольчинай такого красивого медведя. «Хорошая добыча!» — думает Чольчинай. Отступила назад, покрепче в снег ногой уперлась. Замахнулась копьем, чтобы под сердце медведя ударить, без лишней муки убить. А копье в сторону ушло, в сугроб уткнулось, только древко раскачивается… Схватилась Чольчинай за нож, размахнулась посильнее и ударила медведя в сердце. А нож в кольцо завился, даже не оцарапал медведя. Чольчинай глаза закрыла, чтобы смерть свою не видеть.
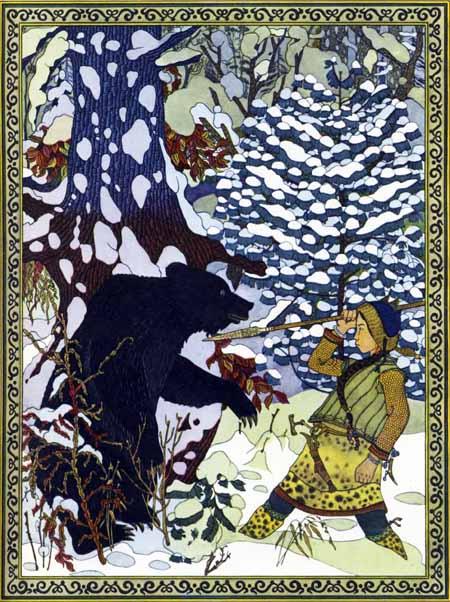 Тут говорит ей медведь:
— Не бойся, Чольчинай! Это я — Чориль.
— Ты злой кехн! — кричит Чольчинай. — Заколдовал ты мой нож и копье!
— Нет, Чольчинай, — говорит ей медведь. — Сам я тот нож и копье делал, помнят они меня, потому и не идут против меня! Я — Чориль.
Рассказал он, что с ним сталось. Поняли они оба, что виноват во всем Аллых, который захотел Чольчинай в жены получить.
Стали думать: как быть? Пока жив Аллых — быть Чорилю медведем. И убить Аллыха нельзя — своя кровь, как можно пролить? Грех большой! Такой грех не прощается.
Говорит Чориль:
— Есть у Аллыха свой кехн — черт. Убить кехна — умрет Аллых… Живет кехн у Горного Хозяина на каменной плите, в котле у столба. На закат солнца надо идти. Только я не могу: живой медведь к Хозяину не ходит. Трудная дорога туда!
Подумала, подумала Чольчинай, говорит:
— Пойду я к Горному Хозяину. Кехна того убью.
Взял медведь копье из сугроба, нож расправил, Чольчинай отдал. Попрощались они. И пошла Чольчинай на закат.
Долго ли шла — не знаю. Не считала Чольчинай шагов, не останавливалась. Через реки на копье перелетала. Через горы на копье перелетала. Девять рек миновала. Девять озер миновала. Девять горных хребтов миновала. О себе не думала, о Чориле думала. Вдруг видит — каменная сопка стоит, вершина ее в облаках пропадает. Ни уступа, ни выступа на той сопке нет. Гладкая скала прямо из земли в небо растет. Камень! Как подняться наверх?
Схватила Чольчинай нож Чориля, в скалу кинула:
— Работай, помогай мне хозяина из беды выручать!
Воткнулся нож в камень. Искры во все стороны полетели. Стал нож камень долбить, ступеньки рубить…
Стала Чольчинай по тем ступенькам взбираться. Солнце в свою юрту спать ушло. Небесные люди на небе огоньки засветили. Лезет Чольчинай по скале. О себе не думает, о Чориле думает, о его беде думает, лезет по скале…
Вот солнце выспалось, двери в юрте открыло. Небесные люди огонь погасили. А Чольчинай все по скале лезет. Скачет над нею нож, бьет в камень, сыплются искры в разные стороны… Чольчинай со ступеньки на ступеньку поднимается. На землю не смотрит, о себе не думает.
На последнюю ступеньку Чольчинай ступила. Нож о камень поточила, в чехол вложила. Глянула вниз, чуть не упала — так далеко от нее земля: реки ниточками протянулись, сопки соболиными погадками кажутся.
Пошла дальше Чольчинай.
Видит — высокий дом стоит: бревна каменные, столбы железные. Тот дом такой высокий, что, как голову ни задирай, крыши не увидишь.
Лежит перед дверью удав — змей. Чешуя у удава каменная. Лежит перед дверью удав, голову его Чольчинай видит, а туловище его в тумане теряется: такой большой удав. Зеленые глаза свои на Чольчинай уставил. Смотрит — не смигнет.
Похолодели у Чольчинай колени, ослабели руки. Как с таким справиться?
Зашевелилась тут у Чольчинай сумочка. Вынула из нее Чольчинай иголку костяную с жильной ниткой и бросила змею в глаза.
Принялась иголка в глазах удава сновать — то вверх, то вниз; то верхнее, то нижнее веко проткнет, нитку за собой тащит. Не успела Чольчинай до пояса похолодеть, а иголка уже один глаз удаву зашила, за второй принимается. Мотает головой удав, не может понять, что случилось, отчего глаза закрываются.
Зашила костяная иголка змею глаза.
Холод от Чольчинай отлетел. Переступила она ногами, к двери подошла. А та сама перед ней открывается.
За той дверью — другая дверь. Перед дверью большая ящерица лежит. Не видала Чольчинай таких: железная она, черная пасть раскрыта, во рту раздвоенный язык трепещет. Дохнула ящерица на Чольчинай — у девушки ноги до колен в землю ушли. Вынула Чольчинай из своей сумочки наперсток, кинула, прямо ящерице в пасть попала, глотку ей заткнула. Тужится ящерица — не может второй раз дохнуть. Высвободила Чольчинай ноги — и к двери. Дверь сама перед ней раскрывается.
За той дверью — третья. Сторожит ее тигр. Зубы оскалил, а зубы в локоть длиной. Хвостом по земле бьет, а хвост толщиной в лиственницу. Кинула Чольчинай тигру в пасть свою гребенку. Стала гребенка тигру поперек горла: ни взад, ни вперед. Чем шире тигр пасть разевает, тем длиннее у гребенки зубья делаются. Рычит тигр, а с Чольчинай ничего сделать не может. Видит девушка, что тигру не до нее, подскочила к дверке, а та сама перед ней открывается.
А за той дверкой — юрта Хозяина. В той юрте все как у простых людей, только в потолке звезды светят. В каждом окне — по солнцу. Возле нар столько звериных шкур лежит, что и не сосчитаешь. В эти шкуры Хозяин души убитых зверей вселяет, чтобы не перевелись звери на земле, сколько бы ни били их люди.
Оглянулась Чольчинай. Видит — потолок на столбы опирается. У одного столба каменная плита лежит, на плите котел стоит. Посреди нар старик сидит, у того старика лицо светится.
Смекнула Чольчинай, что это и есть Горный Хозяин. Стала на колени, руки сложила, выслушать попросила. Рассказала, какая беда у нее случилась и зачем она пришла.
Говорит ей хозяин:
— Как Чориля не знать! Хороший охотник, все по закону делал: в костер воду не лил, медведя саблей не рубил, кости не ломал. Очень плохо, что в такую беду попал! Вот смотри, в том котле много шаманьих кехнов — чертей — живет. Который Аллыха — не знаю. Девочка ты храбрая, горя ты много перенесла… Возьми то, за чем пришла. К котлу подойдешь, крикни: «Кехн Аллыха, иди хозяину служить!» — тут и хватай его.
Так и сделала Чольчинай.
Только крикнула она: «Кехн Аллыха, иди хозяину служить!» — как выскочил из котла черный червяк. Схватила его Чольчинай в кулак, зажала покрепче — и бежать…
К обрыву подошла, на копье села и прыгнула вниз. Летит, только в ушах свистит, скалы да утесы мимо мелькают! Летит копье, Чольчинай за него обеими руками держится. Летит копье над горами и лесами, над озерами и реками…
Долетело копье до того места, где Чориль свою невесту ожидал. Слезла Чольчинай с копья, к Чорилю подошла.
Говорит Чориль:
— На кого только я шкуру свою брошу?
— Найдется на кого, — говорит Чольчинай.
Глядит — к ним Аллых бежит.
Увидал Аллых Чольчинай, кричит:
— Вот ты где, негодная девчонка! Насилу нашел!
— Напрасно искал ты меня, — говорит Чольчинай. — Искал ты меня, а нашел свою судьбу.
Кинула она тут на землю того кехна, которого в кулаке держала. Наступила на него и раздавила. Зашатался Аллых, на четвереньки стал. Тут медвежья шкура с Чориля слезла, на шамана прыгнула и окутала его. Стал медведем Аллых. Так и надо ему! Зачем Чорилю и Чольчинай худа хотел? Замахнулась на него Чольчинай копьем. Испугался Аллых и кинулся от нее в тайгу.
Взялись Чориль и Чольчинай за руки и пошли в свой дом. По дороге Чольчинай две косы заплела.
Поженились они. Долго жили. До последнего дня друг друга крепко любили.
Что с трудом дается, то люди берегут!
Тут говорит ей медведь:
— Не бойся, Чольчинай! Это я — Чориль.
— Ты злой кехн! — кричит Чольчинай. — Заколдовал ты мой нож и копье!
— Нет, Чольчинай, — говорит ей медведь. — Сам я тот нож и копье делал, помнят они меня, потому и не идут против меня! Я — Чориль.
Рассказал он, что с ним сталось. Поняли они оба, что виноват во всем Аллых, который захотел Чольчинай в жены получить.
Стали думать: как быть? Пока жив Аллых — быть Чорилю медведем. И убить Аллыха нельзя — своя кровь, как можно пролить? Грех большой! Такой грех не прощается.
Говорит Чориль:
— Есть у Аллыха свой кехн — черт. Убить кехна — умрет Аллых… Живет кехн у Горного Хозяина на каменной плите, в котле у столба. На закат солнца надо идти. Только я не могу: живой медведь к Хозяину не ходит. Трудная дорога туда!
Подумала, подумала Чольчинай, говорит:
— Пойду я к Горному Хозяину. Кехна того убью.
Взял медведь копье из сугроба, нож расправил, Чольчинай отдал. Попрощались они. И пошла Чольчинай на закат.
Долго ли шла — не знаю. Не считала Чольчинай шагов, не останавливалась. Через реки на копье перелетала. Через горы на копье перелетала. Девять рек миновала. Девять озер миновала. Девять горных хребтов миновала. О себе не думала, о Чориле думала. Вдруг видит — каменная сопка стоит, вершина ее в облаках пропадает. Ни уступа, ни выступа на той сопке нет. Гладкая скала прямо из земли в небо растет. Камень! Как подняться наверх?
Схватила Чольчинай нож Чориля, в скалу кинула:
— Работай, помогай мне хозяина из беды выручать!
Воткнулся нож в камень. Искры во все стороны полетели. Стал нож камень долбить, ступеньки рубить…
Стала Чольчинай по тем ступенькам взбираться. Солнце в свою юрту спать ушло. Небесные люди на небе огоньки засветили. Лезет Чольчинай по скале. О себе не думает, о Чориле думает, о его беде думает, лезет по скале…
Вот солнце выспалось, двери в юрте открыло. Небесные люди огонь погасили. А Чольчинай все по скале лезет. Скачет над нею нож, бьет в камень, сыплются искры в разные стороны… Чольчинай со ступеньки на ступеньку поднимается. На землю не смотрит, о себе не думает.
На последнюю ступеньку Чольчинай ступила. Нож о камень поточила, в чехол вложила. Глянула вниз, чуть не упала — так далеко от нее земля: реки ниточками протянулись, сопки соболиными погадками кажутся.
Пошла дальше Чольчинай.
Видит — высокий дом стоит: бревна каменные, столбы железные. Тот дом такой высокий, что, как голову ни задирай, крыши не увидишь.
Лежит перед дверью удав — змей. Чешуя у удава каменная. Лежит перед дверью удав, голову его Чольчинай видит, а туловище его в тумане теряется: такой большой удав. Зеленые глаза свои на Чольчинай уставил. Смотрит — не смигнет.
Похолодели у Чольчинай колени, ослабели руки. Как с таким справиться?
Зашевелилась тут у Чольчинай сумочка. Вынула из нее Чольчинай иголку костяную с жильной ниткой и бросила змею в глаза.
Принялась иголка в глазах удава сновать — то вверх, то вниз; то верхнее, то нижнее веко проткнет, нитку за собой тащит. Не успела Чольчинай до пояса похолодеть, а иголка уже один глаз удаву зашила, за второй принимается. Мотает головой удав, не может понять, что случилось, отчего глаза закрываются.
Зашила костяная иголка змею глаза.
Холод от Чольчинай отлетел. Переступила она ногами, к двери подошла. А та сама перед ней открывается.
За той дверью — другая дверь. Перед дверью большая ящерица лежит. Не видала Чольчинай таких: железная она, черная пасть раскрыта, во рту раздвоенный язык трепещет. Дохнула ящерица на Чольчинай — у девушки ноги до колен в землю ушли. Вынула Чольчинай из своей сумочки наперсток, кинула, прямо ящерице в пасть попала, глотку ей заткнула. Тужится ящерица — не может второй раз дохнуть. Высвободила Чольчинай ноги — и к двери. Дверь сама перед ней раскрывается.
За той дверью — третья. Сторожит ее тигр. Зубы оскалил, а зубы в локоть длиной. Хвостом по земле бьет, а хвост толщиной в лиственницу. Кинула Чольчинай тигру в пасть свою гребенку. Стала гребенка тигру поперек горла: ни взад, ни вперед. Чем шире тигр пасть разевает, тем длиннее у гребенки зубья делаются. Рычит тигр, а с Чольчинай ничего сделать не может. Видит девушка, что тигру не до нее, подскочила к дверке, а та сама перед ней открывается.
А за той дверкой — юрта Хозяина. В той юрте все как у простых людей, только в потолке звезды светят. В каждом окне — по солнцу. Возле нар столько звериных шкур лежит, что и не сосчитаешь. В эти шкуры Хозяин души убитых зверей вселяет, чтобы не перевелись звери на земле, сколько бы ни били их люди.
Оглянулась Чольчинай. Видит — потолок на столбы опирается. У одного столба каменная плита лежит, на плите котел стоит. Посреди нар старик сидит, у того старика лицо светится.
Смекнула Чольчинай, что это и есть Горный Хозяин. Стала на колени, руки сложила, выслушать попросила. Рассказала, какая беда у нее случилась и зачем она пришла.
Говорит ей хозяин:
— Как Чориля не знать! Хороший охотник, все по закону делал: в костер воду не лил, медведя саблей не рубил, кости не ломал. Очень плохо, что в такую беду попал! Вот смотри, в том котле много шаманьих кехнов — чертей — живет. Который Аллыха — не знаю. Девочка ты храбрая, горя ты много перенесла… Возьми то, за чем пришла. К котлу подойдешь, крикни: «Кехн Аллыха, иди хозяину служить!» — тут и хватай его.
Так и сделала Чольчинай.
Только крикнула она: «Кехн Аллыха, иди хозяину служить!» — как выскочил из котла черный червяк. Схватила его Чольчинай в кулак, зажала покрепче — и бежать…
К обрыву подошла, на копье села и прыгнула вниз. Летит, только в ушах свистит, скалы да утесы мимо мелькают! Летит копье, Чольчинай за него обеими руками держится. Летит копье над горами и лесами, над озерами и реками…
Долетело копье до того места, где Чориль свою невесту ожидал. Слезла Чольчинай с копья, к Чорилю подошла.
Говорит Чориль:
— На кого только я шкуру свою брошу?
— Найдется на кого, — говорит Чольчинай.
Глядит — к ним Аллых бежит.
Увидал Аллых Чольчинай, кричит:
— Вот ты где, негодная девчонка! Насилу нашел!
— Напрасно искал ты меня, — говорит Чольчинай. — Искал ты меня, а нашел свою судьбу.
Кинула она тут на землю того кехна, которого в кулаке держала. Наступила на него и раздавила. Зашатался Аллых, на четвереньки стал. Тут медвежья шкура с Чориля слезла, на шамана прыгнула и окутала его. Стал медведем Аллых. Так и надо ему! Зачем Чорилю и Чольчинай худа хотел? Замахнулась на него Чольчинай копьем. Испугался Аллых и кинулся от нее в тайгу.
Взялись Чориль и Чольчинай за руки и пошли в свой дом. По дороге Чольчинай две косы заплела.
Поженились они. Долго жили. До последнего дня друг друга крепко любили.
Что с трудом дается, то люди берегут!

Самый сильный
 Побежали зимой нанайские ребята на лед кататься.
Сначала играли, катались. Потом подрались.
Один мальчик, Намека́, побил другого, Курбу́. Побил он Курбу и стал хвастаться:
— Я самый сильный тут! Все вы должны мне поклониться!
Тут поскользнулся Намека, упал и разбил себе затылок.
Говорит ему Курбу:
— Вот, значит, ты не самый сильный, если лед побил тебя! Видишь — кровь идет. Поклонись льду!
Спросил Намека лед:
— Эй, слушай, лед, есть ли кто-нибудь сильнее тебя?
— Есть, — говорит лед, — солнце сильнее меня. Как пригреет оно — я таять стану. Поклонись солнцу!
Пошли мальчики к солнцу. Долго шли. Наконец пришли. Говорит Намека солнцу:
— Эй, отец! Я побил Курбу, лед побил меня, ты растопишь лед — ты, значит, сильнее нас. Вот пришел я тебе поклониться.
Подумало, подумало солнце.
— Туча сильнее меня, — говорит оно Намеке, — как закроет она землю, станет холодно — и лучи мои сквозь нее не пройдут…
Пошли мальчики к туче. Забрались на высокую гору. Вокруг туман, сырость, холод. Пока до тучи добрались, мокрые стали, ледяной коркой покрылись.
Говорит Намека туче:
— Слушай, мать! Я сильнее Курбу, лед сильнее меня, солнце сильнее льда, ты сильнее солнца — значит, ты сильнее всех. Вот пришел я тебе поклониться!
Только туча собралась ответить — подул ветер, загулял вокруг, засвистел, зашумел и рассеял тучу.
Вот только сейчас холодно, сыро было, в двух шагах ничего не видно. И вдруг стало тепло, светло, ударила радуга, солнышко засияло, и весь Амур — от верховьев до лимана — видно стало, как на ладони.
Побежали зимой нанайские ребята на лед кататься.
Сначала играли, катались. Потом подрались.
Один мальчик, Намека́, побил другого, Курбу́. Побил он Курбу и стал хвастаться:
— Я самый сильный тут! Все вы должны мне поклониться!
Тут поскользнулся Намека, упал и разбил себе затылок.
Говорит ему Курбу:
— Вот, значит, ты не самый сильный, если лед побил тебя! Видишь — кровь идет. Поклонись льду!
Спросил Намека лед:
— Эй, слушай, лед, есть ли кто-нибудь сильнее тебя?
— Есть, — говорит лед, — солнце сильнее меня. Как пригреет оно — я таять стану. Поклонись солнцу!
Пошли мальчики к солнцу. Долго шли. Наконец пришли. Говорит Намека солнцу:
— Эй, отец! Я побил Курбу, лед побил меня, ты растопишь лед — ты, значит, сильнее нас. Вот пришел я тебе поклониться.
Подумало, подумало солнце.
— Туча сильнее меня, — говорит оно Намеке, — как закроет она землю, станет холодно — и лучи мои сквозь нее не пройдут…
Пошли мальчики к туче. Забрались на высокую гору. Вокруг туман, сырость, холод. Пока до тучи добрались, мокрые стали, ледяной коркой покрылись.
Говорит Намека туче:
— Слушай, мать! Я сильнее Курбу, лед сильнее меня, солнце сильнее льда, ты сильнее солнца — значит, ты сильнее всех. Вот пришел я тебе поклониться!
Только туча собралась ответить — подул ветер, загулял вокруг, засвистел, зашумел и рассеял тучу.
Вот только сейчас холодно, сыро было, в двух шагах ничего не видно. И вдруг стало тепло, светло, ударила радуга, солнышко засияло, и весь Амур — от верховьев до лимана — видно стало, как на ладони.
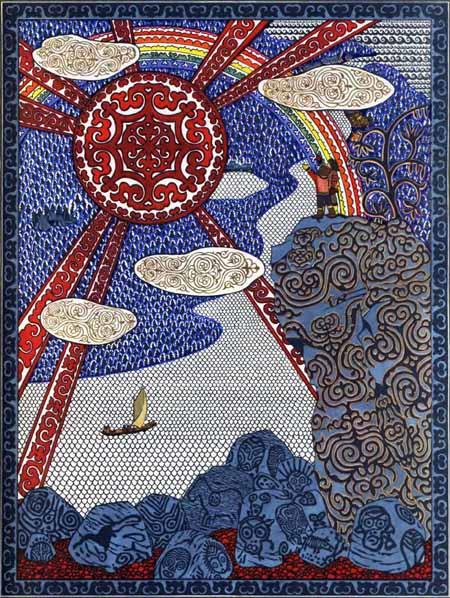 Закричал тогда Намека ветру:
— Слушай, ветер! Я побил Курбу, лед разбил мне затылок, солнце растопило лед, туча закрывает солнце, ты разогнал тучу — ты, значит, сильней нас всех. Вот, кланяюсь я тебе!
Поклонился Намека.
А Курбу спрашивает у ветра:
— Ты гору сможешь ли сдвинуть с места?
Стал ветер дуть. Но, сколько ни надувал он щеки, гора стояла как прежде. Только песчинки с ее вершины полетели.
— Э-э, — сказал Намека, — много же тебе времени нужно будет, чтобы гору передвинуть с места на место! Гора-то, выходит, сильнее тебя!
Поклонились мальчики горе.
— Гора, гора! — сказал тут Намека. — Ты, что ли, сильнее всех на свете?
Покряхтела гора, подумала.
— Нет, — говорит, — дерево сильнее меня. Оно растет на моей спине и своими корнями разрывает меня. Оно и от ветра меня защищает.
Поклонился Намека дереву:
— Эй, слушай, дерево! Я побил Курбу, лед побил меня, солнце побило лед, туча побила солнце, ветер побил тучу, гора побила ветер, ты побиваешь гору. Ты, что ли, сильнее всех?
Зашумело листьями дерево.
— Да, я сильнее всех! — говорит.
— Ну, это ты врешь! — сказал в ответ Намека.
Взял в руки топор и срубил дерево.
Тут все поклонились Намеке: и гора, и ветер, и туча, и солнце, и лед.
С тех пор и пошло считаться, что человек сильнее всех на свете.
Закричал тогда Намека ветру:
— Слушай, ветер! Я побил Курбу, лед разбил мне затылок, солнце растопило лед, туча закрывает солнце, ты разогнал тучу — ты, значит, сильней нас всех. Вот, кланяюсь я тебе!
Поклонился Намека.
А Курбу спрашивает у ветра:
— Ты гору сможешь ли сдвинуть с места?
Стал ветер дуть. Но, сколько ни надувал он щеки, гора стояла как прежде. Только песчинки с ее вершины полетели.
— Э-э, — сказал Намека, — много же тебе времени нужно будет, чтобы гору передвинуть с места на место! Гора-то, выходит, сильнее тебя!
Поклонились мальчики горе.
— Гора, гора! — сказал тут Намека. — Ты, что ли, сильнее всех на свете?
Покряхтела гора, подумала.
— Нет, — говорит, — дерево сильнее меня. Оно растет на моей спине и своими корнями разрывает меня. Оно и от ветра меня защищает.
Поклонился Намека дереву:
— Эй, слушай, дерево! Я побил Курбу, лед побил меня, солнце побило лед, туча побила солнце, ветер побил тучу, гора побила ветер, ты побиваешь гору. Ты, что ли, сильнее всех?
Зашумело листьями дерево.
— Да, я сильнее всех! — говорит.
— Ну, это ты врешь! — сказал в ответ Намека.
Взял в руки топор и срубил дерево.
Тут все поклонились Намеке: и гора, и ветер, и туча, и солнце, и лед.
С тех пор и пошло считаться, что человек сильнее всех на свете.

Айога
 Жил в роду Сама́ров один нанаец Ла. Была у него дочка, по имени Айога́. Красивая была девочка Айога. Все ее очень любили. И сказал кто-то, что красивее дочки Ла никого нету — ни в этом и ни в каком другом стойбище. Загордилась Айога, стала рассматривать свое лицо. Понравилась сама себе, смотрит — и не может оторваться, глядит — не наглядится. То в медный таз начищенный смотрится, то на свое отражение в воде.
Ничего делать Айога не стала. Все любуется собой. Ленивая стала Айога.
Вот один раз говорит ей мать:
— Пойди воды принеси, Айога!
Отвечает Айога:
— Я в воду упаду.
— А ты за куст держись.
— Куст оборвется, — говорит Айога.
— А ты за крепкий куст возьмись.
— Руки поцарапаю…
Говорит Айоге мать:
— Рукавицы надень.
— Изорвутся, — говорит Айога. А сама все в медный таз смотрится: ах, какая она красивая!
— Так зашей рукавицы иголкой.
— Иголка сломается.
— Толстую иголку возьми, — говорит отец.
— Палец уколю, — отвечает дочка.
— Наперсток из крепкой кожи — ро́вдуги — надень.
— Наперсток прорвется, — отвечает Айога, а сама — ни с места.
Тут соседская девочка говорит:
— Я схожу за водой, мать.
Пошла девочка на реку и принесла воды сколько надо.
Замесила мать тесто. Сделала лепешки из черемухи. На раскаленном очаге испекла.
Увидела Айога лепешки, кричит матери:
— Дай мне лепешку, мать!
— Горячая она — руки обожжешь, — отвечает мать.
— А я рукавицы надену, — говорит Айога.
— Рукавицы мокрые.
— Я их на солнце высушу.
— Покоробятся они, — отвечает мать.
— Я их мялкой разомну.
— Руки заболят, — говорит мать. — Зачем тебе трудиться, красоту свою портить? Лучше я лепешку той девочке отдам, которая своих рук не жалеет.
И отдала мать лепешку соседской девочке.
Рассердилась Айога. Пошла на реку. Смотрит на свое отражение в воде. А соседская девочка сидит на берегу, лепешку жует. Стала Айога на ту девочку оглядываться, и вытянулась у нее шея: длинная-длинная стала.
Говорит девочка Айоге:
— Возьми лепешку, Айога. Мне не жалко.
Совсем разозлилась Айога. Замахала на девочку руками, пальцы растопырила, побелела вся от злости — как это она, красавица, надкушенную лепешку съест! — так замахала руками, что руки у нее в крылья превратились.
Жил в роду Сама́ров один нанаец Ла. Была у него дочка, по имени Айога́. Красивая была девочка Айога. Все ее очень любили. И сказал кто-то, что красивее дочки Ла никого нету — ни в этом и ни в каком другом стойбище. Загордилась Айога, стала рассматривать свое лицо. Понравилась сама себе, смотрит — и не может оторваться, глядит — не наглядится. То в медный таз начищенный смотрится, то на свое отражение в воде.
Ничего делать Айога не стала. Все любуется собой. Ленивая стала Айога.
Вот один раз говорит ей мать:
— Пойди воды принеси, Айога!
Отвечает Айога:
— Я в воду упаду.
— А ты за куст держись.
— Куст оборвется, — говорит Айога.
— А ты за крепкий куст возьмись.
— Руки поцарапаю…
Говорит Айоге мать:
— Рукавицы надень.
— Изорвутся, — говорит Айога. А сама все в медный таз смотрится: ах, какая она красивая!
— Так зашей рукавицы иголкой.
— Иголка сломается.
— Толстую иголку возьми, — говорит отец.
— Палец уколю, — отвечает дочка.
— Наперсток из крепкой кожи — ро́вдуги — надень.
— Наперсток прорвется, — отвечает Айога, а сама — ни с места.
Тут соседская девочка говорит:
— Я схожу за водой, мать.
Пошла девочка на реку и принесла воды сколько надо.
Замесила мать тесто. Сделала лепешки из черемухи. На раскаленном очаге испекла.
Увидела Айога лепешки, кричит матери:
— Дай мне лепешку, мать!
— Горячая она — руки обожжешь, — отвечает мать.
— А я рукавицы надену, — говорит Айога.
— Рукавицы мокрые.
— Я их на солнце высушу.
— Покоробятся они, — отвечает мать.
— Я их мялкой разомну.
— Руки заболят, — говорит мать. — Зачем тебе трудиться, красоту свою портить? Лучше я лепешку той девочке отдам, которая своих рук не жалеет.
И отдала мать лепешку соседской девочке.
Рассердилась Айога. Пошла на реку. Смотрит на свое отражение в воде. А соседская девочка сидит на берегу, лепешку жует. Стала Айога на ту девочку оглядываться, и вытянулась у нее шея: длинная-длинная стала.
Говорит девочка Айоге:
— Возьми лепешку, Айога. Мне не жалко.
Совсем разозлилась Айога. Замахала на девочку руками, пальцы растопырила, побелела вся от злости — как это она, красавица, надкушенную лепешку съест! — так замахала руками, что руки у нее в крылья превратились.
 — Не надо мне ничего-го-го! — кричит Айога.
Не удержалась на берегу, бултыхнулась в воду Айога и превратилась в гуся. Плавает и кричит:
— Ах, какая я красивая! Го-го-го! Ах, какая я красивая! Га-га-га!..
Плавала, плавала, пока по-нанайски говорить не разучилась. Все слова забыла.
Только имя свое не забыла, чтобы с кем-нибудь ее, красавицу, не спутали; и кричит, чуть людей завидит:
— Ай-ога-га-га! Ай-ога-га-га!
— Не надо мне ничего-го-го! — кричит Айога.
Не удержалась на берегу, бултыхнулась в воду Айога и превратилась в гуся. Плавает и кричит:
— Ах, какая я красивая! Го-го-го! Ах, какая я красивая! Га-га-га!..
Плавала, плавала, пока по-нанайски говорить не разучилась. Все слова забыла.
Только имя свое не забыла, чтобы с кем-нибудь ее, красавицу, не спутали; и кричит, чуть людей завидит:
— Ай-ога-га-га! Ай-ога-га-га!

Семь страхов
 Это еще тогда было, когда удэ, на камень глядя, каменного человека видел; на медведя глядя, думал — таежного человека видит; на рыбу глядя, думал — водяного человека видит; на дерево глядя, думал — древесного человека видит. Тогда с людьми всякие вещи случались. Такие вещи случались, каких теперь не бывает.
Жили два брата — Соломдига́ и Индига́, в верховьях реки Ко́ппи жили.
Умер у них отец. Перед смертью наказал:
— Друг за друга держитесь. Одному плохо станет — пусть другой поможет. В одну сторону оба глядите. Вот как сказал — делайте!
Умер отец. Братья белую тесьму в косы вплели. Положили отца в гроб. Гроб ногами на восток поставили, чтобы и после смерти отец восход солнца видел. Семь дней отцу пищу носили, душу его кормили.
Потом на охоту пошли.
«В одну сторону оба глядите», — говорил отец братьям. А младший брат Индига вслед брату ступает да все по сторонам глазеет: очень Индига быстроглазый был, в одно место смотреть не любил.
Шли, шли братья. Индига по сторонам смотрит. Вдруг какой-то шум слышит. Повернулся — а на старшего брата из-за валежины тигр прыгает! Тот и копья не наставил, и нож вынуть не успел. Индига дальше был. Ему бы копье в тигра бросить! А у Индиги заячье сердце сделалось: испугался младший брат. На землю упал, руки сложил, тигра просит мимо идти, их с братом не трогать.
Долго так лежал Индига. Потом голову поднял, смотрит — ни тигра, ни брата нет. Оба пропали. Защемило у Индиги сердце. Стал он брата звать. Кричал, кричал, да никто не отзывается, только сопки его крик передразнивают:
«Со-ло-ом! Ди-ди! Га-га! А-а-а!»
Заплакал парень. Как без брата теперь жить? Что сородичам скажешь? Как с лица стыд утрешь?
Плакал Индига, плакал, а делать нечего: дома мать ждет, надо охотиться.
Стал Индига капканы смотреть. В одном колонок сидит. Чуть завидел Индигу — как закричит на него:
— Уходи прочь, брата потерявший! — перегрыз зажатую в капкан ногу и ускакал на трех ногах.
Стал Индига ловушки смотреть. В одной петле хорек сидит. Увидел хорек Индигу, давай кричать:
— Противно такому в руки даться! Ты брата потерял! — Петлю разорвал, в тайгу ушел.
Выстрелил Индига в гуся. Полетела стрела, ударила гуся под крыло. Вырвал гусь клювом стрелу, бросил Индиге обратно, кричит парню:
— Как такому добычей стать? Брата потерял Индига-га!
На середину реки вылетел гусь, сложил крылья, в воду бросился, утонул.
Не даются парню с заячьим сердцем ни звери, ни птицы.
Сел Индига, стал думать. Долго думал: весь табак искурил, весь мох вокруг искурил. Болит у него сердце. Думает Индига: «Вот, брата потерял. Плохое дело это — брата потерять. Сердце болит. Трубку потеряешь, и то не успокоишься, пока не найдешь! А я брата потерял… Однако пойду Соломдигу искать. Найду — сердце болеть перестанет! Сам пропаду — сердце болеть перестанет!»
К матери Индига пошел. На колени стал. Все рассказал. Как у него заячье сердце стало — рассказал. Поцеловала его мать. Говорит ему, плача:
— Отец учил вас вперед смотреть. Не послушался ты — брата потерял, заячье сердце нашел. Сердце мужчины иди искать. Брата иди искать. Из-за твоего страха пропал он. Только смелостью теперь вернешь его!
Взял Индига трубку, огниво, нож и копье. Пошел. А куда идти, не знает Индига. Пошел на закат…
Ползущего ужа встретил, спросил — где брата искать. Не знает у́ж. Пошел дальше. Бегающую по земле мышь повстречал. Спросил — не видала ли Соломдигу. Не видала мышь. Дальше Индига пошел. Лазающую по деревьям белку увидел. Спросил. Нет, не видала белка брата. К реке подошел, плавающих рыб увидел. Спросил рыб — не видали ли Соломдигу. Не видали рыбы. Пошел Индига дальше. Прыгающую жабу спросил. Не видала жаба. Летающую пеночку увидел, спросил. Отвечает пеночка, что не видела Соломдигу — низко летает. Журавля, выше летающего, спросил. Не видел журавль. Говорит:
— У орла, выше всех летающего, спроси.
Стал орла Индига спрашивать — не видал ли орел, куда его брата Соломдигу тигр унес.
Говорит орел:
— Далеко твой брат! Найти его можно, если семь страхов перетерпишь. Теперь у тебя сердце зайца. Когда будет у тебя сердце храбреца, тогда ты брата найдешь! — Обронил орел одно перо, говорит: — Помогу я тебе. Куда полетит мое перо — туда иди!
Полетело перо на закат — Индига за ним пошел.
Долго ли шел — не знаю. Через три ручья перешел. Летит перо впереди. Смотрит Индига вперед, как отец учил. Шагает Индига, брата потерявший.
Вот дошел парень до реки. Перо орлиное через реку перелетело. Сделал Индига лодку, на воду бросил. Вспенилась река, забурлила, зашумела, закипела. Как в котле, вода бурлит… Пар от воды поднялся. Туман по долинам пошел. Сморщилась лодка Индиги, покоробилась, утонула. Рыбы в той реке сварились, плавают кверху брюхом, белыми глазами на Индигу смотрят. Страшно парню стало, но дело делать надо, а то навсегда у него заячье сердце останется. Сам себе говорит: «Это еще не страх. Страх еще впереди».
Уставил свой лук меж двух деревьев Индига. Тетиву натянул, сучком зацепил. Стрелу наложил на лук. Сам одной рукой за стрелу взялся, другой — сучок сломал. Отскочил сучок. Сорвалась тетива. Разогнулся лук. Полетела стрела. Через реку кипящую полетела. Клубится пар вокруг Индиги, обжигает. Терпит Индига… Широкая река была. Пока летел парень, весь обжегся. «Ничего, — говорит, — заживет».
На другом берегу опустилась стрела. Стал Индига на ноги. Видит — орлиное перо его дожидается. Только ступил парень на землю — полетело перо дальше. Индига — за ним!
Шел, шел… Через три ручья перепрыгнул, через три сопки перелез. Видит — между двумя горами каменная поляна. К той поляне узенькая тропинка ведет. Та тропинка костями усеяна да черепами огорожена. Страшно стало Индиге. А орлиное перо вдоль той дорожки летит, прямо на каменную поляну. Видит Индига — на той поляне тигриное стойбище. Тигров — как пчел в дупле! Добычу терзают. Друг к другу ластятся. Друг с другом дерутся. Ревут тигры так, словно над стойбищем Агды — гром гремит.
Орлиное перо через стойбище летит.
Бьется сердце у Индиги. «Съедят меня!» — думает парень.
Трубку напоследок выкурил. Про огниво вспомнил. Из трутницы сухую траву вытащил, жгутом скрутил. Тот жгут себе на голову надел. Высек огонь, зажег жгут.
Пылает сухая трава на голове у Индиги, будто костер. Кинулся Индига через тигриное стойбище. Шарахнулись тигры в разные стороны. Ничего, кроме огня, не видят, Индигу не видят! Ревут тигры, хвостами по земле колотят, пасти красные разевают. А Индига — мимо них. Сам себе говорит: «Это еще, видно, не страх. Страх-то еще впереди». Стойбище пробежал. Тигра одного убил, крови напился, мяса с собой взял, шкуру с собой взял.
Это еще тогда было, когда удэ, на камень глядя, каменного человека видел; на медведя глядя, думал — таежного человека видит; на рыбу глядя, думал — водяного человека видит; на дерево глядя, думал — древесного человека видит. Тогда с людьми всякие вещи случались. Такие вещи случались, каких теперь не бывает.
Жили два брата — Соломдига́ и Индига́, в верховьях реки Ко́ппи жили.
Умер у них отец. Перед смертью наказал:
— Друг за друга держитесь. Одному плохо станет — пусть другой поможет. В одну сторону оба глядите. Вот как сказал — делайте!
Умер отец. Братья белую тесьму в косы вплели. Положили отца в гроб. Гроб ногами на восток поставили, чтобы и после смерти отец восход солнца видел. Семь дней отцу пищу носили, душу его кормили.
Потом на охоту пошли.
«В одну сторону оба глядите», — говорил отец братьям. А младший брат Индига вслед брату ступает да все по сторонам глазеет: очень Индига быстроглазый был, в одно место смотреть не любил.
Шли, шли братья. Индига по сторонам смотрит. Вдруг какой-то шум слышит. Повернулся — а на старшего брата из-за валежины тигр прыгает! Тот и копья не наставил, и нож вынуть не успел. Индига дальше был. Ему бы копье в тигра бросить! А у Индиги заячье сердце сделалось: испугался младший брат. На землю упал, руки сложил, тигра просит мимо идти, их с братом не трогать.
Долго так лежал Индига. Потом голову поднял, смотрит — ни тигра, ни брата нет. Оба пропали. Защемило у Индиги сердце. Стал он брата звать. Кричал, кричал, да никто не отзывается, только сопки его крик передразнивают:
«Со-ло-ом! Ди-ди! Га-га! А-а-а!»
Заплакал парень. Как без брата теперь жить? Что сородичам скажешь? Как с лица стыд утрешь?
Плакал Индига, плакал, а делать нечего: дома мать ждет, надо охотиться.
Стал Индига капканы смотреть. В одном колонок сидит. Чуть завидел Индигу — как закричит на него:
— Уходи прочь, брата потерявший! — перегрыз зажатую в капкан ногу и ускакал на трех ногах.
Стал Индига ловушки смотреть. В одной петле хорек сидит. Увидел хорек Индигу, давай кричать:
— Противно такому в руки даться! Ты брата потерял! — Петлю разорвал, в тайгу ушел.
Выстрелил Индига в гуся. Полетела стрела, ударила гуся под крыло. Вырвал гусь клювом стрелу, бросил Индиге обратно, кричит парню:
— Как такому добычей стать? Брата потерял Индига-га!
На середину реки вылетел гусь, сложил крылья, в воду бросился, утонул.
Не даются парню с заячьим сердцем ни звери, ни птицы.
Сел Индига, стал думать. Долго думал: весь табак искурил, весь мох вокруг искурил. Болит у него сердце. Думает Индига: «Вот, брата потерял. Плохое дело это — брата потерять. Сердце болит. Трубку потеряешь, и то не успокоишься, пока не найдешь! А я брата потерял… Однако пойду Соломдигу искать. Найду — сердце болеть перестанет! Сам пропаду — сердце болеть перестанет!»
К матери Индига пошел. На колени стал. Все рассказал. Как у него заячье сердце стало — рассказал. Поцеловала его мать. Говорит ему, плача:
— Отец учил вас вперед смотреть. Не послушался ты — брата потерял, заячье сердце нашел. Сердце мужчины иди искать. Брата иди искать. Из-за твоего страха пропал он. Только смелостью теперь вернешь его!
Взял Индига трубку, огниво, нож и копье. Пошел. А куда идти, не знает Индига. Пошел на закат…
Ползущего ужа встретил, спросил — где брата искать. Не знает у́ж. Пошел дальше. Бегающую по земле мышь повстречал. Спросил — не видала ли Соломдигу. Не видала мышь. Дальше Индига пошел. Лазающую по деревьям белку увидел. Спросил. Нет, не видала белка брата. К реке подошел, плавающих рыб увидел. Спросил рыб — не видали ли Соломдигу. Не видали рыбы. Пошел Индига дальше. Прыгающую жабу спросил. Не видала жаба. Летающую пеночку увидел, спросил. Отвечает пеночка, что не видела Соломдигу — низко летает. Журавля, выше летающего, спросил. Не видел журавль. Говорит:
— У орла, выше всех летающего, спроси.
Стал орла Индига спрашивать — не видал ли орел, куда его брата Соломдигу тигр унес.
Говорит орел:
— Далеко твой брат! Найти его можно, если семь страхов перетерпишь. Теперь у тебя сердце зайца. Когда будет у тебя сердце храбреца, тогда ты брата найдешь! — Обронил орел одно перо, говорит: — Помогу я тебе. Куда полетит мое перо — туда иди!
Полетело перо на закат — Индига за ним пошел.
Долго ли шел — не знаю. Через три ручья перешел. Летит перо впереди. Смотрит Индига вперед, как отец учил. Шагает Индига, брата потерявший.
Вот дошел парень до реки. Перо орлиное через реку перелетело. Сделал Индига лодку, на воду бросил. Вспенилась река, забурлила, зашумела, закипела. Как в котле, вода бурлит… Пар от воды поднялся. Туман по долинам пошел. Сморщилась лодка Индиги, покоробилась, утонула. Рыбы в той реке сварились, плавают кверху брюхом, белыми глазами на Индигу смотрят. Страшно парню стало, но дело делать надо, а то навсегда у него заячье сердце останется. Сам себе говорит: «Это еще не страх. Страх еще впереди».
Уставил свой лук меж двух деревьев Индига. Тетиву натянул, сучком зацепил. Стрелу наложил на лук. Сам одной рукой за стрелу взялся, другой — сучок сломал. Отскочил сучок. Сорвалась тетива. Разогнулся лук. Полетела стрела. Через реку кипящую полетела. Клубится пар вокруг Индиги, обжигает. Терпит Индига… Широкая река была. Пока летел парень, весь обжегся. «Ничего, — говорит, — заживет».
На другом берегу опустилась стрела. Стал Индига на ноги. Видит — орлиное перо его дожидается. Только ступил парень на землю — полетело перо дальше. Индига — за ним!
Шел, шел… Через три ручья перепрыгнул, через три сопки перелез. Видит — между двумя горами каменная поляна. К той поляне узенькая тропинка ведет. Та тропинка костями усеяна да черепами огорожена. Страшно стало Индиге. А орлиное перо вдоль той дорожки летит, прямо на каменную поляну. Видит Индига — на той поляне тигриное стойбище. Тигров — как пчел в дупле! Добычу терзают. Друг к другу ластятся. Друг с другом дерутся. Ревут тигры так, словно над стойбищем Агды — гром гремит.
Орлиное перо через стойбище летит.
Бьется сердце у Индиги. «Съедят меня!» — думает парень.
Трубку напоследок выкурил. Про огниво вспомнил. Из трутницы сухую траву вытащил, жгутом скрутил. Тот жгут себе на голову надел. Высек огонь, зажег жгут.
Пылает сухая трава на голове у Индиги, будто костер. Кинулся Индига через тигриное стойбище. Шарахнулись тигры в разные стороны. Ничего, кроме огня, не видят, Индигу не видят! Ревут тигры, хвостами по земле колотят, пасти красные разевают. А Индига — мимо них. Сам себе говорит: «Это еще, видно, не страх. Страх-то еще впереди». Стойбище пробежал. Тигра одного убил, крови напился, мяса с собой взял, шкуру с собой взял.
 А орлиное перо — уже над Индигой опять. Только справился он с делом — полетело перо дальше. Дорог не выбирает, летит напрямик. Три ручья перепрыгнул, три сопки перешел, три реки Индига миновал. За последней рекой лес начинается.
В том лесу — деревья до неба. Густо растут. Через ветки луч солнца не пробьется. Через ветки ветер не продерется. Стоят деревья, лианами переплетены. Сучья, словно руки, извиваются, хватают. Зверя пропустят, человека — нет. Видит Индига, чьи-то кости уже на ветках тех деревьев белеют. Страшно стало Индиге — колотится у него сердце, руки дрожат, а он сам себе говорит: «Это еще, видно, не страх. Страх-то впереди». Тигриную шкуру на себя натянул, мясо на куски порезал, на копье вздел. В тот лес Индига вошел.
А орлиное перо — уже над Индигой опять. Только справился он с делом — полетело перо дальше. Дорог не выбирает, летит напрямик. Три ручья перепрыгнул, три сопки перешел, три реки Индига миновал. За последней рекой лес начинается.
В том лесу — деревья до неба. Густо растут. Через ветки луч солнца не пробьется. Через ветки ветер не продерется. Стоят деревья, лианами переплетены. Сучья, словно руки, извиваются, хватают. Зверя пропустят, человека — нет. Видит Индига, чьи-то кости уже на ветках тех деревьев белеют. Страшно стало Индиге — колотится у него сердце, руки дрожат, а он сам себе говорит: «Это еще, видно, не страх. Страх-то впереди». Тигриную шкуру на себя натянул, мясо на куски порезал, на копье вздел. В тот лес Индига вошел.
 Тянутся к Индиге деревья, запах мяса слышат. Руками-ветками ощупывают Индигу. Как ветка к нему — Индига кусок мяса ей кидает. Деревья друг у друга мясо вырывают. Драться из-за мяса начали. Так и хлещут сучьями друг друга, только кора да щепа в разные стороны летят. А Индига — все дальше и дальше через лес идет за орлиным пером. С собой веток от тех деревьев набрал, думает: «Разведу костер, когда можно будет».
Летит орлиное перо. Шесть ручьев перепрыгнул, шесть сопок перелез, шесть рек перешел Индига.
Вот вышел он на болото. Летит перо напрямик. Как Индиге быть? Стал он те ветки на болото бросать. Стал по тем веткам ступать. Погружаются ветки в болотную воду. Пузырится болото. Синие огоньки по нему порхают. Дошел Индига до середины болота. На дороге у него горбатый маленький человек стоит. Одна нога у того человека, одна рука у него. Испугался Индига: сердце у него забилось, руки-ноги задрожали. Узнал того человека Индига, хоть ни разу не видал до сих пор. Того человека Боко́ звать. Только вред он людям делает. По болоту водит, пока трясина не засосет.
Говорит Боко:
— Куда идешь, парень?
— Тебя ищу, — отвечает Индига (что ему терять!).
— Вот я, — говорит Боко. — Зачем я тебе нужен?
— От людей я слыхал, — говорит тогда Индига, — что твоя одна нога сильнее двух… Не могу я этому поверить. Вот пришел посмотреть. Давай испытаем, кто выше прыгнет. Лучше меня у нас никто не прыгает.
— Прыгни ты, — говорит Боко.
Прыгнул Индига. Выше дерева прыгнул. Вниз полетел — ноги растопырил, на сучки встал. До пояса в болото ушел. Те сучки не дали ему утонуть.
Засмеялся Боко.
— Разве так прыгают! — говорит. — Вот как надо!
Присел он на своей одной ноге, разогнулся — да как подпрыгнет! До облаков долетел, вниз головой перевернулся, обратно полетел.
А Индига давай дальше сучья перекладывать, из болота выбираться…
Упал Боко, весь в трясину ушел. Пока выбирался да глаза протирал, Индига на твердую землю вышел. На ровном месте стоит. Теперь Боко ему не страшен.
Сам себе Индига говорит: «Это еще не страх был. Страх-то, видно, впереди».
Кричит ему Боко:
— Эй, парень, видал, как надо прыгать? Иди сюда!
— Некогда! — кричит Индига. — Дело у меня есть.
А перо орла дальше летит. Не успел Индига обсушиться — весь облепленный грязью дальше пошел.
Девять ручьев перепрыгнул, через девять сопок перелез, унты совсем изорвал Индига, босой идет, ноги бьет. Девять озер перешел…
Из последнего озера большой змей выполз, кольцами вьется. Каменная чешуя на нем блестит, звенит на нем чешуя. Из пасти пламя пышет. Под змеем земля, трава горит. Дохнул на Индигу змей — одежду на нем сжег, брови опалил. Страшно стало Индиге. Побледнел он, сердце бьется, руки-ноги дрожат, на лбу пот выступил. Утешает сам себя парень: «Это, видно, еще не страх. Страх-то впереди». Набрался духу, кричит змею:
— Эй, коли ты меня съесть хочешь, так возьми сначала кусок сала! Может, хватит с тебя и куска?
Камень с земли подобрал, болотную грязь с себя соскоблил, тот камень вымазал, змею в пасть бросил.
Подавился змей, не может камень проглотить, не может на Индигу огнем дохнуть.
Давай Индига бежать, пока змей с камнем не справился.
А перо орлиное вперед летит, пути не разбирая.
Девять ручьев Индига перепрыгнул, девять сопок перешел, девять озер, девять лесов прошел. Идет босой, до мяса ноги о камни стер. И вышел он в каменное ущелье.
Тут ему всего страшнее стало: живые камни вокруг! Поворачиваются, вслед ему глядят, раскачиваются, друг с другом на каменном языке говорят. А перо дальше летит. Индига — за ним.
Видит вдруг Индига — среди камней человек стоит. Не простой тот человек: голова — редькой, ноги кривые, ростом тот человек такой, что голову задрать вверх надо, чтобы лицо его увидеть. Не встречался с таким раньше Индига, а сразу узнал, кто перед ним стоит: Какзаму́ — злой горный человек. Стал белый Индига, сердце у него бьется, руки-ноги трясутся, волосы от страха дыбом встали. Однако говорит парень сам себе: «Это еще не страх. Страх-то впереди». Поклонился он Какзаму.
Спрашивает тот:
— Тебе чего здесь надо?
Говорит ему Индига, себя пропавшим уже считая:
— Эй, сосед, ты, говорят, силу большую имеешь!
— Правду говорят, — отвечает Какзаму. — Видишь, вокруг камни лежат? Все это люди были, да я их в камни обратил. Пусть мои утесы и все, что под ними, сторожат. И тебя сейчас в камень обращу!
Тронул он Индигу за руку. Стала каменная рука у Индиги. Пошевельнуть Индига рукой не может, поднять ее не может. Черная рука стала. Чуть не умер от страха Индига.
Но духу набрался, говорит:
— Э-э, это еще дед мой умел делать! Только не велика эта сила — из живого мяса камень сделать. Вот ты из камня живое мясо сделай! Мой дед умел, да давно умер. Теперь никто не умеет.
Отвечает он Индиге:
— Моя сила, моя власть: что хочу, то и сделаю!
Тронул он руку Индиги. Опять стала рука живая. Побежала по ней горячая кровь, стала рука шевелиться.
— Э-э, это еще не все! — кричит Индига. — Ну-ка, нагнись ко мне, на ухо скажу то, что дед мой знал да с собой унес!
Нагнулся горный человек к Индиге. Ухо подставил. Глазами ворочает. Ноздри такие, что целый кулак влезет. Вытащил Индига из-за пояса кисет с табаком да весь табак и высыпал Какзаму в нос.
Принялся Какзаму чихать. Чихал, чихал… Вся сила у него через нос вышла. Когда еще сила придет — время пройдет… А Индига — бежать. Убежал от Какзаму.
Тянутся к Индиге деревья, запах мяса слышат. Руками-ветками ощупывают Индигу. Как ветка к нему — Индига кусок мяса ей кидает. Деревья друг у друга мясо вырывают. Драться из-за мяса начали. Так и хлещут сучьями друг друга, только кора да щепа в разные стороны летят. А Индига — все дальше и дальше через лес идет за орлиным пером. С собой веток от тех деревьев набрал, думает: «Разведу костер, когда можно будет».
Летит орлиное перо. Шесть ручьев перепрыгнул, шесть сопок перелез, шесть рек перешел Индига.
Вот вышел он на болото. Летит перо напрямик. Как Индиге быть? Стал он те ветки на болото бросать. Стал по тем веткам ступать. Погружаются ветки в болотную воду. Пузырится болото. Синие огоньки по нему порхают. Дошел Индига до середины болота. На дороге у него горбатый маленький человек стоит. Одна нога у того человека, одна рука у него. Испугался Индига: сердце у него забилось, руки-ноги задрожали. Узнал того человека Индига, хоть ни разу не видал до сих пор. Того человека Боко́ звать. Только вред он людям делает. По болоту водит, пока трясина не засосет.
Говорит Боко:
— Куда идешь, парень?
— Тебя ищу, — отвечает Индига (что ему терять!).
— Вот я, — говорит Боко. — Зачем я тебе нужен?
— От людей я слыхал, — говорит тогда Индига, — что твоя одна нога сильнее двух… Не могу я этому поверить. Вот пришел посмотреть. Давай испытаем, кто выше прыгнет. Лучше меня у нас никто не прыгает.
— Прыгни ты, — говорит Боко.
Прыгнул Индига. Выше дерева прыгнул. Вниз полетел — ноги растопырил, на сучки встал. До пояса в болото ушел. Те сучки не дали ему утонуть.
Засмеялся Боко.
— Разве так прыгают! — говорит. — Вот как надо!
Присел он на своей одной ноге, разогнулся — да как подпрыгнет! До облаков долетел, вниз головой перевернулся, обратно полетел.
А Индига давай дальше сучья перекладывать, из болота выбираться…
Упал Боко, весь в трясину ушел. Пока выбирался да глаза протирал, Индига на твердую землю вышел. На ровном месте стоит. Теперь Боко ему не страшен.
Сам себе Индига говорит: «Это еще не страх был. Страх-то, видно, впереди».
Кричит ему Боко:
— Эй, парень, видал, как надо прыгать? Иди сюда!
— Некогда! — кричит Индига. — Дело у меня есть.
А перо орла дальше летит. Не успел Индига обсушиться — весь облепленный грязью дальше пошел.
Девять ручьев перепрыгнул, через девять сопок перелез, унты совсем изорвал Индига, босой идет, ноги бьет. Девять озер перешел…
Из последнего озера большой змей выполз, кольцами вьется. Каменная чешуя на нем блестит, звенит на нем чешуя. Из пасти пламя пышет. Под змеем земля, трава горит. Дохнул на Индигу змей — одежду на нем сжег, брови опалил. Страшно стало Индиге. Побледнел он, сердце бьется, руки-ноги дрожат, на лбу пот выступил. Утешает сам себя парень: «Это, видно, еще не страх. Страх-то впереди». Набрался духу, кричит змею:
— Эй, коли ты меня съесть хочешь, так возьми сначала кусок сала! Может, хватит с тебя и куска?
Камень с земли подобрал, болотную грязь с себя соскоблил, тот камень вымазал, змею в пасть бросил.
Подавился змей, не может камень проглотить, не может на Индигу огнем дохнуть.
Давай Индига бежать, пока змей с камнем не справился.
А перо орлиное вперед летит, пути не разбирая.
Девять ручьев Индига перепрыгнул, девять сопок перешел, девять озер, девять лесов прошел. Идет босой, до мяса ноги о камни стер. И вышел он в каменное ущелье.
Тут ему всего страшнее стало: живые камни вокруг! Поворачиваются, вслед ему глядят, раскачиваются, друг с другом на каменном языке говорят. А перо дальше летит. Индига — за ним.
Видит вдруг Индига — среди камней человек стоит. Не простой тот человек: голова — редькой, ноги кривые, ростом тот человек такой, что голову задрать вверх надо, чтобы лицо его увидеть. Не встречался с таким раньше Индига, а сразу узнал, кто перед ним стоит: Какзаму́ — злой горный человек. Стал белый Индига, сердце у него бьется, руки-ноги трясутся, волосы от страха дыбом встали. Однако говорит парень сам себе: «Это еще не страх. Страх-то впереди». Поклонился он Какзаму.
Спрашивает тот:
— Тебе чего здесь надо?
Говорит ему Индига, себя пропавшим уже считая:
— Эй, сосед, ты, говорят, силу большую имеешь!
— Правду говорят, — отвечает Какзаму. — Видишь, вокруг камни лежат? Все это люди были, да я их в камни обратил. Пусть мои утесы и все, что под ними, сторожат. И тебя сейчас в камень обращу!
Тронул он Индигу за руку. Стала каменная рука у Индиги. Пошевельнуть Индига рукой не может, поднять ее не может. Черная рука стала. Чуть не умер от страха Индига.
Но духу набрался, говорит:
— Э-э, это еще дед мой умел делать! Только не велика эта сила — из живого мяса камень сделать. Вот ты из камня живое мясо сделай! Мой дед умел, да давно умер. Теперь никто не умеет.
Отвечает он Индиге:
— Моя сила, моя власть: что хочу, то и сделаю!
Тронул он руку Индиги. Опять стала рука живая. Побежала по ней горячая кровь, стала рука шевелиться.
— Э-э, это еще не все! — кричит Индига. — Ну-ка, нагнись ко мне, на ухо скажу то, что дед мой знал да с собой унес!
Нагнулся горный человек к Индиге. Ухо подставил. Глазами ворочает. Ноздри такие, что целый кулак влезет. Вытащил Индига из-за пояса кисет с табаком да весь табак и высыпал Какзаму в нос.
Принялся Какзаму чихать. Чихал, чихал… Вся сила у него через нос вышла. Когда еще сила придет — время пройдет… А Индига — бежать. Убежал от Какзаму.
 Идет за орлиным пером опять. Один ручей перепрыгнул, три сопки перешел, шесть озер обежал, девять лесов прошел. Ноги свои до костей стер.
Шел, шел Индига, видит — каменная стена стоит. Ту стену не обойдешь, через ту стену не перелезешь: влево, вправо — стена через всю землю тянется, верх ее облака закрывают.
Ударилось орлиное перо о ту стену и в пыль разлетелось, будто и не было его никогда.
Вот уж тут стало Индиге страшно. Так страшно, что и слов таких нет, чтобы рассказать. Ту стену — силой не возьмешь! Ту стену — хитростью не возьмешь! Заплакал Индига, посмотрев на себя. Ноги до костей стерты. Руки обожжены. Одежда — в клочьях. Живот от голода к спине прилип. Много страху перетерпел Индига, а брата не видать! Вынул нож Индига, говорит:
— Назад не пойду — никто из сородичей моих назад не ходил. Сердце свое заячье вырежу… Стыд с лица утру…
Нож к груди приставил. Вдруг видит — в стене дверь показалась. А какой за ней еще страх стоит?
Себя пересилил Индига: «Как могу бояться! Мужчина я».
Слышит вдруг — забилось у него в груди сердце мужчины. Взял он копье в руку. Ударил что есть силы копьем. Распахнулась дверь. Ко всему готовый, прыгнул Индига в ту дверь…
Что такое?
Видит парень — на том месте он стоит, где брата своего потерял. И стены никакой нет.
Вокруг сарана́ — цветок — красным пламенем горит, птицы щебечут…
А прямо перед Индигой стоит его брат Соломдига. Стоит брат, красивую девушку за руку держит. Такой красивой не видел еще Индига. Ресницы у девушки — как камыш, глаза — желтые, как солнце сияют. Желтый халат свадебный на девушке надет. На халате черные полосы, будто на тигровой шкуре.
Говорит Соломдига:
— Спасибо, брат! Не побоялся ты ничего ради меня!
Улыбается девушка Индиге. Говорит:
— Я тигриного рода человек. Полюбила я твоего брата. Поэтому и унесла его к себе. Только вижу — ты без брата жить не можешь. Отпросилась я у Тигриного Хозяина к простым людям. Буду теперь с вами жить. С вами жить можно — смелые люди вы!
Взялись они за руки и пошли вместе.
Мать обрадовали.
Соломдига с девушкой мужем и женой стали.
А Индига научился вперед смотреть — и заячьего сердца у него никогда больше не было.
Идет за орлиным пером опять. Один ручей перепрыгнул, три сопки перешел, шесть озер обежал, девять лесов прошел. Ноги свои до костей стер.
Шел, шел Индига, видит — каменная стена стоит. Ту стену не обойдешь, через ту стену не перелезешь: влево, вправо — стена через всю землю тянется, верх ее облака закрывают.
Ударилось орлиное перо о ту стену и в пыль разлетелось, будто и не было его никогда.
Вот уж тут стало Индиге страшно. Так страшно, что и слов таких нет, чтобы рассказать. Ту стену — силой не возьмешь! Ту стену — хитростью не возьмешь! Заплакал Индига, посмотрев на себя. Ноги до костей стерты. Руки обожжены. Одежда — в клочьях. Живот от голода к спине прилип. Много страху перетерпел Индига, а брата не видать! Вынул нож Индига, говорит:
— Назад не пойду — никто из сородичей моих назад не ходил. Сердце свое заячье вырежу… Стыд с лица утру…
Нож к груди приставил. Вдруг видит — в стене дверь показалась. А какой за ней еще страх стоит?
Себя пересилил Индига: «Как могу бояться! Мужчина я».
Слышит вдруг — забилось у него в груди сердце мужчины. Взял он копье в руку. Ударил что есть силы копьем. Распахнулась дверь. Ко всему готовый, прыгнул Индига в ту дверь…
Что такое?
Видит парень — на том месте он стоит, где брата своего потерял. И стены никакой нет.
Вокруг сарана́ — цветок — красным пламенем горит, птицы щебечут…
А прямо перед Индигой стоит его брат Соломдига. Стоит брат, красивую девушку за руку держит. Такой красивой не видел еще Индига. Ресницы у девушки — как камыш, глаза — желтые, как солнце сияют. Желтый халат свадебный на девушке надет. На халате черные полосы, будто на тигровой шкуре.
Говорит Соломдига:
— Спасибо, брат! Не побоялся ты ничего ради меня!
Улыбается девушка Индиге. Говорит:
— Я тигриного рода человек. Полюбила я твоего брата. Поэтому и унесла его к себе. Только вижу — ты без брата жить не можешь. Отпросилась я у Тигриного Хозяина к простым людям. Буду теперь с вами жить. С вами жить можно — смелые люди вы!
Взялись они за руки и пошли вместе.
Мать обрадовали.
Соломдига с девушкой мужем и женой стали.
А Индига научился вперед смотреть — и заячьего сердца у него никогда больше не было.

Хвастун
 Хвастуну верить — беды себе нажить.
Жид однажды в тайге заяц. По виду он был как и все зайцы: уши длинные, две ноги короткие, чтобы ими еду держать, две ноги длинные, чтобы от врагов бежать. Только был тот заяц хвастун. Таких хвастунов заячий народ еще никогда не видал.
Вот один раз зайчишка маленький корешок сараны съел, а своим родичам рассказывает:
— Бежал я по лесу, еды искал. Вдруг как ударюсь обо что-то! Чуть голову не разбил. Вот, глядите — губу себе разорвал!
Смеются зайцы:
— Да, это верно, губа у тебя раздвоена. У всех зайцев такая губа.
А зайчишка говорит:
— Это у всех зайцев такая губа, а у меня особенная… Хотите слушать — не перебивайте… Ударился я, вижу — сарана стоит, таких еще никто не видал. Стебель у сараны с лиственницу вышиной! Цветок у сараны большой-пребольшой! Корешок у той сараны с медведя толщиной! Стал я землю копать. Зубы у меня острые. Лапы у меня сильные. Две сопки земли я накопал по сторонам. Корень откопал. Такой корень откопал, что десять дней подряд ел, а и половины не съел. Вот, смотрите, какой я жирный стал!
Посмотрели зайцы.
— Да ты такой, как все, — говорят, — не толще остальных зайцев.
— Промялся я, — говорит хвастун, — сильно бежал, хотел вам тот корень показать. Добрый я! Сам наелся теперь на всю жизнь, пусть, думаю, и братья мои поедят сладкого корешка, какого никогда еще не едали!
Кто из зайцев от сладкого корешка откажется! Потекли у зайцев слюнки. Спрашивают они:
— А как на то место дорогу найти?
— Да я покажу, — говорит зайчишка, — мне не жалко.
Побежали зайцы за хвастуном. Прибежали на ровное место.
Говорит хвастун:
— Вот тут я сарану величиной с лиственницу видал. Вот тут я лапами две сопки земли накидал.
— Где те сопки? — спрашивают родичи у хвастуна.
— Река унесла.
— Где та река?
— В море утекла.
— Где та сарана?
— Повяла. Я ведь корень-то подгрыз.
— А где стебель сараны?
— Барсук съел.
— Где барсук?
— В тайгу ушел.
— Где тайга?
— Пожар сжег.
— А пепел где?
— Ветер разнес.
— А пеньки где?
— Травой заросли.
Сидят зайцы, ушами хлопают: разобрать не могут, так ли было, как зайчишка говорит.
А хвастун свое:
— Да такую сарану нетрудно найти! Совсем простое дело такую сарану найти. Надо только вперед бежать да в обе стороны глядеть. Не с одной — так с другой стороны увидишь…
Кинулись зайцы врассыпную! Летят, глаза в разные стороны развели так, что свой хвост видят, а что впереди — не знают. Развели глаза, боятся ту сладкую сарану с лиственницу величиной проглядеть… Бегали, бегали, пока с ног не свалились. Тут от голода им и простая трава слаще сараны показалась. Только глаза они и до сих пор свести не могут…
Хвастуну верить — беды себе нажить.
Жид однажды в тайге заяц. По виду он был как и все зайцы: уши длинные, две ноги короткие, чтобы ими еду держать, две ноги длинные, чтобы от врагов бежать. Только был тот заяц хвастун. Таких хвастунов заячий народ еще никогда не видал.
Вот один раз зайчишка маленький корешок сараны съел, а своим родичам рассказывает:
— Бежал я по лесу, еды искал. Вдруг как ударюсь обо что-то! Чуть голову не разбил. Вот, глядите — губу себе разорвал!
Смеются зайцы:
— Да, это верно, губа у тебя раздвоена. У всех зайцев такая губа.
А зайчишка говорит:
— Это у всех зайцев такая губа, а у меня особенная… Хотите слушать — не перебивайте… Ударился я, вижу — сарана стоит, таких еще никто не видал. Стебель у сараны с лиственницу вышиной! Цветок у сараны большой-пребольшой! Корешок у той сараны с медведя толщиной! Стал я землю копать. Зубы у меня острые. Лапы у меня сильные. Две сопки земли я накопал по сторонам. Корень откопал. Такой корень откопал, что десять дней подряд ел, а и половины не съел. Вот, смотрите, какой я жирный стал!
Посмотрели зайцы.
— Да ты такой, как все, — говорят, — не толще остальных зайцев.
— Промялся я, — говорит хвастун, — сильно бежал, хотел вам тот корень показать. Добрый я! Сам наелся теперь на всю жизнь, пусть, думаю, и братья мои поедят сладкого корешка, какого никогда еще не едали!
Кто из зайцев от сладкого корешка откажется! Потекли у зайцев слюнки. Спрашивают они:
— А как на то место дорогу найти?
— Да я покажу, — говорит зайчишка, — мне не жалко.
Побежали зайцы за хвастуном. Прибежали на ровное место.
Говорит хвастун:
— Вот тут я сарану величиной с лиственницу видал. Вот тут я лапами две сопки земли накидал.
— Где те сопки? — спрашивают родичи у хвастуна.
— Река унесла.
— Где та река?
— В море утекла.
— Где та сарана?
— Повяла. Я ведь корень-то подгрыз.
— А где стебель сараны?
— Барсук съел.
— Где барсук?
— В тайгу ушел.
— Где тайга?
— Пожар сжег.
— А пепел где?
— Ветер разнес.
— А пеньки где?
— Травой заросли.
Сидят зайцы, ушами хлопают: разобрать не могут, так ли было, как зайчишка говорит.
А хвастун свое:
— Да такую сарану нетрудно найти! Совсем простое дело такую сарану найти. Надо только вперед бежать да в обе стороны глядеть. Не с одной — так с другой стороны увидишь…
Кинулись зайцы врассыпную! Летят, глаза в разные стороны развели так, что свой хвост видят, а что впереди — не знают. Развели глаза, боятся ту сладкую сарану с лиственницу величиной проглядеть… Бегали, бегали, пока с ног не свалились. Тут от голода им и простая трава слаще сараны показалась. Только глаза они и до сих пор свести не могут…

Бедняк Монокто
 Хорошая работа даром не пропадает, людям пользу принесет. Не тебе — так сыну, не сыну — так внуку.
Умер у одного ульчского парня старый отец. Перед смертью позвал к себе сына, посмотрел на него, заплакал:
— Жалко мне тебя, сын! Дед мой ангаза́ — бедняк — был, отец был ангаза, меня всю жизнь так звали, и тебе, видно, придется ангаза быть. Всю жизнь я на богатого Болда́ работал и ничего не заработал. У Болда рука легкая — когда он берет. У Болда рука тяжелая — когда он дает. Ничего я тебе не оставляю. Только нож, огниво да острогу. Они мне от отца остались, отец их от деда получил… Пусть они теперь тебе послужат!
Сказал это отец и умер.
Одели его в последнюю дорогу. Похоронили. Малые поминки устроили.
Взял Монокто́ нож, огниво да острогу и стал на Болда работать, как отец его работал.
И забыли люди, как его зовут, стали называть ангаза — бедняк.
Верно старик сказал: тяжелая у Болда рука, когда он дает.
Позвал Болда парня Монокто, говорит ему:
— На твоем отце долг был. Долг его на тебя перешел. Не отработаешь за отца — не повезет шаман его душу в Буни́. А я тебе помогать буду: кормить, одевать буду; что съешь, износишь — за тобой считать буду.
Стал Монокто за отца отрабатывать. Стал Болда ему помогать. Только от его помощи бедняку что ни день, все хуже становится. Ходит Монокто в обносках, питается объедками, слова сказать не смеет. Говорит ему Болда, едва рот разевая от жира:
— Трудись, Монокто, трудись! Мы с тобой теперь как братья. Оба помогаем душе твоего отца в Буни попасть: я — тем, что тебе работу даю, а ты — тем, что трудишься. Работай, Монокто!
А к Болда отовсюду богатство идет. Он с заморскими купцами дружит, товары у них покупает да сородичам продает за три цены. На него полдеревни работает — рыбу ловят, сушат, вялят юколу да за собаками Болда ходят. Полдеревни на него в тайге работает — зверя да птицу бьют. Болда все к себе в дом тащит. Десять жен у Болда — всех за долги у сородичей отобрал, ни за одну выкуп не платил. Десять невольников у Болда — свои долги отрабатывают, свою жизнь горькую проклинают. Что ни осень — едет Болда в Ника́нское царство на десяти лодках с желтыми парусами из рыбьей кожи. В городе Сан-Си́не сам амбань — начальник — с Болда чаи распивает, пушнину — меха — у богача покупает; сколько за шкурки Болда отдал — не спрашивает, а ему цену хорошую дает.
Жиреет Болда все больше и больше. Что ни день — Болда все толще делается. А Монокто уже едва ноги таскает.
Просит однажды Монокто:
— Позволь мне для себя рыбы наловить! Видишь — у меня живот к спине прилип. Пропаду я — как долг за отца отработаю?
Говорит Болда добрым голосом:
— Налови, налови, ладно! Только сперва мне, в большой чан, потом — себе… Да мою острогу не бери! Да мою лодку не тронь!
Целый день Монокто рыбу ловил, пока чан Болда не наполнил. Тут дождь пошел. Так и хлещет! Сел ангаза на берегу: как себе рыбу ловить? Лодки у парня нету. Силы у парня нету. Взял Монокто отцовскую острогу, а кинуть ее не может. Посмотрел парень на свои руки, заплакал:
— Погибаю я совсем, смерть подходит, руки мои сохнут! — Посмотрел на отцовское наследство: нож, острогу да огниво, и рассердился: — Плохие вы мне помощники. Сколько лет работали вы — давно бы сами все делать научились. А вы без рук моих ни на что не годитесь!
Стыдно стало ножу.
Зашевелился он на поясе у Монокто, из чехла выскочил, влес побежал. Сухостой принялся рубить — целую гору нарубил! Тальник на шалаш принялся резать — много нарезал!
Посмотрело огниво на своего хозяина. А Монокто лежит, не шевелится. Выскочило огниво из мешочка, к сухостою подскочило, огонь выкресало, костер разожгло.
А нож тем временем шалаш сделал. И опять в тайгу поскакал. Большой тополь свалил. Принялся лодку долбить. Только стружки кольцами в разные стороны завиваются да бревно кряхтит, с боку на бок переворачивается, то одну, то другую сторону подставляет…
Оглянуться Монокто не успел, как отцовский ножик сделал парню лодку, какой еще ни один мастер не делал.
Сел Монокто в шалаш. К костру руки протянул. Отогревать стал, чтобы за острогу взяться.
Зашевелилась тут острога. Стыдно стало ей, что товарищи ее работают, а она без дела лежит. Поднялась, черенком лодку в воду столкнула. Поплыла лодка по реке. Огниво в лодку вскочило, стало огонь высекать. Рыба на огонь идет. Острога за работу взялась. Как ударит в воду — так тайменя, осетра или амура тащит.
К берегу лодка подплыла. Острога у шалаша встала. Огниво в мешочек спряталось.
Хорошая работа даром не пропадает, людям пользу принесет. Не тебе — так сыну, не сыну — так внуку.
Умер у одного ульчского парня старый отец. Перед смертью позвал к себе сына, посмотрел на него, заплакал:
— Жалко мне тебя, сын! Дед мой ангаза́ — бедняк — был, отец был ангаза, меня всю жизнь так звали, и тебе, видно, придется ангаза быть. Всю жизнь я на богатого Болда́ работал и ничего не заработал. У Болда рука легкая — когда он берет. У Болда рука тяжелая — когда он дает. Ничего я тебе не оставляю. Только нож, огниво да острогу. Они мне от отца остались, отец их от деда получил… Пусть они теперь тебе послужат!
Сказал это отец и умер.
Одели его в последнюю дорогу. Похоронили. Малые поминки устроили.
Взял Монокто́ нож, огниво да острогу и стал на Болда работать, как отец его работал.
И забыли люди, как его зовут, стали называть ангаза — бедняк.
Верно старик сказал: тяжелая у Болда рука, когда он дает.
Позвал Болда парня Монокто, говорит ему:
— На твоем отце долг был. Долг его на тебя перешел. Не отработаешь за отца — не повезет шаман его душу в Буни́. А я тебе помогать буду: кормить, одевать буду; что съешь, износишь — за тобой считать буду.
Стал Монокто за отца отрабатывать. Стал Болда ему помогать. Только от его помощи бедняку что ни день, все хуже становится. Ходит Монокто в обносках, питается объедками, слова сказать не смеет. Говорит ему Болда, едва рот разевая от жира:
— Трудись, Монокто, трудись! Мы с тобой теперь как братья. Оба помогаем душе твоего отца в Буни попасть: я — тем, что тебе работу даю, а ты — тем, что трудишься. Работай, Монокто!
А к Болда отовсюду богатство идет. Он с заморскими купцами дружит, товары у них покупает да сородичам продает за три цены. На него полдеревни работает — рыбу ловят, сушат, вялят юколу да за собаками Болда ходят. Полдеревни на него в тайге работает — зверя да птицу бьют. Болда все к себе в дом тащит. Десять жен у Болда — всех за долги у сородичей отобрал, ни за одну выкуп не платил. Десять невольников у Болда — свои долги отрабатывают, свою жизнь горькую проклинают. Что ни осень — едет Болда в Ника́нское царство на десяти лодках с желтыми парусами из рыбьей кожи. В городе Сан-Си́не сам амбань — начальник — с Болда чаи распивает, пушнину — меха — у богача покупает; сколько за шкурки Болда отдал — не спрашивает, а ему цену хорошую дает.
Жиреет Болда все больше и больше. Что ни день — Болда все толще делается. А Монокто уже едва ноги таскает.
Просит однажды Монокто:
— Позволь мне для себя рыбы наловить! Видишь — у меня живот к спине прилип. Пропаду я — как долг за отца отработаю?
Говорит Болда добрым голосом:
— Налови, налови, ладно! Только сперва мне, в большой чан, потом — себе… Да мою острогу не бери! Да мою лодку не тронь!
Целый день Монокто рыбу ловил, пока чан Болда не наполнил. Тут дождь пошел. Так и хлещет! Сел ангаза на берегу: как себе рыбу ловить? Лодки у парня нету. Силы у парня нету. Взял Монокто отцовскую острогу, а кинуть ее не может. Посмотрел парень на свои руки, заплакал:
— Погибаю я совсем, смерть подходит, руки мои сохнут! — Посмотрел на отцовское наследство: нож, острогу да огниво, и рассердился: — Плохие вы мне помощники. Сколько лет работали вы — давно бы сами все делать научились. А вы без рук моих ни на что не годитесь!
Стыдно стало ножу.
Зашевелился он на поясе у Монокто, из чехла выскочил, влес побежал. Сухостой принялся рубить — целую гору нарубил! Тальник на шалаш принялся резать — много нарезал!
Посмотрело огниво на своего хозяина. А Монокто лежит, не шевелится. Выскочило огниво из мешочка, к сухостою подскочило, огонь выкресало, костер разожгло.
А нож тем временем шалаш сделал. И опять в тайгу поскакал. Большой тополь свалил. Принялся лодку долбить. Только стружки кольцами в разные стороны завиваются да бревно кряхтит, с боку на бок переворачивается, то одну, то другую сторону подставляет…
Оглянуться Монокто не успел, как отцовский ножик сделал парню лодку, какой еще ни один мастер не делал.
Сел Монокто в шалаш. К костру руки протянул. Отогревать стал, чтобы за острогу взяться.
Зашевелилась тут острога. Стыдно стало ей, что товарищи ее работают, а она без дела лежит. Поднялась, черенком лодку в воду столкнула. Поплыла лодка по реке. Огниво в лодку вскочило, стало огонь высекать. Рыба на огонь идет. Острога за работу взялась. Как ударит в воду — так тайменя, осетра или амура тащит.
К берегу лодка подплыла. Острога у шалаша встала. Огниво в мешочек спряталось.
 …Наелся Монокто досыта. Чувствует — силы у него прибавляется, опять человеком он становится. А нож, свое дело сделав, в чехол на поясе Монокто прыгнул.
Говорит им Монокто:
— Вот спасибо вам! Теперь вижу — помощники вы хорошие. С вашей помощью я долг отца отработаю. На себя рыбачить стану. Про Болда думать не буду.
А Болда — тут как тут. Увидал огонь на реке, услыхал, как рыба плещется, унюхал, что жареной рыбой пахнет, и невтерпеж ему стало — кто это без его ведома костер палит, рыбу ловит, жареное ест? Прибежал. Видит — его ангаза у костра сытый сидит, шалаш над ним просторный, костер у шалаша большой, у берега лодка новая стоит, рыбы полная…
— Э-э! — говорит Болда. — Как же это так, ангаза, получается? Долг отца отработать не можешь, а сам такую большую добычу имеешь! Говорил — силы нет, а сам смотри какой шалаш сделал! Зачем лодку мою взял?
— Не твоя это лодка, — отвечает ангаза Монокто.
— И не твоя. У тебя лодки нет, — говорит Болда.
— Моя, — отвечает Монокто.
Рассказал парень, как ему стариковы вещи помогли, когда он помирать собрался.
Посмотрел Болда на парня. Говорит тихим голосом:
— Вот и хорошо, ангаза! Я тебе долг отца прощу, только ты мне свой нож отдай.
Опечалился Монокто. Подумал, покурил. Придется нож отдать. Отдал он нож. А Болда не уходит. Опять говорит добрым голосом:
— Я тебе большой отцовский долг простил. А за ним еще средний долг есть. В среднем амбаре на стене зарубка есть. Давай твою острогу!
Вздохнул Монокто. Отдал острогу. А Болда все сидит. Покурил, покурил, говорит сладким голосом:
— За твоим отцом, ангаза, еще маленький долг есть — на стене в моем маленьком амбаре тоже зарубка есть. Давай уж огниво твое! Отец чистым станет. А то, что за тобой, потом с тебя возьму…
Заплакал Монокто. Отдал Болда и огниво.
Только он богача и видел! Убежал Болда. Одной рукой стариковы вещи держит, другой рукой — живот свой толстый, чтобы бежать не мешал.
«Ничего, — думает Монокто, — большую тяжесть с себя снял — отцовский долг, теперь легче мне будет!»
Утром поднялся Болда. Радуется, что теперь стариковы вещи на него работать будут, а кормить их не надо.
Пошел Болда в лес. Там на него бедняки работали — лодку делали, из тополя долбили. Растолкал всех Болда, раскричался:
— Что вы плохо работаете! Кормить вас не буду! Мне один нож все быстрее сделает, чем вы, лентяи! Этот нож Монокто лодку сделал, пока парень трубку выкурил…
Вынул Болда нож из чехла, бросил в лес. Упал нож и не шевелится. Не идет лес валить. Не идет лодку делать.
— Как так? — говорит Болда. — Нож у Монокто сам работал.
Посмотрели люди на богатого, говорят:
— У Монокто руки все делать умеют, оттого нож их слушается. У тебя руки только и умеют деньги считать да собирать.
Побежал Болда на реку. Схватил острогу и в реку кинул. Ушла острога в воду, воткнулась в дно. Не мог ее Болда вытащить, как ни бился.
Рассердился Болда. Понял, что стариковы вещи ему служить не хотят. Вытащил огниво из мешка, бросил на землю. Упало огниво, высекло огонь. Побежал огонь по земле, к дому Болда подкатился, к амбарам. Не успел Болда и глазом моргнуть, как пошел огонь по амбарам да по дому гулять. Загорелось добро богача.
Кинулся Болда огонь топтать. Затоптать хотел, да не смог. От огня нагрелся Болда. Весь жир его растопился.
Растаял Болда. Только и остались от него унты да халат.
Пошел Монокто на то место, куда богач его нож бросил. Видит — ушел нож в камни. Стали те камни железные. Коли растолочь их да на огне расплавить — из них железо потечет.
Пошел Монокто за своей острогой. Рукой за нее взялся, видит — показались на остроге зеленые побеги, дерево выросло из остроги. Стали ульчи из того дерева делать копья, да черенки, да шесты, твердые да гибкие — лучше не найдешь!
Пошел Монокто за огнивом. На том месте, где у Болда дом да амбары стояли, болото стало, а на болоте синие огоньки порхают от стариковского огнива, сторожат проклятое место.
Поклонились люди Монокто, имя его вспомнили.
— Спасибо тебе, Монокто, — говорят, — что ты от Болда избавил нас!
…Наелся Монокто досыта. Чувствует — силы у него прибавляется, опять человеком он становится. А нож, свое дело сделав, в чехол на поясе Монокто прыгнул.
Говорит им Монокто:
— Вот спасибо вам! Теперь вижу — помощники вы хорошие. С вашей помощью я долг отца отработаю. На себя рыбачить стану. Про Болда думать не буду.
А Болда — тут как тут. Увидал огонь на реке, услыхал, как рыба плещется, унюхал, что жареной рыбой пахнет, и невтерпеж ему стало — кто это без его ведома костер палит, рыбу ловит, жареное ест? Прибежал. Видит — его ангаза у костра сытый сидит, шалаш над ним просторный, костер у шалаша большой, у берега лодка новая стоит, рыбы полная…
— Э-э! — говорит Болда. — Как же это так, ангаза, получается? Долг отца отработать не можешь, а сам такую большую добычу имеешь! Говорил — силы нет, а сам смотри какой шалаш сделал! Зачем лодку мою взял?
— Не твоя это лодка, — отвечает ангаза Монокто.
— И не твоя. У тебя лодки нет, — говорит Болда.
— Моя, — отвечает Монокто.
Рассказал парень, как ему стариковы вещи помогли, когда он помирать собрался.
Посмотрел Болда на парня. Говорит тихим голосом:
— Вот и хорошо, ангаза! Я тебе долг отца прощу, только ты мне свой нож отдай.
Опечалился Монокто. Подумал, покурил. Придется нож отдать. Отдал он нож. А Болда не уходит. Опять говорит добрым голосом:
— Я тебе большой отцовский долг простил. А за ним еще средний долг есть. В среднем амбаре на стене зарубка есть. Давай твою острогу!
Вздохнул Монокто. Отдал острогу. А Болда все сидит. Покурил, покурил, говорит сладким голосом:
— За твоим отцом, ангаза, еще маленький долг есть — на стене в моем маленьком амбаре тоже зарубка есть. Давай уж огниво твое! Отец чистым станет. А то, что за тобой, потом с тебя возьму…
Заплакал Монокто. Отдал Болда и огниво.
Только он богача и видел! Убежал Болда. Одной рукой стариковы вещи держит, другой рукой — живот свой толстый, чтобы бежать не мешал.
«Ничего, — думает Монокто, — большую тяжесть с себя снял — отцовский долг, теперь легче мне будет!»
Утром поднялся Болда. Радуется, что теперь стариковы вещи на него работать будут, а кормить их не надо.
Пошел Болда в лес. Там на него бедняки работали — лодку делали, из тополя долбили. Растолкал всех Болда, раскричался:
— Что вы плохо работаете! Кормить вас не буду! Мне один нож все быстрее сделает, чем вы, лентяи! Этот нож Монокто лодку сделал, пока парень трубку выкурил…
Вынул Болда нож из чехла, бросил в лес. Упал нож и не шевелится. Не идет лес валить. Не идет лодку делать.
— Как так? — говорит Болда. — Нож у Монокто сам работал.
Посмотрели люди на богатого, говорят:
— У Монокто руки все делать умеют, оттого нож их слушается. У тебя руки только и умеют деньги считать да собирать.
Побежал Болда на реку. Схватил острогу и в реку кинул. Ушла острога в воду, воткнулась в дно. Не мог ее Болда вытащить, как ни бился.
Рассердился Болда. Понял, что стариковы вещи ему служить не хотят. Вытащил огниво из мешка, бросил на землю. Упало огниво, высекло огонь. Побежал огонь по земле, к дому Болда подкатился, к амбарам. Не успел Болда и глазом моргнуть, как пошел огонь по амбарам да по дому гулять. Загорелось добро богача.
Кинулся Болда огонь топтать. Затоптать хотел, да не смог. От огня нагрелся Болда. Весь жир его растопился.
Растаял Болда. Только и остались от него унты да халат.
Пошел Монокто на то место, куда богач его нож бросил. Видит — ушел нож в камни. Стали те камни железные. Коли растолочь их да на огне расплавить — из них железо потечет.
Пошел Монокто за своей острогой. Рукой за нее взялся, видит — показались на остроге зеленые побеги, дерево выросло из остроги. Стали ульчи из того дерева делать копья, да черенки, да шесты, твердые да гибкие — лучше не найдешь!
Пошел Монокто за огнивом. На том месте, где у Болда дом да амбары стояли, болото стало, а на болоте синие огоньки порхают от стариковского огнива, сторожат проклятое место.
Поклонились люди Монокто, имя его вспомнили.
— Спасибо тебе, Монокто, — говорят, — что ты от Болда избавил нас!

Заяц и сорока
 Жил один заяц. Заяц как заяц. Только, кто его знает почему, любил он перед другими похвастать тем, чего у него и не было: и сильный он, и храбрый он, и охотник он…
Вот однажды заяц на поле убитую косулю нашел.
Только подсел зайчишка к косуле — сорока летит.
Увидала, какую добычу заяц упромыслил, подсела на ветку, поздоровалась, говорит:
— Эй, сосед, ты где такую тушу добыл?
— Убил, — говорит заяц.
Удивилась сорока: заяц косулю убил!
А хвастун не унимается:
— Я охотник такой, что если бы по-настоящему охотился, всех бы зверей давно перебил! Я сколько хочешь могу зверя добыть! Вот косулю съем, пойду медведя добывать.
Поклонилась сорока зайцу:
— Эй, сосед, научи меня! Я всегда несытая.
— Отчего не научить! — отвечает заяц. — Это совсем простое дело — так охотиться-то. Надо только пошире рот раскрыть да крикнуть. Совсем это простое дело. Разве ты кричать не умеешь?
— Как — не умею?! Я кричать хорошо умею, — говорит сорока, а сама думает: «Зачем я пойду медведя искать, когда под носом у меня заяц?»
Взлетела сорока повыше, рот пошире раскрыла да ка-ак крикнет! Так крикнула, что синицы, которые поблизости на ветках сидели, на землю свалились.
Только сорока зайца и видела… Перепугался он до смерти, кинулся бежать. Куда убежал — никто не знает.
Посидела сорока, подумала: «Как так — не упал заяц, а удрал? Видно, мало я кричала. Ну, другой раз, как добычу увижу, сильней кричать буду».
Стала сорока по лесу летать. Как увидит зверя — давай кричать, давай стрекотать что есть силы.
Сама она ни одного зверя своим криком не убила. А охотники приметили, что сорока над зверем кричит. Как застрекочет в лесу — охотник туда! Старается сорока, стрекочет, рот разевает, крылья распустит, хвостом стрижет, думает: «Вот я его сейчас убью! Вот-вот!» А охотник тут как тут — в зверя выстрелит, с собой унесет.
Только бывает и так, что сорока охотника в засаде увидит. Радуется: «Ох какой большой! Вот я его сейчас!» И всех зверей криком перепугает: ни себе, ни охотнику.
Жил один заяц. Заяц как заяц. Только, кто его знает почему, любил он перед другими похвастать тем, чего у него и не было: и сильный он, и храбрый он, и охотник он…
Вот однажды заяц на поле убитую косулю нашел.
Только подсел зайчишка к косуле — сорока летит.
Увидала, какую добычу заяц упромыслил, подсела на ветку, поздоровалась, говорит:
— Эй, сосед, ты где такую тушу добыл?
— Убил, — говорит заяц.
Удивилась сорока: заяц косулю убил!
А хвастун не унимается:
— Я охотник такой, что если бы по-настоящему охотился, всех бы зверей давно перебил! Я сколько хочешь могу зверя добыть! Вот косулю съем, пойду медведя добывать.
Поклонилась сорока зайцу:
— Эй, сосед, научи меня! Я всегда несытая.
— Отчего не научить! — отвечает заяц. — Это совсем простое дело — так охотиться-то. Надо только пошире рот раскрыть да крикнуть. Совсем это простое дело. Разве ты кричать не умеешь?
— Как — не умею?! Я кричать хорошо умею, — говорит сорока, а сама думает: «Зачем я пойду медведя искать, когда под носом у меня заяц?»
Взлетела сорока повыше, рот пошире раскрыла да ка-ак крикнет! Так крикнула, что синицы, которые поблизости на ветках сидели, на землю свалились.
Только сорока зайца и видела… Перепугался он до смерти, кинулся бежать. Куда убежал — никто не знает.
Посидела сорока, подумала: «Как так — не упал заяц, а удрал? Видно, мало я кричала. Ну, другой раз, как добычу увижу, сильней кричать буду».
Стала сорока по лесу летать. Как увидит зверя — давай кричать, давай стрекотать что есть силы.
Сама она ни одного зверя своим криком не убила. А охотники приметили, что сорока над зверем кричит. Как застрекочет в лесу — охотник туда! Старается сорока, стрекочет, рот разевает, крылья распустит, хвостом стрижет, думает: «Вот я его сейчас убью! Вот-вот!» А охотник тут как тут — в зверя выстрелит, с собой унесет.
Только бывает и так, что сорока охотника в засаде увидит. Радуется: «Ох какой большой! Вот я его сейчас!» И всех зверей криком перепугает: ни себе, ни охотнику.

Березовый сынок
 Беда, когда человек ленив да завистлив…
Жил в одной деревне старик. Был у него сын, по имени Уленда́. Всем Уленда был хорош: и речистый, и плечистый, и сильный, и красивый — не парень, а загляденье! Вот только работать Уленда не любил. Ничего делать не хотел.
На охоту в тайгу пойдет — как мох увидит, так спать заляжет. Рыбачить отец Уленду погонит — сядет сын на берегу, на воду станет глазеть, так без дела и просидит целый день. Пошлет его отец за оленями смотреть: Уленда на пенек присядет, голову вверх задерет, начнет на небе облака считать, — все олени и разбредутся.
Вот и выходило, что на старости лет отец и себе и сыну еду промышлял.
Обидно стало старику. Все сыновья своих отцов кормят, уважают, только Уленда на шее у старика сидит.
Пошел старик к занги́ну — судье, — просит:
— Помоги мне, мудрый зангин! Не могу я больше сына взрослого кормить. Силы нет! Как быть, скажи? Что делать?
Думал, думал зангин — долго думал: сто трубок табаку выкурил, пока думал.
Потом говорит:
— Ленивый сын хуже камня на шее. С сырой тетивой лук не выстрелит. Надо тетиву сменить. Другого сына тебе надо.
Заохал старик:
— Стар я стал! Где мне сына взять?
Говорит ему зангин:
— Иди завтра в тайгу. Там увидишь железную березу, что меж двух ильмов растет. Ту березу сруби. На той березе твой младший сын растет, в люльке малой качается. Вырасти его — будет тебе помощник!
Вот пошел старик в тайгу. Шел, шел, видит — верно, меж двух ильмов железная береза стоит.
Стал старик березу рубить. Раз ударил, два ударил… Топор поломал, а на березе даже зарубки нет. Вот это береза! Устал старик. Лег отдохнуть и заснул.
Видит сон: подошел будто к нему медведь и говорит:
«Направо в распадке две речки текут; в одной реке вода белая, в другой реке вода красная. Красной воды в чумашку набери, ту березу сбрызни!»
Проснулся старик. Поднялся. Пошел те реки искать. Пока через буревал продирался, всю одежду в клочья изорвал: и халат, и накидку, и штаны, и унты.
В распадок спустился — верно, речки текут.
Набрал старик красной воды. Обратно пошел.
До березки добрался, сбрызнул дерево красной водой.
Стал старик ту березку рубить. Только один раз ударил — покачнулась березка, на землю упала.
Видит старик — в том месте, где ствол раздвоился, висит колыбелька. В колыбельке ребенок лежит. Мальчик, ростом не больше костяной иголки. Лицо широкое, как луна; глазки черные, как две бусинки блестят.
Говорит себе старик:
— Ой-я-ха! Долго же мне придется ждать, пока сын мой названый подрастет да меня кормить будет!
А березовый мальчишка ему в ответ:
— Дорогу начиная, не считай шагов, отец!
Перекинул старик люльку с сыном через плечо, на спину взвалил и пошел домой.
Шел, шел… Что такое? Люлька с каждым шагом тяжелей становится. Пока до деревни старик дошел, люлька все плечи ему оттянула. Спустил старик люльку на землю — не под силу нести! Смотрит — люлька большая-пребольшая выросла. И березовый мальчишка сильно подрос. Из люльки вылез, старику поклонился, говорит:
— Вот спасибо, отец, что на ноги поставил меня!
Пошли они вместе.
Назвал старик младшего сына Кальдуко́й.
Стали они жить: старик, Уленда и Кальдука.
Оглянуться старик не успел, как вырос Кальдука-сынок, Уленду догнал. Работает за троих. И сильный и ловкий.
Начнет с кем-нибудь на палках драться — те и глазом моргнуть не успеют, как с пустыми руками окажутся. И оленье стадо у него вдвое больше стало. И юколы в доме — не переесть. И пушнины и себе и на продажу — вдоволь.
А Уленда все такой, как был. Чем больше лежит, тем ленивее становится. Лежит Уленда на нарах, а лень его все растет, уже в доме не помещается…
Держал старик орлов. Одного — с красным клювом, другого — с черным. Каждую осень брал он у орлов хвосты. До сих пор хвост красного орла Уленде старик отдавал. А как стал у него работящий сынок Кальдука — отдал старик хвост красного орла Кальдуке. Говорит:
— Кальдука меня кормит — значит, он старший.
Промолчал Уленда. Обиду перетерпел, а на младшего брата злобу затаил. Стал думать, как березовому мальчишке отплатить, как ему худо сделать. И про лень свою забыл: злоба его сильнее лени оказалась.
Стал Уленда у Кальдуки из капканов добычу таскать. Стал Уленда из сеток Кальдуки рыбу таскать.
Пошел Кальдука к зангину:
— Найди вора, мудрец!
Отвечает Кальдуке зангин:
— Своего вора разве найдешь?
Костер развел. На том костре кошку поджаривать стал. Закричала, перекосилась кошка.
Говорит зангин:
— Пусть у вора кривое лицо станет, как у кошки этой. Пусть будет так, как закон велит, тогда ты сам вора найдешь.
Пошел Кальдука домой. А Уленда в угол забился, тряпкой лицо завязал. Спрашивает его Кальдука:
— Что с тобой, брат?
— Ничего, — отвечает Уленда. — Зубы болят.
Тут ветер налетел, повязку с лица Уленды сорвал. Все увидели, что у Уленды лицо кривое. Все увидели, что он вор. Стали называть его с тех пор Уленда Кривой.
Пуще прежнего возненавидел Уленда березового брата. Стал день и ночь думать, как бы ему Кальдуку извести, как бы его погубить. Однако, пока жив был старик, ничего не мог Уленда сделать.
Сколько-то времени прошло — заболел и умер старик. Устроили старику похороны, поплакали. Сломал зангин копье над стариком. В разные стороны концы бросил, чтобы душа охотника с телом рассталась. Похоронили старика.
Как-то говорит Уленда Кальдуке:
— Поедем, брат, на остров: сараны́ — цветка — наберем, сладких корешков поедим.
Поехали они в лодке — оморо́чке. К острову подъехали. Младший брат пошел сарану собирать, далеко от берега в тайгу ушел. Вскочил Уленда в оморочку, уехал. Брата на острове бросил:
— Пусть его птица Ко́ри съест!
В те времена на Хехци́р-горе жила птица Кори. Большая, как туча. Когда птица Кори из гнезда вылетала, крыльями небо закрывала так, что становилось совсем темно. Беда тому, кто попадался птице Кори! Тех людей потом нельзя было нигде найти.
Походил, походил Кальдука по острову, на берег вернулся, глядит — Уленды нет. Кричал Кальдука, кричал, звал брата, звал — не отзывается тот. Поел Кальдука сладких корешков сараны и лег. Лежал, лежал, пригрелся и заснул.
Закатилось солнышко. Птица Кори из-за Хехцира поднялась, небо заслонила — совсем темно стало. Летит птица, крыльями шумит — будто сильный дождь идет. Свистит воздух — будто сильный ветер дует.
Проснулся Кальдука. Испугался. Схватился за лук.
А птица Кори уже над ним. Клювом щелкает. Глаза у нее, как два костра, горят.
Беда, когда человек ленив да завистлив…
Жил в одной деревне старик. Был у него сын, по имени Уленда́. Всем Уленда был хорош: и речистый, и плечистый, и сильный, и красивый — не парень, а загляденье! Вот только работать Уленда не любил. Ничего делать не хотел.
На охоту в тайгу пойдет — как мох увидит, так спать заляжет. Рыбачить отец Уленду погонит — сядет сын на берегу, на воду станет глазеть, так без дела и просидит целый день. Пошлет его отец за оленями смотреть: Уленда на пенек присядет, голову вверх задерет, начнет на небе облака считать, — все олени и разбредутся.
Вот и выходило, что на старости лет отец и себе и сыну еду промышлял.
Обидно стало старику. Все сыновья своих отцов кормят, уважают, только Уленда на шее у старика сидит.
Пошел старик к занги́ну — судье, — просит:
— Помоги мне, мудрый зангин! Не могу я больше сына взрослого кормить. Силы нет! Как быть, скажи? Что делать?
Думал, думал зангин — долго думал: сто трубок табаку выкурил, пока думал.
Потом говорит:
— Ленивый сын хуже камня на шее. С сырой тетивой лук не выстрелит. Надо тетиву сменить. Другого сына тебе надо.
Заохал старик:
— Стар я стал! Где мне сына взять?
Говорит ему зангин:
— Иди завтра в тайгу. Там увидишь железную березу, что меж двух ильмов растет. Ту березу сруби. На той березе твой младший сын растет, в люльке малой качается. Вырасти его — будет тебе помощник!
Вот пошел старик в тайгу. Шел, шел, видит — верно, меж двух ильмов железная береза стоит.
Стал старик березу рубить. Раз ударил, два ударил… Топор поломал, а на березе даже зарубки нет. Вот это береза! Устал старик. Лег отдохнуть и заснул.
Видит сон: подошел будто к нему медведь и говорит:
«Направо в распадке две речки текут; в одной реке вода белая, в другой реке вода красная. Красной воды в чумашку набери, ту березу сбрызни!»
Проснулся старик. Поднялся. Пошел те реки искать. Пока через буревал продирался, всю одежду в клочья изорвал: и халат, и накидку, и штаны, и унты.
В распадок спустился — верно, речки текут.
Набрал старик красной воды. Обратно пошел.
До березки добрался, сбрызнул дерево красной водой.
Стал старик ту березку рубить. Только один раз ударил — покачнулась березка, на землю упала.
Видит старик — в том месте, где ствол раздвоился, висит колыбелька. В колыбельке ребенок лежит. Мальчик, ростом не больше костяной иголки. Лицо широкое, как луна; глазки черные, как две бусинки блестят.
Говорит себе старик:
— Ой-я-ха! Долго же мне придется ждать, пока сын мой названый подрастет да меня кормить будет!
А березовый мальчишка ему в ответ:
— Дорогу начиная, не считай шагов, отец!
Перекинул старик люльку с сыном через плечо, на спину взвалил и пошел домой.
Шел, шел… Что такое? Люлька с каждым шагом тяжелей становится. Пока до деревни старик дошел, люлька все плечи ему оттянула. Спустил старик люльку на землю — не под силу нести! Смотрит — люлька большая-пребольшая выросла. И березовый мальчишка сильно подрос. Из люльки вылез, старику поклонился, говорит:
— Вот спасибо, отец, что на ноги поставил меня!
Пошли они вместе.
Назвал старик младшего сына Кальдуко́й.
Стали они жить: старик, Уленда и Кальдука.
Оглянуться старик не успел, как вырос Кальдука-сынок, Уленду догнал. Работает за троих. И сильный и ловкий.
Начнет с кем-нибудь на палках драться — те и глазом моргнуть не успеют, как с пустыми руками окажутся. И оленье стадо у него вдвое больше стало. И юколы в доме — не переесть. И пушнины и себе и на продажу — вдоволь.
А Уленда все такой, как был. Чем больше лежит, тем ленивее становится. Лежит Уленда на нарах, а лень его все растет, уже в доме не помещается…
Держал старик орлов. Одного — с красным клювом, другого — с черным. Каждую осень брал он у орлов хвосты. До сих пор хвост красного орла Уленде старик отдавал. А как стал у него работящий сынок Кальдука — отдал старик хвост красного орла Кальдуке. Говорит:
— Кальдука меня кормит — значит, он старший.
Промолчал Уленда. Обиду перетерпел, а на младшего брата злобу затаил. Стал думать, как березовому мальчишке отплатить, как ему худо сделать. И про лень свою забыл: злоба его сильнее лени оказалась.
Стал Уленда у Кальдуки из капканов добычу таскать. Стал Уленда из сеток Кальдуки рыбу таскать.
Пошел Кальдука к зангину:
— Найди вора, мудрец!
Отвечает Кальдуке зангин:
— Своего вора разве найдешь?
Костер развел. На том костре кошку поджаривать стал. Закричала, перекосилась кошка.
Говорит зангин:
— Пусть у вора кривое лицо станет, как у кошки этой. Пусть будет так, как закон велит, тогда ты сам вора найдешь.
Пошел Кальдука домой. А Уленда в угол забился, тряпкой лицо завязал. Спрашивает его Кальдука:
— Что с тобой, брат?
— Ничего, — отвечает Уленда. — Зубы болят.
Тут ветер налетел, повязку с лица Уленды сорвал. Все увидели, что у Уленды лицо кривое. Все увидели, что он вор. Стали называть его с тех пор Уленда Кривой.
Пуще прежнего возненавидел Уленда березового брата. Стал день и ночь думать, как бы ему Кальдуку извести, как бы его погубить. Однако, пока жив был старик, ничего не мог Уленда сделать.
Сколько-то времени прошло — заболел и умер старик. Устроили старику похороны, поплакали. Сломал зангин копье над стариком. В разные стороны концы бросил, чтобы душа охотника с телом рассталась. Похоронили старика.
Как-то говорит Уленда Кальдуке:
— Поедем, брат, на остров: сараны́ — цветка — наберем, сладких корешков поедим.
Поехали они в лодке — оморо́чке. К острову подъехали. Младший брат пошел сарану собирать, далеко от берега в тайгу ушел. Вскочил Уленда в оморочку, уехал. Брата на острове бросил:
— Пусть его птица Ко́ри съест!
В те времена на Хехци́р-горе жила птица Кори. Большая, как туча. Когда птица Кори из гнезда вылетала, крыльями небо закрывала так, что становилось совсем темно. Беда тому, кто попадался птице Кори! Тех людей потом нельзя было нигде найти.
Походил, походил Кальдука по острову, на берег вернулся, глядит — Уленды нет. Кричал Кальдука, кричал, звал брата, звал — не отзывается тот. Поел Кальдука сладких корешков сараны и лег. Лежал, лежал, пригрелся и заснул.
Закатилось солнышко. Птица Кори из-за Хехцира поднялась, небо заслонила — совсем темно стало. Летит птица, крыльями шумит — будто сильный дождь идет. Свистит воздух — будто сильный ветер дует.
Проснулся Кальдука. Испугался. Схватился за лук.
А птица Кори уже над ним. Клювом щелкает. Глаза у нее, как два костра, горят.
 Выстрелил Кальдука. Только зря — железные перья на птице. Схватила Кори Кальдуку когтями, говорит:
— Загадай мне три загадки. Если отгадаю — тебе смерть! Если не отгадаю — домой тебя отнесу!
Подумал Кальдука, подумал — согласился, загадал:
— Что, что, что такое: на скале лягушка сидит, спрыгнуть не может?
Думала, думала Кори, не могла отгадать.
Говорит тогда Кальдука:
— Это нос на лице.
Загадал Кальдука вторую загадку:
— Что, что, что такое: из одного места вышел, куда хотел — пришел, а как шел — не отвечает?
И опять Кори не отгадала.
— Это стрела, — говорит ей Кальдука.
И третью загадку задает он птице Кори:
— Что, что, что такое: сто парней на одной подушке спят и не ссорятся?
Не могла и эту загадку птица Кори отгадать.
— Это жерди на крыше, — говорит Кальдука.
Схватила тут птица Кальдуку, подняла на воздух и полетела. Долго ли летела — не знаю. У родного дома опустила Кальдуку на землю. Пришел Кальдука домой. Увидал его Уленда, побледнел от страха, мелкой дрожью затрясся, говорит:
— Меня от острова ветер унес. Такая буря поднялась, что не мог я выгрести…
Смолчал Кальдука.
Стали братья дальше жить. Кальдука промышляет, а Уленда Кривой на боку лежит. Злоба его не утихает. Думал он, думал и говорит Кальдуке:
— Соскучился я по нашему отцу. От людей я слыхал, что, если мертвому губы помазать слюной змеи Симу́, оживет мертвец. Вот хорошо бы нашего отца оживить!
— А где та змея? — спрашивает Кальдука-сынок. — Как ту змею найти?
— В верховьях речки Хор, — говорит Уленда.
Оседлал Кальдука олешка, сел на него и поехал. Долго ли ехал — кто знает! На поваленном ильме тридцать раз выросли грибы за это время. Доехал Кальдука. Оленя на берегу оставил, по холке рукой хлопнул — в дерево обратил. Пошел. До стойбища дошел. Видит — тоже орочи живут, только печальные очень. Спросил Кальдука, почему печалятся они. Отвечают ему, что наползает на их стойбище змея Симу, людей пожирает, юрты сжигает — и спасения от нее нет.
— Как же так? — говорит Кальдука. — Неужели никто из вас убить ту змею не может?
— Пробовали, — отвечают ему орочи, — но только как дохнет та змея огнем, так у людей руки отсыхают. А без рук, сам знаешь, разве можно что-нибудь сделать?
Подумал Кальдука, говорит:
— Попробую я — может, у меня не отсохнут!..
Отточил он копье, нож направил, в стойбище котел чугунный взял и пошел в тот лес, где змея Симу жила. Мхом обвязался. В котел древесной смолы набрал. В речку окунулся, мокрый стал. О котел принялся копьем стучать. Шум поднял большой.
Услыхала Симу тот шум, выползла из своей норы. Ползет, шипит. За змеей красный след остается: трава и камни горят.
Увидала змея Кальдуку, пламенем на него дохнула.
Защитил Кальдуку от огня мокрый мох. Размахнулся Кальдука изо всей силы и бросил в пасть змее свой котел чугунный, смолой наполненный… Растопилась смола, залила Симу глотку. Забилась змея и издохла. Белая пена пошла у нее из пасти вместо огня. Набрал Кальдука этой пены и обратно пошел.
Выстрелил Кальдука. Только зря — железные перья на птице. Схватила Кори Кальдуку когтями, говорит:
— Загадай мне три загадки. Если отгадаю — тебе смерть! Если не отгадаю — домой тебя отнесу!
Подумал Кальдука, подумал — согласился, загадал:
— Что, что, что такое: на скале лягушка сидит, спрыгнуть не может?
Думала, думала Кори, не могла отгадать.
Говорит тогда Кальдука:
— Это нос на лице.
Загадал Кальдука вторую загадку:
— Что, что, что такое: из одного места вышел, куда хотел — пришел, а как шел — не отвечает?
И опять Кори не отгадала.
— Это стрела, — говорит ей Кальдука.
И третью загадку задает он птице Кори:
— Что, что, что такое: сто парней на одной подушке спят и не ссорятся?
Не могла и эту загадку птица Кори отгадать.
— Это жерди на крыше, — говорит Кальдука.
Схватила тут птица Кальдуку, подняла на воздух и полетела. Долго ли летела — не знаю. У родного дома опустила Кальдуку на землю. Пришел Кальдука домой. Увидал его Уленда, побледнел от страха, мелкой дрожью затрясся, говорит:
— Меня от острова ветер унес. Такая буря поднялась, что не мог я выгрести…
Смолчал Кальдука.
Стали братья дальше жить. Кальдука промышляет, а Уленда Кривой на боку лежит. Злоба его не утихает. Думал он, думал и говорит Кальдуке:
— Соскучился я по нашему отцу. От людей я слыхал, что, если мертвому губы помазать слюной змеи Симу́, оживет мертвец. Вот хорошо бы нашего отца оживить!
— А где та змея? — спрашивает Кальдука-сынок. — Как ту змею найти?
— В верховьях речки Хор, — говорит Уленда.
Оседлал Кальдука олешка, сел на него и поехал. Долго ли ехал — кто знает! На поваленном ильме тридцать раз выросли грибы за это время. Доехал Кальдука. Оленя на берегу оставил, по холке рукой хлопнул — в дерево обратил. Пошел. До стойбища дошел. Видит — тоже орочи живут, только печальные очень. Спросил Кальдука, почему печалятся они. Отвечают ему, что наползает на их стойбище змея Симу, людей пожирает, юрты сжигает — и спасения от нее нет.
— Как же так? — говорит Кальдука. — Неужели никто из вас убить ту змею не может?
— Пробовали, — отвечают ему орочи, — но только как дохнет та змея огнем, так у людей руки отсыхают. А без рук, сам знаешь, разве можно что-нибудь сделать?
Подумал Кальдука, говорит:
— Попробую я — может, у меня не отсохнут!..
Отточил он копье, нож направил, в стойбище котел чугунный взял и пошел в тот лес, где змея Симу жила. Мхом обвязался. В котел древесной смолы набрал. В речку окунулся, мокрый стал. О котел принялся копьем стучать. Шум поднял большой.
Услыхала Симу тот шум, выползла из своей норы. Ползет, шипит. За змеей красный след остается: трава и камни горят.
Увидала змея Кальдуку, пламенем на него дохнула.
Защитил Кальдуку от огня мокрый мох. Размахнулся Кальдука изо всей силы и бросил в пасть змее свой котел чугунный, смолой наполненный… Растопилась смола, залила Симу глотку. Забилась змея и издохла. Белая пена пошла у нее из пасти вместо огня. Набрал Кальдука этой пены и обратно пошел.
 Вдруг слышит — трещат деревья. Дымится тайга, звери оттуда бегут, и птицы стаями прочь полетели.
Говорят орочи Кальдуке:
— Беда, сынок! Ты убил Симу, теперь ее брат Химу́ идет за сестру мстить. Беда!
— Ничего! — говорит Кальдука. — Беда, когда на плечах головы нет.
Взял он семь чугунных котлов. Один другим накрыл, сам под нижний залез.
Налетел тут Химу. Все трясется вокруг. Земля дрожит, с неба щепки сыплются. Увидал он котлы, кинулся на них да как ударит!.. Шесть котлов головой пробил, а седьмого не осилил — голову разбил. Зашипел Химу и пополз в тайгу — умирать! Вылез Кальдука из-под котлов. Окружили его орочи. Радуются, что такого богатыря увидали, что от змеи Симу избавились. В свой род Кальдуку приглашают, сыном хотят назвать. Девушки орочские поглядывают на него: любая замуж бы за такого парня вышла!
Говорят ему старики:
— Живи с нами.
— Нет, мне домой надо, — отвечает Кальдука-сынок.
Понравилась ему в этом стойбище девушка одна. Пошел он с нею гулять. До берега реки дошли. На дерево сели.
Говорит Кальдука:
— Будь моей женой, девушка! Со мной поедем!
Хлопнул Кальдука рукой — обернулось дерево оленем. Полетел олень в родное стойбище Кальдуки.
Уленда дома песни поет, думает — пропал Кальдука.
А Кальдука тут как тут, да еще с молодой женой!
Пуще прежнего озлился Уленда Кривой на брата. Думает про себя: «Лучше — мне не быть, а Кальдуку я изведу и жену его себе заберу!»
Пошел Кальдука к зангину — судье. Рассказал все. Сказал, что принес он слюну змеи Симу, чтобы отца оживить, как того Уленда Кривой хотел.
Говорит ему зангин, одну трубку выкурив:
— Ты, березовый мальчишка, того не знаешь, что люди по два раза не родятся. Зачем старика тревожить? И не за тем тебя Уленда посылал, а за смертью!
Взял зангин слюну змеи и бросил в реку. Забурлила река, зашипела, белый пар пошел от воды. Множество рыбы кверху брюхом всплыло. Мертвая рыба стала.
— Вот видишь! — говорит зангин. — Этой слюной убил бы тебя Уленда Кривой.
Потом посмотрел зангин на Уленду Кривого.
— Иди ты, Уленда, в тайгу, — говорит. — Не место тебе среди людей. Не любишь ты людей… Иди в тайгу. Там в одиночку таежные люди живут. Будь тем, кто ты есть в душе.
И пошел Уленда в тайгу. Пока шел — шерсть выросла на нем. На руках и ногах — когти. Сначала на двух ногах Уленда шагал, потом на четырех побежал. Медведем стал Уленда Кривой.
А Кальдука-сынок хорошо с женой зажил. Детей у него много было, и во всем ему удача…
Давно это было. Столько лет назад, что если по пальцам считать, то во всем стойбище у стариков столько пальцев не найдешь. Надо у ребят занимать. А ребята бегают, не даются. Вот и узнай, когда это было!
Вдруг слышит — трещат деревья. Дымится тайга, звери оттуда бегут, и птицы стаями прочь полетели.
Говорят орочи Кальдуке:
— Беда, сынок! Ты убил Симу, теперь ее брат Химу́ идет за сестру мстить. Беда!
— Ничего! — говорит Кальдука. — Беда, когда на плечах головы нет.
Взял он семь чугунных котлов. Один другим накрыл, сам под нижний залез.
Налетел тут Химу. Все трясется вокруг. Земля дрожит, с неба щепки сыплются. Увидал он котлы, кинулся на них да как ударит!.. Шесть котлов головой пробил, а седьмого не осилил — голову разбил. Зашипел Химу и пополз в тайгу — умирать! Вылез Кальдука из-под котлов. Окружили его орочи. Радуются, что такого богатыря увидали, что от змеи Симу избавились. В свой род Кальдуку приглашают, сыном хотят назвать. Девушки орочские поглядывают на него: любая замуж бы за такого парня вышла!
Говорят ему старики:
— Живи с нами.
— Нет, мне домой надо, — отвечает Кальдука-сынок.
Понравилась ему в этом стойбище девушка одна. Пошел он с нею гулять. До берега реки дошли. На дерево сели.
Говорит Кальдука:
— Будь моей женой, девушка! Со мной поедем!
Хлопнул Кальдука рукой — обернулось дерево оленем. Полетел олень в родное стойбище Кальдуки.
Уленда дома песни поет, думает — пропал Кальдука.
А Кальдука тут как тут, да еще с молодой женой!
Пуще прежнего озлился Уленда Кривой на брата. Думает про себя: «Лучше — мне не быть, а Кальдуку я изведу и жену его себе заберу!»
Пошел Кальдука к зангину — судье. Рассказал все. Сказал, что принес он слюну змеи Симу, чтобы отца оживить, как того Уленда Кривой хотел.
Говорит ему зангин, одну трубку выкурив:
— Ты, березовый мальчишка, того не знаешь, что люди по два раза не родятся. Зачем старика тревожить? И не за тем тебя Уленда посылал, а за смертью!
Взял зангин слюну змеи и бросил в реку. Забурлила река, зашипела, белый пар пошел от воды. Множество рыбы кверху брюхом всплыло. Мертвая рыба стала.
— Вот видишь! — говорит зангин. — Этой слюной убил бы тебя Уленда Кривой.
Потом посмотрел зангин на Уленду Кривого.
— Иди ты, Уленда, в тайгу, — говорит. — Не место тебе среди людей. Не любишь ты людей… Иди в тайгу. Там в одиночку таежные люди живут. Будь тем, кто ты есть в душе.
И пошел Уленда в тайгу. Пока шел — шерсть выросла на нем. На руках и ногах — когти. Сначала на двух ногах Уленда шагал, потом на четырех побежал. Медведем стал Уленда Кривой.
А Кальдука-сынок хорошо с женой зажил. Детей у него много было, и во всем ему удача…
Давно это было. Столько лет назад, что если по пальцам считать, то во всем стойбище у стариков столько пальцев не найдешь. Надо у ребят занимать. А ребята бегают, не даются. Вот и узнай, когда это было!

Соболиные души
 Раньше удэгейцев много было. От стойбища до стойбища ребятишки камнем докидывали. От Ко́ппи-реки до Ха́ди-залива по морскому берегу, вдоль всех горных речек по Сихотэ́-Али́нским горам удэ жили. Дым от их очагов тучей к небу поднимался. Белые лебеди, пока над стойбищами летели, от того дыма черными становились.
Жили тогда на Ху́нгари два брата — Канда́ и Егда́. Отец у них простой человек был. А братья — не знаю в кого уродились: выросли такие, какими с тех пор люди не родятся. Ростом с лиственницу о семидесяти кольцах. Сильные были — где проходили они, там на земле глубокие ямы оставались. Когда Канда с Егдой на лыжах бежали, перелетную птицу обгоняли. Не было среди их сородичей таких охотников, как Канда с Егдой. Они медведей за добычу не считали, руками давили. На ходу тигра ловили. Барса за хвост ловили…
Больше всего любили братья соболиную охоту.
Соболь — зверь хитрый. Водит охотника долго. Не ест охотник, не пьет, пока за соболем гонится. А соболь кружит, колесит, след запутывает. Потом в дупло заберется — выкуривай его оттуда!
Только Канда с Егдой долго за соболем не гонялись. Соболь быстро бежит, а братья — того быстрее! Загоняют соболя, тот — в лес да в дупло. Тут Канда у дупла станет, а Егда дерево одной рукой валит. Закачается дерево — соболь бежать из дупла. А Канда шапку свою наготове держит. Куда соболь денется?!
Так охотились братья.
Всех соболей на деляне своего дяди выловили. Стали в разные места за соболем ходить. Стали в чужие места ходить. Обиделись другие охотники.
Говорят братьям:
— Вы нашу добычу берете. Нашего зверя берете — значит, нас мертвыми считаете, все равно что убили вы нас. Так считать будем. Кровное дело получается. Судиться с вами будем — зачем вы нас убили!..
А Канда с Егдой смеются. Силой хвастают. Кровной мести не боятся. Суда не боятся. Зангина — судью — не боятся.
— Большому охотнику, — говорят, — большой зверь!
— Какого вам зверя надо? — спрашивает зангин. — Вы чужого зверя берете, с вас байта́ — штраф — взять надо.
— Байта не дадим, соболевать не перестанем, — отвечают братья. — Пока Соболиного Хозяина не добудем — соболевать будем!
Видит зангин, что Канда и Егда закона не признают, людей не слушают, рассердился. Свой жезл пополам переломил, в разные стороны концы бросил: остается обида на братьях.
Ушли братья соболевать. Хотят Соболиного Хозяина поймать. От стариков они слыхали, что есть такой соболь: в три раза больше других, черный как уголь, быстрый как ветер; на него если долго смотреть — ослепнешь.
Всю тайгу исходили — поймать того соболя не могут.
Пока за Соболиным Хозяином гонялись, всех соболей перевели. Добро бы пользу от добычи получили, а то поймают, посмотрят, увидят — не тот, и бросят, разорвав, чтобы никому не достался.
Другим охотникам житья не стало: никакой добычи нет.
А Канда и Егда видят — своим умом Соболиного Хозяина не добыть. Пошли братья к зангину, поклонились:
— Ты не знаешь ли, где Соболиный Хозяин живет?
— Я человек маленький, — отвечает зангин, — что я знать могу! Спросите у Онку́ — Хозяина гор и лесов, — он знает!
— А где Онку живет? — спрашивают братья.
— Живет он в самой высокой горе Сихотэ-Алиня, среди камней и скал. Каменный дом у него. Дорога к нему трудная. А увидеть его можно, если он сам захочет.
— Ладно, — говорит Канда. — Пойдем, брат!
Вот пошли они.
Сначала равниной шли. Красную речку повстречали. Лодку сделали из бересты. Речку переплыли. Березовым лесом пошли. К желтой речке вышли. Из тополя лодку сделали. Желтую речку переплыли. Дальше сосновым лесом пошли. Белая речка повстречалась братьям на пути. Кипит речка, бурлит, как кипяток, а вода холодная, палец опустишь — льдом покрывается. Накидали братья больших камней в ту речку и по камням перешли ее. На другом берегу кедровый лес растет. Слышат братья — три ворона, три филина кричат.
Идут Канда и Егда, сквозь кедры пробираются. А лес густой, стеной стоит. Ветки друг с другом переплетаются.
Стали братья кедры валить — дорогу делать. А за их спиной поваленные деревья снова в землю корни пускают, подымаются во весь рост.
Была дорога — и нет ее, опять стоит лес непроходимый.
Так братья до высокой сопки дошли. А на сопке трехъярусный утес стоит. Такая высокая сопка, что на вершину посмотришь — шапка с головы падает.
Стали братья на сопку взбираться. Тут шесть воронов и шесть филинов закричали. Подумал Канда, что, видно, до дома хозяина недалеко осталось, стал звать. Громким голосом стал звать. От его крика кора с деревьев обваливается. А ответа ему нет. Лезут братья дальше…
Кончился лес. Кустарник пошел. Не столько кустов в нем, сколько камней. Чем дальше — тем больше. Идут братья меж скал. На первый ярус поднялись, отдохнули. Стали на второй подниматься. Разъезжаются камни под ногами, словно кто-то их из-под ног вышибает. А Канда с Егдой все выше лезут — на второй ярус забрались. Посидели, отдохнули. Стали на третий ярус карабкаться. А скалы громоздятся одна на другую, рядами стоят. Смотрят братья — чем дальше идут они, тем больше скалы и камни на людей походят. Совсем живые камни. Глаз у них нет, а за братьями они следят — вслед за ними поворачиваются. Кое-как влезли братья на третий ярус. Камни из-под ног уходят, в руки не даются. А наверху девять воронов да девять филинов кричат.
Говорит Канда:
— Ну, брат, видно до самого дома Хозяина дошли мы!
На скалу влезли. Видят — каменный дом стоит на десяти столбах; как закон велит, на восход двумя глазами — окнами — смотрит. Крыша в облаках теряется — такой высокий дом. И внутри все как полагается: нары, очаг, медвежье место, для стариков место. Только все такой величины, что братья сами себе ребятишками кажутся.
На нарах — будто целая скала, поросшая мхом.
Закричал Егда. Так закричал Егда, что даже ветер во все стороны пошел:
— Эй, отец, простые люди к тебе пришли! С делом к тебе пришли!
Скала, поросшая мхом, повернулась к братьям. Смотрят они: не скала это, а человек. Темный, будто из камня сделанный, от своей тяжести по пояс в землю уходит. Каменными глазами на братьев смотрит.
От его взгляда сердце холодеет. Сам Онку перед братьями сидит.
Поклонились ему Канда с Егдой. Лосиным мясом поклонились, пищей простых людей поклонились. Говорят:
— Отец, помоги нам Соболиного Хозяина поймать! Сказали простым людям — поймаем! Как можно свое слово поломать?
Заговорил Онку — на соседних скалах от его голоса трещины сделались, снежные лавины с гор обрушились, земля задрожала:
— Слышал я о вас. Большая обида на вас лежит! Простые люди обижаются: зачем всех соболей перевели! Соболиный Хозяин в обиде: нечего на земле ему делать теперь. Вам его не поймать. Вы соболей убивали — их души на небо пастись уходили. За ними и Хозяин ушел…
Задумались братья. Трубки закурили. Хозяину дали. Закурил Онку. Тут из вершин сопок дым повалил, огонь к небу вскинулся, камни вверх полетели. Закружились над сопками облака, молния засверкала, огненный дождь захлестал.
Раньше удэгейцев много было. От стойбища до стойбища ребятишки камнем докидывали. От Ко́ппи-реки до Ха́ди-залива по морскому берегу, вдоль всех горных речек по Сихотэ́-Али́нским горам удэ жили. Дым от их очагов тучей к небу поднимался. Белые лебеди, пока над стойбищами летели, от того дыма черными становились.
Жили тогда на Ху́нгари два брата — Канда́ и Егда́. Отец у них простой человек был. А братья — не знаю в кого уродились: выросли такие, какими с тех пор люди не родятся. Ростом с лиственницу о семидесяти кольцах. Сильные были — где проходили они, там на земле глубокие ямы оставались. Когда Канда с Егдой на лыжах бежали, перелетную птицу обгоняли. Не было среди их сородичей таких охотников, как Канда с Егдой. Они медведей за добычу не считали, руками давили. На ходу тигра ловили. Барса за хвост ловили…
Больше всего любили братья соболиную охоту.
Соболь — зверь хитрый. Водит охотника долго. Не ест охотник, не пьет, пока за соболем гонится. А соболь кружит, колесит, след запутывает. Потом в дупло заберется — выкуривай его оттуда!
Только Канда с Егдой долго за соболем не гонялись. Соболь быстро бежит, а братья — того быстрее! Загоняют соболя, тот — в лес да в дупло. Тут Канда у дупла станет, а Егда дерево одной рукой валит. Закачается дерево — соболь бежать из дупла. А Канда шапку свою наготове держит. Куда соболь денется?!
Так охотились братья.
Всех соболей на деляне своего дяди выловили. Стали в разные места за соболем ходить. Стали в чужие места ходить. Обиделись другие охотники.
Говорят братьям:
— Вы нашу добычу берете. Нашего зверя берете — значит, нас мертвыми считаете, все равно что убили вы нас. Так считать будем. Кровное дело получается. Судиться с вами будем — зачем вы нас убили!..
А Канда с Егдой смеются. Силой хвастают. Кровной мести не боятся. Суда не боятся. Зангина — судью — не боятся.
— Большому охотнику, — говорят, — большой зверь!
— Какого вам зверя надо? — спрашивает зангин. — Вы чужого зверя берете, с вас байта́ — штраф — взять надо.
— Байта не дадим, соболевать не перестанем, — отвечают братья. — Пока Соболиного Хозяина не добудем — соболевать будем!
Видит зангин, что Канда и Егда закона не признают, людей не слушают, рассердился. Свой жезл пополам переломил, в разные стороны концы бросил: остается обида на братьях.
Ушли братья соболевать. Хотят Соболиного Хозяина поймать. От стариков они слыхали, что есть такой соболь: в три раза больше других, черный как уголь, быстрый как ветер; на него если долго смотреть — ослепнешь.
Всю тайгу исходили — поймать того соболя не могут.
Пока за Соболиным Хозяином гонялись, всех соболей перевели. Добро бы пользу от добычи получили, а то поймают, посмотрят, увидят — не тот, и бросят, разорвав, чтобы никому не достался.
Другим охотникам житья не стало: никакой добычи нет.
А Канда и Егда видят — своим умом Соболиного Хозяина не добыть. Пошли братья к зангину, поклонились:
— Ты не знаешь ли, где Соболиный Хозяин живет?
— Я человек маленький, — отвечает зангин, — что я знать могу! Спросите у Онку́ — Хозяина гор и лесов, — он знает!
— А где Онку живет? — спрашивают братья.
— Живет он в самой высокой горе Сихотэ-Алиня, среди камней и скал. Каменный дом у него. Дорога к нему трудная. А увидеть его можно, если он сам захочет.
— Ладно, — говорит Канда. — Пойдем, брат!
Вот пошли они.
Сначала равниной шли. Красную речку повстречали. Лодку сделали из бересты. Речку переплыли. Березовым лесом пошли. К желтой речке вышли. Из тополя лодку сделали. Желтую речку переплыли. Дальше сосновым лесом пошли. Белая речка повстречалась братьям на пути. Кипит речка, бурлит, как кипяток, а вода холодная, палец опустишь — льдом покрывается. Накидали братья больших камней в ту речку и по камням перешли ее. На другом берегу кедровый лес растет. Слышат братья — три ворона, три филина кричат.
Идут Канда и Егда, сквозь кедры пробираются. А лес густой, стеной стоит. Ветки друг с другом переплетаются.
Стали братья кедры валить — дорогу делать. А за их спиной поваленные деревья снова в землю корни пускают, подымаются во весь рост.
Была дорога — и нет ее, опять стоит лес непроходимый.
Так братья до высокой сопки дошли. А на сопке трехъярусный утес стоит. Такая высокая сопка, что на вершину посмотришь — шапка с головы падает.
Стали братья на сопку взбираться. Тут шесть воронов и шесть филинов закричали. Подумал Канда, что, видно, до дома хозяина недалеко осталось, стал звать. Громким голосом стал звать. От его крика кора с деревьев обваливается. А ответа ему нет. Лезут братья дальше…
Кончился лес. Кустарник пошел. Не столько кустов в нем, сколько камней. Чем дальше — тем больше. Идут братья меж скал. На первый ярус поднялись, отдохнули. Стали на второй подниматься. Разъезжаются камни под ногами, словно кто-то их из-под ног вышибает. А Канда с Егдой все выше лезут — на второй ярус забрались. Посидели, отдохнули. Стали на третий ярус карабкаться. А скалы громоздятся одна на другую, рядами стоят. Смотрят братья — чем дальше идут они, тем больше скалы и камни на людей походят. Совсем живые камни. Глаз у них нет, а за братьями они следят — вслед за ними поворачиваются. Кое-как влезли братья на третий ярус. Камни из-под ног уходят, в руки не даются. А наверху девять воронов да девять филинов кричат.
Говорит Канда:
— Ну, брат, видно до самого дома Хозяина дошли мы!
На скалу влезли. Видят — каменный дом стоит на десяти столбах; как закон велит, на восход двумя глазами — окнами — смотрит. Крыша в облаках теряется — такой высокий дом. И внутри все как полагается: нары, очаг, медвежье место, для стариков место. Только все такой величины, что братья сами себе ребятишками кажутся.
На нарах — будто целая скала, поросшая мхом.
Закричал Егда. Так закричал Егда, что даже ветер во все стороны пошел:
— Эй, отец, простые люди к тебе пришли! С делом к тебе пришли!
Скала, поросшая мхом, повернулась к братьям. Смотрят они: не скала это, а человек. Темный, будто из камня сделанный, от своей тяжести по пояс в землю уходит. Каменными глазами на братьев смотрит.
От его взгляда сердце холодеет. Сам Онку перед братьями сидит.
Поклонились ему Канда с Егдой. Лосиным мясом поклонились, пищей простых людей поклонились. Говорят:
— Отец, помоги нам Соболиного Хозяина поймать! Сказали простым людям — поймаем! Как можно свое слово поломать?
Заговорил Онку — на соседних скалах от его голоса трещины сделались, снежные лавины с гор обрушились, земля задрожала:
— Слышал я о вас. Большая обида на вас лежит! Простые люди обижаются: зачем всех соболей перевели! Соболиный Хозяин в обиде: нечего на земле ему делать теперь. Вам его не поймать. Вы соболей убивали — их души на небо пастись уходили. За ними и Хозяин ушел…
Задумались братья. Трубки закурили. Хозяину дали. Закурил Онку. Тут из вершин сопок дым повалил, огонь к небу вскинулся, камни вверх полетели. Закружились над сопками облака, молния засверкала, огненный дождь захлестал.
 Сидят братья ни живы ни мертвы — испугались. Еще раз подумали — плохое дело вышло: хотели силу свою да удаль показать, а вышло так, что люди теперь на них в обиде. Соболиный Хозяин в обиде, да и сам Онку, видать, тоже сердит.
Говорит Канда:
— А как, отец, соболей на землю вернуть?
Вынул трубку Хозяин изо рта — перестали сопки дымить. Говорит:
— Если на небе соболя убить — душа его на землю идет, в нового соболя входит…
Тогда сказал Канда:
— Что ж, брат, видно, нам с тобой в другие места придется идти соболевать…
— Видно, так, — откликается Егда.
Собрались они в обратный путь. Вниз взглянули — голова закружилась: на такую высоту они к Хозяину забрались. Как спускаться — не знают, никаких дорог не видать, кругом обрывы. Подхватили их тут филины, в воздух подняли. Пропало сразу все: нет ни Хозяина, ни гор, ни камней, на людей похожих. Стоят братья от родного стойбища неподалеку.
Стали братья веревку вить. Целый лес тальника извели. Такую веревку свили, что от одного ее конца до другого хороший бегун от восхода до заката солнца не добежит. Крепкую веревку свили. Зацепил Канда веревку одним концом за красную скалу, другим — за черную. Посредине кулаком ударил. Рассыпались скалы в пыль, а веревка цела осталась.
Закинул Егда веревку на небо. Крючком небо зацепил. Поднатужились братья. Подтянули небо к земле. Веревку сопочкой прижали. Припас охотничий да еды с собой взяли и по веревке полезли на небо за соболиными душами.
Добрались братья до неба.
Сначала внизу землю видели, потом в облака вошли.
Лежат облака, будто снег. Наст хороший, крепкий. Вокруг соболиных следов — видимо-невидимо! Разгорелось сердце у охотников:
— Вот теперь пособолюем, брат!
…Долго охотились они.
Сколько соболя ни бьют, а его все не убывает.
Даже уставать братья начали. Говорит Канда, что по дому соскучился — сходить бы домой надо…
Пошли братья искать то место, где они на небо залезли, и не могут найти.
Пока охотились они, на земле весна наступила.
Стали молодые кабаны клыки точить о ту веревку, которой Канда и Егда небо к земле притянули. Точили, точили — перетерлась веревка. Небо на свое место стало.
Ходили, ходили братья по небу — дорогу протоптали, а на землю так и не спустились. Ту дорогу на небе ночью хорошо видно: через все небо тянется она. По-разному люди называют ее, а удэ говорят: «Это — Буа́ Гидыни́. Дорога небесных людей!» Ходят по ней Егда и Канда — соболя бьют.
А на земле с тех пор соболь не переводится.
Сидят братья ни живы ни мертвы — испугались. Еще раз подумали — плохое дело вышло: хотели силу свою да удаль показать, а вышло так, что люди теперь на них в обиде. Соболиный Хозяин в обиде, да и сам Онку, видать, тоже сердит.
Говорит Канда:
— А как, отец, соболей на землю вернуть?
Вынул трубку Хозяин изо рта — перестали сопки дымить. Говорит:
— Если на небе соболя убить — душа его на землю идет, в нового соболя входит…
Тогда сказал Канда:
— Что ж, брат, видно, нам с тобой в другие места придется идти соболевать…
— Видно, так, — откликается Егда.
Собрались они в обратный путь. Вниз взглянули — голова закружилась: на такую высоту они к Хозяину забрались. Как спускаться — не знают, никаких дорог не видать, кругом обрывы. Подхватили их тут филины, в воздух подняли. Пропало сразу все: нет ни Хозяина, ни гор, ни камней, на людей похожих. Стоят братья от родного стойбища неподалеку.
Стали братья веревку вить. Целый лес тальника извели. Такую веревку свили, что от одного ее конца до другого хороший бегун от восхода до заката солнца не добежит. Крепкую веревку свили. Зацепил Канда веревку одним концом за красную скалу, другим — за черную. Посредине кулаком ударил. Рассыпались скалы в пыль, а веревка цела осталась.
Закинул Егда веревку на небо. Крючком небо зацепил. Поднатужились братья. Подтянули небо к земле. Веревку сопочкой прижали. Припас охотничий да еды с собой взяли и по веревке полезли на небо за соболиными душами.
Добрались братья до неба.
Сначала внизу землю видели, потом в облака вошли.
Лежат облака, будто снег. Наст хороший, крепкий. Вокруг соболиных следов — видимо-невидимо! Разгорелось сердце у охотников:
— Вот теперь пособолюем, брат!
…Долго охотились они.
Сколько соболя ни бьют, а его все не убывает.
Даже уставать братья начали. Говорит Канда, что по дому соскучился — сходить бы домой надо…
Пошли братья искать то место, где они на небо залезли, и не могут найти.
Пока охотились они, на земле весна наступила.
Стали молодые кабаны клыки точить о ту веревку, которой Канда и Егда небо к земле притянули. Точили, точили — перетерлась веревка. Небо на свое место стало.
Ходили, ходили братья по небу — дорогу протоптали, а на землю так и не спустились. Ту дорогу на небе ночью хорошо видно: через все небо тянется она. По-разному люди называют ее, а удэ говорят: «Это — Буа́ Гидыни́. Дорога небесных людей!» Ходят по ней Егда и Канда — соболя бьют.
А на земле с тех пор соболь не переводится.
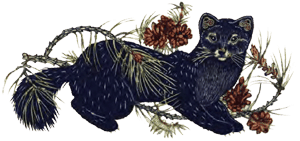
Как звери ногами менялись
 Повстречались как-то лисица и лось.
— Что нового? — спрашивает лиса у лося.
— Ничего нового, соседка, — отвечает лось. — Вчера чуть было совсем не пропал: гнался за мною охотник, а я запутался в ветках рогами… Беда мне на длинных ногах — за ветки задеваю!.. А ты как живешь? — спрашивает лось лису.
— И я плохо, сосед, — говорит лиса, — подстерегают меня охотники. Беда мне с короткими ногами — не могу сверху вокруг посмотреть!
Запечалились звери, какая у них плохая жизнь и как плохо все на свете устроено: кому нужны длинные ноги — у того короткие, кому короткие нужны — у того длинные.
Вот лиса и говорит:
— Давай, сосед, ногами меняться!
— Давай, — отвечает лось.
Вот поменялись они ногами.
Посмотрела лиса вокруг: с длинных-то ног далеко видно — нет поблизости людей. Побежала в стойбище. Захотелось ей курятины. Попробовала в амбар залезть, где куры на насесте сидели, а длинные ноги мешают. Сунула ногу в щель, чтобы курицу сцапать, а лосиная нога — в копыте, никак ею добычу не зацепишь. Вздохнула лиса и пожалела о своих лапках: какие у них были когти острые, как удобно было ими добычу держать и разрывать! Тут из дома человек вышел… Испугалась лиса и бросилась прочь. Так и убежала голодная.
А лось, получив ноги лисы, ростом стал совсем маленький. В траве спрятался, радуется:
— Вот теперь хорошо мне! Никто меня издалека не увидит!
Стал он потихоньку на лисьих лапках передвигаться. Устал быстро. Устал и проголодался. По привычке голову поднял, чтобы молодыми побегами да листьями голод утолить. Губами шлепает, а веток достать не может: ноги-то коротки!
Вздохнул лось:
— Эх, напрасно я обменялся ногами! Такие хорошие у меня ноги были: высокие да крепкие! Не то что эти лапки! Пропаду я теперь совсем с голоду…
И заплакал лось.
Вдруг слышит он: кто-то по тайге летит, напрямик ломится. Сучья да валежник трещат. Кинулся лось бежать. А куда ему на маленьких лисьих лапках бегать! Запнулся за валежину, упал и глаза закрыл. «Ну, — думает, — сейчас мне конец будет!»
Однако слышит — зовет его лиса:
— Эй, сосед, где ты?
— Здесь я, — говорит лось. — Это ты, что ли, в тайге шумела?
— Я, — говорит лиса. — Беда мне с твоими ногами! Хотела тихо пройти, а ноги твои ломают сучки, топают, стучат. Чуть не пропала я с ними!
— И мне, — говорит лось, — с твоими ногами беда: маленькие они, слабые… Давай, соседка, опять меняться!
Вот обменялись они ногами.
Топнул лось своими копытами о землю: хорошо!
— Здорово это, — говорит, — устроено, что лось на копытах ходит! Ноги крепкие, копыта твердые!
Пробежалась лисица на своих лапках: хорошо! Лапки легкие, когти острые, походка неслышная.
Отвечает лиса лосю:
— Да, правда! Хорошо это устроено, что у лисы маленькие лапки с острыми когтями.
Попрощались они и в разные стороны пошли.
С тех пор звери ногами не меняются.
Повстречались как-то лисица и лось.
— Что нового? — спрашивает лиса у лося.
— Ничего нового, соседка, — отвечает лось. — Вчера чуть было совсем не пропал: гнался за мною охотник, а я запутался в ветках рогами… Беда мне на длинных ногах — за ветки задеваю!.. А ты как живешь? — спрашивает лось лису.
— И я плохо, сосед, — говорит лиса, — подстерегают меня охотники. Беда мне с короткими ногами — не могу сверху вокруг посмотреть!
Запечалились звери, какая у них плохая жизнь и как плохо все на свете устроено: кому нужны длинные ноги — у того короткие, кому короткие нужны — у того длинные.
Вот лиса и говорит:
— Давай, сосед, ногами меняться!
— Давай, — отвечает лось.
Вот поменялись они ногами.
Посмотрела лиса вокруг: с длинных-то ног далеко видно — нет поблизости людей. Побежала в стойбище. Захотелось ей курятины. Попробовала в амбар залезть, где куры на насесте сидели, а длинные ноги мешают. Сунула ногу в щель, чтобы курицу сцапать, а лосиная нога — в копыте, никак ею добычу не зацепишь. Вздохнула лиса и пожалела о своих лапках: какие у них были когти острые, как удобно было ими добычу держать и разрывать! Тут из дома человек вышел… Испугалась лиса и бросилась прочь. Так и убежала голодная.
А лось, получив ноги лисы, ростом стал совсем маленький. В траве спрятался, радуется:
— Вот теперь хорошо мне! Никто меня издалека не увидит!
Стал он потихоньку на лисьих лапках передвигаться. Устал быстро. Устал и проголодался. По привычке голову поднял, чтобы молодыми побегами да листьями голод утолить. Губами шлепает, а веток достать не может: ноги-то коротки!
Вздохнул лось:
— Эх, напрасно я обменялся ногами! Такие хорошие у меня ноги были: высокие да крепкие! Не то что эти лапки! Пропаду я теперь совсем с голоду…
И заплакал лось.
Вдруг слышит он: кто-то по тайге летит, напрямик ломится. Сучья да валежник трещат. Кинулся лось бежать. А куда ему на маленьких лисьих лапках бегать! Запнулся за валежину, упал и глаза закрыл. «Ну, — думает, — сейчас мне конец будет!»
Однако слышит — зовет его лиса:
— Эй, сосед, где ты?
— Здесь я, — говорит лось. — Это ты, что ли, в тайге шумела?
— Я, — говорит лиса. — Беда мне с твоими ногами! Хотела тихо пройти, а ноги твои ломают сучки, топают, стучат. Чуть не пропала я с ними!
— И мне, — говорит лось, — с твоими ногами беда: маленькие они, слабые… Давай, соседка, опять меняться!
Вот обменялись они ногами.
Топнул лось своими копытами о землю: хорошо!
— Здорово это, — говорит, — устроено, что лось на копытах ходит! Ноги крепкие, копыта твердые!
Пробежалась лисица на своих лапках: хорошо! Лапки легкие, когти острые, походка неслышная.
Отвечает лиса лосю:
— Да, правда! Хорошо это устроено, что у лисы маленькие лапки с острыми когтями.
Попрощались они и в разные стороны пошли.
С тех пор звери ногами не меняются.

Никанская невеста
 Если сам плохой — от других добра не жди…
Жил на Амуре нивх Солодо́ Хоинга́. Богатый был человек. Двадцать упряжек собачьих имел. Десять ангаза — бедняков — для него рыбу в реке неводили. Десять невольников — маньчжу́ — за его хозяйством следили, из тальника веревки вили, из крапивы сетки делали. Десять никанских девушек-невольниц ковры для Солодо вышивали, халаты шили, пищу готовили, ягоды собирали. Десять амбаров его добро хранили.
Жадный был Солодо! Много добра у него было, а ему все больше хотелось. Жадность — что река: чем дальше, тем шире. Ходит Солодо, вокруг посматривает: что бы еще к рукам прибрать? Вещи свои с места на место перекладывает, перебирает — любуется, радуется.
Был у Солодо сын — Алюмка́. Парень — нельзя сказать красивый: вся красота его была в богатстве отца. Парень — нельзя сказать умный: весь ум его в отцовском добре был. Но Солодо говорил: «Ничего, что у Алюмки кое-чего не хватает, зато амбары полны, проживет как-нибудь!»
Пришло время Алюмке жениться.
Мать из собачьего волоса с крапивой колечко сплела, чтобы на руку невесте надеть. Стали Алюмке невесту искать. Выкуп хороший приготовили. А Алюмка гордится тем, что выкуп богатый, важничает… Все невесты ему нехороши!
Вот одну ему показали.
— Глаза у нее, — говорит Алюмка, — некрасивые!
Говорят ему люди:
— Что ты девушку обижаешь? Это у тебя глаза в разные стороны смотрят. Оттого ты невесту рассмотреть не можешь.
Солодо на людей рукой машет.
— Мой сын богатый, — говорит, — ему красота не нужна! А глаза у него в разные стороны глядят — это хорошо! Он одним глазом за домом смотрит, а другим — на реку, хорошо ли ангаза работают…
Про другую невесту сказал Алюмка, что у нее руки коротки.
Говорят ему люди:
— Что ты девушку обижаешь? Посмотри на себя: у тебя самого одна рука короче другой!
Опять Солодо за сына вступается:
— Что у Алюмки руки неодинаковые — не беда: он малой рукой малые деньги собирает, большой — большие. У Алюмки мимо рук никакие деньги не пройдут!
И третья девушка не понравилась Алюмке.
— Хромая она! — говорит.
— Что ты девушку обижаешь? Это у тебя ноги колесом, между ними собака пробежит.
Солодо сына гладит:
— На что Алюмке ноги прямые? Ему в тайгу не ходить — вы ему зверя принесете. Ему на реку не ходить — работники рыбы наловят. Хозяйские ноги у моего сына: калачиком, чтобы было удобнее сидеть, с купцами никанскими разговаривать…
Ходят, невест смотрят. Еще им одну девушку показали. Фыркает Алюмка, губы надул.
— Она дура! — говорит.
Посмотрели люди на Солодо, на Алюмку. Промолчали, чтобы отца не обидеть.
Еще одну девушку Алюмке показали.
Тут у парня язык к нёбу прилип.
Кожа у девушки белая, как кора молодой березы. Коса до колен. Волосы черные, как ночь, мягкие да блестящие. Лицом девушка прекрасная. Голову, набок склонив, ходит, улыбаясь ходит. Зубы — как снег на соболевке.
Кое-как рот раскрыв, Алюмка говорит:
— Подумать надо! Может быть, я этой девушке руку дам.
Но тут Солодо нахмурился.
— Что это за невеста! — говорит. — За ней приданого одни кости дают. В мой дом только богатая невеста войдет!
Не нашлось Алюмке невесты среди нивхов.
Если сам плохой — от других добра не жди…
Жил на Амуре нивх Солодо́ Хоинга́. Богатый был человек. Двадцать упряжек собачьих имел. Десять ангаза — бедняков — для него рыбу в реке неводили. Десять невольников — маньчжу́ — за его хозяйством следили, из тальника веревки вили, из крапивы сетки делали. Десять никанских девушек-невольниц ковры для Солодо вышивали, халаты шили, пищу готовили, ягоды собирали. Десять амбаров его добро хранили.
Жадный был Солодо! Много добра у него было, а ему все больше хотелось. Жадность — что река: чем дальше, тем шире. Ходит Солодо, вокруг посматривает: что бы еще к рукам прибрать? Вещи свои с места на место перекладывает, перебирает — любуется, радуется.
Был у Солодо сын — Алюмка́. Парень — нельзя сказать красивый: вся красота его была в богатстве отца. Парень — нельзя сказать умный: весь ум его в отцовском добре был. Но Солодо говорил: «Ничего, что у Алюмки кое-чего не хватает, зато амбары полны, проживет как-нибудь!»
Пришло время Алюмке жениться.
Мать из собачьего волоса с крапивой колечко сплела, чтобы на руку невесте надеть. Стали Алюмке невесту искать. Выкуп хороший приготовили. А Алюмка гордится тем, что выкуп богатый, важничает… Все невесты ему нехороши!
Вот одну ему показали.
— Глаза у нее, — говорит Алюмка, — некрасивые!
Говорят ему люди:
— Что ты девушку обижаешь? Это у тебя глаза в разные стороны смотрят. Оттого ты невесту рассмотреть не можешь.
Солодо на людей рукой машет.
— Мой сын богатый, — говорит, — ему красота не нужна! А глаза у него в разные стороны глядят — это хорошо! Он одним глазом за домом смотрит, а другим — на реку, хорошо ли ангаза работают…
Про другую невесту сказал Алюмка, что у нее руки коротки.
Говорят ему люди:
— Что ты девушку обижаешь? Посмотри на себя: у тебя самого одна рука короче другой!
Опять Солодо за сына вступается:
— Что у Алюмки руки неодинаковые — не беда: он малой рукой малые деньги собирает, большой — большие. У Алюмки мимо рук никакие деньги не пройдут!
И третья девушка не понравилась Алюмке.
— Хромая она! — говорит.
— Что ты девушку обижаешь? Это у тебя ноги колесом, между ними собака пробежит.
Солодо сына гладит:
— На что Алюмке ноги прямые? Ему в тайгу не ходить — вы ему зверя принесете. Ему на реку не ходить — работники рыбы наловят. Хозяйские ноги у моего сына: калачиком, чтобы было удобнее сидеть, с купцами никанскими разговаривать…
Ходят, невест смотрят. Еще им одну девушку показали. Фыркает Алюмка, губы надул.
— Она дура! — говорит.
Посмотрели люди на Солодо, на Алюмку. Промолчали, чтобы отца не обидеть.
Еще одну девушку Алюмке показали.
Тут у парня язык к нёбу прилип.
Кожа у девушки белая, как кора молодой березы. Коса до колен. Волосы черные, как ночь, мягкие да блестящие. Лицом девушка прекрасная. Голову, набок склонив, ходит, улыбаясь ходит. Зубы — как снег на соболевке.
Кое-как рот раскрыв, Алюмка говорит:
— Подумать надо! Может быть, я этой девушке руку дам.
Но тут Солодо нахмурился.
— Что это за невеста! — говорит. — За ней приданого одни кости дают. В мой дом только богатая невеста войдет!
Не нашлось Алюмке невесты среди нивхов.
 Слыхал он, что на небе тоже люди живут, веселые люди живут: на землю воду льют, на землю снег кидают. Небесные женщины красивы да шаловливы. Иногда спускают они на землю удочки с золотыми крючками — простых людей ловят.
Думает Алюмка: «Я себе не простую невесту возьму. Я себе небесную женщину в жены возьму!» Ходит по деревне, вверх смотрит. Под ноги не глядит. Весь расшибся, падая.
Вот однажды радуга над деревней повисла.
Обрадовался Алюмка.
— Эгэ! — говорит. — Видно, с неба удочку спустили! Заберусь-ка я на дерево! За крючок схвачусь, дерну — небесную женщину с неба на землю стащу!
Живо он на столетнюю сосну взобрался: с кривыми ногами хорошо лазить. До вершины Алюмка добрался. На последний сучок верхом сел, смотрит, где золотой крючок болтается. А глаза у него в разные стороны смотрят: он один сучок с двух сторон видит. Тот сучок, на котором сидел, за небесный крючок принял. Как дернет изо всей силы! Сучок и переломился…
Полетел Алюмка на землю. Так ударился, что последнего ума лишился и искры у него из глаз посыпались.
— Эх! — говорит. — Плохо за крючок держался!
Видит отец, что пропадет Алюмка совсем, если еще раз с такого крючка сорвется, и придумал: ехать с сыном в Ника́нское царство за невестой. За никанскими невестами будто бы большое приданое дают.
За дальними сопками ягода слаще!
Собрался Солодо в Сан-Син. Собрал с собой сто соболей, сто выдр, сто белок, сто хорьков, сто черно-бурых лисиц, десять нерп да десять медведей. Еще ни за одну девушку в роду Хоинга никто такого выкупа не давал! Качают головами нивхи.
А Солодо твердит:
— За такой выкуп мы царскую дочь Алюмке возьмем!
Радуется Алюмка. Еще бы! Ни один нивх на царской дочери не женился!..
Поехали Хоинга за невестой.
По Амуру вверх поднялись. До того места доехали, где голубая вода Амура с желтой водой Су́нгари встречается. На Сунгари повернули, до Никанского царства доехали.
Долго ехали. Многих людей видели. И никанские люди к берегу выходили, на Солодо с сыном смотрели, пальцем показывали, словно диковину рассматривали. Плывет Алюмка, спрашивает отца: «Скоро ли?» Скоро только блоха прыгает… Намучился Солодо с сыном, пока до места добрался.
Тут их как почетных гостей встретили. «Зачем пожаловали?» — спрашивают. Сам амба́нь — начальник — к Солодо вышел. Толмача́ — переводчика — приставил к нивхам.
Говорит Солодо сыну:
— Видал, как встречают? Богатому — везде родня!
Несколько дней гостили отец с сыном. Ходит Алюмка по улицам, глазеет. Дома стоят высокие. Крыши чуть не до неба достают. На крышах — драконы каменные, пасти разинули, красные языки высунули. На улицах — народу множество. Шум такой — будто на котиковом лежбище. Продают, покупают, меняют.
Угощает амбань Солодо морскими червяками, соловьиными язычками, ласточкиными гнездами, мясом таким, что само во рту тает, лепешками такими, какие только, верно, на небе пекут. Ест Солодо. Давится от жадности: надо больше съесть, пока дают.
Говорит ему амбань:
— Невест вам самых лучших покажем!
— Вот, вот! — Солодо отвечает. — Нам самых хороших подавай! За такой выкуп царскую дочь нам надо! Потому и поехали!
Повел амбань невест показывать. Привел в большой дом. В том доме большая комната. В той комнате сто окон. В тех окнах по сто разноцветных стекол. В той комнате рядком невесты стоят, да столько, что у Солодо глаза разбежались. А Алюмке их вдвое больше кажется: он каждую невесту по отдельности каждым глазом видит. Стоят невесты, за каждой — раб стоит, за каждой — приданое горой навалено.
Солодо на рабов смотрит: который покрепче. А Алюмка на невест глаза таращит. Только кто их разберет, которая лучше: у всех лица под покрывалом.
Говорит Алюмка амбаню:
— Мне бы в лицо хоть одной посмотреть!
— Нельзя, — говорит амбань, — на царских дочерей смотреть — ослепнешь того и гляди!
— Хорошие все! — шепчет Солодо сыну, от жадности весь трясется. — Видишь, какое приданое!
Уже до конца ряда нивхи доходят, вдруг глядят: за одной невестой два раба стоят. Чуть не запрыгал от радости Солодо. Шипит сыну на ухо:
— Вот эту выбирай! Видно, из царских дочерей самая царская!..
Отдали Хоинга свой выкуп, невесту получили. Амбань им целый баркас двухмачтовый дал за невестой: шелков, чая, рису, муки на целый год. Рабы на руках невесту несут. «Наша госпожа, — говорят, — ногами не ходит. Такие у нее ножки маленькие, что на земле ее не держат!»
Солодо с наряда невесты глаз не сводит. Халат на ней, тканный золотыми драконами, на голове шляпа с бубенчиками, птичками, цветами: такая — не разберешь, где под ней голова помещается. На руках серебряные кольца гремят. В руках — веер из бамбуковых палочек и рисовой бумаги, золотом разрисованный. Как развернет его невеста Алюмки, так и скроется вся за ним! Хотел Алюмка на лицо своей суженой взглянуть, да невеста не дает покрывало снять.
Утешает его Солодо:
— Потерпи, Алюмка, до дома!
Поехали Хоинга домой.
Ехали, ехали по Сунгари, уже к Амуру подъезжать стали…
Напали тут на них разбойники — хунхузы. Бороды в красный цвет выкрашены. Копья в два роста длиной. Мечи у них в две ладони шириной. Как вороны на падаль, налетели они на баркас на своем черном сампане в сорок весел!
Все пограбили хунхузы у Солодо. Тот едва-едва умолил жизнь им оставить. Весь баркас очистили разбойники. А невеста Алюмки в своем богатом наряде сидит — не шелохнется. Подступились к ней хунхузы, окружили, покрывало подняли да как бросятся врассыпную! Вмиг с баркаса убрались. На свой черный сампан с желтым парусом сели — и след их простыл!
— Видно, чуть не ослепли от красоты царской дочери! — говорит Солодо сыну.
Вниз по течению скорей ехать, чем рассказывать. Быстро поплыли Солодо с сыном. Плывут, радуются тому, что хоть невесту хунхузы не взяли, тронуть не посмели.
В родное стойбищевернулись.
Хоть приданого и не привезли, зато никанскую красавицу в дом Алюмки ввели. Гости в дом набежали — невесту Алюмки смотреть. Открыл Алюмка покрывало. Поглядели нивхи — и кто куда! Последним из дома на карачках Солодо выполз.
Удивился Алюмка: куда нивхи разбежались? Стал жену рассматривать. Три дня рассматривал.
Изловчился, один глаз ладонью прикрыл, чтобы не мешал, глядит — жена-то ему в бабушки годится!
Вышел Алюмка из дома. Посидел, покурил. Слышит, вся деревня над ним хохочет: царскую дочь в жены взял!
— Ты куда ушел, муж мой? — кричит ему никанская девица.
— Пойду погуляю! — говорит Алюмка. — От красоты твоей глаза у меня заболели что-то!
Сел Алюмка в оморочку и уехал.
Куда уехал — кто знает! Двадцать собачьих упряжек посылал Солодо в разные стороны — сына искать. Не нашли.
Слыхал он, что на небе тоже люди живут, веселые люди живут: на землю воду льют, на землю снег кидают. Небесные женщины красивы да шаловливы. Иногда спускают они на землю удочки с золотыми крючками — простых людей ловят.
Думает Алюмка: «Я себе не простую невесту возьму. Я себе небесную женщину в жены возьму!» Ходит по деревне, вверх смотрит. Под ноги не глядит. Весь расшибся, падая.
Вот однажды радуга над деревней повисла.
Обрадовался Алюмка.
— Эгэ! — говорит. — Видно, с неба удочку спустили! Заберусь-ка я на дерево! За крючок схвачусь, дерну — небесную женщину с неба на землю стащу!
Живо он на столетнюю сосну взобрался: с кривыми ногами хорошо лазить. До вершины Алюмка добрался. На последний сучок верхом сел, смотрит, где золотой крючок болтается. А глаза у него в разные стороны смотрят: он один сучок с двух сторон видит. Тот сучок, на котором сидел, за небесный крючок принял. Как дернет изо всей силы! Сучок и переломился…
Полетел Алюмка на землю. Так ударился, что последнего ума лишился и искры у него из глаз посыпались.
— Эх! — говорит. — Плохо за крючок держался!
Видит отец, что пропадет Алюмка совсем, если еще раз с такого крючка сорвется, и придумал: ехать с сыном в Ника́нское царство за невестой. За никанскими невестами будто бы большое приданое дают.
За дальними сопками ягода слаще!
Собрался Солодо в Сан-Син. Собрал с собой сто соболей, сто выдр, сто белок, сто хорьков, сто черно-бурых лисиц, десять нерп да десять медведей. Еще ни за одну девушку в роду Хоинга никто такого выкупа не давал! Качают головами нивхи.
А Солодо твердит:
— За такой выкуп мы царскую дочь Алюмке возьмем!
Радуется Алюмка. Еще бы! Ни один нивх на царской дочери не женился!..
Поехали Хоинга за невестой.
По Амуру вверх поднялись. До того места доехали, где голубая вода Амура с желтой водой Су́нгари встречается. На Сунгари повернули, до Никанского царства доехали.
Долго ехали. Многих людей видели. И никанские люди к берегу выходили, на Солодо с сыном смотрели, пальцем показывали, словно диковину рассматривали. Плывет Алюмка, спрашивает отца: «Скоро ли?» Скоро только блоха прыгает… Намучился Солодо с сыном, пока до места добрался.
Тут их как почетных гостей встретили. «Зачем пожаловали?» — спрашивают. Сам амба́нь — начальник — к Солодо вышел. Толмача́ — переводчика — приставил к нивхам.
Говорит Солодо сыну:
— Видал, как встречают? Богатому — везде родня!
Несколько дней гостили отец с сыном. Ходит Алюмка по улицам, глазеет. Дома стоят высокие. Крыши чуть не до неба достают. На крышах — драконы каменные, пасти разинули, красные языки высунули. На улицах — народу множество. Шум такой — будто на котиковом лежбище. Продают, покупают, меняют.
Угощает амбань Солодо морскими червяками, соловьиными язычками, ласточкиными гнездами, мясом таким, что само во рту тает, лепешками такими, какие только, верно, на небе пекут. Ест Солодо. Давится от жадности: надо больше съесть, пока дают.
Говорит ему амбань:
— Невест вам самых лучших покажем!
— Вот, вот! — Солодо отвечает. — Нам самых хороших подавай! За такой выкуп царскую дочь нам надо! Потому и поехали!
Повел амбань невест показывать. Привел в большой дом. В том доме большая комната. В той комнате сто окон. В тех окнах по сто разноцветных стекол. В той комнате рядком невесты стоят, да столько, что у Солодо глаза разбежались. А Алюмке их вдвое больше кажется: он каждую невесту по отдельности каждым глазом видит. Стоят невесты, за каждой — раб стоит, за каждой — приданое горой навалено.
Солодо на рабов смотрит: который покрепче. А Алюмка на невест глаза таращит. Только кто их разберет, которая лучше: у всех лица под покрывалом.
Говорит Алюмка амбаню:
— Мне бы в лицо хоть одной посмотреть!
— Нельзя, — говорит амбань, — на царских дочерей смотреть — ослепнешь того и гляди!
— Хорошие все! — шепчет Солодо сыну, от жадности весь трясется. — Видишь, какое приданое!
Уже до конца ряда нивхи доходят, вдруг глядят: за одной невестой два раба стоят. Чуть не запрыгал от радости Солодо. Шипит сыну на ухо:
— Вот эту выбирай! Видно, из царских дочерей самая царская!..
Отдали Хоинга свой выкуп, невесту получили. Амбань им целый баркас двухмачтовый дал за невестой: шелков, чая, рису, муки на целый год. Рабы на руках невесту несут. «Наша госпожа, — говорят, — ногами не ходит. Такие у нее ножки маленькие, что на земле ее не держат!»
Солодо с наряда невесты глаз не сводит. Халат на ней, тканный золотыми драконами, на голове шляпа с бубенчиками, птичками, цветами: такая — не разберешь, где под ней голова помещается. На руках серебряные кольца гремят. В руках — веер из бамбуковых палочек и рисовой бумаги, золотом разрисованный. Как развернет его невеста Алюмки, так и скроется вся за ним! Хотел Алюмка на лицо своей суженой взглянуть, да невеста не дает покрывало снять.
Утешает его Солодо:
— Потерпи, Алюмка, до дома!
Поехали Хоинга домой.
Ехали, ехали по Сунгари, уже к Амуру подъезжать стали…
Напали тут на них разбойники — хунхузы. Бороды в красный цвет выкрашены. Копья в два роста длиной. Мечи у них в две ладони шириной. Как вороны на падаль, налетели они на баркас на своем черном сампане в сорок весел!
Все пограбили хунхузы у Солодо. Тот едва-едва умолил жизнь им оставить. Весь баркас очистили разбойники. А невеста Алюмки в своем богатом наряде сидит — не шелохнется. Подступились к ней хунхузы, окружили, покрывало подняли да как бросятся врассыпную! Вмиг с баркаса убрались. На свой черный сампан с желтым парусом сели — и след их простыл!
— Видно, чуть не ослепли от красоты царской дочери! — говорит Солодо сыну.
Вниз по течению скорей ехать, чем рассказывать. Быстро поплыли Солодо с сыном. Плывут, радуются тому, что хоть невесту хунхузы не взяли, тронуть не посмели.
В родное стойбищевернулись.
Хоть приданого и не привезли, зато никанскую красавицу в дом Алюмки ввели. Гости в дом набежали — невесту Алюмки смотреть. Открыл Алюмка покрывало. Поглядели нивхи — и кто куда! Последним из дома на карачках Солодо выполз.
Удивился Алюмка: куда нивхи разбежались? Стал жену рассматривать. Три дня рассматривал.
Изловчился, один глаз ладонью прикрыл, чтобы не мешал, глядит — жена-то ему в бабушки годится!
Вышел Алюмка из дома. Посидел, покурил. Слышит, вся деревня над ним хохочет: царскую дочь в жены взял!
— Ты куда ушел, муж мой? — кричит ему никанская девица.
— Пойду погуляю! — говорит Алюмка. — От красоты твоей глаза у меня заболели что-то!
Сел Алюмка в оморочку и уехал.
Куда уехал — кто знает! Двадцать собачьих упряжек посылал Солодо в разные стороны — сына искать. Не нашли.

Как медведь оленеводом был
 Паслось как-то на луговине стадо оленей. Напал на стадо тигр. Отбил нескольких оленей и погнал в тайгу. Одного разорвал, а другие от страха убежали. К стаду уже и дороги найти не могли. И стали они сами по себе пастись.
Повстречал этих оленей медведь.
Был медведь уже старый, охотился плохо; сколько ел — не знаю, а бока у него ввалились и шерсть клочьями взъерошилась.
Увидал медведь оленей и подумал про себя: «Вот удача мне привалила! Заберу я оленей. Оленеводом стану, как люди бывают. Олени приплод давать будут. Мяса мне на всю жизнь хватит. А пасти оленей — велика ли хитрость!»
Обрадовался медведь. Согнал оленей в одно место, к своей берлоге поближе. Сам сел возле, довольный, к оленям присматривается — которого на первый случай зарезать.
Видят олени — не трогает их медведь, стали пастись. Стали мох искать: ходят, головы к земле наклоняют. Смотрит медведь, понять не может — что такое олени делают? Будто слушают что-то… Струхнул медведь, испугался: может, олени слушают, не идет ли хозяин?
Подошел медведь к одному оленю, спрашивает:
— Ты что слушаешь?
Молчит олень, не отвечает. У другого медведь спросил, и тот посмотрел на медведя и тоже промолчал. Смешно оленям: захотел медведь оленеводом стать, а сам не знает, что олени едят!
Бегал, бегал медведь от одного оленя к другому, запыхался даже. Говорит сам себе:
— А тяжелая это работа!
Пока олени весь мох не съели, около той берлоги паслись. Мох съели — стали дальше отходить. Опять медведя страх взял: этак могут олени и совсем уйти. Не знал медведь, что человек за оленями кочует. Стал медведь своих оленей назад загонять. Пока одного к берлоге своей загонит, другой убежит мох искать — из виду скроется.
Совсем выбился медведь из сил, не может оленей обратно повернуть. Пришлось ему за оленями идти. Идет медведь, оглядывается — жалко ему теплую берлогу, старую берлогу жаль! Но и оленей потерять не хочется. Вздыхает, да идет, от берлоги все дальше и дальше…
Паслось как-то на луговине стадо оленей. Напал на стадо тигр. Отбил нескольких оленей и погнал в тайгу. Одного разорвал, а другие от страха убежали. К стаду уже и дороги найти не могли. И стали они сами по себе пастись.
Повстречал этих оленей медведь.
Был медведь уже старый, охотился плохо; сколько ел — не знаю, а бока у него ввалились и шерсть клочьями взъерошилась.
Увидал медведь оленей и подумал про себя: «Вот удача мне привалила! Заберу я оленей. Оленеводом стану, как люди бывают. Олени приплод давать будут. Мяса мне на всю жизнь хватит. А пасти оленей — велика ли хитрость!»
Обрадовался медведь. Согнал оленей в одно место, к своей берлоге поближе. Сам сел возле, довольный, к оленям присматривается — которого на первый случай зарезать.
Видят олени — не трогает их медведь, стали пастись. Стали мох искать: ходят, головы к земле наклоняют. Смотрит медведь, понять не может — что такое олени делают? Будто слушают что-то… Струхнул медведь, испугался: может, олени слушают, не идет ли хозяин?
Подошел медведь к одному оленю, спрашивает:
— Ты что слушаешь?
Молчит олень, не отвечает. У другого медведь спросил, и тот посмотрел на медведя и тоже промолчал. Смешно оленям: захотел медведь оленеводом стать, а сам не знает, что олени едят!
Бегал, бегал медведь от одного оленя к другому, запыхался даже. Говорит сам себе:
— А тяжелая это работа!
Пока олени весь мох не съели, около той берлоги паслись. Мох съели — стали дальше отходить. Опять медведя страх взял: этак могут олени и совсем уйти. Не знал медведь, что человек за оленями кочует. Стал медведь своих оленей назад загонять. Пока одного к берлоге своей загонит, другой убежит мох искать — из виду скроется.
Совсем выбился медведь из сил, не может оленей обратно повернуть. Пришлось ему за оленями идти. Идет медведь, оглядывается — жалко ему теплую берлогу, старую берлогу жаль! Но и оленей потерять не хочется. Вздыхает, да идет, от берлоги все дальше и дальше…
 — Ох, — говорит он, — трудное это дело — оленей пасти! Кабы знал, ни за что бы не взялся!
Далеко медведь от берлоги откочевал.
Тут попались ему навстречу волк с лисой.
— Здравствуй! — говорят. — Что ты делаешь тут?
— Да вот, — говорит медведь, — оленеводом стал.
Лиса хвостом завиляла, головой закивала.
— Давно пора, — говорит. — Мы с соседом-волком давно оленями обзавелись. Сейчас хорошо живем. Оленье мясо едим.
— Только замучился я с оленями, — говорит медведь.
— Это с непривычки, — отвечает лиса. — Бедный ты, бедный, сосед! С непривычки очень трудно. Не знаю, как ты зимой будешь пасти своих оленей…
Призадумался медведь: это верно — как же ему зимой-то с оленями быть? Ведь зимой его на спячку потянет, а коли он уснет — уйдут олени. Где их тогда искать?
Говорит он лисе и волку:
— Помогите мне оленей упасти́!
А лиса хитрая была. Для виду призадумалась, а у самой одна дума — как бы медведя одурачить. Говорит она медведю:
— Ох, не знаю я, как с тобой быть! Не справимся мы. Очень трудно. Но друг другу помогать надо. Давай твоих оленей. Весной придешь — обратно возьмешь.
Погнали лиса с волком оленей в тайгу.
А медведь пустился плясать, радуется. Говорит себе: «Вот обманул я этих дураков! Всю зиму будут они за рогачами гоняться. А я весной и летом буду сыт: все мясо мне достанется!» Побежал медведь в берлогу. На зиму залег.
Отогнали лиса с волком стадо подальше в лес. Перерезал волк оленей. Целую зиму два обманщика были сыты.
Лежит медведь в берлоге, лапу сосет. Во сне оленей видит: ходят жирные-прежирные, сало с них на землю каплет. «Ох и поем я мяска весной!» — думает медведь. Чем сильней у него с голодухи в животе бурчит, тем жирней ему олени снятся.
Вот весна пришла. Солнышко снег растопило. Ручьи по земле побежали, стали деревья почки набирать. Очнулся медведь от своей спячки, из берлоги вылез. Идет по тайге, от слабости шатается: бока у него ввалились, шерсть колтуном свалялась.
Приходит косолапый к лисе с волком. А те за зиму откормились, гладкие да толстые стали. Выбежала лиса навстречу, суетится, словно от радости не знает, куда дорогого гостя посадить, без умолку говорит, медведю рот не дает раскрыть.
Спрашивает ее медведь:
— Ну, где мои олени, соседка?
Запричитала лиса, лапками замахала:
— Беда с твоими оленями, сосед: все стадо пропало!
— Как — пропало? — говорит медведь, разинув рот.
— Убежало, — отвечает лиса.
— Как так — убежало? — рассердился медведь.
— А вот так, убежало — и конец! Уж если хозяин не мог оленей упасти, если сам ты справиться с ними не мог, так мы и подавно не могли твоих оленей упасти!
— Где же ваши-то олени? — спрашивает медведь, а сам вокруг смотрит: видит — валяются везде оленьи черепа да кости.
Еще пуще запричитала лиса, слезу пустила да волка под бок так ткнула, что и тот от боли заревел.
— И с нашими оленями беда случилась! — плачет-разливается лиса. — Не уберегли мы и свое стадо! Наших оленей, сосед, моль поела!
— Как — моль? — спрашивает медведь.
— А вот так: как напала моль на оленей — ведь у них мех густой! — да как принялась поедать оленей, мы и глазом моргнуть не успели, как всего своего богатства лишились… — Глядит лиса на оленьи кости и в голос ревет: — Ах, мои милые! Да какие вы были хорошие! Да как любила я вас, мои милые!
Жалко стало медведю лису. Утешать ее стал:
— Не плачь, соседка, то ли еще бывает!.. — Почесал он в затылке, подумал. — Ничего, — говорит, — не поделаешь, если моль съела. Видно, не быть мне оленеводом, соседка. Никогда больше не стану оленей держать!
И поплелся медведь в тайгу.
С тех пор к оленям и не подходит!
— Ох, — говорит он, — трудное это дело — оленей пасти! Кабы знал, ни за что бы не взялся!
Далеко медведь от берлоги откочевал.
Тут попались ему навстречу волк с лисой.
— Здравствуй! — говорят. — Что ты делаешь тут?
— Да вот, — говорит медведь, — оленеводом стал.
Лиса хвостом завиляла, головой закивала.
— Давно пора, — говорит. — Мы с соседом-волком давно оленями обзавелись. Сейчас хорошо живем. Оленье мясо едим.
— Только замучился я с оленями, — говорит медведь.
— Это с непривычки, — отвечает лиса. — Бедный ты, бедный, сосед! С непривычки очень трудно. Не знаю, как ты зимой будешь пасти своих оленей…
Призадумался медведь: это верно — как же ему зимой-то с оленями быть? Ведь зимой его на спячку потянет, а коли он уснет — уйдут олени. Где их тогда искать?
Говорит он лисе и волку:
— Помогите мне оленей упасти́!
А лиса хитрая была. Для виду призадумалась, а у самой одна дума — как бы медведя одурачить. Говорит она медведю:
— Ох, не знаю я, как с тобой быть! Не справимся мы. Очень трудно. Но друг другу помогать надо. Давай твоих оленей. Весной придешь — обратно возьмешь.
Погнали лиса с волком оленей в тайгу.
А медведь пустился плясать, радуется. Говорит себе: «Вот обманул я этих дураков! Всю зиму будут они за рогачами гоняться. А я весной и летом буду сыт: все мясо мне достанется!» Побежал медведь в берлогу. На зиму залег.
Отогнали лиса с волком стадо подальше в лес. Перерезал волк оленей. Целую зиму два обманщика были сыты.
Лежит медведь в берлоге, лапу сосет. Во сне оленей видит: ходят жирные-прежирные, сало с них на землю каплет. «Ох и поем я мяска весной!» — думает медведь. Чем сильней у него с голодухи в животе бурчит, тем жирней ему олени снятся.
Вот весна пришла. Солнышко снег растопило. Ручьи по земле побежали, стали деревья почки набирать. Очнулся медведь от своей спячки, из берлоги вылез. Идет по тайге, от слабости шатается: бока у него ввалились, шерсть колтуном свалялась.
Приходит косолапый к лисе с волком. А те за зиму откормились, гладкие да толстые стали. Выбежала лиса навстречу, суетится, словно от радости не знает, куда дорогого гостя посадить, без умолку говорит, медведю рот не дает раскрыть.
Спрашивает ее медведь:
— Ну, где мои олени, соседка?
Запричитала лиса, лапками замахала:
— Беда с твоими оленями, сосед: все стадо пропало!
— Как — пропало? — говорит медведь, разинув рот.
— Убежало, — отвечает лиса.
— Как так — убежало? — рассердился медведь.
— А вот так, убежало — и конец! Уж если хозяин не мог оленей упасти, если сам ты справиться с ними не мог, так мы и подавно не могли твоих оленей упасти!
— Где же ваши-то олени? — спрашивает медведь, а сам вокруг смотрит: видит — валяются везде оленьи черепа да кости.
Еще пуще запричитала лиса, слезу пустила да волка под бок так ткнула, что и тот от боли заревел.
— И с нашими оленями беда случилась! — плачет-разливается лиса. — Не уберегли мы и свое стадо! Наших оленей, сосед, моль поела!
— Как — моль? — спрашивает медведь.
— А вот так: как напала моль на оленей — ведь у них мех густой! — да как принялась поедать оленей, мы и глазом моргнуть не успели, как всего своего богатства лишились… — Глядит лиса на оленьи кости и в голос ревет: — Ах, мои милые! Да какие вы были хорошие! Да как любила я вас, мои милые!
Жалко стало медведю лису. Утешать ее стал:
— Не плачь, соседка, то ли еще бывает!.. — Почесал он в затылке, подумал. — Ничего, — говорит, — не поделаешь, если моль съела. Видно, не быть мне оленеводом, соседка. Никогда больше не стану оленей держать!
И поплелся медведь в тайгу.
С тех пор к оленям и не подходит!

Недобрая Ладо
 Очень давно это было. С тех пор столько времени прошло, что где река текла — там сопки стоят, где камни лежали — там теперь леса выросли.
У охотника Чумдага́ из рода Дунгу́ родилась дочка.
У Чумдаги давно не было детей. Очень хотелось Чумдаге сына иметь, но он и дочке был рад. А мать от радости просто не знала, куда деваться.
Дали дочке хорошее имя — Ладо́.
Делали старики все для того, чтобы дочка их выросла хорошей, красивой да счастливой. Мать целый год не звала дочку по имени, чтобы злые черти не узнали о рождении дочери у Чумдаги. Называла мать дочку: «моя хорошая», «моя дорогая». Повесила мать над колыбелью дочери мафа́ гарани́ — медвежий клык, — чтобы злых чертей отпугивать. Чтобы не плакала дочь, повесила мать над колыбелью оксару — птицу из древесного трута, — берестяные серьги, петушиные лапки да мукчу́ри — горбатую деревянную старушку, — чтобы сны хорошие дочери снились. Своим молоком дочку умывала. Подушку из гагачьего пуха сделала. Перинку — из кукушкиных перьев.
И выросла Ладо красавица красавицей.
Лицо у нее широкое, белое, как полная луна; глазки, как черная смородина; щеки розовые, как багу́льник весной; губы, как спелая малина; стройная Ладо выросла, как цветок сараны. Вот какая красивая!..
Глядели старики на дочь и нарадоваться не могли.
Одно только плохо получилось: ничего Ладо делать не умела. Не хотела мать, чтобы у Ладо были руки грубые: огонь дочь не разводила, дров не рубила, рыбу острогой не била, весла в руках не держала, шкурок не выделывала Ладо. Не хотела мать, чтобы у дочери глаза покраснели от работы: не вышивала дочь халатов шелками, не сшивала шкурок, не подбирала олений волос для вышивки. До того дошло, что Ладо даже теста замесить не умела, не умела лепешек испечь. Ничего Ладо делать не умела.
Ходит Ладо по деревне — стройная да легкая. Парни от нее глаз отвести не могут. Смотрят парни на красавицу Ладо, головой качают, а подступиться не смеют.
Посватался к Ладо один парень. Не было в деревне охотника лучше его. Когда звери встречались с ним — плакали, зная, что от него не уйти. Посватался парень, а Ладо надулась, нос в сторону воротит:
— Отойди от меня ты, зверем пахнущий! Как буду с тобой жить? О твои шкуры все руки исколю…
Посватался к Ладо другой. Не было в деревне рыбака лучше его: одной острогой сразу десять рыб бил парень, зимой сквозь лед видел, в какой яме рыба хоронится. Посватался парень, а Ладо от него совсем отвернулась, нос пальцами зажала:
— Отойди от меня ты, рыбой пахнущий! Как с тобой буду жить? Вечно мокрая ходить буду…
Посватался к Ладо третий парень. Лучшая упряжка была у него: собачки, как ветер, быстрые. С его упряжкой никто спорить не мог. Посватался к Ладо парень, а она на него и не взглянула. Только показался парень на пороге — замахала Ладо руками, носом в подушку уткнулась:
— Отойди от меня ты, собакой пахнущий! Как с таким жить буду? Твоих собак кормя, все ноги свои истопчу…
Отступились от Ладо женихи. Говорят:
— Зачем попрекаешь нас работой! Нехорошо…
Послушала мать. Тоже говорит дочери:
— Нехорошо ты людей встречаешь, обижаешь людей зря!
Рассердилась Ладо на мать, замахала руками, покраснела от злости, закричала:
— Знаю я, что вы давно хотите от меня избавиться!
— Что ты, дочка, — говорит мать, — живи как хочешь. Всю жизнь с нами живи.
Успокоила дочку; замолчала Ладо.
Очень давно это было. С тех пор столько времени прошло, что где река текла — там сопки стоят, где камни лежали — там теперь леса выросли.
У охотника Чумдага́ из рода Дунгу́ родилась дочка.
У Чумдаги давно не было детей. Очень хотелось Чумдаге сына иметь, но он и дочке был рад. А мать от радости просто не знала, куда деваться.
Дали дочке хорошее имя — Ладо́.
Делали старики все для того, чтобы дочка их выросла хорошей, красивой да счастливой. Мать целый год не звала дочку по имени, чтобы злые черти не узнали о рождении дочери у Чумдаги. Называла мать дочку: «моя хорошая», «моя дорогая». Повесила мать над колыбелью дочери мафа́ гарани́ — медвежий клык, — чтобы злых чертей отпугивать. Чтобы не плакала дочь, повесила мать над колыбелью оксару — птицу из древесного трута, — берестяные серьги, петушиные лапки да мукчу́ри — горбатую деревянную старушку, — чтобы сны хорошие дочери снились. Своим молоком дочку умывала. Подушку из гагачьего пуха сделала. Перинку — из кукушкиных перьев.
И выросла Ладо красавица красавицей.
Лицо у нее широкое, белое, как полная луна; глазки, как черная смородина; щеки розовые, как багу́льник весной; губы, как спелая малина; стройная Ладо выросла, как цветок сараны. Вот какая красивая!..
Глядели старики на дочь и нарадоваться не могли.
Одно только плохо получилось: ничего Ладо делать не умела. Не хотела мать, чтобы у Ладо были руки грубые: огонь дочь не разводила, дров не рубила, рыбу острогой не била, весла в руках не держала, шкурок не выделывала Ладо. Не хотела мать, чтобы у дочери глаза покраснели от работы: не вышивала дочь халатов шелками, не сшивала шкурок, не подбирала олений волос для вышивки. До того дошло, что Ладо даже теста замесить не умела, не умела лепешек испечь. Ничего Ладо делать не умела.
Ходит Ладо по деревне — стройная да легкая. Парни от нее глаз отвести не могут. Смотрят парни на красавицу Ладо, головой качают, а подступиться не смеют.
Посватался к Ладо один парень. Не было в деревне охотника лучше его. Когда звери встречались с ним — плакали, зная, что от него не уйти. Посватался парень, а Ладо надулась, нос в сторону воротит:
— Отойди от меня ты, зверем пахнущий! Как буду с тобой жить? О твои шкуры все руки исколю…
Посватался к Ладо другой. Не было в деревне рыбака лучше его: одной острогой сразу десять рыб бил парень, зимой сквозь лед видел, в какой яме рыба хоронится. Посватался парень, а Ладо от него совсем отвернулась, нос пальцами зажала:
— Отойди от меня ты, рыбой пахнущий! Как с тобой буду жить? Вечно мокрая ходить буду…
Посватался к Ладо третий парень. Лучшая упряжка была у него: собачки, как ветер, быстрые. С его упряжкой никто спорить не мог. Посватался к Ладо парень, а она на него и не взглянула. Только показался парень на пороге — замахала Ладо руками, носом в подушку уткнулась:
— Отойди от меня ты, собакой пахнущий! Как с таким жить буду? Твоих собак кормя, все ноги свои истопчу…
Отступились от Ладо женихи. Говорят:
— Зачем попрекаешь нас работой! Нехорошо…
Послушала мать. Тоже говорит дочери:
— Нехорошо ты людей встречаешь, обижаешь людей зря!
Рассердилась Ладо на мать, замахала руками, покраснела от злости, закричала:
— Знаю я, что вы давно хотите от меня избавиться!
— Что ты, дочка, — говорит мать, — живи как хочешь. Всю жизнь с нами живи.
Успокоила дочку; замолчала Ладо.
 Только — кто с горы катится, тот с собой и камни скатывает; прогнала Ладо женихов, а потом и родители ей не милы стали. Дуется Ладо: почему на матери некрасивый халат надет, почему отец мокрый с рыбной ловли пришел? Все не по ней.
Подала ей мать кашу.
— Почему твердая? — кричит дочка.
Подала мать рыбу.
— Почему вялая? — топает ногами Ладо.
Подала ей мать мясо.
— Почему жесткое? — опять кричит дочь.
Поставила мать лепешки на стол.
— Почему горькие? — плюется красавица Ладо.
Заплакала мать: никак дочери не угодишь! Позвала соседских ребят и отдала им лепешки.
Съели ребята лепешки, хвалят:
— Ой, мать, какие лепешки вкусные, да мягкие, да сладкие!
Тут совсем разозлилась Ладо. Оттолкнула мать, затопала ногами, закричала, выскочила из дома. Оглянулась вокруг — все ей нехорошим кажется: и грязно, и дымно, и люди некрасивые. Посмотрела вверх, видит — лебеди летят. Перья на них, будто чистый снег, блестят. Летят лебеди неведомо куда, от зимы улетают.
Закричала тут Ладо:
— Через спину перекачусь, заплачу, белым лебедем стану! С лебедями полечу в незнаемые края, чистых людей искать буду! Другую мать найду!
Через спину перекатилась. Белоснежными перьями покрылась, в воздух поднялась на лебединых крыльях, полетела.
Заплакала мать, закричала, дочь свою звать стала. Даже не оглянулась недобрая Ладо на мать.
Подлетела Ладо к косяку лебедей.
Спрашивают ее:
— Откуда ты, новая сестра?
Отвечает Ладо:
— Чистых людей, рыбой не пахнущих, искать с вами полечу! В незнаемых краях другую мать поищу!
Не расступились лебеди, в стаю не пустили Ладо.
Захлопал крыльями вожак, говорит:
— Как можно другую мать найти? У человека только одна мать. Другой — нету!
Не приняли лебеди Ладо. Полетела она в одиночку. Летит — на мать злится, на лебедей злится: «В другое место прилечу! Такое найду, где люди рыбой не пахнут, где люди зверем не пахнут, где люди собакой не пахнут, — чистое место найду. Мать другую себе найду!»
Улетели лебеди. Улетела и Ладо.
Долго плакала мать, дочку потерявши.
…Вот деревья лист уронили. Заяц белую шубу надел. Змеи в камнях уснули. Медведь в берлогу залег. Охотники соболевать ушли. Водяной Хозяин от холода реку ледяной крышей укрыл.
А мать все плачет, все в ту сторону смотрит, куда Ладо улетела.
…Вот дороги черные стали. Медведь сосать лапу перестал. Белки все орехи приели. На лыжах ка́мус мокрый стал. Из заморских краев пеночка прилетела.
А мать все плачет, все на небо смотрит, все в ту сторону смотрит, куда Ладо улетела. Все в небо мать смотрит, даже про огонь в очаге забывать стала. Стал огонь гаснуть и погас совсем. Ушел огонь из дома. Ушла жизнь из дома. Умерла мать Ладо.
…Вот теплый ветер из Никанского царства подул. Из старой травы молодая травка зеленую стрелку пустила. Водяной Хозяин с реки ледяную крышу снял. Медведь из берлоги вышел. Заяц свою белую шубу в лесу потерял. Деревья почки набрали. Перелетные птицы на старые места прилетели.
Прилетели и лебеди из далеких стран.
Прилетела и Ладо. Видно, не нашла себе другой матери. Стала кружить над своей деревней. Над домом своим летать стала. Кричит, зовет свою мать:
— Через спину перекачусь, заплачу, опять девушкой стану! Старую мать свою обниму, слезы ее утру…
Никто не выходит из дома. Вьется Ладо в небе, плачет. Не может девушкой обернуться…
Целое лето летала над родной деревней Ладо — все ждала, когда мать из дома выйдет, ее встретит. Так и не дождалась. Когда холодный ветер с Амура повеял, улетела Ладо в теплые края.
С тех пор каждую весну прилетает она, кричит, мать свою зовет — и не дозовется.
Только — кто с горы катится, тот с собой и камни скатывает; прогнала Ладо женихов, а потом и родители ей не милы стали. Дуется Ладо: почему на матери некрасивый халат надет, почему отец мокрый с рыбной ловли пришел? Все не по ней.
Подала ей мать кашу.
— Почему твердая? — кричит дочка.
Подала мать рыбу.
— Почему вялая? — топает ногами Ладо.
Подала ей мать мясо.
— Почему жесткое? — опять кричит дочь.
Поставила мать лепешки на стол.
— Почему горькие? — плюется красавица Ладо.
Заплакала мать: никак дочери не угодишь! Позвала соседских ребят и отдала им лепешки.
Съели ребята лепешки, хвалят:
— Ой, мать, какие лепешки вкусные, да мягкие, да сладкие!
Тут совсем разозлилась Ладо. Оттолкнула мать, затопала ногами, закричала, выскочила из дома. Оглянулась вокруг — все ей нехорошим кажется: и грязно, и дымно, и люди некрасивые. Посмотрела вверх, видит — лебеди летят. Перья на них, будто чистый снег, блестят. Летят лебеди неведомо куда, от зимы улетают.
Закричала тут Ладо:
— Через спину перекачусь, заплачу, белым лебедем стану! С лебедями полечу в незнаемые края, чистых людей искать буду! Другую мать найду!
Через спину перекатилась. Белоснежными перьями покрылась, в воздух поднялась на лебединых крыльях, полетела.
Заплакала мать, закричала, дочь свою звать стала. Даже не оглянулась недобрая Ладо на мать.
Подлетела Ладо к косяку лебедей.
Спрашивают ее:
— Откуда ты, новая сестра?
Отвечает Ладо:
— Чистых людей, рыбой не пахнущих, искать с вами полечу! В незнаемых краях другую мать поищу!
Не расступились лебеди, в стаю не пустили Ладо.
Захлопал крыльями вожак, говорит:
— Как можно другую мать найти? У человека только одна мать. Другой — нету!
Не приняли лебеди Ладо. Полетела она в одиночку. Летит — на мать злится, на лебедей злится: «В другое место прилечу! Такое найду, где люди рыбой не пахнут, где люди зверем не пахнут, где люди собакой не пахнут, — чистое место найду. Мать другую себе найду!»
Улетели лебеди. Улетела и Ладо.
Долго плакала мать, дочку потерявши.
…Вот деревья лист уронили. Заяц белую шубу надел. Змеи в камнях уснули. Медведь в берлогу залег. Охотники соболевать ушли. Водяной Хозяин от холода реку ледяной крышей укрыл.
А мать все плачет, все в ту сторону смотрит, куда Ладо улетела.
…Вот дороги черные стали. Медведь сосать лапу перестал. Белки все орехи приели. На лыжах ка́мус мокрый стал. Из заморских краев пеночка прилетела.
А мать все плачет, все на небо смотрит, все в ту сторону смотрит, куда Ладо улетела. Все в небо мать смотрит, даже про огонь в очаге забывать стала. Стал огонь гаснуть и погас совсем. Ушел огонь из дома. Ушла жизнь из дома. Умерла мать Ладо.
…Вот теплый ветер из Никанского царства подул. Из старой травы молодая травка зеленую стрелку пустила. Водяной Хозяин с реки ледяную крышу снял. Медведь из берлоги вышел. Заяц свою белую шубу в лесу потерял. Деревья почки набрали. Перелетные птицы на старые места прилетели.
Прилетели и лебеди из далеких стран.
Прилетела и Ладо. Видно, не нашла себе другой матери. Стала кружить над своей деревней. Над домом своим летать стала. Кричит, зовет свою мать:
— Через спину перекачусь, заплачу, опять девушкой стану! Старую мать свою обниму, слезы ее утру…
Никто не выходит из дома. Вьется Ладо в небе, плачет. Не может девушкой обернуться…
Целое лето летала над родной деревней Ладо — все ждала, когда мать из дома выйдет, ее встретит. Так и не дождалась. Когда холодный ветер с Амура повеял, улетела Ладо в теплые края.
С тех пор каждую весну прилетает она, кричит, мать свою зовет — и не дозовется.

Пустая голова
 Жил в роду Заксо́ров один парень, по имени Чунгу́. Парень как парень, все как у людей: два уха, два глаза, один нос, две ноги, две руки, одна голова. Только говорили про Чунгу, что в голове у него совсем пусто. Мало работал, много ел Чунгу. Мало думал, всему верил парень Чунгу. Так и жил. Ел, спал, на берегу сидел, в голове чесал, никуда не ходил.
Пробовал отец приучить сына к охоте. Собирался с собой в тайгу взять.
Одели Чунгу во весь охотничий наряд. Унты́ надели сохатиные, с шелковой вышивкой. Наколенники натянули расшитые. Штаны из лучшей ро́вдуги. Халат белый, оленьей шерстью шитый. Подпоясали Чунгу поясом из утиных головок. Повязку, шитую шелками, на голову надели да шапочку из шкурок кабарги с беличьим хвостиком. В руки копье дали с насечками. Сбоку лук со стрелами повесили, на пояс — два ножа: один кривой, другой прямой.
Красивый парень стал Чунгу.
Понравился ему наряд. Стоит Чунгу, по халату себя рукой похлопывает. Хохочет от радости.
Говорит ему отец:
— Довольно, Чунгу. Пойдем.
Замотал Чунгу головой: не хочется ему ходить, радость свою портить.
Опять говорит ему отец:
— Красота — не в наряде мужчины, а на конце его копья! Пойдем, сын!
А Чунгу не слушает. Радуется сам себе. Плясать пустился. Топчется на месте, кружится, сам себя по штанам да по халату похлопывает. Стрелы уронил, копье во все стороны тычется: того и гляди кого-нибудь изувечит.
Рассердился тут отец. Стукнул сына по голове. Загудела голова у Чунгу, как медный котел. Перепугался отец.
— Ой-я-ха! — говорит. — У сына-то моего голова, верно, пустая… Плохое это дело получается! Что делать буду?..
Не взял он с собой сына на охоту. С пустой головой много ли зверя добудешь!
Сел Чунгу на бережку. Занятие себе нашел: в воду смотрится, своим нарядом любуется да по голове постукивает. Шум на всю деревню поднял.
Сбежались нанаи отовсюду — думали, кто-то на музыкальных бревнах не вовремя игру затеял. Глядят — а это Чунгу свою пустую голову лупит! Посмеялись, разошлись.
Так и шло дело.
Отец Чунгу то на охоту в тайгу уходит, то рыбу на Амуре ловит.
Мать рыбу солит, шкурки выделывает, пищу готовит, сына да мужа кормит.
А Чунгу ни к чему не пригоден. Все сидит на берегу, голову чешет.
Я не знаю, сколько времени так прошло. Стали у стариков силы слабеть. Мать от работы уставать стала. Трудно ей одной все делать…
Говорит она старику:
— Одна не могу я больше работать…
Покурили, покурили отец с матерью, подумали.
Говорит отец:
— Надо Чунгу женить. Будет тебе помощница.
— Как можно Чунгу женить? — спрашивает мать. — У него голова пустая. Кто за него свою дочь отдаст?
— Хороший выкуп будет — отдадут, — отвечает отец.
Стали старик со старухой то́ри — выкуп — собирать.
Медный котел большой взяли, саблю заморскую, три халата шелковых да три меховых, зеркало медное, двенадцать пар сережек, копье с серебряной насечкой, три куска материи шелковой, кольчугу с далеких островов — из бамбука, с медными застежками, — тетиву в рост охотника собрали да лук боевой с костяной отделкой. Богатый выкуп собрали!..
Только в этой деревне никто замуж за Чунгу нейдет.
А в соседней деревне жила одна старушка с дочкой. Очень бедная была старушка. Дочь ее звали Анга́. Никакого приданого не было у Анги, кроме упряжки собак. Так бедно жили старушка с дочкой, что в доме у них не было даже одеял.
Вот посватали Ангу. Поплакала Анга, но делать нечего — согласилась. Подумала, что теперь матери легче жить станет.
Выколотила Анга трубку у порога, чтобы огонь из родительского дома не унести, чтобы счастье из него не унести с собой. Ступила ногой на свой котел. Со своего котла ступила на котел жениха, что за порогом поставили, как того обычай требовал, и увел Чунгу Ангу в свой дом.
Жил в роду Заксо́ров один парень, по имени Чунгу́. Парень как парень, все как у людей: два уха, два глаза, один нос, две ноги, две руки, одна голова. Только говорили про Чунгу, что в голове у него совсем пусто. Мало работал, много ел Чунгу. Мало думал, всему верил парень Чунгу. Так и жил. Ел, спал, на берегу сидел, в голове чесал, никуда не ходил.
Пробовал отец приучить сына к охоте. Собирался с собой в тайгу взять.
Одели Чунгу во весь охотничий наряд. Унты́ надели сохатиные, с шелковой вышивкой. Наколенники натянули расшитые. Штаны из лучшей ро́вдуги. Халат белый, оленьей шерстью шитый. Подпоясали Чунгу поясом из утиных головок. Повязку, шитую шелками, на голову надели да шапочку из шкурок кабарги с беличьим хвостиком. В руки копье дали с насечками. Сбоку лук со стрелами повесили, на пояс — два ножа: один кривой, другой прямой.
Красивый парень стал Чунгу.
Понравился ему наряд. Стоит Чунгу, по халату себя рукой похлопывает. Хохочет от радости.
Говорит ему отец:
— Довольно, Чунгу. Пойдем.
Замотал Чунгу головой: не хочется ему ходить, радость свою портить.
Опять говорит ему отец:
— Красота — не в наряде мужчины, а на конце его копья! Пойдем, сын!
А Чунгу не слушает. Радуется сам себе. Плясать пустился. Топчется на месте, кружится, сам себя по штанам да по халату похлопывает. Стрелы уронил, копье во все стороны тычется: того и гляди кого-нибудь изувечит.
Рассердился тут отец. Стукнул сына по голове. Загудела голова у Чунгу, как медный котел. Перепугался отец.
— Ой-я-ха! — говорит. — У сына-то моего голова, верно, пустая… Плохое это дело получается! Что делать буду?..
Не взял он с собой сына на охоту. С пустой головой много ли зверя добудешь!
Сел Чунгу на бережку. Занятие себе нашел: в воду смотрится, своим нарядом любуется да по голове постукивает. Шум на всю деревню поднял.
Сбежались нанаи отовсюду — думали, кто-то на музыкальных бревнах не вовремя игру затеял. Глядят — а это Чунгу свою пустую голову лупит! Посмеялись, разошлись.
Так и шло дело.
Отец Чунгу то на охоту в тайгу уходит, то рыбу на Амуре ловит.
Мать рыбу солит, шкурки выделывает, пищу готовит, сына да мужа кормит.
А Чунгу ни к чему не пригоден. Все сидит на берегу, голову чешет.
Я не знаю, сколько времени так прошло. Стали у стариков силы слабеть. Мать от работы уставать стала. Трудно ей одной все делать…
Говорит она старику:
— Одна не могу я больше работать…
Покурили, покурили отец с матерью, подумали.
Говорит отец:
— Надо Чунгу женить. Будет тебе помощница.
— Как можно Чунгу женить? — спрашивает мать. — У него голова пустая. Кто за него свою дочь отдаст?
— Хороший выкуп будет — отдадут, — отвечает отец.
Стали старик со старухой то́ри — выкуп — собирать.
Медный котел большой взяли, саблю заморскую, три халата шелковых да три меховых, зеркало медное, двенадцать пар сережек, копье с серебряной насечкой, три куска материи шелковой, кольчугу с далеких островов — из бамбука, с медными застежками, — тетиву в рост охотника собрали да лук боевой с костяной отделкой. Богатый выкуп собрали!..
Только в этой деревне никто замуж за Чунгу нейдет.
А в соседней деревне жила одна старушка с дочкой. Очень бедная была старушка. Дочь ее звали Анга́. Никакого приданого не было у Анги, кроме упряжки собак. Так бедно жили старушка с дочкой, что в доме у них не было даже одеял.
Вот посватали Ангу. Поплакала Анга, но делать нечего — согласилась. Подумала, что теперь матери легче жить станет.
Выколотила Анга трубку у порога, чтобы огонь из родительского дома не унести, чтобы счастье из него не унести с собой. Ступила ногой на свой котел. Со своего котла ступила на котел жениха, что за порогом поставили, как того обычай требовал, и увел Чунгу Ангу в свой дом.
 Пришли они в дом Чунгу. Сел парень на нары. Мяса наелся. Хвастаться стал:
— Знаешь, жена, какой я парень! Другого такого парня нигде нет! Знаешь, какая у меня голова! Такой головы ни у кого больше нет!
По голове себя Чунгу стукнул. Загудела голова, как сухая лиственница в ветреный день.
Испугалась Анга: «Ой, совсем у мужа голова пустая! Как жить с таким буду?» И заплакала Анга.
Не понимает Чунгу, чего жена плачет. Сидит, молчит. Потом заснул.
Смотрит на него Анга. Лицо у парня хорошее, как у всех людей: два глаза, два уха, один нос… Рассердилась Анга: как это может быть, чтобы у человека с пустой головой было лицо хорошее, как у всех людей! Рассердилась и решила: «Пусть у тебя будет нехорошее лицо, чтобы видом своим ты людей не обманывал!»
Красную глину с очага взяла. Черную сажу с очага взяла. Растворила глину и сажу. Стало у нее две краски: черная да красная.
Разрисовала Анга лицо Чунгу красными да черными разводами. Так разрисовала, что даже сама испугалась.
…Спал, спал Чунгу, наконец проснулся. Пить захотел. Взял чума́шку с водой, стал пить. Посмотрел по привычке в воду. А в воде отражение его видно. Не узнал себя Чунгу. Спрашивает:
— Эй, ты кто такой? Тебе чего в моей чумашке надо?
Вокруг осмотрелся — все знакомое: его очаг, его дом, его жена на нарах сидит. А лицо не его.
Позвал Чунгу:
— Анга, иди сюда! Кто-то в чумашку забрался. Рожа какая-то…
Анга спрашивает:
— Кто меня зовет?
— Это я тебя зову, — говорит Чунгу. — Это я, Чунгу, твой муж.
Покачала головой Анга:
— Разве ты Чунгу? У моего мужа лицо хорошее, а у тебя какая-то страшная рожа!
— Это верно, — говорит Чунгу, — у меня лицо красивое, я парень красивый, это я сам видал…
Подумал, подумал Чунгу, говорит:
— Вот какое плохое дело вышло! Потерял я, видно, где-то свое лицо. Пойду поищу.
Поднялся Чунгу с нар. Вышел из дому. Идет по дороге, под ноги смотрит. По голове стукнул — гудит… Обрадовался Чунгу:
— Это я! — говорит. В воду глянул — опечалился: чужое лицо. — Нет, — говорит, — не я это.
Идет Чунгу, на людей натыкается. Спрашивает всех:
— Вы Чунгу не видали ли?
Смеются люди над ним.
— Нет, не видали, — говорят.
Чешет в голове Чунгу.
— Видно, — говорит, — в этой деревне Чунгу нет. Пойду дальше.
И пошел Чунгу сам себя искать. Ушел из деревни и не вернулся. До сих пор найти себя не может. И никто не пожалел о нем.
От лентяя да дурака какая людям польза?
Пришли они в дом Чунгу. Сел парень на нары. Мяса наелся. Хвастаться стал:
— Знаешь, жена, какой я парень! Другого такого парня нигде нет! Знаешь, какая у меня голова! Такой головы ни у кого больше нет!
По голове себя Чунгу стукнул. Загудела голова, как сухая лиственница в ветреный день.
Испугалась Анга: «Ой, совсем у мужа голова пустая! Как жить с таким буду?» И заплакала Анга.
Не понимает Чунгу, чего жена плачет. Сидит, молчит. Потом заснул.
Смотрит на него Анга. Лицо у парня хорошее, как у всех людей: два глаза, два уха, один нос… Рассердилась Анга: как это может быть, чтобы у человека с пустой головой было лицо хорошее, как у всех людей! Рассердилась и решила: «Пусть у тебя будет нехорошее лицо, чтобы видом своим ты людей не обманывал!»
Красную глину с очага взяла. Черную сажу с очага взяла. Растворила глину и сажу. Стало у нее две краски: черная да красная.
Разрисовала Анга лицо Чунгу красными да черными разводами. Так разрисовала, что даже сама испугалась.
…Спал, спал Чунгу, наконец проснулся. Пить захотел. Взял чума́шку с водой, стал пить. Посмотрел по привычке в воду. А в воде отражение его видно. Не узнал себя Чунгу. Спрашивает:
— Эй, ты кто такой? Тебе чего в моей чумашке надо?
Вокруг осмотрелся — все знакомое: его очаг, его дом, его жена на нарах сидит. А лицо не его.
Позвал Чунгу:
— Анга, иди сюда! Кто-то в чумашку забрался. Рожа какая-то…
Анга спрашивает:
— Кто меня зовет?
— Это я тебя зову, — говорит Чунгу. — Это я, Чунгу, твой муж.
Покачала головой Анга:
— Разве ты Чунгу? У моего мужа лицо хорошее, а у тебя какая-то страшная рожа!
— Это верно, — говорит Чунгу, — у меня лицо красивое, я парень красивый, это я сам видал…
Подумал, подумал Чунгу, говорит:
— Вот какое плохое дело вышло! Потерял я, видно, где-то свое лицо. Пойду поищу.
Поднялся Чунгу с нар. Вышел из дому. Идет по дороге, под ноги смотрит. По голове стукнул — гудит… Обрадовался Чунгу:
— Это я! — говорит. В воду глянул — опечалился: чужое лицо. — Нет, — говорит, — не я это.
Идет Чунгу, на людей натыкается. Спрашивает всех:
— Вы Чунгу не видали ли?
Смеются люди над ним.
— Нет, не видали, — говорят.
Чешет в голове Чунгу.
— Видно, — говорит, — в этой деревне Чунгу нет. Пойду дальше.
И пошел Чунгу сам себя искать. Ушел из деревни и не вернулся. До сих пор найти себя не может. И никто не пожалел о нем.
От лентяя да дурака какая людям польза?

Самый быстроногий
 Поспорили однажды звери — кто быстрей всех бегает.
Волк говорит:
— Я всех быстрее! Как побегу — только кустарник в глазах мелькает да ветер в ушах свистит!
Медведь говорит:
— Нет, однако, я самый быстрый! Как побегу — деревья трещат, сучья в разные стороны разлетаются!
Лиса послушала их и говорит:
— Наверное, я всех вас быстрей бегаю. Как побегу — только лапы мелькают. Даже лап своих не вижу.
Посмотрел на них заяц.
— Что вы спорите! — говорит. — Быстрей всех я! Как побегу — ничего не вижу, ничего не слышу! Вот как быстро!
Долго спорили они. Наконец решили бежать наперегонки. Выстроились в один ряд и побежали до дальней сопки. Добежал до той сопочки заяц, повернул — обратно помчался.
Вернулся быстро, сел и товарищей своих ждет.
Волк только к вечеру вернулся. Лисица ночью прибежала. Медведь лишь к утру приплелся.
Вот собрались они вместе, решили: «Заяц самый быстрый из нас». И домой пошли.
Стал заяц от радости кувыркаться. Кувыркается и поет:
— Вот я самый быстроногий! Вот какой быстроногий!
Увидала его мышь, позавидовала. Подошла к зайцу, поздоровалась. Говорит:
— А ведь неправильно тебя самым быстроногим назвали!
— Как — неправильно! — обиделся заяц. — Мы наперегонки бегали, я раньше всех вернулся. Я всех победил!
— Напрасно вы меня не подождали.
— Ну, давай поспорим, — говорит заяц. — Давай побежим!
— А ты как бегаешь? — спрашивает мышь.
— Быстро бегаю, — говорит заяц. — Как побегу — ничего не вижу, ничего не слышу! Вот как быстро!
Вот побежали они взапуски. Мышь отбежала немного, под кочку присела, схоронилась. Сразу из виду исчезла.
А заяц летит — ничего не видит, ничего не слышит. Торопится. До сопочки добежал, обратно повернул. Бежит что есть силы… Подбегает заяц к месту, а мышь на пригорочке сидит, лапками обмахивается.
— Очень жарко, — говорит, — в такой день наперегонки бегать.
Удивился заяц: неужели мышь его обогнала?
— Давай еще раз побежим, — говорит он мышке.
Вот опять побежали они. Мышь — под кочку, заяц — до сопки.
Три раза бегали они. Заяц — до сопки и обратно, а мышь — до первой кочки.
Прибегает заяц — умаялся, рот разинул, глаза вытаращил. Едва дышит от усталости. А мышь опять на пригорке сидит. Смеется над зайцем, хохочет, лапками на него показывает.
— Вот так победитель! — кричит. — Мышь обогнать не может!
Долго смеялась мышь над зайцем. Потом говорит:
— Пойду зверям расскажу, как я тебя обогнала. Вместе посмеемся…
Стыдно стало зайцу. Прижал он уши и спрятался в траву.
Убежала мышь прочь.
А заяц с тех пор всегда уши прижимает к спине, как только услышит шум или шорох: думает, звери над ним смеяться идут.
Поспорили однажды звери — кто быстрей всех бегает.
Волк говорит:
— Я всех быстрее! Как побегу — только кустарник в глазах мелькает да ветер в ушах свистит!
Медведь говорит:
— Нет, однако, я самый быстрый! Как побегу — деревья трещат, сучья в разные стороны разлетаются!
Лиса послушала их и говорит:
— Наверное, я всех вас быстрей бегаю. Как побегу — только лапы мелькают. Даже лап своих не вижу.
Посмотрел на них заяц.
— Что вы спорите! — говорит. — Быстрей всех я! Как побегу — ничего не вижу, ничего не слышу! Вот как быстро!
Долго спорили они. Наконец решили бежать наперегонки. Выстроились в один ряд и побежали до дальней сопки. Добежал до той сопочки заяц, повернул — обратно помчался.
Вернулся быстро, сел и товарищей своих ждет.
Волк только к вечеру вернулся. Лисица ночью прибежала. Медведь лишь к утру приплелся.
Вот собрались они вместе, решили: «Заяц самый быстрый из нас». И домой пошли.
Стал заяц от радости кувыркаться. Кувыркается и поет:
— Вот я самый быстроногий! Вот какой быстроногий!
Увидала его мышь, позавидовала. Подошла к зайцу, поздоровалась. Говорит:
— А ведь неправильно тебя самым быстроногим назвали!
— Как — неправильно! — обиделся заяц. — Мы наперегонки бегали, я раньше всех вернулся. Я всех победил!
— Напрасно вы меня не подождали.
— Ну, давай поспорим, — говорит заяц. — Давай побежим!
— А ты как бегаешь? — спрашивает мышь.
— Быстро бегаю, — говорит заяц. — Как побегу — ничего не вижу, ничего не слышу! Вот как быстро!
Вот побежали они взапуски. Мышь отбежала немного, под кочку присела, схоронилась. Сразу из виду исчезла.
А заяц летит — ничего не видит, ничего не слышит. Торопится. До сопочки добежал, обратно повернул. Бежит что есть силы… Подбегает заяц к месту, а мышь на пригорочке сидит, лапками обмахивается.
— Очень жарко, — говорит, — в такой день наперегонки бегать.
Удивился заяц: неужели мышь его обогнала?
— Давай еще раз побежим, — говорит он мышке.
Вот опять побежали они. Мышь — под кочку, заяц — до сопки.
Три раза бегали они. Заяц — до сопки и обратно, а мышь — до первой кочки.
Прибегает заяц — умаялся, рот разинул, глаза вытаращил. Едва дышит от усталости. А мышь опять на пригорке сидит. Смеется над зайцем, хохочет, лапками на него показывает.
— Вот так победитель! — кричит. — Мышь обогнать не может!
Долго смеялась мышь над зайцем. Потом говорит:
— Пойду зверям расскажу, как я тебя обогнала. Вместе посмеемся…
Стыдно стало зайцу. Прижал он уши и спрятался в траву.
Убежала мышь прочь.
А заяц с тех пор всегда уши прижимает к спине, как только услышит шум или шорох: думает, звери над ним смеяться идут.

Маленькая Эльга
 Это случилось очень давно. Так давно, что самый старый удэ не помнит. Ему об этом рассказывал дед. А деду говорил его отец. Очень давно это было.
У одного охотника, Сольдига́, умерла жена и оставила ему дочку, по имени Эльга́.
Похоронил Сольдига жену, погоревал, погоревал и женился второй раз. Взял женщину из рода Пу́нинга. И стали они жить втроем. Сольдига, жена его Пунинга и дочка Эльга.
Сольдига очень любил свою дочь. Делал разные игрушки: колыбельку, чумашки, мялку с колотушкой, чтобы кожу мять. Такие игрушки делал, чтобы привыкла Эльга к женской работе.
А маленькая Эльга просила отца:
— Сделай мне нарты, лук, стрелы, копье!
Пунинга, услыхав это, сказала:
— Зачем тебе игрушки мальчика?
Отвечает Эльга:
— Вырасту, буду отцу помогать на охоте.
— Вот еще! — сказала Пунинга. — Не твое это дело.
Посмотрел Сольдига на дочку, видит — смелая девочка у него растет. Сделал он дочке игрушки: маленькие нарты, лучок-самострел, копье, маленького оленя из дерева вырезал, ездовых собачек упряжку.
Увидела Пунинга, что не послушал ее муж, и невзлюбила Эльгу. Стала обижать ее, когда уходил отец на охоту. Терпела Эльга, отцу не жаловалась на мачеху, чтобы его не огорчать.
Так жили они.
Вот однажды повстречал Сольдига кабана в тайге. Долго гнал его Сольдига. Совсем загнал. Ушел в чащу кабан и залег.
Шел мимо а́мба — тигр. Он голодный был. На кабана наткнулся — и давай его рвать! Не разглядел Сольдига, кто там копошится, метнул в чащу копье. Проткнуло копье кабана и задело тигра.
Рассвирепел тигр и набросился на Сольдигу. Стал охотник говорить тигру, что не его хотел он убить, в кабана метил, да не стал его амба слушать и разорвал на куски.
Узнал амба вкус человеческой крови. Стал к стойбищу ходить. Пошли на его тропу другие охотники — сородичи Сольдиги, просили не трогать их, в другие места просили тигра уйти. Но амба не слушал их. Стал по ночам приходить — свиней, оленей, собачек таскать. Маленьких детей таскать стал. Чего уж хуже!..
Не стало отца — Эльге совсем плохо пришлось! Возненавидела ее Пунинга. Стала работой девочку морить. Ходит Эльга за водой, моет крупу для каши, солит рыбу, сушит ю́колу для собачек, мнет шкуры, вышивает мачехе халаты, таскает из тайги хворост для очага… А Пунинга целыми днями лежит на нарах, ест, спит, трубку курит, ничего сама не делает, все кричит на Эльгу: «То подай, девчонка, это подай!»
Знала Эльга, что старших слушаться надо, делала все, что ей мачеха велела. Было ей очень тяжело. Но Эльга терпела. Сама себя утешала:
— Вот вырасту — от мачехи уйду. Одна жить буду. Охотиться буду.
Не расставалась Эльга со своим копьем, потому что его отец сделал. Очень своего отца Эльга любила. Куда бы ни шла, копье носила с собой.
Вот один раз послала мачеха Эльгу березовой коры надрать, чтобы новые чумашки сделать.
Пошла девочка в тайгу, отыскала хорошую березу, сделала два надреза, стала кору драть. Вдруг слышит — кто-то спрашивает ее грубым голосом:
— Эй, что ты делаешь тут, девчонка? Чья ты?
Обернулась Эльга и увидела амбу — тигра. Уже давно у него плохая охота стала. Бока его ввалились от голода, был амба очень злой. Но Эльга не испугалась тигра. Ответила:
— Я дочь Сольдиги. А тебе что надо?
Говорит тигр:
— Растерзал я Сольдигу… и тебя теперь съем!
Закричала Эльга на тигра:
— Уходи прочь, вор!
Бросился тигр на Эльгу. А девочка — за березу. Наклонилась береза, собой ее заслонила. Изо всей силы ударился тигр головой о березу и разбил себе голову.
Замахнулась на него Эльга копьем:
— Уходи, вор, а то плохо тебе будет!
Зарычал амба так, что с деревьев посыпались листья. Прыгнул опять. Тут две березы сомкнулись и зажали его. Застрял амба — никак вылезти не может. Как ни бился, не может выбраться из западни — так крепко сдавили его эти березы. Кинула Эльга в него копье. Вошло копье тигру в один глаз, вышло в другой. Ослепила Эльга амбу. Издох он.
Это случилось очень давно. Так давно, что самый старый удэ не помнит. Ему об этом рассказывал дед. А деду говорил его отец. Очень давно это было.
У одного охотника, Сольдига́, умерла жена и оставила ему дочку, по имени Эльга́.
Похоронил Сольдига жену, погоревал, погоревал и женился второй раз. Взял женщину из рода Пу́нинга. И стали они жить втроем. Сольдига, жена его Пунинга и дочка Эльга.
Сольдига очень любил свою дочь. Делал разные игрушки: колыбельку, чумашки, мялку с колотушкой, чтобы кожу мять. Такие игрушки делал, чтобы привыкла Эльга к женской работе.
А маленькая Эльга просила отца:
— Сделай мне нарты, лук, стрелы, копье!
Пунинга, услыхав это, сказала:
— Зачем тебе игрушки мальчика?
Отвечает Эльга:
— Вырасту, буду отцу помогать на охоте.
— Вот еще! — сказала Пунинга. — Не твое это дело.
Посмотрел Сольдига на дочку, видит — смелая девочка у него растет. Сделал он дочке игрушки: маленькие нарты, лучок-самострел, копье, маленького оленя из дерева вырезал, ездовых собачек упряжку.
Увидела Пунинга, что не послушал ее муж, и невзлюбила Эльгу. Стала обижать ее, когда уходил отец на охоту. Терпела Эльга, отцу не жаловалась на мачеху, чтобы его не огорчать.
Так жили они.
Вот однажды повстречал Сольдига кабана в тайге. Долго гнал его Сольдига. Совсем загнал. Ушел в чащу кабан и залег.
Шел мимо а́мба — тигр. Он голодный был. На кабана наткнулся — и давай его рвать! Не разглядел Сольдига, кто там копошится, метнул в чащу копье. Проткнуло копье кабана и задело тигра.
Рассвирепел тигр и набросился на Сольдигу. Стал охотник говорить тигру, что не его хотел он убить, в кабана метил, да не стал его амба слушать и разорвал на куски.
Узнал амба вкус человеческой крови. Стал к стойбищу ходить. Пошли на его тропу другие охотники — сородичи Сольдиги, просили не трогать их, в другие места просили тигра уйти. Но амба не слушал их. Стал по ночам приходить — свиней, оленей, собачек таскать. Маленьких детей таскать стал. Чего уж хуже!..
Не стало отца — Эльге совсем плохо пришлось! Возненавидела ее Пунинга. Стала работой девочку морить. Ходит Эльга за водой, моет крупу для каши, солит рыбу, сушит ю́колу для собачек, мнет шкуры, вышивает мачехе халаты, таскает из тайги хворост для очага… А Пунинга целыми днями лежит на нарах, ест, спит, трубку курит, ничего сама не делает, все кричит на Эльгу: «То подай, девчонка, это подай!»
Знала Эльга, что старших слушаться надо, делала все, что ей мачеха велела. Было ей очень тяжело. Но Эльга терпела. Сама себя утешала:
— Вот вырасту — от мачехи уйду. Одна жить буду. Охотиться буду.
Не расставалась Эльга со своим копьем, потому что его отец сделал. Очень своего отца Эльга любила. Куда бы ни шла, копье носила с собой.
Вот один раз послала мачеха Эльгу березовой коры надрать, чтобы новые чумашки сделать.
Пошла девочка в тайгу, отыскала хорошую березу, сделала два надреза, стала кору драть. Вдруг слышит — кто-то спрашивает ее грубым голосом:
— Эй, что ты делаешь тут, девчонка? Чья ты?
Обернулась Эльга и увидела амбу — тигра. Уже давно у него плохая охота стала. Бока его ввалились от голода, был амба очень злой. Но Эльга не испугалась тигра. Ответила:
— Я дочь Сольдиги. А тебе что надо?
Говорит тигр:
— Растерзал я Сольдигу… и тебя теперь съем!
Закричала Эльга на тигра:
— Уходи прочь, вор!
Бросился тигр на Эльгу. А девочка — за березу. Наклонилась береза, собой ее заслонила. Изо всей силы ударился тигр головой о березу и разбил себе голову.
Замахнулась на него Эльга копьем:
— Уходи, вор, а то плохо тебе будет!
Зарычал амба так, что с деревьев посыпались листья. Прыгнул опять. Тут две березы сомкнулись и зажали его. Застрял амба — никак вылезти не может. Как ни бился, не может выбраться из западни — так крепко сдавили его эти березы. Кинула Эльга в него копье. Вошло копье тигру в один глаз, вышло в другой. Ослепила Эльга амбу. Издох он.
 Отрубила Эльга у тигра хвост полосатый и в стойбище пошла.
Видит — укладывают люди вещи во вьюки, разбирают юрты. Кочевать собрались, тигра боятся.
Говорит Эльга:
— Куда вы? Не придет больше амба!
— Что ты знаешь, девчонка! — молвил самый старый удэ. — Куда тигр пришел раз — придет туда и в другой. Всем нам смерти не миновать!
Эльга полосатый хвост тигра старикам показала:
— Говорю, что больше амба сюда не придет! Вот я у амбы хвост отрубила.
Испугались удэ.
— Что ты наделала, девочка! — закричали они. — Амбу нельзя убивать. Теперь его дух будет ходить в стойбище по ночам и всех нас погубит! Тайга придет в наше стойбище — все тропинки зарастут травой. Болото покроет это место…
Говорит Эльга:
— Я знаю закон охотников. Я два раза просила амбу уйти. Он не послушал.
— Ну, тогда — другое дело, — говорят старики. — Амба сам виноват!
Откочевывать удэ не стали. Стали девочку хвалить.
Обидно Пунинге, что не ее хвалят. Совсем озлилась на Эльгу. Что ни сделает девочка, все не может Пунинге угодить. Вымоет Эльга крупу, станет кашу варить — подойдет мачеха, выбросит крупу, снова заставит мыть. Вышьет Эльга халат — мачехе не по нраву.
— Что ты делаешь, косорукая! — говорит она. — Разве так вышивают? Распори все да заново сделай. Да покрасивее, да поярче, да позатейливей!
Кричит Пунинга, ругается. Заплакала Эльга, из юрты на берег реки пошла, села там, где папоротники росли. Села и плачет. Зашумели папоротники, зашевелились.
Один папоротник Эльгу спрашивает:
— Что ты плачешь, маленькая?
Рассказала Эльга, как тяжело ей жить. Погладил ее папоротник своими мохнатыми листьями, говорит:
— Не плачь, маленькая! Этому горю легко помочь. Мы тебе поможем.
Стал тут папоротник на помощь Эльге все цветы и травы созывать. Потянулись к халату всякие травы и цветы. Улеглись на него, завитками разными закрутились. И такой красивый узор на халате сделался, какого еще ни разу Эльга не видала!
Собрал тут папоротник все слезы Эльги, окропил ими халат, и весь узор тот на халате остался.
Говорит папоротник Эльге:
— Жалко мне тебя, Эльга! Так мачеха тебя обижает, столько плачешь ты, что твоими слезами вся земля тут пропиталась, на твоих слезах и мы выросли. Вот помогли мы тебе, чем могли…
Понесла Эльга халат в стойбище.
Жило там много хороших вышивальщиц. А увидали они узор на халате Эльги — от зависти и удивления рты раскрыли. Не было такого халата еще никогда!
А Пунинга еще больше озлилась на Эльгу.
— Хочу халат, шитый оленьей шерстью! — говорит она Эльге.
А дело было летом. В это время у оленей шерсть короткая. Откуда длинную шерсть для вышивания взять?
Походила Эльга по стойбищу, попросила у соседей, но никто выручить ее не мог.
Села Эльга и заплакала опять. Стала перебирать свои игрушки, отца теплым словом вспомнила и еще пуще залилась слезами.
Вдруг игрушечный олень, которого Эльге отец сделал, говорит девочке:
— Не плачь, хозяйка, этому горю можно помочь!
Встряхнулся олень. Маленькими ножками о пол топнул и стал расти. Рос, рос — большой вырос. Густой белой зимней шерстью оброс. Сбросил шерсть с себя. И опять маленьким стал.
Сделала Эльга новый халат. Все руки себе шерстью исколола. И опять мачехе не угодила.
Говорит Пунинга:
— Не ты это делаешь! Кто-то тебе помогает… Только зря все это. Ты так не вышьешь, как я умею. Вот вышью я сама себе халат, тогда увидишь ты, как надо работать! Сбегай в стойбище у реки Анюй. Там моя бабушка живет. Попроси у нее мою иголку. Да к утру смотри вернись, не опаздывай!
Отрубила Эльга у тигра хвост полосатый и в стойбище пошла.
Видит — укладывают люди вещи во вьюки, разбирают юрты. Кочевать собрались, тигра боятся.
Говорит Эльга:
— Куда вы? Не придет больше амба!
— Что ты знаешь, девчонка! — молвил самый старый удэ. — Куда тигр пришел раз — придет туда и в другой. Всем нам смерти не миновать!
Эльга полосатый хвост тигра старикам показала:
— Говорю, что больше амба сюда не придет! Вот я у амбы хвост отрубила.
Испугались удэ.
— Что ты наделала, девочка! — закричали они. — Амбу нельзя убивать. Теперь его дух будет ходить в стойбище по ночам и всех нас погубит! Тайга придет в наше стойбище — все тропинки зарастут травой. Болото покроет это место…
Говорит Эльга:
— Я знаю закон охотников. Я два раза просила амбу уйти. Он не послушал.
— Ну, тогда — другое дело, — говорят старики. — Амба сам виноват!
Откочевывать удэ не стали. Стали девочку хвалить.
Обидно Пунинге, что не ее хвалят. Совсем озлилась на Эльгу. Что ни сделает девочка, все не может Пунинге угодить. Вымоет Эльга крупу, станет кашу варить — подойдет мачеха, выбросит крупу, снова заставит мыть. Вышьет Эльга халат — мачехе не по нраву.
— Что ты делаешь, косорукая! — говорит она. — Разве так вышивают? Распори все да заново сделай. Да покрасивее, да поярче, да позатейливей!
Кричит Пунинга, ругается. Заплакала Эльга, из юрты на берег реки пошла, села там, где папоротники росли. Села и плачет. Зашумели папоротники, зашевелились.
Один папоротник Эльгу спрашивает:
— Что ты плачешь, маленькая?
Рассказала Эльга, как тяжело ей жить. Погладил ее папоротник своими мохнатыми листьями, говорит:
— Не плачь, маленькая! Этому горю легко помочь. Мы тебе поможем.
Стал тут папоротник на помощь Эльге все цветы и травы созывать. Потянулись к халату всякие травы и цветы. Улеглись на него, завитками разными закрутились. И такой красивый узор на халате сделался, какого еще ни разу Эльга не видала!
Собрал тут папоротник все слезы Эльги, окропил ими халат, и весь узор тот на халате остался.
Говорит папоротник Эльге:
— Жалко мне тебя, Эльга! Так мачеха тебя обижает, столько плачешь ты, что твоими слезами вся земля тут пропиталась, на твоих слезах и мы выросли. Вот помогли мы тебе, чем могли…
Понесла Эльга халат в стойбище.
Жило там много хороших вышивальщиц. А увидали они узор на халате Эльги — от зависти и удивления рты раскрыли. Не было такого халата еще никогда!
А Пунинга еще больше озлилась на Эльгу.
— Хочу халат, шитый оленьей шерстью! — говорит она Эльге.
А дело было летом. В это время у оленей шерсть короткая. Откуда длинную шерсть для вышивания взять?
Походила Эльга по стойбищу, попросила у соседей, но никто выручить ее не мог.
Села Эльга и заплакала опять. Стала перебирать свои игрушки, отца теплым словом вспомнила и еще пуще залилась слезами.
Вдруг игрушечный олень, которого Эльге отец сделал, говорит девочке:
— Не плачь, хозяйка, этому горю можно помочь!
Встряхнулся олень. Маленькими ножками о пол топнул и стал расти. Рос, рос — большой вырос. Густой белой зимней шерстью оброс. Сбросил шерсть с себя. И опять маленьким стал.
Сделала Эльга новый халат. Все руки себе шерстью исколола. И опять мачехе не угодила.
Говорит Пунинга:
— Не ты это делаешь! Кто-то тебе помогает… Только зря все это. Ты так не вышьешь, как я умею. Вот вышью я сама себе халат, тогда увидишь ты, как надо работать! Сбегай в стойбище у реки Анюй. Там моя бабушка живет. Попроси у нее мою иголку. Да к утру смотри вернись, не опаздывай!
 А до стойбища на реке Анюй далеко — несколько дней добираться надо.
Что делать Эльге? Опять она загрустила. Игрушки свои перебирает, теплым словом отца вспоминает. Вдруг слышит голос:
— Не печалься, маленькая хозяйка, мы-то на что?
Оглянулась Эльга. А перед ней целая упряжка собачек стоит. Двенадцать собачек, одна другой красивее! Пушистыми хвостиками виляют. Тоненькими ножками постукивают. Шерстка на них белая, глазки у них желтые, носики черные. Удивилась Эльга.
— Откуда вы? — собачек спрашивает.
А те в ответ:
— Разве ты не узнаешь, Эльга? Сольдига сделал нас!
Посмотрела Эльга — а вместо игрушечных собачек живые стоят, настоящие. Услыхали они плач хозяйки и ожили.
Запрягла своих собачек Эльга в нарты, села. И помчались собачки вскачь. Лес не лес, река не река — летят на прямик! Девочка глаза закрыла. А собачки до облаков уже поднялись. Открыла Эльга глаза. Видит — светло кругом… Облака, будто пушистый снег, вокруг лежат. Взяла Эльга осто́л-погоны́ч, стала править нартами.
— Tax, тах! — кричит. — Поть-поть-поть!
Только клочья облаков летят из-под ног собачек. Не успела Эльга устать и замерзнуть не успела, как до анюйского стойбища собачки ее домчали.
Слезла Эльга с нарт. Бабушку Пунинги разыскала. Лежит старуха больная, неумытая, нечесаная. Пожалела Эльга старого человека — умыла, гребешком причесала, корешок женьшеня отыскала, бабушке пожевать дала. Съела бабка корешок, здоровой стала. Говорит Эльге:
— Спасибо тебе, девочка! Хорошая ты! Ты мне добро сделала. И я тебе добром отплачу. Не иголка моей внучке нужна, а гибель твоя. Дам я тебе иголку, только смотри: будешь иглу отдавать — ушком к себе держи.
…Солнце только-только из моря вылезло, а Эльга на своих собачках уже домой вернулась.
Сидит мачеха злая-презлая.
— Ну, — говорит, — где моя иголка?
— Вот она, — говорит Эльга. — Вот иголка.
Стала она иголку мачехе отдавать. Вспомнила, что старуха ей говорила. Повернула иголку ушком к себе, острием — к мачехе.
А иголка оказалась не простая. Только Пунинга ее в руки взяла, как иголка между пальцами ее принялась сновать, прошила ей пальцы насквозь, друг к другу ей пальцы пришила. Как ни билась Пунинга, не могла палец от пальца отделить.
— Ну, перехитрила ты меня, девчонка! — говорит она Эльге.
Поняла тут она, кто Эльге помогает. Дождалась, когда Эльга уснула. Развела огонь в очаге. Побросала в огонь все игрушки, что Эльге отец сделал. Оленя бросила, собачек побросала. Стали они гореть. Только одна собачка выскочила из огня, бросилась к Эльге, носиком ее толкнула, разбудила:
— Беда, Эльга! Мачеха хочет всех нас убить! Бежим!
— Куда бежать? — спрашивает Эльга.
— Туда бежать, где мачехи нет, — отвечает собачка.
Выскочила Эльга из юрты, собачка — за ней.
Увидела Пунинга, погналась вслед.
В это время луна взошла. Лунная дорожка протянулась по реке. Побежали Эльга и собачка по той дорожке, словно по льду. Кинулась за ними и Пунинга. Только под ней та дорожка сломалась — ее не выдержала. Упала мачеха. Схватила маленькое копье Эльги. Метнула копье вдогонку Эльге. Долетело копье до дочки Сольдиги, говорит:
— Ну, прощай, маленькая хозяйка! Теперь расстанемся мы!
Повернуло копье обратно. Долетело до мачехи. Вошло ей в один глаз, вышло в другой — и в пыль разлетелось. Стали у Пунинги глаза большущие, как плошки. Замахала Пунинга руками, а они у нее крыльями стали. На ногах у мачехи длинные когти выросли. Стала мачеха совой пучеглазой. Хотела домой вернуться, да понесли ее крылья в тайгу. Села мачеха на дерево и закричала:
— Пу-нин-га! Пу-нин-га!
Так сова и до сих пор кричит.
А Эльга с собачкой бежали, бежали по лунной дорожке и добежали до луны. Хотела девочка назад вернуться, а тут светать стало — исчезла та дорожка. И девочка с собачкой остались на луне.
Эльга под утро на землю сходит. Заходит во все жилища, ищет копье Сольдиги, осматривает все. Освещает оружие — нет ли там копья Сольдиги. И если заметит, что кто-нибудь из ребят спит со слезами на глазах, Эльга вытирает слезы и дарит хороший сон, чтобы обиду ребенок забыл. Оттого ребята обиды не помнят.
Но когда сова в тайге закричит свое: «Пу-нин-га! Пу- нин-га!» — тогда Эльга быстро мчится обратно.
Ее можно увидеть, если ночью раскрыть глаза, когда лунный свет коснется их.
А до стойбища на реке Анюй далеко — несколько дней добираться надо.
Что делать Эльге? Опять она загрустила. Игрушки свои перебирает, теплым словом отца вспоминает. Вдруг слышит голос:
— Не печалься, маленькая хозяйка, мы-то на что?
Оглянулась Эльга. А перед ней целая упряжка собачек стоит. Двенадцать собачек, одна другой красивее! Пушистыми хвостиками виляют. Тоненькими ножками постукивают. Шерстка на них белая, глазки у них желтые, носики черные. Удивилась Эльга.
— Откуда вы? — собачек спрашивает.
А те в ответ:
— Разве ты не узнаешь, Эльга? Сольдига сделал нас!
Посмотрела Эльга — а вместо игрушечных собачек живые стоят, настоящие. Услыхали они плач хозяйки и ожили.
Запрягла своих собачек Эльга в нарты, села. И помчались собачки вскачь. Лес не лес, река не река — летят на прямик! Девочка глаза закрыла. А собачки до облаков уже поднялись. Открыла Эльга глаза. Видит — светло кругом… Облака, будто пушистый снег, вокруг лежат. Взяла Эльга осто́л-погоны́ч, стала править нартами.
— Tax, тах! — кричит. — Поть-поть-поть!
Только клочья облаков летят из-под ног собачек. Не успела Эльга устать и замерзнуть не успела, как до анюйского стойбища собачки ее домчали.
Слезла Эльга с нарт. Бабушку Пунинги разыскала. Лежит старуха больная, неумытая, нечесаная. Пожалела Эльга старого человека — умыла, гребешком причесала, корешок женьшеня отыскала, бабушке пожевать дала. Съела бабка корешок, здоровой стала. Говорит Эльге:
— Спасибо тебе, девочка! Хорошая ты! Ты мне добро сделала. И я тебе добром отплачу. Не иголка моей внучке нужна, а гибель твоя. Дам я тебе иголку, только смотри: будешь иглу отдавать — ушком к себе держи.
…Солнце только-только из моря вылезло, а Эльга на своих собачках уже домой вернулась.
Сидит мачеха злая-презлая.
— Ну, — говорит, — где моя иголка?
— Вот она, — говорит Эльга. — Вот иголка.
Стала она иголку мачехе отдавать. Вспомнила, что старуха ей говорила. Повернула иголку ушком к себе, острием — к мачехе.
А иголка оказалась не простая. Только Пунинга ее в руки взяла, как иголка между пальцами ее принялась сновать, прошила ей пальцы насквозь, друг к другу ей пальцы пришила. Как ни билась Пунинга, не могла палец от пальца отделить.
— Ну, перехитрила ты меня, девчонка! — говорит она Эльге.
Поняла тут она, кто Эльге помогает. Дождалась, когда Эльга уснула. Развела огонь в очаге. Побросала в огонь все игрушки, что Эльге отец сделал. Оленя бросила, собачек побросала. Стали они гореть. Только одна собачка выскочила из огня, бросилась к Эльге, носиком ее толкнула, разбудила:
— Беда, Эльга! Мачеха хочет всех нас убить! Бежим!
— Куда бежать? — спрашивает Эльга.
— Туда бежать, где мачехи нет, — отвечает собачка.
Выскочила Эльга из юрты, собачка — за ней.
Увидела Пунинга, погналась вслед.
В это время луна взошла. Лунная дорожка протянулась по реке. Побежали Эльга и собачка по той дорожке, словно по льду. Кинулась за ними и Пунинга. Только под ней та дорожка сломалась — ее не выдержала. Упала мачеха. Схватила маленькое копье Эльги. Метнула копье вдогонку Эльге. Долетело копье до дочки Сольдиги, говорит:
— Ну, прощай, маленькая хозяйка! Теперь расстанемся мы!
Повернуло копье обратно. Долетело до мачехи. Вошло ей в один глаз, вышло в другой — и в пыль разлетелось. Стали у Пунинги глаза большущие, как плошки. Замахала Пунинга руками, а они у нее крыльями стали. На ногах у мачехи длинные когти выросли. Стала мачеха совой пучеглазой. Хотела домой вернуться, да понесли ее крылья в тайгу. Села мачеха на дерево и закричала:
— Пу-нин-га! Пу-нин-га!
Так сова и до сих пор кричит.
А Эльга с собачкой бежали, бежали по лунной дорожке и добежали до луны. Хотела девочка назад вернуться, а тут светать стало — исчезла та дорожка. И девочка с собачкой остались на луне.
Эльга под утро на землю сходит. Заходит во все жилища, ищет копье Сольдиги, осматривает все. Освещает оружие — нет ли там копья Сольдиги. И если заметит, что кто-нибудь из ребят спит со слезами на глазах, Эльга вытирает слезы и дарит хороший сон, чтобы обиду ребенок забыл. Оттого ребята обиды не помнят.
Но когда сова в тайге закричит свое: «Пу-нин-га! Пу- нин-га!» — тогда Эльга быстро мчится обратно.
Ее можно увидеть, если ночью раскрыть глаза, когда лунный свет коснется их.

Лиса и Медведь
 Хитрому как доверять можно! У хитрого на языке одно, а в голове другое. С хитрецом поведешься — в оба глаза за ним гляди!
Жила в тайге лиса. Очень она ловкая да хитрая была. И жила припеваючи. Ловила фазанов, перепелок, куличков. Охотилась на птиц, да и птенчиками не брезговала. А уж яйца она любила!.. Сколько гнезд разорила, сколько птенцов погубила — и не сосчитать! Как-то взялась кукушка считать: «Ку-ку! Один. Ку-ку! Два», — да так и до сих пор считает… Так лиса разбойничала, что в том месте стала дичь переводиться.
Но время идет — никого не ждет. Пришла и на лису напасть. Постарела лиса, видеть плохо стала, силы у нее поубавилось. Пошла она один раз на охоту, видит — идет по дороге фазан-петушок. Подкралась лиса к нему, из-за кустарника выскочила — хвать фазана! А фазан забился, затрепыхался, крыльями захлопал, шпорами своими лисе нос в кровь разодрал да и убежал. Не могла с ним лиса справиться. Фазан на куст взлетел и давай над лисой смеяться.
— Эх, ты! — говорит. — Не охотиться тебе, а шкурой быть! Ни на что другое ты уж не годна.
Заплакала лиса с голодухи да со злости. Побрела в свою нору…
Совсем у нее неудачная охота пошла.
Целый день по тайге бродит, а поймать ничего не может. Попробовала лиса даже за бруснику взяться. Пожевала, пожевала и совсем заскучала: еды много, а сытости нет.
В эту осень перелетные птицы в теплые края рано собрались. Потянулись косяки уток, да гусей, да журавлей. Летят, покрикивают — с сопками, с тайгой да с таежными озерами до весны прощаются.
Услыхала эти крики лиса и совсем помирать собралась: снег выпадает рано, а у лисы никаких запасов на зиму нет.
Идет лиса куда глаза глядят, голову повесила.
— Поищу, — говорит, — глупее себя. Авось проживу.
Повстречалась с медведем, спрашивает:
— Ты куда, сосед, идешь?
Отвечает медведь:
— Да вот ищу, соседка, не скажет ли кто-нибудь мне, о чем журавли по ночам кричат.
Призадумалась лиса, потом говорит:
— Надо пошаманить немножко. Тогда узнаем.
Лыковый пояс лиса надела, щепочки да камешки к нему подвязала. Пошла плясать: хвостом метет, вместо бубна в собачий череп бьет. Развесил уши медведь, на лису смотрит, ладошками прихлопывает, лисе шаманить помогает.
Хитрому как доверять можно! У хитрого на языке одно, а в голове другое. С хитрецом поведешься — в оба глаза за ним гляди!
Жила в тайге лиса. Очень она ловкая да хитрая была. И жила припеваючи. Ловила фазанов, перепелок, куличков. Охотилась на птиц, да и птенчиками не брезговала. А уж яйца она любила!.. Сколько гнезд разорила, сколько птенцов погубила — и не сосчитать! Как-то взялась кукушка считать: «Ку-ку! Один. Ку-ку! Два», — да так и до сих пор считает… Так лиса разбойничала, что в том месте стала дичь переводиться.
Но время идет — никого не ждет. Пришла и на лису напасть. Постарела лиса, видеть плохо стала, силы у нее поубавилось. Пошла она один раз на охоту, видит — идет по дороге фазан-петушок. Подкралась лиса к нему, из-за кустарника выскочила — хвать фазана! А фазан забился, затрепыхался, крыльями захлопал, шпорами своими лисе нос в кровь разодрал да и убежал. Не могла с ним лиса справиться. Фазан на куст взлетел и давай над лисой смеяться.
— Эх, ты! — говорит. — Не охотиться тебе, а шкурой быть! Ни на что другое ты уж не годна.
Заплакала лиса с голодухи да со злости. Побрела в свою нору…
Совсем у нее неудачная охота пошла.
Целый день по тайге бродит, а поймать ничего не может. Попробовала лиса даже за бруснику взяться. Пожевала, пожевала и совсем заскучала: еды много, а сытости нет.
В эту осень перелетные птицы в теплые края рано собрались. Потянулись косяки уток, да гусей, да журавлей. Летят, покрикивают — с сопками, с тайгой да с таежными озерами до весны прощаются.
Услыхала эти крики лиса и совсем помирать собралась: снег выпадает рано, а у лисы никаких запасов на зиму нет.
Идет лиса куда глаза глядят, голову повесила.
— Поищу, — говорит, — глупее себя. Авось проживу.
Повстречалась с медведем, спрашивает:
— Ты куда, сосед, идешь?
Отвечает медведь:
— Да вот ищу, соседка, не скажет ли кто-нибудь мне, о чем журавли по ночам кричат.
Призадумалась лиса, потом говорит:
— Надо пошаманить немножко. Тогда узнаем.
Лыковый пояс лиса надела, щепочки да камешки к нему подвязала. Пошла плясать: хвостом метет, вместо бубна в собачий череп бьет. Развесил уши медведь, на лису смотрит, ладошками прихлопывает, лисе шаманить помогает.
 Покружилась, покружилась лиса, потом говорит:
— Ну, сосед, узнала я, о чем журавли ночью кричат.
— О чем же?
— А кричат они о том, что зима будет ранняя, холодная да длинная. Кричат, что все звери должны друг другу помогать. От такой зимы, кричат, и берлога не спасет!
Испугался медведь.
— Как же быть теперь? — говорит.
Отвечает ему хитрая лиса:
— Вместе жить надо. Вдвоем теплее. А сейчас, — говорит, — надо на зиму запасы собирать да в берлогу таскать!
Задумался медведь: зачем ему запасы, коли ему на всю зиму своей лапы хватает? Так лисе и сказал. Рассердилась лиса, закричала на медведя, ногами затопала:
— Кто хотел узнать, о чем журавли кричат? Ты. А узнал — делай, как говорят. Если не хочешь, я другого товарища себе на зиму найду! А ты один пропадай…
Упросил медведь обманщицу не сердиться.
Уговорились они вместе жить. Стали еду припасать, охотиться пошли. Только плохая у них охота идет. У лисы силы нет, а медведя на спячку потянуло: на дичь смотрит, а сам о берлоге думает. Какая уж тут охота!
Разозлилась лиса, а виду не показывает. Ходит, ходит — все думает, как ей медведя обмануть.
Сколько по тайге ни бродили — нет удачи…
Вдруг потянул носом медведь, шерсть у него на загривке дыбом стала; раздул медведь ноздри, глаза вытаращил, нюхает:
— Не нашим, соседка, пахнет!
Принялся шарить вокруг, что-то лапой загреб. Видит лиса — у медведя в лапах охотничий нож. Видно, охотился кто-то да и обронил нож. Запела лиса тоненьким голосом, заплясала, будто от радости. Спросил медведь, чему она радуется.
Отвечает лиса:
— Как не радоваться мне, сосед! Ведь теперь мы можем зимовать безбедно. Эта штука, что ты нашел, — заколдованная. Она одна может столько мяса принести, сколько тебе за всю охоту не добыть!
Обрадовался и медведь, что не надо теперь по тайге таскаться, что можно будет в берлогу залечь.
— Идем, — говорит, — соседка, домой поскорее!
— Идем, идем!
Побежала лиса вперед. Домчалась до косогора, по которому тропинка шла. Воткнула посреди тропинки нож острием вверх и назад вернулась. Медведю кричит:
— Что же ты тихо больно идешь? Бегом надо.
Побежали они. Добежали до косогора.
Говорит лиса:
— Давай скатимся с горы! Кто скорее!
Согласился медведь. Покатились они кувырком.
Катится лиса и поет:
— Катись, катись, мяса кусок!
— Что ты поешь? — спрашивает медведь лису.
— Да вот пою, что теперь мяса на четверть зимы есть.
Катятся они дальше. Лиса все свое тянет. Спрашивает ее медведь, что она теперь поет.
Отвечает лиса:
— Пою, сосед, что теперь мяса на ползимы есть.
Наткнулся медведь на нож, что лиса на тропинке воткнула, распорол себе брюхо.
А лиса во весь голос поет:
— Лежи, лежи, мяса кусок!
Охает медведь, спрашивает лису:
— А теперь что ты поешь?
— Да вот пою, сосед, что мяса на целую зиму есть.
Издох медведь. Лиса медвежье мясо в берлогу перетаскала. Там и зиму перезимовала.
Вот так лиса обманула медведя.
Верно говорят, что от хитреца да плута добра не жди!
Покружилась, покружилась лиса, потом говорит:
— Ну, сосед, узнала я, о чем журавли ночью кричат.
— О чем же?
— А кричат они о том, что зима будет ранняя, холодная да длинная. Кричат, что все звери должны друг другу помогать. От такой зимы, кричат, и берлога не спасет!
Испугался медведь.
— Как же быть теперь? — говорит.
Отвечает ему хитрая лиса:
— Вместе жить надо. Вдвоем теплее. А сейчас, — говорит, — надо на зиму запасы собирать да в берлогу таскать!
Задумался медведь: зачем ему запасы, коли ему на всю зиму своей лапы хватает? Так лисе и сказал. Рассердилась лиса, закричала на медведя, ногами затопала:
— Кто хотел узнать, о чем журавли кричат? Ты. А узнал — делай, как говорят. Если не хочешь, я другого товарища себе на зиму найду! А ты один пропадай…
Упросил медведь обманщицу не сердиться.
Уговорились они вместе жить. Стали еду припасать, охотиться пошли. Только плохая у них охота идет. У лисы силы нет, а медведя на спячку потянуло: на дичь смотрит, а сам о берлоге думает. Какая уж тут охота!
Разозлилась лиса, а виду не показывает. Ходит, ходит — все думает, как ей медведя обмануть.
Сколько по тайге ни бродили — нет удачи…
Вдруг потянул носом медведь, шерсть у него на загривке дыбом стала; раздул медведь ноздри, глаза вытаращил, нюхает:
— Не нашим, соседка, пахнет!
Принялся шарить вокруг, что-то лапой загреб. Видит лиса — у медведя в лапах охотничий нож. Видно, охотился кто-то да и обронил нож. Запела лиса тоненьким голосом, заплясала, будто от радости. Спросил медведь, чему она радуется.
Отвечает лиса:
— Как не радоваться мне, сосед! Ведь теперь мы можем зимовать безбедно. Эта штука, что ты нашел, — заколдованная. Она одна может столько мяса принести, сколько тебе за всю охоту не добыть!
Обрадовался и медведь, что не надо теперь по тайге таскаться, что можно будет в берлогу залечь.
— Идем, — говорит, — соседка, домой поскорее!
— Идем, идем!
Побежала лиса вперед. Домчалась до косогора, по которому тропинка шла. Воткнула посреди тропинки нож острием вверх и назад вернулась. Медведю кричит:
— Что же ты тихо больно идешь? Бегом надо.
Побежали они. Добежали до косогора.
Говорит лиса:
— Давай скатимся с горы! Кто скорее!
Согласился медведь. Покатились они кувырком.
Катится лиса и поет:
— Катись, катись, мяса кусок!
— Что ты поешь? — спрашивает медведь лису.
— Да вот пою, что теперь мяса на четверть зимы есть.
Катятся они дальше. Лиса все свое тянет. Спрашивает ее медведь, что она теперь поет.
Отвечает лиса:
— Пою, сосед, что теперь мяса на ползимы есть.
Наткнулся медведь на нож, что лиса на тропинке воткнула, распорол себе брюхо.
А лиса во весь голос поет:
— Лежи, лежи, мяса кусок!
Охает медведь, спрашивает лису:
— А теперь что ты поешь?
— Да вот пою, сосед, что мяса на целую зиму есть.
Издох медведь. Лиса медвежье мясо в берлогу перетаскала. Там и зиму перезимовала.
Вот так лиса обманула медведя.
Верно говорят, что от хитреца да плута добра не жди!

Верная примета
 Жили в одной деревне Чурка́ и Пигуна́йка. Чурка был парень тихий — больше молчал, чем говорил. А жена его Пигунайка больше языком работала, чем руками. Даже во сне говорила. Спит, спит, а потом бормотать начнет, да быстро-быстро: ничего не разберешь! Проснется от ее крика Чурка, толкает жену под бок:
— Эй, жена, ты это с кем разговариваешь?
Вскочит Пигунайка, глаза кулаком протрет:
— С умными людьми разговариваю.
— Да ведь это во сне, жена!
— А с умными людьми и во сне разговаривать приятно. Не с тобой же мне говорить! Ты в один год два слова скажешь, и то в тайге.
Три дела у Чурки было: зверя бить, рыбу ловить да трубку курить. Это он хорошо делал!.. Пойдет в тайгу зверя бить — пока друзья силком Чурку не выведут из тайги, все за зверем гоняет. Станет рыбу ловить — до того освирепеет, что сам в невод влезет, коли рыба нейдет. А уж курить Чурка станет — дым клубами валит, столбом к небу поднимается! Если дома Чурка курит — со всей деревни людисбегутся: где пожар? Прибегут, а это Чурка на пороге сидит, трубку курит. А если в тайге Чурка — завидят нивхи, что из тайги дым валом валит, уж знают: это Чурка свою трубку в колено толщиной запалил! Сколько раз ошибались — лесной пожар за табачный дым из трубки Чурки принимали!
Три дела было и у Пигунайки: говорить, спать да сны разгадывать. Это она хорошо делала!.. Начнет говорить — всех заговорит, от нее соседки под нары прячутся. Только и спасение, что к Пигунайке глухую бабку Койны́т подсадить. Сидит та, головой кивает, будто соглашается… А уж если спать Пигунайка завалится — пока все сны не пересмотрит, никто ее не разбудит. Один раз соседские парни ее, спящую, в лес отнесли вместе с постелью; там проснулась она, огляделась вокруг, видит — лес; сама себе говорит, подумав, что сон видит: «Вот дурная я! Что же это я сидя сны смотрю? Надо бы лечь». Легла да еще две недели проспала. Пришлось ее домой тем же парням тащить. Ну, а сны Пигунайка начнет разгадывать — таких страхов наговорит, что бабы потом с нар ночью падают! Сбудется ли то, что Пигунайка говорит, — не знали, а уж после ее отгадок неделю мелкой дрожью дрожали. Никто лучше Пигунайки снов разгадывать не умел! Вот один раз проснулась она. Лежит, молчит, не говорит ничего. Посмотрел на жену Чурка, испугался: почему это молчит жена? Не случилось ли чего?
Жили в одной деревне Чурка́ и Пигуна́йка. Чурка был парень тихий — больше молчал, чем говорил. А жена его Пигунайка больше языком работала, чем руками. Даже во сне говорила. Спит, спит, а потом бормотать начнет, да быстро-быстро: ничего не разберешь! Проснется от ее крика Чурка, толкает жену под бок:
— Эй, жена, ты это с кем разговариваешь?
Вскочит Пигунайка, глаза кулаком протрет:
— С умными людьми разговариваю.
— Да ведь это во сне, жена!
— А с умными людьми и во сне разговаривать приятно. Не с тобой же мне говорить! Ты в один год два слова скажешь, и то в тайге.
Три дела у Чурки было: зверя бить, рыбу ловить да трубку курить. Это он хорошо делал!.. Пойдет в тайгу зверя бить — пока друзья силком Чурку не выведут из тайги, все за зверем гоняет. Станет рыбу ловить — до того освирепеет, что сам в невод влезет, коли рыба нейдет. А уж курить Чурка станет — дым клубами валит, столбом к небу поднимается! Если дома Чурка курит — со всей деревни людисбегутся: где пожар? Прибегут, а это Чурка на пороге сидит, трубку курит. А если в тайге Чурка — завидят нивхи, что из тайги дым валом валит, уж знают: это Чурка свою трубку в колено толщиной запалил! Сколько раз ошибались — лесной пожар за табачный дым из трубки Чурки принимали!
Три дела было и у Пигунайки: говорить, спать да сны разгадывать. Это она хорошо делала!.. Начнет говорить — всех заговорит, от нее соседки под нары прячутся. Только и спасение, что к Пигунайке глухую бабку Койны́т подсадить. Сидит та, головой кивает, будто соглашается… А уж если спать Пигунайка завалится — пока все сны не пересмотрит, никто ее не разбудит. Один раз соседские парни ее, спящую, в лес отнесли вместе с постелью; там проснулась она, огляделась вокруг, видит — лес; сама себе говорит, подумав, что сон видит: «Вот дурная я! Что же это я сидя сны смотрю? Надо бы лечь». Легла да еще две недели проспала. Пришлось ее домой тем же парням тащить. Ну, а сны Пигунайка начнет разгадывать — таких страхов наговорит, что бабы потом с нар ночью падают! Сбудется ли то, что Пигунайка говорит, — не знали, а уж после ее отгадок неделю мелкой дрожью дрожали. Никто лучше Пигунайки снов разгадывать не умел! Вот один раз проснулась она. Лежит, молчит, не говорит ничего. Посмотрел на жену Чурка, испугался: почему это молчит жена? Не случилось ли чего?
 — Что ты, Пигунайка? — спрашивает он.
— Во сне красную ягоду видела, — говорит жена. — К ссоре…
— Что ты, жена, из-за чего нам ссориться?
— К ссоре это, — говорит Пигунайка. — Примета верная. Уж я ли сны разгадывать не умею!.. Помнишь, во сне олену́ху видела, к бурану это — сказала… Разве не стал после этого буран?
Молчит Чурка, говорить не хочет, что оленуху жена видела во сне тогда, когда уже снегом дверь завалило; не смогли они, проснувшись, дверь открыть да три дня с женой дома и просидели. Вот на третий день и увидала жена во сне оленуху.
— Что молчишь? — говорит Пигунайка. — Красная ягода — к ссоре, уж я-то это хорошо знаю.
— Не буду я ссориться с тобой, Пигунайка, — бормочет Чурка.
А жена на него сердится:
— Как не будешь, если я сон такой видела!
— Да из-за чего?
— Уж ты найдешь из-за чего! Может, вспомнишь, как у нас рыба протухла, когда я на минутку прилегла…
— Да это верно, жена. Протухла рыба. Три дня ты тогда спала. Насилу разбудили, когда у нас нары загорелись оттого, что в очаге без присмотра угли остались…
— Ага! — говорит Пигунайка. — Так твоей жене уж и прилечь нельзя? Все бы за тобой ходить! Вот ты какой…
— Жена, — говорит Чурка, — ну, зачем это дело вспоминать? Ну, протухла рыба — и пускай. Я потом в два раза больше наловил.
— Ага, — говорит Пигунайка, — так ты меня еще и попрекаешь! Хочешь, чтобы я за тебя на рыбную ловлю ходила? Вижу я — хочешь ты со мной поссориться!
— Не хочу я, жена, ссориться, — говорит Чурка.
— Нет, хочешь! — говорит жена. — Уж если я красную ягоду во сне видела — быть ссоре!
— Не хочу я! — говорит Чурка.
— Нет, хочешь!
— Не хочу!
— А вот хочешь — по глазам вижу!
— Жена! — говорит Чурка, голос возвысив.
— A-а, так ты уж и кричать на меня начал? — говорит Пигунайка да ка-ак хватит мужа по лбу поварешкой!
Чурка смирный-смирный, а когда у него на лбу шишка величиной с кулак вылезла, тут и он в драку полез.
Сцепились они.
Кричит Пигунайка:
— Быть ссоре!
— Не быть!
— Нет, быть!
— Нет, не быть!
Шум подняли не хуже того бурана, когда Пигунайка оленуху во сне видела.
Сбежались соседи со всей деревни. Мужики Чурку тащат, бабы за Пигунайку держатся. Тащили, тащили — никак не разнимут. Стали воду с реки таскать, стали мужа с женой той водой разливать.
— Э-э, жена, — говорит Чурка, — погоди! Видно, крыша у нас прохудилась: дождь идет!
Разняли их.
Сидит Чурка — шишки считает. Сидит Пигунайка — запухшие глаза руками раздирает.
— Что случилось? — спрашивают их соседи.
— Ничего, — говорит Пигунайка. — Просто сон я видела, будто красную ягоду рву. Верная это примета — к ссоре!
Кому, как не ей, знать: вот красную ягоду во сне увидала и поссорилась с мужем!
— Что ты, Пигунайка? — спрашивает он.
— Во сне красную ягоду видела, — говорит жена. — К ссоре…
— Что ты, жена, из-за чего нам ссориться?
— К ссоре это, — говорит Пигунайка. — Примета верная. Уж я ли сны разгадывать не умею!.. Помнишь, во сне олену́ху видела, к бурану это — сказала… Разве не стал после этого буран?
Молчит Чурка, говорить не хочет, что оленуху жена видела во сне тогда, когда уже снегом дверь завалило; не смогли они, проснувшись, дверь открыть да три дня с женой дома и просидели. Вот на третий день и увидала жена во сне оленуху.
— Что молчишь? — говорит Пигунайка. — Красная ягода — к ссоре, уж я-то это хорошо знаю.
— Не буду я ссориться с тобой, Пигунайка, — бормочет Чурка.
А жена на него сердится:
— Как не будешь, если я сон такой видела!
— Да из-за чего?
— Уж ты найдешь из-за чего! Может, вспомнишь, как у нас рыба протухла, когда я на минутку прилегла…
— Да это верно, жена. Протухла рыба. Три дня ты тогда спала. Насилу разбудили, когда у нас нары загорелись оттого, что в очаге без присмотра угли остались…
— Ага! — говорит Пигунайка. — Так твоей жене уж и прилечь нельзя? Все бы за тобой ходить! Вот ты какой…
— Жена, — говорит Чурка, — ну, зачем это дело вспоминать? Ну, протухла рыба — и пускай. Я потом в два раза больше наловил.
— Ага, — говорит Пигунайка, — так ты меня еще и попрекаешь! Хочешь, чтобы я за тебя на рыбную ловлю ходила? Вижу я — хочешь ты со мной поссориться!
— Не хочу я, жена, ссориться, — говорит Чурка.
— Нет, хочешь! — говорит жена. — Уж если я красную ягоду во сне видела — быть ссоре!
— Не хочу я! — говорит Чурка.
— Нет, хочешь!
— Не хочу!
— А вот хочешь — по глазам вижу!
— Жена! — говорит Чурка, голос возвысив.
— A-а, так ты уж и кричать на меня начал? — говорит Пигунайка да ка-ак хватит мужа по лбу поварешкой!
Чурка смирный-смирный, а когда у него на лбу шишка величиной с кулак вылезла, тут и он в драку полез.
Сцепились они.
Кричит Пигунайка:
— Быть ссоре!
— Не быть!
— Нет, быть!
— Нет, не быть!
Шум подняли не хуже того бурана, когда Пигунайка оленуху во сне видела.
Сбежались соседи со всей деревни. Мужики Чурку тащат, бабы за Пигунайку держатся. Тащили, тащили — никак не разнимут. Стали воду с реки таскать, стали мужа с женой той водой разливать.
— Э-э, жена, — говорит Чурка, — погоди! Видно, крыша у нас прохудилась: дождь идет!
Разняли их.
Сидит Чурка — шишки считает. Сидит Пигунайка — запухшие глаза руками раздирает.
— Что случилось? — спрашивают их соседи.
— Ничего, — говорит Пигунайка. — Просто сон я видела, будто красную ягоду рву. Верная это примета — к ссоре!
Кому, как не ей, знать: вот красную ягоду во сне увидала и поссорилась с мужем!

Глупый богач
 Богатство ума не приносит. А жадность последнего ума лишает…
Жили на Амуре два человека: никанский купец Ли-Фу́ да нанайский охотник Актанка. Разные они люди были.
Актанка рыбу ловил, зверя бил, всю жизнь работал, а все бедно жил. Ли-Фу стрелу на лук наложить не умел, сойку от рябчика отличить не умел, в своей жизни ни одной рыбы не поймал, что такое невод — не знал, только деньги считал да, в лавке сидя, торговал, а жил богато. Актанка всю свою добычу отдавал ему за крупу да муку.
Ли-Фу был жадный и нечестный человек. Он у Актанки пушнину брал. В свою толстую книгу записывал — что брал, что давал. Но записывал он неправильно. А Актанка был неграмотный и сам не мог сосчитать, сколько он должен Ли-Фу.
И получалось, что чем удачливее охотился Актанка, тем дороже становились товары у Ли-Фу.
Не может Актанка долг уплатить!
А Ли-Фу каждый день прибегает и кричит:
— Эй, ты, не лежи! Иди на охоту! Долг за тобой!
Как-то отобрал Ли-Фу у Актанки сетки за долг. Совсем поглупел купец от жадности, не понимает, что без снасти ничего Актанка не поймает.
Подумал, подумал Актанка. Долго думал. Сделал силки из жил сохатого, самострел насторожил на тропинке, по которой кабан на водопой ходил. Кабан пошел воду пить — самострел свалил его. Опять у Актанки добыча есть.
Стал Актанка мясо варить.
Ли-Фу услыхал, что мясом пахнет, прибежал. На охотника кричит, ногами топает, в свою толстую книгу пальцем тычет:
— Эй, ты, долг отдавай!
Отдал ему Актанка все мясо. А Ли-Фу и того мало: и самострел забрал и силки! Вот как…
Говорит жена Актанки — Аинка́:
— Что мы делать будем, господин Ли-Фу? Без снасти нельзя добычу взять, нельзя мяса добыть, шкуру добыть.
Не слушает ее Ли-Фу, сгреб все в охапку и ушел. Заплакала Аинка.
Говорит ей Актанка:
— Ничего, жена, как-нибудь проживем.
Подумал, подумал. Долго думал. Потом из ветки тиса сделал маленький лучок и пошел в тайгу.
Глаз у Актанки острый, рука у него твердая. Как пустит стрелу — так и убьет птицу. Много дичи набил. Принес домой. Стала Аинка птицу жарить на вертеле.
Услыхал жадный Ли-Фу, что у Актанки жареным пахнет, опять прибежал:
— Отдавай долг!
Не может Актанка долг отдать. Забрал у него Ли-Фу и лучок, и стрелы, и птицу. Ушел.
Плачет Аинка:
— Ой-ёй-ёй! Как теперь жить станем?
Говорит ей Актанка:
— Не плачь, жена, давай лучше думать.
Вот стал Актанка думать. Всю ночь думал. Чуть весь табак не искурил, пока думал.
Утром говорит жене:
— Поди приготовь смолы.
Пошла Аинка в лес. Набрала смолы с пихты, елки. Много набрала. Растопила, смешала.
Взял Актанка чумашку со смолой. Пошел на утес, где высокая ель росла.
Залез он на это дерево, на самую вершину. Вокруг посмотрел. Видит — птицы летят. Стал Актанка с того дерева слезать, стал смолой ветки и ствол мазать. Спускается и мажет, спускается и мажет… Все дерево вымазал, потом домой пошел спать.
Богатство ума не приносит. А жадность последнего ума лишает…
Жили на Амуре два человека: никанский купец Ли-Фу́ да нанайский охотник Актанка. Разные они люди были.
Актанка рыбу ловил, зверя бил, всю жизнь работал, а все бедно жил. Ли-Фу стрелу на лук наложить не умел, сойку от рябчика отличить не умел, в своей жизни ни одной рыбы не поймал, что такое невод — не знал, только деньги считал да, в лавке сидя, торговал, а жил богато. Актанка всю свою добычу отдавал ему за крупу да муку.
Ли-Фу был жадный и нечестный человек. Он у Актанки пушнину брал. В свою толстую книгу записывал — что брал, что давал. Но записывал он неправильно. А Актанка был неграмотный и сам не мог сосчитать, сколько он должен Ли-Фу.
И получалось, что чем удачливее охотился Актанка, тем дороже становились товары у Ли-Фу.
Не может Актанка долг уплатить!
А Ли-Фу каждый день прибегает и кричит:
— Эй, ты, не лежи! Иди на охоту! Долг за тобой!
Как-то отобрал Ли-Фу у Актанки сетки за долг. Совсем поглупел купец от жадности, не понимает, что без снасти ничего Актанка не поймает.
Подумал, подумал Актанка. Долго думал. Сделал силки из жил сохатого, самострел насторожил на тропинке, по которой кабан на водопой ходил. Кабан пошел воду пить — самострел свалил его. Опять у Актанки добыча есть.
Стал Актанка мясо варить.
Ли-Фу услыхал, что мясом пахнет, прибежал. На охотника кричит, ногами топает, в свою толстую книгу пальцем тычет:
— Эй, ты, долг отдавай!
Отдал ему Актанка все мясо. А Ли-Фу и того мало: и самострел забрал и силки! Вот как…
Говорит жена Актанки — Аинка́:
— Что мы делать будем, господин Ли-Фу? Без снасти нельзя добычу взять, нельзя мяса добыть, шкуру добыть.
Не слушает ее Ли-Фу, сгреб все в охапку и ушел. Заплакала Аинка.
Говорит ей Актанка:
— Ничего, жена, как-нибудь проживем.
Подумал, подумал. Долго думал. Потом из ветки тиса сделал маленький лучок и пошел в тайгу.
Глаз у Актанки острый, рука у него твердая. Как пустит стрелу — так и убьет птицу. Много дичи набил. Принес домой. Стала Аинка птицу жарить на вертеле.
Услыхал жадный Ли-Фу, что у Актанки жареным пахнет, опять прибежал:
— Отдавай долг!
Не может Актанка долг отдать. Забрал у него Ли-Фу и лучок, и стрелы, и птицу. Ушел.
Плачет Аинка:
— Ой-ёй-ёй! Как теперь жить станем?
Говорит ей Актанка:
— Не плачь, жена, давай лучше думать.
Вот стал Актанка думать. Всю ночь думал. Чуть весь табак не искурил, пока думал.
Утром говорит жене:
— Поди приготовь смолы.
Пошла Аинка в лес. Набрала смолы с пихты, елки. Много набрала. Растопила, смешала.
Взял Актанка чумашку со смолой. Пошел на утес, где высокая ель росла.
Залез он на это дерево, на самую вершину. Вокруг посмотрел. Видит — птицы летят. Стал Актанка с того дерева слезать, стал смолой ветки и ствол мазать. Спускается и мажет, спускается и мажет… Все дерево вымазал, потом домой пошел спать.
 Утром жену разбудил:
— Эй, жена, иди добычу собирать!
Пошла жена Актанки к тому дереву. Видит — все дерево птицами усеяно. Ночью птицы на дерево отдыхать сели да и прилипли. Как крыльями ни хлопали — оторваться не могли. Собрала Аинка дичь, понесла домой. Стала птицу жарить.
Ли-Фу спал да во сне барыши считал. Вдруг запах мяса услыхал из фанзы Актанки. Вскочил, побежал. От жадности трясется весь, руки дрожат, коса по спине прыгает, туфли с ног сваливаются, халат выше колен задирается.
Прибежал Ли-Фу к Актанке, в свою толстую книгу пальцем тычет.
— Эй, — кричит, — долг не отдаешь, а мясо ешь! Отдавай долг!
— Не могу, — говорит Актанка. — Не могу, господин богатый.
— Тогда снасть отдавай!
— А снасти у меня нету, — Актанка говорит. — Сам же ты у меня всю снасть забрал.
Ли-Фу в котел Актанки руку запустил, утку вытащил. Как птицу увидал — глаза вытаращил, ногами затопал, покраснел от злости, кричит не своим голосом:
— А эта сама к тебе в котел прилетела?
— Без снасти поймал, — отвечает Актанка. — Надо только дерево смолой намазать. Сядут на то дерево птицы и прилипнут, а тут их голыми руками собирай да в котел бросай.
Обрадовался Ли-Фу. «Вот, — думает, — хорошо! Теперь я всех гусей, всех уток переловлю! Хорошая торговля пойдет! А Актанке теперь ни муки, ни крупы, ни сала не дам!»
Побежал богач домой. Жену в лес погнал, велел смолу собирать. Целую бочку смолы набрала жена богача. Еле-еле ту бочку вдвоем до горы дотащили, где высокие деревья росли.
Ли-Фу смолы в медный котел набрал, на дерево полез. Лезет и мажет… Лезет и мажет…
Пока до вершины добрался, все дерево обмазал. Густо-густо обмазал, чтобы птиц побольше прилипло.
Жена кричит ему снизу:
— Эй, слезай, Ли-Фу! А то всех птиц перепугаешь. Видишь — целый косяк гусей летит! Да жирные-прежирные, сало с них в реку капает!
Стал купец слезать. А дерево липкое. Чем ниже, тем смола крепче…
Прилип Ли-Фу к дереву. И руки, и ноги, и халат его расшитый прилипли.
Торопит его жена:
— Слезай, Ли-Фу! Уже близко те гуси…
А Ли-Фу не может двинуться ни вверх, ни вниз. Говорит жене:
— Не могу слезть! Руби дерево! Птицы и на поваленное сядут.
Схватила жена богача топор, принялась рубить дерево. Машет что есть силы — только щепки в разные стороны летят.
А Ли-Фу кричит:
— Скорей, скорей! А то гуси мимо пролетят.
Подрубила жена дерево. Упало оно, ударилось о землю. Убился жадный Ли-Фу. Отскочил один сучок, ударил жену богача в лоб. Упала она в бочку со смолой.
Опрокинулась бочка, покатилась и упала в реку вместе с женой глупого и жадного Ли-Фу. А нам не жалко ее — она тоже не лучше своего мужа была!
А Актанка пошел в фанзу Ли-Фу, забрал все свои снасти: и лучок, и самострел, и силки. Стал жить — охотиться стал, рыбу ловил.
И никто у него добычу больше не отбирал.
Утром жену разбудил:
— Эй, жена, иди добычу собирать!
Пошла жена Актанки к тому дереву. Видит — все дерево птицами усеяно. Ночью птицы на дерево отдыхать сели да и прилипли. Как крыльями ни хлопали — оторваться не могли. Собрала Аинка дичь, понесла домой. Стала птицу жарить.
Ли-Фу спал да во сне барыши считал. Вдруг запах мяса услыхал из фанзы Актанки. Вскочил, побежал. От жадности трясется весь, руки дрожат, коса по спине прыгает, туфли с ног сваливаются, халат выше колен задирается.
Прибежал Ли-Фу к Актанке, в свою толстую книгу пальцем тычет.
— Эй, — кричит, — долг не отдаешь, а мясо ешь! Отдавай долг!
— Не могу, — говорит Актанка. — Не могу, господин богатый.
— Тогда снасть отдавай!
— А снасти у меня нету, — Актанка говорит. — Сам же ты у меня всю снасть забрал.
Ли-Фу в котел Актанки руку запустил, утку вытащил. Как птицу увидал — глаза вытаращил, ногами затопал, покраснел от злости, кричит не своим голосом:
— А эта сама к тебе в котел прилетела?
— Без снасти поймал, — отвечает Актанка. — Надо только дерево смолой намазать. Сядут на то дерево птицы и прилипнут, а тут их голыми руками собирай да в котел бросай.
Обрадовался Ли-Фу. «Вот, — думает, — хорошо! Теперь я всех гусей, всех уток переловлю! Хорошая торговля пойдет! А Актанке теперь ни муки, ни крупы, ни сала не дам!»
Побежал богач домой. Жену в лес погнал, велел смолу собирать. Целую бочку смолы набрала жена богача. Еле-еле ту бочку вдвоем до горы дотащили, где высокие деревья росли.
Ли-Фу смолы в медный котел набрал, на дерево полез. Лезет и мажет… Лезет и мажет…
Пока до вершины добрался, все дерево обмазал. Густо-густо обмазал, чтобы птиц побольше прилипло.
Жена кричит ему снизу:
— Эй, слезай, Ли-Фу! А то всех птиц перепугаешь. Видишь — целый косяк гусей летит! Да жирные-прежирные, сало с них в реку капает!
Стал купец слезать. А дерево липкое. Чем ниже, тем смола крепче…
Прилип Ли-Фу к дереву. И руки, и ноги, и халат его расшитый прилипли.
Торопит его жена:
— Слезай, Ли-Фу! Уже близко те гуси…
А Ли-Фу не может двинуться ни вверх, ни вниз. Говорит жене:
— Не могу слезть! Руби дерево! Птицы и на поваленное сядут.
Схватила жена богача топор, принялась рубить дерево. Машет что есть силы — только щепки в разные стороны летят.
А Ли-Фу кричит:
— Скорей, скорей! А то гуси мимо пролетят.
Подрубила жена дерево. Упало оно, ударилось о землю. Убился жадный Ли-Фу. Отскочил один сучок, ударил жену богача в лоб. Упала она в бочку со смолой.
Опрокинулась бочка, покатилась и упала в реку вместе с женой глупого и жадного Ли-Фу. А нам не жалко ее — она тоже не лучше своего мужа была!
А Актанка пошел в фанзу Ли-Фу, забрал все свои снасти: и лучок, и самострел, и силки. Стал жить — охотиться стал, рыбу ловил.
И никто у него добычу больше не отбирал.

Два слабых и один сильный
 Один слабый против сильного, что мышь против медведя: накроет медведь лапой — и нет ее! А два слабых против сильного — еще посмотреть надо, чья возьмет!
Один медведь совсем закон забыл: стал озорничать, стал мелких зверьков обижать. Не стало от него житья ни мышам, ни еврашкам, ни хорькам. И тарбаганам, и тушканам, и колонкам от него житья не стало. Кто бы его винил, если бы медведь с голоду на них польстился? А то медведь — сытый, жирный! Не столько ест, сколько давит. Понравилось ему малышей гонять. И нигде от него не скроешься: в дупле — достанет, в норе — достанет, на ветке — достанет и в воде — достанет!
Плакали звери, но терпели. А потом принялся медведь детенышей их изводить. Это уж последнее дело, никуда не годное дело — хуже этого не придумаешь! Стал медведь птичьи гнезда разорять, стал в норах детенышей губить…
У мышки-малютки всех раздавил. Раз ногой ступил — и ни одного в живых не осталось. Плачет мышка, мечется. А что она одна сделать против медведя может?
У птички синички гнездо разорил медведь, все яйца поел. Плачет синичка, вокруг гнезда летает. А что она одна против медведя сделать может?
А медведь хохочет над ними.
Бежит мышка защиты искать. Слышит — синичка плачет. Спрашивает мышка:
— Эй, соседка, что случилось? Что ты плачешь?
Говорит синичка:
— Уже время было вылупиться из яичек моим деткам! Клювиками в скорлупу стучали. Сожрал их медведь! Где защиту найду? Что одна сделаю?
Заплакала и мышка:
— Уже черной шерсткой мои детки покрываться стали! Уже глазки открывать они стали! И тоже медведь погубил всех!
Где защиту найти, как спасти детей от него? К Таежному Хозяину идти — далеко. Самим медведя наказать — сил у каждого мало. Думали, думали — придумали. «Чего бояться? — говорят. — Нас теперь двое!»
Пошли они к медведю. А медведь — сам навстречу. Идет, переваливается с ноги на ногу. По привычке уже и лапу поднял, чтобы мышку с синичкой прихлопнуть, одним ударом обеих соседок раздавить.
А синичка кричит ему:
— Эй, сосед, погоди! У меня новость хорошая есть!
— Что за новость? — рычит медведь. — Говори, да поскорее!
Отвечает ему синичка:
— Видела я в соседней роще рой пчелиный. Полетела туда, гляжу — целая колода меду, до краев полная, мед на землю сочится. Дай, думаю, медведю скажу…
Услыхал медведь про мед, сразу про все забыл, слюни распустил.
— А где та колода стоит? — спрашивает он у синички.
— Мы тебя проводим, сосед, — говорит ему мышь.
Вот пошли они.
Синичка впереди летит, дорогу указывает, дальней дорогой медведя ведет. А мышь напрямик к той роще побежала.
Подбежала к колоде, кричит пчелам:
— Эй, соседки, у меня к вам большое дело есть!
Слетелись к ней пчелы. Рассказала мышь, какое у нее дело.
Говорят ей пчелы:
— Как в этом деле не помочь! Поможем! Нам этот медведь тоже много худого сделал — сколько колод раздавил!
Довела синичка медведя до рощи. Показала, где колода лежит. А медведь уже и сам ее увидел, кинулся к колоде, облизывается, сопит, пыхтит… Только он к колоде подошел, а пчелы всем роем налетели на него. Стали жалить со всех сторон! Машет на них медведь лапой, в сторону отгоняет, а пчелы — на него! Заревел медведь, бросился назад. А глаза у него запухли от пчелиных укусов и закрылись совсем. Не видит медведь дороги. Лезет напрямик по всем буеракам, по всем валежинам и корягам. Падает, спотыкается, в кровь изодрался. А пчелы — за ним!
Одно медведю спасение — в воду броситься, отсидеться в воде, пока пчелы не улетят обратно. А глаза у медведя запухли, не видит он, куда бежит. Вспомнил он тут про мышь да про синичку. Закричал что есть силы:
— Эй, соседки, где вы?
— Тут мы! — отзываются мышь с синичкой. — Загрызают нас пчелы, погибаем мы!
— Проведите меня к воде! — кричит медведь.
Села синичка на одно плечо медведю, вскочила мышка на другое. Ревет медведь. А соседки говорят ему, куда повернуть, где бежать, а где — через валежину перелезать.
Один слабый против сильного, что мышь против медведя: накроет медведь лапой — и нет ее! А два слабых против сильного — еще посмотреть надо, чья возьмет!
Один медведь совсем закон забыл: стал озорничать, стал мелких зверьков обижать. Не стало от него житья ни мышам, ни еврашкам, ни хорькам. И тарбаганам, и тушканам, и колонкам от него житья не стало. Кто бы его винил, если бы медведь с голоду на них польстился? А то медведь — сытый, жирный! Не столько ест, сколько давит. Понравилось ему малышей гонять. И нигде от него не скроешься: в дупле — достанет, в норе — достанет, на ветке — достанет и в воде — достанет!
Плакали звери, но терпели. А потом принялся медведь детенышей их изводить. Это уж последнее дело, никуда не годное дело — хуже этого не придумаешь! Стал медведь птичьи гнезда разорять, стал в норах детенышей губить…
У мышки-малютки всех раздавил. Раз ногой ступил — и ни одного в живых не осталось. Плачет мышка, мечется. А что она одна сделать против медведя может?
У птички синички гнездо разорил медведь, все яйца поел. Плачет синичка, вокруг гнезда летает. А что она одна против медведя сделать может?
А медведь хохочет над ними.
Бежит мышка защиты искать. Слышит — синичка плачет. Спрашивает мышка:
— Эй, соседка, что случилось? Что ты плачешь?
Говорит синичка:
— Уже время было вылупиться из яичек моим деткам! Клювиками в скорлупу стучали. Сожрал их медведь! Где защиту найду? Что одна сделаю?
Заплакала и мышка:
— Уже черной шерсткой мои детки покрываться стали! Уже глазки открывать они стали! И тоже медведь погубил всех!
Где защиту найти, как спасти детей от него? К Таежному Хозяину идти — далеко. Самим медведя наказать — сил у каждого мало. Думали, думали — придумали. «Чего бояться? — говорят. — Нас теперь двое!»
Пошли они к медведю. А медведь — сам навстречу. Идет, переваливается с ноги на ногу. По привычке уже и лапу поднял, чтобы мышку с синичкой прихлопнуть, одним ударом обеих соседок раздавить.
А синичка кричит ему:
— Эй, сосед, погоди! У меня новость хорошая есть!
— Что за новость? — рычит медведь. — Говори, да поскорее!
Отвечает ему синичка:
— Видела я в соседней роще рой пчелиный. Полетела туда, гляжу — целая колода меду, до краев полная, мед на землю сочится. Дай, думаю, медведю скажу…
Услыхал медведь про мед, сразу про все забыл, слюни распустил.
— А где та колода стоит? — спрашивает он у синички.
— Мы тебя проводим, сосед, — говорит ему мышь.
Вот пошли они.
Синичка впереди летит, дорогу указывает, дальней дорогой медведя ведет. А мышь напрямик к той роще побежала.
Подбежала к колоде, кричит пчелам:
— Эй, соседки, у меня к вам большое дело есть!
Слетелись к ней пчелы. Рассказала мышь, какое у нее дело.
Говорят ей пчелы:
— Как в этом деле не помочь! Поможем! Нам этот медведь тоже много худого сделал — сколько колод раздавил!
Довела синичка медведя до рощи. Показала, где колода лежит. А медведь уже и сам ее увидел, кинулся к колоде, облизывается, сопит, пыхтит… Только он к колоде подошел, а пчелы всем роем налетели на него. Стали жалить со всех сторон! Машет на них медведь лапой, в сторону отгоняет, а пчелы — на него! Заревел медведь, бросился назад. А глаза у него запухли от пчелиных укусов и закрылись совсем. Не видит медведь дороги. Лезет напрямик по всем буеракам, по всем валежинам и корягам. Падает, спотыкается, в кровь изодрался. А пчелы — за ним!
Одно медведю спасение — в воду броситься, отсидеться в воде, пока пчелы не улетят обратно. А глаза у медведя запухли, не видит он, куда бежит. Вспомнил он тут про мышь да про синичку. Закричал что есть силы:
— Эй, соседки, где вы?
— Тут мы! — отзываются мышь с синичкой. — Загрызают нас пчелы, погибаем мы!
— Проведите меня к воде! — кричит медведь.
Села синичка на одно плечо медведю, вскочила мышка на другое. Ревет медведь. А соседки говорят ему, куда повернуть, где бежать, а где — через валежину перелезать.
 Говорит ему синичка:
— Уже реку видно, сосед.
Говорит ему мышь:
— Теперь совсем близко, сосед.
— Вот хорошо! — говорит медведь. — А то совсем меня проклятые пчелы закусали! Чем дальше — тем больней жалят!
Не видит он, что пчелы давно отстали.
Тут кричат ему соседки:
— Прыгай в воду, сосед, да на дно садись, тут мелко!
Думает медведь про себя: «Только бы мне от пчел избавиться, а уж я от вас мокрое место оставлю!»
Что есть силы прыгнул медведь. Думал — в реку прыгает, а угодил в ущелье, куда его мышь да синичка завели. Летит медведь в пропасть, то об один утес стукнется, то о другой… Во все стороны шерсть летит.
Летит рядом с медведем синичка:
— Думал, сильный ты, медведь, так на тебя и силы другой не найдется? Деток моих съел!
Сидит мышь на медведе, в шерсть зарылась, говорит:
— Думал, сильный ты, медведь, так на тебя и силы другой не найдется? Деток моих раздавил!
Грохнулся медведь на землю. Разбился.
Так и надо ему! Зачем детенышей губил?
Набежали отовсюду звери и птицы малые. Поклонились они мышке да синичке, спасибо сказали.
Один слабый против сильного что сделать может!
Два слабых против сильного — это еще посмотреть надо, чья возьмет!
Говорит ему синичка:
— Уже реку видно, сосед.
Говорит ему мышь:
— Теперь совсем близко, сосед.
— Вот хорошо! — говорит медведь. — А то совсем меня проклятые пчелы закусали! Чем дальше — тем больней жалят!
Не видит он, что пчелы давно отстали.
Тут кричат ему соседки:
— Прыгай в воду, сосед, да на дно садись, тут мелко!
Думает медведь про себя: «Только бы мне от пчел избавиться, а уж я от вас мокрое место оставлю!»
Что есть силы прыгнул медведь. Думал — в реку прыгает, а угодил в ущелье, куда его мышь да синичка завели. Летит медведь в пропасть, то об один утес стукнется, то о другой… Во все стороны шерсть летит.
Летит рядом с медведем синичка:
— Думал, сильный ты, медведь, так на тебя и силы другой не найдется? Деток моих съел!
Сидит мышь на медведе, в шерсть зарылась, говорит:
— Думал, сильный ты, медведь, так на тебя и силы другой не найдется? Деток моих раздавил!
Грохнулся медведь на землю. Разбился.
Так и надо ему! Зачем детенышей губил?
Набежали отовсюду звери и птицы малые. Поклонились они мышке да синичке, спасибо сказали.
Один слабый против сильного что сделать может!
Два слабых против сильного — это еще посмотреть надо, чья возьмет!

Жадный Канчуга
 Это еще тогда было, когда звери человеческий язык понимали. Тогда тигр с удэгейскими людьми в родстве состоял. Тогда в роду Бисанка́ тигр желанным гостем был.
Жили Бисанка в верховьях реки Ко́ппи. Много их было. Когда все разом говорили — на Аню́е слышно было.
Один год очень хорошая охота случилась. Столько охотники соболя, выдры, белки, хорька, колонка, медведя и лисицы добыли, сколько ни разу добыть не могли.
Купцы к Бисанка приехали, все товары продали, а пушнины будто и не убавилось.
Собрались Бисанка на Амур — пушнину свою продавать. Двадцать нарт снарядили. Лучших собачек в стойбище взяли. Лучшую одежду надели. Косы новым красным шнуром оплели. Шапочки из шкурок кабарги с собольими хвостами на головы надели. Белые богдо́ — повязки — на головы надели. Белые халаты, шелками шитые, белые штаны надели. На нарты сели, ездовыми палками взмахнули, между полозьями их вставили — собакам волю дали.
— Tax, тах! Поть-поть-поть!
Побежали собачки. Только снег в стороны летит да полозья скрипят.
Бегут собачки, лают. Тот лай услыхав, все звери в разные стороны бегут, за деревья, за сугробы прячутся. Несутся собачки, как ветер.
Такие собачки хорошие, что без остановки летят, на ходу юколу глотают…
Через горный хребет перевалили собачки; им все нипочем; горы, реки, распадки, — мчат напрямик. На верховья Анюя вышли, потом — на Хор, потом — на Уссури, потом — на Амур. Сколько ехали удэ — кто знает: весело ехали, время не считали!
А в Мулла́ки на Амуре — торг большой. Народу собралось отовсюду великое множество: нанайцы с Амура; нивхи, одетые в рыбью кожу, с острова; негидальцы с Амгу́ни на собаках; орочоны с далеких пастбищ, в овчинной одежде; у́льчи в сохатиных унтах; о́рочи в оленьих торбасах… Разве всех пересчитаешь!
Торг большой.
Купцов понаехало много: косатые маньчжу, бритые нека с длинными ногтями приехали; с заморских островов купцы в деревянных латах, с двуручными мечами приехали.
Только с купцами черная болезнь приехала. На чем ехала — кто знает! На лодке ли, на собачках ли, на оленях ли, пешком ли пришла — не знаю. В чем одета была — не знаю. Только на том большом торге хозяйкой стала.
Сели Бисанка торговать, а тут — беда!
Напала на людей черная болезнь. И стали они умирать. И нанайцы, и никанцы, и негидальцы, и орочоны, и маньчжу, и орочи, и ульчи умирать стали, и охотники, и купцы умирать стали.
Видят люди — плохо дело: смерть ни с кем не торгуется, всех подряд берет. Разбежались люди в разные стороны.
А у Бисанка и бежать некому! Из всех в живых один парень остался, по имени Конга́. Приезжал он с братом. А брата взяла черная смерть. Похоронил Конга своих сородичей. Думает:
«Как брата своего на чужой земле оставлю? Пусть со мной едет. Пусть по обычаю нашему похоронят его. Пусть за всех сородичей перед Хозяином стоит!»
Сколотил Конга большой ящик, положил туда брата.
Бросил Конга все товары — не до них тут… Сел на последнюю упряжку, крикнул на собак — и поскорее от проклятого места, домой!
Едет Конга — не оглядывается, от болезни бежит.
А болезнь вместе с братом в ящике лежит…
Сколько ехал Конга — кто знает: сначала на Уссури, потом на Хор, потом на Анюй, потом через горы…
В тех горах каменные поляны были. На тех каменных полянах — тигровое стойбище. В том стойбище тигры жили. К стойбищу многие дороги вели: дороги костями устланы да черепами огорожены.
Подъехал Конга к тигровой дороге.
Стоит на дороге тигр. Увидал Конгу, через спину перекатился, человеком стал, поздоровался, спросил, как торговал Конга, какие новости везет.
Рассказал парень, какая беда случилась, какие плохие новости с собой везет. Покачал головой тигриный человек, говорит:
— Поезжай! Хоронить брата будете — поплакать приду. Твой брат хороший охотник был… — Через спину перекатился, тигром стал, ушел.
Переехал Конга дорогу. Отсюда и до стойбища недалеко.
Приехал парень. Матери, сородичам рассказал, что с ним случилось. Открыла мать ящик, чтобы попрощаться с телом сына.
Открыла ящик и выпустила болезнь…
Пошла черная смерть по стойбищу гулять.
Поумирали все люди.
Только маленький брат да сестра Конги живы остались. Да шаман Канчуга́.
Канчуга трусливый да жадный был. Никогда никому не помогал ничем. Увидел он, что в живых кроме него два ребенка остались, подумал:
«Пока смерть уйдет — один я прокормлюсь. Зачем ребятишкам помогать буду? Тогда и мне не хватит».
Закрыл он дверь в юрте Конги, бревном прижал. Оставил в юрте детей. В свою юрту зашел, закрылся. Сидит и жрет.
Сначала он из юрты не выходил. Потом жадность его обуяла.
«Зачем, — думает Канчуга, — пища в стойбище пропадать будет! Нельзя у мертвых брать — грех большой. Мертвых пищу злые духи стерегут, — говорит себе Канчуга. — Ну да ничего! Их много — я один. На меня набросятся, друг с другом столкнутся, между собой передерутся, про меня забудут!»
Пошел Канчуга в юртах еду собирать.
Квашеную бруснику, нерпичий жир, соленую черемшу, сохатиное мясо, осетриные брюшки, сарану сушеную, черемуховые лепешки со всего стойбища собрал. Сидит и ест.
А в юрте Конги голодные дети плачут.
Пришел тут к стойбищу тигр. Через спину перекатился, человеком стал. Глядит: не курится дым, не ходят люди, не гремит бубен, не слышно собак — мертвые все лежат. Пришел по брату Конги поплакать, а тут — слез не напасешься: столько покойников в стойбище.
Слышит тигриный человек — кто-то в юрте Конги плачет. Дверь открыл. Детей увидел. На руки взял. По стойбищу пошел, живых искать. Никто на его зов не откликается…
К юрте Канчуги подошел тигриный человек. Дверь дернул — не открывается. А слышно — кто-то там возится.
Постучал.
Услыхал Канчуга стук. Подумал, что дети Конги из своей юрты выбрались, пришли, есть просят. Жует Канчуга, давится, полный рот набивает. Едва прожевал, кричит:
— Уходите, не просите: самому есть нечего!
Сказал тогда тигриный человек:
— Э-э, Канчуга, ты закон лесных людей забыл: слабому — помоги, голодному — дай, сироту — приюти! Так жили удэ. Так жить будут. Не место тебе среди простых людей! Три раза ты умирать от страха будешь. Тело твое все меньше становиться будет, а жадность — все больше. Так с тобой будет, пока не исчезнешь совсем!
Через спину перекатился, тигром стал. Детей на спину посадил, в тигриное стойбище унес.
Говорит своим сородичам:
— Вот дети моего дяди. Кормить их некому…
Стали тигры детей кормить. Самые лучшие куски детям отдавали. Стали дети расти. Новое имя детям дали, чтобы черная смерть за старым именем следом не пришла на новое место. Девочку Инга́ назвали, мальчика — Егда́.
Скоро выросли дети.
Инга рукодельницей стала. Егда охотником стал…
Вот время пришло, старый тигр с ними через тигриную дорогу переступил, дорогу простых людей показал, закон рассказал, как жить, чтобы все хорошо было. И в свое стойбище ушел.
А Инга с Егдой пошли к людям.
Мимо стойбища отца прошли. К стойбищу тропинки травой заросли. Егда пучок сухой травы над тропинкой привязал, чтобы мимо шли люди, не останавливались.
Это то, что с детьми было.
А с Канчугой вот что случилось. Когда тигриный человек свое слово сказал, вытянулся у Канчуги нос, выставились изо рта клыки, на горбу щетина выросла, а на руках и ногах — копыта. Кабаном стал Канчуга. Ростом меньше стал, а жадности у него прибавилось. Сожрал он все, что в юрте было. В тайгу побежал. Роет корни, грызет, молодую траву обгрызает, желуди ищет, жрет, от жадности давится — и все наесться не может. Ходит целый день по тайге, жует, хрустит, грызет, а все не сыт. И во сне чавкает, сопит, жует: снятся ему желуди, птичьи потроха и всякая другая еда. Как проснется, так опять за еду, а брюхо — все пустое!
Это еще тогда было, когда звери человеческий язык понимали. Тогда тигр с удэгейскими людьми в родстве состоял. Тогда в роду Бисанка́ тигр желанным гостем был.
Жили Бисанка в верховьях реки Ко́ппи. Много их было. Когда все разом говорили — на Аню́е слышно было.
Один год очень хорошая охота случилась. Столько охотники соболя, выдры, белки, хорька, колонка, медведя и лисицы добыли, сколько ни разу добыть не могли.
Купцы к Бисанка приехали, все товары продали, а пушнины будто и не убавилось.
Собрались Бисанка на Амур — пушнину свою продавать. Двадцать нарт снарядили. Лучших собачек в стойбище взяли. Лучшую одежду надели. Косы новым красным шнуром оплели. Шапочки из шкурок кабарги с собольими хвостами на головы надели. Белые богдо́ — повязки — на головы надели. Белые халаты, шелками шитые, белые штаны надели. На нарты сели, ездовыми палками взмахнули, между полозьями их вставили — собакам волю дали.
— Tax, тах! Поть-поть-поть!
Побежали собачки. Только снег в стороны летит да полозья скрипят.
Бегут собачки, лают. Тот лай услыхав, все звери в разные стороны бегут, за деревья, за сугробы прячутся. Несутся собачки, как ветер.
Такие собачки хорошие, что без остановки летят, на ходу юколу глотают…
Через горный хребет перевалили собачки; им все нипочем; горы, реки, распадки, — мчат напрямик. На верховья Анюя вышли, потом — на Хор, потом — на Уссури, потом — на Амур. Сколько ехали удэ — кто знает: весело ехали, время не считали!
А в Мулла́ки на Амуре — торг большой. Народу собралось отовсюду великое множество: нанайцы с Амура; нивхи, одетые в рыбью кожу, с острова; негидальцы с Амгу́ни на собаках; орочоны с далеких пастбищ, в овчинной одежде; у́льчи в сохатиных унтах; о́рочи в оленьих торбасах… Разве всех пересчитаешь!
Торг большой.
Купцов понаехало много: косатые маньчжу, бритые нека с длинными ногтями приехали; с заморских островов купцы в деревянных латах, с двуручными мечами приехали.
Только с купцами черная болезнь приехала. На чем ехала — кто знает! На лодке ли, на собачках ли, на оленях ли, пешком ли пришла — не знаю. В чем одета была — не знаю. Только на том большом торге хозяйкой стала.
Сели Бисанка торговать, а тут — беда!
Напала на людей черная болезнь. И стали они умирать. И нанайцы, и никанцы, и негидальцы, и орочоны, и маньчжу, и орочи, и ульчи умирать стали, и охотники, и купцы умирать стали.
Видят люди — плохо дело: смерть ни с кем не торгуется, всех подряд берет. Разбежались люди в разные стороны.
А у Бисанка и бежать некому! Из всех в живых один парень остался, по имени Конга́. Приезжал он с братом. А брата взяла черная смерть. Похоронил Конга своих сородичей. Думает:
«Как брата своего на чужой земле оставлю? Пусть со мной едет. Пусть по обычаю нашему похоронят его. Пусть за всех сородичей перед Хозяином стоит!»
Сколотил Конга большой ящик, положил туда брата.
Бросил Конга все товары — не до них тут… Сел на последнюю упряжку, крикнул на собак — и поскорее от проклятого места, домой!
Едет Конга — не оглядывается, от болезни бежит.
А болезнь вместе с братом в ящике лежит…
Сколько ехал Конга — кто знает: сначала на Уссури, потом на Хор, потом на Анюй, потом через горы…
В тех горах каменные поляны были. На тех каменных полянах — тигровое стойбище. В том стойбище тигры жили. К стойбищу многие дороги вели: дороги костями устланы да черепами огорожены.
Подъехал Конга к тигровой дороге.
Стоит на дороге тигр. Увидал Конгу, через спину перекатился, человеком стал, поздоровался, спросил, как торговал Конга, какие новости везет.
Рассказал парень, какая беда случилась, какие плохие новости с собой везет. Покачал головой тигриный человек, говорит:
— Поезжай! Хоронить брата будете — поплакать приду. Твой брат хороший охотник был… — Через спину перекатился, тигром стал, ушел.
Переехал Конга дорогу. Отсюда и до стойбища недалеко.
Приехал парень. Матери, сородичам рассказал, что с ним случилось. Открыла мать ящик, чтобы попрощаться с телом сына.
Открыла ящик и выпустила болезнь…
Пошла черная смерть по стойбищу гулять.
Поумирали все люди.
Только маленький брат да сестра Конги живы остались. Да шаман Канчуга́.
Канчуга трусливый да жадный был. Никогда никому не помогал ничем. Увидел он, что в живых кроме него два ребенка остались, подумал:
«Пока смерть уйдет — один я прокормлюсь. Зачем ребятишкам помогать буду? Тогда и мне не хватит».
Закрыл он дверь в юрте Конги, бревном прижал. Оставил в юрте детей. В свою юрту зашел, закрылся. Сидит и жрет.
Сначала он из юрты не выходил. Потом жадность его обуяла.
«Зачем, — думает Канчуга, — пища в стойбище пропадать будет! Нельзя у мертвых брать — грех большой. Мертвых пищу злые духи стерегут, — говорит себе Канчуга. — Ну да ничего! Их много — я один. На меня набросятся, друг с другом столкнутся, между собой передерутся, про меня забудут!»
Пошел Канчуга в юртах еду собирать.
Квашеную бруснику, нерпичий жир, соленую черемшу, сохатиное мясо, осетриные брюшки, сарану сушеную, черемуховые лепешки со всего стойбища собрал. Сидит и ест.
А в юрте Конги голодные дети плачут.
Пришел тут к стойбищу тигр. Через спину перекатился, человеком стал. Глядит: не курится дым, не ходят люди, не гремит бубен, не слышно собак — мертвые все лежат. Пришел по брату Конги поплакать, а тут — слез не напасешься: столько покойников в стойбище.
Слышит тигриный человек — кто-то в юрте Конги плачет. Дверь открыл. Детей увидел. На руки взял. По стойбищу пошел, живых искать. Никто на его зов не откликается…
К юрте Канчуги подошел тигриный человек. Дверь дернул — не открывается. А слышно — кто-то там возится.
Постучал.
Услыхал Канчуга стук. Подумал, что дети Конги из своей юрты выбрались, пришли, есть просят. Жует Канчуга, давится, полный рот набивает. Едва прожевал, кричит:
— Уходите, не просите: самому есть нечего!
Сказал тогда тигриный человек:
— Э-э, Канчуга, ты закон лесных людей забыл: слабому — помоги, голодному — дай, сироту — приюти! Так жили удэ. Так жить будут. Не место тебе среди простых людей! Три раза ты умирать от страха будешь. Тело твое все меньше становиться будет, а жадность — все больше. Так с тобой будет, пока не исчезнешь совсем!
Через спину перекатился, тигром стал. Детей на спину посадил, в тигриное стойбище унес.
Говорит своим сородичам:
— Вот дети моего дяди. Кормить их некому…
Стали тигры детей кормить. Самые лучшие куски детям отдавали. Стали дети расти. Новое имя детям дали, чтобы черная смерть за старым именем следом не пришла на новое место. Девочку Инга́ назвали, мальчика — Егда́.
Скоро выросли дети.
Инга рукодельницей стала. Егда охотником стал…
Вот время пришло, старый тигр с ними через тигриную дорогу переступил, дорогу простых людей показал, закон рассказал, как жить, чтобы все хорошо было. И в свое стойбище ушел.
А Инга с Егдой пошли к людям.
Мимо стойбища отца прошли. К стойбищу тропинки травой заросли. Егда пучок сухой травы над тропинкой привязал, чтобы мимо шли люди, не останавливались.
Это то, что с детьми было.
А с Канчугой вот что случилось. Когда тигриный человек свое слово сказал, вытянулся у Канчуги нос, выставились изо рта клыки, на горбу щетина выросла, а на руках и ногах — копыта. Кабаном стал Канчуга. Ростом меньше стал, а жадности у него прибавилось. Сожрал он все, что в юрте было. В тайгу побежал. Роет корни, грызет, молодую траву обгрызает, желуди ищет, жрет, от жадности давится — и все наесться не может. Ходит целый день по тайге, жует, хрустит, грызет, а все не сыт. И во сне чавкает, сопит, жует: снятся ему желуди, птичьи потроха и всякая другая еда. Как проснется, так опять за еду, а брюхо — все пустое!
 Так в тайге и повстречали Канчугу Инга с Егдой, когда шли от тигриных людей.
Увидал Канчуга брата с сестрой, думает: «Съем я их — сытым наконец стану!» Бросился он на родичей Конги.
Взмахнул Егда копьем — умер кабан-Канчуга от страха. Через спину перекатился — рысью стал. Пасть раскрыл, зубы оскалил, на Егду бросился, съесть его хочет…
Опять взмахнул Егда копьем — и умер от страха рысь-Канчуга. Через спину перекатился — крысой стал. Ростом меньше, а жадности все больше. Красные глаза вытаращил, голым хвостом по земле бьет, зубы свои острые выставил, кинулся на Егду, думает: «Вот его съем — сытым стану!» Махнул Егда на крысу рукой. Подох от страха в третий раз Канчуга. Через спину перекатился — жуком-древоточцем стал. Таким жуком, который столетние сосны сжирает, в пыль да труху обращая. Загудел жук, крылья расправил, усами шевелит, ножками сучит. Налетел он на Егду, на лоб сел, рот разевает, думает парня заглотать живьем.
Рассердился тут Егда-парень:
— Коли злости у тебя не убывает и жадности не убавляется, сам себя вини, а не меня — я перед тобой не виноват!
Сказал он так и хлопнул себя по лбу.
Только мокрое место от жука осталось.
Пропал совсем жадный Канчуга, пожалевший пищу для детей. От их руки погиб.
И никому его не жалко было.
Так в тайге и повстречали Канчугу Инга с Егдой, когда шли от тигриных людей.
Увидал Канчуга брата с сестрой, думает: «Съем я их — сытым наконец стану!» Бросился он на родичей Конги.
Взмахнул Егда копьем — умер кабан-Канчуга от страха. Через спину перекатился — рысью стал. Пасть раскрыл, зубы оскалил, на Егду бросился, съесть его хочет…
Опять взмахнул Егда копьем — и умер от страха рысь-Канчуга. Через спину перекатился — крысой стал. Ростом меньше, а жадности все больше. Красные глаза вытаращил, голым хвостом по земле бьет, зубы свои острые выставил, кинулся на Егду, думает: «Вот его съем — сытым стану!» Махнул Егда на крысу рукой. Подох от страха в третий раз Канчуга. Через спину перекатился — жуком-древоточцем стал. Таким жуком, который столетние сосны сжирает, в пыль да труху обращая. Загудел жук, крылья расправил, усами шевелит, ножками сучит. Налетел он на Егду, на лоб сел, рот разевает, думает парня заглотать живьем.
Рассердился тут Егда-парень:
— Коли злости у тебя не убывает и жадности не убавляется, сам себя вини, а не меня — я перед тобой не виноват!
Сказал он так и хлопнул себя по лбу.
Только мокрое место от жука осталось.
Пропал совсем жадный Канчуга, пожалевший пищу для детей. От их руки погиб.
И никому его не жалко было.

Мальчик Чокчо
 За себя как не постоять! Как за родича не постоять! Разве обидчику простить можно?
Жил в одной деревне нанаец Бельды́. Был у него сынок, по имени Чокчо́. Совсем маленький сынок — едва ходить умел.
Всю зиму Бельды охотился. Много пушнины — мехов накопил. И соболь у него был, и белка, и лисица, и нерпа, и медведь, и колонок, и волк. Смотрит на меха Бельды и радуется:
— Вот поеду в Никанское царство — в город Сан-Син, — меха продам, еды, припасов на целую зиму накуплю! Сетку новую куплю, ружье, порох, патроны, игрушки.
Летом и верно собрался Бельды в Сан-Син ехать.
Просит его сынок:
— Возьми меня с собой, отец!
Подумал Бельды — дорога опасная, могут разбойники напасть. Мало ли что в дороге случиться может…
— Что ты, сын! — говорит Бельды. — Как это можно, чтобы в доме мужчины не осталось! Кто же будет мать да сестренок защищать? Надо тебе остаться.
Уехал Бельды.
Много времени прошло. Чокчо за это время научился ножом владеть. Сидит стругает: ложку сделал, лодку маленькую сделал, оленя из дерева вырезал, нарты, медведя, собачек… Много разных игрушек сделал… А отца все нет!
Вот уже листья на деревьях пожелтели, трава повяла. А Бельды все не едет домой.
Потом из соседнего стойбища приехали люди.
Сделала мать Чокчо кушанье — мось, — угостила приезжих юколой.
Сидели, сидели они, курили, курили, юколу ели, ели, потом говорят:
— Мы вместе с Бельды в Сан-Син ездили. Торговали. Обратно вернулись…
— А где отец? — спрашивает Чокчо.
Друг на друга поглядели люди.
— Твой отец, — говорят, — торговал с одним человеком, по имени Лян. Тот у Бельды всю пушнину купил. Пошел Бельды к этому маньчжу, чтобы рассчитаться, и не вернулся. Не купец, оказалось, Лян, а разбойник. Всю пушнину у Бельды взял и самого его убил.
— Почему же вы за отца не заступились? — спрашивает Чокчо.
Говорят люди:
— У того Ляна-маньчжу большая шайка. А нас мало. Не могли мы за твоего отца заступиться — побоялись: люди Ляна нас догнать могли, все товары отнять и нас убить могли…
— Плохо вы сделали, — говорит Чокчо.
Обиделись люди, сели в лодку и уехали.
Стала мать Чокчо плакать, сестренки тоже заплакали.
До того плакали, что у них совсем глаза запухли.
— Что теперь будет с нами?
Но делать нечего — слезами Бельды не вернешь! А жить надо. Поплакали, поплакали они да за дело взялись. Старшая сестра копье взяла, в тайгу пошла — охотиться. Младшая в лодку — оморочку — села, по Амуру поехала — рыбу ловить. Мать дома осталась — за очагом следить, еду варить.
А Чокчо говорит матери:
— Сшей мне унты, испеки лепешку. Пойду я Ляна искать. Найду — за отца отомщу, пушнину верну!
Говорит мать:
— Что ты, Чокчо! Куда ты пойдешь? Ты маленький еще.
Посмотрел на нее Чокчо:
— Отец сказал, что я мужчина. А мужчины должны род защищать, врагу мстить должны.
Видит мать — Чокчо на своем стоит крепко, не отговорить его. Испекла ему лепешку, сшила ему унты.
Взял Чокчо свой нож, охотничью повязку на голову надел, юколы в мешок положил, унты на ноги надел, простился с сестрами, с матерью и пошел.
Шел, шел Чокчо, видит — на пути большой лес стоит. Деревья высокие-высокие. Сосны, дубы шумят в том лесу, вершинами качают. Конца-краю тому лесу нет. Не побоялся Чокчо. Идет по лесу, лепешку жует, ножом играет, песню поет, вдруг слышит голос:
— Куда идешь ты, маленький нанаец?
Оглянулся Чокчо. Никого вокруг нет. А голос опять зовет его. Отвечает Чокчо:
— Иду за отца мстить!
— Помоги мне, и я тебе помогу! Другом буду, — говорит тот же голос.
Увидал Чокчо: лежит на камне желудь. Падал с дерева на землю, да попал на камень. Лежит и высыхает.
— Возьми меня с собой, — говорит желудь. — Я тебе пригожусь…
Взял Чокчо желудь, дальше пошел.
Повстречал старое кострище. Остановился отдохнуть. Снял унты, ноги повыше положил. Лепешку откусил. Вдруг слышит скрипучий-скрипучий голос:
— Куда ты идешь, мужчина?
— За отца мстить иду! — говорит Чокчо. — А ты кто? Где ты?
— А я около тебя лежу.
Посмотрел Чокчо — у самого очага, в золе, вертел лежит, на котором охотники мясо жарят. Кто-то бросил вертел в огонь. Погнулся вертел, чуть не сгорел, окалиной покрылся. И ему Чокчо помог: окалину песком отчистил, направил его. Совсем вертел как новый стал.
— Спасибо, Чокчо! Ты мне помог, и я тебе помогу. Возьми меня с собой! — говорит мальчику вертел.
Взял Чокчо вертел с собой и пошел дальше. Мимо покинутой рыбалки проходил — опять голос услышал. Спрашивают его, куда идет. Ответил Чокчо. Увидал, что это мялка да колотушка, которыми рыбью кожу выделывают. Кто-то в мялку гвоздь вбил, а у колотушки черенок сломал. Вытащил Чокчо из мялки гвоздь, колотушке новый черенок сделал.
— Вот спасибо тебе, Чокчо! — говорят ему опять. — Ты нам помог, и мы тебе поможем. Возьми нас с собой!
Взял Чокчо мялку с колотушкой. Дальше пошел.
Шел, шел, до ручья дошел. Разлился ручей — дальше дороги нет. Как быть?
Тут слышит Чокчо — опять его зовут:
— Эй, сосед, помоги мне, и я тебе помогу! Другом буду!
Глядит Чокчо — вода березу подмыла, упала береза, щуку придавила. Лежит щука под березой — ни взад, ни вперед, хвостом виляет, а ходу нет. Совсем задыхается щука. Отвалил березу Чокчо, щуке волю дал. Говорит ему щука:
— Как ручей перейдешь? Садись, перевезу.
Сел Чокчо на щуку. Вмиг на другом берегу оказался.
Говорит ему щука:
— Возьми меня с собой — пригожусь!
Положил ее Чокчо в мешок. Дальше пошел.
Вот уже Амур видно… Вдруг видит Чокчо — в траве одна лыжа. «Вот жалко, — думает Чокчо, — хорошая лыжа, а одна!» А в это время и другую увидал. Далеко лежит вторая, кто-то ее в валежник бросил. Не поленился Чокчо, принес вторую лыжу. Вместе лыжи сложил. А те и говорят ему:
— Ты нам помог, и мы тебе поможем! Куда ты идешь, маленький нанаец?
— За отца мстить иду! — говорит Чокчо. — Только мало сил у меня, не знаю — дойду ли… Путь далекий! Как через Амур перейду?
Говорят ему лыжи:
— Это все ничего. Становись, покатим тебя — скорее дело пойдет.
Рассмеялся Чокчо:
— Кто же по траве на лыжах ходит?
Однако на лыжи все-таки стал. Выросли тут крылья у лыж. Поднялись они в воздух и полетели. Да быстро-быстро! Ветром чуть повязку с головы Чокчо не сорвало. Над Амуром полетели — точно голубая лента, вьется река.
А лыжи летят и летят, только ветер свистит в ушах. Мелькают внизу реки, стойбища, леса… У Чокчо дыхание захватывает.
За себя как не постоять! Как за родича не постоять! Разве обидчику простить можно?
Жил в одной деревне нанаец Бельды́. Был у него сынок, по имени Чокчо́. Совсем маленький сынок — едва ходить умел.
Всю зиму Бельды охотился. Много пушнины — мехов накопил. И соболь у него был, и белка, и лисица, и нерпа, и медведь, и колонок, и волк. Смотрит на меха Бельды и радуется:
— Вот поеду в Никанское царство — в город Сан-Син, — меха продам, еды, припасов на целую зиму накуплю! Сетку новую куплю, ружье, порох, патроны, игрушки.
Летом и верно собрался Бельды в Сан-Син ехать.
Просит его сынок:
— Возьми меня с собой, отец!
Подумал Бельды — дорога опасная, могут разбойники напасть. Мало ли что в дороге случиться может…
— Что ты, сын! — говорит Бельды. — Как это можно, чтобы в доме мужчины не осталось! Кто же будет мать да сестренок защищать? Надо тебе остаться.
Уехал Бельды.
Много времени прошло. Чокчо за это время научился ножом владеть. Сидит стругает: ложку сделал, лодку маленькую сделал, оленя из дерева вырезал, нарты, медведя, собачек… Много разных игрушек сделал… А отца все нет!
Вот уже листья на деревьях пожелтели, трава повяла. А Бельды все не едет домой.
Потом из соседнего стойбища приехали люди.
Сделала мать Чокчо кушанье — мось, — угостила приезжих юколой.
Сидели, сидели они, курили, курили, юколу ели, ели, потом говорят:
— Мы вместе с Бельды в Сан-Син ездили. Торговали. Обратно вернулись…
— А где отец? — спрашивает Чокчо.
Друг на друга поглядели люди.
— Твой отец, — говорят, — торговал с одним человеком, по имени Лян. Тот у Бельды всю пушнину купил. Пошел Бельды к этому маньчжу, чтобы рассчитаться, и не вернулся. Не купец, оказалось, Лян, а разбойник. Всю пушнину у Бельды взял и самого его убил.
— Почему же вы за отца не заступились? — спрашивает Чокчо.
Говорят люди:
— У того Ляна-маньчжу большая шайка. А нас мало. Не могли мы за твоего отца заступиться — побоялись: люди Ляна нас догнать могли, все товары отнять и нас убить могли…
— Плохо вы сделали, — говорит Чокчо.
Обиделись люди, сели в лодку и уехали.
Стала мать Чокчо плакать, сестренки тоже заплакали.
До того плакали, что у них совсем глаза запухли.
— Что теперь будет с нами?
Но делать нечего — слезами Бельды не вернешь! А жить надо. Поплакали, поплакали они да за дело взялись. Старшая сестра копье взяла, в тайгу пошла — охотиться. Младшая в лодку — оморочку — села, по Амуру поехала — рыбу ловить. Мать дома осталась — за очагом следить, еду варить.
А Чокчо говорит матери:
— Сшей мне унты, испеки лепешку. Пойду я Ляна искать. Найду — за отца отомщу, пушнину верну!
Говорит мать:
— Что ты, Чокчо! Куда ты пойдешь? Ты маленький еще.
Посмотрел на нее Чокчо:
— Отец сказал, что я мужчина. А мужчины должны род защищать, врагу мстить должны.
Видит мать — Чокчо на своем стоит крепко, не отговорить его. Испекла ему лепешку, сшила ему унты.
Взял Чокчо свой нож, охотничью повязку на голову надел, юколы в мешок положил, унты на ноги надел, простился с сестрами, с матерью и пошел.
Шел, шел Чокчо, видит — на пути большой лес стоит. Деревья высокие-высокие. Сосны, дубы шумят в том лесу, вершинами качают. Конца-краю тому лесу нет. Не побоялся Чокчо. Идет по лесу, лепешку жует, ножом играет, песню поет, вдруг слышит голос:
— Куда идешь ты, маленький нанаец?
Оглянулся Чокчо. Никого вокруг нет. А голос опять зовет его. Отвечает Чокчо:
— Иду за отца мстить!
— Помоги мне, и я тебе помогу! Другом буду, — говорит тот же голос.
Увидал Чокчо: лежит на камне желудь. Падал с дерева на землю, да попал на камень. Лежит и высыхает.
— Возьми меня с собой, — говорит желудь. — Я тебе пригожусь…
Взял Чокчо желудь, дальше пошел.
Повстречал старое кострище. Остановился отдохнуть. Снял унты, ноги повыше положил. Лепешку откусил. Вдруг слышит скрипучий-скрипучий голос:
— Куда ты идешь, мужчина?
— За отца мстить иду! — говорит Чокчо. — А ты кто? Где ты?
— А я около тебя лежу.
Посмотрел Чокчо — у самого очага, в золе, вертел лежит, на котором охотники мясо жарят. Кто-то бросил вертел в огонь. Погнулся вертел, чуть не сгорел, окалиной покрылся. И ему Чокчо помог: окалину песком отчистил, направил его. Совсем вертел как новый стал.
— Спасибо, Чокчо! Ты мне помог, и я тебе помогу. Возьми меня с собой! — говорит мальчику вертел.
Взял Чокчо вертел с собой и пошел дальше. Мимо покинутой рыбалки проходил — опять голос услышал. Спрашивают его, куда идет. Ответил Чокчо. Увидал, что это мялка да колотушка, которыми рыбью кожу выделывают. Кто-то в мялку гвоздь вбил, а у колотушки черенок сломал. Вытащил Чокчо из мялки гвоздь, колотушке новый черенок сделал.
— Вот спасибо тебе, Чокчо! — говорят ему опять. — Ты нам помог, и мы тебе поможем. Возьми нас с собой!
Взял Чокчо мялку с колотушкой. Дальше пошел.
Шел, шел, до ручья дошел. Разлился ручей — дальше дороги нет. Как быть?
Тут слышит Чокчо — опять его зовут:
— Эй, сосед, помоги мне, и я тебе помогу! Другом буду!
Глядит Чокчо — вода березу подмыла, упала береза, щуку придавила. Лежит щука под березой — ни взад, ни вперед, хвостом виляет, а ходу нет. Совсем задыхается щука. Отвалил березу Чокчо, щуке волю дал. Говорит ему щука:
— Как ручей перейдешь? Садись, перевезу.
Сел Чокчо на щуку. Вмиг на другом берегу оказался.
Говорит ему щука:
— Возьми меня с собой — пригожусь!
Положил ее Чокчо в мешок. Дальше пошел.
Вот уже Амур видно… Вдруг видит Чокчо — в траве одна лыжа. «Вот жалко, — думает Чокчо, — хорошая лыжа, а одна!» А в это время и другую увидал. Далеко лежит вторая, кто-то ее в валежник бросил. Не поленился Чокчо, принес вторую лыжу. Вместе лыжи сложил. А те и говорят ему:
— Ты нам помог, и мы тебе поможем! Куда ты идешь, маленький нанаец?
— За отца мстить иду! — говорит Чокчо. — Только мало сил у меня, не знаю — дойду ли… Путь далекий! Как через Амур перейду?
Говорят ему лыжи:
— Это все ничего. Становись, покатим тебя — скорее дело пойдет.
Рассмеялся Чокчо:
— Кто же по траве на лыжах ходит?
Однако на лыжи все-таки стал. Выросли тут крылья у лыж. Поднялись они в воздух и полетели. Да быстро-быстро! Ветром чуть повязку с головы Чокчо не сорвало. Над Амуром полетели — точно голубая лента, вьется река.
А лыжи летят и летят, только ветер свистит в ушах. Мелькают внизу реки, стойбища, леса… У Чокчо дыхание захватывает.
 Примчали лыжи в Сан-Син.
Посмотрел Чокчо и испугался.
Стойбище большое-большое, домов много. Никогда Чокчо не думал, что в одном месте столько домов может быть: рядами стоят, один на другой поставлены; столько их, что и конца не видно. И народу тут множество великое. Шум от голосов такой стоит, будто буря деревья валит. Толкаются люди, кричат. Покупают, меняют, продают. Людей много, а знакомых нет. Стал Чокчо спрашивать, как к дому Ляна-маньчжу пройти. Смеются прохожие над мальчиком, не понимают. Кто ударит его, кто толкнет, кто за косу дернет, кто накричит. На его счастье, проходил один старик, язык нанайцев знавший. Расспросил он Чокчо. Показал, где Лян-маньчжу живет. Пошел в ту сторону маленький нанаец.
Видит — красивый дом стоит. У крыши концы вверх загнуты. На концах серебряные колокольчики висят, звенят. В окнах прозрачная бумага вставлена. Вокруг дома деревья разные растут: вишни, яблони… Золотые птички на ветках сидят. Музыка играет повсюду. Ручьи меж деревьев струятся, журчат, будто потихоньку разговаривают.
Вошел Чокчо в дом, кричит:
— Эй, Лян, выходи на бой! — и палку приготовил, чтобы с Ляном драться не на жизнь, а на смерть.
Не отвечает никто маленькому нанайцу. Видно, дома того человека нет.
Вошел Чокчо в комнату Ляна. В золу очага желудь сунул, чтобы полежал тот на мягком. В умывальный таз Ляна щуку пустил. Вертел около печки поставил. Мялку с колотушкой оставил у двери. Сел сам на нары да и уснул.
Вечером вернулся домой Лян, веселый, пьяный.
Захотел он в очаге огонь развести. Нагнулся над ним, угли стал раздувать. А тут желудь как подскочит да как хватит Ляна в глаз! Взвыл от боли Лян, кинулся к тазу с водой, чтобы глаза промыть. А щука из таза высунулась и цапнула Ляна за нос. Отскочил Лян от таза. А тут вертел ему в спину воткнулся. Совсем перепугался Лян. Кинулся к двери, чтобы убежать… А тут мялка с колотушкой за Ляна взялись. Принялись они колотить его, мять, обжимать так, что Лян и света невзвидел! И так мялка с колотушкой работали, пока из Ляна тонкую шкурку не сделали.
Проснулся Чокчо, спрашивает:
— Не пришел Лян?
Отвечают ему друзья:
— Пришел на свою голову! Вот смотри, какой он стал!
Посмотрел Чокчо. Видит — лежит белая мягкая шкурка, совсем на ровдугу похожая. Сказал спасибо своим друзьям Чокчо, пожалел только, что не сам с Ляном расправился.
Разыскал Чокчо в доме Ляна пушнину Бельды. Охотничий припас забрал, товары всякие, что обманом Лян у людей отобрал, — сложил все в шкуру Ляна. Собрал своих друзей: мялку с колотушкой, желудь, щуку да вертел. Стал на свои лыжи.
Поднялись лыжи опять, полетели как стрела. Под самым носом у Ляновых слуг пролетели.
Долетели лыжи до того места, где их Чокчо нашел. Оставил их мальчик: «Спасибо за помощь. Чужого мне не нужно».
Щуку в самую глубину ручья пустил. Колотушку и мялку у покинутой рыбалки оставил: пригодятся хозяину, коли вернется. Вертел на старое место у костра положил. Желудь в мягкую землю бросил, чтобы пророс тот и новое дерево из него выросло.
И пошел Чокчо своей дорогой.
Домой вернулся богатый. Развернул он шкуру Ляна — удивились все в стойбище: как много в ту шкуру влезло!
Обрадовалась мать, сестры обрадовались, что вернулся Чокчо. Целуют, обнимают его, от себя ни на шаг не пускают.
А Чокчо говорит, как мужчина и охотник:
— Мои унты совсем износились. Сшейте мне новые. Завтра я в тайгу пойду.
Сшили ему сестры унты из шкуры Ляна.
Долго носились те унты, потому что нет на свете кожи крепче кожи обманщика и грабителя, которого жалость не проймет и слезы обиженных им не тронут.
Примчали лыжи в Сан-Син.
Посмотрел Чокчо и испугался.
Стойбище большое-большое, домов много. Никогда Чокчо не думал, что в одном месте столько домов может быть: рядами стоят, один на другой поставлены; столько их, что и конца не видно. И народу тут множество великое. Шум от голосов такой стоит, будто буря деревья валит. Толкаются люди, кричат. Покупают, меняют, продают. Людей много, а знакомых нет. Стал Чокчо спрашивать, как к дому Ляна-маньчжу пройти. Смеются прохожие над мальчиком, не понимают. Кто ударит его, кто толкнет, кто за косу дернет, кто накричит. На его счастье, проходил один старик, язык нанайцев знавший. Расспросил он Чокчо. Показал, где Лян-маньчжу живет. Пошел в ту сторону маленький нанаец.
Видит — красивый дом стоит. У крыши концы вверх загнуты. На концах серебряные колокольчики висят, звенят. В окнах прозрачная бумага вставлена. Вокруг дома деревья разные растут: вишни, яблони… Золотые птички на ветках сидят. Музыка играет повсюду. Ручьи меж деревьев струятся, журчат, будто потихоньку разговаривают.
Вошел Чокчо в дом, кричит:
— Эй, Лян, выходи на бой! — и палку приготовил, чтобы с Ляном драться не на жизнь, а на смерть.
Не отвечает никто маленькому нанайцу. Видно, дома того человека нет.
Вошел Чокчо в комнату Ляна. В золу очага желудь сунул, чтобы полежал тот на мягком. В умывальный таз Ляна щуку пустил. Вертел около печки поставил. Мялку с колотушкой оставил у двери. Сел сам на нары да и уснул.
Вечером вернулся домой Лян, веселый, пьяный.
Захотел он в очаге огонь развести. Нагнулся над ним, угли стал раздувать. А тут желудь как подскочит да как хватит Ляна в глаз! Взвыл от боли Лян, кинулся к тазу с водой, чтобы глаза промыть. А щука из таза высунулась и цапнула Ляна за нос. Отскочил Лян от таза. А тут вертел ему в спину воткнулся. Совсем перепугался Лян. Кинулся к двери, чтобы убежать… А тут мялка с колотушкой за Ляна взялись. Принялись они колотить его, мять, обжимать так, что Лян и света невзвидел! И так мялка с колотушкой работали, пока из Ляна тонкую шкурку не сделали.
Проснулся Чокчо, спрашивает:
— Не пришел Лян?
Отвечают ему друзья:
— Пришел на свою голову! Вот смотри, какой он стал!
Посмотрел Чокчо. Видит — лежит белая мягкая шкурка, совсем на ровдугу похожая. Сказал спасибо своим друзьям Чокчо, пожалел только, что не сам с Ляном расправился.
Разыскал Чокчо в доме Ляна пушнину Бельды. Охотничий припас забрал, товары всякие, что обманом Лян у людей отобрал, — сложил все в шкуру Ляна. Собрал своих друзей: мялку с колотушкой, желудь, щуку да вертел. Стал на свои лыжи.
Поднялись лыжи опять, полетели как стрела. Под самым носом у Ляновых слуг пролетели.
Долетели лыжи до того места, где их Чокчо нашел. Оставил их мальчик: «Спасибо за помощь. Чужого мне не нужно».
Щуку в самую глубину ручья пустил. Колотушку и мялку у покинутой рыбалки оставил: пригодятся хозяину, коли вернется. Вертел на старое место у костра положил. Желудь в мягкую землю бросил, чтобы пророс тот и новое дерево из него выросло.
И пошел Чокчо своей дорогой.
Домой вернулся богатый. Развернул он шкуру Ляна — удивились все в стойбище: как много в ту шкуру влезло!
Обрадовалась мать, сестры обрадовались, что вернулся Чокчо. Целуют, обнимают его, от себя ни на шаг не пускают.
А Чокчо говорит, как мужчина и охотник:
— Мои унты совсем износились. Сшейте мне новые. Завтра я в тайгу пойду.
Сшили ему сестры унты из шкуры Ляна.
Долго носились те унты, потому что нет на свете кожи крепче кожи обманщика и грабителя, которого жалость не проймет и слезы обиженных им не тронут.

Сирота Мамбу
 Ульчи на Амуре давно живут. С тех пор как они пришли сюда, маленькие сопки большими стали, большие речки маленькими стали.
Три рода ульчей — Сулаки́, Пунади́, Губату́ — родичами были, один огонь имели. Друг около друга жили: по берегу Амура их деревни подряд стояли.
Жили ульчи дружно. Всей деревней дома ставили: кто глину месит, кто столбы рубит, кто жерди на крышу таскает. Всей деревней рыбу ловили: кто на большой лодке, кто на оморочке, кто, на бревне сидя, рыбу в сетки гонит. С лесными людьми, с водяными людьми дружно жили — всегда и нерпа, и таймень, и кета, и соболь, и сохатый у тех ульчей были.
В роду Сулаки мальчик был один, по имени Мамбу.
Когда родился он, мать своим молоком пятнадцать дней его умывала. Отец на колыбель Мамбу топорик да нож повесил, чтобы мальчик к оружию привыкал.
Только Мамбу нож увидал, сразу за него обеими руками уцепился и из колыбели вылез.
Удивились отец и мать. «Богатырь наш Мамбу будет или несчастный человек!» — про себя подумали.
А Мамбу из дому вышел, камень бросил в ольховник — рябчика убил. Над дверью птицу повесил, чтобы все видели, что в доме охотник родился.
«Среди хороших людей лучше всех будет!» — сказали тогда про Мамбу.
Плохих людей до сих пор Сулаки не видели. Только в скором времени с плохими людьми довелось им повстречаться.
Осенью, когда рыба шла, Сулаки полные амбары рыбой набили, юколы для собак наготовили, осетровыми да кетовыми брюшками запаслись на всю зиму, насушили, навялили рыбы. Брусники, земляники, корешков сараны да голубицы набрали, запасли.
Ульчи на Амуре давно живут. С тех пор как они пришли сюда, маленькие сопки большими стали, большие речки маленькими стали.
Три рода ульчей — Сулаки́, Пунади́, Губату́ — родичами были, один огонь имели. Друг около друга жили: по берегу Амура их деревни подряд стояли.
Жили ульчи дружно. Всей деревней дома ставили: кто глину месит, кто столбы рубит, кто жерди на крышу таскает. Всей деревней рыбу ловили: кто на большой лодке, кто на оморочке, кто, на бревне сидя, рыбу в сетки гонит. С лесными людьми, с водяными людьми дружно жили — всегда и нерпа, и таймень, и кета, и соболь, и сохатый у тех ульчей были.
В роду Сулаки мальчик был один, по имени Мамбу.
Когда родился он, мать своим молоком пятнадцать дней его умывала. Отец на колыбель Мамбу топорик да нож повесил, чтобы мальчик к оружию привыкал.
Только Мамбу нож увидал, сразу за него обеими руками уцепился и из колыбели вылез.
Удивились отец и мать. «Богатырь наш Мамбу будет или несчастный человек!» — про себя подумали.
А Мамбу из дому вышел, камень бросил в ольховник — рябчика убил. Над дверью птицу повесил, чтобы все видели, что в доме охотник родился.
«Среди хороших людей лучше всех будет!» — сказали тогда про Мамбу.
Плохих людей до сих пор Сулаки не видели. Только в скором времени с плохими людьми довелось им повстречаться.
Осенью, когда рыба шла, Сулаки полные амбары рыбой набили, юколы для собак наготовили, осетровыми да кетовыми брюшками запаслись на всю зиму, насушили, навялили рыбы. Брусники, земляники, корешков сараны да голубицы набрали, запасли.
 Глядят однажды Сулаки — плывет по Амуру лодка. Большая, нос и корма вверх подняты. Не видали ульчи таких до сих пор. На лодке паруса желтые. На мачте значок с золотым драконом развевается. Под лодкой буруны играют. В лодке много людей сидит. В руках у людей мечи в две ладони шириной, в руках у людей копья в два роста высотой. Лбы у людей бритые, сзади — косы до полу висят, черной тесьмой перевязанные.
Говорят старики:
— Надо по-хорошему людей встретить. Чужие люди — издалека, видно… Новостей у них, поди, много…
Говорит Мамбу:
— Плохие люди это! От них в тайгу уйти надо. Зачем мечи в руках держат? Зачем копья понаставили?
Остановилась лодка у деревни Сулаки.
Вышли из лодки люди. Главного на носилках вынесли. Под его тяжестью восемь носильщиков сгибаются. На голове у него шапка с павлиньим пером да яшмовым шариком. Халат на нем всеми цветами, как радуга, переливается. Живот у приезжего такой, что из-за него и лица не видать.
Посмотрел на него Мамбу и говорит:
— Это не человек, а брюхо! Не к добру приехал!
— Что ты понимаешь! — говорят старики.
Кинулись ульчи к приезжим. Закон велит приезжего обогреть, накормить, лучший кусок отдать. Женщины на блюдах тащат рыбу, мось, кашу…
А человек-брюхо, на ульчей глядя, говорит:
— Мы никанского царя люди. Наш царь — самый великий царь на земле, больше нашего царя на свете никого нету! Повелел он дань с вас взять.
Не понимают ульчи, что такое дань. Никому никогда дани не платили. Спрашивают, что это такое.
Отвечает им никанский человек-брюхо:
— Будем у вас брать по соболю с каждого человека. И так будет вечно! Обещает никанский царь за это миловать вас своею милостью и жаловать вас. Позволит вам рыбу ловить в реке, зверя бить в лесу и воздухом дышать позволит.
Удивились люди.
Женщины говорят:
— Видно, бедные эти люди… Соболей, видно, у них нету… Видно, никанскому царю холодно… Пусть погреется нашими соболями!
А никанские люди уже и сами по домам пошли. По всем домам пошли, по всем амбарам полезли, благо что у ульчей никаких замков никогда не было — от кого запирать, когда все свои! Рыщут никанские воины, тащат пушнину. По соболю с человека давно взяли, а все меха: и медведя, и соболя, и рыси, и нерпы, и лисицы, и колонка — все в лодку несут. Глаза выпучили, запыхались, двое за одну шкурку хватаются.
Говорит Мамбу человеку-брюхо:
— Почтенный человек, уже давно твои воины взяли то, что ты данью называешь, а все вытаскивают наши меха… Скажи, не пора ли перестать?
Зашевелился человек-брюхо. Голову вытянул, на Мамбу смотрит. Да такими глазами, будто змея Химу: горят глаза у него зеленым огнем, так и съел бы мальчика!
— А остальное мои воины берут мне и себе за то, что мы вам милость никанского величества привезли. Устали мы и поистратились в дороге, долго до вас ехали…
Видят старики, что от милости никанского царя они всего добра лишились. Головами качают, на никанских людей обиделись.
Говорит Мамбу:
— Отобрать у них надо все!
А как отберешь?
Стаскали никанские люди всю пушнину в лодку. Сверху на нее человек-брюхо сел. Оттолкнулись баграми от берега и поплыли обратно.
Вот тебе и гости! На угощение и не посмотрели, только амбары разорили. Стали женщины плакать. Стали мужчины ругаться.
Мамбу совсем рассердился.
— Не нам, так и не им! — говорит.
Вышел он на берег, стал свистеть.
Всем известно: когда у воды свистишь — ветер начинается. Надул Мамбу щеки. Столько воздуху набрал, что сам круглый стал. Долго свистел. На его свист сначала маленький ветер прибежал. Зашевелилась трава, воду на реке зарябило, на мачте никанской лодки значок заполоскался. А Мамбу свистит. Прилетел средний ветер на помощь младшему брату. Зашелестели листья на ветках, стали ветки раскачиваться. На волнах в реке барашки заплясали. На никанской лодке мачта стала гнуться. А Мамбу свистит. Видит средний ветер — у него силы тоже не хватает. Позвал на помощь старшего брата. Примчался большой ветер. Стали деревья гнуться и ломаться. На Амуре вода потемнела, волны вспенились, выше домов поднимаются. С никанской лодки паруса сорвало, на никанской лодке мачту сломало, стало лодку заливать… А ветер все сильнее да сильнее! Опрокинул лодку. Попа́дали в воду никанские воины. На ком оружия больше было, те сразу на дно пошли; на ком поменьше — те на волнах плавают, воду хлебают. А человек-брюхо, как пузырь, на волне качается, утонуть не может — очень жирный! Все, что у Сулаки никанцы взяли, в эту бурю потеряли, да и свое все погубили. Едва-едва на другой берег вылезли. К маньчжурскому амбаню побежали. Спрашивает тот, что с ульчей никанскому царю взяли. Говорит человек-брюхо, из халата воду выжимая:
— Амурскую воду взяли!
А ветер все сильнее и сильнее…
Стало ульчские дома пошатывать. Стало с крыш жерди раскидывать. Просят старики Мамбу: «Перестань дуть!» А Мамбу уже весь воздух выпустил. Уже без него ветры гуляют по Амуру. Кричит им Мамбу: «Довольно!» Разыгрались ветры, не слышат…
Схватил тогда Мамбу свой боевой лук, натянул тетиву из жилы сохатого, наложил стрелу из железной березы, поддел стрелой горящий уголь и выстрелил в большой ветер. Испугался большой ветер, домой побежал. А за ним средний и маленький ветры побежали. Тихо стало. Волныулеглись. Деревья опять ровно стоят.
Говорит Мамбу:
— Рысь всегда в одно место ходит воду пить. Опять никанские люди сюда придут! Надо с этого места уходить. Человек-брюхо, пока всех нас не сожрет, приходить будет…
Не послушались старики. Не хотели родное место оставить. «Как можно! — говорят. — Наши отцы тут похоронены».
Сколько-то времени прошло — зимой опять никанские люди к Сулаки явились. На больших нартах приехали. В нарты страшные звери запряжены: голова, как у оленя, на хвосте волосы, на четырех ногах круглые копыта, на шее волосы на одну сторону. Людей вдвое больше, чем раньше. И человек-брюхо с ними.
Опять дань требуют. Опять по амбарам пошли.
Говорит Мамбу человеку-брюхо.
— Никто еще с одного места две ветки не срезал!
Закричал никанский человек на Мамбу, ногами затопал. Подскочили воины к Мамбу, в сторону отбросили.
Пошел Мамбу домой. Медвежьего сала достал. Кусками его нарезал. К никанским нартам подобрался. Сало к нартам снизу подвязал.
Опять никанцы у Сулаки все амбары обчистили. Пушнину, вещи всякие и еду забрали. На нарты уселись. На своих зверей закричали. Поскакали никанские звери. Только полозья скрипят да снежная поземка вслед нартам вьется.
Опять плачут женщины. Ругаются старики.
Говорит им Мамбу:
— Всех собак сюда давайте!
Привели всех собак, какие в деревне были. Взял Мамбу самого сильного вожака, кусок сала медвежьего дал понюхать, в никанский след носом ткнул. Учуял вожак, в какую сторону сало поехало, кинулся по следу. Остальные собаки — за ним!
…Едет человек-брюхо на нартах своих. Радуется — много с ульчей взял. Сколько царю никанскому отдаст — не считает, а сколько себе оставит — про то молчит. Уже до середины Амура доехал человек-брюхо со своими людьми.
Тут собаки никанских людей догнали.
Медвежьим салом пахнет. А где сало, не поймут собаки — и давай трепать никанских людей! Половину насмерть загрызли, все по снегу раскидали; тех зверей покусали, что в упряжке у никанских людей были. Весь поезд расстроился.
Пустились никанцы бежать, а собаки на них висят, вцепились… Кое-как, уже на другом берегу, от собак человек-брюхо отбился.
Прибежали к маньчжурскому амбаню.
Спрашивает тот, сколько дани с ульчей взяли. Сам про себя считает, что никанскому царю послать, что себе оставить.
Отвечает человек-брюхо, из халата и тела собачьи зубы вытаскивая:
— Собачьи зубы вот взяли!
Разгневался амбань. Велит войско на Сулаки послать. Всех велит истребить…
Целая туча никанцев на ульчей пошла.
На беду, Мамбу в деревне не было. Ушел он к таежным людям в гости да задержался. Домой только летом пришел.
Видит — все Сулаки побиты, все дома сожжены. Ни одной живой души во всей деревне. Только вороны каркают да в небе над деревней коршуны кружат. Видит Мамбу — храбро дрались Сулаки, много никанских воинов побили, да поздно за оружие взялись — и сами все полегли.
Заплакал Мамбу-сирота.
Делать нечего… Надо «кости сородичей поднимать» — так закон велит; за убитых мстить надо! За каждого убитого — врага убить надо. А одному не справиться с этим…
Пошел Мамбу к Пунади помощи просить. К деревне подошел, а там уже и пепел холодный: все дома никанцы спалили, всех Пунади в плен увели.
Пошел Мамбу к Губату помощи просить, за два рода мстить.
К деревне подошел. А там пустые дома стоят. Все вещи ветер пылью занес. По деревне только крысы бегают.
Ушли Губату из родной деревни, никанцев испугались. Куда ушли, кто знает? Следов не оставили.
Заплакал Мамбу-сирота. Как врагам отомстить?
Пошел Мамбу к речным людям помощи просить. Собрались те люди. Послушали Мамбу. Говорит ему старый человек-калуга:
— Хорошие люди Сулаки и Пунади были! Мы тебе рады бы помочь, но без воды мы жить не можем. Как на суше воевать будем? По земле ходить не умеем!..
Пошел Мамбу к таежным людям. Собрались те, узнав, что простой человек к ним пришел, помощи просит.
Рассердились на никанцев таежные люди, зарычали. Говорит старый человек-медведь сироте Мамбу, что рады бы таежные люди отомстить за Сулаки, отомстить за Пунади — хорошие люди были, — только через реку переплыть таежные люди не могут…
Пошел Мамбу к лесным людям. Поклонился березе, сказал, какая у него беда случилась.
Говорит:
— Вы и реку переплывете, вы и посуху пройдете. Вас прошу помочь мне! Один не могу отомстить.
Согласились лесные люди.
Взял Мамбу топор. Много березы нарубил. Ошкурил — кору с березы снял. На чурки березу порезал. Глаза на чурках сделал, чтобы видели дорогу. Нос на чурках сделал, чтобы чуяли запах дыма на халатах у тех, кто Сулаки погубил, кто Пунади увел. Рукой похлопал. Зашевелили чурки глазами, на Мамбу смотрят: что скажет?
— Эй вы, древесные люди, — говорит Мамбу, — на войну ступайте! Один я не могу за всех отомстить! Вас прошу! Вас прошу — идите! Обидчиков ни одного в живых не оставляйте!
Глядят однажды Сулаки — плывет по Амуру лодка. Большая, нос и корма вверх подняты. Не видали ульчи таких до сих пор. На лодке паруса желтые. На мачте значок с золотым драконом развевается. Под лодкой буруны играют. В лодке много людей сидит. В руках у людей мечи в две ладони шириной, в руках у людей копья в два роста высотой. Лбы у людей бритые, сзади — косы до полу висят, черной тесьмой перевязанные.
Говорят старики:
— Надо по-хорошему людей встретить. Чужие люди — издалека, видно… Новостей у них, поди, много…
Говорит Мамбу:
— Плохие люди это! От них в тайгу уйти надо. Зачем мечи в руках держат? Зачем копья понаставили?
Остановилась лодка у деревни Сулаки.
Вышли из лодки люди. Главного на носилках вынесли. Под его тяжестью восемь носильщиков сгибаются. На голове у него шапка с павлиньим пером да яшмовым шариком. Халат на нем всеми цветами, как радуга, переливается. Живот у приезжего такой, что из-за него и лица не видать.
Посмотрел на него Мамбу и говорит:
— Это не человек, а брюхо! Не к добру приехал!
— Что ты понимаешь! — говорят старики.
Кинулись ульчи к приезжим. Закон велит приезжего обогреть, накормить, лучший кусок отдать. Женщины на блюдах тащат рыбу, мось, кашу…
А человек-брюхо, на ульчей глядя, говорит:
— Мы никанского царя люди. Наш царь — самый великий царь на земле, больше нашего царя на свете никого нету! Повелел он дань с вас взять.
Не понимают ульчи, что такое дань. Никому никогда дани не платили. Спрашивают, что это такое.
Отвечает им никанский человек-брюхо:
— Будем у вас брать по соболю с каждого человека. И так будет вечно! Обещает никанский царь за это миловать вас своею милостью и жаловать вас. Позволит вам рыбу ловить в реке, зверя бить в лесу и воздухом дышать позволит.
Удивились люди.
Женщины говорят:
— Видно, бедные эти люди… Соболей, видно, у них нету… Видно, никанскому царю холодно… Пусть погреется нашими соболями!
А никанские люди уже и сами по домам пошли. По всем домам пошли, по всем амбарам полезли, благо что у ульчей никаких замков никогда не было — от кого запирать, когда все свои! Рыщут никанские воины, тащат пушнину. По соболю с человека давно взяли, а все меха: и медведя, и соболя, и рыси, и нерпы, и лисицы, и колонка — все в лодку несут. Глаза выпучили, запыхались, двое за одну шкурку хватаются.
Говорит Мамбу человеку-брюхо:
— Почтенный человек, уже давно твои воины взяли то, что ты данью называешь, а все вытаскивают наши меха… Скажи, не пора ли перестать?
Зашевелился человек-брюхо. Голову вытянул, на Мамбу смотрит. Да такими глазами, будто змея Химу: горят глаза у него зеленым огнем, так и съел бы мальчика!
— А остальное мои воины берут мне и себе за то, что мы вам милость никанского величества привезли. Устали мы и поистратились в дороге, долго до вас ехали…
Видят старики, что от милости никанского царя они всего добра лишились. Головами качают, на никанских людей обиделись.
Говорит Мамбу:
— Отобрать у них надо все!
А как отберешь?
Стаскали никанские люди всю пушнину в лодку. Сверху на нее человек-брюхо сел. Оттолкнулись баграми от берега и поплыли обратно.
Вот тебе и гости! На угощение и не посмотрели, только амбары разорили. Стали женщины плакать. Стали мужчины ругаться.
Мамбу совсем рассердился.
— Не нам, так и не им! — говорит.
Вышел он на берег, стал свистеть.
Всем известно: когда у воды свистишь — ветер начинается. Надул Мамбу щеки. Столько воздуху набрал, что сам круглый стал. Долго свистел. На его свист сначала маленький ветер прибежал. Зашевелилась трава, воду на реке зарябило, на мачте никанской лодки значок заполоскался. А Мамбу свистит. Прилетел средний ветер на помощь младшему брату. Зашелестели листья на ветках, стали ветки раскачиваться. На волнах в реке барашки заплясали. На никанской лодке мачта стала гнуться. А Мамбу свистит. Видит средний ветер — у него силы тоже не хватает. Позвал на помощь старшего брата. Примчался большой ветер. Стали деревья гнуться и ломаться. На Амуре вода потемнела, волны вспенились, выше домов поднимаются. С никанской лодки паруса сорвало, на никанской лодке мачту сломало, стало лодку заливать… А ветер все сильнее да сильнее! Опрокинул лодку. Попа́дали в воду никанские воины. На ком оружия больше было, те сразу на дно пошли; на ком поменьше — те на волнах плавают, воду хлебают. А человек-брюхо, как пузырь, на волне качается, утонуть не может — очень жирный! Все, что у Сулаки никанцы взяли, в эту бурю потеряли, да и свое все погубили. Едва-едва на другой берег вылезли. К маньчжурскому амбаню побежали. Спрашивает тот, что с ульчей никанскому царю взяли. Говорит человек-брюхо, из халата воду выжимая:
— Амурскую воду взяли!
А ветер все сильнее и сильнее…
Стало ульчские дома пошатывать. Стало с крыш жерди раскидывать. Просят старики Мамбу: «Перестань дуть!» А Мамбу уже весь воздух выпустил. Уже без него ветры гуляют по Амуру. Кричит им Мамбу: «Довольно!» Разыгрались ветры, не слышат…
Схватил тогда Мамбу свой боевой лук, натянул тетиву из жилы сохатого, наложил стрелу из железной березы, поддел стрелой горящий уголь и выстрелил в большой ветер. Испугался большой ветер, домой побежал. А за ним средний и маленький ветры побежали. Тихо стало. Волныулеглись. Деревья опять ровно стоят.
Говорит Мамбу:
— Рысь всегда в одно место ходит воду пить. Опять никанские люди сюда придут! Надо с этого места уходить. Человек-брюхо, пока всех нас не сожрет, приходить будет…
Не послушались старики. Не хотели родное место оставить. «Как можно! — говорят. — Наши отцы тут похоронены».
Сколько-то времени прошло — зимой опять никанские люди к Сулаки явились. На больших нартах приехали. В нарты страшные звери запряжены: голова, как у оленя, на хвосте волосы, на четырех ногах круглые копыта, на шее волосы на одну сторону. Людей вдвое больше, чем раньше. И человек-брюхо с ними.
Опять дань требуют. Опять по амбарам пошли.
Говорит Мамбу человеку-брюхо.
— Никто еще с одного места две ветки не срезал!
Закричал никанский человек на Мамбу, ногами затопал. Подскочили воины к Мамбу, в сторону отбросили.
Пошел Мамбу домой. Медвежьего сала достал. Кусками его нарезал. К никанским нартам подобрался. Сало к нартам снизу подвязал.
Опять никанцы у Сулаки все амбары обчистили. Пушнину, вещи всякие и еду забрали. На нарты уселись. На своих зверей закричали. Поскакали никанские звери. Только полозья скрипят да снежная поземка вслед нартам вьется.
Опять плачут женщины. Ругаются старики.
Говорит им Мамбу:
— Всех собак сюда давайте!
Привели всех собак, какие в деревне были. Взял Мамбу самого сильного вожака, кусок сала медвежьего дал понюхать, в никанский след носом ткнул. Учуял вожак, в какую сторону сало поехало, кинулся по следу. Остальные собаки — за ним!
…Едет человек-брюхо на нартах своих. Радуется — много с ульчей взял. Сколько царю никанскому отдаст — не считает, а сколько себе оставит — про то молчит. Уже до середины Амура доехал человек-брюхо со своими людьми.
Тут собаки никанских людей догнали.
Медвежьим салом пахнет. А где сало, не поймут собаки — и давай трепать никанских людей! Половину насмерть загрызли, все по снегу раскидали; тех зверей покусали, что в упряжке у никанских людей были. Весь поезд расстроился.
Пустились никанцы бежать, а собаки на них висят, вцепились… Кое-как, уже на другом берегу, от собак человек-брюхо отбился.
Прибежали к маньчжурскому амбаню.
Спрашивает тот, сколько дани с ульчей взяли. Сам про себя считает, что никанскому царю послать, что себе оставить.
Отвечает человек-брюхо, из халата и тела собачьи зубы вытаскивая:
— Собачьи зубы вот взяли!
Разгневался амбань. Велит войско на Сулаки послать. Всех велит истребить…
Целая туча никанцев на ульчей пошла.
На беду, Мамбу в деревне не было. Ушел он к таежным людям в гости да задержался. Домой только летом пришел.
Видит — все Сулаки побиты, все дома сожжены. Ни одной живой души во всей деревне. Только вороны каркают да в небе над деревней коршуны кружат. Видит Мамбу — храбро дрались Сулаки, много никанских воинов побили, да поздно за оружие взялись — и сами все полегли.
Заплакал Мамбу-сирота.
Делать нечего… Надо «кости сородичей поднимать» — так закон велит; за убитых мстить надо! За каждого убитого — врага убить надо. А одному не справиться с этим…
Пошел Мамбу к Пунади помощи просить. К деревне подошел, а там уже и пепел холодный: все дома никанцы спалили, всех Пунади в плен увели.
Пошел Мамбу к Губату помощи просить, за два рода мстить.
К деревне подошел. А там пустые дома стоят. Все вещи ветер пылью занес. По деревне только крысы бегают.
Ушли Губату из родной деревни, никанцев испугались. Куда ушли, кто знает? Следов не оставили.
Заплакал Мамбу-сирота. Как врагам отомстить?
Пошел Мамбу к речным людям помощи просить. Собрались те люди. Послушали Мамбу. Говорит ему старый человек-калуга:
— Хорошие люди Сулаки и Пунади были! Мы тебе рады бы помочь, но без воды мы жить не можем. Как на суше воевать будем? По земле ходить не умеем!..
Пошел Мамбу к таежным людям. Собрались те, узнав, что простой человек к ним пришел, помощи просит.
Рассердились на никанцев таежные люди, зарычали. Говорит старый человек-медведь сироте Мамбу, что рады бы таежные люди отомстить за Сулаки, отомстить за Пунади — хорошие люди были, — только через реку переплыть таежные люди не могут…
Пошел Мамбу к лесным людям. Поклонился березе, сказал, какая у него беда случилась.
Говорит:
— Вы и реку переплывете, вы и посуху пройдете. Вас прошу помочь мне! Один не могу отомстить.
Согласились лесные люди.
Взял Мамбу топор. Много березы нарубил. Ошкурил — кору с березы снял. На чурки березу порезал. Глаза на чурках сделал, чтобы видели дорогу. Нос на чурках сделал, чтобы чуяли запах дыма на халатах у тех, кто Сулаки погубил, кто Пунади увел. Рукой похлопал. Зашевелили чурки глазами, на Мамбу смотрят: что скажет?
— Эй вы, древесные люди, — говорит Мамбу, — на войну ступайте! Один я не могу за всех отомстить! Вас прошу! Вас прошу — идите! Обидчиков ни одного в живых не оставляйте!
 Дорогу древесным людям показал. Бултыхнулись те в воду, по той дороге поплыли, откуда никанские люди приезжали.
Сел на берегу Мамбу.
Не ел, не пил, пока древесных людей ждал…
А древесные люди реку переплыли. По земле никанской поскакали. До никанского города доскакали. В том городе человек-брюхо с амбанем во дворце сидят, богатую добычу делят, сидят — пролитой кровью похваляются. И воины их тут же — ульчские вещи делят, из-за каждой шкурки ссорятся.
Вдруг из окон стекла полетели. В окна и двери древесные люди ввалились и давай обидчиков стукать! Мечей не боятся древесные люди. Криков не слушают — ушей нет. Подножку не дашь — ног у них нет! Пощады не попросишь — сердца у них нет!
Всех обидчиков переколотили древесные люди. Человека-брюхо так с двух сторон стукнули, что от него только жирное пятно на полу осталось. Амбаню столько шишек понаставили, что он до конца жизни узнать сам себя не мог.
…Сидит, ждет Мамбу-сирота. Черный, как земля, стал.
Вернулись древесные люди. На берег вылезли.
— Всех побили, — говорят. — Что дальше делать?
— Спасибо, — отвечает Мамбу.
Глаза древесным людям закрыл, носы стесал. Стали они опять как простые чурки. Тальнику Мамбу нарубил. Тем тальником чурки связал, плот сделал. На тот плот сам сел. От родного берега шестом оттолкнулся, заплакал:
— Как один здесь жить буду! Не может человек жить один… Других людей искать поплыву. Имя свое позабуду, в чужой род попрошусь…
Поплыл Мамбу по Амуру.
Будет плыть по реке сколько сил станет. Мимо деревни плыть будет, кричать будет: «Эй, люди, своим меня считайте! Имя мне дайте! В свой род примите!»
Только долго Мамбу плыть не будет.
Такого молодца любая деревня возьмет. Любой старик такого молодца сыном считать будет, только крикни Мамбу…
А про Сулаки, Пунади и Губату с тех пор ничего не слышно. Только в сказках старики про них рассказывают.
Дорогу древесным людям показал. Бултыхнулись те в воду, по той дороге поплыли, откуда никанские люди приезжали.
Сел на берегу Мамбу.
Не ел, не пил, пока древесных людей ждал…
А древесные люди реку переплыли. По земле никанской поскакали. До никанского города доскакали. В том городе человек-брюхо с амбанем во дворце сидят, богатую добычу делят, сидят — пролитой кровью похваляются. И воины их тут же — ульчские вещи делят, из-за каждой шкурки ссорятся.
Вдруг из окон стекла полетели. В окна и двери древесные люди ввалились и давай обидчиков стукать! Мечей не боятся древесные люди. Криков не слушают — ушей нет. Подножку не дашь — ног у них нет! Пощады не попросишь — сердца у них нет!
Всех обидчиков переколотили древесные люди. Человека-брюхо так с двух сторон стукнули, что от него только жирное пятно на полу осталось. Амбаню столько шишек понаставили, что он до конца жизни узнать сам себя не мог.
…Сидит, ждет Мамбу-сирота. Черный, как земля, стал.
Вернулись древесные люди. На берег вылезли.
— Всех побили, — говорят. — Что дальше делать?
— Спасибо, — отвечает Мамбу.
Глаза древесным людям закрыл, носы стесал. Стали они опять как простые чурки. Тальнику Мамбу нарубил. Тем тальником чурки связал, плот сделал. На тот плот сам сел. От родного берега шестом оттолкнулся, заплакал:
— Как один здесь жить буду! Не может человек жить один… Других людей искать поплыву. Имя свое позабуду, в чужой род попрошусь…
Поплыл Мамбу по Амуру.
Будет плыть по реке сколько сил станет. Мимо деревни плыть будет, кричать будет: «Эй, люди, своим меня считайте! Имя мне дайте! В свой род примите!»
Только долго Мамбу плыть не будет.
Такого молодца любая деревня возьмет. Любой старик такого молодца сыном считать будет, только крикни Мамбу…
А про Сулаки, Пунади и Губату с тех пор ничего не слышно. Только в сказках старики про них рассказывают.

Как Бельды воевать перестали
 Среди всех нанайцев Бельды́ самые храбрые были. Про Бельды говорили, что людей драчливее их нет. Для Бельды подраться — первое дело было. Сколько раз на соседей войной ходили! Так из драки и не вылезали…
Беда, если где-нибудь одного Бельды убьют! Кровная месть! Нельзя не отплатить за убийство! Только у других за убитого брат, отец мстит, а Бельды всем народом идут. А было их много. Глядишь — вместо одного врага несколько убьют. Начинают обиженные мстить.
Так и идет: то Бельды в походе, то Бельды в осаде.
На зверя не стало времени ходить, рыбу некогда ловить… Все война да война!
У Бельды мальчишка с колыбели за боевой лук из жимолости хватается.
Девчонки с детства, как на улице шум услышат, под нары лезут, прячутся.
И ничего с такими нанайцами не поделаешь. «Мы тигриного рода», — говорят они.
Так Бельды к войне привыкли, что, когда драки нет, ходят как потерянные, не знают, за что взяться.
Вот у одного нанайца Бельды родились близнецы. Все родичи обрадовались этому. Ведь известно всем, что когда рождаются у кого-нибудь близнецы, всему роду большое счастье будет. Так говорили старики. Еще говорили они, что близнецов почитать надо. И все Бельды близнецов почитали, заботились о них, дали им хорошие имена: одному — Удога, другому — Чуба́к.
Почитали Бельды своих близнецов, советовались с ними. А про женщин и говорить нечего. Бывало так, что в стойбище мужчин совсем не оставалось, кроме близнецов. Они маленькие еще были, в поход не ходили, на нарах в фанзе сидели, ножиком играли. Близнецы умные были: все знали.
Что случится — женщины к ним идут, спрашивают, как быть.
Прибежит к Удоге и Чубаку женщина. Говорит, что во сне крик кукушки слышала.
Спрашивают близнецы:
— А голос у кукушки какой?
— Хриплый голос, — отвечает женщина.
— Это к смерти, — говорит Удога.
Примутся женщины плакать.
Сколько-то времени пройдет — возвращаются Бельды из похода; глядишь, на циновках за собой убитых волокут.
Весной женщины к близнецам идут:
— Какая рыба в этом году будет?
Говорит Чубак:
— Принесите мне перелетную птицу.
Принесут. Посмотрит Чубак.
— Птица жирная, — говорит, — рыбы много будет.
Зимой спрашивают Удогу и Чубака:
— Шалаши рыбачьи на каком месте ставить: на высоком или низком?
— Месяц низко ходит сейчас, — говорит Чубак. — Ставьте рыбалку на высоком месте — вода будет большая.
Так жили близнецы. Подрастали понемногу…
Только Бельды из одного похода вернулись, а тут опять беда: из одной ловушки какой-то Заксули́ хорька вынул!
Зашумели Бельды, засуетились, стали копья готовить, стали ножи точить, стрелы делать. Побежали женщины к близнецам, плачут, кричат, что не стоит из-за хорька воевать. И так с каждым годом мужчин в стойбище все меньше становится!
А тут и мужчины пришли, чтобы посоветоваться с близнецами.
Говорит Чубак, в руки боевой лук взяв:
— Обида большая! Соболя бы у нас из ловушки взяли — простить можно. Соболь больших денег стоит. За эти деньги человек пищу купить может, за эти деньги человек одежду купить может. Значит, нужда заставила того соболя взять. А бедному как не помочь!.. Хорек — нестоящий зверь. За его шкурку ни одежды, ни пищи не купишь — значит, из озорства взяли… Нас за людей не считают. Думают, мы за себя постоять не можем! Пустяк взяли — значит, мертвыми нас считают; все равно что убили нас. Надо воевать!
Говорит Удога, копье в руки взяв:
— Надо против Заксули воевать! Надо Заксули всех убить! Плохие люди Заксули — хорька у нас украли… Воевать пойдем — заклятье надо сделать: на их земле еду не брать, на их земле воду не брать.
Приуныли женщины, видят — и близнецы воевать хотят, ничего не поделаешь. Еду мужчинам приготовили, лепешек напекли, рыбу насушили, сараны положили, мяса вяленого.
Вот пошли Бельды воевать.
Навьючили на себя мешки с едой, на шею повязали кувшины с водой. Идут, пыхтят… Тяжело! Чем дальше идут, тем больше злятся: вот какие эти Заксули плохие люди! Мало того, что против них воевать надо, так еще и тяжести с собой таскать приходится.
Три речки перешли, девять озер перешли.
В брусничнике женщин из рода Заксули увидели. Позвал их Чубак.
— Идите, — говорит, — скажите: всех ваших убьем, ни одного не оставим!
Перепугались Бельды:
— Зачем сказал! Теперь знать будут. Как за ними гоняться будем с кувшинами да с мешками?
Промолчал Чубак. Ничего не ответил.
Побежали женщины в деревню. Мужьям сказали, братьям сказали. Те в домах засели. Куда от Бельды скроешься! Сидят, не показываются. Подошли Бельды к деревне. В засаду сели, Заксули караулят, ждут.
А женщины из деревни вокруг ходят, палками в траве да кустарниках шарят. То одному, то другому Бельды палкой по голове заедут так, что искры из глаз сыплются.
Молчат Бельды, терпят. Подальше от женщин отходят, чтобы не рассердиться: нельзя женщин задевать.
Среди всех нанайцев Бельды́ самые храбрые были. Про Бельды говорили, что людей драчливее их нет. Для Бельды подраться — первое дело было. Сколько раз на соседей войной ходили! Так из драки и не вылезали…
Беда, если где-нибудь одного Бельды убьют! Кровная месть! Нельзя не отплатить за убийство! Только у других за убитого брат, отец мстит, а Бельды всем народом идут. А было их много. Глядишь — вместо одного врага несколько убьют. Начинают обиженные мстить.
Так и идет: то Бельды в походе, то Бельды в осаде.
На зверя не стало времени ходить, рыбу некогда ловить… Все война да война!
У Бельды мальчишка с колыбели за боевой лук из жимолости хватается.
Девчонки с детства, как на улице шум услышат, под нары лезут, прячутся.
И ничего с такими нанайцами не поделаешь. «Мы тигриного рода», — говорят они.
Так Бельды к войне привыкли, что, когда драки нет, ходят как потерянные, не знают, за что взяться.
Вот у одного нанайца Бельды родились близнецы. Все родичи обрадовались этому. Ведь известно всем, что когда рождаются у кого-нибудь близнецы, всему роду большое счастье будет. Так говорили старики. Еще говорили они, что близнецов почитать надо. И все Бельды близнецов почитали, заботились о них, дали им хорошие имена: одному — Удога, другому — Чуба́к.
Почитали Бельды своих близнецов, советовались с ними. А про женщин и говорить нечего. Бывало так, что в стойбище мужчин совсем не оставалось, кроме близнецов. Они маленькие еще были, в поход не ходили, на нарах в фанзе сидели, ножиком играли. Близнецы умные были: все знали.
Что случится — женщины к ним идут, спрашивают, как быть.
Прибежит к Удоге и Чубаку женщина. Говорит, что во сне крик кукушки слышала.
Спрашивают близнецы:
— А голос у кукушки какой?
— Хриплый голос, — отвечает женщина.
— Это к смерти, — говорит Удога.
Примутся женщины плакать.
Сколько-то времени пройдет — возвращаются Бельды из похода; глядишь, на циновках за собой убитых волокут.
Весной женщины к близнецам идут:
— Какая рыба в этом году будет?
Говорит Чубак:
— Принесите мне перелетную птицу.
Принесут. Посмотрит Чубак.
— Птица жирная, — говорит, — рыбы много будет.
Зимой спрашивают Удогу и Чубака:
— Шалаши рыбачьи на каком месте ставить: на высоком или низком?
— Месяц низко ходит сейчас, — говорит Чубак. — Ставьте рыбалку на высоком месте — вода будет большая.
Так жили близнецы. Подрастали понемногу…
Только Бельды из одного похода вернулись, а тут опять беда: из одной ловушки какой-то Заксули́ хорька вынул!
Зашумели Бельды, засуетились, стали копья готовить, стали ножи точить, стрелы делать. Побежали женщины к близнецам, плачут, кричат, что не стоит из-за хорька воевать. И так с каждым годом мужчин в стойбище все меньше становится!
А тут и мужчины пришли, чтобы посоветоваться с близнецами.
Говорит Чубак, в руки боевой лук взяв:
— Обида большая! Соболя бы у нас из ловушки взяли — простить можно. Соболь больших денег стоит. За эти деньги человек пищу купить может, за эти деньги человек одежду купить может. Значит, нужда заставила того соболя взять. А бедному как не помочь!.. Хорек — нестоящий зверь. За его шкурку ни одежды, ни пищи не купишь — значит, из озорства взяли… Нас за людей не считают. Думают, мы за себя постоять не можем! Пустяк взяли — значит, мертвыми нас считают; все равно что убили нас. Надо воевать!
Говорит Удога, копье в руки взяв:
— Надо против Заксули воевать! Надо Заксули всех убить! Плохие люди Заксули — хорька у нас украли… Воевать пойдем — заклятье надо сделать: на их земле еду не брать, на их земле воду не брать.
Приуныли женщины, видят — и близнецы воевать хотят, ничего не поделаешь. Еду мужчинам приготовили, лепешек напекли, рыбу насушили, сараны положили, мяса вяленого.
Вот пошли Бельды воевать.
Навьючили на себя мешки с едой, на шею повязали кувшины с водой. Идут, пыхтят… Тяжело! Чем дальше идут, тем больше злятся: вот какие эти Заксули плохие люди! Мало того, что против них воевать надо, так еще и тяжести с собой таскать приходится.
Три речки перешли, девять озер перешли.
В брусничнике женщин из рода Заксули увидели. Позвал их Чубак.
— Идите, — говорит, — скажите: всех ваших убьем, ни одного не оставим!
Перепугались Бельды:
— Зачем сказал! Теперь знать будут. Как за ними гоняться будем с кувшинами да с мешками?
Промолчал Чубак. Ничего не ответил.
Побежали женщины в деревню. Мужьям сказали, братьям сказали. Те в домах засели. Куда от Бельды скроешься! Сидят, не показываются. Подошли Бельды к деревне. В засаду сели, Заксули караулят, ждут.
А женщины из деревни вокруг ходят, палками в траве да кустарниках шарят. То одному, то другому Бельды палкой по голове заедут так, что искры из глаз сыплются.
Молчат Бельды, терпят. Подальше от женщин отходят, чтобы не рассердиться: нельзя женщин задевать.
 Сидят Заксули в домах: струсили сильно.
Сидят Бельды в кустах, врагов подкарауливают. Не дают рыбу ловить, не дают птицу стрелять.
Пока еда была, вода была, Бельды сильно храбрые были.
Вот вся еда вышла. Сидят Бельды. Терпят.
Говорит Чубак:
— Теперь уж немножко ждать осталось! Умрут со страху Заксули.
Вот у Бельды вся вода вышла. Терпят. Молчат.
Говорит Удога:
— Ну, теперь совсем мало ждать осталось!
Вот у Бельды все терпение вышло. Сидят. Ворчат на такую войну, худеют, копья у них из рук вываливаются.
И Заксули не слаще — дома, взаперти, голодом сидеть.
Сидели, сидели — невтерпеж стало. Старика к Бельды послали. Тот палку с человечьим лицом взял. Пошел. Идет, от ветра шатается.
И Бельды не лучше — отощали, как медведь весной.
Стал старик мира просить. Стали судиться.
Говорят близнецы тому почтенному старику:
— Вы перед нами сильно виноваты. За это мы с вас большой байта́ — штраф — возьмем. Никто такого байта еще никогда не платил!
Испугался тот старик, затрясся: чем Заксули большой байта платить будут? Совсем бедные люди Заксули…
Говорит Чубак:
— Ой, большой байта! Котел, да копье, да платок — стыд с лица утереть.
Вытаращили глаза Бельды, затряслись: вот так байта!
Стоило из-за этого голод и жажду терпеть!
Стоило из-за этого на войну ходить!
А в голове одна мысль — скорей бы домой, да поесть, да попить всласть!
Обрадовались Заксули. Байта сразу же отдали.
От себя Удоге да Чубаку девушек красивых в жены отдали, чтобы породниться с Бельды и не ссориться никогда.
Взяли Бельды девушек. Домой побежали: откуда сила взялась! Домой прибежали. Спрашивают их женщины: какая война была?
Говорят Бельды:
— Ой, какая война была! Самая страшная война, хуже нету!
Принялись Бельды пить. Три дня пили. Целое озеро выпили. Так выпили, что с тех пор озеро высохло. Принялись Бельды есть. Три дня ели. Все съели, даже сохатиные халаты съели.
С тех пор больше не воевали с сородичами. Все дела миром кончали.
Спасибо Удоге и Чубаку, что уму-разуму научили!
Сидят Заксули в домах: струсили сильно.
Сидят Бельды в кустах, врагов подкарауливают. Не дают рыбу ловить, не дают птицу стрелять.
Пока еда была, вода была, Бельды сильно храбрые были.
Вот вся еда вышла. Сидят Бельды. Терпят.
Говорит Чубак:
— Теперь уж немножко ждать осталось! Умрут со страху Заксули.
Вот у Бельды вся вода вышла. Терпят. Молчат.
Говорит Удога:
— Ну, теперь совсем мало ждать осталось!
Вот у Бельды все терпение вышло. Сидят. Ворчат на такую войну, худеют, копья у них из рук вываливаются.
И Заксули не слаще — дома, взаперти, голодом сидеть.
Сидели, сидели — невтерпеж стало. Старика к Бельды послали. Тот палку с человечьим лицом взял. Пошел. Идет, от ветра шатается.
И Бельды не лучше — отощали, как медведь весной.
Стал старик мира просить. Стали судиться.
Говорят близнецы тому почтенному старику:
— Вы перед нами сильно виноваты. За это мы с вас большой байта́ — штраф — возьмем. Никто такого байта еще никогда не платил!
Испугался тот старик, затрясся: чем Заксули большой байта платить будут? Совсем бедные люди Заксули…
Говорит Чубак:
— Ой, большой байта! Котел, да копье, да платок — стыд с лица утереть.
Вытаращили глаза Бельды, затряслись: вот так байта!
Стоило из-за этого голод и жажду терпеть!
Стоило из-за этого на войну ходить!
А в голове одна мысль — скорей бы домой, да поесть, да попить всласть!
Обрадовались Заксули. Байта сразу же отдали.
От себя Удоге да Чубаку девушек красивых в жены отдали, чтобы породниться с Бельды и не ссориться никогда.
Взяли Бельды девушек. Домой побежали: откуда сила взялась! Домой прибежали. Спрашивают их женщины: какая война была?
Говорят Бельды:
— Ой, какая война была! Самая страшная война, хуже нету!
Принялись Бельды пить. Три дня пили. Целое озеро выпили. Так выпили, что с тех пор озеро высохло. Принялись Бельды есть. Три дня ели. Все съели, даже сохатиные халаты съели.
С тех пор больше не воевали с сородичами. Все дела миром кончали.
Спасибо Удоге и Чубаку, что уму-разуму научили!

Близнецы
 Это не так давно было. Есть еще старики, которые помнят это. Правда, мало таких стариков уже осталось.
Были в роду у Бельды близнецы: Удога и Чубак. Известно, что, когда близнецы родятся, это очень хорошо. Тому роду большое счастье близнецы приносят. Вот живут себе Удога и Чубак. Дети как дети, ростом невелики, а умом стариков обогнали. Пять зим только и прошло всего, а Удога и Чубак уже на охоту пошли. И все им удавалось. И лесные и водяные люди близнецов любили, во всем братьям помогали, во всяком деле удачу посылали.
Вот случился как-то плохой год: зверя мало стало, рыба плохо шла. Стали говорить старики, что место менять надо, что на этом месте черти зверя и рыбу распугали.
Послушал Удога стариков, говорит:
— Чем место плохое?
Тетиву своего маленького лука натянул, вокруг посмотрел, в тайгу стрелу свою послал. Улетела стрела. Долго ли летела — не знаю, потом вернулась, сама Удоге в колчан легла, на старое место. А за стрелой прилетели птицы: утки, гуси, перепелки, — и у ног Удоги легли. Посмотрели старики — все птицы в левый глаз ранены. Переглянулись: «Если так каждый раз будет, не останется деревня без мяса!»
Тут Чубак старикам говорит:
— Чем плохое место?
Бросил одной рукой сетки в воду. Потонули сетки.
«Ну, — думают старики, — водяной черт сетки утащил!»
Подождали немного. Вдруг забурлила река, закипела, пузырями вспенилась. Сунул тогда Чубак руку в воду, сетки ухватил и вытащил. Сколько было узелков в сетках, столько рыбы вытащил Чубак. Посмотрели старики друг на друга: «Э-э, если каждый раз так будет, не останется деревня без рыбы!»
Спрашивает тут Чубак женщин:
— В прошлом году на какой стороне у кеты икры было больше?
— На левой, — отвечают Чубаку.
— Так, значит, в этом году рыба под левым берегом идет, — говорит Чубак. — Примечать надо. Вы на правом берегу ловили, вот и показалось вам, что рыбы нету, что ушла рыба.
Тогда и Удога говорит:
— Птица и зверь за рыбой ходят. Надо было на другом берегу промышлять.
Стали старики во всем совета у близнецов спрашивать. И все шло хорошо.
Только вскоре опять беда стряслась! Наехал с чужого берега маньчжу-нойон — начальник. С солдатами, с пушками наехал. Требует с Бельды дань — с каждого человека по соболю, по выдре да по лисице!
Запечалились Бельды. Вовек никому дани не платили, а тут на-ко тебе… А ничего не поделаешь, у косатого маньчжу — сила! Одних солдат в два раза больше, чем всех Бельды.
Пошли старики к близнецам. Совета просят. Посмотрели Удога и Чубак друг на друга. Говорит Удога:
— Дань не платите, не маньчжурские мы люди — мы амурской земли-воды люди! Вот пойдем мы с братом к тому нойону…
Это не так давно было. Есть еще старики, которые помнят это. Правда, мало таких стариков уже осталось.
Были в роду у Бельды близнецы: Удога и Чубак. Известно, что, когда близнецы родятся, это очень хорошо. Тому роду большое счастье близнецы приносят. Вот живут себе Удога и Чубак. Дети как дети, ростом невелики, а умом стариков обогнали. Пять зим только и прошло всего, а Удога и Чубак уже на охоту пошли. И все им удавалось. И лесные и водяные люди близнецов любили, во всем братьям помогали, во всяком деле удачу посылали.
Вот случился как-то плохой год: зверя мало стало, рыба плохо шла. Стали говорить старики, что место менять надо, что на этом месте черти зверя и рыбу распугали.
Послушал Удога стариков, говорит:
— Чем место плохое?
Тетиву своего маленького лука натянул, вокруг посмотрел, в тайгу стрелу свою послал. Улетела стрела. Долго ли летела — не знаю, потом вернулась, сама Удоге в колчан легла, на старое место. А за стрелой прилетели птицы: утки, гуси, перепелки, — и у ног Удоги легли. Посмотрели старики — все птицы в левый глаз ранены. Переглянулись: «Если так каждый раз будет, не останется деревня без мяса!»
Тут Чубак старикам говорит:
— Чем плохое место?
Бросил одной рукой сетки в воду. Потонули сетки.
«Ну, — думают старики, — водяной черт сетки утащил!»
Подождали немного. Вдруг забурлила река, закипела, пузырями вспенилась. Сунул тогда Чубак руку в воду, сетки ухватил и вытащил. Сколько было узелков в сетках, столько рыбы вытащил Чубак. Посмотрели старики друг на друга: «Э-э, если каждый раз так будет, не останется деревня без рыбы!»
Спрашивает тут Чубак женщин:
— В прошлом году на какой стороне у кеты икры было больше?
— На левой, — отвечают Чубаку.
— Так, значит, в этом году рыба под левым берегом идет, — говорит Чубак. — Примечать надо. Вы на правом берегу ловили, вот и показалось вам, что рыбы нету, что ушла рыба.
Тогда и Удога говорит:
— Птица и зверь за рыбой ходят. Надо было на другом берегу промышлять.
Стали старики во всем совета у близнецов спрашивать. И все шло хорошо.
Только вскоре опять беда стряслась! Наехал с чужого берега маньчжу-нойон — начальник. С солдатами, с пушками наехал. Требует с Бельды дань — с каждого человека по соболю, по выдре да по лисице!
Запечалились Бельды. Вовек никому дани не платили, а тут на-ко тебе… А ничего не поделаешь, у косатого маньчжу — сила! Одних солдат в два раза больше, чем всех Бельды.
Пошли старики к близнецам. Совета просят. Посмотрели Удога и Чубак друг на друга. Говорит Удога:
— Дань не платите, не маньчжурские мы люди — мы амурской земли-воды люди! Вот пойдем мы с братом к тому нойону…
 Женщины в деревне плач подняли.
— Как можно! — кричат они. — Тот маньчжу-нойон — худой человек! Убьет он наших близнецов — счастье наше убьет!
Как ни кричали женщины, пошли Удога и Чубак к тому нойону. Сидит нойон в большом сампане — лодке расписной. На широком помосте сидит. Над нойоном шатер шелковый колышется. Вокруг стража стоит. У плахи палач кривой меч точит. Нойон правую руку на подушку положил. Ногти на руках у него длинные-длинные, до полу достают, загнулись, перекрутились, каждый в серебряный футляр вставлен. Чистит ногти нойону пять девушек-невольниц. Толстый писец с большой книгой у ног нойона сидит.
Увидал нойон близнецов, говорит:
— Что здесь нанайским ребятам надо?
Посмотрел писец, до земли перед нойоном склонился:
— Эти детки прибежали сказать, благородный нойон, что придут сейчас нанайские старики, ту дань принесут, что велел ты с них взять.
Еще пуще заважничал нойон. Нос кверху задрал. В небо голубое смотрит, чтобы на нанайских стариков не глядеть, глаза себе не портить. Ждал, ждал… Шея у него заболела, а нанайских стариков все нет.
Говорит тут Чубак:
— Не придут старики, благородный нойон! Бельды дани никому не платили. В своих реках рыбу ловили, в своей тайге зверя били, по своей земле ходили, своим воздухом дышали. Им смешно дань платить. Платить станут — смеяться будут. Так чтобы тебя не обидеть, они вовсе не пришли. А мы маленькие, мы ничего не понимаем… Вот подарки тебе принесли, нойон.
Высыпал Удога из кисета горсть амурской земли:
— Прими, нойон, горсть нашей земли, если тебе своей мало!
Вынул Чубак из чумашки глаз совы:
— Прими, нойон, и мой дар — глаз совы. Тогда и ночью ты сможешь увидеть, что на Амуре храбрые люди живут.
Вытащил Удога перо из хвоста орла с красным клювом:
— Прими, нойон, пожелание, чтобы жил ты столько лет, сколько живет орел, и чтобы тебя, как орла, все боялись. Только на Амуре страха перед тобой не будет!
Высыпал из чумашки Чубак горсть золы:
— Пусть обратятся в золу все твои враги, нойон! Пусть золой покроются все злые мысли против амурских людей!
Удивился нойон тому, как разговаривают маленькие нанайцы. Испугался: если дети такие, то какие же у нанайцев воины и мужчины! Виду нойон не показал, страх свой скрыл. На близнецов закричал:
— Завтра пошлю солдат своих к Бельды! Огню предам всех мертвых, а живых мертвыми сделаю!
Поклонился ему Удога:
— Твоя воля, благородный нойон, только завтра тебе удачи не будет. Лучше сегодня сделай то, что сказал.
Не послушался нойон. Переждал ночь. В поход собрался. Тут полил такой дождь, что берега исчезли из виду и все дороги развезло. Пошли солдаты нойона, да чуть в грязи не утонули. Порох в ружьях у них отсырел. Возвратились солдаты.
— Солнце вчера в тучу садилось, — говорит Удога, — к ливню. Примета верная!
Прошла непогода. Усеялось небо звездами.
Говорит нойон:
— Завтра к деревням Бельды поплыву. Всех уничтожу! Всех живых мертвыми сделаю, все дома в пепел обращу!
— Твоя воля, благородный нойон, — говорит Чубак, — только завтра тебе удачи не будет. Сделай сегодня то, что сказал.
Переждал нойон ночь. С утра велел поднять паруса на всех сампанах — плыть к Бельды.
Налетело от заката черное облако с белым венцом — и такая буря поднялась, что в жизни своей не видал нойон такой бури! Заплескался Амур. Волны до неба поднялись, облака до земли спустились. Дунул ветер один раз — все паруса на сампанах порвал. Дунул ветер второй раз — все весла и мачты поломал. Едва-едва сампаны целы остались. Счастье, что третий раз ветер не дунул.
Говорит Чубак:
— Вчера звезды сильно мерцали: к буре это.
Сидит нойон сердитый. Халатом закрылся, ни на кого смотреть не хочет, никого к себе не подпускает. От злости все ногти себе переломал. Всех девушек своих разогнал. Писца своего палкой исколотил.
Подошли к нему близнецы. Говорят:
— До сих пор мы тебе говорили, благородный нойон. Теперь ты нам скажи. Вот ты видел, что мы свою землю знаем и не зря с нее дань свою собираем: рыбу, пушнину, птицу берем. Как же ты хочешь дань собирать с земли, которой ты не знаешь?
Побледнел нойон, думает: «Как справлюсь я с народом, у которого даже мальчишки такие умные!»
Поехал назад на свою сторону маньчжу-нойон.
Это не так давно еще было. Еще есть старики, которые тех близнецов помнят. А может быть, они о тех близнецах от своих отцов слыхали… Кто знает!
Женщины в деревне плач подняли.
— Как можно! — кричат они. — Тот маньчжу-нойон — худой человек! Убьет он наших близнецов — счастье наше убьет!
Как ни кричали женщины, пошли Удога и Чубак к тому нойону. Сидит нойон в большом сампане — лодке расписной. На широком помосте сидит. Над нойоном шатер шелковый колышется. Вокруг стража стоит. У плахи палач кривой меч точит. Нойон правую руку на подушку положил. Ногти на руках у него длинные-длинные, до полу достают, загнулись, перекрутились, каждый в серебряный футляр вставлен. Чистит ногти нойону пять девушек-невольниц. Толстый писец с большой книгой у ног нойона сидит.
Увидал нойон близнецов, говорит:
— Что здесь нанайским ребятам надо?
Посмотрел писец, до земли перед нойоном склонился:
— Эти детки прибежали сказать, благородный нойон, что придут сейчас нанайские старики, ту дань принесут, что велел ты с них взять.
Еще пуще заважничал нойон. Нос кверху задрал. В небо голубое смотрит, чтобы на нанайских стариков не глядеть, глаза себе не портить. Ждал, ждал… Шея у него заболела, а нанайских стариков все нет.
Говорит тут Чубак:
— Не придут старики, благородный нойон! Бельды дани никому не платили. В своих реках рыбу ловили, в своей тайге зверя били, по своей земле ходили, своим воздухом дышали. Им смешно дань платить. Платить станут — смеяться будут. Так чтобы тебя не обидеть, они вовсе не пришли. А мы маленькие, мы ничего не понимаем… Вот подарки тебе принесли, нойон.
Высыпал Удога из кисета горсть амурской земли:
— Прими, нойон, горсть нашей земли, если тебе своей мало!
Вынул Чубак из чумашки глаз совы:
— Прими, нойон, и мой дар — глаз совы. Тогда и ночью ты сможешь увидеть, что на Амуре храбрые люди живут.
Вытащил Удога перо из хвоста орла с красным клювом:
— Прими, нойон, пожелание, чтобы жил ты столько лет, сколько живет орел, и чтобы тебя, как орла, все боялись. Только на Амуре страха перед тобой не будет!
Высыпал из чумашки Чубак горсть золы:
— Пусть обратятся в золу все твои враги, нойон! Пусть золой покроются все злые мысли против амурских людей!
Удивился нойон тому, как разговаривают маленькие нанайцы. Испугался: если дети такие, то какие же у нанайцев воины и мужчины! Виду нойон не показал, страх свой скрыл. На близнецов закричал:
— Завтра пошлю солдат своих к Бельды! Огню предам всех мертвых, а живых мертвыми сделаю!
Поклонился ему Удога:
— Твоя воля, благородный нойон, только завтра тебе удачи не будет. Лучше сегодня сделай то, что сказал.
Не послушался нойон. Переждал ночь. В поход собрался. Тут полил такой дождь, что берега исчезли из виду и все дороги развезло. Пошли солдаты нойона, да чуть в грязи не утонули. Порох в ружьях у них отсырел. Возвратились солдаты.
— Солнце вчера в тучу садилось, — говорит Удога, — к ливню. Примета верная!
Прошла непогода. Усеялось небо звездами.
Говорит нойон:
— Завтра к деревням Бельды поплыву. Всех уничтожу! Всех живых мертвыми сделаю, все дома в пепел обращу!
— Твоя воля, благородный нойон, — говорит Чубак, — только завтра тебе удачи не будет. Сделай сегодня то, что сказал.
Переждал нойон ночь. С утра велел поднять паруса на всех сампанах — плыть к Бельды.
Налетело от заката черное облако с белым венцом — и такая буря поднялась, что в жизни своей не видал нойон такой бури! Заплескался Амур. Волны до неба поднялись, облака до земли спустились. Дунул ветер один раз — все паруса на сампанах порвал. Дунул ветер второй раз — все весла и мачты поломал. Едва-едва сампаны целы остались. Счастье, что третий раз ветер не дунул.
Говорит Чубак:
— Вчера звезды сильно мерцали: к буре это.
Сидит нойон сердитый. Халатом закрылся, ни на кого смотреть не хочет, никого к себе не подпускает. От злости все ногти себе переломал. Всех девушек своих разогнал. Писца своего палкой исколотил.
Подошли к нему близнецы. Говорят:
— До сих пор мы тебе говорили, благородный нойон. Теперь ты нам скажи. Вот ты видел, что мы свою землю знаем и не зря с нее дань свою собираем: рыбу, пушнину, птицу берем. Как же ты хочешь дань собирать с земли, которой ты не знаешь?
Побледнел нойон, думает: «Как справлюсь я с народом, у которого даже мальчишки такие умные!»
Поехал назад на свою сторону маньчжу-нойон.
Это не так давно еще было. Еще есть старики, которые тех близнецов помнят. А может быть, они о тех близнецах от своих отцов слыхали… Кто знает!

Золотое кольцо
 Глупый человек — это плохо, а глупый да жадный — вдвое хуже! Глупый да жадный ни людям, ни себе добра не сделает.
Жил в одном стойбище шаман Чумбока́.
В том стойбище много ребят было. Любили они драться, наперегонки бегать, на поясках тянуться.
Хорошие ребята были, ловкие! Все отцы своих ребят любили.
И у шамана Чумбоки сын был, по имени Акимка́. Шаман был богатый. Жил он обманом: говорил, что много знает; говорил, что с чертями знается — может любого человека заколдовать или вылечить. Заболеет кто-нибудь в стойбище — зовут шамана. Придет Чумбока, посмотрит на больного, говорит:
— В него черт залез! Я этого черта знаю, знакомый черт. Его выгнать надо.
Бубен свой натянет, начнет в него бить; костер разведет, кружится, кружится… Разные слова говорит, будто с чертями разговаривает: просит больного оставить, уйти, грозит тем чертям. Выздоровеет больной — шаман говорит: «Вот, прогнал я чертей. Сильный я! Мне подарки давайте». Умрет больной — говорит шаман: «Плохие подарки были, мало верили мне люди. Вот черти и утащили больного к себе».
Боялись люди шамана. Всякие подарки ему таскали. Иной себе не оставит, а Чумбоке тащит.
Стал Чумбока богатый-богатый. Загордился Чумбока. Ходит по стойбищу — толстый, жирный до того, что у него халат насквозь просалился. Задирает Чумбока нос кверху — лучше всех себя считает.
Сын шамана Акимка был такой же, как все ребята, не лучше, не хуже.
Обидно стало шаману, что сын его на всех остальных похож. Задумал он отличить Акимку от всех ребят. Пошел к кузнецу. Золота кусок принес.
— Слушай, кузнец, сделай мне кольцо.
— Зачем тебе кольцо, да еще золотое? — спрашивает кузнец шамана.
— Сыну на шею надену, — говорит шаман. — Отличка будет у Акимки. Пусть все люди видят, какой у него отец богатый!
Говорит кузнец:
— Нехорошо, Чумбока, сына своего отделять от ребят.
Рассердился шаман.
— Глупый ты! — говорит. — Глупый, а мне еще советы даешь!
— Я не глупый! — обиделся кузнец.
— А коли не глупый, — говорит Чумбока, — отгадай загадку. Что, что, что такое: белые люди рубят, красный человек возит?
Думал, думал кузнец — не мог отгадать.
Стал над ним Чумбока смеяться:
— Эх, ты! Это значит: зубы и язык. А ты простой загадки не отгадал!
Промолчал кузнец. Кольцо сделал, шаману отдал.
Пошел Чумбока домой. Кольцо сыну на шею надел и не велел с другими ребятами водиться.
Ходит Акимка по стойбищу один. Кольцо у него на шее блестит. Радуется Чумбока: все теперь видят, что у Акимки отец не простой человек.
А время идет…
Акимка растет. От ребячьих игр отвык, бегать ленится. Растолстел. Стало кольцо тесно — шею жмет. Жалуется Акимка:
— Отец, сними кольцо!
Взялся Чумбока за кольцо, вертел, вертел — не может кольцо снять: вырос Акимка. А Акимка пыхтит, задыхается.
Говорит Чумбоке мать:
— Разруби кольцо, Чумбока!
Чумбока даже испугался.
— Что ты, — говорит, — как можно! Кольцо дорогое: разрубишь — вещь испортишь! А задыхается Акимка оттого, что здесь простых людей много — воздух плохой. Пусть Акимка на сопочке посидит.
Сидит Акимка на сопке, хрипит.
Чумбока сам чуть не плачет — жалко сына. А еще больше ему жалко золотое кольцо испортить.
Глупый человек — это плохо, а глупый да жадный — вдвое хуже! Глупый да жадный ни людям, ни себе добра не сделает.
Жил в одном стойбище шаман Чумбока́.
В том стойбище много ребят было. Любили они драться, наперегонки бегать, на поясках тянуться.
Хорошие ребята были, ловкие! Все отцы своих ребят любили.
И у шамана Чумбоки сын был, по имени Акимка́. Шаман был богатый. Жил он обманом: говорил, что много знает; говорил, что с чертями знается — может любого человека заколдовать или вылечить. Заболеет кто-нибудь в стойбище — зовут шамана. Придет Чумбока, посмотрит на больного, говорит:
— В него черт залез! Я этого черта знаю, знакомый черт. Его выгнать надо.
Бубен свой натянет, начнет в него бить; костер разведет, кружится, кружится… Разные слова говорит, будто с чертями разговаривает: просит больного оставить, уйти, грозит тем чертям. Выздоровеет больной — шаман говорит: «Вот, прогнал я чертей. Сильный я! Мне подарки давайте». Умрет больной — говорит шаман: «Плохие подарки были, мало верили мне люди. Вот черти и утащили больного к себе».
Боялись люди шамана. Всякие подарки ему таскали. Иной себе не оставит, а Чумбоке тащит.
Стал Чумбока богатый-богатый. Загордился Чумбока. Ходит по стойбищу — толстый, жирный до того, что у него халат насквозь просалился. Задирает Чумбока нос кверху — лучше всех себя считает.
Сын шамана Акимка был такой же, как все ребята, не лучше, не хуже.
Обидно стало шаману, что сын его на всех остальных похож. Задумал он отличить Акимку от всех ребят. Пошел к кузнецу. Золота кусок принес.
— Слушай, кузнец, сделай мне кольцо.
— Зачем тебе кольцо, да еще золотое? — спрашивает кузнец шамана.
— Сыну на шею надену, — говорит шаман. — Отличка будет у Акимки. Пусть все люди видят, какой у него отец богатый!
Говорит кузнец:
— Нехорошо, Чумбока, сына своего отделять от ребят.
Рассердился шаман.
— Глупый ты! — говорит. — Глупый, а мне еще советы даешь!
— Я не глупый! — обиделся кузнец.
— А коли не глупый, — говорит Чумбока, — отгадай загадку. Что, что, что такое: белые люди рубят, красный человек возит?
Думал, думал кузнец — не мог отгадать.
Стал над ним Чумбока смеяться:
— Эх, ты! Это значит: зубы и язык. А ты простой загадки не отгадал!
Промолчал кузнец. Кольцо сделал, шаману отдал.
Пошел Чумбока домой. Кольцо сыну на шею надел и не велел с другими ребятами водиться.
Ходит Акимка по стойбищу один. Кольцо у него на шее блестит. Радуется Чумбока: все теперь видят, что у Акимки отец не простой человек.
А время идет…
Акимка растет. От ребячьих игр отвык, бегать ленится. Растолстел. Стало кольцо тесно — шею жмет. Жалуется Акимка:
— Отец, сними кольцо!
Взялся Чумбока за кольцо, вертел, вертел — не может кольцо снять: вырос Акимка. А Акимка пыхтит, задыхается.
Говорит Чумбоке мать:
— Разруби кольцо, Чумбока!
Чумбока даже испугался.
— Что ты, — говорит, — как можно! Кольцо дорогое: разрубишь — вещь испортишь! А задыхается Акимка оттого, что здесь простых людей много — воздух плохой. Пусть Акимка на сопочке посидит.
Сидит Акимка на сопке, хрипит.
Чумбока сам чуть не плачет — жалко сына. А еще больше ему жалко золотое кольцо испортить.
 Вот приходит к шаману кузнец, говорит:
— Ну, кто из нас глупый?
— Ты, ты глупый! — кричит Чумбока.
— Ну, коли ты умный такой, отгадай загадку: что, что, что такое — горшок без дна?
Подумал шаман.
— Э-э, — говорит, — это разве загадка? Горшок без дна — это прорубь. Прорубь!
Говорит ему кузнец:
— А вот и не угадал. Чумбока! Горшок без дна — это жадность твоя. Что ни брось в него — все пустой тот горшок… Распили кольцо!
— Что ты! — кричит шаман. — Испортишь вещь!
Плюнул кузнец Чумбоке в глаза и ушел.
А сын шамана Акимка так и помер с золотым кольцом на шее. И воздух чистый ему не помог.
Увидал Чумбока мертвого сына, заревел. Да поздно уж — Акимку ему не вернуть.
Вот приходит к шаману кузнец, говорит:
— Ну, кто из нас глупый?
— Ты, ты глупый! — кричит Чумбока.
— Ну, коли ты умный такой, отгадай загадку: что, что, что такое — горшок без дна?
Подумал шаман.
— Э-э, — говорит, — это разве загадка? Горшок без дна — это прорубь. Прорубь!
Говорит ему кузнец:
— А вот и не угадал. Чумбока! Горшок без дна — это жадность твоя. Что ни брось в него — все пустой тот горшок… Распили кольцо!
— Что ты! — кричит шаман. — Испортишь вещь!
Плюнул кузнец Чумбоке в глаза и ушел.
А сын шамана Акимка так и помер с золотым кольцом на шее. И воздух чистый ему не помог.
Увидал Чумбока мертвого сына, заревел. Да поздно уж — Акимку ему не вернуть.

Киле Бамба и Лоче-богатырь
 Наверное, не так давно это было. Жил на Амуре Киле́ Бамба́ — нанайского народа человек, силы богатырской человек Киле Бамба.
От простой женщины родился Киле. Только, видно, добрые черти ему помогали, что быстро он вырос. Еще соску Киле сосал, а уже со зверем схватился.
Ушла как-то мать из дому. Дверь бревнышком приперла, чтобы не открылась. Сколько времени по соседкам ходила — не знаю, а только через раскрытое окно вскочил в дом Бамбы тигр.
Услыхали соседи рев тигра. Услыхали, как заплакал маленький Бамба. Кинулись родичи кто куда: как же можно не бежать, коли в деревню тигр пришел!
Поплакал Бамба и затих.
«Ну, — думают родичи, — пропал маленький Бамба, утащил его тигр в тайгу!»
Прибежала мать домой.
А Бамба на спине лежит, носом пузыри пускает, полосатым тигриным хвостом играет. А тигр рядом с его люлькой лежит: задавил его маленький Бамба. Вот так Бамба!
Наверное, не так давно это было. Жил на Амуре Киле́ Бамба́ — нанайского народа человек, силы богатырской человек Киле Бамба.
От простой женщины родился Киле. Только, видно, добрые черти ему помогали, что быстро он вырос. Еще соску Киле сосал, а уже со зверем схватился.
Ушла как-то мать из дому. Дверь бревнышком приперла, чтобы не открылась. Сколько времени по соседкам ходила — не знаю, а только через раскрытое окно вскочил в дом Бамбы тигр.
Услыхали соседи рев тигра. Услыхали, как заплакал маленький Бамба. Кинулись родичи кто куда: как же можно не бежать, коли в деревню тигр пришел!
Поплакал Бамба и затих.
«Ну, — думают родичи, — пропал маленький Бамба, утащил его тигр в тайгу!»
Прибежала мать домой.
А Бамба на спине лежит, носом пузыри пускает, полосатым тигриным хвостом играет. А тигр рядом с его люлькой лежит: задавил его маленький Бамба. Вот так Бамба!
 Увидал он мать, вытащил соску изо рта.
— Ну беда, — говорит, — сколько зверей развелось, спать не дают, в окна прыгают! Видно, придется мне, — говорит, — за них самому взяться, коли нет в деревне мужчин!
Встал Бамба на ноги. Отцовское копье в руки взял, прикинул.
— Маловато! — говорит. Обеими руками за копье взялся, нажал, пополам сломал. — Плоховато! — говорит.
В тайгу пошел, левой рукой молодую лиственницу взял, набок свернул, с корнем вырвал, сучья ободрал, землю отряхнул, попробовал — удобно ли?
— Легковато! — говорит. — Ну, да раз другого нет, ничего не поделаешь — и это пригодится.
Смотрят на него родичи, диву даются: в кого уродился? Не было еще таких нанаев. И уже не Киле Бамба его называют, а Мерген Бамба — богатырь Бамба.
А Бамба такой охотник стал, что лучше и быть не может. Бамба только из дому выходит, еще на охоту собирается, а за девятью сопками, за девятью озерами звери в норах просыпаются, с детками прощаются, знают — от Бамбы не уйти!
Бамба острый глаз имеет: один раз взглянет — сразу скажет, сколько серебристых волосков на спине у чернобурки, сколько белых у нее в хвосте. Бамба острый слух имеет; прислушивается, говорит: «За девятью реками да за девятью ручьями соболята пищат. Значит, там ставить капкан надо».
Бамба силу имеет: сто дней без отдыха зверя добывает, одну ночь проспит — и еще сто дней зверя бьет.
Бамба ест много: утром — косулю, на обед — сохатого, за ужином медведя съедает! По животу себя погладит. «Съел бы еще, да на завтра оставить надо!»
Бамба зверя бьет, один стреляет — десять охотников добычу собирают. С охоты ребенок идет — за ним целый поезд собачьих упряжек едет: пушнину везут. Вот так Бамба!
Добрый Бамба был. Услышит, где-то в деревне ребенок плачет, — пойдет скажет: «Ты чего ревешь? На́ тебе лаха пукани́. Играй». Рыбий пузырь даст ребенку; станет тот по пузырю ладонью стукать, шум поднимет, плакать перестанет. Столько Бамба медведей перебил, что каждому ребенку в деревне над люлькой мафа́ гарани́ — медвежий клык — повесил, на счастье да чтобы злые черти не пугали. Сыты все в деревне были: мяса хватает, пушнина есть, рыбы вдоволь.
Ездят нанаи за реку, в Никанское царство. Меха продают. Халаты покупают да припасы. Лица у нанаев круглые, животы толстые, глаза ясные, косы красным жгутом оплетены, унты на них красивые, шелками шитые, руки у них ловкие, ноги у нанаев быстрые. Вот какие нанаи!
Смотрел, смотрел с другого берега на нанаев никанский амбань — начальник. Завидки его взяли: живут нанаи хорошо, дружно, дани никому не платят, все у нанаев есть. А своих никанских мужиков амбань давно ободрал как липку: себе — возьмет, царю — возьмет, солдату — возьмет, монаху — возьмет, купцу — возьмет да еще раз себе, а что там мужику остается? «Дай, — думает амбань, — я с нанаев ясак — дань — возьму! С них брать ясак буду, богатство себе наживу».
Вот послал он своих солдат и чиновников к нанаям. Едут: с саблями, с копьями, с огненным боем — сила несметная!
К нанаям приехали. Те гостям рады, угощать стали. Да никанцы на угощение и не смотрят — в амбары полезли. Рассердился тут Бамба на никанцев.
— Невежи вы, — говорит, — вести себя в гостях не умеете!
А солдаты маньчжу-амбаня — косатые были.
Похватал их Бамба за длинные косы, всех вместе теми косами связал да и бросил в воду. Поболтались никанцы в воде, поболтались да и утонули… Сильный был Бамба!
Сколько раз маньчжу — амбань никанский — своих солдат посылал, а обратно их так и не дождался.
Понял тут амбань, что силой амурских людей не возьмешь. Думать стал, всех своих мудрецов и чиновников созвал, чтобы думали, как с амурской земли поживу взять. Думали, думали никанские мудрецы и придумали.
Говорит амбаню самый старый:
— Солдат не посылай: солдат мечом, а не головой думает. Пошли купца к нанаям. Купец — что паук: присосется — не оторвется, пока всю кровь не выпьет!
Так и сделал амбань. Послал к нанаям купца Ли-Чана.
Приехал Ли-Чан к нанаям на Амур. Как лисица Ли-Чан: слова хорошие говорит, три короба всякой всячины сулит. Язык у Ли-Чана без костей — словно хвост у лисицы по ветру стелется. Приехал купец — стал нанаям товары в долг давать: «Бери, бери — потом сосчитаемся!» Кому — бусы, кому — котел, кому — халат расписной, кому — серьги, кому — крупы с мукой. «Бери, бери — посчитаемся потом!» Видят нанаи — добрый купец. Видят нанаи — с Ли-Чаном жить можно. Не кричит купец, не грозит, ногами не топает, все с улыбочкой делает, все посмеивается Ли-Чан.
Так купец нанаев к себе и приучил. Не стали нанаи в Никанское царство ездить, не стали товары привозить, у Ли-Чана все, что надо, покупают. Что ни попросят — у купца все есть.
Вот пришло время Ли-Чану долги платить.
Потащили нанаи Ли-Чану меха.
Только все у Ли-Чана сразу дорого стало. Говорит: дорога трудная — товары возить, разбойники по дороге шалят; амбаню платить надо, разбойникам платить надо, царю никанскому платить надо.
Отдали нанаи всю пушнину, а долг не покрыли. Остались у Ли-Чана в долгу. Ну, нанаи народ такой — долг прежде всего отдать надо! И стали нанаи за тот долг работать. Что в тайге ни добудут — Ли-Чану тащат. Что в реке ни выловят — к нему же. Приехал Ли-Чан к нанаям тонкий, как червяк, — стал Ли-Чан толстый, как боров! Зато нанаи стали тощать. Все никак долг отработать не могут…
Думали, думали, к Киле Бамба пошли…
— Вот какое дело, — вздыхают, — никак долг отдать не можем! Видно, черт в это впутался. Сначала Ли-Чан одну шкурку за одну считал. Потом Ли-Чан две шкурки за одну считать стал. Теперь три считает Ли-Чан за одну. Как быть?
Пошел Бамба к купцу. Рассердился, стал спрашивать: как так получается? А Ли-Чан ему эрэнте́ — книгу — показывает, все долги в той книге записаны. Смотрит Бамба — не понимает тех значков, что в книге записаны, а видит — верно, что-то есть. Если столько долгов, сколько значков, — не выбраться нанаям из долга. И не подумал Бамба, что в той книге обману больше, чем долгов. Стал Бамба нанаев спрашивать, что брали. Отвечают ему: «Халат взял, крупы взял, водку взял… а что дальше было — не помню!» Что до водки берут — помнят нанаи, что после — не помнят, всю память та водка нанаям отшибает…
Стал Бамба родичам помогать.
Родичей из беды не выручил, а сам в нее попал, сам в долгу у Ли-Чана оказался. Как получилось это — не знает Бамба.
«Видно, не купец Ли-Чан, а черт, — думает Бамба. — Как это у него три шкурки за одну идут, непонятно!»
Увидал он мать, вытащил соску изо рта.
— Ну беда, — говорит, — сколько зверей развелось, спать не дают, в окна прыгают! Видно, придется мне, — говорит, — за них самому взяться, коли нет в деревне мужчин!
Встал Бамба на ноги. Отцовское копье в руки взял, прикинул.
— Маловато! — говорит. Обеими руками за копье взялся, нажал, пополам сломал. — Плоховато! — говорит.
В тайгу пошел, левой рукой молодую лиственницу взял, набок свернул, с корнем вырвал, сучья ободрал, землю отряхнул, попробовал — удобно ли?
— Легковато! — говорит. — Ну, да раз другого нет, ничего не поделаешь — и это пригодится.
Смотрят на него родичи, диву даются: в кого уродился? Не было еще таких нанаев. И уже не Киле Бамба его называют, а Мерген Бамба — богатырь Бамба.
А Бамба такой охотник стал, что лучше и быть не может. Бамба только из дому выходит, еще на охоту собирается, а за девятью сопками, за девятью озерами звери в норах просыпаются, с детками прощаются, знают — от Бамбы не уйти!
Бамба острый глаз имеет: один раз взглянет — сразу скажет, сколько серебристых волосков на спине у чернобурки, сколько белых у нее в хвосте. Бамба острый слух имеет; прислушивается, говорит: «За девятью реками да за девятью ручьями соболята пищат. Значит, там ставить капкан надо».
Бамба силу имеет: сто дней без отдыха зверя добывает, одну ночь проспит — и еще сто дней зверя бьет.
Бамба ест много: утром — косулю, на обед — сохатого, за ужином медведя съедает! По животу себя погладит. «Съел бы еще, да на завтра оставить надо!»
Бамба зверя бьет, один стреляет — десять охотников добычу собирают. С охоты ребенок идет — за ним целый поезд собачьих упряжек едет: пушнину везут. Вот так Бамба!
Добрый Бамба был. Услышит, где-то в деревне ребенок плачет, — пойдет скажет: «Ты чего ревешь? На́ тебе лаха пукани́. Играй». Рыбий пузырь даст ребенку; станет тот по пузырю ладонью стукать, шум поднимет, плакать перестанет. Столько Бамба медведей перебил, что каждому ребенку в деревне над люлькой мафа́ гарани́ — медвежий клык — повесил, на счастье да чтобы злые черти не пугали. Сыты все в деревне были: мяса хватает, пушнина есть, рыбы вдоволь.
Ездят нанаи за реку, в Никанское царство. Меха продают. Халаты покупают да припасы. Лица у нанаев круглые, животы толстые, глаза ясные, косы красным жгутом оплетены, унты на них красивые, шелками шитые, руки у них ловкие, ноги у нанаев быстрые. Вот какие нанаи!
Смотрел, смотрел с другого берега на нанаев никанский амбань — начальник. Завидки его взяли: живут нанаи хорошо, дружно, дани никому не платят, все у нанаев есть. А своих никанских мужиков амбань давно ободрал как липку: себе — возьмет, царю — возьмет, солдату — возьмет, монаху — возьмет, купцу — возьмет да еще раз себе, а что там мужику остается? «Дай, — думает амбань, — я с нанаев ясак — дань — возьму! С них брать ясак буду, богатство себе наживу».
Вот послал он своих солдат и чиновников к нанаям. Едут: с саблями, с копьями, с огненным боем — сила несметная!
К нанаям приехали. Те гостям рады, угощать стали. Да никанцы на угощение и не смотрят — в амбары полезли. Рассердился тут Бамба на никанцев.
— Невежи вы, — говорит, — вести себя в гостях не умеете!
А солдаты маньчжу-амбаня — косатые были.
Похватал их Бамба за длинные косы, всех вместе теми косами связал да и бросил в воду. Поболтались никанцы в воде, поболтались да и утонули… Сильный был Бамба!
Сколько раз маньчжу — амбань никанский — своих солдат посылал, а обратно их так и не дождался.
Понял тут амбань, что силой амурских людей не возьмешь. Думать стал, всех своих мудрецов и чиновников созвал, чтобы думали, как с амурской земли поживу взять. Думали, думали никанские мудрецы и придумали.
Говорит амбаню самый старый:
— Солдат не посылай: солдат мечом, а не головой думает. Пошли купца к нанаям. Купец — что паук: присосется — не оторвется, пока всю кровь не выпьет!
Так и сделал амбань. Послал к нанаям купца Ли-Чана.
Приехал Ли-Чан к нанаям на Амур. Как лисица Ли-Чан: слова хорошие говорит, три короба всякой всячины сулит. Язык у Ли-Чана без костей — словно хвост у лисицы по ветру стелется. Приехал купец — стал нанаям товары в долг давать: «Бери, бери — потом сосчитаемся!» Кому — бусы, кому — котел, кому — халат расписной, кому — серьги, кому — крупы с мукой. «Бери, бери — посчитаемся потом!» Видят нанаи — добрый купец. Видят нанаи — с Ли-Чаном жить можно. Не кричит купец, не грозит, ногами не топает, все с улыбочкой делает, все посмеивается Ли-Чан.
Так купец нанаев к себе и приучил. Не стали нанаи в Никанское царство ездить, не стали товары привозить, у Ли-Чана все, что надо, покупают. Что ни попросят — у купца все есть.
Вот пришло время Ли-Чану долги платить.
Потащили нанаи Ли-Чану меха.
Только все у Ли-Чана сразу дорого стало. Говорит: дорога трудная — товары возить, разбойники по дороге шалят; амбаню платить надо, разбойникам платить надо, царю никанскому платить надо.
Отдали нанаи всю пушнину, а долг не покрыли. Остались у Ли-Чана в долгу. Ну, нанаи народ такой — долг прежде всего отдать надо! И стали нанаи за тот долг работать. Что в тайге ни добудут — Ли-Чану тащат. Что в реке ни выловят — к нему же. Приехал Ли-Чан к нанаям тонкий, как червяк, — стал Ли-Чан толстый, как боров! Зато нанаи стали тощать. Все никак долг отработать не могут…
Думали, думали, к Киле Бамба пошли…
— Вот какое дело, — вздыхают, — никак долг отдать не можем! Видно, черт в это впутался. Сначала Ли-Чан одну шкурку за одну считал. Потом Ли-Чан две шкурки за одну считать стал. Теперь три считает Ли-Чан за одну. Как быть?
Пошел Бамба к купцу. Рассердился, стал спрашивать: как так получается? А Ли-Чан ему эрэнте́ — книгу — показывает, все долги в той книге записаны. Смотрит Бамба — не понимает тех значков, что в книге записаны, а видит — верно, что-то есть. Если столько долгов, сколько значков, — не выбраться нанаям из долга. И не подумал Бамба, что в той книге обману больше, чем долгов. Стал Бамба нанаев спрашивать, что брали. Отвечают ему: «Халат взял, крупы взял, водку взял… а что дальше было — не помню!» Что до водки берут — помнят нанаи, что после — не помнят, всю память та водка нанаям отшибает…
Стал Бамба родичам помогать.
Родичей из беды не выручил, а сам в нее попал, сам в долгу у Ли-Чана оказался. Как получилось это — не знает Бамба.
«Видно, не купец Ли-Чан, а черт, — думает Бамба. — Как это у него три шкурки за одну идут, непонятно!»
 К шаману Бамба пошел про купца спросить. А шаман пьяный-препьяный сидит, едва языком ворочает. Послушал он Бамбу, послушал и говорит:
— Правда твоя! Черт Ли-Чан! Вот смотри, какую мне водку дал: три дня назад я выпил и до сих пор пьяный. Разве может простой человек такое сделать? Конечно, черт этот Ли-Чан!
— Ну, а против черта что может охотник сделать?
Ничего!..
Говорит Бамба шаману:
— Пошамань! Прогони того черта Ли-Чана! Совсем отощали нанаи, все к нему несут. Скоро помирать будут!
Отвечает шаман:
— Против Ли-Чана шаманить не могу. Он такой черт, что с ним не справлюсь, — не нанайский, а никанский черт! Амба-амбани он — чертовский черт! Ты ему больше пушнины давай.
— В заповедные леса пойду зверя бить, — говорит Бамба. — На Сихотэ-Алинские горы пойду, тигра, барса, рысь возьму!
— Нельзя туда. Охоться здесь, — говорит шаман. — На Сихотэ-Алине горные черти живут. Удэгейский Какзаму те горы сторожит, в камень людей превращает!
— К Большому Морю пойду! Сивуча, тюленя, нерпу возьму, — говорит Бамба.
Замахал на него шаман обеими руками:
— Здесь охоться! На Большом Море водяной черт — Ганка — живет. Человека туловище у него, рыбий хвост у него, не рука, а железный крючок у него из воды торчит. Тем крючком он людей хватает!
— На болота пойду: выпь, цаплю, утку возьму, — говорит Бамба.
Плюется шаман:
— Здесь охоться, говорю! На болоте черт Боко живет, одноногий. Запутает тебя в болоте, в трясину утащит. Будешь потом в трясине лежать да пузыри пускать!
— На гольцы-солонцы пойду, — говорит тогда Бамба. — Сохатого, косулю добуду!
Трясется шаман:
— Здесь охоться, говорю! На гольцах-солонцах Агды — гром — живет. Каменным топором деревья рубит. Как ударит — человека в пыль обратит!
— На Мылки-озеро пойду, бобра, гусей бить буду!
У шамана даже пена изо рта хлещет от злости на Бамбу:
— Химу-амба, самый страшный черт, в озере том живет! Как человека увидит, из озера выползает, под ним трава и камни горят! Дохнет Химу огнем на тебя — сгоришь, и никто не узнает!
Опустил голову Киле Бамба. Задумался. Вот тебе и богатырь Бамба! Кругом черти. И все — сильнее Мергена. И сила ему ни к чему. Ой-я-ха! Совсем худо…
— Охоться, как охотился, — говорит шаман. — Ли-Чану пушнину таскай. Он тебе водки даст — все горе забудешь.
Не хочет к Ли-Чану Бамба идти. Пошел куда глаза глядят…
Три ручья перешел, шесть озер обошел, девять сопок перевалил. Место выбрал, шалаш построил, костер развел. В шалаше лег. Горькую думу стал думать:
«Зачем человеку сила богатырская, коли от чертей житья не стало. Мало того, что в лесу черти, в тайге черти, в горах черти, в реке черти, так и в деревне теперь Ли-Чан есть! Где бы силу такую найти, чтобы всех этих чертей перебить, чтобы людям жить можно было?»
Заснул Киле Бамба. Спит, во сне слышит — кто-то идет с верховьев Амура. Тяжело ступает, тайгу под себя подминает, из земли воду выжимает. Вскочил Бамба, на лук стрелу наложил, свой нож вытащил. Кто идет?
Тут выходит из-за деревьев человек. Не видал таких Бамба раньше: лицо белое, глаза голубые, волосы желтые, как золото, борода большая. Одет не по-амурски. В руках палка железная.
«Еще один черт пришел!» — думает Бамба.
А человек говорит ему:
— Ты почто за лук держишься? Али меня стрелять хочешь? Я тебе друг, а не враг. Да и что ты со своим луком противу меня? Давай потягаемся — кто дальше выстрелит.
Какой богатырь от спора откажется!
Приосанился Бамба: дальше его никто во всей деревне не стрелял! Видит — за тремя ручьями заяц бежит. Стрелу выпустил Бамба — к сосне зайца пригвоздил.
— Хорошо! — говорит человек с желтыми волосами.
Теперь тот человек свою палку поднял.
— За шестью ручьями, — говорит, — сейчас белка с дерева на дерево прыгнуть хочет — ее убью.
Прицелился своей палкой, глаз голубой прищурил, Ка-ак грохнет что-то — будто гром загремел, по сопкам пошел перекатываться!
Упал Киле Бамба на землю, забоялся.
— Ой, Агды — гром, — говорит, — меня не тронь!
— Не Агды это, а я, — смеется тот человек.
Глядит Бамба — та белка уже на боку лежит.
— Твой верх, — говорит Бамба. — Давай поборемся.
Вот скинули они одежду, за пояса взялись. Стали бороться. Никто верх не берет. Никто другого на землю положить не может. Изловчился Бамба, хотел того человека через спину перекинуть, а тот поднял Бамбу на воздух и не пускает. Держал, держал…
Потемнело в глазах у Бамбы, говорит он:
— Пусти на землю, я не птица. Без земли худо мне. Твой верх… Давай поспорим, кто лучше спляшет.
Стал Бамба плясать. С утра начал; пока солнце не закатилось, все плясал. Еще никто так на Амуре не плясал!
А тот человек крякнул, на ладони поплевал и пошел в свой черед. Ночь плясал, день плясал; вторая ночь настает, а он все пляшет… Только треск по долине идет да топот слышен, вода из реки выплескивается, земля трясется, пыль столбом стоит, звезды застит…
— Эй, друг, — кричит Бамба, — довольно! Твой верх!
А тот человек еще три дня да три ночи плясал да сам себя по пяткам ладонями прихлопывал. Потом перестал, говорит:
— Это не пляска! Вот в молодости я плясал!..
К шаману Бамба пошел про купца спросить. А шаман пьяный-препьяный сидит, едва языком ворочает. Послушал он Бамбу, послушал и говорит:
— Правда твоя! Черт Ли-Чан! Вот смотри, какую мне водку дал: три дня назад я выпил и до сих пор пьяный. Разве может простой человек такое сделать? Конечно, черт этот Ли-Чан!
— Ну, а против черта что может охотник сделать?
Ничего!..
Говорит Бамба шаману:
— Пошамань! Прогони того черта Ли-Чана! Совсем отощали нанаи, все к нему несут. Скоро помирать будут!
Отвечает шаман:
— Против Ли-Чана шаманить не могу. Он такой черт, что с ним не справлюсь, — не нанайский, а никанский черт! Амба-амбани он — чертовский черт! Ты ему больше пушнины давай.
— В заповедные леса пойду зверя бить, — говорит Бамба. — На Сихотэ-Алинские горы пойду, тигра, барса, рысь возьму!
— Нельзя туда. Охоться здесь, — говорит шаман. — На Сихотэ-Алине горные черти живут. Удэгейский Какзаму те горы сторожит, в камень людей превращает!
— К Большому Морю пойду! Сивуча, тюленя, нерпу возьму, — говорит Бамба.
Замахал на него шаман обеими руками:
— Здесь охоться! На Большом Море водяной черт — Ганка — живет. Человека туловище у него, рыбий хвост у него, не рука, а железный крючок у него из воды торчит. Тем крючком он людей хватает!
— На болота пойду: выпь, цаплю, утку возьму, — говорит Бамба.
Плюется шаман:
— Здесь охоться, говорю! На болоте черт Боко живет, одноногий. Запутает тебя в болоте, в трясину утащит. Будешь потом в трясине лежать да пузыри пускать!
— На гольцы-солонцы пойду, — говорит тогда Бамба. — Сохатого, косулю добуду!
Трясется шаман:
— Здесь охоться, говорю! На гольцах-солонцах Агды — гром — живет. Каменным топором деревья рубит. Как ударит — человека в пыль обратит!
— На Мылки-озеро пойду, бобра, гусей бить буду!
У шамана даже пена изо рта хлещет от злости на Бамбу:
— Химу-амба, самый страшный черт, в озере том живет! Как человека увидит, из озера выползает, под ним трава и камни горят! Дохнет Химу огнем на тебя — сгоришь, и никто не узнает!
Опустил голову Киле Бамба. Задумался. Вот тебе и богатырь Бамба! Кругом черти. И все — сильнее Мергена. И сила ему ни к чему. Ой-я-ха! Совсем худо…
— Охоться, как охотился, — говорит шаман. — Ли-Чану пушнину таскай. Он тебе водки даст — все горе забудешь.
Не хочет к Ли-Чану Бамба идти. Пошел куда глаза глядят…
Три ручья перешел, шесть озер обошел, девять сопок перевалил. Место выбрал, шалаш построил, костер развел. В шалаше лег. Горькую думу стал думать:
«Зачем человеку сила богатырская, коли от чертей житья не стало. Мало того, что в лесу черти, в тайге черти, в горах черти, в реке черти, так и в деревне теперь Ли-Чан есть! Где бы силу такую найти, чтобы всех этих чертей перебить, чтобы людям жить можно было?»
Заснул Киле Бамба. Спит, во сне слышит — кто-то идет с верховьев Амура. Тяжело ступает, тайгу под себя подминает, из земли воду выжимает. Вскочил Бамба, на лук стрелу наложил, свой нож вытащил. Кто идет?
Тут выходит из-за деревьев человек. Не видал таких Бамба раньше: лицо белое, глаза голубые, волосы желтые, как золото, борода большая. Одет не по-амурски. В руках палка железная.
«Еще один черт пришел!» — думает Бамба.
А человек говорит ему:
— Ты почто за лук держишься? Али меня стрелять хочешь? Я тебе друг, а не враг. Да и что ты со своим луком противу меня? Давай потягаемся — кто дальше выстрелит.
Какой богатырь от спора откажется!
Приосанился Бамба: дальше его никто во всей деревне не стрелял! Видит — за тремя ручьями заяц бежит. Стрелу выпустил Бамба — к сосне зайца пригвоздил.
— Хорошо! — говорит человек с желтыми волосами.
Теперь тот человек свою палку поднял.
— За шестью ручьями, — говорит, — сейчас белка с дерева на дерево прыгнуть хочет — ее убью.
Прицелился своей палкой, глаз голубой прищурил, Ка-ак грохнет что-то — будто гром загремел, по сопкам пошел перекатываться!
Упал Киле Бамба на землю, забоялся.
— Ой, Агды — гром, — говорит, — меня не тронь!
— Не Агды это, а я, — смеется тот человек.
Глядит Бамба — та белка уже на боку лежит.
— Твой верх, — говорит Бамба. — Давай поборемся.
Вот скинули они одежду, за пояса взялись. Стали бороться. Никто верх не берет. Никто другого на землю положить не может. Изловчился Бамба, хотел того человека через спину перекинуть, а тот поднял Бамбу на воздух и не пускает. Держал, держал…
Потемнело в глазах у Бамбы, говорит он:
— Пусти на землю, я не птица. Без земли худо мне. Твой верх… Давай поспорим, кто лучше спляшет.
Стал Бамба плясать. С утра начал; пока солнце не закатилось, все плясал. Еще никто так на Амуре не плясал!
А тот человек крякнул, на ладони поплевал и пошел в свой черед. Ночь плясал, день плясал; вторая ночь настает, а он все пляшет… Только треск по долине идет да топот слышен, вода из реки выплескивается, земля трясется, пыль столбом стоит, звезды застит…
— Эй, друг, — кричит Бамба, — довольно! Твой верх!
А тот человек еще три дня да три ночи плясал да сам себя по пяткам ладонями прихлопывал. Потом перестал, говорит:
— Это не пляска! Вот в молодости я плясал!..
 «Плохой человек разве так спляшет? — думает Бамба. — Сила у него в руках есть, глаз у него зоркий, нрав веселый — чем не друг!»
Стали они побратимами.
— Я Киле Бамба, — говорит нанай.
— Я Иван Русский, а по-вашему — Ло́че.
— Ты в своей земле богатырь? — спрашивает Бамба.
А Лоче рукой отмахивается.
— Какой я богатырь! — говорит. — Вот за мной богатыри идут, а я просто младший сын у моей матушки.
— Сюда пришел зачем? — спрашивает Бамба.
— Жить буду. На этой земле отцы мои давно жили.
— Худо тут, — нанай говорит.
— А что? Земля, что ли, плохая? — спрашивает Иван. Ком земли взял, в руках растер, понюхал: — Хороша земля!
— Чертей много развелось, — говорит Бамба, — жить не дают!
Рассказал Бамба о своем горе Ивану — как черти его по рукам и по ногам опутали, силы богатырской лишили.
— Ничего, — говорит Иван, — был бы свет в очах, а на чертей управу всегда найти можно!
Вот пошли они в деревню. А нанаи совсем бледные ходят — есть нечего. Только Ли-Чан на пороге дома своего сидит — жирный да красный, как клещ.
— Этот, что ли, черт-то? — спрашивает Иван.
— Этот, этот!
Пошли Иван да Бамба по амбарам. Стоят амбары пустые, только паутина в углах. Ту паутину собрал Иван, в комок скатал. К Ли-Чану пошел.
— Давай эрэнте — книгу, — говорит. — Где тут записано, сколько мой друг Бамба тебе должен?
Достал Ли-Чан эрэнте — книгу, раскрыл, толстым пальцем в книгу тычет.
Взял книгу Иван, говорит:
— Если верно Бамба должен — слово его крепкое, его и огонь не возьмет! Если обманул ты Бамбу — сгорит твое слово!
Бросил книгу в костер. Сразу книга пламенем взялась, сгорела. Кричит Ли-Чан, ногами на Ивана топает. Взял тут Иван паутины комок, что в амбарах нанаев собрал, да и кинул Ли-Чану в рот. Похудел сразу Ли-Чан, съежился, маленький стал, в паука обратился. Бросил его Иван в реку, и поплыл Ли-Чан к своему маньчжу-амбаню, хозяину своему.
«Плохой человек разве так спляшет? — думает Бамба. — Сила у него в руках есть, глаз у него зоркий, нрав веселый — чем не друг!»
Стали они побратимами.
— Я Киле Бамба, — говорит нанай.
— Я Иван Русский, а по-вашему — Ло́че.
— Ты в своей земле богатырь? — спрашивает Бамба.
А Лоче рукой отмахивается.
— Какой я богатырь! — говорит. — Вот за мной богатыри идут, а я просто младший сын у моей матушки.
— Сюда пришел зачем? — спрашивает Бамба.
— Жить буду. На этой земле отцы мои давно жили.
— Худо тут, — нанай говорит.
— А что? Земля, что ли, плохая? — спрашивает Иван. Ком земли взял, в руках растер, понюхал: — Хороша земля!
— Чертей много развелось, — говорит Бамба, — жить не дают!
Рассказал Бамба о своем горе Ивану — как черти его по рукам и по ногам опутали, силы богатырской лишили.
— Ничего, — говорит Иван, — был бы свет в очах, а на чертей управу всегда найти можно!
Вот пошли они в деревню. А нанаи совсем бледные ходят — есть нечего. Только Ли-Чан на пороге дома своего сидит — жирный да красный, как клещ.
— Этот, что ли, черт-то? — спрашивает Иван.
— Этот, этот!
Пошли Иван да Бамба по амбарам. Стоят амбары пустые, только паутина в углах. Ту паутину собрал Иван, в комок скатал. К Ли-Чану пошел.
— Давай эрэнте — книгу, — говорит. — Где тут записано, сколько мой друг Бамба тебе должен?
Достал Ли-Чан эрэнте — книгу, раскрыл, толстым пальцем в книгу тычет.
Взял книгу Иван, говорит:
— Если верно Бамба должен — слово его крепкое, его и огонь не возьмет! Если обманул ты Бамбу — сгорит твое слово!
Бросил книгу в костер. Сразу книга пламенем взялась, сгорела. Кричит Ли-Чан, ногами на Ивана топает. Взял тут Иван паутины комок, что в амбарах нанаев собрал, да и кинул Ли-Чану в рот. Похудел сразу Ли-Чан, съежился, маленький стал, в паука обратился. Бросил его Иван в реку, и поплыл Ли-Чан к своему маньчжу-амбаню, хозяину своему.
 Ходят нанаи голодные.
Вынул Иван из-за пазухи зерна малые, в землю бросил. Полезла из земли зеленая трава. Пожелтела. В колосьях у нее желтые семечки набухли. Взял те семечки Иван, между камнями размолол — белая пыль из тех семечек стала. Ту пыль с амурской водой Иван смешал — тесто сделал. Из того теста лепешек напек. Нанаям дал: «Ешьте!»
Съели нанаи. Вкусно! Тут сразу у них столько силы прибавилось, сколько никогда раньше после пищи не прибавлялось.
На охоту нанаи пошли.
И Бамба с Иваном на охоту пошли.
— Хочу сохатого добыть, — говорит Иван. — Пойдем на гольцы-солонцы!
— Там Агды — гром — живет, — говорит Бамба.
Не испугался Иван. А от побратима как можно отстать — лицо потеряешь! Пошел и Бамба. Стал Иван из своей палки палить — такой гром поднял, что Агды из тех гольцов улетел.
— Здесь охотничье место хорошее, — говорит Иван. — Где же твой Агды?
Вот пошли побратимы дальше. В болото попали. Видит Бамба — стоит на пути горбатый маленький человек на одной ноге, глаза у него синим огнем горят.
— Не ходи, Иван! — кричит Бамба. — Там горбатый Боко — черт — стоит! Заведет, погубит!
Говорит Иван:
— Этот, что ли, черт Боко? — и хвать Боко за единственную ногу — да себе под ноги, чтобы ту трясину пройти.
Видит Бамба: лежит Боко не Боко, а сучок еловый. А Боко будто и не бывало! Через реку переходить стали — видит Бамба: чьи-то седые космы полощутся, в воде зеленые глаза блестят.
— Не ступай в реку! — говорит Бамба Ивану. — Видишь, Ганка-старик в воде лежит, нас поджидает! Видишь, руку железную выставил!
А Иван в воду нырнул, хвать того черта седого! Из реки вынырнул — в руках коряжина сосновая да щука зубастая, что под коряжиной той сидела. Съели щуку Иван да Бамба идальше пошли. Так Бамба и не видал больше Ганка-черта.
Пошли побратимы через горы. Дрожит Бамба от страха — теми местами они идут, где Какзаму людей подстерегает. Только Бамба подумал про Какзаму, а Какзаму тут как тут. Красные глаза на людей таращит, руки к ним протягивает, вот-вот зацепит и в камни обратит…
— Иван! — кричит Бамба. — Бежим отсюда, на траву бежим — там над нами Какзаму не властен!
Оглянулся Иван да ка-ак хватит того Какзаму железной палкой! Только искры во все стороны полетели! Закрылись глаза Какзаму… Глядит Бамба — стоит камень серый, мхом поросший, никакого Какзаму нет. «Притаился», — думает Бамба; идет за Иваном, оглядывается. Нет Какзаму, и только! Пропал от удара Ивана.
— Ну, где твой Химу-черт живет? — спрашивает Иван у Бамбы.
Только сказал он это — побратимы до озера дошли, а Химу уже ползет на них, извивается, огнем дышит. Закричал Бамба, бежать хотел, а Иван ему:
— Ты чего же это, Бамба? Пала не видал, что ли?
Обернулся Бамба — нет Химу и словно не бывало.
Верно, горит трава, огонь, будто змея, по земле ползет. Верно, камни вокруг, как чешуя, лежат. А Химу — нет! Вздохнул тут Бамба свободно.
Видит — никаких чертей нет, а стоит он с Иваном на своей земле: оба сильные, оба храбрые, оба охотники, оба богатыри, только Иван постарше будет. И кругом все понятно: в лесу деревья растут, в тайге звери живут, в реке рыба плавает, на горах камни лежат. Подумал, подумал Бамба и вдруг говорит:
— Значит, теперь и сказки наши пропали! Про таежных людей, про водяных людей, про горных людей сказки пропали.
— Ничего, — говорит Иван, — теперь другие сказки пойдут! Разве не сильный ты? Разве не храбрый ты? Своей земле разве не хозяин ты? Разве тебе не друг я? Разве про нас не сложат сказки?
Отсюда и сказки новые начинаются. Про любовь и дружбу сказки. Про силу и храбрость сказки. Про ловкость и верность сказки. Про твердое сердце, крепкие руки, верный глаз новые сказки начинаются.
Ходят нанаи голодные.
Вынул Иван из-за пазухи зерна малые, в землю бросил. Полезла из земли зеленая трава. Пожелтела. В колосьях у нее желтые семечки набухли. Взял те семечки Иван, между камнями размолол — белая пыль из тех семечек стала. Ту пыль с амурской водой Иван смешал — тесто сделал. Из того теста лепешек напек. Нанаям дал: «Ешьте!»
Съели нанаи. Вкусно! Тут сразу у них столько силы прибавилось, сколько никогда раньше после пищи не прибавлялось.
На охоту нанаи пошли.
И Бамба с Иваном на охоту пошли.
— Хочу сохатого добыть, — говорит Иван. — Пойдем на гольцы-солонцы!
— Там Агды — гром — живет, — говорит Бамба.
Не испугался Иван. А от побратима как можно отстать — лицо потеряешь! Пошел и Бамба. Стал Иван из своей палки палить — такой гром поднял, что Агды из тех гольцов улетел.
— Здесь охотничье место хорошее, — говорит Иван. — Где же твой Агды?
Вот пошли побратимы дальше. В болото попали. Видит Бамба — стоит на пути горбатый маленький человек на одной ноге, глаза у него синим огнем горят.
— Не ходи, Иван! — кричит Бамба. — Там горбатый Боко — черт — стоит! Заведет, погубит!
Говорит Иван:
— Этот, что ли, черт Боко? — и хвать Боко за единственную ногу — да себе под ноги, чтобы ту трясину пройти.
Видит Бамба: лежит Боко не Боко, а сучок еловый. А Боко будто и не бывало! Через реку переходить стали — видит Бамба: чьи-то седые космы полощутся, в воде зеленые глаза блестят.
— Не ступай в реку! — говорит Бамба Ивану. — Видишь, Ганка-старик в воде лежит, нас поджидает! Видишь, руку железную выставил!
А Иван в воду нырнул, хвать того черта седого! Из реки вынырнул — в руках коряжина сосновая да щука зубастая, что под коряжиной той сидела. Съели щуку Иван да Бамба идальше пошли. Так Бамба и не видал больше Ганка-черта.
Пошли побратимы через горы. Дрожит Бамба от страха — теми местами они идут, где Какзаму людей подстерегает. Только Бамба подумал про Какзаму, а Какзаму тут как тут. Красные глаза на людей таращит, руки к ним протягивает, вот-вот зацепит и в камни обратит…
— Иван! — кричит Бамба. — Бежим отсюда, на траву бежим — там над нами Какзаму не властен!
Оглянулся Иван да ка-ак хватит того Какзаму железной палкой! Только искры во все стороны полетели! Закрылись глаза Какзаму… Глядит Бамба — стоит камень серый, мхом поросший, никакого Какзаму нет. «Притаился», — думает Бамба; идет за Иваном, оглядывается. Нет Какзаму, и только! Пропал от удара Ивана.
— Ну, где твой Химу-черт живет? — спрашивает Иван у Бамбы.
Только сказал он это — побратимы до озера дошли, а Химу уже ползет на них, извивается, огнем дышит. Закричал Бамба, бежать хотел, а Иван ему:
— Ты чего же это, Бамба? Пала не видал, что ли?
Обернулся Бамба — нет Химу и словно не бывало.
Верно, горит трава, огонь, будто змея, по земле ползет. Верно, камни вокруг, как чешуя, лежат. А Химу — нет! Вздохнул тут Бамба свободно.
Видит — никаких чертей нет, а стоит он с Иваном на своей земле: оба сильные, оба храбрые, оба охотники, оба богатыри, только Иван постарше будет. И кругом все понятно: в лесу деревья растут, в тайге звери живут, в реке рыба плавает, на горах камни лежат. Подумал, подумал Бамба и вдруг говорит:
— Значит, теперь и сказки наши пропали! Про таежных людей, про водяных людей, про горных людей сказки пропали.
— Ничего, — говорит Иван, — теперь другие сказки пойдут! Разве не сильный ты? Разве не храбрый ты? Своей земле разве не хозяин ты? Разве тебе не друг я? Разве про нас не сложат сказки?
Отсюда и сказки новые начинаются. Про любовь и дружбу сказки. Про силу и храбрость сказки. Про ловкость и верность сказки. Про твердое сердце, крепкие руки, верный глаз новые сказки начинаются.

Сказочный мир народов Амура
В этой книге тридцать один короткий рассказ — сказка, вернее — новелла. И есть в них нечто общее, какая-то единая «красная нить», нечто такое, что скрепляет все разнообразие сюжетов, все многоцветье образов. Это, прежде всего, природа — такая удивительная уже из-за ее контрастов. Вот она перед нами: суровую, как дорическая колонна, голубую аянскую ель, точь-в-точь такую, как у Кремлевской стены на Красной площади, обвивает лиана субтропиков, а в ее тени сквозят кораллами ягоды лимонника, напитанные эликсиром жизни: усталый охотник сорвал ягоду, почувствовал на губах ее терпкий вкус, и по жилам снова побежала горячая кровь… В густой пахучей зелени Уссурийской тайги мечутся темно-синие крылья — не птицы, а громадной бабочки махаона. А бывало и так, что дорогу перед нашей машиной переползал амурский полоз. Не змей, а подлинный красавец, одно из замечательных животных доледниковой природы. И ходят еще по диким ущельям Сихотэ-Алиня тигры; тигр амурский — реликтовый, как и женьшень, и дикий виноград наших северных джунглей. Он вовсе не такой уж злой и кровожадный, а скорее джентльмен среди мира хищников. В приамурских лесах живут драгоценные соболи и белоснежные горностаи, огненно-рыжие лисицы и полудревесные гималайские медведи. Добывая мягкое золото, охотники Амура с успехом берут грузных лосей и быстроногих изюбрей, страшноватых диких кабанов. С незапамятных времен делали они из пушнины одежду и украшения, питались мясом и салом зверей и птиц. Любой охотник, живший на Амуре, становился и рыбаком, ибо трудно найти в стране реку, более богатую рыбой, чем Амур. В его водах живет самая крупная пресноводная рыба мира — калуга, каждую осень приходят многочисленные косяки морского лосося — кеты. И, наконец, — голубые, темно-синие издали и темно-зеленые летом, пылающие всеми красками осенью — горы, безграничные просторы амурских проток, дикая величественная красота морских берегов, о которые разбиваются пенные валы Тихого океана. Все это — один огромный край, наш удивительный Дальний Восток… Но даже на фоне этого великолепия природы не может померкнуть еще одно чудо — человек, его культура, созданная тысячелетиями борьбы с природой; его творческая фантазия, которая нашла свое выражение в открытиях — начиная с каменного топора и стрелы, а еще ярче, еще нагляднее в изображениях, в искусстве. Одной из больших загадок истории мировой культуры является факт существования у таких небольших и с первого взгляда (но именно с первого взгляда) «первобытных» племен, как нивхи или нанайцы, мощного и экспрессивного искусства. Проблема происхождения этой фантастически пышной и вместе с тем строгой орнаментики амурских племен волновала и волнует многие поколения ученых. Мы нашли в мощных наслоениях приамурской земли, в глубине жилищ каменного века множество обломков глиняных сосудов, каждый из которых представляет собой образец высокого орнаментального искусства. И с волнением увидели на них те же характерные мотивы, что и на берестяной посуде нашего века. Увидели на сосудах каменного века и спираль и меандр не хуже, чем на черно-лаковых вазах античной Греции. В Кондоне и на замечательном острове Щучьем, у Мариинска, вместе с сосудами лежали и скульптуры из обожженной глины. Здесь были и медведи, и птицы с распластанными в полете крыльями. Были, конечно, и скульптурные портреты женщин каменного века, с раскосыми, вразлет глазами, точь-в-точь такими, как у девушек из наших нанайских и ульчских сел. Словом, перед нашими изумленными глазами все шире открывался целый мир искусства предков амурских народов, и мир этот, отмеченный чертами исконного своеобразия и самобытности, был по крайней мере на две тысячи лет старше античной Греции и Рима. Эта многокрасочная картина стала бы еще полнее, если бы смогла рассказать живым человеческим голосом о мыслях и событиях, вдохновлявших художников, чьи уста умолкли пять тысяч лет тому назад. И чудо произошло, когда мы прикоснулись к устному народному творчеству наших дней. Прочтите эти новеллы, созданные Д. Нагишкиным по мотивам фольклора нивхов, нанайцев, ульчей, удэге и других. В них воплотился тысячелетний опыт жизни лесных людей, а вместе с ним и могучая сила воображения, которая вела этих людей вперед, поднимала их над миром и утверждала все возраставшую власть человека над природой. Так родились первые попытки оторваться от земли и увидеть заоблачных людей, которые по вечерам зажигают небесный огонь — совсем как в космографиях Древней Греции и Древней Руси, где ангелы неустанно под звон хрустальных сфер переносят звезды! Так родилась и первая попытка выйти за пределы земли — в космос. Взглянуть на свой земной мир «снаружи» и сверху. Герой сказки-мифа, этот первобытный «космонавт», ловит небо, как рыбу — крючком, и подтягивает его к земле. С тех пор образуется на небесном своде дорога небесных людей, Млечный Путь. Разумеется, в легендах есть и первобытные «летчики», они летят на чудесном копье через девять гор, девять рек и девять озер, через моря и целые страны. Герои сказок поднимаются в недоступные для человека высоты, где живет «хозяин зверей». Они проникают и к владыке моря в его юрту. Больше, чем далекое небо, чем подводное царство волнует авторов сказок Земля, а на Земле — мир зверей. Центральная тема всех новелл, сюжетная их основа — взаимоотношения людей и зверей. Да и могло ли быть иначе у жителей тайги — охотников и рыболовов? И вот перед нами развертывается целая серия удивительных для нас, людей современной европейской цивилизации, рассказов о «горных людях». Они — медведи, но вместе с тем и люди. В других «рубашках», как говорил Дерсу Узала. Медведь может обернуться человеком, человек может полюбить медведицу и тоже обернуться медведем, стать горным человеком. Ибо медведи — братья людям; они состоят в родстве друг с другом, как две разные, но родственные друг другу родовые общины. По законам родового быта строятся фантастические представления о взаимоотношениях медведей и людей. И точно так же, по своему образу и подобию, складываются у человека представления о природе. В сказках живут, мыслят, действуют, хотя и не могут двигаться, на благо или на гибель человеку, не только звери, но и растения, например, березы. Они могут заговорить человеческим языком, даже родить человека. Живут и мыслят камни; и, опять-таки, камни или березовые чурки могут превратиться в людей, а люди — окаменеть. И совсем не удивительно, что в наших сказках так много сюжетов, общих для мирового сказочного фольклора. Их рождал древний родовой строй первобытных охотников. Поразительна схожесть сюжетов древних сказок. Одинокий младенец, герой-беглец Азмун, неведомо откуда плывет в страну народа нанай. Так же плывет на своем плоту якутский Эр-Соготох; или Саргон, царь Аккада, или библейский младенец Моисей, которого дочь фараона находит в корзинке в нильских камышах. Даже скиталец Одиссей, выброшенный морем на берег Итаки, — и тот у Гомера повторяет путь беглеца, изгнанника. Мы знаем, в чем причина такого сходства судьбы мифических героев: речь шла когда-то не о царях, а о «культурных героях» — предках и родоначальниках. Старцы рода, первые его историки, отвечая на вопрос молодых, — откуда появился наш первопредок, — говорили: он приплыл с верховьев реки… Еще удивительнее рассказ о морском хозяине Тайрнадзе. Он и впрямь похож на морского царя, у которого побывал Садко на Ильмень-озере. Так же богат, и так же прост, и так же бурно пляшет, поднимая штормы на море, под музыку нашего героя. Конечно, народное творчество дальневосточных племен — всего лишь ручеек, впадающий в море мирового фольклора. Ручеек небольшой, но кристально чистый и свежий, наполненный отзвуками своеобразной жизни. И было бы величайшей ошибкой сводить содержание нашего фольклора к общим стереотипам. Каждая этническая группа вкладывала в них, в эти стандартные сказочные формулы, свое собственное, конкретное содержание. Рождало свою многоцветную калейдоскопическую картину, свой локальный колорит. Так было и на Амуре. Взять, например, магических сказочных «помощников» — гребешок, иглу, и наперсток. Они по-своему, а не так, как в славянской сказке о Бабе-Яге, спасают детей от грозящей им гибели. И сами враждебные силы не те, что в русской сказке, — вовсе не Баба-Яга в ее деревянной ступе. Игла зашивает глаза чудовищному змею. Наперсток затыкает горло такой же страшной ящерице. Гребешок становится поперек горла хранителю дороги к хозяину зверей — грозному тигру. Сказка, миф, предания — вся сила художественного слова и фантазии призваны не просто развлекать человека и наполнять его сердце радостью. Они несут воспитательную, морально-этическую службу. Разумеется, тому обществу, которое их создало, — родовой общине. Писатель-дальневосточник Дмитрий Нагишкин, автор «Амурских сказок», в совершенстве постиг устное творчество народов Дальнего Востока. Широко пользуясь его сюжетами и языком, он создал оригинальные художественные произведения, получившие большое признание читателей не только в нашей стране, но и за рубежом. Сказки Нагишкина переводились на польский, румынский, немецкий и другие языки. В его сказках контрастно, почти как у Шекспира или Шиллера, в живых конкретных образах противостоят друг другу добро и зло. Зло — это те, кто нарушает вековечный закон тайги: поделись куском с голодным, слабому помоги, сироте дай приют у своего очага! Уважай горного человека — медведя, окажи ему установленные обычаем почести при погребении. И не лей в огонь воду, не тыкай ножом в костер — ведь он живой! Он — твой покровитель и покровитель твоих отцов, дедов и прадедов! Как натянутая тетива лука, напряжен в борьбе за жизнь коллектив первобытной общины. И потому нет в нем места лентяям и лентяйкам. Неотвратимо наказание таких людей. Изгнанные из рода, они превращаются в птиц. Капризная и ленивая Ладо с ее жестоким сердцем превращается в лебедя; такая же ленивая Айога — в гуся. Такого позорного качества, как лень, стыдятся не только люди или звери, но даже вещи — нож, острога, огниво — помощники бедняка Монокто. Нет места в родовой общине и трусам — с «заячьим сердцем», ничто не может сравниться с горем охотника, у которого в груди оказалось такое жалкое трусливое сердце. Только пройдя через семь страхов, через семь испытаний мужества, Индига может обрести свое утерянное мужество и сердце. Достается и хвастунам — больше всего в образе зайца, который и «окосел»-то в наказание за хвастовство. Всего же сильнее осуждаются эгоизм и жадность. Так, о жадном богаче говорят сказители: рука у него легкая, когда берет, тяжелая, когда отдает. И, пожалуй, еще ярче говорит о жадности пословица — «Горшок бездна — что ни брось, в нем все равно пусто». Жадному — все мало. Эти «вечные» человеческие свойства выступают с определенной социальной характеристикой, как свойственные не просто плохому человеку, а классу. Речь идет о купце «никане» — китайце или маньчжуре, о жирном, как паук, паразите. О маньчжуре Ляне, которого так и зовут в народе «человек-брюхо». Это они, китаец Ли-Фу и маньчжур Лян, живут не трудясь. А в их амбарах оседают драгоценные меха и все, что имеют простодушные охотники. Это они — воплощение вероломства, обмана. Они — сама жадность, бессовестно эксплуатирующая доверчивость и патриархальную честность людей тайги. И, как избавителя от гнева купцов, от их нещадной кабалы, в сказке встречают лесные люди русских людей, что было и на самом деле во времена Невельского. Таково многокрасочное полотно наших сказок — многокрасочное еще и потому, что они представляют собой как бы целую этнографическую энциклопедию — Книгу Бытия и древней культуры коренных народов Дальнего Востока. И это относится не только к тексту, а в такой же степени, если не больше, ко второй ее части, к иллюстрациям, к чудесным картинам, выполненным художником Геннадием Павлишиным. Стоит внимательно углубиться в этот сверкающий мир красок и линий, чтобы они в полном смысле слова очаровали вас, приворожили своей творческой силой, чтобы захватили своим романтическим накалом, а вместе с тем и поразительной емкостью, точностью в передаче характерных черт быта и культуры. Для каждой иллюстрации, для любой художественной композиции можно было бы дать строго научный специальный текст. Столь глубоко проник художник в этот большой и еще далеко не исчерпанный исследователями культурно-исторический мир. Павлишин нашел в нем себя и свой особенный творческий стиль, свою художественную манеру, что, увы, дано не многим. Как это ни удивительно, но в творчестве русского художника снова возродились в новом качестве — не как подражание, а как самобытное творчество, — тысячелетние традиции народного искусства амурской земли. Так родилась эта замечательная книга, по-новому соединившая волшебное мастерство слова сказителей с талантливой кистью художника-реалиста. Академик А. П. Окладников.


Последние комментарии
20 минут 39 секунд назад
53 минут 10 секунд назад
16 часов 22 минут назад
16 часов 32 минут назад
3 дней 11 часов назад
4 дней 3 часов назад