Колесо времени (Солнце, Луна и древние люди) [Виталий Епифанович Ларичев] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Виталий Ларичев КОЛЕСО ВРЕМЕНИ Солнце, Луна и древние люди
 Предисловие
ВОЗ С ПОКЛАЖЕЙ
Предисловие
ВОЗ С ПОКЛАЖЕЙ
Без истории астрономии мы не можем ничего оценить ни в истории человечества, ни в истории Вселенной.Никола Камиль Фламмарион

Если справедливо мнение, что теперь самые парадоксальные открытия ожидаются прежде всего в пограничных среди наук зонах, то почему бы для достижения желанного в археологии не рискнуть выбрать в качестве ее «соседа», допустим, астрономию? На такое с подозрительным оттенком каверзного подвоха соображение может сразу же последовать не лишенное обыденного здравомыслия возражение. Разумеется, межнаучные поиски нетривиальных истин могут оказаться плодотворными и в изысканиях по истории детства человечества. Но, помилуйте, надо же, блуждая в поисках благодатного партнерства, блюсти и разумную в сдержанности меру! Даже в случаях, когда вдруг осеняет самый экстравагантный ученый замысел. Ведь всякий знает, что археология и астрономия — науки не контактные. Поэтому если в шутку вообразить археологию в виде застрявшего (скажем — из-за изрядной перегрузки всевозможными раритетами) воза, то идея «запрячь» в него знатока древностей и астронома в надежде вывезти тяжкий груз на подходящую дорогу будет при беглом взгляде смотреться забавным вариантом известной басни. Тут так и видится: археологи увлеченно устремляются с лопатами наперевес к недрам земным (как водится, для раскрытия тайн седой первобытности), а тем временем те, кого с давних пор с трепетным почтением называли звездочетами, окаменело взирают в сторону прямо противоположную — в бескрайность небесного купола с его загадочно мигающими светилами. Так следует ли ожидать прока от подобного, с позволения сказать, межнаучного содружества, когда соучастники его, увлеченные полярными интересами, вызывающе демонстративно развернулись друг к другу спинами? Какие же перспективы ожидают тех, кто вознамерился впрячься в воз с поклажей из предметов старины? Ясно, что каждый настойчиво потянет в свою сторону, а тем временем увязший по ступицы грузовой экипаж останется в мертвой неподвижности. Такую, кажется, нарочито полемическую затею соединения в тандеме полярных наук можно при желании выставить предприятием совсем уже гибельно безнадежным. Для этого нужно лишь откровенно сознаться, что предложенный прожект не блещет ни новизной, ни оригинальностью. Любителям отмечать знаменательные годовщины следует, пожалуй, поторопиться начать подготовку к торжествам по случаю векового юбилея с того времени, когда выдающийся английский астрофизик и организатор науки сэр Джозеф Норман Лóкьер попытался увязать свои профессиональные интересы астронома с тем, что теперь определяют легкомысленным словом «хобби», — с любительскими занятиями археологией. Что из этого в конечном счете вышло — разговор особый и не лишенный драматизма. А пока, не вдаваясь в подробности, признаемся, что и последующие настойчивые усилия воплотить столь, оказывается, старую идею «запрячь» вместе археолога и астронома свелись пока, увы, к тому, что воз с раритетами остается «и ныне там». Так и эта попытка может оказаться бесплодной. Гласит же мудрая мораль:

Глава I В ШКУРЕ ПРЕДКА
Вероятно, с того самого дня, как в человеке зародилась мысль, его внимание было всецело поглощено созерцанием Неба. Оно поражало его своею красотой, своим величием.Никола Камиль Фламмарион

Вход в пещеру, жилище первобытных охотников, был обращен прямо на восток, и в то ясное весеннее утро один из них мог позволить себе, отрешившись от хозяйственных забот, наблюдать в проем скалы, как из-за горизонта выкатилось дневное светило. Оно при своем появлении стерло с небосклона нежный румянец зари, предвестницы его торжественного восхождения. Солнце из-за утренней дымки не настолько яркое, чтобы не позволить лицезреть себя: светило выглядит огромным, слегка приплюснутым шаром, розовато-красным, как новорожденный младенец. Если бы в течение дня охотник продолжал наблюдение за Солнцем, то он заметил бы, что, чем выше над землей поднимается раскаленный диск, тем более ослепительным становится он. И вот уже на него невозможно стало смотреть. Достигнув ровно в полдень наибольшей высоты на Небе, Солнце оказывалось в той части горизонта, которая определяется теперь как юг, а для предка она была, быть может, просто «стороной правой стены пещеры». Это время наибольшего в тот день проявления мощи светила, расцвета его сил, как у человека пора возрастной зрелости. Вслед за тем Солнце начало медленно сближаться с Землей, но в зоне, прямо противоположной той, куда обращен вход в пещеру. По мере приближения вечера светило заметно умерило свой жар и блеск, затем, затухая, покраснело, опять слегка сплющилось, как бы увеличилось в размере и, наконец, окончательно потеряв силы, сначала припало к земле, а потом скатилось куда-то за край горизонта. Скорбный багрянец холодной вечерней зари раскрасил небосклон, знаменуя завершение дневного путешествия Солнца. Наутро, как мог легко убедиться каждый обитатель пещеры, все в жизни светила — его рождение, зрелость и закатная смерть — повторилось в той же строгой последовательности, что позже как раз и обусловило выделение людьми самой простой единицы времени — суток. Но если предок был не просто любознателен, но и внимателен, а также, что не менее важно, терпелив настолько, чтобы продолжить и далее свои наблюдения за примечательными особенностями странствий Солнца в глубинах Неба, то он вскоре заметил новые обстоятельства жизни дневного светила, не лишенные для него интригующего интереса. Настало утро, когда любопытствующий охотник так и не дождался появления Солнца, поднимающегося из-за края Земли, в проеме входа в пещеру. Оно в то утро не только взошло раньше, но и появилось на небосклоне в непривычном месте. Это, очевидно, поразившее вначале обстоятельство могло для предка означать лишь одно — Солнце, оказывается, не всегда восходит в одном и том же месте горизонта, а день ото дня незаметно для глаза смещаясь при подъеме из-за восточного края Земли, однажды может подняться в Небо там, откуда первые утренние лучи его не смогут попасть внутрь каменного жилища. Элементарное любопытство порождало недоуменный вопрос — где же оно теперь восходит? Для получения нужного ответа предку пришлось на следующее утро подняться пораньше и обязательно выйти из пещеры на прилегающую к ней площадку. Здесь его поджидало, возможно, первое в истории становления астрономии открытие — Солнце восходило теперь по левую руку, в стороне левой стены пещеры, т. е. как раз противоположной той стене скального жилища и стороне горизонта, где светило в полдень достигало наибольшей высоты. Иначе говоря, оно стало восходить в месте горизонта, расположенном ближе, чем ранее, к северу. Более того, вечером того же дня предок имел шанс сделать еще одно открытие — обратившись лицом к заходу, он мог отметить для себя, что Солнце скрылось за горизонтом правее замеченной ранее точки, т. е. ближе все к той же северной стороне. Уловить изменение в полуденной высоте светила на юге было, очевидно, делом отнюдь не легким. Но с течением времени пришла такая пора, когда и для самого равнодушного и ненаблюдательного обитателя пещеры стало ясно, что Солнце не только каждый раз сдвигается с мест своих предшествующих восходов и заходов к северу, но одновременно в полдень поднимается все выше на юге. Пребывание его на небосклоне становится к тому же день от дня продолжительнее, а отсутствие в неведомом мире, где-то за краем Земли, короче. Замеченные предком закономерности в жизни дневного светила производили особо сильное впечатление потому, что сопровождались грандиозными переменами во всей природе. Чем ближе к северу по горизонту восходило Солнце, тем сильнее оно в течение дня прогревало землю, жадно пожирая потерявший морозную свежесть снежный покров и с оглушительным грохотом взламывая на реках потемневший лед. Земля на глазах пробуждалась от длительной, всем в пещере надоевшей зимней спячки, все вокруг покрывалось радующей глаз зеленью и наполнялось вдохновляющими голосами жизни. А оттуда, где светило в полдень достигало наибольшей высоты, как из широко распахнутого им же в небосклоне проема, бесконечной чередой потянулись птичьи караваны, которые огласили потеплевшую округу торжествующими кликами весны. Предок не мог без волнения отметить весьма примечательное обстоятельство: клинья строя пернатых нацеливались к той же загадочной по притягательной силе стороне горизонта, куда торопливо устремлялось и само Солнце, шаг за шагом перемещаясь при каждом восходе очередного весеннего дня. Казалось, все живое в воздухе пришло в движение и направилось в «сторону левой стены пещеры» — на север.

Но до каких пор и как долго светило намерено шагать в те края? Пока не займет положения, прямо противоположного «правой стене пещеры», т. е. той части Неба, где оно в любой день достигало наибольшей высоты? Или, быть может, пойдет и дальше по кругу Земли, где она соединяется с Небом? Солнце между тем, набираясь сил, продолжало в своих точках восхода неутомимо двигаться к северу. Любознательный предок мог заметить, как, будто покорно подчиняясь этому животворному движению, под все более щедрыми на живительное тепло лучами светила пышно расцветала Земля. Наконец наступил момент, когда полуденный зной достиг такой силы, что, кажется, подвинься Солнце в последующие дни еще на несколько шагов к северу, и оно начнет, поднимаясь на невиданную ранее высоту, безжалостно сжигать все вызванное к жизни. Нетрудно поэтому вообразить, с какой тревогой ожидал предок восхода каждое очередное летнее утро. Но тут случилось чудо — могучее светило сначала укоротило размах своих шагов, как бы засеменило в мелкой переступи, а затем и вовсе замерло, перейдя к шагу на месте. Солнце, будто натолкнувшись на невидимую преграду, приостановило привычный перенос своих восходов к северу и несколько дней, как бы раздумывая, топталось в нерешительности, поднимаясь по утрам в одной и той же точке горизонта. Высота подъема его в полдень на юге тоже, будто достигнув некоего максимума, перестала меняться. Можно было подумать, что светило убеждалось в невозможности преодолеть где-то там, за горизонтом, неведомый барьер. Наконец оно, очевидно, смирилось и, будто досадуя, решило обратиться вспять. В самом деле, как иначе мог объяснить предок то обстоятельство, что Солнце вдруг начало восходить в местах, где появлялось из-за горизонта десяток дней назад? Оно явно пошло на попятную и зашагало в обратную сторону, к югу, уже проторенными ранее дорогами восходов и заходов. Синхронно сдвигам назад, наглядно демонстрируя упадок своих сил, светило в полдень оказывалось все ниже, а жар его становился все менее чувствительным. Изменения в жизни Солнца не могли остаться незамеченными для древнего человека. Их впечатляюще подчеркивали перемены в окружающей природе. Когда же, наконец, наступило такое время, что предок смог вновь, не выходя из пещеры, наблюдать восход светила в проеме входа в нее, многое в округе заметным образом переменилось. Преобладающими тонами красок в умирающей растительности стали желто-багряные и серовато-коричневые. Теплые длинные дни сменились короткими прохладными, иногда с плотными, низкими, обволакивающими холодом туманами и затяжными дождями, а затем и с заморозками по утрам, когда вместо росы на траве начал поблескивать легкий налет инея, который тревожно напоминал о снежных метелях мертвящей зимы. Снова в Небе появились караваны гусей, лебедей и прочей пернатой дичи, но клинья их строя нацеливались в обратную сторону, туда же, куда шагало теперь, быстро меняя места восходов, и само Солнце. Птицы грустно перекликались и торопливо махали крыльями, как будто опасаясь, что снижающееся день от дня полуденное Солнце захлопнет проем в небосклоне и они не успеют выскользнуть из мест, где умирает природа. Все живое в воздухе устремилось «в сторону правой стены пещеры», на юг. Наконец настала пора, когда для наблюдений восходов Солнца человеку снова пришлось выходить на площадку перед пещерой. Но теперь он из-за бесконечно длинных ночей не опасался, что вдруг, проспав, упустит момент появления первого луча. Рассвет приближался томительно долго, а когда горизонт начинал наконец светлеть, то предок должен был, желая лицезреть светило, обратить свой взор не в левую, как весной, а в правую от восхода сторону. Именно в этом направлении продолжал угрожающе смещаться в своих восходах тускнеющий диск. Ему, казалось, теперь только и хватало сил, чтобы, чуть приподнявшись над горизонтом, поторопиться преодолеть строго положенную для того дня высоту в стороне горизонта «правой стены пещеры» и уйти поскорее на покой за край Земли. Путь Солнца на небосклоне напоминал предку короткую и жалкую, через силу и по необходимости, прогулку почтенного старца, который с трудом, опираясь на палку и едва переставляя ноги, силился продвигаться вперед. Обитателей пещеры, которые с тревогой наблюдали, как светило продолжает неуклонно двигаться в своих восходах к югу, теперь все более захватывали опасения, противоположные тем, что волновали их летом, когда Солнце шагало к северу. Ведь Земле угрожал уже не испепеляющий жар, а несущий смерть холод. Все вокруг завалили непроходимые снега; ледяные ветры, лихо закручивая причудливые вихри, наметали бесконечную череду белых гор; убийственные по силе морозы не позволяли порой сутками покидать убогое пристанище в скале. Но есть же крайний предел терпению и выносливости человека, и потому, если Солнце и далее будет скатываться к югу, не отойдут ли в небытие вместе с погрузившейся в глубокий сон природой и они, сами люди? Может ведь, наконец, случиться самое непоправимое и страшное — светило настолько удалится в «сторону правой стороны пещеры», что однажды вообще не взойдет, навсегда покинув этот мир. Иначе говоря, исчерпав свои силы и окончательно ослабев, оно умрет, навеки закатившись за горизонт, над которым летом в полдень на благо Земле и людям поднималось столь торжествующе высоко. Как нетрудно догадаться, мрачным предчувствиям, к счастью, не суждено было сбыться. Светило неожиданно перестало скатываться к югу и, будто осознав, что наступил критический момент отступления, перешло опять к шагу на месте. Это «восходное стояние» в течение нескольких дней в разгар морозной зимы, возможно, представлялось предку временем сопротивления ослабевшего Солнца злым силам, которые увлекали его за южный горизонт. Если светилу угрожала там смерть, то умерла бы и скованная ледяным холодом Земля со всеми ее обитателями. Но как, однако, переменились времена: если летом страх вызывало Солнце с его испепеляющим зноем и предок мечтал, чтобы победу одержали силы, которые остановили бы его победное шествие на север, то теперь ужас охватывал пещерных обитателей при мысли, что светило не устоит перед невидимыми соперниками и его красный остывающий диск навсегда закатится за небосклон. Предок желал Солнцу преодоления невзгод, мечтая о возрождении его сил, а значит, и о возвращении на Землю тепла. И вот светило как будто перебороло своих врагов — после, кажется, неимоверного напряжения оно сделало, наконец, первый шаг в обратном движении к северу. Он был едва приметным для глаза, этот даже не шаг, а так, нечто вроде опасливого, с предосторожностями, намека на движение. Пожалуй, лишь нетерпеливое ожидание желанного да извечные надежды на лучшее, коими во веки веков был жив человек в этом мире противоборства добра и зла, позволили предку уловить то прекрасное мгновение, когда Солнце сначала при заходе, а потом и при восходе впервые чуть-чуть качнулось в счастливую для зимней поры сторону севера. В последующем светило день ото дня увереннее шагало по пунктирным линиям точек восходов к заходов, все далее отступая от южной стороны. Настала пора, и Солнце приблизилось к тому месту, откуда оно, восходя, вновь смогло заглянуть поутру внутрь пещерного убежища и полюбопытствовать: теплится ли костер внутри него и всем ли удалось пережить суровую зиму? К тому времени ранней весны светило уже окрепло, набралось сил. Оно веселело на глазах, а от зимней старческой дряхлости не осталось и следа. Сияющий молодостью диск живо выкатывался из-за края Земли, как выпущенный охотниками из кожаной петли каменный шар-болас. Солнце, будто окрыленное, что ни день, то выше взлетало к полудню над едва не погубившей его южной окраиной мира. Полукружия пути светила по выкрашенному лазурью Небу становились все размашистее, удлиняя день и укорачивая ночь. Наконец, в приоткрытый Солнцем проем опять хлынули с юга караваны перелетных птиц. Острые углы их строя привычно нацеливались на север. Все вернулось на круги своя. Испокон веков, как вечный небесный странник, Солнце неутомимо вставало над Землей, то сдвигаясь в своих восходах на горизонте до крайнего порога на севере, то, поворотив назад, скатывалось до опасного рубежа на юге. Так же перемещались заходы на западе. Самым впечатляющим для человека было между тем то обстоятельство, что в строгой координации с плавной ритмикой походов светила к северу или к югу, с высокой или низкой позицией Солнца в полдень на юге, с длинным или коротким дневным путем его по небосклону теплые дни сменялись холодными. Затем все повторялось в обратном порядке. Надо думать, предок достаточно долго не мог схватить суть этих закономерностей, а тем более уяснить обстоятельства, которые управляли такими закономерностями. Но когда-то пора первоначального прозрения, как нетрудно догадаться, все же настала… Солнце при всем его величии и значимости для жизни на Земле отнюдь не единственное светило Неба, с которым были связаны явления, поражавшие воображение человека, подталкивающие его к размышлениям и мечтам, бередящим фантазию — «качество величайшей ценности» не только поэтов, но и математиков[3]. Заходило Солнце, и темнеющий голубой купол начинал покрываться световыми точками. С приходом мрака они высыпали мириадами. Можно, однако, с уверенностью утверждать, что ни одно из ночных светил не привлекало столь пристального интереса предка, как бледнолицая Луна. Эта подлинная госпожа ночи обладала такими волнующими качествами, производила переменчивым обликом настолько сильное впечатление, так могла будоражить воображение непостоянством, что во внимании к себе не должна была знать соперниц. Со своей многоликостью, изменчивостью норова, полярностью черт характера при сопоставлениях со светилом дневным, Луна как будто специально появилась в этом мире для того, чтобы предок потверже уяснил не только его гармонию, но и противоречия. В самом деле, первобытному охотнику трудно было, наблюдая за строптивой Луной, отделаться от мысли, что она преднамеренно, как бы поддразнивая Солнце, делает все наоборот и наперекор ему. Начать с того, что Луна позволяла себе неожиданно исчезать с Неба на 1–3 дня, в то время как Солнце никогда, как можно было видеть, подобной небрежности не допускало и ни на один день не оставляло Землю погруженной во мрак и холод. С другой стороны, Луна порой появлялась на небосклоне не только ночью, но и, непрошеной, днем, когда нужды в ней, бледной и полупрозрачной, затмеваемой блеском дневного светила, совсем не было. Солнцу неведома такая вызывающая вольность, и ночную пору оно, раз и навсегда отдав во владение Луны, не тревожило своими лучами. Мало того: если Солнце возрождалось ежедневно при восходах своих на востоке и, методично проделав положенный дневной путь, умирало на западе, то Луна, напротив, после 1–3 суток отсутствия возрождалась на западе, а умирала около трех десятков суток спустя на востоке. Но самое потрясающее впечатление на предка производило непостоянство лика Луны, ее неистребимая склонность к изменчивости образа. В отличие от Солнца, Луна что ни день набрасывала на себя новую маску. В течение почти трех десятков суток она, как по волшебству, принимала разные обличья: от тонкой, изогнутой дугой рыбки, как бы ловко выпрыгивающей из воды, до округлого, будто налитого соком спелого плода, готового сорваться с ветки осеннего дерева. Ловким перевертышем Луна обращалась к восточному горизонту то выпуклой своей стороной (тогда она «умирала»), то, напротив, вогнутой (в дни, когда она «возрождалась» на западе). Впервые после кратковременного отсутствия Луна появлялась в ярких сполохах вечерней зари вслед за уходом Солнца. Она в глазах предка выглядела, возможно, как два соединенных вместе тонких бычьих рога, острые концы которых торчали в противоположные стороны. Округлый край рогов был обращен к скатившемуся за горизонт Солнцу, и создавалось впечатление, что оно, умирая в этот же день, выталкивало Луну на небосклон. Если предок наблюдал за только что родившимся светилом весной, когда Солнце, заглянув в пещеру, двигалось в своих восходах к северу, то он мог в последующие вечера продолжительное время любоваться молодой Луной. Она поднималась над горизонтом высоко и довольно долго совершала свой путь, пока не скрывалась за краем Земли на западе. В грустные осенние вечера, когда Солнце, заглянув утром при восходе в пещеру, в последующем начинало скатываться все далее к опасному югу, народившуюся Луну, напротив, можно было наблюдать короткое время. «Совмещенные рога» молодой Луны, будто отражая недоброе настроение предзимней умирающей природы, поднимались над горизонтом низко и вскоре спешили спрятаться за край Земли. Предок, возьмись он считать число ночей, допустим по пальцам, ко времени, когда Луна округлилась ровно на половину диска, загнул бы их полностью, для примера, на левой, а также частично на правой. К моменту же сияния ночного светила в полном блеске идеального круга предок, загнув пальцы уже на обеих руках, вновь подключил бы к счету почти все пальцы левой руки. К этой знаменательной в жизни Луны ночи оказывались приуроченными столь примечательные события, что пещерные люди могли в который уже раз подивиться всеохватывающей страсти царицы ночного Неба противопоставлять себя Солнцу. В ту ночь наивысшего могущества ночного светила оно, полное достоинства, выкатывалось из-за горизонта как раз тогда, когда умирающее дневное светило закатывалось за край Земли, чтобы уйти с небосклона при восходе Солнца. Более того, полная Луна ровно в полночь появлялась в том месте южного небосклона, где Солнце ежедневно точно в полдень достигалосвоей наибольшей высоты. Не меньший интерес предка могло вызвать то примечательное обстоятельство, что зимой излучающая яркий свет полная Луна поднималась над заснеженными пространствами очень высоко, как Солнце летом над цветущей Землей. Тогда путь в Небе торжествующей зимней Луны был не только высок, но и длинен. Она в этом мире холода и мрака мертвого сезона праздновала свой апофеоз. Летом же светила, как нетрудно догадаться, занимали на юге прямо противоположные позиции — полная Луна в полночь довольствовалась очень небольшой высотой и соответственно короткой дорогой по небосклону; Солнце же поднималось высоко и в те жаркие дни долго не покидало Небо. После полнолуния, которым предок мог любоваться в течение целых трех следующих друг за другом ночей, в жизни ночного светила наступал малоприятный момент. При продолжении счета теперь уже вновь на правой руке, когда загнутыми на ней оказывались два пальца (семнадцатая ночь!), глаз человека мог отметить, что лунный диск потерял свою округлую правильность. Хорошенько запомним эту семнадцатую ночь и связанное с нею событие ввиду той необычайной важности, которую придавал ему в последующем предок. А пока отметим лишь, что это означало одно — Луна начала умирать. Чуть надкушенный край ночного светила, которое утром не успевало спрятаться за горизонт от сверкающего глаза Солнца, был отныне обращен не на восток, в сторону восходящего дневного светила, а на запад, где оно заходило. Теперь уже не Луна преследовала Солнце, а, напротив, дневное светило пустилось в погоню за ночным. Отныне светила не расходились, соперничая, в разные стороны. Луна, как сказочная жертва перед драконом, с каждой ночью все ближе подвигалась на Небе к своему антиподу — Солнцу. Ночное светило меняло теперь свои маски в обратном порядке, как бы выворачивая их наизнанку. Так, когда все пальцы правой руки были при счете ночей загнуты и предку вновь, уже в третий раз, пришлось использовать очередную пару пальцев левой, Луна опять становилась полукруглой. Она восходила на небосклоне поздно, к полуночи, зато утром, к восходу Солнца, оказывалась как раз там, где недавно господствовала в полнолуние, т. е. на юге. Этот момент определял половинный временной рубеж[4] от полуночи до полудня, и полудиск Луны как нельзя лучше символизировал такую границу часов. Как, однако, полярно переменились позиции — давно ли полукружие растущей Луны, восходя днем, оказывалось в той же знаменательной точке юга вечером? Но половина диска молодого ночного светила определяла тогда иной порог суточного времени — половинный рубеж между полуднем и глухой полуночной порой![5] Но вот наконец наступило время, когда предок в счете ночей в третий раз перешел к пальцам правой руки. II по мере того, как он загибал их, все тоньше становилась «стареющая» Луна. Она опять приобрела вид выпрыгивающей из воды рыбки или двух совмещенных основаниями рогов, обращенных, однако, вогнутой стороной и острыми концами к западу. Умирающая Луна поднималась из-за восточного горизонта в алых лучах утренней зари, ненамного опережая восход Солнца. Как и в другие дни после ущерба, на семнадцатую ночь Луна заходила в светлое время суток, но теперь предшествуя закату Солнца. Погоня дневного светила за ночным, кажется, подходила к трагической развязке. Так оно и случилось. Однажды, когда после очередной ночи предок отметил про себя, что на правой руке почти совсем не осталось незагнутых пальцев, он больше не увидел Луны на восточном небосклоне. Она таинственным образом пропала, будто поглощенная Солнцем. Прошло, однако, не более трех дней, и, как неистребимый Феникс из пепла, в затухающем жаре угольев вечерней зари возникла обращенная выпуклой стороной к западу возродившаяся к новой жизни молодая Луна. С этой ночи начинался очередной многодневный небесный маскарад с уже знакомой чередой переодевания его главной героини — Луны. Если, однако, предок думал, что дневное светило никогда на таких празднествах маски на себя не надевало, то при определенных обстоятельствах оно могло дать ему понять о его заблуждении. В самом деле, изредка можно было видеть и Солнце меняющим фазы и даже на глазах исчезающим с Неба невесть куда, как Луна в дни новолуний. Нетрудно догадаться, что речь идет о солнечном затмении, когда дневное светило, будто саркастически передразнивая умирающую Луну, могло вдруг уменьшиться от полного диска до тонкого серпа, а то и совсем пропасть, будто вывалиться в черную дыру, которая внезапно появлялась в Небе на том месте, где недавно сияло Солнце. Неописуемый ужас людей при виде такого события вскоре, однако, сменялся радостью: Солнце начинало пародировать фазы растущей Луны и вот уже вновь сверкало над Землей в полной своей красе. Прошло много времени, прежде чем человек уяснил, что истинный виновник внезапных «фазовых гримас» Солнца — все та же Луна, но в те пугающие мгновения не наблюдаемая с Земли. Это она, незаметно исчезнув накануне утром, как тать, невидимкой, подкрадывалась к дневному светилу и начинала наползать черной глыбой на пылающий диск. При полном солнечном затмении для предка таинственно пропавшими оказывались сразу оба светила — дневное и ночное. Если к сказанному добавить, что внезапным затмениям подвергалась и полная Луна, тоже почему-то начинавшая при этом с лихорадочной поспешностью менять маски, то можно, втиснувшись в шкуру предка, понять его страхи и от души ему посочувствовать. Но не только «маскарады» поражали предка, когда он начал пристальнее приглядываться к небесным выкрутасам Луны. Стоило ему однажды обратить внимание на то, как в сравнении с Солнцем происходит смещение по линии горизонта точек ее восходов и заходов, и очередному изумлению его не было предела. Еще бы! Оказывается, солнечный маршрут восходов вдоль кромки Земли, в ходе которого жаркое лето успевало смениться прохладной осенью, а затем и морозной зимой, Луна умудрялась промерить своими гигантскими по размаху шагами всего за полмесяца, от полнолуния до новолуния. Значит, годовой маршрут Солнца ночное светило проходило за месяц! Но и в этом она оставалась верной своему непостоянству. Выпадали такие периоды, когда полная Луна захватывала «в сферу собственных интересов» более длинную по протяженности дугу горизонта, т. е., по существу, при восходах (или заходах) рисковала сблизиться с точками севера и юга в значительно большей степени, чем это дозволялось даже самому Солнцу! При таком «состоянии» ночного светила, которое современные астрономы называют «высокой Луной», она зимой поднималась на небосклоне очень высоко, а летом, в резком контрасте, проплывала над горизонтом весьма низко. Но затем наступали времена, когда такие дуги заходов и восходов вдруг сужались и Луна, будто решив передохнуть, пробегала за месяц меньшее расстояние, чем Солнце за год. Подобное состояние ночного светила астрономы называют «низкой Луной». Разница в высоте подъема на небосклоне зимой и летом не выглядела тогда столь контрастно, как при «Луне высокой». Быстроногость Луны, будь предок еще наблюдательнее, предстала бы перед ним значительно более ошеломляющей. Дело в том, что при стремительных скачках по Небу она в один и тот же час, допустим в полночь, каждые две-три ночи оказывалась в окружении новой группы звезд, которые однажды были образно названы древними людьми «лунными домами». Так вот, ночное светило, путешествуя по небесному кругу, успевало большую часть «домов» посетить за время, близкое к все тем же трем десяткам суток, за которое оно успевало, меняя маски, и родиться, и умереть. А затем Луна начинала новый в бесконечной последовательности тур суетных и скоротечных визитов в свои «звездные резиденции». Замечательно, что она при этом каждый раз рождалась в окружении иных, чем ранее, звезд, к которым Солнце еще только приближалось в своем годичном движении с запада на восток. Но через почти 30 суток Луна умирала в окружении звезд того «дома», где блистало дневное светило. Зимой Луна предпочитала гостить в северных «звездных домах», отчего предок и видел ее высоко в небе. Летом она переселялась в «звездные дома» юга и потому проплывала над горизонтом значительно ниже. Солнце поступало наоборот и виделось в Небе иначе. К тому же оно безнадежно отставало от бледнолицей непоседы. Ему, неторопливому домоседу, требовалось не менее трех десятков суток, чтобы погостить всего лишь в одно из почти в общем тех же «звездных домов», однажды названных человеком зодиакальными, т. е. в имеющих облик животных созвездиях. Солнцу в целом были неведомы капризные и трудно предсказуемые метания Луны от одной крайности к другой. Дневное светило с монотонной равномерностью бесстрастного маятника отклонялось в восходах и заходах только до строго определенных точек горизонта на севере и юге. Как небесный странник воистину солидный, Солнце не позволяло себе в движениях по Небу легкомысленных вольностей, в частности торопливой беглости в свиданиях с неподвижными звездами. Оно совершало вокруг Земли круговороты с каждой группой светлых небесных точек в течение трех десятков суток. Но требовалось в десять с лишним раз больше дней, чтобы гостевание Солнца прошло во всех «звездных домах», а затем началось посещение их по новому кругу. Звезды, обрати предок на них внимание, должны были окончательно убедить его в могуществе Солнца. Те скопления их, что при заходах с каждой ночью все более сближались с ним и местом рождения молодой Луны, в конце концов исчезали за горизонтом, и надолго. Создавалось впечатление, что дневное светило, выпустив на небосклон круто искривленный нож народившейся Луны, в качестве залога или для компенсации уводило за собой звезды. Но на востоке, в зоне восхода Солнца и там, где готовилась к смерти Луна, по утрам вдруг появлялись давно исчезнувшие на западе звездные группы. Можно было подумать, что Солнце, подержав звезды положенное время, снова выталкивало их на небосклон. И теперь, напротив, оно уводило за собой в качестве заложника умирающую Луну! Кажется, не составляло труда заметить, что, как и четкие ритмы круговращений Солнца и Луны, ритмичный в круговороте хоровод звезд сопровождался строго последовательной сменой картин жизни природы на Земле. Но тут пора, пожалуй, остановиться. В самом деле, продолжая в том же духе, можно договориться до того, что предок должен был обратить внимание, допустим, и на блуждающие звезды, т. е. на планеты. Кто мало-мальски знакомый с астрономией не согласится с тем, что дело это в общем-то простое? Достаточно припомнить, что планеты изначально странствуют по той же хорошо наезженной и украшенной теми же созвездиями «небесной дороге», по которой постоянно проплывали перед глазами предка Солнце и Луна, чтобы… Однако воздержимся, как бы это ни было интересным, от обращения к звездам блуждающим. Более того, ради умиротворяющего компромисса со все еще обряженным в живописную шкуру предка собеседником согласимся пока, что человек древнекаменного века не любопытствовал относительно обстоятельств жизни звезд недвижных. Вместе с тем скромно и с его согласия выговорим для первобытного охотника право заметить самых великих из небесных странников — сияющее животворное Солнце и загадочную в непостоянстве Луну. Позволим и собеседнику выбраться, наконец, из порядком надоевшей ему при вынужденном пещерном житии «шкуры предка». Что и говорить, она, корявая и свалявшаяся, безнадежно отстала от нынешней моды. В таком одеянии негоже теперь раздумывать о мироздании, каким оно воспринималось в не столь отдаленные от современности времена — в эпоху великих цивилизаций Ближнего Востока.

Глава II МУДРЫЕ ПАТРИАРХИ
Астрономию можно отнести к той же древности, что и сотворение человека.Никола Камиль Фламмарион

Картины возможных обстоятельств появления первых проблесков интереса предка к небесным явлениям — не более чем фантазия, рожденная игрой воображения. Что именно так, а не иначе все и происходило на самом деле, документально подтвердить никогда не удастся, ибо речь идет об эпохе, восходящей по меньшей мере к 40 тысячам лет до нашей эры. Такое отдаление начала истории астрономии теперь, в свете существующего об уровне культуры древнекаменного века представления, может породить насмешливые сомнения или с ожесточением оспариваться. Бесспорно, однако, что в давние годы небесной науке не только благоговейно отдавали пальму первенства по части жизненной важности для человечества, но и приписывали настолько глубокую древность, что упомянутые четыре сотни веков представляются воистину ничтожной суммой лет. Знаменитый историк римской эпохи Иосиф Флавий утверждал, что астрономию начали изучать в допотопные времена! По его мнению, небесная премудрость покорилась вначале детям третьего сына Адама Сифа, которые отличались особо острым умом, трудолюбием и настойчивостью в приобретении знаний о мире. Когда первый человек Земли Адам доверительно поведал внукам, что настанет печальная пора и мир погибнет от воды, то, как сообщает Флавий, их при этом известии более всего испугала мысль о возможной утрате накопленных после стольких трудов сведений по астрономии. Первые из удачливых наблюдателей Неба нашли выход: они соорудили две колонны — из кирпича и камня, а на гранях каждой из них вырезали идентичные надписи о порядке и времени движения небесных светил. Расчет допотопных астрономов был прост — если потоки воды окажутся настолько могучими, что разрушат колонну, выложенную из кирпича, то потомки возблагодарят детей Сифа, обнаружив астрономические записи на колонне каменной. В конце своего повествования Иосиф Флавий с удовлетворением отметил, что предусмотрительность древних звездочетов увенчалась завидным успехом. Стихийному бедствию не удалось сокрушить творения усердных строителей памятных стел: воды потопа оказались бессильными уничтожить не только каменную, но и кирпичную колонну. Как уверял Иосиф Флавий, они и в его времена возвышались в Сирии, сохраняя на случай повторения вселенских бедствий некогда познанное в небесах потомками Адама. Вторая столь же мудрая, но в значительно большей мере содержательная притча, рассказанная тем же всезнающим Флавием, повествует с волнующими подробностями о том, что похвальную озабоченность необходимостью постижения людьми небесных явлений проявил и сам виновник потопа — разгневанный и удрученный погрязшим в грехах человечеством господь бог. Он принял такое решение: пусть добродетельные патриархи, которые с прилежанием уже создавали в те времена «найденные ими науки» — геометрию и астрономию, продолжают «усовершенствовать» их. Загвоздка была, правда, лишь в одном — чтобы выполнить задуманное, патриархи должны прожить более 600 лет, поскольку лишь по прошествии этого периода, известного под названием «Великий год», светила, завершив круговорот, снова оказываются в небесах почти в том же положении относительно друг друга, в каком они находились в начале шестивекового цикла. Но чего не сделаешь ради того, чтобы патриархи осознали великую гармонию сконструированного творцом мироздания. Господь бог позволил (разумеется, в порядке исключения) прожить создателям геометрии и астрономии 600 лет. Как поведал далее Иосиф Флавий, патриархи сполна оправдали доверие владыки Вселенной. Они успели-таки уяснить, в чем состоит особая значимость Великого года. Подтверждение тому — превосходный в простоте и точности календарь, который им будто бы удалось разработать: к 360 суткам, что составляли ранее продолжительность года, они добавили в конце последнего месяца пять дней и тем самым почти сравняли его с годовым солнечным оборотом. Для выравнивания оставшихся несоответствий патриархи предложили добавлять один день каждые четыре года и вычитать день каждые 150 лет. В результате им удалось настолько удачно согласовать календарный период в 600 лет с движением Солнца, что знаменательные итоги их астрономических изысканий тоже следовало бы, по мнению Флавия, воспроизвести на колоннах детей Сифа. Такой вывод можно подтвердить авторитетным заключением: бывший в конце XVII — начале XVIII века директором Парижской астрономической обсерватории Жан Доминик Кассини, рассмотрев Великий год с точки зрения возможностей точного счисления времени, назвал его самым прекрасным из всех циклических календарных периодов, созданных в глубокой древности. Само по себе появление 600-летнего цикла в «допотопную эпоху» он, первооткрыватель четырех из пяти спутников Сатурна, расценил как показатель весьма раннего проявления интереса людей к астрономическим знаниям. Ж. Д. Кассини обратил внимание на то, что предопределяет особое удобство использования этого календарного периода: количество суток в нем (219.146 1/2) составляет целое число не только солнечных лет, но и лунных месяцев (7421). Разработанная «допотопными патриархами» календарная система была, надо полагать, ориентирована на счет времени не только по Солнцу, но и по Луне. Согласно расчетам Ж. Д. Кассини, 600-летиий цикл лунносолнечного счисления времени предполагал длительность лунного месяца в 29 дней 12 часов 44 минуты 3 секунды, а год — продолжительностью в 365 дней 5 часов 51 минуту 36 секунд! Между тем деяния «добродетельных патриархов» не ограничились, судя по всему, разработкой точного календаря для счета времени по Луне и Солнцу. По всей вероятности, и зодиакальные созвездия, т. е. группы звезд, по которым дневное светило путешествует в течение года, тоже были ведомы им, усердным созерцателям Неба. Учитывая основополагающую роль быка в религиозно-мифологических представлениях и ритуалах первобытности, а также особо почтительное отношение предков к весеннему равноденствию, торжественному моменту начала возрождения природы, астрономы высказали такую захватывающую идею: подразделение полосы неба, где каждый год перемещается Солнце, на участки с определенным образом сгруппированными звездами восходит или к 2460 году до нашей эры, когда дневное светило в момент весеннего равноденствия находилось в районе первых звезд созвездия Тельца, или к 4500 году до нашей эры, когда оно в тот же период располагалось в зоне последних звезд того же созвездия.

Вторая дата (4500 лет до нашей эры) показалась сторонникам этой гипотезы более предпочтительной, поскольку она как раз и определяла конец тех самых «допотопных времен», когда возлюбленные господом патриархи завершали свои штудии по геометрии и астрономии. Ведь начало потопа датировалось временем около 6 тысяч лет назад, откуда и вело отсчет поколений современное человечество. Согласно логике подобных рассуждений, выходило, что, когда на Земле появились современные люди, астрономия уже прошла длительный путь развития, превзойдя их по возрасту. Ориентировочные, того же плана, что и приведенные выше, хронологические прикидки историков астрономии показывали, что корни небесной науки восходят ко «временам Адама», по крайней мере к периоду за полторы тысячи лет до наступления потопа, и, значит, возраст ее насчитывает по меньшей мере 7 тысячелетий. Выделение зодиакальных созвездий стали в XIX веке относить за 6370 лет от того времени, когда любопытствующие относительно истоков астрономии произвели соответствующие расчеты. В свете таких цифр следует ли удивляться высказанным еще в прошлом веке утверждениям, что шумерийцы в Двуречье наблюдали за небом в V–IV тысячелетиях до нашей эры? Сомневаться в том едва ли приходится, если постараться вспомнить, как Каллисфену, который сопровождал Александра Македонского в его походе на восток, удалось собрать сведения об астрономических наблюдениях в Месопотамии, восходящих к 2300 году до нашей эры. Собранные Каллисфеном, как и оставшиеся ему недоступными, по-видимому, значительно более древние документы, как считается, хранились в потаенных жреческих архивах при храмах, которые одновременно представляли собой астрономические обсерватории. Во всяком случае, в античные времена если бы кто и высказал удивление или сомнение относительно возраста астрономии, то лишь по поводу прямо противоположному: неужто астрономия столь молода, что ей всего только 6 или 7 тысяч лет? Ведь известно утверждение Эпигена, что астрономические наблюдения стали производить около 720 тысяч лет назад. А почему остается в забвении мнение многомудрого жреца античности Бероза, который называл по тому же поводу меньшую, но тоже не лишенную впечатляющей древности дату — 490 тысяч лет? Надо бы также принять во внимание мысль Цицерона о том, что астрономия начала отсчет своего развития 470 тысяч лет назад, и великого Гиппарха, который определил возраст ее в 270 тысяч лет. Неужто, наконец, ничего не стоят подсчеты Диодора Сицилийского, который полагал, что обитатели Двуречья начали наблюдать солнечные затмения около 173 тысяч лет назад? Современному археологу, в особенности тому, кто специализируется в изучении древнекаменного века, остается лишь добродушно посмеяться над наивностью и святой простотой древних мудрецов. Еще бы — ведь они тогда понятия не имели, что рассуждают о временах, когда на Земле в действительности жили неведомые существа, которые именуются теперь архантропами или обезьянолюдьми. Можно представить, в какой ужас пришел бы утонченный грек или углубленный в сложные по поводу судеб людских астрологические размышления халдейский астролог, если бы им довелось вдруг столкнуться лицом к лицу с узколобым, сутулым и волосатым, едва прикрытым шкурой предком с лицом обезьяны, который был вооружен грубо оббитым камнем или сучковатой дубиной. О какой астрономии можно говорить, если эти предшественники человека разумного едва ли обменивались друг с другом словами, поскольку язык, неуклюже ворочаясь во рту, не слушался их, и они едва только начали осваивать огонь?! Впрочем, быть может, палеолитоведы проявят снисходительность в критике античных натурфилософов. Нужно же, в самом деле, принять во внимание давность лет и то решающее обстоятельство, что они, несмотря на обычную их прозорливость в рассуждениях по проблемам куда более сложным, все же не сподобились догадаться о такой эпохе в истории человечества, как древнекаменный век, а главное — доверяли порой мифологическим побасенкам и сказочным чудесам. Иное дело, однако, когда рискованные заключения об исключительной древности небесной науки стали, очевидно по традиции, делать даже незаурядные умы относительно близкой к современности эпохи. В их ряду оказался и знаменитый французский астроном, математик и физик Пьер Симон Лаплас, создатель нашумевшей в конце XVIII в. гипотезы о возникновении солнечной системы из вращающейся газовой туманности. О вере его, близкого материализму космолога, в господа бога и ученых патриархов говорить не приходится, ибо разве не он в ответ на недоуменный вопрос всесильного Наполеона, почему в своем сочинении «Небесная механика» не упомянул о боге, предерзостно в равнодушии ответствовал: «Я не нуждаюсь в такой гипотезе». Между тем это он, П. Лаплас, рассуждая о времени выделения зодиака, настойчиво предлагал в четыре раза увеличить число лет, от которых, согласно дотошным расчетам богословов, велся отсчет знания человеком созвездий, расположенных на пути движения Солнца. В итоге получалось, что зодиак стал ведом человеку около 25 тысяч лет назад. Пример, показанный выдающимся «небесным механиком», оказался заразительным. И вот уже филологи неожиданно вклинились в жаркие споры о происхождении астрономии: после скрупулезного лингвистического анализа священных гимнов индоевропейцев «Ригведы» и «Авесты» знатоки древнейших языков высказали заключение, что космогонические и космологические системы, отраженные в текстах их, должны восходить ко времени около 14–20 тысяч лет тому назад. Возможно, на все это в другое время не стоило бы обращать внимания, а тем более тратить излишние усилия на опровержение очевидных заблуждений. Но тут ко второй половине XIX века вдруг выяснилось, что прежние представления о календарях «всех исторических народов, древних и новых», базирующиеся на исследованиях берлинского астронома Людвига Иделера, на глазах начали устаревать. Его «Руководство по математической и технической хронологии», опубликованное в 1825–1826 гг., создавалось главным образом на основе сообщений о приемах счета времени, которые содержались в книгах классиков античности. Новые материалы требовали коренного пересмотра сложившихся у Л. Иделера представлений относительно обстоятельств зарождения календарей, а также истоков их и истории развития. Стоило развернуться с достаточной широтой исследованиям памятников классической древности, что в изобилии сохранились в долинах Нила, Тигра и Евфрата, благодатных речных колыбелях ближневосточных цивилизаций, и сразу традиционные письменные источники, которые воспринимались ранее в качестве единственных документов, позволяющих раскрыть прошлое астрономии, отошли на задний план. Их место заняли памятники эпиграфические: стелы, испещренные ликами богов и египетскими иероглифами, «глиняные книги», а также каменные плоскости и «столпы», покрытые угловатыми, вроде отпечатков ног неведомых птиц, знаками шумеро-вавилонской клинописи. Прочтение древних письмен дало новую основу для хронологии, а сама она стала областью, где история, а значит, и археология самым естественным образом соприкоснулись с астрономией. Разбирающийся с муками в путаницах дат исследователь истории и археологии древнейших цивилизаций Передней Азии и севера Африки ради успеха дела должен был теперь, хотел он того или нет, не только овладевать знаниями лингвистическими и историческими, но и познавать тонкости науки астрономической. Ибо в том и состояла специфическая особенность той ученой области, которая стала называться хронологией древнего мира. Ф. К. Гинцель, который взял на себя труд ввести в оборот новые календарные сведения, обратил внимание на сходство в счислении времени у разных народов. По его мнению, это свидетельствовало прежде всего о создании календарных систем во времена весьма отдаленные и, возможно, о наличии некоего общего истока. Насколько же он отдален по времени от современности и где его следует искать? Возможно, в Египте, отвечал Ф. К. Гинцель, поскольку именно там при раскопках в Дендерах удалось обнаружить каменную плиту с изображениями знаков зодиака, которые, согласно первоначальным расчетам (как потом вылепилось — ошибочным), следовало датировать временем около 12–16 тысяч лет назад. В предположении об особой для становления астрономии значимости древней культуры Египта не было ничего удивительного в свете известного рассказа Геродота о том, что египетские жрецы наблюдали периодические небесные явления на протяжении более 11 тысяч лет. По словам собеседников великого греческого историка, со времени правления первого фараона, когда начались наблюдения Неба, и до последнего владыки страны Хапи прошло 341 поколение людей и 11340 лет. Как уверяли жрецы, за это время покачивающаяся в пространстве плоскость, в которой перемещалось Солнце, четырежды становилась перпендикулярно небесному экватору. В повествовании Геродота впечатляла не только ошеломляющая давность наблюдений египтян за Небом, что будто бы подтверждалось теперь зодиаком на плите из Дендер, но и уяснение жрецами-астрономами такого тонкого небесного явления, как периодические перемены в наклоне эклиптики. А разве не об исключительной древности астрономии в Египте свидетельствовал их солнечный календарный цикл в 1461 год[6], связанный с наблюдением в день летнего солнцестояния утреннего восхода звезды Сотис (Сириуса)? Сколько же времени поколения жрецов наблюдали в бессонные ночи Небо, чтобы уловить возврат к исходной точке знаменательного события, которое произошло почти полтора тысячелетия назад! Осторожные археологи и историки не рисковали заходить далее конца V или середины IV тысячелетия до нашей эры (учитывалось, в частности, что найденные на памятниках отметки высоты подъема вод Нила относятся к середине IV тысячелетия до нашей эры, значит, появление внимания к Сириусу, с восходом которого совпадало это событие при начале цикла в 1460 лет, относится к этой эпохе). Кого не смущали тысячелетия, так это астрономов. Так, Ю. Опперт в середине прошлого века произвел календарные расчеты и, отметив, что один из древнеегипетских солнечных циклов продолжительностью в 1460 лет завершился в 1332 году до нашей эры, пришел к выводу: счисление времени подобными периодами началось в 11542 году до нашей эры. Нетрудно подсчитать, что, определяя эту дату, Ю. Опперт сделал от 1332 года до нашей эры в прошлое семь «солнечных временных шагов» по 1460 лет каждый. Но такой отсчет делался не только для подтверждения истинности сообщения Геродота о почтенной давности наблюдений египетских жрецов за Небом. Это был прежде всего прием для доказательства справедливости мысли о поразительном в единовременности начале календарных циклов у разных народов. В частности, отметив, что календарь Двуречья составляли лунные циклы продолжительностью в 1805 лет, а конец одного из них приходился на 712 год до нашей эры, Ю. Опперт, ничтоже сумняшеся отложив в прошлое 6 «лунных временных шагов» по 1805 лет каждый, получил ту же дату — 11542 год до нашей эры. Результаты подобных календарных манипуляций стали затем в руках Г. Гербигера самым весомым аргументом в пользу фантастической гипотезы о «космической катастрофе» — захвате Землей Луны около 13 тысяч лет назад, после чего будто бы и началась разработка человеком календарных систем. Ценность таких изысканий не намного больше библейских повествований о потопе и мифических вкладах в развитие астрономии внуков Адама, а также почтенных патриархов. Археологов древнекаменного века подобным «цифровым фокусничеством» не проведешь, ибо они более чем кто-либо из историков представляют, что означает признать мнение П. Лапласа о выделении зодиака человеком 25 тысяч лет назад или принять на веру сообщение Геродота о начале астрономических наблюдений египетскими жрецами более 12 тысяч лет назад. Специалисты по древнейшим культурам, как и ранее, при оценках правдивости сообщений античных мудрецов точно определяют, что речь идет о последних десятках тысячелетий завершающей стадии ледниковой эпохи, когда на Земле уже обитал человек разумный — Homo sapiens. Никто не станет отрицать его достаточно высокую по сравнению с архантропами культуру, о чем, помимо усовершенствования орудий труда, свидетельствует хотя бы появление в это время разнообразных образцов первобытного искусства. Но столь же единодушно все согласятся, что эта культура продолжала оставаться весьма примитивной. Поэтому идея о возможном занятии бродячих охотников древнекаменного века астрономией, да еще на таком высоком уровне, когда предполагалось выделение зодиака, никак не соотносилась с развитием культуры людей ледниковой эпохи. Подобная гипотеза не могла восприниматься археологами иначе как нонсенс. Но неужто достижения археологов в изучении древнекаменного века оставались вне внимания звездочетов, чтобы и теперь с их стороны имело смысл всерьез обсуждать проблему столь глубокой древности начал астрономических знаний? Подозрения такие напрасны. Выдающийся популяризатор знаний о Небе Никола Камиль Фламмарион, который начинал свою деятельность с профессиональных занятий астрономией, знал, конечно, основные результаты изучения древнекаменного века в XIX столетии. Он, судя по всему, в полной мере отдавал себе отчет, что означает отнесение начал астрономии к 25 тысячам лет назад в свете известного археологам о культуре человека столь отдаленной эпохи. Во всяком случай, в отличие от П. Лапласа, К. Фламмарион знал определенно, что современного типа люди в то время, вопреки расчетам богословов, ограничивающих существование поколений их шестью тысячелетиями, действительно обитали на Земле, и доверяя археологам, представлял предков «дикими первобытными существами» (хотя, как истинный представитель точных наук, все же с благоразумной осторожностью отмечал, что они «не оставили после себя указаний на то, какой степени цивилизации достигли»)[7]. Приходится сожалеть лишь о том, что археологи не оказались столь же внимательны к постижению астрономами небесных явлений. Случись иначе, они, быть может, познали бы значительно раньше нечто пригодное для изучения отдельных «аспектов» своих памятников… Интерес К. Фламмариона к эпохе, восходящей к 25-му тысячелетию тому назад, определялся, в частности, близостью этой почтенной суммы лет к одному из самых продолжительных и захватывающе интересных в астрономии временных циклов — периоду смещения полюса, т. е. точки, где с небесным сводом соприкасается мысленно продолженная земная ось. Смещение определяется тем обстоятельством, что сама она, невидимая ось, из-за вращения Земли медленно (по аналогии с волчком) перемещается, описывая в пространстве конус. Но волчком конус описывается за немногие секунды, тогда как перемещение земной оси, а значит, и полюса между звездами завершается за 25 729 лет.
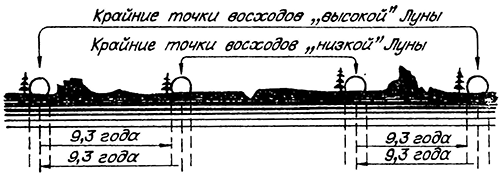
Это круговое «покачивание» (движение около себя самой в направлении, обратном вращательному суточному движению) относительно быстро вращающейся Земли вызывается действием на ее экваториальную область Солнца и Луны и приводит к тому, что точка весеннего равноденствия смещается по небесному экватору с востока на запад на 50″ дуги в год, а весеннее Солнце соответственно постепенно перекочевывает из одного зодиакального созвездия в другое. Особенности многотысячелетних разворотов земной оси определяют циклические закономерности, связанные с ритмичными изменениями точек восходов полной Луны, когда она находится то в стадии высокой, то низкой, как ее уже мог с удивлением наблюдать предок из пещеры. Возвращение к исходному состоянию, будь Луна высокой или низкой, занимает 18,61 года. Но это как раз тот период, за который подрагивающая под воздействием Луны земная ось полностью «выписывает» на небесном своде один из бесконечной череды миниатюрных эллипсов на криволинейном пути ее смещения меж звезд. Так что смена «состояний» ночного светила, когда оно то восходило по очень широкой дуге горизонта, выходя за точки восходов летнего и зимнего Солнца в периоды солнцестояний (высокая Луна), то по узкой дуге, не достигая этих точек (низкая Луна), определялась особенностями движения в пространстве оси Земли, которую, однако, заставляла слегка подрагивать сама же Луна. После годовых циклов счисления времени по Солнцу или Луне незначительный по продолжительности период в 18,61 года вполне мог использоваться в хронологии первобытности. Половина его (9,3 года) знаменовала бы переход Луны, положим, от стадии высокой к низкой, а взятый полностью — вновь возврат к высокой. Если учесть, что после полного цикла фазы Луны опять совпадали с теми же календарными датами, а знание всего связанного с периодом в 18,61 года позволяло предсказывать возможность затмений, то значительность его в хронологии и культах древних не может подлежать сомнению. Наконец, археологу важно знать, если он все же рискнет заняться «астрономическими аспектами» древних памятников, что эклиптика — плоскость, в которой перемещается Солнце, то уходя зимой в южное полушарие неба (восходы и заходы сдвигались к югу), то летом — в северное (восходы и заходы сдвигались к северу), — действительно, как и полагали египетские жрецы и как мог наблюдать это предок из пещеры, не занимает постоянного положения в пространстве относительно небесного экватора. Она, эта плоскость, слегка покачивается, и размах этих колебаний не превышает 2°37′, а сдвиги за тысячелетие — сотых долей градуса. Такое впрямую не наблюдаемое покачивание находит отражение в следующем: точки крайних к северу и югу восходов и заходов Солнца в моменты летнего и зимнего солнцестояния не остаются, как можно подумать, стабильными, а в течение веков слегка смещаются то влево, то вправо относительно некоего усредненного положения. Соответственно слегка меняются также крайние точки восходов и заходов низкой и высокой Луны. Ясно, что, зная такие тонкие смещения, следует вносить поправки в то, что составляет «астрономические аспекты» памятников, а археологам подобные коррекции могут подсказать эпоху, когда с наибольшей вероятностью они делались. Иначе говоря, признай они отражение астрономических аспектов в памятниках древности, и у них появился бы дополнительный метод точного датирования археологических объектов — астрономический! Разумеется, чтобы засечь упомянутые изменения, требуются не только особо тщательные и длительные наблюдения, но также хорошо продуманная система сохранения и передачи информации. Если верить сообщениям Диодора Сицилийского, то египетские жрецы решили такую проблему. Как он утверждал, не было на Земле другой страны, где положения и движение светил отмечались бы с такой точностью и прилежанием, как в Египте. Наблюдения эти велись с «незапамятных времен», а затем результаты их в специальных таблицах с детальным обозначением всего замеченного в движении планет и обращении их вокруг Солнца и в прохождении планет и Солнца через созвездия зодиака сохранялись с трепетной бережностью в храме бога дневного светила Ра. Но можно ли осмелиться предположить, что сходные «записи», при доверии к сведениям Геродота, действительно восходили к финальной стадии древнекаменного века, т. е. к 12 тысячелетию до нашей эры? Если да, то была ли тогда, в каменном веке, система фиксации и хранения накопленных в области астрономических наблюдений фактов? Не следует отвергать с порога возможность положительного ответа на оба вопроса. К разумной осторожности здесь еще в начале века призывал, по существу, тот же К. Фламмарион. Описывая очередной период смещения полюса, когда он в 2105 году нашей эры вновь начнет удаляться от Полярной звезды, и мысленно обращаясь к тому времени, когда пройдут очередные 25 729 лет и полюс опять вернется к Полярной, астроном справедливо заметил, что наша эпоха тогда «погрузится в гораздо большую тьму тысячелетий, чем для нас времена фараонов и древних египетских династий»[8]. Но как тогда будет восприниматься современный человек и его культура? Согласно шутливому предположению К. Фламмариона, он окажется выставленным для обозрения в музейном шкафу натуралиста будущего в качестве всего лишь «любопытного образчика древней и довольно еще дикой природы людей, обладавших уже, однако, некоторым расположением к научным занятиям»[9]. Весьма реальная, по всей видимости, перспектива такой оценки едва ли приведет в восторг любого представителя нашего времени, в том числе археолога, гордого своими достижениями в распознании «сокровенных загадок прошлого». Поэтому-то, досадуя по поводу возможной несправедливости определения значимости своей со стороны потомков-коллег, а также во избежание в будущем столь конфузного оборота дела со шкафом, украшенным отнюдь не вдохновляющей этикеткой, ему не худо бы повнимательнее присмотреться к тому, что сам он теперь выставляет в музейных шкафах — так ли уж «дика» была «природа» тех, кто тоже, возможно, имел в глубокой древности «некоторое расположение к научным занятиям»?

Глава III ГОД БЫТИЯ
Первобытная древность астрономии, происхождение небесной сферы, и созвездий, взгляды древних на строение мира — вся эта научная панорама представляет необъятное зрелище, в котором видна вся душа и жизнь человечества, с его могуществом и бессилием, с лихорадочным любопытством и томлением, с вечным неотступным желанием до всего дойти, все узнать, над всем властвовать.Никола Камиль Фламмарион

В эту ночь в храме «Встречи середины Солнца» Мемфиса обычно и без того торжественные службы звездным богам отличались необычайной пышностью и проходили с подчеркнутым воодушевлением. Страна священного Хапи — Нила, дарующего жизнь всему сущему, — знала, какие грядут великие события. До восхода над горизонтом лучезарного Ра, животворного дневного светила, которое где-то там, в мрачной утробе преисподней — Дуат, проплывая в барке, в напряженных борениях преодолевало злые силы гигантского змия Апопа, оставалось всего два часа. На рубеже их, когда утренние сумерки рассеют мрак и начнут гасить звезды, произойдет то событие, наступления которого десятки поколений жрецов терпеливо ожидали почти пятнадцать веков. Так можно ли представить людей во всей Вселенной более счастливых, чем они, коим боги даровали невиданную для большинства смертных честь: провозгласить начало величайшего из священных торжеств — наступление «Праздника слезы», восхода-рождения на востоке красы звездного Неба, лучезарной звезды богини Сотис-Изиды, Сириуса, могущественного ночного Солнца; «Праздника вечности»; «Праздника Тота», многомудрого бога-Луны, который научил людей небесной науке, гаданиям и чародейству; праздника начала «Божественного», «Великого» или «Псового года»; праздника вступления на престол нового фараона. Вдали от алтаря, едва видное в мерцающих сполохах языков пламени храмовых светильников, стояло изваяние уходящего в прошлое года, представленного в образе плотно закутанного в ткань богочеловека.
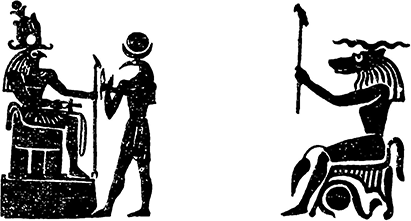
Лишь голова и плечи его были обнажены, да кончики пальцев ног чуть высовывались из-под ниспадающих складок. Тело божества плавной тугой спиралью обвивала змея, символизирующая неустанно текущее время дней. В той же стороне храма смутно просматривались скульптура звездного стража с ключом и странная фигура о двух головах — юноши, обозначающего начало года, и старика, олицетворяющего его окончание. Жрецы с почтительным смирением проходили мимоизображений солнечных богов, возглавляющих времена года, — дитя, связанного с зимним солнцестоянием, юноши — с весенним равноденствием, мужчины с окладистой бородой — с летним солнцестоянием и глубокого старца — с осенним равноденствием. По другим изваяниям, которые замерли в иных залах храма, каждый, в том числе чужестранец, мог увидеть, что солнечное божество в стране Хапи меняло свой облик не только каждый день от утра к вечеру или в периоды великих солнцеворотов и в равноденственные дни, но также каждый раз, как только дневное светило вступало в очередной «звездный дом», зодиакальное созвездие, определяющее наступление одного из 12 месяцев текущего года — тота, фаофи, атир, хойям, тиби, мехир, фаменот, фармута, пахон, пайни, эпифи и месяца рождения Солнца — месори. В обликах богов в храме были представлены не только Солнце и зодиакальные созвездия, но также Луна, планеты и все звезды, которые своими восходами или заходами разграничивали зодиакальный пояс. Всю Вселенную олицетворяла голубая, как Небо, змея с желтой чешуей. Наибольшая суета наблюдалась между тем в помещении около скульптуры с головой пса. До появления на востоке сияюще-светлой Сотис-Изиды, Песьей звезды, оставался час.

Всю прошедшую зиму она на протяжении ночи сияла, радуя глаза беспредельно почитающих ее детей Хапи, божественного Нила. К весне же прекрасная Изида светилась лишь по вечерам на западе, склоняясь при каждом очередном заходе Солнца все ниже и ниже к горизонту. Жрецы тогда с не меньшим, чем теперь, старанием наблюдали за царственной по красоте звездой, с трепетом ожидая момента, когда она займет то положение, после которого, согласно многократно проверенным расчетам и наблюдениям, должна была на следующую ночь исчезнуть с небосклона. Такое, вызывающее горестные плачи, событие происходило в весеннюю пору всегда. Но в этот год, предшествующий божественному Празднику слезы, печальный уход жизнелюбивой Сотис в ужасную пасть мира смерти — Дуат точно совпал с не менее прискорбным событием — кончиной фараона, блистательно представлявшего на Земле в обычном человечьем обличье животворное Солнце небес. Вот уже 70 дней, как душа умершего владыки, покинув бренное тело в часы ухода за горизонт вечернего Ра, бога Солнца, и госпожи ночного Неба Изиды, отправилась, увлекаемая ими, в страшное чрево подземного мира, в «Дом бальзамирования», в не ведомую до самой кончины никому из смертных Преисподнюю, долину Дуат. Пребывать ей там до возрождения в бессмертья осталось всего час, который завершит последнюю из семи декад отсутствия на Небе светлой Сотис, вслед за чем и должен наступить долгожданный, в буйных весельях и радостях людей Праздник вечности, когда она должна была вновь заблистать на Небе, но уже на востоке. И столько же времени, всего час, остался жрецам, чтобы завершить бальзамирование останков фараона, который, кажется, так внезапно покинул этот мир, досадно не дожив до вселенского Праздника Тота все те же 70 дней невидимости в небесах прекрасной Сотис-Изиды. Отлет души фараона в вечность небытия почти два с половиной месяца назад был между тем неожиданным для кого угодно, но не для изощренных в искусстве наблюдения знамений Неба, всемогущих в знаниях и силе жрецов. Никого из них, смиренных и скромных служителей храма Встречи середины Солнца, не удивило и то поразительное обстоятельство, что фараон почил как раз в ночь, когда Сотис скрылась за мрачными склонами западных гор, обрамляющих безжизненную ливийскую пустыню. Увы, так оно и должно было случиться с неизбежностью, когда до наступления Года Бытия, божественного праздника великой Изиды, оставалось 70 дней, и никому не следовало сомневаться в оправданности трагических предчувствий жрецов. Еще бы — всезнание и всемогущество их известно всем! Это они, кого при дворе земного владыки с трепетным почтением называли «мастерами небесных тайн», умели посредством загадочных магических действий остановить в Небе движение самого всесильного Солнца, и тогда наступали периоды зимнего или летнего солнцестояний, ускорить или, напротив, замедлить его бег. Им не составляло труда призвать на помощь Луну и заставить реки течь к своим истокам, предсказывать обилие или голод, наводнение или землетрясение, эпидемию и падеж скота. Особый страх обитателей долины Хапи вызывало никому более из смертных не доступное умение жрецов предугадывать появление в Небе вестников напастей и бедствий, в том числе кровавых войн, — хвостатых комет. Собранные с незапамятных времен наблюдения за небесными явлениями, предрекавшими события счастливые или печальные, позволяли храмовым звездочетам растолковывать страждущим дурное или доброе влияние звезд, а также мудреность соотношений между блуждающими среди светил планетами и рождением животных. За стенами храма в народе ходили слухи, что жрецы умеют вдохнуть жизнь в изготовленные из воска фигурки людей и животных. Но еще страшнее — способность их превратить в мертвеца любого живущего, если будет на то повеление всемогущих богов… По влиянию жрецы превосходили при дворе фараона даже тайных советников, которые важно именовались «мастерами дворцовых тайн», и начальников стражи телохранителей, которые отвечали за самое драгоценное в государстве — бесценную жизнь земного представителя Неба, самого солнцеликого владыки. Кто мог усомниться в великом достоинстве жрецов, «мастеров небесных тайн», увидев, как эти бритоголовые, бесшумно ступающие и молчаливые люди с переброшенной через плечо пятнистой шкурой пантеры — знаком высочайшего чина — проходили (не сбрасывая сандалий!) в святая святых дворца фараона — его внутренние покои. Осчастливленным редкостной для смертных возможностью лицезреть фараона, им дозволялась к тому же воистину невиданная честь — смиренно и почтительно приветствуя наместника небесных светил на Земле, целовать не ступню его, а святейшее колено! Нет, никто, даже «мастера дворцовых тайн», всегда настороженные к опасностям самых изощренных в коварстве заговоров, не могли бы, как, впрочем, и могучие стражи-телохранители, оградить фараона от смерти в начале той тревожной ночи, когда, согласно вещим предсказаниям «мастеров небесных тайн», Сотис должна была исчезнуть с западного горизонта Неба. Так оно и случилось, как предсказали жрецы: владыка отошел в вечность точно за 70 дней до Праздника слезы, когда на востоке предстояло блеснуть, предваряя восход Ра, божественной звезде Изиды. В этот же день случилось еще одно знаменательное событие — наследник усопшего, вопреки действующим в обычные годы правилам, не занял трона. Ему, согласно предписаниям всемогущих богов, предстояло стать фараоном в тот самый величественный день, до начала которого оставалось теперь полчаса ночного времени. А до этого каждый из 70 дней отсутствия Сотис на Небе начинался с того, что правителем страны всего на сутки объявлялся один из высших сановников государства. Так на священном троне владыки страны Хапи за 7 декад сменилось 70 фараонов, каждый из которых царствовал только один день и одну ночь, а затем покорно уступал свои права всесильного наместника Солнца на Земле очередному преемнику. Наконец трон занял последний избранник из когорты высших сановников, и теперь он готовился с наступлением предрассветных сумерек сложить с себя сан, чтобы жрецы могли почтительно передать, наконец, регалии правителя тому, кому они должны принадлежать по праву божественного наследования. «Временщики» потому-то один за другим и всходили на трон, а затем оставляли его, чтобы согласно строгим жреческим установлениям истинный наследник стал обладателем власти в святой день Праздника вечности. Он действительно станет им, но не раньше, чем произнесет, согласно правилу, установленному жрецами, клятву — подтверждение верности их предначертаниям в счете времени. Кто взойдет на трон — скоро узнают все жители страны Хапи. Чужестранца, однако, при воспоминании о загадочном уходе из жизни старого правителя как раз в день исчезновения с горизонта Сотис-Изиды, мучил тем временем совсем другой вопрос — какова была последующая судьба каждого из 70 «фараонов на день», которых он более не встречал? Не отправлялись ли и они, ближайшие соратники умершего государя, вслед за своим владыкой в «обитель вечного блаженства»? Чужестранец, даже будь он свидетелем происходящего в течение последних 70 дней, едва ли смог бы без толковых пояснений посвященного в тонкости сокровенных тайн понять, что предопределяло каждое из загадочных событий и чем следовало объяснить особую трепетность бритоголовых при отправлении службы последнего часа ночи перед наступлением Праздника слезы. Быть может, тем, что на востоке, у самой кромки Земли над горизонтом начали вдруг проступать пока едва только различимые первые звезды созвездия Рака? Ведь они — верный знак близости утренних сумерек дня летнего солнцестояния, когда Ра, войдя накануне в созвездие Льва, приобретал наибольшее свое могущество в году? Подобное событие, которое определялось как пора сезонного солнцеворота, разумеется, важный момент для отправления культовых священнодействий. Но ведь оно происходило в долине Хапи каждое лето, когда наступала испепеляющая жара, и потому в нем трудно усмотреть нечто исключительное для календарного многолетья. Волнение могло вызываться нетерпеливым ожиданием появления в этот рассветный час в стороне от полосы зодиакальных созвездий царственной звезды утра и вечера — Сириуса. Он самый яркий в созвездии Большого Пса и на всем Небе, и потому первое утреннее явление его заслуживало, конечно, почтительного поклонения. Но и это небесное знамение случалось ежегодно, когда лучезарному «Солнцу ночного Неба» (видному, впрочем, порой и днем, настолько ярок Сириус) воздавалось должное в храмовых службах. Чужестранец, наконец, узнал бы, что Сириус почитается в долине Хапи под именем Сотис-Изиды и Песьей звезды, которая образно воспринималась здесь в качестве сторожевой собаки или лающего пса. Сотис-Изида была, оказывается, как раз той удивительной звездой утреннего Неба, которая при восходе своем могла, как чуткий пес, возвещать обитателям измученной зноем долины Хапи приближение наводнения. Разлив приносил с собой плодородный ил, благодатный для взращивания злаков, но навлекал опустошительные разрушения, отчего людям в это время следовало держаться начеку. Но и такое наводнение случалось каждый год в разгар лета, а потому не могло, при всей его значимости, объяснить в полной мере ту степень торжественности, с которой отправлялась нынче служба в храме Встречи середины Солнца. Если бы мудрый Тот, учитывая превеликую в ту ночь занятость жрецов, согласился, как во времена оны, потолковать о днях зарождения и становления мира, а затем по старой памяти поучить неразумных познаниям в небесной науке, то лучшего поводыря для чужестранца вообразить невозможно. И тут выяснилось бы, что начала сокровенного восходят к тому времени, когда внуки изначального бога Атума и дети Шу и Тефнут богиня Нут (Небо) и бог Геб (Земля) вознамерились, вопреки желаниям Ра, вступить в брачный союз. Они, влюбленные друг в друга, осмелились ослушаться всемогущего солнечного божества и стали супругами. Сначала слившиеся воедино, они были отделены друг от друга богом воздуха Шу и образовали собой части мироздания: Нут стала небесным сводом, протянувшимся с востока на запад и опирающимся, как на колонны, на свои ноги и руки, а Геб — Землею. Это на его спине, после того как он перевернулся вниз животом, появились горы, долины, реки и моря, выросли деревья и травы, родились животные и люди. Разгневанный всем случившимся, и в особенности непослушанием, Ра проклял молодых супругов и в отместку за строптивость решил обрушить на Нут, главную, по всей видимости, виновницу происшедшего, самое жестокое из возможных для женщины наказаний: отныне и навсегда она лишалась возможности рожать детей в какой бы то ни было день или месяц года.

Это случилось в очень давние лета, когда дней как в звездном и лунном, так и в солнечном году было поровну — 360 (как в те допотопные времена, когда благочестивые патриархи только еще приступали к занятиям геометрией и астрономией, не подозревая, что им придется познавать то и другое по меньшей мере 600 лет). Ра, удовлетворив свое тщеславие мщением, думал, что теперь, при угрозе лишиться потомства и обречь свой род на бесследное исчезновение, новоявленным супругам не останется ничего иного, как расторгнуть возмутивший его брак. Высшее божество недооценило, однако, характера и настойчивости Нут, которая не пожелала из-за чужой прихоти расставаться с возлюбленным. Изворотливый женский ум подсказал выход — богиня Неба обратилась за помощью к многомудрому Тоту, владетелю времени, и стала умолять его придумать что-нибудь, что позволило бы не только преодолеть запрет Ра, но и, умилостив его, обратить неправедный гнев бога Солнца в сладостную для любовных чувств ее и Геба милость. Доброе, с обостренным чувством справедливости сердце Тота откликнулось на жалобную мольбу прекрасной Нут, и он решил вознаградить с обычной своей щедростью страстные желания первой женщины мира. О, найти выход было не так-то просто! Но недаром Тот слыл в мире богов непревзойденным мудрецом, чародеем и знатоком небесных явлений, и Нут знала, к кому обратиться, чтобы наверняка обрести желаемое — Геба и детей. Tot, поразмыслив, пришел к выводу, что при сложившихся обстоятельствах не остается ничего другого, как создать новые дни, на которые, поскольку они появятся лишь теперь, не будут распространяться заклятья Ра. Но откуда взять их, эти дни, когда от века они навсегда определены для богов звезд, Луны и Солнца в количестве 360? И вот тут-то мудрый Тот решил заняться делом на первый взгляд совсем невинным: посетив богиню Луны, он предложил ей поиграть в шашки. Ставкой в игре была определена по взаимному соглашению самая что ни на есть малость — всего 1/72 частица «света» каждого из 360 дней. Богиня ночного светила, как женщина, поступила, конечно, легкомысленно, вознамерившись одержать верх в игре с самим Тотом. Но к тому времени, когда она наконец спохватилась, выяснилось, что как ни выглядела ничтожно малой доля отыгранного Тотом у каждого ее дня, лунной богине пришлось, расплачиваясь по окончании турнира, расстаться с целыми пятью сутками из годового запаса времени. Вот почему с тех пор лунный год вместо 360 стал составлять 355 дней! Тот, оказавшись с бесценным выигрышем — не учтенным Ра временем, распорядился им как и подобает истинному мудрецу, более всего озабоченному мыслями о справедливости и мире. Прежде всего он присоединил отыгранное у Луны к концу солнечного года, но поставил выигрыш вне его временных границ, назвав эти пять дней весьма многозначительно: «те, что над годом». Ясно, что их с тем же основанием можно было называть также «те, что над месяцами». Ра мог теперь сколько угодно досадовать, однако наложенное им проклятие не могло, как бы он того ни хотел, распространяться на пять дополнительных дней. Тем самым Тот выделил время, когда у богини Неба могло, вопреки заклятиям, появляться потомство — в завершающую пентаду года, в дни, непосредственно предшествующие празднику летнего солнцестояния, которое определялось отныне как первый день месяца тота. В этот день вступал в права новый год. Его продолжительность теперь увеличилась за счет лунного года на 5 суток и, превзойдя его на целую декаду, стала составлять 365 дней, т. е. в точности столько же, сколько в календаре «добродетельных патриархов». (Вот почему с тех давних пор в гробницы умерших господ помещались 365 ушебти, глиняных фигурок людей, призванных работать за умершего в царстве теней по одному дню в году). Как видим, Тот действительно был мудр, ибо он не только с остроумным изяществом сумел помочь выйти из затруднительного положения богине Неба, но и между делом позаботился о закреплении собственного величия, озарив своим именем новогодний праздник. Не остался внакладе и очарованный хитроумными проделками Тота лучезарный Ра: чтобы умилостивить вполне понятное негодование солнечного божества, Тот в почтительном подобострастии к владыке посвятил ему дни «те, что над годом». Нут могла более не опасаться очередной вспышки гнева своенравного Ра, ибо не станет же он, при самом дурном расположении духа, распространять свои заклятия на дни, столь смиренно посвященные ему самому. Не удивительно поэтому, что она и ее потомки, возблагодарив Тота, в полной мере воспользовались результатами его выигрыша у богини Луны — пятью днями, лишенными запрета на роды. Именно на них пришлись в последующем рождения детей богини Неба и бога Земли, величайших, помимо Атума, Шу и Тефнут, богов страны Хапи: лунного бога мертвых Осириса, злого бога Сета, воплощенного, очевидно, звездами Большой Медведицы в образе Быка или его ноги, дочери Нефтиды, а также той самой Изиды, восхода звезды которой, Сотис, ожидали теперь с минуты на минуту служители храма Встречи середины Солнца. В пятый день был рожден Гор — внук Нут и Геба, сын Осириса и Изиды. Мудрый Тот научил людей Хапи, как с наибольшей рациональностью распределить дни солнечного года на недели, малые и большие, месяцы, а также сезоны и части. Неделю малую составляли пять дней, из чего следует, что Тот, выходит, ее-то и выиграл у лунной богини. Большую неделю, десятидневку, или декаду, составляли две малые недели — пентады. Поскольку продолжительность месяца составляла 30 дней, то, значит, в него включались 3 большие недели или соответственно 6 малых. Год продолжался 12 месяцев и подразделялся на 3 сезона по 4 месяца в каждом. Период от июля до ноября совпадал с разливом Нила; с ноября по март производился посев семян во влажный ил, который оставляла река в долине после окончания наводнения, и шло созревание злаковых растений; с марта по июль велись жатва и обмолот. Все сельскохозяйственные работы следовало, однако, завершать до последней пентады, присоединенной к году Тотом после удачной игры с богиней Луны. На эти дни — «те, что над годом», или, как их потом определяли чужестранцы-греки, «эпагомены» — приходились самые торжественные праздничные дни года, когда все славили рождение великих богов. Год, кроме того, делился на две части. В начале его Плеяды ровно в полночь проходили на юге, занимая наибольшую высоту над горизонтом. Вторая половина года начиналась в момент вечернего восхода в ноябре созвездия Плеяд. В это время, когда Хапи готовился отступить к своим берегам, свершались празднества поминовения и почитания умерших. Исключительная значимость для культа мертвых придавалась также моменту самого нижнего над горизонтом прохождения звезды Альфа Дракона, «Полярной звезды» того далекого времени. Значительно мудренее приходилось жрецам считать время по лунным месяцам из-за непостоянства самой богини Луны, усугубленного к тому же досадным проигрышем Тоту пяти дней, вследствие чего лунный год и оказался на декаду короче солнечного. Чтобы совместить разные по величине годы — лунный и солнечный, даже многоопытный Тот основательно поломал голову, прежде чем добился удовлетворительного результата. Но должны же были люди уметь определять дни празднеств и в соответствии с лунными фазами! А фазы эти были так переменчивы из-за того, что путешествующую на небесной барке Луну преследовал в Дуат гигантский кабан. Он около 17-го дня каждого месяца надкусывал ее, после чего полная Луна бледнела и, в агонии уменьшаясь, умирала. Она исчезала с Неба на два-три дня. Это была страшная пора еще и потому, что именно в такое скорбное время на ослепительный солнечный диск мог вдруг среди бела дня наползти черный диск — змий Апоп, настигнув Солнце, пытался проглотить его. Случалось и так, что кабан не надкусывал, а проглатывал Луну, из-за чего она покрывалась тенью или становилась красноватой, как бы облитой кровью. Тоту пришлось подстраивать лунный календарь к солнечному, учитывая многие обстоятельства. Для совмещения счета времени по Солнцу и Луне он выбрал срок в 25 лет по 365 дней в каждом. Такой период Тот выбрал не случайно: количество дней в нем (9125) укладывалось в целое число лунных месяцев (309). Но это было еще полдела. Теперь следовало подходящим образом рассредоточить месяцы по лунным годам, количество которых должно было составлять одинаковое с солнечными число лет. Здесь-то и показал Тот, что в знании математики и астрономии не уступает знаменитым патриархам допотопных времен: 9 лунных лет он объявил большими, включив в них по 13 месяцев, а 16 лет — малыми, или обычными, составив каждый из 12 месяцев. И еще две примечательные тонкости: 1) поскольку Тот, как и патриархи, знал, что лунный месяц длится около 29 с половиной дней, то 2 соседних в году месяца составил поочередно из 29 или 30 дней, что позволяло обойтись при счете времени без малоудобных дробей, ибо в двух месяцах в сумме получалось целое число дней — 59; 2) чтобы 25-летний лунный цикл составлял те же, что при счете по Солнцу, 9125 дней, Тот предложил два последних месяца каждого пятого года считать по 30 дней. Любой, произведя несложные подсчеты, сможет убедиться как в простоте, так и в точности календарных расчетов мудрого Тота. Тем большее удивление чужестранца должно было вызвать то обстоятельство, что ему как будто осталось неведомо познанное еще в допотопные времена — длительность солнечного года совсем не составляет целое число дней — 365. Ведь недаром же благочестивые патриархи добавляли к солнечному календарю один день в 4 года и вычитали по одному дню каждые 150 лет. Между тем слепое исполнение предписания Тота в стране Хапи приводило к ошибке в счислении времени, которая не могла пройти незамеченной: уже за 40 лет отставание календаря составляло целую декаду, за 100 лет — 24 дня, а к третьему поколению недостача оказывалась равной трем декадам — целому месяцу! За тысячелетие «задолженность» приближалась к двум третям года и составляла 8 месяцев и 2 дня. Возможно ли, чтобы столь тонкий учетчик времени, как Тот, божество науки и письменности, не обратил внимания на то обстоятельство, что через каждые 4 года один из самых торжественных праздников, Новый год, посвященный самому Тоту, приходилось отмечать на день раньше, в то время как летнее солнцестояние, совпадающее с не менее значительными событиями — разливом Хапи (Нила) и утренним восходом прекрасной звезды Сотис-Изиды, напротив, сдвигалось по календарю на день позже? Поскольку у Тота на учете был буквально каждый час суток, то наступление в каждый год летнего солнцестояния на целых 6 часов позже, чем 365 дней назад (из чего и складывались за 4 года недостающие сутки), жрецы-астрономы не могли оставить без внимания. Такое невозможно вообразить хотя бы потому, что в конце концов наступала пора и привычные по чередованию места сезонов в году нарушались до неузнаваемости, а значит, определенного вида сельскохозяйственные работы земледелец вынужден был производить совсем не в те месяцы, в какие они обычно осуществлялись. Названия месяцев не подсказывали более, какой наступит сезон в природном круговороте, — следует ли ожидать жару или дуновение прохладного ветра со стороны моря, готовиться ли к севу, к жатве хлеба или к сбору винограда. Отступая, день нового года беззаботно странствовал по знакам зодиака, и, значит, возвращения времен года не приходились на одни и те же числа. Счисление времени жрецами, как это ни прозвучит странно, велось как бы вне обычных времен года. Для простого земледельца, однако, начало года всегда наступало в день разлива Нила, поскольку он, очевидно, все же придерживался при ориентации во времени «природного крестьянского календаря». В сущности, «просчет» Тота приводил к парадоксу: одно и то же число оказывалось со временем в любой из возможных точек календаря! Подозрения в досадном упущении или даже просчете многомудрого Тота при разработке им календаря лишены, однако, оснований. Как можно осмелиться подумать, что он, самый искушенный в познании хода времени, не заметил четвертинки дня, что набегает за солнечный год сверх 365 суток? Ведь уже через четыре года летнее солнцестояние приходилось бы не на первое, а на второе число месяца тота. И тем не менее чужестранец мог бы убедиться воочию в ближайшие же часы на одной из главных церемоний, которые сопровождали ритуал коронации при вступлении на престол нового фараона: жрецы храма Изиды, звездной богини Сотис, с ревнивым удовлетворением готовились заслушать освященную вековыми традициями клятву — «не делать ни одного нарушения в календаре, не вставлять в него ни одного дня, не изменять праздников, всегда держаться 365 дней». Кто посмеет усомниться в том, что в этих клятвенных заверениях сына Солнца и владыки земли Хапи отражена смиренная покорность считаться с непреклонным пожеланием Тота ни в коем случае не учитывать того времени, что набегает за год сверх некогда установленных им 365 дней. Фараон, догадываясь, чем может грозить ему нарушение завета, мог утешить себя лишь тем, что традициями благосклонно дозволялось вести учет следующих за вступлением на трон лет по годам его правления. Чужестранец, размышляя о причуде Тота, мог бы прийти к выводу, что в стране Хапи отдают предпочтение столь, кажется, очевидному в грубости (с астрономической точки зрения) календарю, учитывая удобство счисления времени по простым, стандартизованным, легко соотносимым друг с другом единицам измерения. В самом деле, куда уж проще, когда знаешь, что каждый месяц всегда составляет 30 дней, которые распределяются на 3 декады (или 6 пентад), и не нужно помнить, что каждые 4 года календарь следует дополнять особым днем, а через 150 лет, напротив, один день не принимать в расчет. Поэтому если бы вдруг, допустим, потребовалось определить, сколько дней разделяют даты, отстоящие друг от друга на 100 лет, то жрецам Хапи в отличие от грека или римлянина не пришлось бы долго ломать голову. Постоянный календарь и стандартная система измерения времени позволяли решить задачу просто — следовало только умножить 100 на 365 — и ответ получен! Но если мнение чужестранца о стремлении жрецов Хапи к облегчению своих трудов при подсчете дней было и не лишено резона, то, определенно, лишь частично, да и то при учете только ближайших, положим в пределах жизни одного поколения, перспектив. В остальном же «блуждание» сезона по месяцам, как сказали бы римляне — annus vagus, «блуждающего года», сдвиги чисел по календарю из-за непостоянства их позиций, смещение по тем же причинам сроков празднеств держали отвечающих за точность времени жрецов-астрономов в неустанном напряжении. Недаром и сам календарь назывался — «перечень дней года с указанием праздников», а усердные в дотошности астрономические наблюдения нацеливались в первую очередь на установление (возможно, предвычисление?) дат «подвижных» праздников и на предсказание времени, когда могло ожидаться лунное или солнечное затмение. В особенности внимательно приходилось следить за моментами наступления главных событий: имеющего жизненно важное значение летнего солнцестояния, которое, сопровождаясь утренним, предваряющим появление Солнца восходом Сотис-Изиды, давало знать о начале в ближайшие пентады разлива плодородных вод Хапи и новогоднего праздника Первого тота. Как раз особенности сдвигов по датам календаря Тота храмовых культово-обрядовых торжеств по случаю явления на Небе Сотис-Изиды и самого могучего в году летнего Солнца, а также наступления Нового года определенным образом осмысливались и определяли священный характер принятого способа счисления времени. Сакральная суть календаря в том и состояла, что череда празднеств в нем не могла быть приурочена к неподвижным числам. В частности, считалось весьма благотворным, что каждый без исключения день календаря мог стать праздником Сотис-Изиды, которая, переступая каждые четыре года на «шаг» вперед, освящала своим первосиянием все дни года (даты солнцестояний по ходу лет переходили на все более поздние времена относительно чисел месяцев). То же самое происходило с новогодним праздником, но он освящал своими торжествами дни, отступая по шагу назад в те же четыре года (начало года по ходу лет переходило на все более ранние времена относительно чисел месяцев, сдвигаясь с лета на весну, с весны на зиму, с зимы на осень). Вместе с тем утреннее восхождение Сотис-Изиды было превосходным небесным знаком, сигнализирующим об истинном по сезону времени наступления поры летнего солнцестояния. В итоге получалось так, что ни один из дней календаря не оставался «в обиде» на Тота, поскольку с ним в определенный момент совпадали восход Сотис-Изиды, Солнца летнего солнцеворота, разлив Нила и новогодние празднества. Правда, такого счастливого мига приходилось ожидать очень долго — 1461 год по 365 дней каждый. Понятно ли теперь, наконец, почему с таким воодушевлением в храме Встречи середины Солнца жрецы встречали новый восход звезды Сотис: по прошествии 1461 года грядущий день 19 июля 2782 года до нашей эры (если, разумеется, определять дату по современному летосчислению!) определял событие, по значимости его в календаре Тота едва ли с чем сравнимое, — календарное (в пределах одного дня) совмещение праздников Сотис-Изиды, летнего солнцестояния и Нового года. Грек более позднего времени сказал бы, оценивая подобное событие: наступили апокатастазы — возвращение через 1461 год первого тота к периоду, в общем близкому летнему солнцестоянию и к суткам утреннего восхода блистающей Сотис, которая возвещала предстоящий разлив священного Хапи. Жрец храма Встречи середины Солнца думал иначе — завершился старый и начинается новый Год Бытия продолжительностью в 1461 обычный (по 365 дней) год. В появлении Сотис на рубеже двух Лет Бытия он усмотрел бы скрытый от непосвященных смысл «общемирового порядка». Можно ли при знании всех этих обстоятельств говорить о грубости (в астрономическом отношении) подобной системы счисления времени? Нет, тут, пожалуй, больше подойдет иное определение — по-жречески изощренная и вычурная в характерном своеобразии система! Разговор о грубости календаря страны Хапи представляется неуместным еще и потому, что поневоле наводит на ошибочную мысль о несовершенстве наблюдений жрецов-астрономов за Небом и неточности временной фиксации разного рода явлений, связанных с ним. Но если бы чужестранец пробыл в храме Встречи середины Солнца всю ночь с 18 на 19 июля 2782 года до нашей эры от вечерних до утренних сумерек, то он узнал бы, с какой точностью и тщательностью отмечали наблюдатели не момент наступления каких-то там сезонов, месяцев, декад или пентад, а истечение буквально каждого часа времени. Это была «ночь ночей», поскольку она предшествовала Празднику вечности, Великому празднику Сотис-Изиды. Поэтому на горизонтальной площадке храма Встречи середины Солнца, вознесенной над всей округой, уселись напротив друг друга жрецы, которые славились особенно острым зрением, а также терпением и усердием в наблюдениях за звездами. Каждый из них держал в руке визирный прибор, по форме своей напоминающий один из знаков записи слова «год», а в этот иероглиф как составная часть входил, кроме того, не менее многозначительный знак — «Солнце». Один из жрецов смотрел строго на юг, дожидаясь момента, когда избранная для наблюдения звезда достигнет наибольшей своей высоты над горизонтом, а взгляд другого замер над топкой, как нить, воображаемой линией, рассекающей небосвод на севере. Там можно было наблюдать то, что никогда не увидишь на юге — звезда, максимально опустившись к горизонту, вдруг начинала подъем вверх. Задача состояла в том, чтобы не упустить момента, когда наблюдаемые звезды окажутся над левым глазом восседающего напротив, над макушкой головы и, наконец, над его правым глазом. После этого стоило лишь сверить результаты наблюдений со специальными таблицами, в которых содержались сведения о положении звезд относительно заветных точек головы в различные часы ночи, и можно было узнать дату наступающего дня. Ночных часов считалось 12, на сумерки вечерние и утренние отводилось 2 часа, на день оставалось 10 часов. Охватывающие сутки 24 часа не только неодинаково распределялись между ночью и днем, но и продолжительность их тоже отличалась некоторой неравномерностью. Предваряющее восход Солнца первое появление на востоке Сотис-Изиды должно было знаменовать окончание 12-го часа ночи, вслед за которым наступал час утренних сумерек. Последующие 10 дней, т. е. целую декаду, Сотис-Изиде предопределено было обозначать все тот же последний час ночи, пока ее, из-за слишком раннего появления в темноте на небосклоне, не сменяла в этой роли другая звезда, которая вспыхивала в небе на мгновения перед все теми же утренними сумерками, но уже позже. Это была та некогда счастливо замеченная жрецами звезда, которая восходила перед утренними сумерками на 10 дней позже Сотис-Изиды, а до этого, как и она, оставалась в невидимости в точности те же 70 дней. На последующие десятидневки служители храмов отбирали другие звезды с такой же особенностью. Эти звезды при своем появлении на небосклоне в пору темноты каждый раз, сменяя друг друга, скачком возвращали конец ночи к предрассветным сумеркам. В частности, судьба Сотис-Изиды в последующем (после 10 дней определения 12-го часа ночи) была такой: она, видимая в темноте все ярче, при своем появлении на небосклоне знаменовала сначала 11-й час, а затем и более ранние часы ночи. В течение 70 дней восходы священной звезды все более должны были отступать в глубь ночи, приближаясь к часу, когда при восходе Солнца она оказывалась точно на юге, т. е. на линии небесного меридиана. Появление ее здесь в течение 10 дней определяло, естественно, все тот же последний, 12-й час ночи. В последующие же декады — 11-й, 10-й, 9-й и т. д. часы ночи, пока не наступал 1-й ее час, т. е., когда заходило Солнце, Сотис-Изида оказывалась на небесном меридиане, определяя момент наступления ночного времени после вечерних сумерек. Так, в течение 120 ночей Сотис-Изида наблюдалась на юге «в середине Неба» как «кульминирующая звезда», т. е. пересекающая в определенный момент небесный меридиан. Заключительный период видимости ее на Небе охватывал 90 дней. Тогда она при заходе Солнца блистала в западной части Неба уже за пределами небесного меридиана, ночь от ночи приближаясь к западному горизонту. Наконец, наступала пора, и Сотис исчезала с небосклона на те самые 70 дней, когда она, как считалось, находилась в Преисподней, в Дуат. Итак, жизнь Сотис-Изиды на небе охватывала 10 + 70 + 120 + 90 = 290 суток; в небытие Дуат, в Доме бальзамирования светил, она находилась 70 суток. Общее число этих дней 290 + 70 = 360 по продолжительности в точности соответствовало году, который был известен до «благочестивых патриархов» и до знаменитого выигрыша Тотом у богини Луны пяти добавочных дней.

В том же ритме «жили» еще 35 старательно отобранных жрецами звезд пояса Неба, лишь отчасти совпадающего с зоной эклиптики (жрецы любили повторять, что Солнце находится «на пути» этих звезд, но все же пояс их размещается южнее). Такие звезды, предназначенные для измерения часов ночного времени, назывались деканами, а отбирались они так, чтобы при восходах отстоять друг от друга по времени появления над горизонтом на один час. Естественно, так же с интервалом в час эти звезды пересекали в положенное время небесный меридиан или уходили за край земли на западе, в Дуат. Для «тех, что над годом», пяти дней, отыгранных Тотом у богини Луны, выбирались дополнительные звезды. Звезды-деканы отсчитывали ночные часы, подсказывая время начала храмовых служб. Они же, занимая соответствующее место на Небе, с высокой точностью определяли и обычные даты по календарю Тота — декады, месяцы и «блуждающие» сезоны года. Правда, из-за вековых колебаний земной оси, о чем, разумеется, пока никто не подозревал, со временем наступало расхождение в моментах восхода декана и наступления должного дня обычного календаря. Но жрецы, хранители точного времени, были начеку и, как можно подтвердить документально, меняли в таблицах порядок расположения деканов, выравнивая в положенный срок несоответствия, накопленные за тысячелетия. Первые из сохранившихся списков деканов относятся к середине III тысячелетия до нашей эры, т. е. ко времени, весьма близкому 2782 году до нашей эры, когда праздновалось наступление одного из восьми известных Геродоту Годов Бытия. В последующем в разное время в состав списков входили разные звезды или звездные скопления. Они разъединялись или, напротив, сливались друг с другом, в ряд деканов вводились новые звезды. Однако 17 деканов упоминаются во всех известных египтологам списках от самых древних до составленных в греко-римскую эпоху. Такие изменения, астрономически как раз и объясняемые колебаниями земной оси, позволили, произведя соответствующие расчеты, установить, что по крайней мере в самом начале III тысячелетия до нашей эры система деканов использовалась устойчиво. Картина размещения и движения по Небу 36 деканов выглядела следующим образом: при заходе Солнца, положим, накануне дня летнего солнцестояния перед Праздником вечности на востоке жрецы наблюдали 8 деканов, один из которых располагался точно на юге, т. е. на небесном меридиане. Он-то и определял первый час ночи. Остальные 7 деканов, следуя друг за другом (как сказали бы теперь — «подчиняясь суточному движению неба с востока на запад»), оказывались на меридиане позже и определяли последующие 7 часов ночи. Эти моменты и фиксировали со всем возможным тщанием жрецы, сидящие напротив друг друга на астрономической площадке храма. Но за 12 часов ночи из-за восточного горизонта поднимались один за одним еще 12 деканов, которые назывались «работающими среди ночи». В то же время 9 деканов западного небосклона один за другим с интервалом в час скрывались за горизонтом. Итак, чужестранец мог убедиться, что в течение ночи жрецы храма Встречи середины Солнца наблюдали 29 деканов. Из них 17 были видны на Небе сразу после захода Солнца, а 12 восходили на востоке в течение ночи. Ясно, что 7 деканов так и не появлялись на небосклоне. Они оставались в «небытии», в Дуат, где их, как могли бы объяснить гостю жрецы, 70 дней подвергали «бальзамированию», что, как считалось, непременно должно было предшествовать возрождению, первому перед восходом Солнца появлению их на востоке в час накануне утренних сумерек. Жрецы думали, что из этих 7 деканов 2 находились «в устах» Дуат на западе, готовые быть проглоченными Преисподней, а 2 — «в устах» Дуат на востоке Двухголовая, подобно Тяни-Толкаю, Преисподняя готовилась «выплюнуть» их на небосклон. В самой Дуат без каких-либо надежд на возвращение в ближайшие десятидневки пребывали 3 декана. Таким образом, «жизнь» каждого декана в небесном колесе звездного времени определялась четырьмя периодами — 80 суток до начала «работы» на меридиане в качестве знака определенного часа ночи, 120 суток — «работа» на меридиане именно в таком качестве, 90 суток — пребывание вне меридиана на западе и 70 суток после исчезновения с горизонта и «ухода в Дуат». Из 29 деканов, видимых на Небе, один каждую декаду «рождался», а один каждую декаду «умирал». Жрецы по такому случаю вещали: «звезды умирают, звезды начинают жить каждый десятый день».

Чужестранец мог убедиться, что при наличии таблицы деканов можно по кульминации каждого из них определить месяц, десятидневку и час ночи, когда производится наблюдение. А если бы ему вдруг действительно позволили заглянуть в сами таблицы, то он бы увидел странные рисунки многочисленных фигур людей и животных, которые, судя по всему, образно представляли звезды в созвездия Неба. Каждый из 36 деканов находился под покровительством особого божества, олицетворяющего соответствующую звезду. Таблицы представляли собой своеобразный «диагональный календарь» ночных часов десятидневок — 36 (по числу деканов) колонок подразделялись на 12 (по числу ночных часов) строчек, а пентада дней, «тех, что над годом», образовывала особую секцию. Названия деканов постепенно переходили из одной колонки в другую, отражая течение времени, и, как звезды на небосклоне, поднимались при этом по диагонали на ступеньку выше, поскольку призваны были определять уже более ранний час ночи…

— Сотис Великая блистает на Небе и Нил выходит из берегов! — раздался торжественный возглас жреца с площадки наблюдений храма. Радостные крики огласили окрестности: взгляды, обращенные на восток, уловили на розовеющем предрассветном Небе, как сверкнула ослепительно ярким и чистым, как алмаз, всполохом света Царственная звезда утра, Лучезарное Солнце звездного Неба, не знающая себе соперниц в блеске божественная Сотис-Изида. Это была одновременно и светлая слеза, благословляющая первый день Года Бытия. Сотис-Изида роняла ее в Великую реку Неба, Млечный путь, и, как первопричина и провозвестник плодотворящего наводнения, становилась этой последней каплей, которая, попав затем через потоки, которые струятся по уступам гор, поддерживающих Небо, в великую реку Земли, Хапи, должна была сотворить наконец его благостный разлив. Радость жрецов была безмерной — сила блеска лучистой слезы божественной, олицетворяющей плодородие страны Сотис-Изиды, как и чуть розоватый, с нежным оттенком зари цвет утренней звезды, позволяли надеяться, что предстоящий разлив Хапи будет могучим, а значит, обильные плоды даст земледельцу принесенный водами его ил. И да возрадуется тому сердце нового государя! У алтарей богини, воздвигнутых перед храмом Встречи середины Солнца по случаю великого события, приносились в жертву козлы и перепела. Они призваны были отвратить вредоносное влияние лучей Сотис на людей и животных. Каким долгим из-за нетерпеливого желания стать свидетелем редчайшего в жизни мира события было ожидание рождения красы Неба Сотис-Изиды и как досадно короток этот несравненный миг счастья лицезреть ее в священный день Праздника слезы.

Чуть приблизился к горизонту восходящий из Дуат Ра, ослепительные лучи его стерли румянец с небосклона, и уже в потоке их, едва только сверкнув, утонула алмазная слеза богини. А вот и само Солнце, как раз вступившее в пору середины своей годовой жизни и потому полное сил и могущества,встало над зубчатой кромкой окраинных гор Земли. Свет его озарил бородатую скульптуру Ра — изваянное в камне изображение дневного светила, выставленное по случаю вселенских торжеств на площадку перед храмом Встречи середины Солнца, и пышную в многоцветье процессию из сановников и бритоголовых жрецов, которые сопровождали живое, в человечьем обличье, воплощение небесного бога — фараона первого дня Праздника вечности. Владыка направлялся, следуя аллеей сфинксов, к берегу Хапи, готового принять слезу Сотис-Изиды и разлиться «морем» до горных окраин обитаемого мира… А завершались эти празднества лишь к окончанию лета, когда с появлением в небе Млечного пути, исчезавшего на время жарких месяцев, новый фараон и его семейство принимали участие в торжественном воздвижении «дэда». Так назывался священный шест, а по существу, столп или дерево с характерной рогулькой наверху, напоминающей по виду примечательное раздвоение одного из концов Млечного пути. И действительно, ритуальный акт поднятия дэда на Земле призван был символизировать «возрождение» на Небе «звездного столпа» или «звездного древа», каким виделся древним египтянам Млечный путь. Четыре веревки, с помощью которых поднимался и поддерживался столп, отражая движение светил в космосе, были спирально противолежаще закручены на концах. Они направлениями своими ориентировались, судя по всему, на крайние по горизонту точки восходов и заходов Солнца. Четыре деревянные подпорки (на севере и юге, на востоке и западе), определяя страны света и равноденственные точки восходов и заходов Солнца, придавали дэду устойчивость. Возрожденный мир Неба приобретал теперь желанную стабильность и прочность.

От времен первого фараона за 341 поколение людей мастера небесных тайн, как сообщает Геродот, сподобились 8 раз наблюдать в утро дня летнего солнцестояния восход блистательной Сотис-Изиды, возвещающей разлив дарующего жизнь Нила на рубеже «Годов Бытия». По крайней мере, за эти 11340 лет письменные документы о том сообщают трижды. Это в самом деле случалось в 2782 и 1322 годах до нашей эры и в 138 году нашей эры. И все годы бритоголовые с безграничным усердием служителей богов днем и ночью неустанно следили, как по часам, дням, декадам, месяцам и сезонам истекает гигантским кругом нескончаемая, впадающая сама в себя река времени. «Сама в себя» потому, что через 1460 лет ей вновь предстояло возвратиться к великому изначальному исходу, где принято было торжественно чествовать вечность божественного мироздания. Пусть все будет так. Но не перестает занимать вопрос — отчего, обладая изощренными в тонкостях приемами наблюдений за Небом и владея невиданным астрономическим богатством — накопленным за тысячелетия объемом сведений о закономерностях движения Солнца, Луны, планет, звезд и созвездий, жрецы страны Хапи тем не менее упорно не хотели замечать конечно же очевидного для них несоответствия длительности их года в 365 дней с истинной его продолжительностью? Наивно думать, что за этой странностью скрываются, положим, всего лишь опасения нарушить священные заветы многомудрого Тота или желание придерживаться такого календаря, который позволяет с наибольшей простотой и удобствами считать время. Что касается того, замечено ли было жрецами несоответствие в длительности их года и истинного, то подозрения в грубости астрономических наблюдений и расчетов египтян можно опровергнуть документально. Так, неизменно отмечались расхождения между праздниками Нового года по «дню рождения Солнца», который определялся предваряющим появление дневного светила утренним восходом Сотис-Изиды, и по первому дню гражданского года — первому тота! С накоплением расхождений устраивались празднества, которые нумеровались, и потому можно представить, к каким особо значимым срокам их подстраивали. Известно, в частности, что одно из таких празднеств происходило через 120 лет после начала Божественного года, и не составляет труда понять почему: к этому времени расхождение (из-за отсутствия правила високоса) достигало ровно трех декад — одного месяца. В другой раз такой же праздник отмечался через 400 лет. К этому времени расхождение достигло 100 дней. Итак, складывалась парадоксальная ситуация: жрецы старательно подсчитывали накопленные за века ошибки, устраивали торжества по случаю круглого числа дней, которые складывались из них, а поправки в календарь отчего-то не вносили! О значительности скрывавшегося за подобным «упрямством» свидетельствуют, помимо клятвы восходящего на трон не менять календаря, неизменные провалы попыток «подсказать истину» будто бы совершающим ошибку храмовым астрономам. Вразумлять их пытались как владыки завоевателей-чужестранцев, так и одержимые тщеславием собственные правители. Впрочем, побуждения правителей объясняются, наверное, не столько тщеславием, сколько желанием избавиться от постоянного опасения пасть жертвой жречества, которое под благовидным предлогом требований культа могло при наступлении определенного календарного рубежа «законно» избавляться от неугодного клану священнослужителей государя и его светского окружения. Как бы то ни было, но в 1864 году при изучении развалин Танитского храма археологи обнаружили каменную стелу с 12 горизонтальными строчками иероглифов. Текст гласил, что царь гиксосов Салитис (который в XVIII веке до нашей эры покорил Египет) проводит календарную реформу. Отныне он требовал добавлять каждые четыре года по одному дополнительному дню, выравнивающему ход времени. Трудно сказать, оказались ли жрецы послушными воле Салитиса. Но известно, что, когда через 100 лет гиксосы были изгнаны из страны Хапи, время продолжали считать по календарю, «установленному Тотом». Вторую попытку изменить календарь предпринял через полторы тысячи лет, т. е., по существу, через Великий год, фараон Птолемей III Эвергет. О том поведала плита, обнаруженная в развалинах храма, построенного некогда в дельте Нила около города Канопа. Текст, выбитый на стеле и известный у археологов и историков античности как «канопский декрет», рассказал о том, что Птолемей III Эвергет объявил в день своего рождения 7 марта 238 года до нашей эры календарную реформу с целью выравнивания счета времени: «Так как Сотис за каждые 4 года уходит на один день вперед, то, чтобы праздники, празднуемые летом, не пришлись бы на будущее время на зиму, как это бывает и как это будет, если год будет и впредь состоять из 360 и 5 добавочных дней, то отныне предписывается через каждые 4 года праздновать праздник богов Эвергета после 5 добавочных дней и перед Новым годом, чтобы всякий знал, что прежние недостатки в исчислении времен года отныне верно исправлены царем Эвергетом». Нельзя не отдать должного толковости разъяснения владыкой астрономического существа дела, что свидетельствует о достаточной осведомленности его в вопросах не только дел земных, но и небесных. Скромностью он явно не страдал, поставив своих богов в один ряд с величайшими богами страны Хапи, когда «свой день» вклинил между 5 добавочными днями и днем Нового года, которые отмечались с особой торжественностью. Птолемей стал одним из первых смертных, кто пожелал увековечить свое имя с помощью календаря. Но тщетно — жрецы отвергли реформу и последующие два века оставались верными «заветам Тота». В 26 году до нашей эры, когда Август завоевал Египет и превратил его в римскую провинцию, в Александрии был введен календарь, который ничем не отличался от того, что предлагали 17 веков назад владыка гиксосов Салитис и 2 века назад Птолемей III Эвергет. По иронии судьбы календарь этот уже не был освящен именем Птолемея, поскольку считался принятым в Риме Юлием Цезарем. Но и усилия Великого Августа по уничтожению «календаря Тота» оказались тщетными. Потребовалось еще почти полтысячелетия, пока древние традиции египтян в счете времени не оказались сломленными окончательно. Жрецы между тем успели в 138 году нашей эры отпраздновать в последний раз приход на Землю нового «Года Бытия». Все это, однако, vanitas vanitatum, суета сует, как любил говорить К. Фламмарион, наблюдая за «шумливыми честолюбцами», которые проводили жизнь «в борьбе за мишурный блеск и за смешные титулы, за разноцветные украшения». Ибо что может думать о «смешном минутном тщеславии философ, если он сравнит детское взаимное соперничество с величественным делом Природы»[10]. Поэтому при размышлении о том, почему так настойчиво жрецы Хапи отвергали идею високоса, крепнет уверенность, что Птолемей III Эвергет был слишком самонадеян в неосведомленности, когда писал в своем декрете о «прежних недостатках в исчислении времен года». Терпимость к таким, кажется, очевидным недостаткам может быть объяснена, помимо культово-религиозных соображений, лишь жадным стремлением к бережному сохранению особо сокровенных знаний, заложенных в понимании основ самого миропорядка, как он мыслился и воспринимался жрецами Древнего Египта. В чем, однако, могло заключаться существо этих знаний в связи с Годом Бытия, идея которого, надо полагать, до мельчайших волоконец была соткана из материи высоких астрономических познаний классической первобытности Египта? Отыскивая ответ на столь сложный вопрос, следует обратить внимание на связь с «Праздником вечности» не только Солнца и Сотис, что широко известно, но и Луны, а также сиятельной красы утреннего и вечернего Неба — «блуждающей звезды», Венеры. И тут выяснится, что исключительную роль для них играет временной цикл продолжительностью не в 4 года, как в случае с Солнцем и Сотис, а вдвое больший период — 8 лет, когда «неучтенными» оказывались 2 дня високоса. «Благо игнорирования» их для Луны, оказывается, сводилось к тому, что по истечении 8 лет при длительности каждого года в 365 дней на Новый год приходилась близкая фаза Луны. «Желательность пренебрежения» двумя днями високоса при обращении к особенностям появления в Небе Венеры определяется тем же соображением — возможностью именно при таком счете времени гармонично совмещать ее циклы с солнечным восьмилетием. Оказывается, 5 периодов обращения Венеры по количеству дней близко соответствуют числу суток в 8 годах по 365 дней в каждом (≈584 X 5 = 2920; 365 X 8 = 2920). Это обстоятельство приводило к тому знаменательному событию, что один раз в 8 лет появление на небосклоне Венеры счастливо, как считали жрецы, совпадало со священным праздником Нового года. Но как начало его в календаре Тота передвигалось (из-за неучета високоса) на разные сезоны, так же синхронно в медлительности перемещались стрелками небесных часов точки восхождения Венеры по «зодиакальному кольцу» Неба. Иначе говоря, лишь приняв продолжительность года в 365 дней, можно было добиться совмещения года земного и периодов обращения Венеры, когда она то на 8 месяцев и 5 дней принимала обличье «вечерней блуждающей звезды», то на те же 8 месяцев и 5 дней становилась «утренней блуждающей звездой», то таинственно исчезала на 7 дней или на 3 месяца. Итак, если утренний блеск Сотис благословлял каждые 4 года очередной день «уходящего вперед» календаря, ибо сдвиги в нем определялись временем солнцестояний, то Луна и Венера каждые 8 лет осеняли своим сиянием новогодние дни «отступающего назад» календаря Тота. Ведь именно в нем не учитывались приходящиеся на каждый год четвертинки дня, из чего в 8 лет и составлялись как раз те 2 дня, которые в противном случае мешали бы гармоничному совпадению с Новым годом каждого восьмилетия определенной фазы Луны и должного для совмещения периода обращения Венеры. Иначе говоря, лишь приняв продолжительность года в 365 дней, можно было добиться гармонического сочетания начала одного из таких солнечных периодов (в данном случае — восьмилетнего) с появлением Луны в примерно ожидаемой фазе и явлением на небе Венеры в ее обличьях вечерней или утренней блуждающей звезды, в которые она периодически рядилась на две трети года. Выходит, Год Бытия в исходе счисления 1460 лет знаменовался, очевидно, не только наступлением солнцестояния, восходом Сотис-Изиды и разливом Нила, но также появлением на небосклоне Венеры и Луны в особо почитаемой жрецами фазе. В таком случае Праздник вечности действительно сопровождался исключительным по эффектности астрономическим явлением, которое и породило культово-религиозную значимость этого дня, полного знаменательных совпадений. И еще одно значительное обстоятельство. В Годе Бытия глубоко скрыта основополагающая идея древних египтян — несопоставимости времени земного и космического. В этом плане ими обращалось внимание на то, что при разделении «Великого года» на 4 части в каждую из них входило 365 лет, а при разделении на 5 частей (число оборотов Венеры, сопоставимое с 8-летним циклом) — 292 года. Совпадение полученных чисел с количеством дней в земном году и с половиной срока обращения Венеры в сутках оценивалось как подтверждение истинности мысли древних мудрецов о несоизмеримости (относительности?) времени обыденного и небесного, когда год земной представлялся в грандиозных временных масштабах бытия природы всего лишь мигом года божественного. Фундаментальную весомость подобного рода мысли в религиозных концепциях египтян трудно переоценить, ибо за нею видятся основополагающие астральные идеи, связанные с представлениями о жизни, смерти и возрождении. В их свете жизнь человека на Земле виделась ничтожно малой по продолжительности, как, впрочем, и по значимости тоже. Именно в этом итоги блестящего решения проблемы уяснения периодичности и соотнесенности наиболее ярких небесных явлений, а также установления на основе понимания их рационального счета времени нерасторжимо слились с постулатами астральной религии, щедро питая культовую и обрядовую символику. Возвращаясь к вопросу, в чем состояла глубинная суть Года Бытия и почему простой солнечный год египтян составлял 365 дней, можно ответить так: эти периоды позволяли наиболее гармонично совместить с Солнцем временные циклы Луны, Сириуса и Венеры, ярчайших «светил-небожителей». Можно не сомневаться, что сложности, которые, наблюдая за Небом, пришлось при этом преодолевать жрецам в ходе решения столь головоломной задачи, не идут ни в какое сравнение с уяснением конечно же простой, давно и превосходно известной им истины, что год в действительности продолжался чуть более 365 суток. Жрецы необычайным по красоте и изяществу ходом мысли достойных учеников шашиста Тота «пожертвовали» високосный день в партии с прямолинейными педантами точного (но лишь по Солнцу!) счета времени. Они создали явно выигрышный, «божественный» в гармонии календарный эндшпиль, в котором на их стороне игровой доски остались, помимо Солнца, Сириус, Луна и Венера! Поэтому хранители сокровенных тайн Неба, почитая в религиозном экстазе все эти светила, обеспечили для себя право требовать от живого, но смертного представителя Ра на Земле — фараона — всякий раз при его вступлении на престол давать клятву никогда и ни при каких случаях не добавлять к году високосного дня. Они употребляли все свое могущество, чтобы дерзко в невежестве посягающие на Год Бытия в страхе оставили свои тщеславные попытки нарушить устои, «завещанные от века многомудрым Тотом». Так жрецы поставили астрономию на службу религиозно-культовым спекуляциям и неустанно заботились о сохранении своего преобладающего влияния в мире людей на тысячелетия вперед. Простым смертным внушалась вера, что им, скромным служителям богов, ведомо все, что в жизни и после нее было, есть и будет, ибо они вразумлены свыше понимать вещие знамения Неба, которое ведет с ними разговор движениями светил, появлением или исчезновением звезд, увеличением или уменьшением света Луны, меняющей фазы, строгими в выверенности путешествиями Солнца меж звезд зодиака. Особо трепетное почтение у сынов Хапи вызывали, разумеется, суждения жрецов о самом волнующем — о посмертной судьбе душ, отошедших в мир иной. Как тут было не почитать с благоговением главные из небесных светил, если знаешь, что при рождении серпа Луны у окраины Страны мертвых на западе души погибших сначала переселялись с земли на эту «небесную барку». Она, меняя фазы, плыла по реке — звездному Небу, направляясь к Солнцу. Затем души, когда умирающая Луна, вновь приобретая вид «небесной барки» — серпа, приближалась на востоке к животворному дневному светилу, переправлялись на Солнце и сливались с главным божеством. Возрожденный через несколько дней серп молодого месяца символизировал обретение умершими новой жизни. Служба звездным богам, однако, ко многому обязывала, и астрономы храмов, усердно исполняя ее, достигли поразительных высот в чисто научном познании закономерностей «жизни» Неба. Среди них, насколько можно судить по красоте и значительности вложенных в Год Бытия астрономических знаний, были поистине выдающиеся умы. Недаром первым в Древнем Египте человеком, кто помимо фараонов и полководцев заслужил право не остаться для человечества в забвении, был сановник фараона Джосера Имхотеп, которому, по мнению Н. И. Веселовского, принадлежит честь разработки системы звездных деканов. Ясное осознание многотысячелетней истории наблюдений за Небом в долине Нила и глубокой сложности духовной культуры древних египтян позволяет с доверием воспринимать сообщения о других достижениях их в астрономии: о точности фиксации 10 дневных часов и 3 сезонов с помощью гномона, отбрасывающего тень на концентрические круги, или посредством лестницы, тени от ступеней которой указывали время дня; о выборе для строительства Мемфиса того уникального по широте места в Египте, где наблюдалось редчайшее и исключительное для звездной астрономии явление — в течение тысячелетий восход Сотис-Изиды (Сириуса) происходил здесь в один и тот же день — 19 июля, чего не случалось на других широтах долины Хапи не только с Сириусом, но и с другими звездами; о наличии в структурах пирамид и храмов «астрономических аспектов»; о знаменитом фиванском золотом в 365 локтей длины обруче, водруженном на вершине гробницы (он был, согласно сообщению Диодора Сицилийского, разделен на 365 частей с обозначениями дней года, указаниями часов восхода и захода светил, а также с предзнаменованиями, которые делали на основании наблюдений их жрецы); о водяных часах Ктезибия в Александрии, которые указывали часы, дни, месяцы, а также созвездие зодиака… Впрочем, в справедливости лишь одного известия придется все же под конец усомниться — в самом ли деле колония халдейских жрецов из далекого Двуречья поселилась некогда поблизости от храма мастеров небесных тайн с целью позаимствовать у бритоголовых познания в астрономии и затем просветить в том своих несведущих соотечественников на берегах Тигра и Евфрата?

Глава IV БОРОЗДА НЕБА
Лунный свет был первым лучом в познании мира. Это была заря, возвещающая собой возникновение науки, которая с течением веков покорила своей власти все звезды, всю необъятную Вселенную.Никола Камиль Фламмарион

Последний луч Солнца ослепительно вспыхнул над кромкой горизонта и почти в то же мгновение погас. В отсветах разгорающейся пламенем розовых красок зари мягкие тени вечера начали неспешно обволакивать семиступенчатую, ярко окрашенную в семь разных цветов башню-зиккурат, высоко вознесенную уступами кладок над обширной долиной Евфрата. Плоская вершина величавого строения упиралась, кажется, в самое Небо, которое стало на глазах наливаться темной синевой ночи. Был канун радостной ночи ожидания «свершения желанного» и «осуществления светлых надежд» после двух ночей печали и раздирающих душу рыданий — двое суток назад в огне лучей Солнца, выплывающего из-за окраины перевернутой чаши Земли, исчез с небосклона тонкий, как до предела сточенное лезвие жатвенного ножа, бледный в смертной агонии серп умирающей Луны. Так случалось ранее на протяжении года одиннадцать раз в конце каждого месяца. Но лишь эта финальная, двенадцатая в годичном круговороте смерть вызвала подобной силы, едва ли выразимое чувствами и словами человеческое горе. Ведь вся округа мира от бездонного поднебесья до вогнутой куполом оборотной стороны Земли, Преисподней, предстала теперь в глазах бессмертных звездных богов глубоко погруженной в мертвое оцепенение безграничной скорби. Печалиться было о чем: Небо лишилось животворного ночного светила, ибо умерло лунное божество Син, а с Земли накануне той же черной ночи, будто проигрывая в лицах драму, что разыгралась в небесах, снизошел по ступеням в мрачные залы глубокого подземного святилища мира мертвых — «Страны без возврата» и «Дома празднеств» — живое на Земле воплощение Сина, сам великий царь.

Облачившись в священные одежды первостатейного жреца, взяв в руки магический, благодетельно действующий жезл «гис-зида» и водрузив на голову такую же, как у небесных богов, тиару, украшенную рогатыми изображениями лунных серпов, он в сопровождении царицы и жрецов храма покинул свои роскошные покои и тронный зал дворца. Всесильный владыка земель Тигра и Евфрата медленно уходил в каменную темень узкого подземелья, а на груди его в свете смоляных факелов поблескивали подвески «знака божественного происхождения», самого драгоценного из ожерелий царской сокровищницы, — изогнутый серп Луны с солнечным кругом, рассеченным крестом, и восьмилучевой звездой Инанны-Венеры по сторонам. Эти символы-обереги величайших богов Вселенной — Сина, Шамаша и Инанны — призваны были охранить господина Страны «черноголовых» от напастей, которые ожидали его в созданных руками людей на Земле залах потусторонней Страны без возврата. Там ему, воплощению не только бога Луны, но и всей Вселенной, предстояло в течение двух ночей (пока в Небе отсутствовал серп Луны) с ожесточением сражаться со злыми духами, а победив их, сочетаться в священном браке с царицей, живым воплощением на Земле блистающей красотой вечерней и утренней звезды Инанны, богини-матери, богини-девы, убийцы, возлюбленной, невесты и жены Сина, т. е. самого государя. На голове «Госпожи Неба» кущей многолистного дерева светло переливался в полутьме подземного склепа причудливый головной убор. Смерть господствовала и справляла свой кровавый пир не только в Преисподней, но и всюду — на Небе и Земле, покинутых богами, а также их земными божественными двойниками — царем и царицей. Расстался с жизнью в сполохах утренней зари страдающий лунный бог Син, а вечером того же дня, когда на западном небосклоне после часа сумерек появились 7 звезд Мулмул, Плеяд, на жертвенном столе жрецов затрепетала под ударами секиры обитательница водной стихии «лунная рыба». Смертная участь поджидала и козла, привязанного к священному дереву, взращенному жрецами у храма. Тут же воздвигали жертвенный стол с вертикально установленной на нем секирой, предназначенной для искупительного убиения земной жертвы. Между тем в залах надземной части храма два дня продолжались культовые церемонии, посвященные великому богу Белу-Мардуку. Его, схваченного накануне, сначала судили, а затем подвергли жестокому бичеванию, вслед за чем последовала мучительная смерть. Жрицы омыли в водах тело мертвого бога, облитое струями крови, которые пролились из пораженного копьем сердца. Они готовились теперь с плачем и слезами унести божество «в гору» храма, чтобы заботу об умершем приняла на себя сама богиня-мать. Оплакивание его продолжит она, и скорбные слезы ее будут истекать из божественных очей, пока не свершится чудо воскрешения. Однако оно, это небесное чудо, произойдет не раньше чем через три дня после смерти лунного серпа. Каждый из жрецов зиккурата, а в особенности те, кто находился в эту третью ночь на верхней площадке храма, откуда велись наблюдения за вещими знамениями Неба, твердо знал главный завет смерти лунного бога Сина: «Три дня он покоится мертвым на небесах. Покоится ли он четыре дня на небесах? Нет, никогда он не покоится четвертый день!» Это означало, что Луна никогда не исчезнет с Неба более чем на три дня. Так повелось с тех незапамятных времен, когда против древних богов-чудовищ — «изначального» прародителя океана Апсу и его детей Мумму и Тиамат — восстали порожденные Тиамат молодые боги Анну, Эа и их сын Мардук. Если не вспомнить о том изначальном состоянии мира, то ничего не поймешь и в происходящем теперь: зачем вдруг Великий царь отправился в подземное святилище «Страны без возврата», для чего он вступил там в сражение с некими врагами, почему с таким нетерпением ожидала исхода этого боя Страна черноголовых, будто он в глубине Земли решал судьбу всего сущего, и почему, наконец, там, в подземелье, владыка Земли должен сочетаться священным браком с царицей. Не обратившись к минувшему, не уяснишь содержания настенных росписей, барельефов и скульптур, украшающих залы храма и дворца, а также смысла картинных оттисков печатей на глиняных листах текстов священных книг. Иначе не понять, почему и без того усердные в наблюдениях за Небом жрецы зиккурата с особым старанием и многократно перепроверяя друг друга вглядывались до боли в глазах в полоску горизонта на западе. Уйдем же в прошлое, к чудовищно далеко отстоящей от современности эпохе безвременья (ибо нечем тогда было измерять время), когда, «воды свои совместно мешая», боги-чудовища упрямо поддерживали состояние первозданного Хаоса. Настала, однако, пора, и юные потомки их, создав для себя жен, порешили внести, наконец, в мир должную гармонию и порядок. Вначале казалось, что новому поколению богов не составит труда расправиться с дряхлыми прародителями-чудовищами — бог Эа убил Апсу, а затем и Мумму. Вот тогда-то к решительному сражению начал готовиться чудовищный дракон — богиня Хаоса Тиамат, которая решила, что пришла ее пора владычествовать во Вселенной. Готовясь поглотить ее всю без остатка вместе с дерзкими претендентами на власть над миром, Тиамат создала себе в помощь 11 монстров — бешеных псов со многими головами, быков и птиц с головами людей, острозубых змей, у которых в жилах вместо крови тек яд, людей с головами воронов, драконов, человеко-скорпионов и рыбо-людей. Все это внушающее ужас воинство возглавило чудовище Кинг, которому Тиамат доверила главное свое сокровище — «Скрижали Судеб» мира Хаоса. Перепуганные натиском чудовищ новоявленные устроители Вселенной не знали, как избежать смерти. Каждый опасался вступить в сражение, и лишь самый юный из богов, Мардук, решился на бой с воинством Кинга и с самой Тиамат. Однако, здраво поразмыслив, он решил, что плата ему в случае победы должна быть достойной. Каждый жрец семиступенчатого храма-зиккурата знал дословно завещанный предками священный гимн «Энума Элиш», «Когда вверху», в котором сохранена для памяти черноголовым обитателям берегов Тигра и Евфрата речь Мардука на совете богов:

Вначале, как и полагается, сразились предводители воинств. На дерзкий вызов Мардука: «Выходи! Мы будем сражаться!» — Тиамат, обезумев от злости, дико взревела, ноги ее задрожали от ярости, а пасть начала изрыгать с огнем проклятья и заклинания. Но когда соперники за право владычествовать над миром «для сражения сблизились», Мардук оказался изворотливее. Он простер над Тиамат сеть, а затем, пустив вперед «Стремительный Вихрь», до поры державшийся сзади, запутал в ней врага. Чудовище-дракон раскрыла огромную пасть, пытаясь проглотить Мардука, но он загнал ей внутрь Бурю, которая стала сжимать ее сердце и не давала сомкнуть челюсти. И наконец, пронзив тело Тиамат стрелами, выпущенными из лука, Мардук без опаски проник в утробу смертельно пораженного дракона и разрезал сердце:

Мардук не стал затруднять себя долгими поисками подходящих «строительных материалов»: разрубив богатырским мечом распростертую у ног бездыханную Тиамат, он поднял одну часть тела вверх, превратив ее в небесный купол, «с зенитом в сердце его», а другую определил быть земною твердью. Так и стоит она с тех пор как перевернутая вверх дном, неохватная единым взглядом круглая чаша или, лучше сказать, лодка куфу с запрятанной внутри нее пещерой, «Страной без возврата», обителью мрака и смерти. Небо, полое полушарие из твердых пород драгоценных камней, доступное взору людей лишь нижним слоем, было передано Мардуком во владение Анну; Землею стал по его воле владеть Энлиль, а водами заведовать — мудрый Эа. На слегка выгнутой поверхности Земли Мардук создал сушу, реки и моря, взрастил растения. Из крови и костей воинства Тиамат, перемешанных с глиной, он вылепил разных животных. Тогда же были сотворены и люди. По совету Эа Мардук создал их из смеси глины, костей и крови, выпущенной из связанного, осужденного и приговоренного богами к смерти Кинга, бывшего владетеля «Скрижалей Судеб». Человеку была определена судьба трудиться, возделывая на Земле злаки, ухаживая за скотом и занимаясь ловлей рыбы. Боги же велением Мардука и в соответствии с их желаниями освобождались от труда. Им предстояло лишь отдыхать да принимать в качестве пропитания те жертвы, которые приносили на культовые алтари «черноголовые». Для того чтобы обезопасить обитающих на тверди земной от потопов водного Хаоса, Мардук отделил выкованным из меди куполом «нижние воды» от небесного потока, который по глубокому рву в вечном круговороте стал обтекать Землю вокруг, как бы впадая сам в себя. За рвом устроитель мира соорудил прочную стену из островерхих гор. Они стали служить падежной опорой для Неба, края которого, закрепленные для прочности колышками, соприкасались с горами где-то там, в неведомом смертным далеком далеке, за бескрайним горизонтом. Стена ограждалась от «вод» высоким и широким валом. Священной мировой горой поднялась в центре созданной Мардуком Вселенной Земля. На окраине ее располагалась таинственная пещера с двумя входами-выходами, обращенными в разные стороны.

Затем Мардук приступил к сотворению «стоянок для великих богов» — божественных по красоте и совершенству светил, пути которых в Небе призваны были исключить блуждания при странствиях и «чтобы никто не ошибался в выборе дорог жизни». Среди светил несравнимую значимость сразу же приобрело переменчивое в ликах небесное чудо — Луна, которая велением творца появилась на небосклоне ранее самого Солнца. Первое во Вселенной светило, которое вскоре засияло в погруженном во мрак мире, стало называться «Красой небес», «Небесным кругом», «Царем богов», коему «царство небесное вручено», «Испускающим лучи теленком» или «Молодым быком с сияющими рогами, что пасется на небесах». Одна, светлая сторона диска Луны по замыслу Мардука олицетворяла собою жизнь, а другая, темная, стала пугающим знаком разрушения и смерти. Так Луна в образе Сина, «великолепием своим озаряющего небеса», «шествующего по высокому небу, испуская лучи», стала божеством, воплощающим в себе одновременно жизнь и смерть. Ни у кого из смертных на Земле не возникало сомнения в том, что Луна действительно живое существо: она двигалась по небосклону, то чуть ускоряя свой бег, то в той же степени замедляя его, и при этом постоянно меняла обличье, вырастая от тонкого серпа до полного диска, а затем, напротив, уменьшаясь до серпа. Да и когда «Господин полного сияния», Луна, «расточая лучистое сияние», становилась на три дня круглой, то размеры диска не всегда оставались одинаковыми, а чуть колебались по величине. Ясно, что только живое существо могло обладать переменчивостью, наглядной для каждого, кто создан из глины, крови и костей Кинга. Что касается возможности смерти Сина, то в том также нетрудно было убедиться любому: Мардук сделал так, что светлый серп Луны, становясь все более узким, однажды совсем исчезал на востоке с небосклона на один, два или три дня. Даже не обладая особой проницательностью, можно понять — Луна исчезала с глаз потому, что умирала, т. е. уходила в Страну без возврата. Но из всех качеств, приданных Мардуком Луне как живому существу, лишь одно могло поразить и навести смертных на многозначительные раздумья — она не умирала навсегда, что непременно случалось с людьми на Земле. Воскресший Син через определенное время покидал Страну без возврата и вновь появлялся в небесах, но уже на западе и обязательно в образе молодого месяца!

Такие пристрастия к удивительным метаморфозам, приданные Луне, объяснялись желанием Мардука сотворить не простое божественное светило, которому предназначалось освещать Землю в темную пору, а, умирая и возрождаясь, обнадеживающе намекать человеку на вечность жизни. Как считали черноголовые, великий бог-созидатель сделал Сина столь последовательно и регулярно переменчивым в ликах еще и затем, чтобы люди могли вести, обращая свои робкие взоры к Небу, учет дням и знать, когда следует в смиренном почитании приносить жертвенную пищу своему владыке и покровителю, что в конечном счете и обеспечивало им в будущем как награду за благоверную жизнь бессмертие. «Энума Элиш» повествует, что Мардук действительно отдал во владение Луне темную ночь, и холодное светило стало тем божеством, которому предназначалось не только нести людям свет во мраке, но и помогать учитывать число дней:

Он им

Угроза такая не исключалась, ибо велики были ежедневные «зи ша» Сина, «шаги жизни» Луны, и ей нужен всего лишь месяц, чтобы, завершив свой бег по кругу звездных домов, возвратиться к тому изних, из которого она вышла при рождении на западе. А всего таких домов у Сина было 28, и последний из них размещался на востоке, где перед рождением-восходом Шамаша Син умирал на окрашенном утренней зарей небосклоне. Луна, вне сомнения, была живым существом, поскольку не только совершала свои еженощные зи ша самостоятельно, но и, насколько можно заметить, то вдруг убыстряла их, то замедляла, а полный круг лика Сина становился при этом то больше, то меньше. Значительно меньшими по размеру выглядели на «небесной борозде» зи ша Шамаша, и потому божеству Солнца требовались все дни года, чтобы, завершив обход своих звездных домов, вновь возвратиться к тому, из которого оно начало свое путешествие. Неторопливый Шамаш стал по воле Мардука обладателем 12 светящихся детей ночи (домов). Число их, соответствующее количеству месяцев в году, возможно, подсказывает, что «строительным материалом» для них послужили 12 убитых чудовищ — Кинг и остальные из его ужасного воинства, противостоявшие юному Мардуку. Перемешав с глиной их кости и кровь, забросил Мардук их на Небо, и они стали в образе звероподобных божеств домами для Шамаша. В каждом из них Солнце пребывало месяц, в течение которого оно, очевидно, не столько набиралось сил, сколько, борясь, поражало соответствующего месяцу монстра, как во времена оны Мардук побеждал его же, добиваясь права на устройство гармоничной Вселенной.

Так в течение бесконечной череды лет по мере ежегодного прохождения Шамаша по 12 звездным домам в небесах разыгрывались одни и те же события, сменяющиеся в одной и той же последовательности. Они неустанно по ходу времени напоминали черноголовым захватывающий по напряженности коллизий акт космической драмы, предшествующий сценам сотворения Мардуком новой Вселенной. Какие действия следовало при этом совершать на Земле черноголовым, работая в поле по уходу за злаками, на пастбищах, питая зеленью скот, на охоте и при рыбной ловле, отмечая рождение, свадьбу и смерть, подсказывали жрецы зиккурата, которые следили за знамениями Неба. По каждому подобающей важности случаю приносились искупительные жертвы, вершились торжественные ритуалы и культовые действа. Когда жрецы желали познать большие подробности обстоятельств жизни Шамаша во вращающемся колесе звездных домов небосвода, то они усматривали в них втрое большее количество строений — 36 созвездий. Каждое из них определяло местопребывание солнечного божества в течение декады. Но эти созвездия — не деканы бритоголовых жрецов страны Хапи, ибо они отмечали не ночные часы, а периоды прохождения Солнца по небесной борозде, т. е. по эклиптике. Зона же деканов размещалась на Небе южнее дороги Шамаша. Значит, 36 созвездий позволяли представить в больших деталях и подробностях противоборство с монстром Шамаша, игравшего в «звездном театре» Неба роль самого великого Мардука. Син, путешествуя по 28 домам, тоже разыгрывал свою драму. В части домов он рос, набираясь сил и красоты, пока не принимал вид диска; в других, очевидно враждебных, угасал, отдавая звероподобному врагу доля за долей части своего светлого лика, пока, наконец, не наступала смерть.
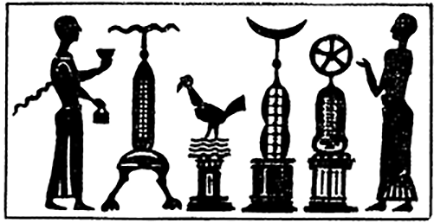
Но опасность могла подстерегать Луну и тогда, когда она находилась в зените могущества — становилась идеально круглой. Порой красноватый сумрак набегал на светлое лицо Сина, как тень Страны без возврата, края смерти. Та же угроза вечно преследовала и Шамаша, когда на лик его средь бела дня вдруг начинал наплывать черный диск, и тогда в Небе открывалась дыра в черноту тьмы Страны без возврата. Именно в те мгновения на месте Солнца в Небе в сумраке потемневшего дня появлялся вдруг как раз тот самый звездный дом, в котором этот месяц находился Шамаш. Значит, монстр, заброшенный в Небо Мардуком, был в действительности совсем не мертв, а борьба с ним солнечного бога Шамаша отнюдь не всегда могла окончиться победой? Да, затмение лика Шамаша, как и Сина, означало, что звездный дракон, сопротивляясь, стал одолевать божества, созданные Мардуком ради гармонии мира, и приготовился проглотить их. Случись такое — и прекрасный мир вернулся бы вновь ко временам Хаоса с его богами Апсу, Мумму и Тиамат. Но на то и поставлены для службы светлым богам Вселенной жрецы зиккурата, чтобы, предвидя опасный ход событий, вовремя принять должные меры! Тогда на Земле черноголовые создания Мардука во имя искупления убивали тех, в ком воплощалось злое на Небе, и оно там, наверху, отступало перед вновь окрепшими в силах Шамашем и Сином. Черноголовые из простолюдинов по призыву жрецов шумом и криками помогали своим небесным владыкам побороть зло. Солнце, как и Луна, подтверждало свою одухотворенность — оно делало зи ша меж звезд с разной степенью торопливости. Когда наступала весенняя и летняя пора (нисану — таммузу, т. е. с марта по июнь), то Шамаш, передвигаясь в своих заходах и восходах к северу, чуть замедлял ход, будто любуясь возрождением и расцветом всего живого на Земле. Зато когда наступала поздняя осень и зима (варах-самну — шабату, т. е. ноябрь — февраль) и жизнь в природе замирала, то Шамаш, скатываясь в восходах все далее к югу, чуть быстрее переходил из одного звездного скопления в другое, будто стремился поскорее миновать малоприятный отрезок небесной борозды. Звездный пояс, или колесо домов, в сущности, определяли место глубокого рва, впадающего в себя и загнанного в русло хаотического водного потока. Поэтому Луна и Солнце воспринимались порой при наблюдениях их жрецами с Земли как своего рода пловцы, которые путешествуют по волнам усмиренного Хаоса, переходя из лодки в лодку — 28, 12 или 36 звездных скоплений. Лодки, или барки, то убыстряли свой ход, то замедляли его. При таком восприятии этой части Вселенной Шамаш и Син, оказываясь на барках в пределах очередных звездных домов, вступали в сражение с живыми обитателями водного потока. Само собой, вселенские потопы (весенние разливы рек), подобно затмениям, понимались черноголовыми как знак угрозы поражения божества и возврата мира к дисгармонии изначальных времен (небесная река стремилась прорвать сковывающий ее ров и погрузить благоустроенную Мардуком Вселенную в пучину водного Хаоса). Самыми, однако, своенравными созданиями Мардука стали «строптивые овцы», отделившиеся от «большого стада» неподвижных звезд, а иначе говоря — «блуждающие звезды», пять планет, которые лучисто сияли в Небе оттенками красного, зеленого и голубого света в тех же границах борозды, пропаханной движением Солнца. Боги и богини, воплощенные в блуждающих звездах, вели свой ритмичный танец-хоровод на фоне созвездий-домов небесной реки. Они то плавно, то быстрее ступали в направлении движения небесного свода, то против или наискось его движению, то останавливались, словно бы в раздумье, а затем, развернувшись и описав в Небе дугу, начинали двигаться в противоположную сторону, пока не наступал очередной тур изощренных танцевальных па. Каждый в этом хороводе блистал красотой и отличался, как всякое живое существо, только ему присущим характером: зловеще красноватый Ниндар (Марс) был злым и сердитым; победитель драконов и змей Ниргал (Сатурн) — степенным и важным; воплощение силы, господства и света Мардук (Юпитер) — величавым в блеске; посланец богов Набу, или Бебо (Меркурий), представлял собой существо крайне непоседливое из-за живости движений и прыгучести. Самой совершенной выглядела, однако, божественная «царица Неба», «сияющая восемью лучами», «воительница», «владычица победы» и убийца, «богиня любви», возлюбленная и жена Сина, но одновременно и порождающая его мать Инанна (Венера). Она то удалялась от Шамаша и тогда сверкала в его животворных лучах драгоценной жемчужиной ночного Неба, то, при сближении, будто купаясь, утопала в них и исчезала с небосклона. Случалось, что рядом с прекрасной Инанной оказывался на востоке Син, серп умирающего месяца, и в те дни она как бы подталкивала лунного бога к его смертному пути. Но, согласно мудрым замыслам Мардука, она же, красавица Инанна, могла также появиться на западе, где после нескольких дней отсутствия в той же части Неба появлялся серп новорожденного Сина. Звездная богиня благословляла тогда своего возлюбленного живительными лучами в самом начале короткого (всего в месяц!) жизненного пути лунного бога. Чудесным свойством наделил Мардук царицу Неба: она, появившись в той части небосвода, где восходил Шамаш, украшала звездный купол в течение 8 месяцев и 5 дней, а затем исчезала на 3 месяца, чтобы засверкать там, где Шамаш заходил. Снова Инанна сияла в небесах те же 8 месяцев и 5 дней, пока не скрывалась за горизонтом. На сей раз, однако, расставание с Небом продолжалось лишь 7 дней, и опять она сияла своей красотой в той стороне, где из мрака пещеры выплывало новорожденное Солнце, но где также готовился к смерти божественный Син. В Небе и в Стране без возврата в ритмичной временной гармонии разыгрывались события, в которых Инанна и Син были главными действующими лицами. Но лишь посвященные в тайны их жизни понимали суть происходящего. Так, лишь жрецы зиккурата знали, что побуждало повелительницу Неба Инанну, сияющую на западном небосклоне, вдруг исчезнуть с глаз черноголовых и сойти в Страну без возврата на 7 дней. Нет, она не умирала, а шла «по велению сердца» в Кур, подземное царство своей сестры — владычицы магического жезла Эрешкигаль, богини смерти и мрака, чтобы стать царицей потустороннего мира. Недаром Инанна, вопреки неукоснительным правилам, отправилась туда не обнаженной, а облачившись в роскошную царскую палу с драгоценным поясом, обхватив волосы «повязкой светлой одеянья владычиц», водрузив на голову «тиару светлую, корону приветную» шугур, надев на шею сверкающее ожерелье, а на руки браслеты, прикрепив к мочкам ушей серьги. Она не желала идти туда, как все, босой, а надела на ноги сандалии. Поскольку неотразимой должна быть ее красота и там, в Стране без возврата, Инанна обвела свои прекрасные глаза притиранием, которое называлось «пусть придет, пусть он придет», умастила тело благовониями из сосуда бур, а кольца восхитительных волос уложила на лбу локонами. Все это она делала нарочито, ибо должна была знать, что каждое из предпринятых действий грозило ей в последующем бедой — не следовало, отправляясь в Кур, надевать чистые одежды, поскольку, завидев такое, служители Страны без возврата должны наброситься на нее как на врага; не следовало умащиваться благовониями, ибо служители могли сбежаться на запах; не стоило надевать на ноги сандалии и громко разговаривать. Чтобы избежать погибели, Инанна «семь божественных законов привязала сбоку, собрала все божественные законы и взяла их в руки». Понимая, что поход в обитель мрака может окончиться печально, Инанна дала наказ своему советнику Ниншубуру оплакивать себя в случае, если она не появится на Небе через 3 дня, а затем умолять богов вызволить ее из плена смерти:

На гордый ответ: «Я — звезда солнечного восхода!» — удивленный видом богини и недоумевающий о причине появления ее в краю мертвых, Нети произнес такие предостерегающие слова:

И вот, как это происходит в Небе до сих пор, после исхода седьмого дня вновь вспыхнула на востоке, предваряя появление Шамаша, Звезда солнечного восхода. Только посвященные в тайны законов Неба знали, почему Инанна, согласно порядкам, заведенным Мардуком, исчезнув на западе, появлялась на востоке ровно через 7 дней! Но те, кому дано познать сокровенное, знали также и о том, кем пришлось пожертвовать воительнице за свою тщеславную и дерзкую попытку владычествовать в Стране без возврата. Она, угнетенная и разгневанная неудачей, выдала на растерзание демонам Эрешкигаль своего мужа — лунного бога Сина, который тут же на востоке, облачившись в царские одеяния и восседая на троне, радостно встречал прекрасную царицу Неба, преодолевшую напасти Кура. Но, увы!

Инанна вновь облачалась здесь в благородную царскую палу и «тиару светлую», украшалась с ног до головы всевозможными драгоценностями из золота, серебра и многоцветных камней, очи ее соблазнительно подкрашивались притиранием «пусть придет, пусть он придет», на шею надевалось лазуритовое ожерелье. Самая обольстительная из женщин Вселенной, как назовет ее вскоре жених, возлюбленный и супруг — лунный бог Син, исполняла теперь призывную песню любви:

«В соответствии с волей богов Ану и Анту, да будет хорошо!» — появилась на табличке очередная строчка знаков, а затем последовали слова благопожелания о продлении дней жизни самого жреца за его богоугодный труд и о даровании за то же благополучения всему его потомству. После этого следовало напомнить всем, в чьи руки когда-нибудь попадет плитка, что лишь «знающий может показать табличку знающему, но не незнающему», да на всякий случай послать проклятие тому, кто осмелиться унести ее из храма. Сделав и такую предостерегающую запись, жрец отложил в сторону табличку, предназначенную для занесения в поле столбцов ее сведений о событиях, которые предстояло ему и его собратьям наблюдать в Небе грядущей ночью. Яркая вечерняя заря ушедшего в прошлое третьего дня месяца нисанну еще подсвечивала его купол рассеянными лучами Солнца настолько сильно, что, как ни всматривайся, заметить даже самое яркое из ночных светил все еще пока не удавалось. Настали те немногие в нескончаемых бдениях на вершине зиккурата минуты, когда служители Мардука, препроводив взглядами краешек уходящего за горизонт Шамаша, могли, наконец, слегка перевести дух. Было от чего признаться в усталости даже самым безропотным труженикам во славу богов. Ведь весь завершающийся в тот день год, а в особенности последние его месяцы, не ведая отдыха, трудились жрецы, соблюдая особую тщательность в наблюдениях за светилами и в расчетах предзнаменований пути их движения. Но кто же удивится тому, узнав, что им предстояло узреть явления редчайшие и выдающиеся. Поистине в неустанных хлопотах по делам небесным быстро течет время! Давно ли, кажется, перед восходом Солнца тщательно установленный шест для наблюдений показал, что «Грудь пантеры»[12] находится точно перед глазами того, кто стоит на вершине зиккурата, имея запад по правую руку, а восток — по левую. Звезды же сияли «в середине Неба», т. е. строго на юге, на нити небесного меридиана, а тем временем на востоке, как и предсказывалось жрецами, предваряя восход Солнца, впервые вспыхнули в небе звезды Мулмул, Плеяды, на западе же скрывались тогда за горизонт звезды зловещего в тускло-красноватом свете Скорпиона. И вот уже пролетело несколько месяцев, и сейчас, когда поутихнет полыхание вечерней зари, Мулмул вновь появятся в Небе, но теперь не на востоке, а на западе, где они с наступлением ранней весны начали готовиться к уходу за горизонт. В ту часть Неба жрецы всматривались в нетерпеливом ожидании вот уже третий день месяца нисанну года, который теперь определяется как 712 год до нашей эры. Не момент последнего захода Мулмул волновал их, однако, все это время. И совсем не потому, что эти звезды по вечерам светились на небосводе на достаточно большой высоте над горизонтом, чтобы опасаться просмотреть то их исчезновение, после которого вечером следующего дня бесполезно ожидать, что они окажутся на небесном куполе. Жрецы высматривали явление в зоне Мулмул серпа новорожденного месяца, Сина, и его невесты, возлюбленной и супруги — божественной в красоте Инанны, которая три месяца назад внезапно исчезла в лучах Шамаша на востоке. Лишь непосвященных в законы движения светил по Небу мог смутить тот факт, что уже третьи сутки продолжался месяц нисанну, с первым днем которого совпадал обычно Новый год, а между тем самые пышные в году празднества открытыми не объявлялись, как не провозглашались и торжества по случаю начала очередного в истории черноголовых божественного года продолжительностью в 1805 лет. Жрецы же, которые стояли у западной ограды верхней площадки зиккурата и, выставив вперед руки, смотрели в молчании в сторону заката, превосходно знали, отчего задерживалось начало празднества. Несовпадение первого нисанну с появлением Сина, исход которого из Страны без возврата определял в этот месяц начало нового года, означало, что грядущий год будет необычным. Ему предстояло быть полным, т. е. содержать не 12 лунных месяцев, а 13. Лишь тогда, когда серп месяца сверкал среди звезд Мулмул первого нисанну, а сами они находились поблизости от края западного горизонта, готовые вскоре исчезнуть с небосклона на много декад, в году следовало отсчитывать 12 месяцев. Недаром в глиняной книге сокровенных знаний о Небе сказано: — Когда в первый день нисанну Луна и звезды Мулмул Стоят вместе, год обычный; когда на третий день Нисанну Луна и звезды Мулмул стоят вместе — год полный. Уяснить это правило для жрецов зиккурата не составляло труда, поскольку при тщательных наблюдениях первого появления новорожденного Сина, который открывал в месяцах череду дней, нельзя было не заметить, что золотистый серп каждый раз появлялся в окружении нового сонма звезд. Созвездия, последовательно меняющиеся в течение года, как бы регулярно перемещались по кругу, давая сигналы о сезонных переменах, призывая жрецов при отставании календаря вводить дополнительный месяц, а земледельцев и скотоводов побуждая к началу или окончанию определенного вида работ. В качестве божественных знаков могли, при желании, восприниматься также созвездия, которые, предваряя восход Солнца, появлялись утром на восточном небосклоне. Однако около них Син не рождался, а, напротив, умирал. И те, и другие знаки позволяли жрецам согласовывать жизнь Сина и Шамаша на протяжении восьми лет, приводя их в гармонию с чередой сезонных изменений на Земле и с последовательностью хозяйственных забот черноголовых. Протяжные крики жрецов с вершины «Горной выси», наблюдательной площадки зиккурата, возвестили стоявшим у подножия храма, что ожидаемое с таким нетерпением свершилось: на еще подсвеченном лучами зари Небе помимо Мулмул засверкал приостренными рожками тонкий серп Луны, а поблизости лучисто заискрилась светозарная в застенчивом сиянии планета. Хор служителей грянул приветственный гимн, разноголосо зазвучали инструменты оркестра, но все эти звуки потонули вскоре в восторженных криках толпы горожан, которые в экстазе радости провозглашали здравицы и благопожелания царю и царице. Владыки в сопровождении жреческой свиты показались в черном проеме входа в подземный храм Страны без возврата во всем блеске драгоценностей священных одеяний.
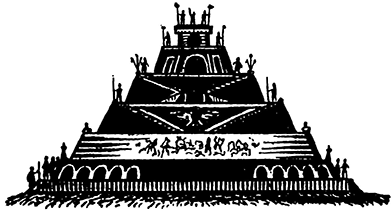
Как некогда при начале мира Мардук победил Тиамат и ее воинство, так и царь в подземелье сразил противостоящих ему злых духов Хаоса, обеспечивая тем самым и на последующее время стабильность гармоничного мира богов. Возрожденными появились на западном небосклоне у края ужасной Страны без возврата молодой Син и его супруга — прекрасная Инанна, возбуждая у землян мысль о неуничтожаемости жизни. Также, обновленные любовью, вышли из подземелья земные воплощения богов — царь и царица. Нет, не напрасно лилась под секирами жрецов кровь жертвенных животных, призванных заменить в Стране без возврата тех, кто, преодолев напасти демонических сил, покинул ее. Величественными в жертвенности оказались и страдания Бела, которого мучительно истязали, а затем, убив, облили слезами. Смерть его стала залогом новой жизни Сина, возможности преодоления им с помощью богини-матери непреодолимого — мертвых оков Преисподней. Ликование охватило всю страну черноголовых. Это была несказанная радость победы жизни над смертью, осененной в темени новогодней ночи лучами Сина и Инанны. Для земных владык, важных сановников и даже простолюдинов водяные часы начали отсчет времени великого праздника. Неусыпное бдение продолжалось всю ночь лишь в одном месте города — на верхней площадке зиккурата. Появление в небесах Луны и «богини любви» лишь прибавило труда жрецам-астрономам. Как только сверкнул на небосклоне золотистый серп, один из них подошел к большой глиняной плите, испещренной глубокими округлыми углублениями-лунками по числу дней в году. Лупки размещались блоками, каждый из которых определял месяц. Из второго углубления месяца нисанну рука жреца перенесла в третье в ряду его первой декады стерженек, изготовленный из кедрового дерева. Эта перестановка означала завершение второго и начало третьего дня нисанну, что в очередной раз подтверждало незыблемую в вечности истину — никогда Син не пребывает в Стране без возврата более трех дней, и отроду не бывало, чтобы он задержался в ней на четвертый день. Перестановка кедрового колышка из одной лунки счетной календарной доски в другую — самое простое, что было сделано жрецами в ту ночь третьего нисанну. Тотчас они, не мешкая, обратились к табличке, на которую следовало занести сведения о времени и месте (звездном окружении) появления в Небе первого в новом году серпа народившегося месяца. Там же, в этом глиняном дневнике наблюдений, надо было отразить (ради уяснения грядущего) впечатление от характера его свечения, степени блеска и, конечно же, со всем тщанием замерив, записать видимый размер золотистого рога. Ведь весенняя пора примечательна тем, что серп Луны из-за изменения наклона борозды Неба к горизонту можно наблюдать, когда он находится на меньшем расстоянии от Солнца, чем осенью. Это обстоятельство отражалось как на размерах новорожденного Сина, так и на длительности периода, в течение которого он находился на небосклоне в первую ночь своего появления. С помощью водяных часов нужно было определить интервал времени между его заходом и исчезновением Солнца. Точное знание такого периода пригодится позже, а в самое ближайшее время — в середине и конце месяца, при решении задач весьма важных — когда наступит противостояние полной Луны и Солнца и когда следует ожидать исчезновения на очередные один-три дня умирающего Сина, предстоят или не предстоят в ближайшие декады затмения великих светил. Слова на лунной табличке писались приостренным концом тростниковой палочки, а числовые знаки — противоположным, округлым, отпечатки от которого при вертикальном положении получались круглыми, а при наклонном — эллипсовидными. Уход за горизонт Сина и Инанны почти не убавил хлопот жрецам. На поверхности глиняных табличек предстояло еще занести сведения о пяти божественных планетах: как они светились, какое место среди звезд зодиака занимали, в какое время, предваряя восход Солнца, восходили или заходили, в каком направлении двигались, а если задерживались, перед тем как изменить путь, то где именно в звездном мире происходило такое событие. Сами звезды, в особенности те, по которым пролегали борозды путей Сина и Шамаша, а также планет, требовали не меньшего внимания. Глиняные страницы дневников наблюдений постепенно испещрялись записями о положении звезд на небосклоне и характере их блеска, когда они в течение ночи всходили или заходили, а когда занимали самое высокое положение в Небе, оказавшись на юге в зоне небесного меридиана. Эти звезды синхронно со струйками воды в клепсидрах, которые наполнялись за ночь трижды, час за часом отсчитывали шаги ночного времени. А утром, перед самым рассветом, когда, кажется, совсем иссякали силы, жрецов вновь будоражило ожидание священного мига — возможного появления предваряющей восход Солнца звезды мудрого Эа, который, как и серп Сина месяца нисанну, был небесным провозвестником начала благодатного разлива Тигра, одной из двух плодоносящих рек-кормилиц страны черноголовых. Как мудро устроил мир великий Мардук и как заботливо продумал он подсказки людям о надвигающихся событиях, еще раз подтверждает знаменательное явление природы, наступления которого жрецам зиккурата предстояло ожидать в последующие ночи месяца нисанну: лишь только со времени рождения Сина пройдет около полутора десятков ночей, а ночное божество засияет над плодородными долинами Двуречья во всем блеске полной Луны, как вскоре начнется половодье второй реки — Евфрата! Можно представить, сколь тщательно должны были наблюдать за небом с верхней площадки «Горной выси» в последующие за рождением Сина ночи, чтобы предвидеть, какие обстоятельства будут сопутствовать наводнению, сила которого (из-за подключения к нему вод Евфрата) увеличится вдвое. Удивительно ли, что степень усердия в наблюдениях за ликом Сина, а также за обстоятельствами странствования его по «звездным домам» небесного свода тоже, кажется, удваивалась. Каждую очередную ночь на глиняной табличке, предназначенной для записи сведений о Луне, появлялись цифры, которые отражали результаты измерения величины серпа. Просматривая их, можно было судить о степени его роста в первые пять дней: 5→10→15→20→40→1.20. Этот геометрический ряд первыми четырьмя числами выражал в десятичной системе счисления двойное за каждую ночь увеличение растущей Луны. Первое число означало, что размеры новорожденного Сина определяли пять исходных единиц измерения диска. Последнее, пятое в первом ряду число таблички хоть и отражало вновь двойное увеличение размера освещенного диска, но было записано жрецом в системе шестидесятиричного исчисления: 1.20, где стоящая вначале 1 означала 60; итого: 60 + 20 = 80. Последующие две пентады дней жрец, делая замеры степени сияния Сина, продолжал записи в шестидесятиричной системе. Эти два ряда ко дню полнолуния образовывали арифметический ряд с разностью в 16 единиц (в скобках указаны цифры в переводе на десятичную систему): 1.36(96)→1.52(112)→2.08(128)→2.24(144)→2.40(160); 2.56(176)→3.12(192)→3.28(208)→3.44(224)→4(240). По мере того как увеличивался диск Луны, возрастая с 5 единиц до 240, когда с наступлением 3 дней полнолуния следовало ожидать разлива Евфрата, жрецы отмечали в табличке, в каком из своих 28 звездных домов проводил очередную ночь Син; не встречался ли он с планетами, закрывая какую-то из них своим сияющим телом; как проходила его борозда по отношению к 12 созвездиям, в каждом из которых по месяцу пребывал в течение года солнцеликий Шамаш. Как и в первый день появления лунного серпа, особой точности требовали записи интервала времени между заходом Солнца и восходом Луны, когда она достигала фазы 240 единиц, т. е. полнолуния. Для определения продолжительности текущего месяца нисанну особое значение приобретал отсчет дней с момента первого появления серпа до полнолуния. Каждый жрец зиккурата знал, что если полнолуние наступало на 13-й день, то месяц будет продолжаться 29 дней. Когда же Луна была «видна вместе с Солнцем» после 14 дней, то месяц должен содержать 30 дней, поскольку в этом случае считалось, что ночное светило «прибавляло один день». Однако каждый осведомленный в тонкостях небесных знамений знал, что когда Солнце и Луна «наблюдались вместе» на 14-й день, а предшествующий месяц продолжался 30 дней, то предстоящий должен был содержать 29 дней! На глиняных страницах дневника наблюдений за Небом появлялись затем записи положений Луны по отношению к Солнцу как в три ночи противостояния, когда ночное светило было круглым, так и в последующие дни, когда наступал ущерб на 16-е или 17-е сутки… …Бесконечной чередой потекли и далее дни за днями, ночь за ночью, а грядущие события в сфере звездной и, как зеркальное отражение их, происшествия в мире природы на Земле представлялись зачастую настолько значительными, что жрецы никак не могли позволить себе ослабить внимание к Небу и обстоятельствам жизни богов-небожителей.

И вот уже завершилась пора разлива Тигра и Евфрата, черноголовые побросали зерна злаков в старательно обработанный и еще сохраняющий влажность плодородный ил, а неутомимые, как земледельцы, труженики Горной выси с наступлением месяца «посланный богиней Инанной», или, как его иначе называли, «месяца новых плодов», каждоеутро с нетерпением ожидали появления в Небе созвездия Колос Девы. Да и как же не ждать, если эти звезды должны были возвестить жизненно важное — произрастание плодов, вслед за чем в самом деле засеянные поля покрывались нежно-зелеными ростками злаков. И как они, прорастая сквозь любовно ухоженную пашню, выходили на свет, так и Колос Девы впервые в году всплывал из-за горизонта, предваряя восход Солнца. Таким было от сотворения мира звездное знамение, возвещающее начало цикла роста посевов зерновых, основной пищи черноголовых земледельцев. Звезды Колоса Девы в последующие месяцы присматривали за полями сначала в утреннее время, а затем, по мере созревания урожая, в ночные часы.
* * *
Так можно при желании проследовать и далее по каждому из отделов «звездной гати», нескончаемо текущим по кругу «небесным потоком», поражаясь точности и глубине познаний в астрономии жрецов зиккурата, а также удивительной способности их виртуозно облечь данные небесной науки в увлекательно-волшебную вязь поэзии сокровенных сказаний и мифов, посвященных обстоятельствам многотрудной жизни, деяний и подвигов богов и героев. Но, пожалуй, уже представленного на предшествующих страницах достаточно, чтобы можно было с почтительным пиететом воздать должное роли «тружеников ночи» далекого прошлого в становлении астрономии, а также иных, самым тесным образом связанных с нею точных наук. Оправданность и законность обращения историка культуры к подобным сюжетам не вызывают сомнения. О. Нейгебауер, который внес значительный вклад в раскрытие достижений древних в разных отраслях точных наук, постоянно подчеркивал, что история астрономии представляет собой одну из наиболее многообещающих областей прежде всего исторических исследований, активная работа в области которых обладает, по его словам, исключительным очарованием[13]. Она, эта первобытная астрономия, как самый существенный фактор развития науки при ее становлении наглядно раскрывает роль точных знаний в развитии мышления человека, изучением чего, в сущности, и призван в первую очередь заниматься археолог, решая, естественно, и проблемы хозяйственной деятельности древних. О. Нейгебауер справедливо отметил глубокое влияние изначальной астрономии на духовный мир и в целом на первобытно-философские взгляды древних людей: с ее помощью они формировали свое представление об окружающем мире со всеми его компонентами. Похвалы по поводу успехов жрецов Двуречья в развитии астрономии раздаются и с той стороны, откуда они могут исходить с полным на то основанием: от самих представителей точных наук, обычно скаредно скупых на одобрительные отзывы коллегам. Судя по их откликам, восхищаться в самом деле есть чем. И чтобы ясно представить историческую перспективу, т. е. истинные временные масштабы, которые потребовались первобытным не просто для постижения закономерностей движения небесных светил, а для выражения их в форме математического описания и математической теории, надо знать, что жрецы Двуречья к середине I тысячелетия до нашей эры уже свели традиционную, чисто наблюдательную астрономию глубокой первобытности к весьма скромной роли. Но чтобы наука смогла сделать такой выдающийся шаг, сколько же десятков тысячелетий должны были наблюдать Небо древние звездочеты Тигра и Евфрата? Если верить сведениям Порфирия (III век до нашей эры) и Симпликия (VI век нашей эры), то наблюдения вавилонских жрецов восходят ко времени, отстоящему от нашего на 31 тысячу лет, т. е., как сказал бы теперь археолог, к ранней стадии верхнего палеолита, когда на Земле едва только появился Homo sapiens — человек разумный.
Недоверие к такому сообщению естественно. Но прежде чем привести подтверждение его справедливости из области археологии древнекаменного века, попытаемся смягчить скептицизм хотя бы самым кратким перечнем главных достижений в астрономии жрецов Двуречья. Вселенную они, насколько можно судить по наиболее ранним сведениям, подразделяли на восемь сфер, с которыми связывали Луну (ближайшая к Земле сфера), Солнце, пять планет и неподвижные звезды. Особо важной в общей концепции мироздания считалась лунная сфера, прилегающая к колыбели человека — Земле, ибо она, по понятиям жрецов, определяла границы зоны, где живое зарождалось, а затем умирало, чтобы вновь возродиться. Ничего подобного вне лунной сферы, как считалось, не происходило, а все торжественно двигалось однажды заведенным порядком. Луна последовательными изменениями фаз, напротив, символизировала в древней философии циклическую в бесконечных рядах переменчивость бытия. Небесный купол подразделялся на 3 зоны по 12 секторов. С каждой зоной соотносились определенные созвездия и планеты, а также (и это особенно знаменательно!) числа арифметической прогрессии, записанные в шестидесятиричном исчислении: или 1.→1.10→1.20→1.30→1.40→1.50→2; или 2.→1.50→1.40→1.30→1.20→1.10→1; (1 = 60; 1.10 = 60 + 10 = 70 и т. д.). С помощью этой арифметической схемы, выражающей так называемые зигзагообразные функции, можно было, оказывается, описывать не словесно, а математическим языком периодические небесные явления. Шестидесятиричная система счисления использовалась жрецами Двуречья как наиболее подходящая для астрономических занятий. Борозда Неба — эклиптика — подразделялась на 360 частей, или градусов, по числу дней в древнем солнечном году и отрезков, которые Солнце проходило ежедневно. Это, попросту говоря, означает, что за единицу меры принималась дуга «Борозды», которую проходило Солнце за сутки — 1/365 1/4 (дробь они округляли до 1/360°, что отличает ее от истинной величины на 1/20 000). Что касается принципиальной важности выделения такой меры, то она определяется возможностью приспособить ее для измерения угловых расстояний между звездами. Ведь мера такая всегда останется одной и той же, на каком расстоянии ни воображать звезды. Так, суточный путь Луны меж звезд, равный примерно 13°, можно было представлять реально в цифрах на любом в зоне ее «домов» участке Неба. Обладание мерой как раз и позволило жрецам Двуречья (как и «бритоголовым» Нила) определить в числах степень наклона Борозды Неба — эклиптики — к небесному экватору. Для этого они сначала замерили по гномону высоту Солнца в моменты летнего и зимнего солнцестояния. Она под 50° широты оказалась равной соответственно 63°27′ и 16°33′. Полученная затем разность между этими замерами — 46°54′ — показывала, насколько ближе к северу находилось летнее Солнце, а половина этой разности — 23°27′ — засвидетельствовала наклон эклиптики! Поскольку путь дневного светила представлял собой наибольший подразделенный на градусы круг Неба, то все вообще окружности, а не только небесные, стали делиться на 360°. Само же базовое число 60 определялось в таких случаях не астрономическими, а геометрическими соображениями — радиус делит окружность на 6 частей по 60° каждая. Значит, недаром на глиняных табличках появился знак, означающий угловой градус! Борозда Неба подразделялась, однако, не на 6, а на 12 частей по 30° каждая. Именно такой отрезок проходило Солнце за месяц. Что касается числа 60, связанного с дугой в 30°, то в такой дуге укладывалось близкое этому число диаметров светила. Подразделение круга эклиптики на секторы по 30° и совмещение с ними так называемых зодиакальных созвездий обусловливались математическими соображениями — по этой стандартной шкале измерялись, вычислялись и описывались движения Солнца и планет, о которых было известно, что они обладали собственным перемещением — с запада на восток. Жрецы разработали на этой основе строго фиксированный лунно-солнечный календарь, установили отношения периодов обращения Луны и планет, определили последовательность планетных и лунных явлений, а также выявили закономерности в изменении продолжительности дня и ночи. В то же время положение светил на Небе фиксировалось не только по зодиаку и градусам, но и по отношению к наиболее ярким звездам. Среди зодиакальных созвездий к концу II тысячелетия до нашей эры упоминались Овен, Телец, Близнецы, Палица, Пёс (Лев), Колос Девы, Ярмо, Скорпион, Стрелец, Рыба, Коза, Масляная лампа и Водяная курочка. Лунный зодиак, который составляли 28 и 33 «домов», разрабатывался, возможно, на основе повторного деления обычного зодиака, но до сих пор не ясно, как это делалось. Когда в полосу лунного зодиака входило 28 домов, т. е. небольших групп звезд, отстоящих друг от друга приблизительно на 13°, то Луна при движении по Небу каждую очередную ночь месяца оказывалась в следующем «доме». Такие «станции» позволяли определять точное положение Луны, а затем и планет по отношению к неподвижным звездам. Особая для понимания картины мира древних значимость выделения зодиакального круга с 12 созвездиями, как и разделение Неба на 28 (или 36) лунных домов, заключается в том, что подобные «конструкции» предполагают сферичность пространства, окружающего Землю. Что касается самой Земли, то трудно сказать, воспринималась ли она в I тысячелетии до нашей эры округлым телом или дисковидным, вроде круглой опрокинутой чаши, полой внизу и покоящейся над сферической бездной. Однако, если верить рассказу греческого писателя из Александрии Ахиллеса Татиоса (V век нашей эры), жрецы Двуречья размышляли над тем, какого размера Земля, и рассчитали его, исходя из календарного периода и быстроты движения. По утверждениям жрецов, человек, шагающий без остановки со скоростью 30 стадий (около 5 км) в час, может обойти Землю за год. Отсюда следует, что периметр ее принимался за близкий к истинному — 43 800 км. В Двуречье знали, что видимый солнечный диаметр составлял 1/720 часть Борозды Неба (1/20 в шестидесятиричном исчислении). Сутки жрецы делили на 12 частей (по двойному часу в каждой). Резон в таком подразделении тоже определялся шестидесятиричной системой счисления: как показывали клепсидры, водяные часы, при восходе Солнца от момента появления верхнего края его до соприкосновения с горизонтом нижнего края проходила 1/60 часть такого двойного часа. Жрецы зиккуратов умели замерять и, следовательно, знали размеры дисков Солнца и полной Луны, приблизительно равные друг другу (около 0,5°). Но самое поразительное заключается в том, что им удалось то ли с помощью на удивление точных замеров, то ли по результатам наблюдения солнечных затмений уяснить тот исключительной важности факт, что размеры диаметра диска Луны в течение так называемого аномалистического месяца (от наибольшего сближения с Землей, когда скорость ночного светила увеличивалась, до очередного такого же сближения через 27,6 суток) периодически менялись около средней величины. Судя по расшифровкам клинописных таблиц, в максимуме диск считался равным 34′16″, а в минимуме 29′27″ (по современным данным, соответственно 32′52″ и 29′30″). Эти колебания в размерах объясняли жрецам, почему иногда затмения Солнца были кольцевыми (меньшая по размерам Луна не могла перекрыть полностью весь солнечный диск), а иногда полными (большая по размерам Луна закрывала солнечный диск полностью). Не ясно, удавалось ли жрецам фиксировать изменение размеров диска Солнца, но они знали, что скорость его движения в течение года меняется. Им удалось это установить, когда они поняли, что времена года включают неодинаковое число дней. Это было выявлено посредством гномона, «знающего», — каменного столба или отвесного, снабженного наверху отверстием для прохождения лучей Солнца шеста, с помощью которого по длине тени, падающей на концентрические круги, определялось не только время в течение дня, но и моменты солнцестояний, а также средние между ними календарные моменты — весеннее и осеннее равноденствия. При работе с гномоном стало ясно, что весна и осень целиком находились в пределах медленной и быстрой частей года, составляя соответственно 94,5 и 88,6 суток. (В ноябре — январе Солнце движется со скоростью 1° в сутки, а в марте июне — 56′). Продолжительность лета, когда Солнце движется медленнее, считалась равной 92,73 суток, а промежуток времени между осенним и весенним равноденствием — 178,03 суток.

В последующие времена жрецы стали, используя относительно совершенные математические методы, систематически вычислять по предваряющему появление Солнца восходу созвездия Льва («сердца» его, яркой звезды Регул) точный момент наступления летнего солнцестояния, что и стало отправным пунктом для определения границ года, а также его продолжительности. Что касается времени наступления зимнего солнцестояния и равноденствий, то они, вероятно, не всегда вычислялись, а просто порой размещались в пределах равных интервалов. Какое значение придавалось точности определения всех этих временных моментов, свидетельствуют усилия, которые издревле предпринимались по определению долготы Регула величайшими астрономами классической древности, в частности Тимохарисом, Гиппархом и Птолемеем. Согласно самым ранним сведениям из Двуречья, долгота «Сердца Льва» составляла 92°30′. При общих календарных расчетах жрецы принимали за условие не постепенное возрастание скорости Солнца до наивысшей, а затем уменьшение ее, но считали, что оно на большей части своей орбиты (194°) двигалось, отступая к востоку на 1° в день, а на меньшей — на 56′15″, что как раз и позволяло светилу завершить свой путь за 365 суток. Моменты положения Солнца на экваторе, когда начиналась весна или осень, и в точках солнцестояний при начале лета и зимы определялись в Двуречье с точностью до 12 часов! В заключение следует заметить, что представление о ежедневном сдвиге Солнца к востоку на два своих диаметра (около 1°) — «ошибка», очевидно, сознательная, связанная с необходимостью использования шестидесятиричной системы счета. Совершенно исключительной основательностью и достаточно высокой точностью отличались представления жрецов об особенностях движения Луны, определявшей основу основ календаря, в рамках которого ими предсказывались все события в Небе и на Земле, в том числе периодичность появления и исчезновения планет, а также моменты первой и последней видимости наиболее ярких звезд вроде Сириуса, Фамальгаута и Капеллы, а также созвездия Ориона. Древние астрономы Двуречья знали точную, отличающуюся, как правило, лишь на несколько секунд от современных величин продолжительность всех разновидностей лунного месяца: синодического со всеми его фазами от новолуния до новолуния (продолжительность разнится в пределах 13 часов); драконического, охватывающего период прохода Луной «узла» (пересечения плоскости Борозды Неба, когда при новолунии и полнолунии могло происходить затмение) и возвращения к нему же; сидерического — возвращения к тем же звездам — и особо важного аномалистического — от одного сближения с Землей, когда происходило ускорение движения, до другого, когда ускорение начиналось вновь. Длительность синодического обращения от полнолуния до полнолуния определялась в Двуречье с точностью до пол секунды. Жрецы установили вариации скорости движения Луны, неодинаковой в разные времена года: максимальная — 15°14′35″, минимальная — 11°6′35″ и вывели среднюю — 13°11′35″. Знание скорости движения позволяло им вычислить наперед промежуток времени между исчезновением Луны и появлением нового серпа. Продолжающийся от 19 до 50 часов, он исчислялся жрецами с точностью до 6 минут! Современные астрономы предприняли проверку древних записей и выяснили, что, если даже вычисления оказывались ошибочными, они все же для визуального наблюдения точно определяли момент первого появления на горизонте молодой Луны. Жрецам удалось, кроме того, установить наименьшее целое число суток между двумя максимумами (при сближении с Землей) или минимумами (при удалении от Земли) скорости Луны, равное 248, что составляло 9 полных колебаний ее, а иначе говоря, 9 аномалистических месяцев. Все это позволило осуществлять математическое описание движения Луны с помощью зигзагообразной функции ее суточного движения. Такие графики сохранились на глиняных табличках. Жрецам с помощью 11 (!) операций счисления удалось решить трудную задачу вычисления маршрута сложного по вариациям движения Луны (формула его теперь содержит около 700 компонентов) и точного определения времени наступления ново- и полнолуния. Ф. К. Гинцель так в конспективной форме представил последовательный ход их размышлений и действий: «Они исходили из месячных разностей долгот новолуния, при этом в основу клали среднюю продолжительность синодического месяца и аномалистического движения Солнца. Отсюда они получали положение новолуния по отношению к определенным знакам зодиака и определяли величину дневной дуги во время ново- и полнолуния и половину продолжительности ночи, а также при помощи драконического месяца — широту ново- и полнолуния, выраженную в полуградусах. Далее они составляли таблицу дневного углового движения Луны, вместе с тем приобретая превышение продолжительности переменного синодического месяца над 29 днями при предположении равномерно ускоренного движения Солнца, и после этого исправляли результаты, принимая во внимание неравномерность солнечного движения. В заключение они получали времена между двумя следующими друг за другом соединениями и противостояниями Луны и вместе с тем дату ново- и полнолуния»[14] (Выделено мною. — В. Л.). Получив все эти сведения и сопоставив их с правилами определения плавно и волнообразно изменяющейся широты Луны, представленной в виде остроугольной зигзагообразной линии, жрецы делали вывод о том, когда она при новолунии или полнолунии окажется поблизости от Борозды Неба. Это позволяло им уверенно исчислять наступление солнечного или лунного затмения с точностью от часа до четверти часа! Так усилия по скрупулезным в дотошности вычислениям момента новолуния и появления первого серпа для определения начала месяца привели в конечном счете к решению проблемы предсказания одного из самых ужасных для древних людей небесных явлений. В Двуречье затмения воспринимались (не без стараний жрецов!) как зловещие козни и злые замыслы семи лютых, космического характера демонов, которые со всей яростью боролись с семью высшими ботами-светилами (их олицетворяли пять планет, Солнце и Луна). Кульминация этой борьбы, по представлениям жителей Двуречья, как раз и случалась в моменты затмений, когда светила «страдали» в Небе, а на Земле начинались наводнения, наступала пора эпидемий и мора, болезней и смерти, превращающей людей во прах. Недуг при этом охватывал и самого царя. Жрецы прилежно изучали положение светил и рассчитывали продолжительность опасного периода. Иногда он длился около 100 дней, и царя на все это время отправляли в загородную резиденцию, где, обманывая злых демонов, именовали его земледельцем и ограничивали во всем, что было привычно господину черноголовых. На троне между тем восседал специально для такого ритуального случая выбранный «подменный царь», по окончании опасного периода во исполнение непременной оправданности небесного предсказания гибели владыки из-за затмения плативший жизнью за кратковременное и эфемерное свое царствование. Когда же боги справлялись с демонами и вновь незатемненными сияли в Небе, настоящий царь торжественно возвращался во дворец, чтобы вновь обрести власть над страной. Размышляя над трагической судьбой «подменного царя» Двуречья, поневоле задумываешься — не тем ли заканчивалось и однодневное правление 70 сановников страны Хапи, которые «правили» ею 70 дней до наступления Года Бытия и выхода блистательной Сотис-Изиды? Учитывая значительность такого рода событий, жрецы Двуречья, неустанно работая, со временем уяснили также закономерности в правильно повторяющихся и непрерывных сериях из пяти или шести лунных затмений. Суть дела, заново открытая уже в наше время выдающимся итальянским астрономом Джованни Скиапарелли, заключалась в том, что очередное затмение Луны никогда не наступало ранее 6 месяцев, за которым, опять-таки 6 месяцев спустя, могло наблюдаться еще одно затмение. Так случалось четырежды или пять раз подряд, но обязательно с промежутком в полгода. Это явление связано с закономерностями появления полной Луны около узла — точки пересечения ее орбиты с Бороздой Неба, к которой она, попадая в тень Земли, то приближалась, то удалялась. Когда же затмения вдруг прекращались на год или два (это означало, что полная Луна отошла от узла на большое расстояние — 10 или 12° и не может попасть в тень Земли), а затем случались в неурочное для серии время (т. е. ему не предшествовали ни 6, ни 12, ни 18 месяцев, а наступало оно порой к тому же на месяц раньше положенного), то жрецы делали вывод, что начинается новая серия лунных затмений. Полное затмение наступало тогда, когда Луна в полнолуние оказывалась от узла на расстоянии 4°75′ и 5°83′ а частичное — между 9°5′ и 12°2′. На практике, правда, в серии, запутывая и скрывая закономерность, случались досадные пропуски. Происходило это из-за того, что полная Луна до восхода Солнца, не дождавшись его, скрывалась за горизонт, и тогда, естественно, затмение в Двуречье не наблюдалось, угрожая бедами где-то там, за горизонтом. Но жрецы поняли, в чем заключается причина, делая в таком случае астрономической табличке последовательности затмений примечательную запись: «Боги не видели друг друга». Познан был и тот факт, что лунные затмения, открывающие новую серию их, наступали с интервалами в 41 или 47 месяцев, а это позволило затем уяснить не только возможную последовательность лунных затмений в отдельных сериях, но также и закономерности последовательности самих серий. Что касается солнечных затмений, то астрономы Двуречья знали, что они случаются обычно за полмесяца или через полмесяца после лунных, и главным образом в промежутке между сериями лунных затмений, когда они 41 или 47 месяцев не наблюдались. Иначе говоря, солнечное затмение со значительной вероятностью следовало ожидать на 20 1/2 или 23 1/2 месяц после того, как Луна оказывалась полностью перекрытой тенью Земли. Тень на Солнце наплывала на 27-й или 28-й день лунного месяца, после исчезновения с небосклона серпа умирающего Сина. Сохранившиеся таблицы затмений, которые наблюдались в Двуречье на протяжении 360 лет, позволяют воздать должное их составителям — величайшим астрономам древнего мира Набурианну и Кидинну. Судя по беседам Александра Македонского и Каллисфена со жрецами, в храмах хранились чрезвычайно обширные сводки результатов наблюдения за Небом. Так, «покорителю мира» было доверительно сообщено, что за 1903 года в Двуречье случилось 832 лунных затмения и 373 солнечных. Чтобы по достоинству оценить этот факт, достаточно сказать, что современная европейская культура, гордая давностью своих традиций, может похвастаться лишь двухвековыми последовательными наблюдениями Неба астрономами Гринвича. Список поражающих воображение достижений жрецов Двуречья в развитии астрономии можно было бы продолжать и далее. В частности, заслуживает восхищения знание по крайней мере в середине I тысячелетия до нашей эры периодов обращения планет, что требовало не менее 1000 лет систематических наблюдений. Неистребимая страсть к совершенствованию лунного календаря привела жрецов к разработке самого точного, 19-летнего цикла счисления времени по Луне и Солнцу (но, очевидно, уже без учета циклов Инанны — Венеры), что подтверждает уяснение ими самими, без помощи афинского астронома Метопа, прекрасного уравнения 19 солнечных лет и 235 лунных месяцев, которые объединялись в 12 обычных лунных лет по 12 месяцев в каждом и 7 високосных лунных лет по 13 месяцев (последними были 1, 4, 7, 9, 12, 15, 18-й годы). Точность такого цикла — исключительна. Лишь через 310 лет новолуние предсказывалось на один день раньше, чем оно случалось в реальности! Стоит ли, зная все это, удивляться той точности, с которой ориентировали строители на восходящие светила (за редким исключением — по странам света) оси зиккуратов, а также храмов Луны, Солнца и Венеры, а также 12 знаков зодиака, Арктура, Фамальгаута и других особой значимости звезд? Не кажется также, в свете известного о наблюдателях за Небом из Двуречья, надуманным предположение, что найденные при раскопках городов изделия из горного хрусталя, которые напоминают по виду линзы, использовались для астрономических инструментов, призванных приближать светила к глазу человека. Рассматривая достижения жрецов Двуречья в астрономии, невозможно отделаться от впечатления, что за ними скрываются не века и тысячелетия эмпирических наблюдений за Небом, а по самым скромным прикидкам — два или даже три десятка тысячелетий. В особенности впечатляющи результаты познания древними астрономами «обстоятельств жизни» Луны, самого капризного в лицедействе светила, самого значительного из почитаемых божеств, коих из века в век славили вдохновенные, записанные клинописной вязью гимны черноголовых:

Глава V ПЛЯСКА ВЕЛИКАНОВ
Научимся же читать историю Неба по этим каменным и бронзовым обломкам, оставленным предками, и постараемся распознать по драгоценным остаткам нашего прошлого великую и бессмертную идею, от которой трепетали сердца наших дедов.Никола Камиль Фламмарион

В тот безоблачный день лета 1901 года посетителей Стоунхенджа, самого, пожалуй, величественного творения ума и рук древних обитателей юга Англии, могли удивить не только многотонные песчаниковые глыбы, невесть когда, кем и как установленные на болотистой Солсберийской равнине. Не меньшее изумление они выразили бы, узнай человека в летах, но все еще моложавого, кто с величайшими предосторожностями устанавливал в центре загадочного сооружения треногу теодолита. О нет, это был не почтенный обыватель местечка Эймсбери, расположенного по соседству со Стоунхенджем, и даже не сам «великий маг» современного «ордена друидов», вдруг вознамерившийся в полуденные часы посетить главное святилище чудаковатых «братьев». Тех самых, кто на потеху детворе окрестных ферм любит порой, обрядившись в белые балахоны и повязав голову куском белой ткани, торжественно и с песнопениями шествовать между загадочными глыбами камней. Важные чиновники местечка, как и «вождь друидов» со своей степенной братией, если и появлялись здесь, то не в дневное время, а непременно в предрассветные часы, да и то лишь раз в году, 22 июня, когда охрана дозволяла им войти в Стоунхендж, окруженный рядами колючей проволоки и охраняемый сторожевыми собаками. Тогда они ожидали здесь восхода Солнца над одним из камней. В дневные же часы неурочных суток, да еще с теодолитом, зачем бы им тут появляться? И все же среди многометровых, устремленных к небу каменных блоков маячила фигура отнюдь не рядового топографа из Министерства общественных работ, призванного как зеницу ока оберегать уникальный Стоунхендж.

Работу прибора с пристрастием проверял сам сэр Джозеф Норман Локьер, профессор астрофизики Королевского колледжа и директор Обсерватории солнечной физики Южного Кенсингтона, член Лондонского королевского общества, почетный член Петербургской и Парижской академий наук. Внимательный посетитель Стоунхенджа заметил бы, что вдали, за камнями, с высокой рейкой стоял еще один человек — Ф. К. Пенроуз, друг Д. Н. Локьера. Мало известный широкой публике, да и в ученой среде тоже, Пенроуз был между тем исследователем воистину уникальным, поскольку умудрялся совмещать в своих интересах две далеко отстоящие друг от друга науки — астрономию, что свело его в свое время с Н. Локьером, и археологию классической античности, что окончательно сдружило их однажды при встрече на отдыхе в Греции. Если бы среди визитеров Стоунхенджа оказался тогда человек, знающий научные пристрастия сэра Джозефа Нормана Локьера, он мог бы подумать, что, возможно, в ближайшее время в Англии ожидается солнечное затмение. Ведь именно он с 1870 года вот уже почти треть века неизменно возглавлял с десяток экспедиций по наблюдению полных солнечных затмений. Впрочем, быть может, сэр Норман Локьер продумывает здесь, в Стоунхендже, свои новые идеи по исследованию связей между погодой на Земле и степенью солнечной активности или усовершенствует открытые им спектроскопические методы наблюдения протуберанцев Солнца? Во всяком случае, тут должно быть нечто, связанное с любимым светилом Н. Локьера — Солнцем. Ведь всякий любознательный человек в Англии знает и гордится тем, как он, их великий соотечественник и современник, изучая спектр дневного светила, счастливо заметил яркую желтую линию и первым объявил миру об открытии нового элемента — гелия. Однако ж сэр Норман Локьер прибыл в тот день в Стоунхендж с совсем иными намерениями, и подтверждение тому — захваченные им с собой бесполезные для астрофизики молоток, связка шнура, несколько аккуратно оструганных и приостренных деревянных колышков, теодолит… На сей раз он, оказывается, вознамерился проверить некоторые мысли и соображения совсем в иной сфере своих увлечений, которые к тому же не столь широко известны. Ему, профессиональному астроному, когда-то приходилось выполнять обязанности секретаря правительственной комиссии по науке, а затем и сотрудника отдела науки и искусства в Южном Кенсингтоне. С тех пор Н. Локьер не ограничивал свои пристрастия астрофизикой, в которой ему принадлежит, помимо прочего, честь разработки оригинальной гипотезы звездной эволюции. Как человек на редкость широких интересов, в том числе и гуманитарных (что, как выяснится впоследствии, окажется весьма счастливым обстоятельством для судеб изучения древнейшей истории), он обратился к занятиям в области, полярно противоположной астрономии. Поразительно, но, очевидно, из любви к парадоксам и контрастам его, как и Ф. К. Пенроуза, захватила и увлекла самая заземленная из наук — археология! Правда, и здесь сэр Норман Локьер остался верен своей первой и самой сильной любви — не оставил в забвении Солнце. Читая сочинения, посвященные древним культурам Англии, и изучая фольклор страны, он в полной гармонии со своими пристрастиями особое внимание уделял фактам, которые подтверждали поклонение древних самому яркому из светил. Это его увлечение в особенности окрепло после того, как он в марте 1890 года отправился на отдых в Грецию и при осмотре храмов старого и нового Парфенона обратил внимание на то обстоятельство, что оси их ориентировались на горизонт с разными азимутами. Это наблюдение настолько поразило сэра Нормана Локьера, что он с воистину юношеской живостью и неистовой любознательностью заядлого туриста (благо тогда ему было всего 53 года!) начал знакомиться с другими храмами Афин и их окрестностей, в частности и со знаменитым Элевксинским храмом. И оказалось, что в самом деле направления осей храмов на горизонт примечательным образом варьировали. Волнение Н. Локьера станет понятным лишь при учете того обстоятельства, что он превосходно знал, как по традиции ориентируют строители оси церквей — в направлении точки восхода Солнца, когда происходило празднество в честь святого, которому посвящается новый храм. Н. Локьер предположил, что и греческие храмы сооружались с учетом тех же астрономических по характеру условий. У Н. Локьера возникла идея, что сходные закономерности определяли действия и египетских зодчих при закладке священных строений, посвященных прославлению великих богов страны Хапи. Мысль требовала немедленной проверки, которая, при страстной увлеченности Н. Локьера, не заставила себя долго ждать. В ноябре того же 1890 года он отправился в Египет и оставался там с небольшим перерывом до марта 1891 года. Результаты необычных изысканий превзошли все ожидания. С самого начала при обследовании, как выразился позже Н. Локьер, самых величественных развалин в мире — храма бога Солнца Амона-Ра в Карнаке, он установил, что ось его длиною около 500 ярдов была ориентирована на 26° к северо-западу, где Солнце заходило в день зимнего солнцестояния. Произведя совсем несложные для астронома расчеты с учетом изменений за тысячелетия наклона Борозды Неба (эклиптики, или пути Солнца), Н. Локьер установил, что около 3700 года до нашей эры последние лучи Солнца, нижний край которого коснулся в тот миг края горизонта, проникали внутрь храма Амона-Ра, достигая самой отдаленной точки оси святилища. Расположенный на линии ее постепенно сужающийся проход астроном по привычной аналогии принял за своеобразную диафрагму современного телескопа, направленного на Солнце. Н. Локьер осматривал один за другим наиболее впечатляющие храмы древнего Египта, определяя каждый раз с максимально возможной точностью ориентацию длинной оси каждого из святилищ. И что же? Оказывается, постройки сооружались с учетом ночного восхода или захода определенных звезд (деканов, расположенных у северного и южного полюсов), которые могли определять часы ночи, или, что было особенно многозначительно с точки зрения начала храмовых служб, восхода звезд, предваряющих на час появление из-за горизонта Солнца. Например, первое «явление из Дуат» звезды после 70 дней ее отсутствия, считавшееся знаком к началу ритуалов, предшествующих главному празднеству. И вот что самое поразительное: 7 из осмотренных Н. Локьером храмов оказались ориентированными своими осями на ту самую точку горизонта, где накануне дня летнего солнцестояния перед восходом Солнца впервые после 70 дней отсутствия появлялась особо чтимая в Египте звезда Сотис-Изида, Сириус, предвещавшая разлив Нила и один раз в 1460 лет знаменовавшая наступление египетского Нового года. В ходе работы сэр Норман Локьер неоднократно беседовал с археологами и египтологами, всякий раз интересуясь, помимо решения вопросов специальных, изучают ли историки культуры храмы с учетом заложенных в их структурах точных астрономических знаний. Его любопытство встречало лишь недоумение. Но Министерство общественных работ Египта, буквально взбудораженное результатами его наблюдений, приняло решение оказать содействие начатым исследованиям и назначило в помощь Н. Локьеру будущего директора Музея науки X. Г. Лайонса. Весь 1892 год тот посвятил изучению древних храмов страны Хапи по методике, направленной на выявление отраженных в конструкциях святилищ астрономических знаний. В начале 1893 года Н. Локьер снова прибыл в Египет, чтобы ознакомиться с результатами работы, проведенной X. Г. Лайонсом, а уже через год в Англии вышла из печати книга астрофизика с неожиданным для его основных занятий названием — «Заря астрономии»[15]. Кроме того, он прочитал в разных городах страны серию лекций, в популярной форме разъясняя основные результаты своих наблюдений по ориентации храмов. Итак, размышления относительно возможных принципов ориентации в пространстве культовых сооружений позволили Н. Локьеру заметить в созданных тысячелетия назад святилищах то, что и следовало увидеть ему, профессиональному астроному. В них поистине на поверхности, как ему казалось, проступало нечто важное, оказавшееся, к его удивлению, вне внимания историков культуры. Это многозначительное «нечто» стали позже называть «астрономическими аспектами археологических памятников». Сэр Норман Локьер понял, что ему, кажется, посчастливилось соприкоснуться не только с истоками его науки — астрономии, но также и математики. А основательнейшее знание мифологии, культов, связанных с небесными светилами, и древних календарей в конечном счете привело Н. Локьера к значительно более глубоким культурно-историческим выводам. Он увидел в сухих «астрономических аспектах археологических памятников» сказочный ключ к познанию самых сокровенных сторон интеллектуального мира древних, к уяснению сути и подосновы их религиозных представлений, но одновременно и к раскрытию истинного масштаба и глубины проникновения первобытного человека в тайны природы. Обращение астрофизика Н. Локьера к столь сложным сюжетам культурной истории — шаг, не лишенный рискованной смелости, ибо его книгу, как и просветительные лекции, встретили далеко не однозначно. Археологи язвили, что при столь огромном количестве звезд на Небе храмы неизбежно оказываются направленными своей осью на какую-нибудь из них. Однако сэр Норман Локьер спокойно парировал этот, кажется, неотразимый с точки зрения обществоведов довод со сногсшибательной профессиональностью, для них неожиданной: не на «какую-нибудь», а лишь на 8 звезд ориентировались древнеегипетские храмы, и это были именно те звезды, с которыми соотносятся боги, упомянутые в храмовых надписях, известных, как он надеется, археологам. Так, если он, Н. Локьер, обращает внимание на то, что храм Изиды в Дендерах был ориентирован осью при постройке его в 700 году до нашей эры по линии, направленной на точку восхода Сотис-Изиды, Сириуса, то ведь такое заключение отражает и неведомое ему при начале исследования содержание надписи, открытой в том же храме: «Изида светит в своем храме в день Нового года, и она смешивает свой свет со светом своего отца Ра на горизонте». Разве Ра — это не Солнце, а Изида — не Сириус, который в 700 году до нашей эры взошел за час до появления в Небе дневного светила как раз в той точке горизонта, на которую направлена ось храма? Наконец, разве сами археологи ошибаются, утверждая, как недавно узнал он, Н. Локьер, что храм Изиды в Дендерах был сооружен как раз в 700 году до нашей эры?! В том же духе он мог говорить и об ориентировке остальных храмов, поскольку, начиная работу (и в этом особая прелесть полученных результатов), Н. Локьер действительно не подозревал о том, что в святилищах сохранились надписи, относящиеся ко времени их основания. Тексты, описывающие церемонии при проведении линии от центра будущей постройки к той звезде на горизонте, которая воплощала бога — покровителя святилища, позволяли проверить метод Н. Локьера. А если надписи в египетских храмах не сохранились, ему удавалось, определяя направление оси их на одну из восьми особо чтимых в древнем Египте звезд, устанавливать дату, когда закладывался фундамент постройки. Таким образом, метод Н. Локьера давал возможность исключительно точно датировать памятники классической древности с помощью невиданного ранее приема — астрономического. О том же свидетельствовали результаты исследований друга Н. Локьера Ф. К. Пенроуза, который с тем же подходом и в те же годы обследовал храмы Греции. Его работа облегчалась тем, что датировка святилищ Эллады была разработана значительно лучше, чем египетских, и Ф. К. Пенроуз достаточно убедительно показал, что они сооружались с учетом направления на звезды, которые восходили на востоке или, напротив, скрывались на западе за час до появления в Небе Солнца. Это всякий раз были звезды, возвещающие наступление утра для какого-нибудь великого празднества, когда первые лучи Солнца должны были проникнуть в храм и осветить в нем святая святых — алтарь или мраморную статую божества. Чтобы представить, с какой точностью ориентировались храмы, достаточно обратиться к Парфенону. Как установил Ф. К. Пенроуз, он астрономически ориентировался на Плеяды около 1150 года до нашей эры. Прямоугольное основание его имело размеры 100 X 225 греческих футов, что позволило установить величину греческого фута (12,16 британского дюйма). Это составляло сотую долю секунды дуги большого круга. Отсюда последовал вывод, что наличие подобных измерений, основанных на долях размеров Земли, есть свидетельство исключительно высокого развития астрономии в Древней Греции. Ф. К. Пенроуз, поддерживая боевой дух своего друга Н. Локьера, прочитал в феврале 1892 года доклад в Обществе любителей древностей о результатах своих изысканий в Греции. Итак, астрономы призывали археологов к дружескому диалогу. Но, к своему удивлению, а со временем и к негодованию, они поняли, что скорое взаимопонимание вряд ли возможно. Сначала Н. Локьер, как и Ф. К. Пенроуз, встретили яростную оппозицию. Сомнению подвергались не отдельные вычисления, на что указывали, разумеется, лишь коллеги-астрономы. Неприятие касалось самой идеи — возможности отражения астрономических познаний в археологических памятниках. Наученный горьким опытом первых столкновений со специалистами по древностям, которые столь неудачно напомнили астроному о большом количестве звезд на Небе, сэр Норман Локьер теперь отвечал на критику с самой деликатной мягкостью. Суть его заявлений сводилась в основном к пожеланию, чтобы каждый археолог знал (хотя бы немного!) астрономию. И все же с годами стал звучать лишь монолог астронома, так как археологи, кажется, потеряли всякий интерес к бессмысленной, на их взгляд, дискуссии. Собеседники современных «звездочетов» были или безнадежно глухи, или не понимали языка, на котором пытался объясниться с ними Н. Локьер. Ему стало казаться, что сочинения его намеренно замалчиваются. Между тем до этого дело еще не дошло, ибо оппоненты пока не чувствовали для себя никакой серьезной опасности — сама постановка проблемы казалась им совершенно нелепой. А Н.Локьеру не следовало, пожалуй, проявлять нетерпение, учитывая подозрительность, с которой знатоки древностей всякий раз встречали попытки «одержимых любителей» вторгнуться в святая святых их епархии. Как когда-то потуги «чужаков» разгадать особую значимость пирамид, а также храмов, в том числе тех, которые сооружались вблизи мест захоронения усопших предков, вызывали в науке о первобытности недоверчивую настороженность и брезгливый скептицизм. Боевую повседневную готовность к неприятию поддерживал мутный поток околонаучных теорий[16]. Археологи тем более укреплялись в недобрых предчувствиях, получая подтверждения необходимости соблюдать опасливую осторожность: как будто здравые на первый взгляд астрономические (в связи с археологией) гипотезы не раз лопались на их глазах мыльными пузырями. Но сэр Норман Локьер и с новым для себя материалом работал с той же тщательностью, как и в астрофизике, и не подавал повода к недоверию. В начале XX века он обратился к древностям Северной Европы. На первый взгляд, кажется, трудно вообразить более неудачный для продолжения полемики шаг: поразительные в точности астрономические познания древних, будто бы запечатленные в культовых памятниках «земель обетованных», — это еще куда ни шло. Ведь там, по всеобщему согласию, располагалась колыбель цивилизации. Но как можно всерьез видеть значительность смысла в странных, выложенных кольцами и поставленных рядами камнях страны гипербореев, окраины Земли, где, по единодушному мнению археологов, до прихода греков и римлян господствовало беспросветное в нищете духа варварство диких обитателей сурового Севера? Однако Н. Локьер, размышляя над замысловатым кружевом композиций из камней в Дартмуре и Бретани, предпочитал иметь на сей счет особое мнение. Для подтверждения его разгадка тайн, окружающих Стоунхендж, представлялась решающей по значимости. Поэтому-то сэр Норман Локьер и оказался здесь вместе с Ф. К. Пенроузом в тот летний день 1901 года. Ему, проехавшему полсвета, предстояло еще раз убедиться в том, что нет в доброй старой Англии, да, пожалуй, и во всей Северной Европе, памятника старины, который в эффектности и загадочности мог бы соперничать со Стоунхенджем. В самом деле, с далеких времен раннего средневековья изумлял он людей грандиозностью своих многотонных конструкций, которые, кажется, не могли быть воздвигнуты обычными для человека усилиями. Право же, здесь, по убеждению обывателей, не обошлось без великанов, чудесных сил магии и чар, мощи волшебного слова! Путник, осмелившийся, преодолев округлые рвы и валы, зайти в этот едва проходимый лес громадных каменных глыб, оказывался буквально потрясенным их гнетуще-мрачным величием. Попарно тесно приставленные друг к другу, возвышались многометровые песчаниковые блоки, прикрытые сверху тяжелыми брусьями. Все это образовывало вместе странную подковообразную фигуру, почему-то открытую к северо-востоку. Чем юго-восточнее размещался каждый из подобных, как их называли, трилитов, т. е. конструкций из трех плит, тем выше к небу возносилась перекладина. Подкову из трилитов окружало кольцо из нескольких десятков величественных каменных блоков с водруженными на них тяжелыми глыбами. Они были на удивление плотно подогнаны друг к другу и составляли там, на недосягаемой высоте, висячую каменную дорогу с ее бесконечным, почти идеальным по правильности кругом воздушного пути. Быть может, каменное колесо Стоунхенджа оттого и назвали Стоунхенджем, «Висячими камнями», что верхние глыбы его, таинственным образом «подвешенные» над опорами, представлялись издали как бы легко парящими в воздухе. Если к сказанному добавить, что внутри подковы трилитов, а также в пространстве между ними и кольцом располагался частокол других камней, то не трудно представить растерянность того, кто впервые попадал в этот зловещий лабиринт. Узкие, до предела сковывающие обзор щели между широкими плоскостями вкопанных в землю гигантских камней и хаос развалин усиливали и без того тревожащее душу чувство тоскливой безысходности. Поэтому смущенный странник считал обычно за благо подобру-поздорову выбраться из ловушки каменных джунглей, а потом и за пределы рвов и валов, насыпанных из ослепительно белых кусков мела. Выход из «колдовских кругов», как строгий указующий перст, определял заблудшим одинокий камень, вкопанный за их пределами в северо-восточной стороне между двумя параллельными валами. Они, казалось, любезно приглашали (а быть может, заманивали) пройти именно сюда, на северо-восток, куда открывалось и устье подковы трилитов. Между тем отправиться туда действительно был резон, ибо именно там и только там кольца валов и рвов не смыкались, оставляя свободным проход, своего рода ворота, к которым как раз и примыкала аллея с «указующим каменным перстом». Стоячие и «висячие» камни Стоунхенджа при взгляде на них издали, со стороны, зачаровывали не меньше. На уныло плоской с далеким обзором равнине они выглядели окаменевшими великанами, которые внезапно, как по воле волшебного слова, замерли некогда в разгар стремительной круговерти колдовского танца. Недаром в одном из мифов старой Англии эту толпу каменных глыб назвали «Пляской великанов». Ее, говорили, поставил в Африке (уж не в стране ли Хапи?) некто с умом несравненным и искусным, а затем силою чар и магии перенес сначала в Ирландию, а уж потом на Солсберийскую равнину, строго определив им стоять здесь «до скончания века». Магические чары окутали камни, и потому стали они неисчислимы. Разве случайно, что всяк, пытающийся их сосчитать, непременно путался и, досадуя, в конце концов оставлял бесполезное занятие. Тем, кто сомневался в справедливости старинного предания, во избежание неприятностей напоминали предостерегающие слова создателя «Пляски великанов» волшебника Мерлина: «Не смейтесь, не поразмыслив, — в этих огромных камнях скрыта тайна, и нет среди них не наделенного силой волшебства». Сэр Н. Локьер и не помышлял смеяться. Он вошел в каменное колесо Стоунхенджа с самыми серьезными намерениями: хорошенько поразмыслив, попытаться раскрыть тайну каменных гигантов и установить, что в действительности ее составляло. Поработав с теодолитом внутри подковы трилитов, Н. Локьер, будто его тоже смутила подавляющая волю величина плит, прихватив с собой нехитрый инструментарий, направился к выходу, на северо-восток, где его ожидал Ф. К. Пенроуз.

Шагая к аллее с торчащим в пределах ее многотонным камнем, который некогда окрестили «пяточным» из-за того, что кто-то не лишенный богатого воображения узрел на его поверхности невидимый теперь отпечаток «пяты монаха», Н. Локьер размышлял о том, что слово «хил» представляет собой, возможно, искаженное уэльское «Хейил», «Солнце», и камень следует называть солнечным. «Пляска великанов» осталась позади. Сэр Норман Локьер и Ф. К. Пенроуз обменялись мнениями о том, как с наибольшей точностью определить по теодолиту направление на горизонт оси древнего святилища, а затем, разгуливая по валу, предались воспоминаниям о тех, кто размышлял о назначении этого грандиозного сооружения. Теперь, в начале XX века, при обращении к Стоунхенджу никого более не могли удовлетворить ни туманные намеки языческих мифов, ни высокомудрые толкования отцов церкви. Впрочем, преподобные не намного продвинулись в объяснении загадочного строения, более всего озабоченные приобщением его к библейским святыням. Согласно «богоугодным» изысканиям, «в дни Адамовы» в холодной Англии был золотой век и обитало в ней «молодое племя гигантов». Оно-то и воздвигло каменные колоссы. Нашлись особо глубокомысленные «знатоки», установившие, что Стоунхендж — «самое чудесное сотворение» самого Адама! Оно впоследствии прискорбно разрушилось, и виной тому «бич божий» — потоп. И поскольку в «сотворении» рухнули камни юго-западной части, то многоученые мужи церкви, здраво поразмыслив, смекнули, откуда же изначально хлынули воды потопа. Ну, конечно же, с юго-запада, где размещается самый глухой закуток Преисподней! Н. Локьер и Ф. К. Пенроуз, обсудив эти россказни, пришли к выводу, что с точки зрения астрономии в них все же есть некое рациональное зерно, ибо на северо-западе при заходе «умирает» в дни зимнего солнцестояния самое «слабое» в течение года Солнце. Но там же ранее, чем в точке восхода на юго-востоке, можно заметить первый робкий сдвиг светила к северу, т. е. солнцеворот к лету! Важное уточнение сделали преподобные… Однако не все любопытствующие за века посетители Стоунхенджа отделывались при осмотре его гигантских камней меланхолическими сентенциями, вроде такой: «А чему они служили, бог ведает». В развалинах порой видели нечто совершенно определенное, в частности «драконтий», т. е. «змеиный храм», или остатки «языческого естественного храма», а то и «древнебританского триумфального тропического храма». Стоунхендж считали «храмом жрецов», воздвигнутым почти 2500 лет назад, до вторжения в Англию воинственных римлян, по велению мудрых и высокославных друидов. Если учесть, что могущество их, согласно сведениям античных писателей, выглядело поистине безграничным, то такое предположение представлялось весьма правдоподобным. В самом деле, начать с того, что именно они, друиды, «повелевали» в стране, а цари, восседавшие «на золотых престолах и в пышных дворцах», были только «исполнителями их мыслей». Желание соперничать с ними пропадало у каждого, кто узнавал, что друиды обладали способностью «поднимать магические туманы», накладывать на людей «обессиливающие заклятия», пуская в ход «мистическую силу», умели предсказывать будущее, лечить и исцелять, а также обеспечивать плодородие. Они выступали в обществе «наставниками и судьями», а главное — священнослужителями, слугами могущественных богов. Охватывает робость при мысли, что именно друиды, определяя ритуалы и строго наблюдая за исполнением обрядов жертвоприношений, обеспечивали в глазах соплеменников надлежащий ход событий во всем мире! Не приходится поэтому удивляться, что Стоунхендж воспринимался сторонниками связи его со священнодействиями друидов жутким капищем для угодных богам жертвоприношений, где расхаживали с окровавленными руками жрецы, облаченные в ослепительно белые одеяния. Самыми, однако, интересными для Нормана Локьера и Ф. К. Пенроуза в этих преданиях были сведения о том, что внимание жрецов привлекало Небо. Оказывается, они много рассуждали о звездах и размышляли об их движении. Их даже увлекали раздумья о размерах Земли и Вселенной. Очевидно, под пристальным наблюдением друидов находились прежде всего Солнце и Луна, поскольку жрецы умели «очень точно» предсказывать затмения. Перед Луной они, очевидно, благоговели, с превеликим тщанием отмечая ее фазы. Особое значение придавалось, кажется, фазе, когда ночному светилу после новолуния исполнялось шесть дней и оно приобретало вид полудиска. В календаре друидов именно с такого момента отсчитывались начала новых месяцев, лет и тридцатилетних циклов. При наступлении первой четверти Луны одетые в белое жрецы с торжественным бормотанием молитв, а затем и с песнопениями приносили в жертву двух молочно-белых (цвета ночного светила!) бычков. Можно ли в свете подобного известия считать случайным, что при раскопках в Стоунхендже, этом «храме жертв», археологи нашли черепа быков, а также других животных? По сообщениям античных авторов, не меньшим, пожалуй, почетом пользовалась у древних жителей Англии полная Луна. Недаром с прародителем друидов богом мрачного подземного царства Дисом связывались понятия «четырнадцать ночей» или «две недели», т. е. тот срок, за который Луна, народившись, становилась полной или, умирая, исчезала с небосклона. Отмеченное, кажется, весомо подтверждало мысль сторонников связи Стоунхенджа с друидами, что камни святилища представляли собой «круглый храм», посвященный Луне. Находились, однако, и такие, кто усматривал в Стоунхендже храм не Луны, а Солнца. Высказывались мнения, что построенное для исполнения ритуалов в память усопших предков «каменное капище» было посвящено местному божеству, которое можно сравнить по характеру и могуществу с самим Зевсом. Здесь «хранители святилища» бореады поклонялись древнему богу Неба кельтов Мэрдину. Разве искаженное наименование его не прослушивается до сих пор в имени волшебника Мерлина? Да, как раз того самого, кто, по преданию, силою чар перенес и водрузил на Солсберийской равнине «Пляску великанов». Впрочем, созвучие имен, быть может, случайно. Но случайно ли упомянутые в сообщении Диодора Сицилийского великолепное святилище Аполлона, а также прекрасный храм, украшенный многочисленными пожертвованиями, связывались с неким северным, заселенным гипербореями островом, в описании которого можно при желании признать Англию? Диодор Сицилийский описал храм как сферический по форме, и потому надо поразмыслить — случайно ли сходство его с круговыми структурами Стоунхенджа? Как бы то ни было, но по рассказам Диодора Сицилийского было известно, что жрецы в том храме, играя на кифаре, воздавали богу Солнца самые высокие почести и в восторге славили его в гимнах и песнопениях. Вряд ли оставалась в забвении и Луна. Начать с того, что, согласно Диодору Сицилийскому, на северном острове родилась сама Лета, породившая от Зевса Аполлона. Внимание Н. Локьера привлекало также странное на первый взгляд упоминание Диодора Сицилийского о предании гипербореев, согласно которому бог будто бы посещал остров каждые 19 лет, когда Луна оттуда наблюдалась настолько близкой, что на ней просматривались горы. Для Н. Локьера и Ф. К. Пенроуза подобные известия выглядели сущим кладом. Ведь Луна действительно за 19 лет завершала свой цикл перехода, допустим, от широкой зоны восходов и заходов по горизонту (высокая Луна) до узкой зоны (низкая Луна), после чего опять возвращалась к широкой. Когда Луна переживала годы «высокой», то она, как мог заметить еще пещерный предок, поднималась зимой необычайно высоко, а летом проплывала над Землей настолько низко, что порой могла на крайнем Севере Англии катиться колесом по самой кромке горизонта! Такое эффектное событие, по-видимому, и считалось гипербореями временем возвращения на остров полного сил высокочтимого бога Луны, который, как поведал Диодор Сицилийский, торжествовал победу, играя при своем появлении в небесах на кифаре и танцуя все ночи от весеннего равноденствия до восхода созвездия Плеяд. Легенда при ближайшем рассмотрении выглядела сокровенным иносказанием вариаций на тему «жизни Луны». Изящно зашифрованными и пышными складками религиозных одеяний закамуфлированными стали, возможно, самые потайные познания гиперборейских жрецов в науке небес — астрономии. В середине XVIII века достопочтенный доктор Уильям Стьюкли, который, по его признанию, испытывал «высокое наслаждение», созерцая руины Стоунхенджа, первым высказал такую догадку. Он заметил, что ось «храма», построенного, как он считал, друидами, ориентирована по разрыву в кольцах рвов и валов и аллее с «пяточным камнем» на ту зону горизонта, где Солнце восходит в дни летнего солнцестояния. Это была как раз та часть небосклона, которая определяла предел перемещения в сторону севера ежедневных восходов дневного светила, когда оно в самый длинный день года достигало наибольшей своей мощи. У. Стьюкли, организатора Общества любителей древностей в Англии, не удивила такая деталь, а чтобы к ней и другие отнеслись серьезнее, он в изданной в 1740 году книге «Стоунхендж — храм, возвращенный британским друидам» обратил внимание на факт весьма важный: согласно уверениям Плутарха и других античных авторов, в древности принято было ориентировать храмы в день их основания на ту точку горизонта, где тогда восходило Солнце. Свое впечатление об ориентации оси и аллеи У. Стьюкли подтвердил соответствующими вычислениями, что позволило ему, в частности, прийти к выводу об использовании архитекторами-друидами при размещении камней магнитного компаса. В свою очередь, такое заключение позволило ему очень остроумно решать вопрос о том, когда мог быть построен Стоунхендж: рассчитав ритм вековых магнитных изменений, У. Стьюкли пришел к выводу, что это событие случилось около 460 года до нашей эры. Заметил У. Стьюкли и то, на что не обратили внимание другие: аллея на расстоянии около трети мили от Стоунхенджа поворачивала на северо-восток, к заметному выступу на гребне холма Харадон Хилл. Здесь 11 мая 1724 года У. Стьюкли наблюдал восход Солнца и отметил, сколь отчетливыми становятся контуры возвышенностей, смягчающих унылый пейзаж Солсберийской равнины. Их четко выделяли на фоне Неба лучи «пылающего светила», готового подняться над горизонтом. Создавалось впечатление, будто устроители разместили храм так, что возникала возможность использовать при наблюдениях эффектно подсвеченные природные визиры. Он обнаружил также насыпь к северу от храма, которая известна теперь под названием «цирк». Кроме того, У. Стьюкли попытался на основании замеров расстояний между отдельными конструктивными частями храма выделить своего рода метрический модуль — «друидический локоть», оказавшийся равным 20,8 дюйма. Таким образом, У. Стьюкли бесспорно принадлежала великая честь первым высказать идею о том, что создатели Стоунхенджа должны были руководствоваться в своем предприятии астрономическими расчетами. Идеи Стьюкли как бы вернули из небытия друидов, и потому стоит ли удивляться тому, что в 1781 году в Лондоне состоялось учреждение общества «Древнейший орден друидов», который действует и поныне, а его учредителем, «Великим друидом», стал сам Уильям Стьюкли. Правда, к прискорбию, другое, имеющее прямое отношение к археологии детище первого астроархеолога мира — Общество любителей древностей Англии — было разогнано разгневанным королем Яковом I, который заподозрил членов его в «политических интригах». После У. Стьюкли изучением Стоунхенджа и ближайших к нему такого же рода памятников древности занялся архитектор из Баса Джон Вуд. Он славился богатым воображением, но свои наблюдения и выводы подкреплял с достаточной научной точностью. Исследования проводились им в том же, как и У. Стьюкли, ключе, т. е. в направлении поиска доказательств отражения астрономических знаний в конструкциях святилищ и храмов. Иначе, впрочем, и быть не могло, ибо Д. Вуд воспитывался в духе традиционных архитектурных доктрин античности, в частности Витрувия. Внимание Д. Вуда привлекли не только сами по себе памятники старины, но и характер взаимосвязи их друг с другом на значительной по площади территории. Не оставался в стороне и анализ примечательных особенностей рельефа. Цель такого непривычного даже для современных археологов подхода, который можно было бы назвать комплексным (по совокупности учета разных на первый взгляд несущественных обстоятельств), состояла в том, чтобы уяснить, какая «священная функция» или смысл могли заключаться не только в конструкциях памятника, но и в броских для глаза топографических деталях местности. Д. Вуд был убежден, что древние люди выражали свои знания в «эмблематической форме» и, значит, их можно уяснить, рассматривая, допустим, особенности плана храма или выясняя астрономическое соотношение между соседними и отдаленными святилищами. В книге «Круглый храм, в просторечии именуемый Стоунхенджем на Солсберийской равнине, описанный, восстановленный и объясненный», изданной в 1747 году, Д. Вуд предложил считать семь холмов Баса святилищами, посвященными семи светилам. В центре, по его мнению, располагался храм Апполона, университет друидов, а также резиденция основателя ордена друидов короля Бладуда, будто бы обучавшегося в Греции у Пифагора, а в Персии у Заратустры. В Харптри находился «музыкальный колледж» друидов, в Вуки Хоули — оракул и центр посвящения, в Солсбери — ареопаг, холм Марса. Круги из камней в Стэнтон Дрью (графство Сомерсет) Д. Вуд понял как модель планетной системы, которую Бладуд создал с помощью афинских философов, доставленных в Британию. Что касается самого Стоунхенджа, то Д. Вуд, сняв планы и весьма точно реконструировав его, описал это святилище как лунный храм — оракул. Каменные круги его были увязаны Вудом с лунными и иными календарными циклами. Высмеяв басни о переносе камней с Севера Африки, Д. Вуд указал место, откуда они могли происходить — из Марлборо-Даунс, расположенного к северу от Стоунхенджа! Через три десятка лет, в 1770 году, вывод У. Стьюкли об астрономической ориентации Стоунхенджа подтвердил «прививальщик оспы» Джон Смит. Он сделал это безупречно профессионально — опираясь на астрономические таблицы координат небесных тел, эфемериды. В книге с удручающе длинным названием «Круглый храм — великий планетарий древних друидов, называемый Стоунхенджем, объясненный астрономически с доказательствами того, что он был храмом для наблюдения за движениями небесных тел» он доказал, что ориентация выхода из Стоунхенджа на восход Солнца в конце июня есть не плод случайности. Он увидел в этом осознанное и преднамеренное стремление создателей «храма» направить взгляд наблюдателя, стоящего в центре его, на ту часть горизонта, где Солнце всходило в разгар лета. Если в самом деле осознанно и преднамеренно, то в календарном плане это означало явление чрезвычайное. Ведь достаточно было подсчитать количество суток между двумя моментами крайнего сдвига на север восходящего Солнца, когда наступало летнее солнцестояние, и становилась известной продолжительность основополагающей календарной единицы года. Более того, Смиту показалось, что кольцо Стоунхенджа позволяло вести наблюдения календарного плана в течение всего года. Он охарактеризовал храм как «Великий оррерий[17] друидов», архитектурный численно-мистический календарь. Не случайно, по его мнению, колонн внешнего кольца храма было именно 30: умножая эту цифру на 12 (число зодиакальных созвездий), можно было получить 360 — число суток древнего солнечного года. Именно для обозначения 29 дней и 12 часов лунного месяца служили, по его мнению, 30 голубых камней Стоунхенджа. Как именно осуществлялось в Стоунхендже слежение за сменой сезонных циклов в связи с передвижением точек восходов Солнца, все же оставалось неясным. Однако бесспорно, что, в сущности, именно Д. Смит сформулировал главную идею возможной оценки Стоунхенджа. В последующие годы его поддержал Морис, который 60 камней сарсенового кольца (учитывались и перекладины) оценил как намек на использование шестидесятиричного цикла, характерного для азиатской астрономии, а 19 внутренних камней — как показатель осведомленности друидов по части индийского (или метонового) лунного цикла, который включал именно 19 лет. Ирландский генерал Валленси тоже сравнил астрономическую систему друидов с системами Двуречья и Индии, а Готфри Хиггинс, раздумывая над астрономическими циклами, известными друидам, попытался на их основе определить время сооружения Стоунхенджа. По его расчетам выходило, что это случилось около IV тысячелетия до нашей эры. Интерес к Стоунхенджу не ослабевал и в последующие годы. Уилтширский суконщик Генри Уонси в 1796 году обратил внимание на далеко открытый горизонт в районе Стоунхенджа и на то, что если насадить на дальних холмах деревья, используя их для измерения градусов круга, то можно легко рассчитывать высоту и склонение любого небесного тела! В то же время Г. Уонси первым задумался над тем, как могли жрецы Стоунхенджа рассчитывать точное время наступления затмений, что, согласно сообщению Юлия Цезаря, друиды делали с поразительной точностью. В решении этого вопроса он усматривал ключ к объяснению «теоретического аспекта» Стоунхенджа. Конструкция последнего, отмечал Г. Уонси, вряд ли бы составила загадку для ученого брамина из Индии, который, посети он Англию, усмотрел бы в Стоунхендже следы искусства, скрытые для глаз воспитанного в иных традициях европейца. Высказывались идеи о возможности измерения теней от камней в качестве особого астрономического метода. После такого фейерверка догадок и предположений и активного обсуждения проблемы среди знатоков астрономии не оставалось сомнений в том, что Стоунхендж представлял собой конструкцию, которая могла быть воспринята как обсерватория. Далеко не ясным, однако, оставалось главное — как она действовала? Потребовалось почти 80 лет, прежде чем догадка Д. Смита о возможности календарных наблюдений с помощью структур, составляющих Стоунхендж, приобрела должную определенность. Очередной шаг в этом направлении сделал в середине XIX века преподобный Эдвард Дьюк, автор опубликованной в 1846 году книги «Храмы друидов в Уилтшире». Но исходил он в отличие от Д. Смита не из анализа особенностей расположения камней кольца. Его внимание привлекли значительно более простые и ясные ориентиры — направления на горизонт, определяемые парами так называемых опорных камней. Э. Дьюк прежде всего установил, что восход Солнца в день летнего солнцестояния можно наблюдать не только из центра святилища, а и с насыпи, где некогда стоял опорный камень № 92. В качестве промежуточного визира на горизонт в таком случае выступали не земляные валы аллеи, а расположенный севернее опорный камень № 91. Для расшифровки особенностей календаря строителей Стоунхенджа этот вывод не добавлял бы ничего нового, если бы Э. Дьюк не отметил одновременно еще одну особенность. При наблюдении с насыпи опорного камня № 94, когда в качестве визира использовался камень № 93, взгляд падал на точку захода Солнца в дни зимнего солнцестояния! Наблюдения Э. Дьюка вызвали особый резонанс не просто потому, что были обнаружены еще два астрономически значимых направления, которые как будто определяли «опорные камни». Фактически это означало, что если строители Стоунхенджа действительно были озабочены решением календарных проблем, то, если ход рассуждений Э. Дьюка верен, они могли подразделять солнечный год на две половины примерно по 180 дней каждая — от летнего солнцестояния до зимнего, когда Солнце при заходах достигало крайнего южного рубежа, а затем от зимнего солнцестояния до летнего, когда светило при восходах останавливалось на ближайшей к северу пограничной меже. Восприятие Стоунхенджа как своего рода астрономической обсерватории стало в Англии XIX века необычайно популярным. И вот уже Уорлтайр пришел к остроумному выводу, что это святилище представляет собой своего рода теодолит для наблюдений за движениями небесных тел, а Готфри Хиггинс опять-таки усмотрел в расположении камней Стоунхенджа нечто исключительно важное — он увидел в их позициях соответствие астрономическим циклам древности. Э. Дьюк, кроме того, развил идею Д. Вуда о возможном отражении в конструкциях Стоунхенджа образа одного из светил. В связи с другими храмами Солсберийской равнины это сооружение, по его мнению, представляло в «наземном планетарии или стационарном оррерии» аспект влияния Сатурна, поскольку храм размещался на южном конце меридиана, пересекающего храм Солсбери Хилл, который символизировал собой, по его мысли, планету Земля. Гипотеза заключалась в следующем: храмы размещались на уилтширских холмах по линии небесного меридиана так, что вместе образовывали своего рода макет солнечной системы, структурные части которой (сонм светил) воплощались в святилищах. Такого рода предположения позволили Э. Дьюку сделать чрезвычайно смелое для его времени заявление о том, что астрономия предшествовала другим наукам и появилась у «изобретательных предков» очень рано. Поэтому несправедливо называть варварами тех, чьи знания Неба могут вызвать лишь удивление и восхищение. К тому же заключению в конце XIX века пришел Мозис Котсворс из Йорка, увлеченный реформой календарей. Святилища вроде Стоунхенджа он рассматривал как великие памятники древности, появление которых обусловливалось астрономическими потребностями, в частности нуждами точного измерения времени. С именем М. Котсворса связано такое курьезное происшествие. Однажды, размышляя о связи Стоунхенджа с другими объектами, он произвел расчеты и пришел к выводу, что на вершине холма Солсбери, вероятно, стоял столб высотой 95 футов, отбрасывавший тень на искусственно выровненную площадку, расположенную севернее. Если так и было, то, очевидно, на месте, где конец тени оказывался в день зимнего солнцестояния, должна находиться какая-то заметка. Котсворс тут же отправился в Солсбери. Поздним зимним вечером жители Эйбери были подняты как по тревоге. М. Котсворс повел их на вершину холма, чтобы убедиться в справедливости своих предположений. Как это ни удивительно, «заметка» была найдена точно там, где он и предполагал. Ею оказался булыжник с выбитыми на его поверхности загадочными символами, а также изображением рыбы. …И. Локьер знал, что М. Котсворс в предыдущем, 1900 году, побывал в Египте, где проверял свою теорию об астрономически-календарных предназначениях пирамид и обелисков. Значит, и его волновали мысли, которые десятилетием ранее привели туда же Н. Локьера… Как бы, однако, ни были заманчивы все высказанные о предназначении Стоунхенджа идеи, доказательство оправданности их требовало в XX веке не прикидок «на глазок», а точных расчетов. Для сэра Нормана Локьера как астронома они не составили бы особого труда, не препятствуй тому одно чрезвычайно существенное обстоятельство: отсутствие определенности в датировке памятника, без чего как общие оценки предназначения его, так и примечательность направлений оси, а также опорных камней оказывались не более чем гипотетическими реконструкциями. А что если за всем этим скрывается всего лишь совпадение случайностей? Если учесть, что характерная для оси и опорных камней Стоунхенджа направленность должна строго соответствовать определенней эпохе, то какими расчетами руководствовались У. Стьюкли, Уорлтайр и Г. Хиггинс, когда датировали святилище столь неоднозначно — 460 годом до нашей эры, 17 тысячами лет и, наконец, IV тысячелетием до нашей эры?! На заре становления науки о древностях доверчивого и несведущего в коварных тонкостях астрономии археолога можно было, пожалуй, взбудоражить и увлечь рассуждениями того же У. Стьюкли по поводу астрономической значимости ориентации аллеи и разрыва в меловых валах Стоунхенджа. Тогда знатока старины можно было, пожалуй, зачаровать малопонятными гуманитарному уму сопоставлениями вековых изменений магнитного склонения и направленности структур святилища по странам света. (Именно эти замысловатые в головоломности выкладки позволили У. Стьюкли датировать сооружение Стоунхенджа с фантастической — до одного года — точностью.) Однако Н. Локьера подобного рода вычисления могли разве что позабавить, ибо закономерности колебаний магнитного склонения оказались более сложными, чем два века назад представлялось У. Стьюкли, и археологи к началу XX века уже согласились с авторитетным мнением лорда Эвбери Джона Лёббока о сооружении Стоунхенджа около 1500–1000 годов до нашей эры людьми эпохи бронзы, а не в 460 году до нашей эры. К тому же разве Флиндерс Питри, выдающийся знаток египетских пирамид, не писал еще в 1880 году в книге, специально посвященной Стоунхенджу, что его опорные камни никак не могут определять восходы и заходы Солнца в дни солнцестояний? Археологи имели законное право сомневаться как в оправданности поиска астрономической значимости «направлений», задаваемых осью и опорными камнями Стоунхенджа, так и в основанных на результатах визирования идеях относительно времени сооружения святилища. Но, с другой стороны, и астрофизик сэр Норман Локьер видел, какие досадные, а порой и просто труднообъяснимые астрономические просчеты допускал, в свою очередь, чтимый археологами Ф. Питри, когда, основываясь на неверных посылках, пришел к заключению об установке каменных глыб в Стоунхендже в 720 году нашей эры ±200 лет. Такой разнобой мнений питал взаимную подозрительность, нетерпимость и даже вражду теперь уже прямо противостоящих друг другу знатоков древностей и любителей усматривать в археологических памятниках многозначительный астрономический аспект. Н. Локьер решил разрубить, наконец, гордиев узел и с помощью точных замеров и расчетов решить сразу обе проблемы Стоунхенджа — оценить его как уникальную астрономическую обсерваторию, а также определить эпоху сооружения святилища. То и другое предстояло выполнить с использованием соображений чисто астрономического плана. Для археологии начала века такой проект выглядел поистине фантастическим и отчаянно дерзким по замыслу. Между тем практическое исполнение его как раз и началось в тот летний день 1901 года обыденно прозаически — сэр Норман Локьер, определив с помощью Ф. К. Пенроуза среднюю линию пространства, которое было заключено между валами аллеи, попросил забить вдоль нее ряд деревянных колышков, тщательно визируя установку каждого из них с помощью теодолита. Он рассудил, что именно средняя линия аллеи, а не любой из ее валов или пяточный камень ориентировали взгляд человека из центра Стоунхенджа на то место горизонта, где ожидалось появление Солнца. Во всяком случае, такая направленность взора давала возможность получить для исполнения задуманного некий допустимый по точности вариант азимута восхода летом дневного светила. Строй деревянных визиров позволил Н. Локьеру определить с точностью до необходимых долей градуса азимут той точки горизонта, где, как следовало предполагать, жрецы Стоунхенджа ожидали проблеск первого луча Солнца в день летнего солнцестояния. Этот азимут оказался близок линии, проведенной от Стоунхенджа к реперу, установленному военно-топографической службой на Солсбери Хилл. В противоположном направлении — на юго-запад, где Солнце заходило в дни зимнего солнцестояния, та же линия достигала расположенного в 6 милях от Стоунхенджа древнего земляного сооружения Гроувелли Кастл и в 7,5 милях подобного же объекта в Кастл Дитчис. Азимут этой линии оказался равен 49°34′18″, что и было принято за приблизительную ориентацию оси святилища. Далее Н. Локьеру предстояло, произведя соответствующие вычисления, узнать, в какие годы какого тысячелетия Солнце восходило на этой линии на северо-востоке 22 июня, а заходило на северо-западе 22 декабря. Такие расчеты, элементарные для астронома, не заняли много времени: примерно в 1680 году до нашей эры ±200 лет, а с учетом возможности ошибок при замерах и степени точности соответствующих таблиц, по которым велись вычисления, — около 1820 ±200 лет до нашей эры. Выходило так, что У. Стьюкли ошибался в своих вычислениях в лучшем случае более чем на тысячу лет, а относительно масштаба просчетов Уорлтайра, Г. Хиггинса, Ф. Питри и говорить не приходилось. В октябре 1901 года результаты поиска были доложены Королевскому обществу. В последующем, стремясь усилить свой вывод о бесспорной обусловленности астрономической ориентации главной оси Стоунхенджа, Н. Локьер проверил, насколько оправдан скепсис Ф. Питри относительно значимости направлений опорных камней святилища, как их представил в свое время Э. Дьюк. Точные замеры с помощью теодолита показали, что ошибался Ф. Питри, а от опорного камня № 92 через камень № 91 как визир в самом деле можно наблюдать восход Солнца в дни летнего солнцестояния, также и от опорного камня № 94 через камень № 93 как визир — заход Солнца в дни зимнего солнцестояния! Итак, предположение о подразделенности года у тех, кто сооружал Стоунхендж, по крайней мере на две равные части по количеству суток между солнцестояниями получало достаточно строгое обоснование. Однако сэру Норману Локьеру посчастливилось сделать очередной и принципиально новый по значимости шаг в уточнении возможной структуры солнечного календаря жрецов святилища бронзового века. Прокладывая из центра Стоунхенджа с помощью теодолита направления на горизонт через некоторые структурные части святилища, Н. Локьер выявил чрезвычайно важные по астрономической значимости линии. Их-то как раз и недоставало, чтобы говорить о возможности подразделения солнечного года на более дробные части, чем полугодовые блоки, которые определялись днями солнцестояний. В самом деле, если, находясь в центре Стоунхенджа, ожидать восхода Солнца над опорным камнем № 91, то, как рассчитал Н. Локьер, это могло случиться в весьма примечательный с точки зрения рациональности подразделения солнечного года момент: или приблизительно за 45 дней до времени зимнего солнцестояния, т. е. около 8 ноября, когда Солнце в своих восходах продолжало сдвигаться к югу, или через 45 дней после того же момента, т. е. около 5 февраля, когда Солнце, достигнув крайней на юге точки восхода, начинало восходить все севернее и севернее. Еще два относительно малых календарных блока солнечного года можно было выделить, наблюдая за западным сектором горизонта из центра Стоунхенджа, используя в качестве промежуточного визира опорный камень № 93. Он, как установил Н. Локьер, отмечал момент захода Солнца приблизительно за 45 дней до времени летнего солнцестояния, т. е. около 6 мая, когда Солнце все еще продолжало при своих восходах и заходах сдвигаться к северу, или через 45 дней после того же момента, т. е. около 8 августа, когда Солнце, вставая из-за горизонта или заходя за него, уже начало свое очередное «путешествие» в южную часть небосклона. Итак, определенные структуры Стоунхенджа подсказывали, что те, кто обслуживал святилище, считали время ее только по годам или по половинам солнечного года. Они умели фиксировать также восьмые части его, но лишь по рубежам, предшествующим или следующим за солнцестояниями. Можно понять глубокое волнение, которое испытал Н. Локьер, если знать, что стояло за уяснением такой календарной истины. Даты этих временных рубежей поразительно совпадали с основными праздничными днями в древнем кельтском календаре, который известен под названием майского годичного календаря! Отсюда последовал вывод, что Стоунхендж вначале, очевидно, планировался с ориентацией на выделение частей майско-ноябрьского календаря, структуру коего в последующем и заимствовали у людей бронзового века кельты (Н. Локьер прямо говорил о «календарном наследстве» строителей мегалитического сооружения). Эти срединные между равноденствиями и солнцестояниями отрезки времени определяли начало или окончание определенного рода хозяйственных работ. Н. Локьер с удивлением обратил позже внимание и на тот примечательный факт, что и в современной ему Англии проведение сельских ярмарок и связанных с ними торжеств определялось все той же структурой майско-ноябрьского календаря бронзового века и кельтов. Поразительная в живучести традиция, которая поддерживалась сезонным ритмом жизни фермерских хозяйств! Н. Локьер, основываясь на своих расчетах, высказал также убеждение, что жрецы Стоунхенджа стали наблюдать точки солнцестояний лишь к 1600 году до нашей эры, после чего визиры майско-ноябрьского календаря потеряли значение главных направлений на горизонт. Так это было в действительности или нет, судить археологам было нелегко. К тому же озадачивало то, что исключительно важные календарные моменты равноденствий — весеннего и осеннего в структурах храма выявить пока не удавалось. В самом деле, Н. Локьеру при всех его стараниях и интуитивной прозорливости так и не удалось обнаружить, какие из структур Стоунхенджа ориентировали глаз человека на горизонт, где следовало ожидать восхода и захода солнца в дни равноденствий, когда природа или готовилась к возрождению (весна) или, напротив, начинала медленно «умирать» (осень). Случись это, и можно было бы говорить о том, что жрецы святилища подразделяли год на 8 частей, своего рода месяцев, по 45 дней каждый. Но уже достаточно и того, что Н. Локьер совершил. Он впервые профессионально и с обычной для представителя естественных наук основательностью попытался увязать в единое целое астрономию и археологию. Астроархеология открыла перед историками культуры захватывающие перспективы. Н. Локьеру, знакомому с мифологией и календарными культами, стало ясно, что за пристальным вниманием жрецов святилища к ключевым моментам в «жизни» дневного светила, когда совершались переходы от одного сезона к другому, просматривались основополагающие контуры астральной религиозной системы людей бронзового века. Сообщения античных авторов о небесной музыке кифары бога, который будто бы во времена оны посещал туманный Альбион, и о постоянных звуках кифар жрецов в святилище гипербореев могли восприниматься теперь как многозначительные намеки на священные ритуальные действа, связанные с обрядами служителей первобытных богов по случаю календарных языческих празднеств. Взаимосвязь нарождающейся науки древних мудрецов и привитого жрецами к ее неокрепшему стволу религиозного пустоцвета неожиданно раскрылась во всей зловещей обнаженности. Ясно стало и иное: если Н. Локьер был прав, то его идея не просто открывала новые горизонты во взглядах на первобытное общество. Она противоречила самым фундаментальным представлениям археологов о древнем человеке, взрывая их и разнося вдребезги. Как показали последующие события, это и определило существо трагедии — его личной и той науки, которую он имел честь представлять. Кажется, археологи, призванные по долгу службы благоговейно восстановить для современников истинный облик их далеких предков, должны были приветствовать новую отрасль науки, рожденную на стыке астрономии, археологии и истории культуры. Парадоксально, но, как уже, увы, случалось в истории науки не однажды, все оказалось наоборот. Археологи сначала делали вид, что из-за очевидной для них несерьезности сюжета не замечают ни выступлений, ни статей о Стоунхендже специалиста по Солнцу Н. Локьера. Он же, удивленный равнодушием и полным отсутствием интереса к результатам своих исследований, в свою очередь заподозрил, по-видимому, археологов в намеренном уклонении от своего профессионального долга и позволил себе дать им советы. Поэтому-то, очевидно, в 1905 году в журнале «Nature» появилась статья «Несколько вопросов археологам». Это сочинение знатоки древности восприняли о раздраженном возмущением. Позже говорили, что статья в «Nature» появилась по недосмотру редакции. В это стоило, пожалуй, поверить, если бы не одна «частность» — основателем и редактором журнала в течение полувека оставался ни кто иной, как астрофизик сэр Джозеф Норман Локьер. Как бы, однако, ни было, но вскоре разразилсяграндиозный скандал, на полвека вперед определивший болезненно острое неприятие археологами тех, кто в их епархии осмеливался говорить об астрономических аспектах древних памятников. Трудно отделаться от впечатления, что математико-астрономические выкладки Н. Локьера показались английским археологам не более чем ловкими манипуляциями очередного любителя колпачить профессионалов. Недаром знаток своих соотечественников Шерлок Холмс однажды сказал с нескрываемой досадой: «Мы, англичане, — консерваторы. Любой человек, отличающийся от нас образом мышления, уже кажется нам мошенником». В оценках Стоунхенджа специалисты по древностям предпочитали, изничтожив в критическом пылу Н. Локьера, использовать излюбленный в затруднительных случаях и, как им представлялось, неотразимый по силе, а главное, строгой академической многозначительности ход: если объект непонятен, то его следует объявить «культовым», предназначенным «для отправления обрядов», а то и «торжественных ритуальных процессий». Астрономический аспект святилища представлялся археологам неопределенным (как будто кто-то может судить об этом лучше астронома!), а цель ориентации — туманной, хотя и не отрицалось, что она имела какое-то не ведомое никому «ритуальное значение». За подобной безмерной осторожностью археологов скрывалось, пожалуй, совсем не стремление придать своей науке безупречный академический лоск и не желание сохранить профессиональную репутацию, как представляют порой сложившуюся в начале века вокруг проблемы Стоунхенджа ситуацию. За сим таилось нечто обескураживающе банальное и простое — ленивое нежелание вникнуть в суть сложных для гуманитарного ума «астрономических аспектов» археологических памятников и, главное, боязнь прослыть «академически несерьезным» или, что уж совсем страшно, «свихнувшимся чудаком». А многозначительная характеристика загадочного объекта как «ритуального», — в сущности, стыдливое прикрытие бессилия исследователя проникнуть в сокровенный смысл объекта, который он взялся изучать, — по традиции проходила легко. Вместе с тем при неторопливом размышлении о причинах неприятия археологами идей Н. Локьера начинает просматриваться значительно более глубокая подоснова печального хода событий в развитии науки о древностях на рубеже веков, да и в последующие десятилетия, вплоть, пожалуй, до середины XX века. Идея была слишком свежа. Ей еще предстояло созреть и прийти в соответствие с имеющимися археологическими данными. Вместе с тем вокруг нее была создана атмосфера ажиотажа и сенсации, породившая лавину спекулятивных теорий, и в их потоке было непросто выявить рациональное зерно. Не следует сбрасывать со счетов и то важное обстоятельство, что археологи, представители этой сравнительно молодой отрасли знаний, формировались как исследователи в атмосфере сугубо рационального восприятия первобытности. Чуждые благоговейного восприятия традиций классической древности и даже эпохи Ренессанса (с которым У. Стьюкли, Д. Вуд и Д. Смит, хоть и опосредованно, оставались связанными всем существом своих мыслей и дел) археологи конца XIX — начала XX века приняли теорию «Urdummheit», «первородной глупости» предка, чрезвычайно низкого культурного статуса его, узости круга знаний тех же друидов, которые стали восприниматься как предельно «примитивные предки», лишенные элементарных понятий об искусстве и науке. Так, Стюарт Пиггот умудрился написать толстую книгу «Друиды», ни словом не упомянув о сообщении Юлия Цезаря относительно их успехов в астрономии и философии, чему, как уверял римский полководец, можно было обучаться в знаменитых на всем Севере Европы школах. При восприятии древних культур под углом зрения концепции «Urdummheit» попытки выявить астрономические аспекты в археологических памятниках выглядели авантюристическими. В такой ситуации не следует удивляться тому, что астроархеологи с их необычным направлением в исследованиях воспринимались иронически. Их называли «романтиками», а то и «фанатиками» или, по-джентльменски мягко, «людьми с причудами». Их критиковали за грубые просчеты в оценке уровня развития человека первобытного общества и обвиняли в намерении «поколебать основы». Создавалось впечатление, что от незыблемости постулата о господстве «первородной глупости» в «изначальных культурах» зависело их житейское благополучие и покойное течение дел на раскопках и в музейных хранилищах. Н. Локьер ответил на выпады достойно: летом 1906 года из печати вышла книга «Стоунхендж и другие британские каменные памятники с точки зрения астрономии». Через три года расширенная за счет описания других памятников того же типа книга вышла из печати вторым изданием. В краткие периоды отпусков Н. Локьер продолжал изучать те памятники Англии, которые позволяли приоткрыть завесу над обстоятельствами рождения его кровной науки — астрономии. Во время поездок по стране он читал популярные лекции по древней астрономии, встречался с людьми, страстно увлеченными теми же изысканиями, а посетив в апреле 1907 года Корнуолл, поддержал желание местных любителей археологии создать Общество естественной истории и древностей Пензанса. Члены его построили вскоре внутри кольца из камней Тригсил около Сент-Джаста хижину, где заслушивали доклады о древних памятниках и астрономии, а также наблюдали за светилами по ориентирам, указанным Н. Локьером. В 1908 г. такое же общество Н. Локьер по желанию энтузиастов из местных жителей организовал в Уэльсе. С секретарем этого общества преподобным Джоном Гриффитсом Локьер изучал местные мегалитические памятники и совершал неоднократные экспедиции в Северный Уэльс. Его весьма поразил развитый комплекс астрономических знаний у кельтов, отраженный в фольклорных записях XVIII–XIX веков, и соответствие этих сведений тому, что удавалось выявить при изучении как каменных «колец», восходивших к эпохе неолита, так и построек, которые возводили сельские жители при подготовке к сезонным праздникам народного календаря. Н. Локьер все более убеждался в справедливости давних заключений У. Стьюкли о продуманной координации древних памятников, предназначенных для наблюдений за Небом, друг с другом, об отражении ими некоей модели, выраженной строго рассчитанным расположением святилищ, менгиров и групп камней. Так, на Солсберийской равнине равносторонний треугольник со сторонами длиной 6 миль образовывали расположенные в углах его Стоунхендж, Гроувели Кастл и Олд Сарем. Н. Локьер обратил также внимание на примечательное с точки зрения геометрии взаимное расположение Стоунхенджа, Олд Сарема, Солсбери и Клисбери Кэмпа. Захваченные его идеями, в том же направлении стали с увлечением работать Д. Гриффитс, адмирал Бойл Сомервилл, археолог А. А. Льюис, Девуар и купец из Хиерфорда Альфред Уоткинс. Б. Сомервилл заметил, что многие мегалиты, обнаруженные им на севере Ирландии, располагались весьма примечательно — они всякий раз ориентировали взгляд на какую-нибудь заметную по характерности рельефа точку на горизонте, а она при проверке оказывалась местом, где восходило Солнце в дни солнцестояний, равноденствий или на рубежах майско-ноябрьского года. Ему удалось также выявить ориентиры на участки Неба, где в определенное время появлялись примечательные для календаря звезды или полная Луна. Б. Сомервилл в соответствии с астрономическими расчетами датировал установку таких мегалитов временем от II тысячелетия до нашей эры до I века до нашей эры. Ему, кроме того, принадлежит честь открытия холма с камерой «Постель Гиганта», ориентированной в 100 году до нашей эры пятью стоячими камнями на восход Солнца в день летнего солнцестояния, а в Шотландии он первым обследовал в Льюисе знаменитое каменное «кольцо» Калланиш, каменная аллея которого ориентировала взгляд точно на север. Н. Локьер способствовал публикации на страницах «Nature» сведений, собранных его соратниками. Не без его, очевидно, благословения Б. Сомервилл прочитал свой доклад «Астрономические указания в мегалитических памятниках Калланиша» сначала в Королевском антропологическом институте, а затем и в Британской астрономической ассоциации. А. Уоткинс после смерти Н. Локьера выдвинул дерзкую идею о расположении святилищ и прочих древних сооружений по линиям, которые прослеживались за пределами видимого горизонта на многие десятки миль. Такого рода линии или, как их называл А. Уоткинс, «leys», «дороги», со своеобразными вехами — памятниками вроде отдельных камней, «колец», куч каменных глыб, курганов, колодцев, храмов и с характерными природными «зарубками» на горизонте в виде, допустим, эффектных скальных выступов были ориентированы астрономически значимо и образовывали строгую систему. Эти линии покрывали как сетью значительные по площади районы, и, следуя по ним, можно было, не теряя ориентировки, путешествовать по стране. Накопление подобного рода фактов не производило, однако, впечатления на мир английских археологов, которые с ревнивой яростью отстаивали свою гегемонию в науке о древностях. Но вот ведь что любопытно: скептицизм и неприятие астрономии в археологии вовсе не питались результатами тщательных проверок выводов Н. Локьера и его соратников. Специалисты по древностям, вооруженные неотразимой, как им представлялось, по силе убедительности теорией «Urdummheit», если бы даже смогли провести нужную проверку, не испытывали в том необходимости. Они были убеждены, что «ересь» питается обстоятельством до предела простым — неосведомленностью Н. Локьера и его неугомонных соратников в «примитивной природе» первобытного общества. Ну, не удобно ли освобождало их это от хлопотной нужды опровержения самоочевидных заблуждений? Логика в такой позиции была элементарной: этого быть не может, потому что этого не может быть никогда. Не удивительно поэтому, что вскоре методом борьбы с теорией Н. Локьера стало глубокое умолчание специалистами по древностям Англии результатов исследований в области астрономической археологии — отработанный прием расправы с не освященными традицией идеями, которые нарушали «академическое спокойствие». Если обратиться к сочинениям английских археологов, изданным после смерти Н. Локьера, то может создаться впечатление, будто такого человека вообще не было на свете. Интерес к астроархеологии на многие годы как будто угас. Профессиональные археологи хорошо помнили преподнесенный сэру Норману Локьеру урок и не рисковали касаться его темы, как будто она была, согласно завету грозного бога, запретным плодом на древе познания. Лишь в конце 1950-х годов Питер Ньюэм, который к археологии, разумеется же, не имел отношения (он заведовал отделением Северо-восточного управления газовой промышленности Англии), выйдя на пенсию, взял на себя опасную роль любопытствующей библейской Евы. Коварно соблазненный сочинениями «змия-искусителя» II. Локьера, он на свой страх и риск занялся изучением астрономических аспектов Стоунхенджа. Исследования очередного чудака дали потрясающий результат: П. Ньюэм выявил, наконец, оказавшееся незамеченным Н. Локьером направление, по которому жрецы святилища могли отмечать восход Солнца в дни весеннего и осеннего равноденствия. Следовательно, в самом деле люди бронзового века Британии могли подразделять солнечный год по крайней мере на 8 календарных блоков по 45 суток каждый! Но вкушение запретного плода привело П. Ньюэма и к значительно более волнующему открытию: он впервые заметил признаки того, что структуры Стоунхенджа ориентировались его строителями также и на точки горизонта, где восходила или заходила Луна в особо примечательные в ее «жизни» периоды, когда она была или высокой, или низкой. Так, стоило стать у камня № 94 и принять в качестве визира камень № 91, как на горизонте выявлялась самая крайняя на юге точка восхода высокой Луны. Если же наблюдения вести от опорного камня № 92 в сторону камня № 93, то выявлялась крайняя на севере точка захода высокой Луны. П. Ньюэму не удалось найти направления, по которым в Стоунхендже могли определяться крайние точки восходов и заходов низкой Луны. Но и фиксация крайних пределов «миграций» по горизонту восходов и заходов высокой Луны позволяла догадываться, что люди бронзового века, обратив внимание на годовые циклы жизни ночного светила, когда оно становилось то высоким, то низким, могли использовать это явление для выделения более крупных, чем год, календарных блоков. П. Ньюэм напомнил археологам, что два подхода Луны к стадии высокой разделяют 18,61 года. Значит, Стоунхендж был не только солнечной, но и лунной обсерваторией и храмом! Нельзя сказать, что археологи не обратили внимания на открытия П. Ньюэма. Совсем напротив, книгу «Загадки Стоунхенджа», напечатанную им за свой счет, сразу же заметили и… наложили строгое вето на продажу ее в книжном магазине Министерства общественных работ, которому принадлежал Стоунхендж. Разумеется, новооткрытые астрономические направления святилища воспринимались по-прежнему как результат «совпадения случайностей». Но, как остроумно было однажды замечено по другому, хотя и сходному со Стоунхенджем, печальному случаю, «если точность астрономической ориентации… достигнута благодаря случайности, то надо сказать: счастливая случайность посещает только тех, кто хорошо к ней подготовлен»[18].
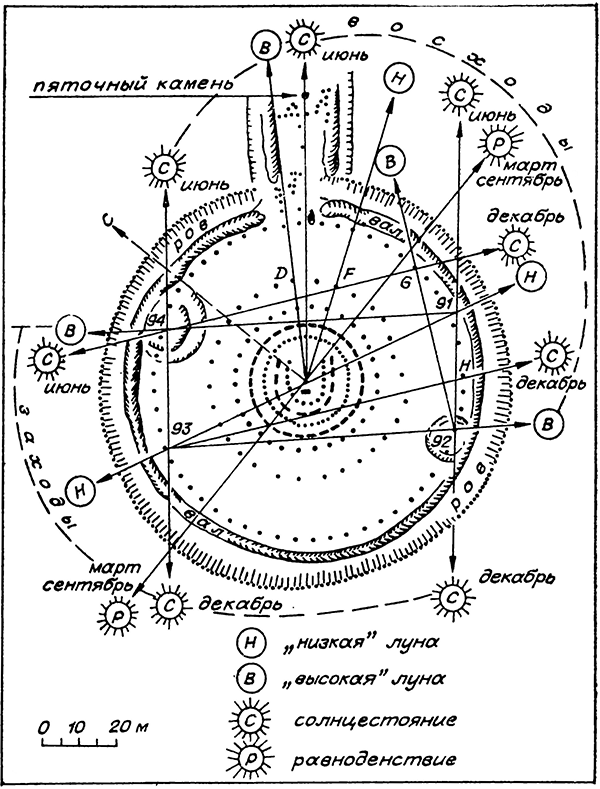
Неизвестно, как бы развивались события и как долго продолжались бы наукообразные разговоры английских археологов о «ритуальном значении» святилища на Солсберийской низине, если бы за дело не взялся астроном Джеральд Хокинс. Он-то и начал последний в полувековой борьбе этап сражения в защиту величия достижений предков в познании природы. Недоверчивым археологам Д. Хокинс положил «на зубок» не только точные расчеты астронома, но и «доводы» беспристрастной в спорах электронно-счетной машины, которую он, вводя в нее определенную программу, научил проигрывать «астрономические аспекты археологических памятников». Машина с ее обширной памятью, проигрывая массу закодированных направлений, точно «подсказала», где следует остановиться при желании полюбоваться крайним на юге восходом низкой Луны и крайним на севере ее заходом. Оказывается, П. Ньюэм, как и Н. Локьер, не заметили, что эти направления определяются все теми же великими по значимости опорными камнями: № 91 и № 93. Поскольку астрономы знали, что переход Луны от «высокого» состояния к «низкому» занимает 9,3 года, закономерно предположить, что жрецы Стоунхенджа учитывали или использовали в своих календарных раскладках и вполовину меньший от 18,6 года блок безостановочно текущего времени. Всего же машина выявила 10 направлений, которые ориентировали взгляд на солнечные азимуты, а 14 — на лунные. Но очередное, теперь уже совместное Д. Хокинсом и электронно-счетной машиной вкушение запретного плода астроархеологии с древа познания позволило оценить Стоунхендж не только как величавый храм Солнца и Луны, но и как обсерваторию по наблюдениям за всеми сезонными циклами и разными календарно-астрономическими тонкостями в жизни дневного и ночного светил. Расположение отдельных структур Стоунхенджа позволяло жрецам предсказывать самое, пожалуй, страшное среди необъяснимого, с чем только сталкивался первобытный человек, — моменты лунных и солнечных затмений. Понимание закономерностей лунных и солнечных затмений, циклы которых жрецы бронзового века привели, согласно расчетам Д. Хокинса, в соответствие с трехкратными узловыми обращениями Луны по 18,61 года каждый, означало и следующее: первобытные астрономы Стоунхенджа ясно представляли, что форма Земли не плоская, а сферическая! Не менее важно и то, что люди бронзового века Севера Европы, сооружая столь грандиозные святилища, заботились не только об исполнении «ритуалов», но также о бережном сохранении накопленных знаний по астрономии, а также о передаче их от поколения к поколению. Если так оно и было, то археологи попадали в весьма двусмысленное положение, не желая принять от «безграмотных варваров» культурное наследие веков и тысячелетий. Поначалу казалось, что все возвратится на круги своя: через полвека после баталий с Н. Локьером археологи Англии с той же страстью обрушились на новоявленного защитника «астрономических аспектов» Стоунхенджа. В ход для уверенной и немедленной нейтрализации сразу же были пущены «тяжелые орудия» — в полемику с Д. Хокинсом вступили автор «образцового» сочинения о Стоунхендже профессор Ричард Аткинсон и энциклопедический знаток древних культур Жакетта Хокс. Уже названия их публикаций — «Лунные фантазии на тему Стоунхенджа» и «Бог в машине», — напечатанных в 1966–1967 годах в журнале «Antiquity», настраивали читателя на определенный лад. Дискуссия с заблудшим в ереси велась в снисходительно-сатирическом тоне. Но каждому непредубежденному бросалась в глаза шаткость аргументов, противопоставленных маститыми археологами четким заключениям Д. Хокинса: ориентация линий визирования на Солнце и Луну есть следствие совпадения случайностей; обнаружение познаний в астрономии у древних — результат наложения на прошлое современных научных идей. Главный козырь у археологов тоже был прежним: астрономы игнорируют «общеизвестные исторические факты» о примитивности древнего общества. Отсюда следовал вывод — Стоунхендж строился для исполнения «ритуалов», а не для ученых умствований. Но нет, не все вернулось на круги своя. Археологи не выступили на сей раз единодушным фронтом против давно, кажется, забытой «ереси». А тут еще в защиту Д. Хокинса высказался выдающийся космолог из Кембриджа профессор Фред Хойл, у которого «астрономические аспекты» Стоунхенджа не вызвали ни малейшего сомнения. Оценивая труд строителей храма и цели, которые при этом преследовались, он выразил мнение, что подобное могло быть под силу лишь умам древних Ньютонов и Эйнштейнов. Окончательный удар по скептикам был нанесен серией публикаций профессора инженерных искусств в отставке Оксфордского университета Александра Тома, рассказ о десятилетиях самоотверженной и бескорыстной деятельности которого заслуживает целой книги. Сам Р. Аткинсон, уяснив под конец дискуссии, о чем же, собственно, толкуют от начала века последователи Н. Локьера, в счастливом восторге прозрения назвал издания А. Тома «хорошо сконструированной бомбой замедленного действия». Однако «замедленной» она представлялась только археологам, коим, очевидно, все было недосуг разбираться в соображениях, высказанных сухим языком математики. А. Том, обследовав на островах Англии сотни памятников со стоячими камнями, пришел к выводу, что они сооружались по единым стандартам и геометрическим канонам, близким принятым пифагорейской школой. К началу II тысячелетия до нашей эры люди бронзового века Англии использовали стандартную единицу измерения, которую А. Том назвал «мегалитическим ярдом», равным 2,72 фута. Непременно целые числа такого своеобразного метрического модуля составляли размеры разного рода мегалитических сооружений, ориентированных астрономически значимо. Линии, определяющие конфигурацию плана каменных колец, как удалось доказать А. Тому, представляли собой одновременно визирные направляющие на Солнце, Луну и звезды. Он отметил также взаимосвязь установленных камней с естественными и искусственными «мушками», которые заметно выделялись вдали, на горизонте, ориентируя глаз опять-таки вдоль астрономически значимой линии. Эти визиры располагались порой на столь значительном расстоянии от места наблюдения, что позволяли с исключительной точностью фиксировать положение светил. А. Тому, в частности, удалось выявить несколько древних астрономических пунктов, с помощью которых астрономы-жрецы могли засекать поистине ничтожные (всего в 9′!) отклонения в орбите Луны, вызывавшиеся воздействием на нее Солнца! Чтобы по достоинству оценить тонкость наблюдений за Небом тех, кто милостью английских археологов все еще бродил в рубище «варваров», достаточно напомнить, что в современной астрономии такого рода отклонения впервые удалось заметить лишь Тихо Браге. А. Том обнаружил также несколько вблизи друг друга расположенных пунктов, с которых наблюдения велись, очевидно, одновременно — для подстраховки, чтобы наверняка и точно зафиксировать ожидаемое небесное явление. В то же время он в очередной раз подтвердил умение геометров новокаменного и бронзового веков размещать объекты на местности в двух точках, скрытых друг от друга линией горизонта. Все это вместе взятое позволило ему сделать поразительный вывод о том, что древние обитатели Англии, современники строителей пирамид и зиккуратов Ближнего Востока, разработали строгую систему хранения информации по астрономии и превосходно умели предвосхищать ожидаемые события. Более того, он осмелился высказать убеждение, что жрецы новокаменного и бронзового веков туманного Альбиона создали школу математической философии, близкой по духу пифагореизму. Разумеется, отнюдь не пристрастие к отвлеченным размышлениям или элементарные нужды счисления времени привели к тому, что в прибрежных зонах Северной Англии, в Шотландии первобытные люди создали, как установил Александр Том, целую сеть наблюдательных пунктов, с которых длительное время велись наблюдения за Луной. Как можно полагать, древний человек хорошо знал, что без учета фаз Луны, а также состояния ее в стадии низкой, высокой или промежуточной рискованно было отправляться даже в кратковременное путешествие вдоль побережья и между островами. Океанические приливы, усиленные воздействием Луны (в особенности когда она находилась в стадии новолуния или полнолуния), могли увлечь утлые челны мощными течениями в открытое море, откуда возвращение к земле было весьма затруднительным, если вообще возможным, а то и втянуть в круговерть гибельных воронок. Во всяком случае, сам А. Том, занимаясь поисками древних астропунктов, без учета состояния Луны, как он говорил, никогда не отваживался отправляться в плавание вдоль берегов Шотландии. Путешественникам следовало знать и то, что через каждые 18,61 года (знаменитый цикл перехода Луны от высокой к низкой, а затем вновь возвращения к стадии высокой) приливные волны возрастали до 15-метровой высоты. Эти так называемые сизигийные приливы начинались тогда, когда Земля, Солнце и Луна располагались примерно на одной линии, из-за чего силы притяжения небесных светил суммировались. Мощь таких притяжений в особенности возрастала через каждые 18,61 года, когда разность наклонов орбит Земли и Луны сводилась к минимуму и все три небесных тела оказывались точно на одной прямой. Как установлено теперь, с этим циклом следует увязывать возрастание объема улова сельди (толща воды с косяками ее оказывалась ближе к поверхности), увеличение количества землетрясений, наступление в отдельных местах земли засушливых периодов. Учет и предугадывание части подобных явлений, связанных с Луной и Солнцем, для оптимальной организации экономики в первобытном обществе играли, очевидно, огромную роль и, как теперь сказали бы, с «лихвой окупали затраты» на создание в каменном и бронзовом веке лунных и солнечных обсерваторий. Эта своего рода «рентабельность» так называемых «святилищ», «культовых» или «обрядовых» сооружений, а то и просто «жертвенных мест» вызывала и питала в конечном счете почтение первобытных к богам, воплощенным в Луне и Солнце, а также к жрецам — усердным их служителям. Р. Аткинсон после детального ознакомления с работами А. Тома «Мегалитические памятники в Британии» и «Мегалитические лунные обсерватории» вынужден был признать, что материалы их способны серьезно поколебать многие общепринятые теории о ранних культурах Британии. Не уступал он, правда, лишь в одном — продуманность группировки камней в Стоунхендже по-прежнему казалась ему «необдуманной фантазией». Однако А. Том и не работал ранее в Стоунхендже, вокруг которого разворачивались прежде основные сражения Н. Локьера со своими противниками, а, отчаянно отбиваясь от неуклюжих пересмешников, а то и циничных клеветников, шел той же дорогой по памятникам, быть может, не столь эффектным, но не менее примечательным по заключенным в них «астрономическим аспектам». Теперь же настала пора обратиться и к Стоунхенджу, чтобы разобраться в «необдуманных фантазиях». А. Том приступил к работе с обычной для него основательностью, и тронулся «воз с поклажей»: на сей раз при составлении точнейшего плана Стоунхенджа с указаниями первоначального положения каменных блоков и плит ему помогали не только сын и внук, но и (кто мог раньше мечтать о подобном!) профессор Ричард Аткинсон, ставший ярым энтузиастом астрономической археологии. После топографической съемки последовали расшифровка и реконструкция геометрических основ храма. А. Том уточнил азимут главной оси Стоунхенджа, который оказался равным 49°57′, из чего следовало, что линия его пролегала на 20′ юго-восточнее направления, выявленного Н. Локьером. Жрецы в том направлении могли наблюдать 22 июня диск Солнца, разрезанный линией горизонта пополам, примерно в 2100 году до нашей эры, — а именно эта дата сооружения сарсенового кольца была принята в археологии к середине нашего века. А. Том установил также, что на раннем этапе строительства Стоунхенджа азимут к разрезанному пополам диску Солнца составлял 49°47′3″. Это означало, что храм начали сооружать около 2700 года до нашей эры, т. е. как раз приблизительно в то время, когда в Египте жрецы отмечали рубеж одного из великих «Годов Бытия». В свете оптимистической ситуации, которая складывается теперь, приходится лишь горько сожалеть, что Н. Локьер не дожил пусть не до триумфа своих идей, но, скажем сдержаннее, до тех лет, когда, по словам Джона Вуда, в археологических кругах стало, наконец, возможным «без малейшей неловкости» обсуждать проблемы астроархеологии как «признанной области науки»[19]. Сам Р. Аткинсон, главный среди английских археологов знаток Стоунхенджа, прямо и смело объявил себя «обращенным в астроархеологию», обещал поддержку идеям, у истоков которых стоял Н. Локьер, и даже («Слушайте! Слушайте!» — как с энтузиазмом возглашают в таких случаях в сдержанном на эмоции английском парламенте) потребовал «доли доверия» к последующим открытиям астроархеологов. Глубоко символичным воспринимается в связи со всем этим тот знаменательный факт, что первая публикация Д. Хокинса по Стоунхенджу, с которой начался последний тур борьбы за истину, была напечатана в одном из самых авторитетных научных журналов — «Nature». Это на его страницах 80 лет назад «по недосмотру редакции» основатель и первый редактор издания астрофизик сэр Джозеф Норман Локьер посмел задать «Несколько вопросов археологам». Ответы на часть из них получены. Теперь они могут показаться банальными. Но осторожнее в высокомерном пренебрежении! Это как раз тот заезженный для детективных историй финал, вслед за которым тугодум Ватсон обычно простодушно говаривал своему прозорливому другу Шерлоку Холмсу: «Все правильно и очень просто после того, как вы мне объяснили».

Заключение ИГРА ЧИСЕЛ
Астрономию можно назвать древнейшей из наук. Как только человек начал осознавать свое существование, он тотчас же поднял к Небу вопрошающие взоры и принялся измышлять элементарные системы, которые позволяли удовлетворить его жажду знаний.Никола Камиль Фламмарион
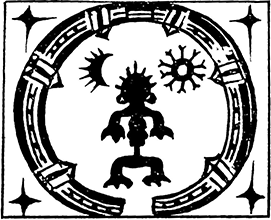
Итак, конец почти детективного по сюжету повествования счастливый, но не забыт ли легкомысленно (за оглушительным грохотом баталий вокруг Стоунхенджа) предок из древнекаменного века, которого в начале книги принудили наблюдать из пещеры за Солнцем и Луною? Неужто он так и останется невинной фантазией без права на реальность? Нет, не забыт, ибо предок такой — не досужая выдумка археолога с необузданным воображением. Одни из знатоков ранних культур Западной Европы Ж. Лалан после очередного «сюрприза», преподнесенного ему в ходе раскопок первобытными охотниками на мамонтов, воскликнул: «Исследования древнекаменного века подобны театру — они полны неожиданностей!» В самом деле, если обратиться к истории археологии, то нет в ней страниц более драматических, чем те, на которых записаны обстоятельства утверждения в пауке о детстве человечества сначала реальности изготовления в «допотопные времена» каменных инструментов (первооткрыватель — Буше де Перт), естественности зверообразного облика предшественника «человека разумного» (Карл Фульротт), а затем, с находки дона Марселино де Саутуолы, наличия поразительных художественных способностей у тех, кого ранее, не скрывая отвращения, презрительно называли «троглодитами». Можно подумать, что недооценка способностей предков теперь, когда, кажется, основные конфликты решены, стала наконец достоянием истории науки. «Жрецы» ее, умудренные богатым опытом прошлого, ничему не должны удивляться, или, во всяком случае, им более пристало бы воздерживаться от торопливых суждений при известиях о новых «сюрпризах» первобытного человека, этого уникального творения природы и самого себя. Но ничуть не бывало! Крутится в бесконечном круговороте «колесо времени», отсчитывая дни, месяцы и годы, все глубже и основательнее проникают в мир прошлого археологи, и по-прежнему, как в театре, наука о древностях остается полной неожиданностей: возраст человечества «удревнен» почти до четырех миллионов лет; рисунки в глубинах пещер образовали продуманную и необычайно сложную систему храмовых святилищ, структура которых, оказывается, отражала исключительный по значимости комплекс идей и представлений первобытного человека о природе; пристрастие к искусству, как выяснилось, было присуще не только «человеку разумному», но и, в определенной мере, обезьянолюдям; а вот теперь настала пора затронуть и вопрос об «астрономических аспектах» в культурах древнекаменного века, отстоящих от современности на десятки тысячелетий. Неожиданности не кончаются и сопровождаются ожесточенными столкновениями взглядов не менее противоречивых, чем полтора столетия назад. Ничего не поделаешь — речь, в сущности, идет о познании начала культуры человечества и невообразимо сложного — интеллекта и духовного мира предка, который, как это представлено в пещерных росписях, нарядился в шкуру бизона и, словно кружась в стремительном вихре маскарада, предлагает своим цивилизованным потомкам решать самую головоломную из задач — кто на самом деле скрылся в этом живописном карнавальном костюме детства человечества? Истоки понимания мира во всей его сложности и многообразии явлений теряются во мгле десятков тысячелетий. Все успехи современной науки основываются на знаниях, по крупицам накопленных в прошлом. Они исподволь, но неустанно подготавливались безвестными мыслителями древности, которые веками, заблуждаясь и вдохновляясь прозрением истины, разгадывали тайны природы. Обращаясь к этапам познания Неба, этого голубого чуда мироздания, усеянного ночью мириадами таинственно мерцающих звезд, а днем залитого лучами ослепительного Солнца, неизменно восхищаешься познаниями в астрономии древнеегипетских жрецов и шумеро-вавилонских магов. Это они, представители своего рода «мозговых центров» древнейших цивилизаций Земли, египетской и месопотамской, могли, вызывая суеверный ужас своих современников, предсказывать поражающие воображение небесные явления, в том числе то, что всегда воспринималось с безграничным страхом, — солнечные и лунные затмения. Между тем никакого чуда предвидения не было — просто придворные астрономы египетских фараонов и шумерийских владык превосходно представляли закономерности «жизни Неба» и его «обитателей» — Солнца, изменчивой Луны, «блуждающих странников» — планет и звезд. Вместе с тем давно обращено внимание на то обстоятельство, что познания в точных науках древних египтян и тех, кого в средневековой Европе с почтением называли халдеями, настолько значительны и тонки, что объяснить появление их всего за несколько тысячелетий до нашей эры в результате некоего внезапного озарения невозможно. В частности, отдельные редчайшие небесные явления могли предсказываться жрецами лишь в том случае, если регулярные и точные наблюдения за Луной и Солнцем велись человеком достаточно долго. В прошлом веке, когда истории людей отводилось немногим более шести тысяч лет, такие выводы казались просто абсурдными. Когда же к началу космической эры человечество благодаря усилиям археологов «постарело» до четырех миллионов лет, то и его интеллектуальный мир поневоле стал представляться в не столь мрачных красках, как раньше. И археологу, занятому изысканиями в области каменного века, трудно, в свете теперь известного об исходной эпохе человеческой истории, смириться с мыслью о том, что истоки наук следует связывать с ранними и непременно земледельческими цивилизациями. Не стоит даже, пожалуй, во имя будто бы взвешенной, как на аптекарских весах, точности определения понятия «наука» отказывать многим сотням поколений древнейших людей в закладке самой глубокой части ее фундамента. Наивно к тому же думать, что закономерности движения по небосводу Солнца, Луны, звезд и планет были замечены и фиксировались лишь обитателями зоны, где формировались центры древнейших цивилизаций, основу которых составляли принципиально новые формы хозяйствования — земледелие и скотоводство. Астрономические наблюдения, вне сомнения, были чрезвычайно важны для тех, кто в теплых краях впервые научился обрабатывать землю, сеять хлеб, выращивать скот и отмечать закономерности разлива великих рек, несущих влагу и плодородный ил. Но не менее жизненно необходимы знания цикличности смены сезонов также охотникам, рыболовам и собирателям, которые в глубокой древности начали освоение северных пределов Земли. И это не удивительно — ведь каждый промысел начинался в строго определенную часть года, и потому лучшим указателем своевременности ею начала стало со временем соответствующее положение светил на небе. Первобытным обитателям Севера Земли, в том числе и Сибири, приходилось решать все те же сложные проблемы точного фиксирования времени, т. е., прежде всего, уяснения круговой цикличности смены сезонов, что и определяло весь ход их хозяйственной деятельности. Точное определение времени стало на определенном этапе настолько жизненно необходимым, что первобытный охотник с его предельно ограниченными экономическими, техническими и трудовыми возможностями был вынужден взяться за решение этой проблемы. Гигантским циферблатом выступало для предка Небо, сплетением многочисленных «стрелок» виделись перемещающиеся по темно-голубому куполу созвездия и смыкающиеся с ними в определенное время Солнце, Луна и планеты. Такой поворот разговора кое-кого может, однако, и удивить: как! древнейшие люди, беспредельно озабоченные земными делами, прежде всего осложненной множеством непредсказуемых каверз добычей пропитания на охоте, так давно обратили свои взоры к Небу?! Извольте-ка объясниться! К счастью для призванного к ответу, успехи современной археологии позволяют сделать это с достаточной убедительностью. …Из найденного при раскопках небольшого стойбища каменного века Ишанго, которое дымило кострами на берегу огромного озера Эдвардс, что находится у истоков Нила, поражало многое. Этот поселок первобытных людей погиб в одночасье, внезапно заваленный, как Помпеи, горячим вулканическим пеплом. Под пластом его в ходе исследований археологи обнаружили настолько примитивные и своеобразные по типу каменные орудия, что вначале у них создалось впечатление, будто они открыли неведомую ранее культуру глубокой древности. То же, кажется, подтверждали костные останки жителей стойбища — их огромные коренные зубы напоминали зубы австралопитеков, обезьянообразных предков человека, а на удивление толстые стенки черепа — неандертальские черепа обезьянолюдей, которые обитали на Земле до появления Homo sapiens, «человека разумного» 40-150 тыс. лет назад. Но обитатели Ишанго не были обезьянолюдьми, ибо лица их уже обладали наиболее броскими чертами первопредков: над глазницами не нависали массивные валики надбровных дуг, подбородок выступал вперед, а не был скошен назад, как у неандертальца или питекантропа, кости конечностей отличались тонкостью. Помимо грубых каменных инструментов, вид которых поначалу невольно наводил на мысль о первозданности культуры ишанго, приозерные жители использовали весьма совершенные, изготовленные из кости гарпуны — удобное орудие рыболовства, и камни, с помощью которых обычно растираются зерна злаковых растений. Значит, те, кого чуть было не приняли за обезьянолюдей, умели не только охотиться, но и занимались рыбной ловлей и, очевидно, начали постигать азы земледелия. Определение точными методами времени трагической гибели стойбища дало цифру девять тысяч лет. Ничто из найденного в Ишанго так не взволновало одного из участников раскопок — датского геолога и археолога Жана де Энзелина, — как то, что выглядело на первый взгляд длинным, округлой формы обломком камня темно-коричневого цвета. Но, несмотря на заметную тяжесть, это оказался не камень, а трубчатая кость, окаменевшая в земле за тысячелетия под воздействием воды и солей, а правильнее сказать — рукоятка инструмента, ибо с полого конца ее торчал прочно закрепленный в кости небольшой кусочек кварца. Он явно использовался как рабочее лезвие составного орудия — то ли резца, то ли гравера, а быть может, служил для нанесения узоров татуировки. Самым, однако, поразительным в этом изделии оказался вид поверхности костяной рукоятки. Ее покрывали длинные вертикально расположенные насечки, группировка которых выглядела настолько примечательно, что Ж. де Энзелин заподозрил в них значительно большее, чем простой орнаментальный узор, призванный (как традиционно считается археологами) украсить орудие повседневного труда и вызвать тем самым у первобытного дикаря некое подобие убогого эстетического удовольствия. Насечки размещались на рукоятке тремя блоками, каждый из которых подразделялся в свою очередь на четко обособленные группы. В первом блоке выделялись четыре группы: 11→13→17→19. Во втором Ж. де Энзелин насчитал вдвое большее число групп — восемь. 3→6→4→8→10→5→5→7. В третьем снова оказалось четыре группы: 11→21→19→9. О случайном количестве насечек в группах, по мнению Ж. де Энзелина, вряд ли могла идти речь. В самом деле, в первом блоке насечки в группах располагались в порядке возрастания и представляли все простые числа между 10 и 20 (11, 13, 17 и 19 делятся только на само себя или на 1). В третьем блоке группы 11→21→19→9 могли означать 10 + 1→20 + 1→20→1→10→1. Что касается второго блока, то в группах его отчетливо прослеживался принцип дубликации: 3→6 (3 Х 2 = 6)→4→8(4 Х 2 = 8)→10→5→5 (5 + 5 = 10).


Замеченные особенности позволили Ж. де Энзелину высказать предположение о намеренной группировке числа насечек на костяной рукоятке, об отражении в них некоей арифметической игры, об использовании людьми каменного века десятичной системы счета, а также о том, что они имели представление об удвоении и простых числах! Далее он, напомнив, что первые математические таблицы появились в Египте в династический период, а более примитивные системы восходили, очевидно, к додинастическим временам, высказал убеждение, что начальные математические знания распространялись от верховьев Нила и с берегов озера Эдвардс на три тысячи миль к северу до Асуана, составив затем базу выдающихся научных достижений сначала страны Хапи, а затем и классической Греции античной эпохи. В итоге выходило, что современная цивилизация обязана своими успехами безвестному народу каменного века Центральной Африки ишанго, поскольку, как считал Ж. де Энзелин, никаких следов столь раннего использования систем счета в Европе археологи не обнаружили. Датский археолог ошибался, утверждая, что подобного рода «узоры» не встречались на поверхностях изделий, обнаруженных при раскопках памятников каменного века Европы. Сходные и иные по виду насечки, возраст которых исчисляется 12–34 тысячами лет, впервые были замечены европейскими археологами более века назад, и с тех пор вокруг этих невзрачных «знаков», открытых в Западной Европе, а позже и в Сибири, ведутся дискуссии, то едва тлеющие, то вновь вспыхивающие яростным пожаром. Они раскрывают увлекательные картины напряженного кипения научных страстей, не менее захватывающих, чем острые в бескомпромиссности столкновения вокруг каменных плит Стоунхенджа. Завершая эту книгу, ограничимся пока беглым проходом по цепочке «сцен» в актах волнующей «драмы идей», связанной не с обычной для археологии древнекаменного века «производственной» темой, а с невероятно сложной для раскрытия интеллектуальной и духовной сферой жизни древнейших людей Земли. Замечательный археолог прошлого века — Буше де Перт, «крестный отец» науки о древнекаменном веке, был первым, кто обратил внимание на предметы с насечками. Обнаружив такие орнаментированные изделия при раскопках палеолитических местонахождений в бассейне реки Соммы под Парижем, он оценил их как особо важные в связи с проблемой «начала искусств» и опубликовал в 1857 г. во втором томе знаменитых ныне «Кельтских допотопных древностей». Нарезки, размещенные на поверхностях костей большей частью правильными рядами, он представил с достаточной детальностью как в иллюстрациях, так и в описаниях. Не раздумывая над тем, оправдан ли такой прием в отношении культуры палеолитического человека, он посчитал естественным установить количество знаков на каждом образце. Число насечек варьировало от 20 до 50, но уже эти крайние в ряду числа позволяли поставить вопрос о существовании в древнекаменном веке системы счисления. Буше де Перту удалось к тому же заметить, что на трех костях количество знаков оказалось равным 25, что, очевидно, могло случиться лишь при осознанном и целенаправленном, то есть со строгим подсчетом, нанесении на поверхность линейных нарезок.Усиливая значимость выявленной закономерности и, очевидно, в ожидании возражений со стороны археологов, он обратил внимание также на то, что блоки из 25 насечек размещались на костях разной длины. Отсюда следовало, что количество знаков не могло определяться протяженностью поверхности, удобной для их рассредоточения. Особой сложности задача, которую далее предстояло решить, заключалась в том, чтобы установить, для чего на кости наносились нарезки и что они могли означать. У Буше де Перта не возникало сомнений в том, что палеолитический человек умел считать. Знаменательные по группировке ряды насечек следовало воспринимать, по его мнению, в качестве «меток на память», сходных по назначению с зарубками, которые делают при своих подсчетах булочники. С тем же простодушием первооткрывателя Буше де Перт предположил знакомство палеолитического охотника с зачатками геометрии. Именно так можно воспринять его замечание о том, что кости с ритмично и равномерно размещенными на их поверхностях нарезками могли использоваться в качестве «инструментов для измерения». Оставалось, однако, неясным, что подсчитывалось и что измерялось с их помощью людьми древнекаменного века. Значительный интерес представляют размышления Буше де Перта о причинах появления у «человека природы» образцов изобразительного творчества, в том числе всевозможных «знаков» и «символов», напоминающих «примитивные иероглифы». Он считал, что древнейший человек не делал ничего «просто так», «для ничего». Если причины изготовления орудий из камня первобытным охотником «представляются ясными», как же в таком случае следует оценивать объекты, которые к «предметам индустрии» прямого отношения не имеют? Ответ исследователя, наделенного редкостной интуицией, не может не поразить: «первые изделия человека были вызваны необходимостью материальной… Из необходимости духовной родились изображения, символы, воспроизведения человека или животных». Размышляя далее о природе этой «духовной необходимости» и определяя возможные объекты культа, Буше де Перт указывал, что ими становилось то, что «можно было ощущать — солнце, луна, звезды, деревья, животные». В свете возобладавшей позже в археологии палеолита никчемной теории бездумного «искусства для искусства», а также навязанной Г. де Мортилье зарождающейся науке о первобытности концепции безрелигиозности верхнепалеолитического человека, которая обернулась вскоре человеческой и научной трагедией неприятия лидерами французской археологии первых открытий пещерного искусства, идеи Буше де Перта о духовной содержательности первобытного художественного творчества выглядят не просто дерзко новаторскими, а опередившими свое время более чем на полвека. Компрометация открытий его, продолжавшаяся десятилетиями, сковала ход изучения археологами образцов древнего искусства, в том числе и тех, которые покрывали знаки типа насечек. В последующие десятилетия XIX в. нарезки и лунки на предметах мобильного искусства ввиду их «нерегулярности», «непохожести» одна на другую, «произвольности» рассредоточения оценивались в среде археологов то как результат «бездумного черчения» на поверхности кости или камня в минуты, когда палеолитический охотник был свободен от труда, то как отражение так называемой «врожденной потребности» дикаря к украшению предметов быта. Иногда, впрочем, высказывались предположения, что подобного рода знаки представляли собой отражение «охотничьей магии». Но такое заключение могло в действительности означать лишь одно — нет надежды интерпретировать вложенное в эти знаки содержание, ибо трудно вообразить что-нибудь более безнадежное, чем попытки расшифровки «магических записей». Существо же дела, между тем, заключалось в действительности в том, что никто из археологов, за редким исключением, не усматривал необходимости и не изъявлял желания детально разобраться в особенностях конфигурации знаков, а также в закономерностях их группировок. Случилось, однако, так, что в 1875 году в Лондоне вышли в свет «Аквитанские древности» Э. Лартэ и Г. Кристи, в которых были не просто опубликованы и достаточно подробно описаны объекты с насечками, но также предлагались варианты интерпретации такого рода знаков. Во всяком случае, вопрос о желательности и даже необходимости расшифровки смыслового содержания скрытого в насечках и связанных с ними изображениях животных и человека, был не просто поставлен в этом издании, — он буквально взывал к ответу со многих страниц его. Э. Лартэ и Г. Кристи были непоследовательны и осторожны, но они предложили варианты интерпретации насечек, и, что особенно важно, поддержали самую «крамольную» из идей Буше де Перта о возможном усвоении палеолитическим человеком навыков счета, подтвердив эту мысль своими наблюдениями по группировке насечек, оценив отдельные объекты со знаками как счетные таблицы или предметы, посредством которых велись своего рода математические игры! Самой, однако, поразительной по прозорливости представляется теперь высказанная ими походя, как совсем уж невероятная, мысль об отражении в насечках системы счета времени, то есть календаря. Сравнение объектов, покрытых рядами насечек, с так называемыми руническими календарями не только подтверждало эту идею, но, более того, выглядело своего рода методической подсказкой к разработке приемов расшифровки палеолитических знаков. Но как бы ни были интересны догадки Э. Лартэ и Г. Кристи относительно смысла, заключенного в группах насечек, они в предложенной ими форме не могли стать приемлемыми впредь до разработки системы убедительных доказательств. Между тем вплоть до окончания XIX в., сторонники линии Буше де Перта в исследованиях семантики палеолитического искусства таких доказательств не предъявляли, и потому реконструкции оставались уязвимыми для критики. Очередной — и заметный — шаг в объяснении назначения насечек сделал М. Ферворн. В докладе, прочитанном 19 декабря 1910 г. в Геттингене на заседании «Anthropologischen Vereins», он проанализировал несколько орнаментированных изделий, найденных в разные годы во Франции (при раскопках в Лез Эйзи, Абри де ла Грез, Лоссель, Плакард и Брюникель). М. Ферворн обратил внимание на то, что насечки размещались обособленными группами. По его мнению, подразделение насечек на разные числовые блоки не могло быть случайным. Признание преднамеренности или заданности группировки знаков превращало их в объект особо тщательных и целенаправленных исследований. В методическом плане такой подход означал шаг принципиальной важности! М. Ферворн показал, насколько неожиданными могут быть заключения при отказе от широко распространенного в среде археологов мнения о достаточности изучения предмета искусства «на глазок», с целью получить о нем «общее впечатление», вряд ли, однако, к чему обязывающее, а на поверку просто бесплодное. Ясно, что ни «технический» вариант оценки знаков (нанесение насечек для предотвращения скольжения предмета), ни интерпретирование резных линий в качестве, допустим, «знаков собственности», не могли без натяжек объяснить, с какой целью палеолитический охотник сначала нарезал, а затем удалял знаки с поверхности, чтобы опять зачем-то процарапать все те же простейшие по виду насечки. Восприятие их в качестве символов чисел приоткрывало обнадеживающие перспективы расшифровки семантики совмещенных в группы линий, отражающих, по всей видимости, факт исключительной значимости — умение палеолитического человека считать, разработка им приемов, а, быть может, и устойчивой системы счисления. После выхода в свет книги Буше де Перта, в которой впервые были опубликованы и сжато, но емко оценены насечки на костях, никогда еще столь резко, развернуто и детализировано не ставилась проблема арифметических знаний людей древнекаменного века. Подробно исследуя то, что археологами ранее оценивалось большей частью просто как орнамент, М. Ферворн отметил, что помимо простых насечек линейного типа, которые как будто в самом деле выражали понятия о числах, в систему элементов «узоров» палеолитического человека входили также весьма примечательные по очертаниям фигуры. Его особый интерес привлекли насечки, похожие на римские цифры I, V и X, а также точки. М. Ферворн сделал вывод о неслучайности сходства подобных фигур из «орнаментальных композиций» на предметах мобильного искусства палеолита с простыми знаками цифр римской счетной системы. Определенным образом сгруппированные насечки, а также составленные из них фигуры он без колебаний представил как изначальные образцы «первобытной арифметики» людей древнекаменного века. Программа последующих исследований такого рода знаков должна была, но его мнению, состоять в том, чтобы показать, существовала ли преемственность между палеолитической системой насечек, простыми знаками I, V, X и римскими цифрами. Для решения такой сложной задачи требовалось, однако, не только расширить соответствующую источниковую базу и четко определить методические приемы изучения предметов с насечками. Главное, пожалуй, препятствие на этом пути состояло в необходимости преодоления окаменевшего стереотипа в отношении специалистов по палеолиту к человеку, создателю этой культуры, как к дикарю с предельно низким интеллектуальным статусом и почти начисто лишенному какой бы то ни было духовной жизни. Стоит ли поэтому удивляться, что при реконструировании культурно-исторических типов круг интересов палеолитического человека по-прежнему представлялся ограниченным заботами о добыче «дымящегося кровью куска мяса». После публикации доклада М. Ферворна о насечках попытки разобраться в сокровенном смысле образов и знаков палеолитического искусства предпринимались неоднократно. В ряду подобного рода изысканий, зачастую далеких от признания у специалистов по палеолиту, особо важное место занимают исследования замечательного историка культуры К. Хентце. Его методические приемы расшифровки знаков первобытного искусства заслуживают особого внимания. В основу предложенного им метода расшифровки семантики как символических (орнаментальных) знаков, так и реалистических или стилизованных образов положен поиск аналогий среди набора соответствующих этнографических и мифологических сюжетов. В результате он пришел к выводу, что простые и двойные спирали, как и концентрические круги в классических вариациях, зафиксированных, в частности, в искусстве палеолита, представляют собой символы не столько солнечные, сколько, скорее, лунные. Они, по его мнению, в идеальной по наглядности форме отражали идею полного цикла изменений фаз ночного светила, то есть последовательно и непрерывно повторяемого процесса роста и убывания, а затем снова роста диска Луны. Хотя выводы К. Хентце относительно смысла определенного набора знаков и нельзя признать вполне доказанными, он, быть может, как никто из интерпретаторов первобытного искусства до него, да и десятилетия после, смог продвинуться в решении проблемы семантики древних образов и знаков. Учитывая, в каком направлении развивалась в последующем выработка наиболее оптимальной методики подхода к познанию существа идей, скрытых за образами искусства древнекаменного века, особой оценки заслуживает впервые предложенный К. Хентце прием сопоставления количества «орнаментальных» деталей в композициях с продолжительностью в сутках синодического лунного месяца или примечательной части его. Приходится лишь сожалеть, что эта поистине блестящая мысль, сродни гениальным идеям Буше де Перта о счетных знаках на палеолитических костях и Э. Лартэ о возможном отражении в них «временных периодов», осталась археологами незамеченной, и тогда же не получила развития, какого она по праву заслуживала. Четверть века спустя вопрос о наличии системы счета в палеолите в очередной раз извлек из забвения и с детальностью проанализировал видный чешский археолог К. Абсолон, которому принадлежат выдающиеся открытия в области древнекаменного века Восточной Европы. Оценивая результаты проведенного К. Абсолоном исследования, следует прежде всего обратить внимание на высказанное им пожелание использовать при изучении насечек бинокулярный микроскоп. Оказывается, произвести точные подсчеты их числа без применения увеличительной техники отнюдь не легко из-за обычной загрязненности поверхностей предметов, покрытых счетными знаками, значительной поврежденности их коррозией под воздействием почвенных растворов, а также личинок и костоедов. К. Абсолон неоднократно убеждался, что лишь использование бинокулярного микроскопа позволяло с должной уверенностью определять точное число «нацарапанных черточек». Как и М. Ферворн, он учитывал не только число, но и примечательные особенности рассредоточения знаков на поверхности предмета. Принятие на вооружение археологов бинокулярного микроскопа привело в последующем к исключительно плодотворным результатам как с точки зрения усовершенствования методики исследования, так и в плане существенности конечных выводов, связанных с интерпретацией знаковой символики. Не отрицая возможности того, что нарезки и черточки действительно представляли собой в определенных случаях части узора, «украшающего» объект, К. Абсолон попытался разработать идею М. Ферворна о насечках как образцах «первобытной арифметики и счета». Ему представлялись также приемлемыми высказывания Э. Лартэ и Э. Пьетта о том, что такого рода знаки могут восприниматься, в частности, как отметки количества охотничьей добычи. В итоге К. Абсолон пришел к твердому убеждению, что «знание чисел» в истоках своих восходит к эпохе палеолита. Поставленная в очередной раз К. Абсолоном проблема счета в палеолите, которая рассматривалась им с привлечением многочисленных образцов, покрытых насечками, а также иными по виду, но непременно ритмично рассредоточенными знаками, не могла, разумеется, не произвести впечатления на археологов. В особенности значительными по возможным последствиям в плане переоценки уровня интеллекта верхнепалеолитического охотника представлялись специалистам по древнекаменному веку его настойчивые попытки подобрать убедительные доказательства формирования в столь отдаленную эпоху устойчивой системы счисления, в определенной степени родственной древнеримской и древнеегипетской. Это не означало, однако, что идеи К. Абсолона не вызывали обычной для таких разработок критики. Следует признать, что поводов к ней, учитывая непоследовательность его оценок насечек, как и очевидной, в ряде случаев, невозможности строгого подтверждения сочетаниями их мысли о разработке в палеолите зачатков пяти- и десятичной системы счисления, оказалось достаточно, чтобы воспринять подновленную гипотезу с изрядной долей снисходительного скептицизма. Доказательство того, что наблюдаемая арифметическая регулярность «аранжировки» насечек определенными группами в самом деле отражает систему числительных, сопряжено с невероятными трудностями. Сразу возникает естественный вопрос, в каждом ли случае блоки таких знаков отражают понятие числа. Ведь вполне может статься, что регулярность эта отнюдь не арифметическая по характеру, а обозначает некие периодические процессы, выявление которых и должно составить главную проблему расшифровки семантики насечек. Реальными могли оказаться к тому же опасения, что так называемые «арифметические модули», об открытии которых объявил К. Абсолон, в действительности представляют собой результат незаметного и неосознанного навязывания палеолитическому человеку того, что могло быть просто «следствием… современного арифметического образования и способа мышления, а также методически ошибочного приема экстраполяции на эпоху палеолита сведений о системах счета у отставших в развитии современных народов»[20]. К. Абсолона упрекали позже и в том, что его основные заключения не основывались на детальном анализе примечательных особенностей самих «счетных знаков» и не учитывали «внутренних закономерностей» группировки их в продолжительные по количеству знаков ряды или блоки. А. Маршак в этой связи справедливо отмечал, что гипотеза К. Абсолона «большинство ученых не убедила. Они были просто ошеломлены…»[21]. Но именно к этому времени и подоспело загадочное открытие в Ишанго, которое судьбе было угодно превратить в отправную точку очередного этапа поиска. Вскоре стало ясно, что за скромными в непритязательности облика «орнаментальными» насечками вставала не простая числовая игра, как думал Жан де Энзелин, а все та же волнующая в грандиозной значимости проблема: Солнце, Луна и древние люди. Решение ее предполагает овладение счастливым ключом к разгадке сокровенной тайны рождения древней мифологии, первобытного художественного творчества, изначальных искусства и науки, в том числе архаических космогоний и космологий, а также понимания того, что определяло истоки взлета интеллекта человека периода формирования и расцвета первых цивилизаций Африки и юга Евразии. Недаром гениальный Ф. Энгельс, ставя в «Диалектике природы» вопрос о необходимости изучения последовательного развития отдельных отраслей естествознания, среди трех отраслей знания, которыми «в течение всей древности» ограничивалось «собственно научное исследование», на первое место ставил астрономию: «Сперва астрономия, которая уже из-за времен года абсолютно необходима для пастушеских и земледельческих народов»[22]. И будто эхом вторя этим прозорливым в проникновенной глубине размышлениям, К. Фламмарион с обычной для него страстностью безгранично влюбленного в небесную науку выразил ту же мысль такими вдохновляющими словами: «Начинать надо с астрономии; это всего главнее, а все остальное не более как мелочи и подробности». Ясно, однако, что астрономия в древнекаменном веке — это сюжет для другого рассказа.


Последние комментарии
1 час 33 минут назад
1 час 50 минут назад
2 часов 10 минут назад
4 часов 52 минут назад
12 часов 15 минут назад
18 часов 12 секунд назад